Глава 1. На Москву!
30 июня – 3 июля 1919 года. Царицын
И во что превратили цветущий волжский город за время лихолетья! Какой только дряни не понабилось в него: батьки и атаманы, шулера и спекулянты, комиссары, матросы и прочая «гордость революции» – вся эта публика месяц за месяцем в эшелонах с награбленным добром тянулась в Царицын со всего Юга России, спасаясь от победоносно наступающей Белой армии и превращая город в центр своей тирании. Похвалялись большевики, что никогда не взять «красного Вердена» Добровольцам. Что ж, и впрямь тугонёк орешек дался. Ещё в Восемнадцатом пытались овладеть им казаки атамана Краснова, но, не поддержанные в ту пору Добровольческой армией, города освободить не сумели. И Кавказская армия немало времени истратила, чтобы крепость эту, укреплённую, с гарнизоном крупным и хорошо вооружённым, одолеть. Сколько славных воинов полегли здесь! В дорогую цену обошёлся «красный Верден»… Но и какая же огромная победа была!
Поутру восемнадцатого стали появляться на улицах люди. Смотрели испуганно, насторожённо прислушивались к доносящемуся с окраин города оружейному гулу. Всё население походило на того тяжело больного, что отнятый от смерти всё ещё не может до конца поверить этому чуду, и оттого радость его ещё робка, к самой себе недоверчива. А катил народ – на Соборную площадь. В храм. День был воскресный, и там служили благодарственный молебен. Прежде торжественные службы совершал здесь епископ Дамиан. Несколько дней назад он, старец, должен был бежать и скрываться, спасаясь от большевистского террора. Вместо него служил настоятель собора, счастливо освобождённый накануне из тюрьмы (около неё, в овраге нашли тысячи тел убитых) армией-победительницей. Прерывался голос седого священника, и струились неудержимо слёзы по впалым его щекам. Плакали и люди, собравшиеся в таком множестве, что запрудили саму площадь, так как в соборе не достало всем места.
– Спаси, Господи, люди твоя! – тысячеголосно, торжественно пели, крестясь истово.
Пели, а глазами нет-нет, а косились на высокую, поджарую фигуру в чёрной черкеске с мягкими, блестящими генеральскими погонами. Этот человек, в котором сосредоточилась теперь вера освобождённого им города, стоял среди народа, окружённый немногочисленной свитой, неподвижный, погружённый не то в молитву, не то в свои мысли.
Грохнул разрыв где-то совсем рядом с городом, зачастила громовая перебранка орудий. И замерла на мгновение площадь – струнно нервы натянулись, того гляди оборвутся от напряжения. Но выводил невозмутимый хор:
– И благослови достояние Твое…
И вторили, заглушая канонаду, опускаясь на колени. И вместе со всем народом, как один из тысяч этих людей, стоял на коленях, опустив смиренно обнажённую голову, их освободитель, их герой. И когда служба окончилась, он вышел из храма и с церковного крыльца обратился к собравшимся с короткой приветственной речью, обещая горожанам защиту и покровительство армии.
И прорвалась робевшая дотоле радость. Вся площадь, озарённая ярким июньским солнцем, преобразилась, расцвела во мгновение ока безудержным счастьем. Под звон колоколов люди, забыв все страхи и горести, плакали и смеялись, незнакомые друг другу, обнимались, христосовались, как на Пасху. Грянул торжественный марш, явились откуда-то в количестве удивительном цветы. И это людское море теснилось к автомобилю в котором уже сидел её герой. Лицо его оставалось сдержанным, сосредоточенным. Лишь изредка скользила по губам едва заметная, какая-то особенная, неповторимая улыбка, и теплом полнились льдистого цвета глаза…
Прорвавшись из этого восторженного окружения, автомобиль генерала покатил к вокзалу, куда вот-вот должен был прибыть Главнокомандующий. Пётр Николаевич предчувствовал непростой разговор. Простых уже давным-давно с Деникиным не бывало. Натянулись отношения – и чем дальше, тем хуже. Посматривал Врангель на царицынские улицы, носившие на себе приметный отпечаток пережитого. А ведь как давно уже надо было город этот взять! Ещё в начале года, по освобождению Северного Кавказа горячая выдалась полемика с Деникиным. По плану Антона Ивановича освободившиеся части Кавказской армии должны были отправиться на подмогу Май-Маевскому в Каменноугольный бассейн – на харьковское направление. На Царицынском же оставить лишь слабый заслон по линии Маныча. Нелепица явная! Очевидно представлялось Петру Николаевичу Царицынское направление главнее харьковского. Именно на этом направлении – ключ к Волге! К Волге, к которой с другой стороны победоносно наступают армии адмирала Колчака, задерживаемые, между прочим, угрозой удара с левого фланга. Соединение двух армий и дальнейшее продвижение единым фронтом – какая цель может быть важнее? Нет, оказалось, Каменноугольный бассейн важнее единства сил. Доказывал Романовский, что оный жизненно необходим, что направление харьковское – кратчайшее к Москве, а потому должно считаться главным. И разбивались горячие доводы Врангеля и верного его начштаба Юзефовича, как об стену. И не удалось убедить ни в чём. Так и двинулись – на харьковское…
А война жестчела. Много повидал Пётр Николаевич и в Японскую, и в Германскую, а зрелище этой, усобной – в ужас приводило. Сатанел народ. Даже дети. Ещё на Тереке встретил барон нескольких нарядно одетых казачат с винтовками. Лет по двенадцать, не больше.
– Куда идёте, хлопцы?
– Большевиков идём бить, тут много их по камышу попряталось, як их армия бежала. Я вчерась семерых убил!
И кровь похолодела от вида этой победительной, горделивой радости от убийства в детских глазах…
Отступавшие большевики оставляли после себя разорённые города и деревни. На станциях, на путях железнодорожных скопились забитые больными и мёртвецами поезда. Они лежали на полу, едва прикрытые, прижавшись друг к другу подчас – несколько мертвецов окоченевших, а среди них ещё живой обречённый… И вокруг поездов, в дорожной грязи – как рассыпаны – тела людей. Солдат, женщин, детей… Скрюченных, обезображенных… Это свирепствовал тиф. Мёртвых спешно собирали, зарывали в общую могилу, а болезнь перекидывалась на других и косила людей страшнее вражеского огня.
Вскоре слёг и сам Врангель. На пятнадцатый день врачи признали положение практически безнадёжным. Жена, ни на шаг не отходившая, пригласила священника. Тот явился, доставив в дом Чудотворную икону Божией матери. И вот, чудо – столько дней в беспамятстве лежавший, генерал пришёл в себя, исповедался и причастился в полном сознании, а затем впал в беспамятство вновь. Ждали смерти ежечасно. Но… Охранил Бог и в этот раз, отвёл костлявую… И трогательно заботливы были все в те дни: даже незнакомые люди справлялись о здоровье, присылали фрукты и вино, выражали готовность помочь, врачи отказывались от вознаграждения. Сердечное письмо пришло от Главнокомандующего, распорядившегося, зная стеснённость Петра Николаевича в средствах, покрыть расходы на лечение из казённых денег.
Болезнь надолго выбила Врангеля из строя. Война набирала обороты, а он вынужден был лишь наблюдать за событиями, с большим трудом восстанавливая силы. Юзефович, между тем, вновь взывал к Ставке, доказывая необходимость движения на Царицын. А дела начинали портиться… И всё явственнее виделось, что потеряли драгоценное время, волжское направление забросив. Уже войска Колчака подходили к Волге. И начни Кавказская армия двигаться в нужном направлении ещё зимой, так уж и соединились бы вот-вот! А вместо этого четыре месяца стояли на месте. У Маныча. Вели там бои с переменным успехом… Необходимость соединения с Колчаком очевидна была даже для лиц невоенных. Навещавший часто Врангеля во время болезни Кривошеин, человек недюжинного ума и зоркости, сокрушался, понимая ошибочность избранной стратегии. А командование – не понимало… Загадка! И едва оправившись от болезни, в первую же встречу свою с Деникиным вновь поставил Пётр Николаевич вопрос о Царицыне, представив свой план действий. И опять молчали, уклонялись от ответа, тянули. И сколько бы тянули ещё, если бы противник сам не вынудил к решительным действиям!
В апреле красные обрушились на державших Маныческий фронт донцов и, отбросив их, стали быстро продвигаться к Владикавказской железной дороге. Казаки были деморализованы и отступали без сопротивления. Кавказская армия оказалась под угрозой быть отрезанной от основных сил. Спасать положение пригласили Врангеля. Предложил Романовский принять командование Маныческого фронта и осуществить намеченные Ставкой меры. Меры эти счёл Пётр Николаевич крайне неудачными и немедленно представил свой план действий, согласившись принять должность лишь при условии следования именно этому плану. Романовский отказал. Присовокупил, ещё надеясь переубедить:
– Вы понимаете, Пётр Николаевич, что ваш отказ поставит Главнокомандующего в необходимость самому принять на себя непосредственно руководство Маныческой операцией?
– Своего решения я не изменю, – ответил Врангель. – Я не могу браться за дело, которое считаю для себя в настоящих условиях непосильным. Главнокомандующий, имеющий полную мощь, в случае если он лично станет во главе операции, будет иметь возможность принять все меры для того, чтобы обеспечить успех операции; и я не сомневаюсь, что он убедится в необходимости тех мер, что я предлагаю.
С тем, превозмогая приступы жара и боль в ногах, вопреки настояниям врачей, Пётр Николаевич спешно уехал в свою армию.
К концу апреля предсказание Врангеля сбылось. Деникин взял командование на себя, но результатов это не дало. Белым не удавалось форсировать реку, и войска несли большие потери. Между тем, случилось, что именно здесь сосредоточились почти все кубанские части (масса конницы, о создании которой ещё в минувшем году говорил Врангель!), что позволяло объединить их в Кубанскую армию, о которой кубанцы столько мечтали. Пётр Николаевич всегда считал, что, учитывая наличие своей армии у донцов, кубанцы также вправе иметь свою, и сочтено было, что он наиболее подходящая фигура для объединения кубанских полководцев. Впрочем, Кубанской новоформируемая армия так и не стала. Она получила наименование Кавказской Добровольческой. Вот когда началось долгожданное наступление на Волгу, осуществление врангелевского плана!
Перво-наперво надлежало форсировать реку Маныч и взять находившуюся на другом берегу станицу Великокняжескую. Пётр Николаевич объехал передовую, разговаривая с солдатами и ободряя их (при этом один из сопровождавших его адъютантов был убит, другой – ранен). После, собрав командиров соединений, изложил им свой план действий: из разобранных изгородей, окружавших казачьи дома, сделать гать, и по ней переправить на противоположный берег артиллерию. Рискованное было предприятие, но – увенчалось успехом.
Сражение же на Маныче – из крупнейших конных выдалось! Славную страницу вписала Кавказская Добровольческая в историю белой борьбы. Несколько дней длилась битва. Генерал Улагай наголову разгромил кавалерийский корпус красного командира Думенко. Полки белых несли тяжёлые потери. Был момент, когда возникла угроза отступления на одном из направлений, и тогда Врангель отдал приказ своему конвою на месте расстреливать дезертиров и паникёров. И сам вёл свои войска на штурм, лично объезжая полки и подавая пример мужества и воли к победе, и уверенности в ней. Знал генерал, как воздействует на бойцов личный пример командира, а за свою жизнь не страшился. Совсем недавно ещё раз охранил его Бог – через несколько минут по прохождении его поезда на железной дороге произошёл взрыв, и ясно было, что именно поезд-то и был целью, и лишь чудом прошёл он мгновениями считанными раньше…
Многие командиры, следуя примеру Врангеля, сами вели свои соединения в бой, идя впереди их. Среди них велики оказались потери. Но разбили красных наголову, и Великокняжескую освободили. И открыли путь к Царицыну и Волге. И отдан, наконец, был приказ Царицын взять. И прибывший Деникин спрашивал:
– Ну как, через сколько времени поднесёте нам Царицын?
– Три недели, – ответил Пётр Николаевич, прибавив, что взятие города штурмом возможно лишь при необходимом количестве пехоты и артиллерии.
– Конечно, конечно, всё, что возможно, вам пошлём, – пообещал Деникин.
Легко давались обещания, да если б исполнялись ещё в точности… Но этого не было, и пора б привыкнуть к тому, а не привыкалось. Вот и на этот раз не исполнили обещания в полной мере. А почему? До всё потому же! Потому что не понимали важности направления! Царицынское и подождать могло, когда Добровольческая армия успешно развивала наступление на Харьковском направлении, кое Деникин считал главным. Именно туда отправлялось «всё, что возможно», а к нуждам Кавказской армии командование относилось без должного внимания.
От Великокняжеской до Царицына тянулась безводная и безлюдная степь. Отступавшие красные взорвали все мосты. Ох и пригодилось здесь Петру Николаевичу его инженерное образование! Самолично и руководил ремонтом. А войска опять буквально в бедственном положении находились: не хватало провизии, воды, одежды, медикаментов… И когда-то с этой нищетой покончено будет? Люди были измучены, но Ставка не присылала пополнения, направляя его Добровольческой армии. Не было техники: даже автомобиль Врангеля, не имевший запасных покрышек, взамен коих наматывались на обода тряпки и трава, наконец, сломался. На запрос о присылке нового Ставка отвечала гробовым молчанием.
Две недели шли по безводной степи и предстояло брать город укреплённый, оснащенный техникой и артиллерией, куда конницы Будённого и Жлобы стянули для отражения атаки. Бомбардировал Врангель Ставку требованиями прислать помощь: «То, что достигнуто, сделано ценой большой крови и в дальнейшем источник её иссякнет. Нельзя рассчитывать на безграмотность противника и пренебрежение им значения Царицына. Царицын мы должны взять, но, взяв, иметь средства удержать». Не слышали… На бесчисленные запросы Ставка пообещала, наконец, прислать танки и стрелковый полк. Но они не могли прийти ранее, чем через две недели, а за этот срок красные неминуемо нарастили бы свои силы. Стоять в ожидании было смерти подобно, поэтому пришлось начать штурм, не дожидаясь подкреплений. Все атаки разбились о технику, огонь и подавляющее число противника. Потери были огромны. Численность некоторых полков дошла до сотни человек, многие командиры погибли.
Тяжело переживал Пётр Николаевич эту неудачу. А тут ещё навалилась болезнь. Но продолжал писать Главнокомандующему. Уже и не без резкости, срываясь. Отправил Деникину рапорт, в котором сообщал об огромных понесённых потерях и вновь повторил, что «без артиллерии, пехоты и технического снаряжения город штурмовать нельзя». Доведённый до предела, генерал решился подать рапорт об отставке после завершения Царицынской операции. Однако Юзефович и другие офицеры штаба отговорили его от этого шага.
Между тем, Ставка, наконец, вспомнила о своих обещаниях и отправила-таки на подмогу Кавказской седьмую пехотную дивизию. Вот уж права пословица: пока гром не грянет… А из-за этой бестолковицы сколько людей положили напрасно!
По прибытии подкреплений стали готовить второй штурм. А тут ещё незадача возникла: совсем разладился от неудач генерал Улагай, на которого предполагалось возложить ключевое направление операции. Своих подчинённых Пётр Николаевич знал очень хорошо. Знал, в частности, об Улагае, что склонен он к сильным перепадам настроения, и видел что, впав в депрессию от того несчастного штурма, к новому неспособен. Всего легче было бы произвести замену, просто принять командование на себя, но такое решение окончательно деморализовало бы впечатлительного Улагая, а этого никак нельзя было допустить. Наоборот, следовало подкрепить его, вернуть былую уверенность. И, подумав, нашёл Пётр Николаевич выход, пояснил недоумевающему Шатилову:
– Секрет успеха в гражданской войне кроется в верном подборе командира предстоящей операцией. Ещё в бытность командиром первой кавалерийской дивизии я без колебаний перетасовывал бригады. Если требовалось упорство, я назначал Топоркова, если маневренность и гибкость, – Науменко. Таким образом, командовать ударной кавалерийской группировкой будешь ты, я буду осуществлять общее руководство, а Улагай будет пожинать лавры, так необходимые для его самолюбия.
Так и сделано было. И – не устоял на этот раз «Красный Верден». И накануне вошли в город доблестные бойцы Кавказской Добровольческой армии, сорок дней совершавшие тяжелейшие переходы и ведшие кровопролитные бои. «Ура вам, храбрецы, непобедимые орлы Кавказской армии! Слава о новых подвигах ваших пронесётся как гром, и весть о ваших победах в родных станицах, селах и аулах заставит гордостью забиться сердца ваших отцов, жён и сыновей».
И одно только тревожило в этот по истине счастливый день. Не опоздали ли?.. Ведь уже – середина июня. И на фронте адмирала Колчака не так благополучно, как было несколько месяцев назад. Ах, если б тогда к Волге выйти!.. Но нет, не поздно и теперь ещё энергичные действия предпринять в нужном направлении. Продолжать начатое, двигаться на соединение с Колчаком, а затем кулаком единым – на Москву. Лишь бы Главнокомандующего убедить в этом! Вместе с генералом Юзефовичем успели подготовить доклад к его приезду. Наметили: овладение Астраханью и нижним плесом Волги, закрепление на коротком, но обеспеченном фронте (Царицын-Екатеринослав), дабы не растягивать опасно фронт, не имея резервов и укреплений в тылу, в районе Харькова выставить заслон из трёх-четырёх конных корпусов, организация тыла и устройство укреплённых узлов сопротивления на случай наступления красных, далее – наступление на Москву по кротчайшим направлениям конной массой, нанося удары в тыл красным армиям.
Генерал Деникин принял Врангеля и Юзефовича в своём вагоне.
– Ну что, как теперь настроение? Одно время было, кажется, неважным? – спросил, улыбаясь.
– Так точно, ваше превосходительство. Нам было очень тяжело.
– Ничего, ничего, теперь отдохнёте, – пообещал Главнокомандующий.
Изложили ему план действий, подали рапорты. Казалось бы, куда убедительнее? Куда яснее? А Антон Иванович, рапорты принимая, усмехнулся лишь:
– Ну, конечно, первыми хотите попасть в Москву.
Как хлестнул недостойным намёком этим. Сдержался Пётр Николаевич, пропустил мимо ушей, а сам тотчас вспомнил Кривошеина. Как силясь понять странные решения Ставки, предполагал проницательный Александр Васильевич причиной всему личные мотивы Главнокомандующего. Не верил тогда Врангель этому и горячо спорил с Кривошеиным, в выводах своих вполне убеждённым, а сейчас впервые усомнился – уж не прав ли был Александр Васильевич?.. И ведь сколько добивался барон разъяснений у Романовского, а тот всякий раз со свойственным ему умением обходил все вопросы, не давал ответов.
Портрет генерала Деникина в достаточной мере сложился у Петра Николаевича ещё задолго до этого дня. По виду своему, бесцветному и обыденному, походил Антон Иванович на среднего обывателя. До своего высокого положения в армейской иерархии дошёл он исключительно благодаря личному трудолюбию и способностям. Его отец, николаевский солдат, четверть века тянувший лямку, и вышедший в отставку в офицерском чине, лишь после шестидесяти лет обзавёлся семьёй и умер, когда сын был ещё ребёнком. Отроческие годы Деникина прошли в Польше, откуда родом была его мать. Жили практически бедственно. Из таких-то низов поднимался будущий вождь Белой армии. Характерные черты своей среды, провинциальной, мелкобуржуазной, либеральной, он сохранил до сих пор. Трудно было торить себе путь молодому офицеру. И как было не позавидовать гвардейским офицерам, аристократам, с младых ногтей имевшим всё, с такой лёгкостью поднимавшимся, никогда не ведавшим нужды? Это смутное чувство ущемлённости, видимо, так и не удалось преодолеть ему. Отсюда повышенная, почти болезненная щепетильность, стремление оградить от любых посягательств своё достоинство. Он даже на «ты» не переходил ни с кем, включая близких друзей, держал дистанцию, отгораживался. Защищать себя умел Антон Иванович, ещё будучи молодым офицером. По окончании Академии Генштаба он не получил места, которое было ему положено. Кто-то наверху провёл на него своего человека. Любой другой смирился бы, а Деникин дошёл до самого Государя с требованием справедливости. Он рано начал писать и публиковаться в журналах, притом сохраняя свободомыслие. Как военачальник, отметился в обе войны многими славными делами. И словом владел Антон Иванович, но отчего-то словом этим не умел достучаться до солдат, овладеть сердцами людей. Но, главное, оставался в глубине души всё тем же молодым офицером, выходцем из низов, ревниво смотрящим на знать. И угадывал Пётр Николаевич, что и гвардейский лоск его, и титул, и громкая фамилия, инстинктивно не по нутру Деникину. И дело здесь было не в какой-то обоснованной неприязни, а в невольном, подсознательном, трудной жизнью заложенном предубеждении, которое преодолеть всего труднее. И подчас возникала даже мысль: не вредит ли предубеждённость в отношении лично него его армии? В какой-либо личной непорядочности доселе не мог заподозрить Врангель Главнокомандующего. И не сомневался в патриотизме его и желании блага. Но не мог и не видеть: не по способностям достался груз Антону Ивановичу. Не был создан он для государственной работы. И терялся, и боялся ошибиться, и сомневался, и не доверял почти никому. А болезненную щепетильность его и подозрительность, и самолюбие использовали в своих целях различные тёмные личности, гнездившиеся, в частности, в Осваге. Наушничали, нашёптывали, передавали сплетни, растравливали. И чувствовал Врангель, что кто-то не без успеха и о нём передаёт разное Главнокомандующему, искажая слова и действия его, укрепляя подозрительность. Когда бы окружил себя Деникин толковыми помощниками! Так нет же. Вот, того же и Кривошеина, с его-то умом и опытом – почему к делу не призвать? Но нет, слишком сильная и крупная фигура была, слишком самостоятельная. А самостоятельности не любил Антон Иванович. И нетерпимостью этой многих отваживал. Взять хотя бы казаков и украинцев. Зачем такая непримиримость в борьбе с самостийными течениями? Зачем записывать в самостийники всех подряд? На офицеров, сражавшихся с большевиками при гетмане на Украине, смотрели в Ставке, словно на предателей, создали комиссию для унизительной проверки их. Справедливо ли? Незаслуженно обижали людей, самих себя лишали необходимой поддержки. Да пусть бы были самостийники, лишь бы сражались честно с общим врагом! Под каким угодно флагом, но – за Россию! Лучше бы с такой непримиримостью относился Главнокомандующий к творимым в тылу бесчинствам, тон которым задавали иные старшие начальники. Вот, они-то, наносящие своим поведением громадный вред делу, как будто и вовсе независимы были. Смотрела на их безобразия Ставка сквозь пальцы. Когда в апреле встал вопрос о формировании Кубанской армии, спросил Пётр Николаевич у Деникина, кто же до сих пор командовал главной массой конницы? Оказалось, что отдельные командиры подчинены были непосредственно самому Главнокомандующему.
– Но какое же в таком случае можно ожидать единство действий? – удивился Врангель.
– А как вы заставите генерала Покровского или генерала Шатилова подчиниться одного другому?
И откуда взяться дисциплине, если Главнокомандующий не может призвать к порядку своих генералов? В самом Екатеринодаре происходил безобразный разгул Шкуро, Покровского и других. А Деникин, столь строгий к себе, не имел воли требовать того же от подчинённых, словно не замечал происходящего. Нет, как ни старался, не мог Пётр Николаевич, постигнуть до конца логики действий Главнокомандующего. И теперь уходил от него с недобрым предчувствием, что напрасны окажутся их с Юзефовичем рапорты, и Ставка вновь примет какое-то лишь ей понятное решение…
Это подозрение оправдалось на другой день, превзойдя худшие ожидания. Генерал Деникин обнародовал свою директиву. Ровным голосом, заметно гордясь составленным планом, он читал:
– Вооружённые Силы Юга России, разбив армии противника, овладели Царицыном, очистили Донскую область, Крым и значительную часть губерний Воронежской, Екатеринославской и Харьковской. Имея конечной целью захват сердца России – Москвы, приказываю…
Воодушевлённо звучал голос Главнокомандующего, а у Врангеля с каждым оглашаемым пунктом сердце падало, и кровь учащённо стучала в висках. Слушал, остолбенев, не веря своим ушам. Бросил быстрый взгляд на Юзефовича, и на его смуглом лице прочёл ту же мысль, ту же ошеломлённость. Отвёл глаза верный соратник, уставил их неподвижно в ровное покрытие стола, голову пригнул, хмурился. А Антон Иванович продолжал читать, словно гвозди в гроб всего дела вколачивал. И рядом Романовский сидел. Но по его лицу, как всегда, ничего не разобрать. А, впрочем, что разбирать? Вместе и составляли убийственный этот план… Да как же могли? Ведь оба же – в военном деле специалисты! Да как же они, два генерала боевых, две войны прошедших с честью, могли все принципы стратегии отвергнуть?! Ни главного операционного направления, ни сосредоточения на этом направлении главной массы сил, ни манёвра! Просто указали каждому корпусу маршрут – на Москву! Раздирали фронт, растягивали до бесконечности на тысячи вёрст. В цепь тончайшую, которую клином мощным прорвать – чего проще? А если прорвут… Перебьют по одиночке. И в тылу – ни узла укреплённого, зацепиться не за что будет. А зато развал, никакой организации, зарвались вперёд, территории заняли, а порядком на них не озаботились. Если прорвут, так весь этот замок на песке рухнет, не удержится… А они слепы ли были?! Этот смертный приговор армиям Юга подписывая?!
– Да, вот как мы стали шагать! Для этой директивы мне пришлось взять стовёрстную карту, – довольно объявил Деникин.
Даже в груди затеснило от волнения – контузия старая напомнила о себе. Молчал, стараясь с чувствами справиться. Что тут сделаешь? Высказать напрямик? Спорить? Доказывать? Да уж сколько раз схлёстывались. А сейчас, в эйфории этой, в момент торжества самолюбивого – да ничем не прошибёшь! Теперь лишь на чудо надеяться остаётся, а чудеса долго ли Господь Бог посылать будет? Отбросил мысли о судьбе движения в целом, сосредоточился над операционной задачей, его армии поставленной. «Отдохнёте теперь»… Вот и «отдохнули», кажется. Выйти на фронт Саратов-Ртищево-Балашов, сменить на этих направлениях донские части, продолжить наступление на Пензу, Нижний, Москву… А прежде – Камышин взять. Это уже теперь, выходит.
– Ваше превосходительство, мои части окончательно истомлены после трёхсотвёрстного похода и сорокадневных боёв и должны хоть немного отдохнуть.
– Конечно, ведь до выхода донцов к Камышину в вашем распоряжении будет, вероятно, недели две. Вам только следует не задерживать переправы тех частей, которые вы пошлёте на левый берег, – кивнул Антон Иванович и тотчас распорядился о переброске в Добровольческую армию ряда частей, взамен которых Кавказской обещана была 2-я Кубанская бригада. И ещё раз добавил с гордостью: – Сегодня мною отдан приказ армиям идти на Москву!
Вышли от Главнокомандующего, как убитые. И ни слова не сказал Юзефович, вздохнул лишь утруждённо. И Врангель ничего не сказал ему. И нечего, по существу, говорить было, слишком ясно всё, и слишком трудно высказать…
Уехал Деникин в тот же день, и надо было теперь, ни секундой не медля, срочно браться за дела. В городе порядок наводить, укреплять его, сколь возможно. И одновременно же – новое наступление готовить. На Камышин. И дух перевести некогда.
Штаб Врангеля разместился в маленьком сером флигельке. Три оконца, георгиевский флажок при входе и парные часовые из кубанцев. В это скромное обиталище, где Пётр Николаевич и поселился, люди шли нескончаемым потоком. Каждый со своей болью. Со своим делом. С просьбой. А кто и просто – поблагодарить, почтение засвидетельствовать. И для каждого требовалось слово найти, а если дело важное, то распорядиться, помочь. Офицеров в штабе немного было, не раздувал его Врангель. Обходились малыми силами. Как в горячке сутки прочь пролетели. Сколько людей прошло мимо? Сколько судеб? Особенно старик-генерал Эйхгольц, служивший в молодости ординарцем при Скобелеве, запомнился. Трое сыновей его сражались на фронте, и двое уже погибли. Ограбленный большевиками до нитки, он сохранил оберегаемый, как святыню, академический знак Скобелева, завещанный ему давным-давно.
– Я хотел бы, чтобы этот знак украшал грудь достойную. Прошу вас не отказаться принять.
От какой-либо помощи отказался благородный старец, сославшись на то, что зарабатывает себе на пропитание частными уроками…
Тёк народ неиссякаемым ручьём. Какая-то дама требовала дать ей развод… Насилу выпроводили. Наконец, закончилось приёмное время. Отдав ряд распоряжений подчинённым, Пётр Николаевич опустился на маленький диванчик и устремил взгляд на висевшую на противоположной стене большую карту с обозначением фронтов. Свой фронт знал генерал назубок, с закрытыми глазами мог указать, какой пункт где расположен. И теперь в неутомчивом мозгу являлись всё новые схемы предстоящих операций. Пространство для манёвра было, но маневрировать – с чем? Столько людей потеряли под Царицыным, что армию по численности можно в корпус свести, а ряд полков расформировать за малочисленностью. Обещаниям Ставки, уже обжегшись не раз, не доверял. Подумал и написал Романовскому ещё. Вдогонку. О том, что людей мало, и даже те, что есть, истомлены крайне, и со снабжением – худо. Свежие силы, как воздух, нужны. А без них… Без них ещё возможно взять Камышин. Но удержать его нельзя будет. Закопаемся.
Приглушённый закатный свет окрасил небольшую комнату. Пётр Николаевич подошёл к окну, поглядел на узкую улочку, постепенно безлюдевшую. Весь день он посматривал на неё, на людей, снующих по ней. Как-то успокаивающе действовало.
– Разрешите войти, ваше превосходительство?
Это капитан Вигель порог переступил, шаркнул неуклюже изношенным сапогом. Артиллерийская бригада его наряду с некоторыми другими частями покидала Кавказскую армию и отправлялась завтра на фронт Добровольческой. И зашёл капитан проститься. Жаль было отпускать способного офицера. Успел его хорошо узнать генерал и ценил. Не за то, что тот приходился роднёй старому товарищу, а за личную доблесть и умелость.
– Входите, конечно, Николай Петрович. Садитесь, – длинной ладонью на кресло указал, а сам переместился за длинный письменный стол, аккурат добрую половину комнаты занимавший. – Что же, покидаете нас? Не сожалеете?
– Как сказать. С одной стороны, с Кавказской армией я сроднился, и оставлять её мне жаль. А с другой, полк мой – там. И я бы хотел быть со своим полком. И к тому же… – так и расцвело молодое лицо. – На Москву идём!..
Так и есть. Ослепила всех Москва сиянием куполов своих. Ни о чём другом никто и думать не может. На Москву, на Москву! А у армии уже резервов не осталось. И лучших офицеров, из которых Добровольческая армия почти целиком состояла, выбило большей частью. И места их пленные занимают. Далеко ли уйдём? Но не поделился Врангель тревожными мыслями с капитаном. К чему? Только настрой боевой ломать офицеру. Омрачать радость его. Просто и жаль по-человечески было.
А от приметливого взгляда Вигеля не укрылось, что Пётр Николаевич как будто и не очень разделяет радостного общего настроения. Но не спросил ни о чём. Не хотелось. Кавказскую армию искренне жаль было оставлять Николаю. Столько месяцев пройдено с ней! Столько вёрст! Столько побед одержано! Да и генерала Врангеля высоко чтил капитан. Вспомнилось, как приехал он в апреле в армию, ещё не оправившийся до конца от тифа. Ещё более исхудалый, чем обычно, и на лице высохшем ещё крупнее казались глаза, светло-светящиеся. И сразу в работу погрузился, и сразу на коня, и на передовую. И с такой быстротой всё делал он, что иногда возникало чувство, будто бы разом в нескольких местах генерал находится. А во время похода был – как простой солдат. На голой земле спал, подложив под голову седло и буркой укрывшись. Врангель и прежде любим был в армии, а за время царицынской эпопеи так и вовсе обожаем стал. Уже офицеры с гордостью говорили:
– Мы – Врангелевцы!
И многие на рукавах букву «В» рисовали. Вигель не рисовал, оставаясь Корниловцем. Но не понял, отчего такое вполне традиционное для Белой армии течение вызвало такое волнение в Ставке. Так вознегодовали там, что потребовали в приказном порядке букву «В» стереть. И что взревновали? Даже глупо как-то. Неприятно это было Николаю. Своего добровольческого вождя, генерала Деникина, он искренне уважал, и как военачальника, и как правую руку Корнилова, связующее звено с покойным Вождём. И тем обиднее было, что подрывался авторитет его неумными действиями. А буква «В» на рукавах осталась. Химический карандаш крепче приказа – попробуй ототри. Позубоскалил кто-то: «Пускай обмундирование новое шлют, если им так буква мешает».
А при всём при том радостно на сердце было. Даже усталость от похода и боёв тяжелейших не ощущалась – такой подъём охватил. Давно такого не было! Да и как мог не радоваться Вигель? С дивной скоростью маршировала армия, освобождая область за областью. Всё ближе Москва виднелась. Москва! – оглушающее слово! Так стосковался Николай по родному городу. Сколько лет, почитай, дома не был? Не москвич не мог так радоваться приказу «на Москву». Для других Москва – цель политическая. А для москвича в приказе этом одно слово слышалось – «домой!» С такой яркостью каждая улочка припомнилась. И родной дом. И все близкие, оставленные там (что-то с ними?). На Москву! – этот приказ казался чем-то прекрасным, чем-то само собой разумеющимся. Куда ж ещё? Только туда. И скорее. Пока порыв горяч, пока фортуна нам улыбается – рывком! Так хорошо было Вигелю, точно колокола московские в сердце переливались.
Но и других причин для радости не меньше было. А, пожалуй, и – больше? Ещё в январе истревоженный за Наташу, хоть и совестясь, а попросил об отпуске. На фронте спокойно было, а Вигель немало отличий в боях имел: не отказали ему. Поехал. Полетел, сломя голову, лишь бранясь сквозь зубы, что поезд медленно идёт. За время пути всё самое страшное перебрал в изнервлённом сознании. Едва прибыл в Ростов, прямо с вокзала бросился к Наташе. Отпер дверь (ключи ему она дала), переступил порог и вздохнул облегчённо. Прибрано всё, светло, даже как будто кофе пахнет. Стало быть, жива-здорова. Перекрестился мысленно, обругав себя дураком и паникёром – напридумывал себе разного, словно институтка. Стыдно вспомнить. С фронта сорвался… И сразу вслед – а и хорошо, что сорвался. Тревога тревогой, а не только она влекла его. А ещё хотелось просто с Наташей побыть. Обнять её, запах волос её вдыхать, целовать. Да просто тепла женского хотелось одичавшему в бесконечных боях и походах капитану.
Не успел фуражки и шинели снять, как из гостиной голос Наташин услышал. Негромкий, трепетный. А в ответ… И замер, ушам не поверив… Метнулся, как был – шинель на одном плече, снята наполовину – в комнату. А там, как ни в чём не бывало, сидя за столиком, пили кофе Наташа (на коленях у неё кот невероятно пушистый дремал, и нервная рука её в его шерсти тонула) и… отец!
Отца не видел Вигель дольше года. Отметил с радостью, что тот всё так же прям и собран. Лишь усох больше прежнего, и лицо осунулось несколько. Но держался бодро. Только не сдержал слёз, когда сына увидел. Да Николай не менее взволнован был. А про Наташу – и говорить нечего! Вопросы один через другой перескакивали, очередность путая. Как здесь? А Москва что? А… Оказалось, арестован был, жив чудом остался. А из Москвы пришлось бежать. Спасибо князю Долгорукову – помог. Но здесь-то как? У Наташи?.. Стал отец рассказывать обстоятельно. Едва оказавшись на Юге, стал он наводить справки о судьбе сына. Узнал, что жив тот, сражается на фронте. С бывшими сослуживцами (кто в отпуску был, кто по ранению) повидался. От кого-то услышал о Наташе. Потом и саму её отыскал.
– Да и как не найти было бы? Всё-таки профессия моя. Позор сединам был бы – не найти, – улыбался Пётр Андреевич.
Наталья Фёдоровна тактично оставила их, чтобы не стеснять разговора своим присутствием. Это кстати было. О ней-то при ней не поговоришь. А очень хотелось Николаю узнать, что-то отец о ней скажет? И самому рассказать… Оказалось, что Пётр Андреевич о многом догадался и без рассказов. Не изменяла старику профессиональная закалка. Да и сына своего знал достаточно.
– Ты жениться на ней собираешься? – спросил без обиняков, в лоб, пытливых глаз не сводя.
От самого себя вопрос этот Вигель гнал, а теперь нужно было отвечать. И отцу, и себе.
– Если жив останусь, да, – неожиданно легко ответил и почувствовал облегчённость: значит, верно решил, так и быть тому. Ждал, что отец скажет на это. Но тот молчал, поглаживал жилистой ладонью бороду.
– Почему ты молчишь? Ты против?
– Нет, – Пётр Андреевич качнул головой. – По-иному всё равно быть не может.
Теперь уже Николай примолк, не находя, что ответить. А отец продолжал:
– Наталья Фёдоровна нездорова. Ты знаешь, в каком положении я её застал? Нервы её были расшатаны совершенно… У меня даже были опасения… – он не договорил, заложил душку очков в угол рта. – Обошлось, слава Богу. Эта женщина не может находиться одна. Кто-то должен рядом с ней быть.
– Я знаю это, отец. Я поэтому и приехал, сорвавшись с фронта.
– И очень хорошо сделал. Пока ты можешь не беспокоиться о ней. Мы с Натальей Фёдоровной успели найти общий язык, и я теперь живу у неё.
– Я очень рад этому, – искренне сказал Вигель.
– Скажи честно, как ты к ней относишься? Только жалеешь? Или всё же любишь?
– Не знаю, отец. Но не всё ли равно теперь? Ты сам сказал, что оставить эту женщину я не имею права. Она не перенесёт.
– Да, не перенесёт… Если бы закончилась эта кутерьма, и удалось бы перевезти её в какое-нибудь тихое место, то здоровье её могло бы поправиться. Ты хорошо знал её мужа?
– Мы были недолго знакомы. Это был очень достойный человек. И Наталья Фёдоровна до сих пор его любит, я знаю.
– Хорошо, что ты это понимаешь.
– Не знаю, насколько хорошо понимать, что не любят тебя, – пожал плечами Николай. – А, может, так и лучше, что она меня не любит. Хоть в этом отношении совесть моя чиста!
Отец смотрел задумчиво и печально. Не о такой судьбе мечтал он для сына. Но что теперь все эти мечты? Пепел и только. И не выговаривал. Он вообще не разговорчив был, Пётр Андреевич. Ему слишком ясны были чужие мысли, чувства, поступки, а потому не было нужды спрашивать. А своими делился он лишь в меру необходимости. В старости особенно обозначилась эта черта.
– Что фронт? – спросил, меняя тему.
– Наступление развивается успешно, – как-то и Николай не расположен был к многословности при отце.
– Успешно! – Пётр Андреевич скривился. – Этого – мало, – обрубил резко. – Тыл расхристан. Разъяснение наших целей, сути борьбы не организовано. Пропаганда – похабное слово, но она необходима. «Товарищи» искусны в ней. У них листовки! Газеты! Ложь стопроцентная, но уверенная! И бьёт в точку. А у нас – что? Осваг? Трудно найти более вредного учреждения! Понабилось шушеры, лишь бы на фронт не идти… То, что они сочиняют, читать совестно. Бездарность.
Отец бросал отрывистые фразы без всякой интонации, и лишь по тому, как играли его желваки, видно было, что старик волнуется.
– А что бы ты хотел? Воззвания Кузьмы Минина? Так взывали! А толку ли?
– На месте командования, я бы разогнал этот Осваг к матери под вятери, как говаривал мой добрый друг. Нужен толковый человек, владеющий словом, чтобы писать воззвания, листовки и всё необходимое. Но не просто владеющий, а сердцем чувствующий это слово. Пример? Вспомни Отечественную войну. Тогда Государь Александр Павлович призвал адмирала Шишкова и повелел ему писать воззвания. Задача не самая лёгкая, заметь себе. Шишков был дворянин, образованный человек, учёный. А обращаться нужно было не к образованной публике, а к простонародью. Найти простые слова, которые были бы доходчивы до сердца. Так, вот, он нашёл их! От них, сто лет назад написанных, и сегодня сердце резонирует.
Почти энциклопедическими знаниями обладал Пётр Андреевич. Ещё в детстве любил Николай, когда отец начинал что-то из истории рассказывать. Случалось такое, правда, редко, так как слишком занят он был на службе, но и тем более запоминалось. Казалось Николаю, что не было такой книги, какую отец бы не прочёл. И цитатами сыпал, которые как только в памяти помещались. Правда, память старика подводила уже. А потому принёс он из соседней комнаты пухлую записную книжку с многочисленными закладками, стал листать, поясняя:
– Библиотеку жаль… Вся в Москве осталась. Знаешь, всю жизнь боялся больше всего – пожара. Что библиотека моя сгорит, – усмехнулся грустно. – А сгорает теперь вся Россия… Вот, только тетрадь эту и прихватил с собой, как конспект всего прочитанного.
Эту старую тетрадь хорошо помнил Вигель. Отец всегда что-то записывал в ней. Записывал мельчайшим почерком, сокращая слова – так, что шифр этот лишь ему одному и понятен был.
– Вот, нашёл, – сказал найдя нужную страницу. – Послушай, как сказано: «Да встретит враг в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина. Благородное дворянское сословие! Ты во все времена было спасителем Отечества; Святейший Синод и духовенство! Вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу России; народ Русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы укрепившихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием на руках, никакие силы человеческие вас не одолеют…» Так-то! А теперь тухлятина казённая – с души воротит читать.
– Тебе бы взяться за это дело, – полушутя, но и полусерьёзно сказал Николай.
– Я не Шишков. Для всего свой талант нужен, – хмуро отозвался отец. – У нас все самые бойкие перья у либералов и социалистов строчат. Россию развалили, теперь ещё и здесь всё норовят расколоть.
– Чем ты намерен заниматься в Ростове?
– Как Бог даст. Пока ума не приложу, – Пётр Андреевич пожал плечами. – Ты знаешь, я не люблю сидеть без дела. Но и не вижу, где бы мог пригодиться. Пока буду наблюдать…
Нет, не переменили отца ни болезни, ни крах всей жизни его, ни заключение, ни бегство из родного города. Он и теперь готов был включиться в работу для блага России, когда бы только нашлась для него такая. И раздражался, что не находилась. И затаённо, знал Николай, мается от неизвестности, что теперь с Ольгой Романовной. Даже не мог себе вообразить Вигель, какие кошки должны скрестись у отца на душе. Каково-то после стольких лет разлучиться и не иметь возможности ни весточки послать, ни справиться? Хоть и ревновал Николай всегда немного отца к мачехе из-за матери, но и сам привык и привязался к ней. И ей – как оказаться вдруг одной? В городе, ставшем почти враждебном?
Неделю провёл Николай в Ростове. И всю напролёт – с Наташей. Не расставались в эти дни. Наташа повеселела, румянец проступил на бледных щеках. И льнула доверчиво, словно защиты ища, мягкая, тёплая, словно кот её, ходивший по квартире с хозяйской важностью. И размыкалась, уходила тоска от этой ласковости женской – как и сроднились уже. Но даже в эту неделю, когда вроде бы никакой грани не осталось между ними, так ни разу и не назвала она его по имени. Казалась счастливой, а по ночам вдруг просыпалась, плакать начинала. На все вопросы не отвечала ничего, а лишь прижималась теснее, словно испуганно. И столько смешенной с жалостью нежности поднималось в груди. Как к ребёнку малому. Так хотелось утешить её, успокоить. Шептал ей что-то ласковое, затихала она и снова улыбалась.
Утром приходила прислуга, готовила обед. Наташа хозяйствовать не умела. Атмосферу уюта за столом создать – это талант её был. Но быт – никак бы ей не совладать. А за столом собирались втроём: Николай, Наташа и отец. Наташа – всегда безупречно одетая, причёсанная, посвежевшая. К отцу – предупредительно-внимательная. Кажется, и впрямь поладили они. То-то счастье! Отдыхал Вигель душой в эти часы. Вот, как будто семьёй одной уже были. Подумалось, что жениться на Наташе и хорошо будет, пожалуй. Закончится война, поселятся они вместе в Москве, или же в домишке за городом, где тишина и покой, столь нужный для расстроенных её нервов, и… Рисовало счастливые картины услужливое воображение, но уж Николай и притормаживал его. Не в наше время смутное размечтываться.
Уезжал успокоенный. Хорошо, что отпуск взял. А то бы издёргался только зазря – и много бы проку с него такого на фронте было? А теперь с новыми силами – в любое сражение! На вокзале простился сперва с Наташей сдержанно (на людях стеснялась она), затем с отцом.
– Береги её, я тебя очень прошу, – попросил, уже на подножку вскочив.
– Не волнуйся, – кивнул Пётр Андреевич. – Всё хорошо будет. Главное, береги ты себя.
Этого счастья в годину чёрную – уже не с избытком ли? А не поскупилась судьба и ещё на одну радостную весть. Из далёкой Сибири слух дошёл, что сражается в рядах армии Колчака – полковник Пётр Тягаев! Эту бы весточку благую в Москву передать, Ольге Романовне, места себя не находящей, так долго о сыне ничего не знающей. И крепла вера – перевернётся грозная эта веха, и схлынет красная нечисть, полонившая Россию, и белые рати в Москву с победой войдут. И так ясно виделась эта картина! Купола золотые, благовест, а по широким московским улицам маршируют белые полки, встречаемые цветами…
И в таком-то расположении духа пришёл капитан Вигель в этот июньский вечер проститься перед отбытием на другой фронт с генералом Врангелем. Сперва ожидал в маленькой прихожей, где толпились адъютанты и ординарцы командующего: у Петра Николаевича ещё не окончился приём. Входили и выходили из кабинета люди. То и дело доносился властный голос барона, отдававший какие-то распоряжения. Часто долетало знакомое: «Отлично, превосходно!» И выходили счастливые похвалой генерала офицеры. Наконец, иссяк казавшийся неиссякаемым поток, и капитан смог войти.
В маленьком кабинете фигура Врангеля, слегка пригнувшаяся в оконном проёме, казалась ещё выше. Приветствовал радушно. Ещё со времён операций на Северном Кавказе сложились отношения между ними. А поговорить не успелось. Доложил вошедший адъютант:
– Автомобиль подан, ваше превосходительство!
– Отлично, превосходно… – Пётр Николаевич обернулся к Вигелю. – Я еду осматривать позиции на подступах к городу. Нужно позаботиться о хорошем их укреплении. Не желаете составить мне компанию?
– Сочту за честь, ваше превосходительство.
В лучах заката всегда по-другому видится всё, нежели днём. Цветы и травы, устав от зноя, клонятся к земле, и уже не печёт солнце, не слепит глаз. Автомобиль выехал из города, поднимая за собой столбы пыли – давно ждала дождей потрескавшаяся от жары земля. Лицо генерала было озабоченным. Острым глазом он замечал всякую мелочь, иногда давал короткие распоряжения адъютанту. Этот человек, видимо, обладал завидным иммунитетом к победной эйфории. Даже самые крупные победы не пьянили его чрезмерно, не затмевали рассудка. Только вчера пал к его ногам Царицын, а будто бы это уже давно было. Уже и позабыл. И весь устремлён вперёд. К новым операциям. И просчитывает их на много шагов вперёд, и в туманной дали что-то угадывает взор стальных, а притом не теряющих теплоты глаз.
– Нет ли вестей от вашего брата? – спросил Пётр Николаевич.
– Пока никаких. Связь с Сибирью у нас, к сожалению, налажена не так хорошо, как хотелось бы.
Едва заметная тень пробежала по лицу генерала:
– Если бы мы соединились с Сибирской армией, то, возможно, вы могли бы уже лично обнять вашего брата. Признаться, мне немного жаль, что он теперь не здесь, не на Юге. С его боевым опытом ему бы нашёлся достойный пост в нашей коннице. Хотя, вероятно, и там его талант востребован. Может, даже там он нужнее. В Сибири нет такого числа хороших кавалерийских командиров, как на Дону и Кубани… Когда бы фронт был един – так и дополнили бы друг друга, и сообща раздавили бы «товарищей».
Да, не ошибся Вигель, когда ещё в кабинете ощутил, что настроение командующего сильно отлично от его собственного. Давно шли толки о расхождениях в вопросах стратегии между Ставкой и штабом Кавказской армии. Ах, как скверно это, как скверно… И теперь совсем не вдохновлён Врангель московским приказом. Хоть и ни слова об этом, но между слов, но в тоне – читается. Напрямик не сказал ничего. Да и Николай не спросил. Не захотел спрашивать. Угадывал, что ничего хорошего не прозирает впереди дальнозоркий генерал, а худого не хотелось слышать теперь, собственной радости туманить не хотелось отчаянно. А наоборот – отдаться ей, порыву стремительному отдаться всецело, и просто, по-солдатски исполнять приказ – идти на Москву! Подсказывала, правда, логика, что в отношении соединения с армией Колчака прав был Врангель. Сообща действовать всегда сподручнее. Но… Но и не безграмотные же люди в Ставке сидят! Хоть бы и Деникин сам! Тоже, должно быть, продумывали, как лучше, и резоны их весомы несомненно. Да и при том, как семимильными шагами вперёд движемся, неужто до Москвы не дойдём? И Москву ощущал Вигель, как уже взятую.
Загрохотало где-то впереди раскатисто. Запрыгали вспышки по темнеющему небу.
– Никак большевики прорываются, – насторожённо заметил адъютант. – Какие будут приказания, ваше превосходительство?
Мог бы и не спрашивать, впрочем.
– Поезжайте туда!
– Слушаюсь!
Это точно вылазка большевиков была. Уже вскоре показались люди: женщины с детьми, бежавшие из предместья, где разгорелось сражение. А потом и солдаты замелькали. И конные. Люди узнавали генерала, бросались к автомобилю, тянули руки, женщины плакали. Кажется, каждый мускул напрягся в лице Петра Николаевича, и совсем сухим стало оно. И сам он вытянулся, как струна. Наконец, приказал остановиться, поднялся, крикнул громово, отрезвляя не терпящим возражений голосом перепуганных людей, сгрудившихся вокруг:
– Что здесь происходит?! – подъехавшему офицеру. – Доложить немедленно!
– Красные, ваше превосходительство! Заставу нашу смяли!
– Всем остановиться! Смирно! Солдатам и офицерам – немедленно повернуть назад! Держать оборону! Женщины, заберите детей и расходитесь! Никакой угрозы городу нет!
И хотели верить, и сомневались – велики глаза у страха. Метались. А ещё загорелось где-то, небо кроваво окрасив – снаряд в нефтяной склад угодил? И не прекращалась беспорядочная стрельба совсем близко. Ко времени подоспел конвой командующего.
– Коня! – громыхнул Врангель.
– Ваше превосходительство, да поберегите же вы себя! – взмолился адъютант.
Но уже не слышал его Пётр Николаевич. Пока подавали коня, успел бросить Вигелю:
– Будем живы – встретимся ещё! Если получите вести от брата, отпишите. Удачи вам, капитан! – и вскочил на коня, и во главе конвоя устремился прямо навстречу зареву, туда, где гремел бой, скрылся во мгновение ока в клубах поднятой пыли…
Глава 2. Крушение
29 июля 1919 года. Окрестности Челябинска
…А как всё славно начиналось этой весной! Город за городом освобождался от насильников и встречал белые войска. Уже и к Волге энергично путь торили, занимая оставленные по осени Волжанами территории. На Святой неделе так и вовсе светились все, обнадёженные успехами армии, известия о которых передавались изустно, обрастали легендами, преувеличивались изрядно. То, что на деле не всё так блестяще, как хотелось бы верить, каппелевцы смутно понимали. Им, в Кургане застрявшим, трудно не понимать было, на себе «заботу» Ставки испытывая.
В Курган волжские части были отправлены на отдых и переформирование. Волжский корпус должен был состоять из Самарской, Симбирской и Казанской пехотных дивизий и Волжской кавалерийской бригады. Это были уже не те отряды в несколько сотен человек, с которыми Каппель начал свою борьбу на Волге – здесь были тысячи, которые надо было обучить, обмундировать, вооружить, а главное, воспитать. Работы было очень много, но Каппель ее не боялся – страшнее было другое. Омск так и остался противником Каппеля. Верховный правитель был искренен и благороден, но короля, как известно, играет свита. А свиту волжский герой раздражал. Жаловал царь, да не жаловал псарь… Ставку раздражала настойчивость, которую проявлял Каппель, требуя все необходимое для своего корпуса. Если Каппель в отношении самого себя не проявлял никаких претензий, то людям доверенным ему он старался всегда дать все то, что полагается. На Волге было проще – с Самарским правительством Каппель мало считался, и все что добывал в боях, сам и распределял между частями. Все нити управления в этом отношении сходились к нему. А здесь должен он был – просить. Сама эта необходимость вставшая – всего просить у Ставки – раздражала его до последней крайности. Просить то, что положено было по праву. Просить для общего дела. Просить, будто бы это ему одному, генералу Каппелю, нужно было корпус этот формировать. Для людей, которые шли и скоро снова пойдут на тяжкие испытания, может быть, на смерть ради Родины, нельзя просить! Им должны давать все необходимое. Владимир Оскарович знал, что на складах Омска лежало обмундирование, которого хватило бы на три таких корпуса, а его части все еще щеголяли в том подобии обмундирования, в котором пришли с Волги, лишь подлатанном да постиранном, и жители Кургана, глядя на них, с сомнением качали головами:
– Неужели эти оборванцы могли так воевать на Волге?
Выработанные на основании опыта и законов штаты трех пехотных дивизий и кавалерийской бригады были с самого прибытия Каппеля в Курган отправлены в Омск. Проведенная в начале Девятнадцатого года мобилизация должна была дать людей, но и их не было. Получалась тяжелая картина, когда части состоят из одного командного состава. Не было в достаточном количестве оружия, конский состав почти отсутствовал, хозяйственные части не имели самых минимальных запасов. Нужно было создавать, творить, работать, но материала для творчества не было. Формирование корпуса стояло на мертвой точке. Обещаны были пополнения им. Но обещанного, как известно, три года ждут. А ждать-то смерти подобно было! В стихийную эту пору быстрота действий, если и не всё, то очень многое решало. А потому, едва успев обосноваться в городе, стал Владимир Оскарович пытаться дозвониться до Ставки, до главы её, пресловутого генерала Лебедева. День, другой, третий – без толку. Собрались старшие офицеры на совещание. И Тягаев первым предложил:
– Не стоит ли обратиться напрямую к адмиралу? Попросить его ускорить формирования? – а сам о Кромине подумал: через него всего легче действовать в этом направлении.
Но Каппель не согласился. Не в его характере было жаловаться.
– Нет, Пётр Сергеевич, к этому средству мы не будем прибегать. Мы здесь многого не знаем. Верить не могу и не хочу, чтобы Ставка мне мешала. Мы творим одно дело, – может быть, уже все заготовлено, может быть, отправлено… Но требовать буду, не просить, а требовать. И добьюсь! – с этими словами генерал достал из шкафа бутылку коньяка и, когда рюмки были наполнены, произнёс:
– За работу, за успех ее, за победу, за Россию, за всех вас!
– Мы всегда с вами и с Россией, Владимир Оскарович, – тихо ответил кто-то из присутствующих.
А на другое утро, наконец, состоялся телефонный разговор с Лебедевым. Разливался главнокомандующий в славословиях, и любой важный вопрос в этом елее утопал. Но Каппель вокруг да около не стал ходить, в лоб вопрос поставил, почему Ставка так и не выслала ни обмундирование, ни оружие, ни людские пополнения для развертывания корпуса. А в ответ безмятежнейше, чуть ли не с позёвыванием:
– Но, дорогой Владимир Оскарович, это же пустяки. Отдохните сами, дайте вашим орлам отдохнуть. Всё будет предоставлено, но подождите немного – недели две, три. Сейчас идет разработка плана весеннего наступления, согласно моего большого проекта. Нужно все прикинуть, учесть, распределить, наметить. Понимаете сами, что быстро это все не провести. Частям на фронте нужно все дать в первую очередь. Требует Пепеляев, требует Гайда. Ваши все планы и требования я читал, и вполне с ними согласен, но повремените. Вся ставка работает теперь у меня чуть не круглые сутки, и скоро мы сможем удовлетворить и ваш корпус. Мы, – Верховный Правитель и я, – не беспокоимся за ваш корпус – вы в неделю сделаете то, на что другим нужен месяц. Как устроились? Завели ли знакомства? У меня в Ставке смеются, что одним своим появлением такой герой и красавец, как генерал Каппель, покорит сразу половину населения Кургана, особенно его женскую половину… – и снова елей полился – хоть отмывайся от него.
И, как белый день, ясно становилось: надеяться, как всегда, только на самих себя Волжанам оставалось.
Как не тяжко было сложившееся положение, а всё-таки рад был Тягаев выдавшейся передышке. Как не отдан он был до последней частицы Долгу, а есть и предел человеческих сил. Когда-то и их восстанавливать надо. К тому же Курган сразу приглянулся Петру Сергеевичу. Хороший провинциальный городок, тихий, уютный. Дома деревянные из-под высоких, каких в Петербурге не бывало, голубоватых сугробов, выглядывали, светили заиндевевшими оконцами. Люди жили размеренно, спокойно. И впервые не раздражило Тягаева подобное спокойствие в лихую годину. После стольких месяцев холода, голода, бесконечных походов и боёв так сладко оказалось окунуться в атмосферу мирной жизни. Отсыпался полковник, приходил в себя первые две недели. А потом…
– Дамы и господа, сегодня в нашем городе даёт концерт королева русского романса Евдокия Криницына! Вырученные средства целиком пойдут на нужды Волжского корпуса!
Она – приехала! Концертов дала не один, а целых три. Один – непосредственно для Волжан. И не только выручку от них передала на нужды корпуса, а ещё и из личных средств немалую сумму. А на каждом концерте исполняла Евдокия Осиповна романс на стихи Гумилёва:
– Пощади, не довольно ли жалящей боли,
Тёмной пытки отчаяния, пытки стыда!
Я оставил соблазн роковых своеволий,
Усмирённый, покорный, я твой навсегда.
Слишком долго мы были затеряны в безднах,
Волны-звери, подняв свой мерцающий горб,
Нас крутили и били в объятьях железных
И бросали на скалы, где пряталась скорбь.
Но теперь, словно белые кони от битвы,
Улетают клочки грозовых облаков.
Если хочешь, мы выйдем с тобой для молитвы
На хрустящий песок золотых островов.
И надо было совершенным валенком быть, чтобы не понять, не почувствовать, что романс этой каждой строчкой к нему обращён был, как остриём рапиры – в сердце.
В корпусе приезд Криницыной вызвал восторг. Никакого труда ей не стоило немедленно завоевать сердца всех в нём. С первого выступления стала она всеобщей любимицей, для Волжан – своей, родной. И не спешила Евдокия Осиповна уезжать. Поселилась в небольшом домике, в тихом, отдалённом от центра квартале. Ждала?..
Нет, не могло так продолжаться дольше. Жалящей боли достаточно было обоим им. Вьюжным февральским вечером подошёл Тягаев к заветному дому. Постучал в дверь, гадая, сама ли откроет она, или хозяйка, которой дом принадлежал? И томился от того, что так и не смог подходящих для момента слов найти, как ни старался придумать нечто связное. Мялся на крыльце с ноги на ногу, от снега метшего белый весь. Евдокия Осиповна открыла сама. Платье тёмное, пуховый платок на плечах. Будто бы похудела за это время, или кажется только? Отступила на шаг, приглашая войти, закрыла дверь, оглянулась, улыбнулась губами подрагивающими:
– Да вы в снегу весь… Сейчас! – и стала снег с плеч его смахивать. – Давайте мне шинель вашу. Вы, должно быть, замёрзли? Там… Печь натоплена… Погрейтесь!
Шинель взяла Криницына как-то трепетно, понесла, прижимая к груди, как что-то дорогое, и повесила бережно. А у дверей комнаты, куда провела полковника, остановилась вдруг, ладони к губам поднесла – платок её в этом момент с плеч соскользнул и на пол упал, а и не заметила. На глазах слёзы выступили.
– Пётр Сергеевич, милый, если бы вы только знали, как я вас ждала…
Рванулся к ней Тягаев, стиснул в объятиях, сам себя не узнавая, страсти такой прежде не ведая в себе. Сказал ли что хоть? Или так и не нашёлся? Не упомнил. Как во хмелю был.
Уютно было в этом маленьком деревянном домишке. Тихо-тихо. Только печь потрескивала, озаряла часть комнаты мягкими, огнистыми отсветами. Да ещё за окном завывала вьюга, уже до половины замётшая узорные окна. И отвычно тепло было. От печи, от одеял мягких, от Дунечкиной близости…
– Знаешь, Петруша, у меня ведь только два дорогих человека в жизни было. Покойный дядюшка и ты, – она сидела, укутавшись в одеяло, не сводя с Петра Сергеевича чудных глаз. И хоть чувствовал Тягаев тепло её, а казалось, будто бы какое-то неземное создание рядом – вот-вот вспорхнёт и исчезнет в ночи. И от мысли этой на миг страшно сделалось: привлёк её к себе. А Дунечка продолжала: – Дядюшка меня к жизни вернул, он мне жизнь открыл, мир открыл, людей. Талант мой открыл. Меня людям открыл. А ты мне меня саму открыл, вернул. Я ведь и подумать не могла, что такой быть могу, что такое счастье бывает!
Чудно признаться было, но и сам Пётр Сергеевич не подозревал, что бывает такое счастье. Называется, жизнь прожил, до седых волос и полковничьих погон. Женат был… Был? А теперь уж вроде и… Об этом не стал думать. Не к месту. Ведь почти упустил в жизни – столь важное. А теперь на излёте, среди ада разверзшегося – узнавал.
– Ангел мой, ты теперь единственное моё счастье, другого у меня не было и не будет.
Утром не ушёл Тягаев от Дунечки. Не смог… Да и какой смысл прятаться? Шила не утаишь в мешке. Все на виду друг у друга. А секрет Полишинеля разыгрывать, пожалуй, всего глупее и смешнее было бы.
Оказалась Евдокия Осиповна замечательной хозяйкой. Вот уж не ожидал Пётр Сергеевич! Откуда бы такие навыки? Такой превосходной стряпни и дома есть не приходилось. Разве что в детские годы. В родительском доме. Накрыв на стол, Дунечка садилась сбоку и, пока Тягаев ел, смотрела на него с такой неизъяснимой нежностью, что ещё вкуснее каждый кусок казался. Никогда такого взгляда у Лизы не было… Не в пронос жене думал Пётр Сергеевич (ещё бы ему её судить после всего!), но и не мог удержаться от сравнения. Лиза обычно выходила к столу сосредоточенная, углублённая в свои мысли – то ли статью какую писала, то ли уроками для подопечных своих занята была. И спрашивать о чём-то бесполезно её было: отвечала рассеянно и невпопад, неохотно возвращаясь от дел своих. Иногда читала газеты или книгу – времени другого не хватало на это. А если говорила то: или о своих делах, или же о каких-то домашних срочных. А так, что бы сесть рядом, подперев рукой голову, и посмотреть просто и ласково… А Дунечка смотрела, и растворялся полковник в этих глазах, исцелялась душа измученная.
Долга, однако же, не заставило забыть Тягаева даже это свалившееся нежданно счастье. Вовсю велись занятия. Устав внутренней службы и дисциплинарный многие из добровольцев, особенно татары, слышали впервые. Каппель сурово требовал усиленных занятий, не давая этим возможности зарождаться в головах людей чувству обиды в отношении к Омску. Проверенные и утвержденные им расписания занятий в частях занимали почти весь день, не оставляя времени для праздности и праздных мыслей. Помощи от Омска так и не было. Владимир Оскарович разослал по всему уезду и за его пределы верных людей, чтобы, не жалея денег, они свезли в Курган все, что необходимо для корпуса. По деревням в нынешнее время можно было купить все, до пулеметов включительно. Даже лошадей пришлось самим закупать, так как Омск уведомил, что не может обеспечить ими корпус. Среди Волжан нет-нет, а слышался ропот на Ставку: обидно было быть пасынками… Но обрывал решительно Каппель подобные разговоры, свои переживания в себе таил. Своим людям генерал говорил:
– Помните, друзья-добровольцы, вы – основа всего Белого движения. Вы отмечены на служение Родины перстом Божиим. А поэтому идите с поднятой головой и с открытой душой, с крестом в сердце, с винтовкой в руках тернистым крестным путем, который для вас может кончиться только двояко: или славной смертью на поле брани, или жизнью в неизреченной радости, в священном счастье – в златоглавой матушке-Москве под звон сорока сороков.
Уж как предан был Долгу Тягаев, а, вот, привелось встретить человека ещё более преданного, самоотреченного. Владимир Оскарович избегал общества и, всецело отдавшись работе, знал только свой штаб и свои части. Один вечер как-то потратил на праздничный обед с офицерами и под конец не преминул заметить:
– В эту ночь мы пережили много незабвенных дружеских часов, но эту ночь мы украли у нашей родины России, перед которой у нас есть один долг: напрячь и удвоить нашу энергию для ее освобождения…
Грянули «ура» в ответ.
Тратить же время на личную жизнь Каппель не мог себе позволить. А ведь с ним здесь были – двое детей его. Детей, лишившихся матери, оказавшейся в плену у красных. И зная, какая участь грозит ей там за него, продолжал генерал своё служение, и Бог один ведал, что творилось на душе у него.
«Каппелевцы» – так гордо именовали себя Волжане. Но официального присвоения своего имени хотя бы даже одной части категорически не допускал Владимир Оскарович:
– Я не царской крови, чтобы это разрешить! И не атаман!
Перед генералом невольно совестился Пётр Сергеевич, за собственное счастье ощущая неловкость. В такое время и грешно уже как будто бы счастливым быть?.. А с другой стороны, когда прежде счастлив был Тягаев? Благополучен был, спору нет. А счастья и не ведал. Что же гнать его от себя? Каждый день вёл Пётр Сергеевич занятия с рядовым составом. Обучал каждой мелочи. Укрощал свою раздражительность и вспыльчивость, всегда являвшуюся в нём при необходимости объяснять кажущуюся ему простую вещь несколько раз. К вечеру выматывался, как после боя, а приходил домой, видел Дунечку – и как рукой усталость снимало.
Уже ни для кого не секрет были их отношения. И стало это привычным, само собой разумеющимся. Иногда по вечерам гуляли с Евдокией Осиповной по тихим улочкам. Хрустел приятно снег под ногами, как спелое яблоко. И приятно было чувствовать Дунечкину руку под локтем своим, и голову её, в шапочке пушистой, очень идущей ей – на своём плече. По просьбе её читал ей стихи вполголоса. Вечно бы мгновения эти длились!
Но вечного – ничего нет. В такое время – особенно. Однажды утром вызван был Пётр Сергеевич к Каппелю. Генерал сидел за столом взвинченный, словно в лихорадке, каким ещё не приходилось Тягаеву видеть его. Губы, в странной усмешке кривящиеся, нервно дёргались:
– Вот! – кивнул на лежавшую на столе телефонограмму. – Полюбуйтесь!
– Что это?
– Это – они нам пополнения дают! – Владимир Оскарович картинно округлил глаза. – И большие! – подавил нервный смешок. – Из Екатеринбурга! – и докончил, как добил: – Пополнение из пленных красноармейцев!
Так и осел Пётр Сергеевич на стул рядом стоявший, провёл рукой по лицу:
– Это же… Это же… смерти подобно! Такое пополнение не усилит корпус, а лишь ослабит его! Непроверенная, непрофильтрованная масса бывших красноармейцев непременно поглотит старые кадры, и в момент боевой работы от нее можно будет ожидать всего, что угодно! – выдохнул сорванно. А для кого? Сам Каппель сидел за столом, сжав руками голову, потемневший лицом, с глазами страшными, как некогда на Аша-Балашовском заводе. Лишь через десять минут он заговорил глухо, едва разжимая губы:
– За этими пленными красноармейцами я должен ехать в Екатеринбург и там их принять. Они, как здесь написано, сами пожелали вступить в наши ряды и бороться с коммунизмом, но… Их так много этих «но»… – покачав головой, продолжал, постепенно возвышая голос, набирая уверенности: – Всех поделить между частями… Усилить до отказа занятия, собрать все силы, всю волю – перевоспитать, сделать нашими – каждый час, каждую минуту думать только об этом. Передать им, внушить нашу веру, заразить нашим порывом, привить любовь к настоящей России, душу свою им передать, если потребуется, но зато их души перестроить! – генерал быстро заходил по комнате: – Их можно, их нужно, их должно сделать такими как мы. Они тоже русские, только одурманенные, обманутые. Они должны, слушая наши слова, заражаясь нашим примером, воскресить в своей душе забытую ими любовь к настоящей родине, за которую боремся мы. Мы обязаны забыть о себе, забыть о том, что есть отдых – все время отдать на перевоспитание этих красноармейцев, внушить нашим солдатам, чтобы в свободное время и они проводили ту же работу. Рассказать этому пополнению о том, какая Россия была, что ожидало ее в случае победы над Германией, напомнить какая Россия сейчас. Рассказать о наших делах на Волге, объяснить, что эти победы добывала горсточка людей, любящих Россию и за нее жертвовавших своими, в большинстве молодыми, жизнями, напомнить, как мы отпускали пленных краснормейцев и карали коммунистов. Вдунуть в их души пафос победы над теми, кто сейчас губит Россию, обманывая их. Самыми простыми словами разъяснить нелепость и нежизненность коммунизма, несущего рабство, при котором рабом станет весь русский народ, а хозяевами – власть под красной звездой. Мы должны… – уже глаза в глаза смотрел, как заклиная: – Мы должны свои души, свою веру, свой порыв втиснуть в них, чтобы все ценное и главное для нас стало таким же и для них. И при этом ни одного слова, ни одного упрека за их прошлое, ни одного намека на вражду, даже в прошлом. Основное – все мы русские и Россия принадлежит нам, а там в Кремле не русский, чужой интернационал. Не скупитесь на примеры и отдайте себя полностью этой работе. Я буду первым среди вас. И если, даст Бог, дадут нам три, четыре месяца, то тогда корпус станет непреодолимой силой в нашей борьбе. К вечеру будет написан полный подробный приказ обо всем этом. Когда я их привезу, то с самого начала они должны почувствовать, что попали не к врагам. Иного выхода нет и, если мы хотим победы над противником, то только такие меры могут ее нам дать или, во всяком случае, приблизить. Да, нас наверное спросят, за что мы боремся и что будет, если мы победим? Ответ простой – мы боремся за Россию, а будет то, что пожелает сам народ. Как это будет проведено – сейчас не скажешь – выяснится после победы, но хозяин страны – народ и ему, как хозяину, принадлежит и земля, – утомлённый нервным порывом Владимир Оскарович опустился на стул, добавил негромко: – Вы, Пётр Сергеевич, знаете мои убеждения – без монархии России не быть. Но сейчас об этом с ними говорить нельзя. Они отравлены ядом ложной злобы к прошлому и говорить об этом с ними – значит только вредить идее монархии. Вот потом, позднее, когда этот туман из их душ и голов исчезнет – тогда мы это скажем, да нет не скажем, а сделаем, и они первые будут кричать «ура» будущему царю и плакать при царском гимне…
Из Екатеринбурга Каппель привёз более тысячи красноармейцев. Старые Волжане растворились в их массе. Наступила для волжских офицеров страдная пора. Многие из прибывших были пропитаны во время службы в красной армии соответствующим направлением, и приходилось много работать, чтобы перевоспитать их, согласно приказу Каппеля, а во многих случаях и проверить их лояльность. Это требовало, прежде всего, времени, и, полагая, что на полное формирование корпуса, проверку прибывших людей, знакомство с ними и организацию сильной боевой единицы, его будет дано достаточно, все старшие и младшие начальники, не жалея себя, принялись за работу. Владимир Оскарович, как всегда, показывал пример своим подчинённым. За три недели с момента прибытия пополнений генерал потерял представление о времени, о дне и ночи, о том, что когда-то нужно спать или обедать, мотаясь из полка в полк, из роты в роту, с утра до вечера и часто по ночам. Даже старые Волжане, знавшие его неутомимую энергию, теперь удивлялись, не понимая, как может человек выносить такой нечеловеческий труд. Наконец, результаты этой самоотверженной работы стали сказываться. Корпус был почти очищен от подозрительного элемента. Теперь нужно было ещё два-три месяца, чтобы закрепить первые результаты, и тогда можно было бы вести корпус в бой…
И в этот момент, как гром среди ясного неба, из Омска пришла телеграмма: «Комкору 3 генералу Каппелю. По повелению Верховного Правителя вверенному вам корпусу надлежит быть готовым к немедленной отправке на фронт. Подробности утром. Начальник Ставки Верховного Правителя генерал Лебедев»…
Немыслимо было! Преступно! Единственная рука ходуном ходила, когда проклятую эту телеграмму держала… А на генерала смотреть больно было. Закопались доморощенные стратеги из Ставки – как белый день, ясно. Затрещал фронт. Стратегов этих лично на ближайших фонарях вздёрнуть приказал бы Пётр Сергеевич. И не теперь! А раньше ещё!
Раньше – когда утверждали план наступательных операций. Два варианта действий на выбор было. Или выставить заслон в направлении Вятки и Казани, а основные силы отправить на Самару и южнее, чтобы у Царицына соединиться с Добровольческой армией. Или же направить главный удар на Вятку и Казань, чтобы выйти к Архангельску и перекинуть туда базу из Владивостока. Ни малейшего сомнения не было у Тягаева, что первый вариант бесспорно предпочтительнее. Ещё Драгомиров учил: врага надо бить кулаком, а не растопыренными пальцами. И, в первую голову, нужно идти на соединение с Деникиным. К тому же в южном направлении легко увлечь за собой чехов, рвущихся на родину. И край богатейший был там – всю Россию прокормить и отопить хватило бы. Но наверху рассудили иначе: генерал Гайда, бывший больше авантюристом, нежели полководцем, мечтал въехать первым под бело-зеленым знаменем в Москву, начальник Ставки Лебедев считал, что население северных губерний настроено против большевиков, генерал Нокс желал через освобождение от большевиков Вятки организовать снабжение армии Колчака по северным рекам. Поэтому главный удар Ставка Колчака стала готовить не в направлении Самары – Астрахани, где можно было соединиться с уральскими казаками и силами Деникина, а в направлении Вятки – через дремучие леса и болота, сильно замедлявшие возможности маневра.
Но если бы только это! Де-факто армия двинулась сразу по обоим направлениям, враздробь, разрывая фронт – всем стратегическим нормам наперекор! И Западную армию, на Юг наступавшую слабили, за счёт неё вдвое усилив Сибирскую.
Упрекать за стратегические просчёты адмирала не приходилось. Попробуйте-ка вверить сухопутному военачальнику флот – долго ли он на плаву продержится? Так и флотоводец не мог сухопутные операции достаточно разбирать. Но генералы-то? Ведь не сам же Александр Васильевич план операций составлял! Ведь окружали его советники – из армейцев! А они – военной науки на зуб отродясь не пробовали?.. А выскочку Лебедева этого, из молодых, да раннего – гнать ещё когда бы поганой метлой. Доверить ему Ставку! При нём особым шиком стало нормы стратегии презирать. Что там опыт, веками накопленный! Они – лучше придумают! И придумали…
За два месяца почти непрерывного наступления Западная армия выдохлась. Новые пополнения приходили редко, к тому же они были плохо обученные. Одним из них был «курень» украинцев-сепаратистов имени Тараса Шевченко, созданный при участии сторонников Украинской Рады и гетмана Скоропадского. Еще до прихода на фронт «курень» был распропагандирован большевиками, воспользовавшимися тем, что правительство Колчака избрало при проведении своей политики великодержавный курс, который исключал существование независимой Украины. Неожиданно для командования Западной армии курень восстал, перебил своих офицеров, захватил артиллерию. После этого он окружил один из полков шестого Уральского корпуса, солдаты и офицеры которого ничего не подозревали. Этот полк, личный состав которого в большинстве своем состоял из насильно мобилизованных крестьян Акмолинской губернии, уже поднимавших восстания против службы в белой армии, также перешел на сторону мятежников, которые, по всей видимости, были связаны с красными частями на фронте. В образовавшуюся брешь, закрыть которую было нечем, хлынули красные. Ханжин, генерал от артиллерии, с тактикой пехоты был знаком мало и не мог проявить знания опытного пехотного офицера, что, одновременно с почти полным отсутствием резервов, сделало ситуацию близкой к катастрофической. Белогвардейское командование в лице Лебедева не нашло ничего лучшего, как срочно бросить в бой недоформированный корпус Каппеля, хотя была прекрасная возможность перебросить с северного направления подразделения Сибирской армии.
Колотило Волжан. Сами закопались, а нами – дыры затыкать теперь? Гибель верная! И корпуса-то нет, как такового! Состав частей почти на восемьдесят процентов состоял из привезенных три недели назад пленных красноармейцев. Их не то что перевоспитать, но и достаточно познакомиться с ними командиры частей не успели. Верить этой чужой еще массе нельзя было, тем более, что было несколько случаев обнаружения среди пополнения специально подосланных коммунистов-партийцев. Прежде корпус был невелик, но монолитен, существовал, как единый организм, и командир мог ручаться за каждого своего бойца, и эта вера друг в друга, во многом, обеспечивала победу, теперь же эти проверенные бойцы были утоплены в ненадёжных пополнениях, и всякий план стало нужно составлять с учетом почти полной ненадежности частей, не имея уверенности ни в чём. Нарочно спросил Каппель командиров частей, собрав их у себя:
– Вы верите в своих солдат, вы знаете их?
– Нет, – коротко отозвались офицеры.
По телефону Владимир Оскарович связался с начальником Ставки Лебедевым, привел все имеющиеся у него доводы, доказывая бесполезность отправки корпуса на фронт в настоящем его состоянии, рисовал катастрофу, которая может произойти. Он говорил долго, горячо, не в силах сдержать боли, Лебедев слушал, не прерывая, а когда Каппель остановился, ответил коротко, приговорил бестрепетно:
– Генерал Каппель, вы получили приказ? Завтра корпус должен выступить в полном составе в распоряжение Командарма три.
Приказ нужно было выполнять… В настроении похоронном собирались спешно. Город как будто и не сильно встревожен был. Ещё угрозы себе не чувствовал. Да и дни какие стояли! Майские! Безоблачно-светлые, благоухающие… Листва шумела отрадно, солнышко только-только припекать начинало, в силу входить. О плохом – не думалось.
Перед отъездом успел Тягаев на час к Дунечке зайти проститься. Она уже знала обо всём – не зная, сможет ли выбраться, послал к ней Пётр Сергеевич Доньку с короткой запиской. Ждала, на крыльцо поминутно выходя. Лишь подошёл, схватила за руку, к лицу поднесла, прижалась щекой:
– Если бы ты не пришёл, я бы сама на вокзал приехала, – подняла глаза, от слёз туманившиеся. – А, может быть, мне поехать можно?
– Нет, – решительно ответил полковник. – На фронте тяжёлая обстановка, к чему приедем, и что там будет – мы сами не представляем. Сюда уж вряд ли возвратимся…
– А куда же?..
– Я ничего не знаю, – удручённо качнул головой Пётр Сергеевич. Он вновь поймал себя на мысли, что с Лизой никогда не было ему прощаться так тягостно. С ней прощались всегда легко. А с Дунечкой – словно душу надвое разрывал.
– А ты, ты здесь останешься?
– Пока да. Я от тебя письма ждать буду… Я понимаю, Петруша, что там не до писем. Но ты хоть два слова… Просто, что жив… Хорошо?
– Конечно. И сам не смогу иначе. Не писать тебе, не получать вестей от тебя. Если в этой проклятой круговерти мы потеряем друг друга…
Тонкие, тёплые пальцы замкнули губы полковника.
– Нет! Нет! Я никогда тебя не потеряю. Я тебя везде найду, – так уверенно и твёрдо прозвучали эти слова, что от сердца отлегло. Смотрел Тягаев на Дунечку – наглядеться не мог. Хрупкая она была, ранимая, нежная, а при том – сколько сил, сколько выдержки, сколько воли и решимости. И отваги. И как не быть им у женщины, за годы войны все фронты исколесившей? Это лишь в русской женщине так сочетается: очаровательная слабость с силой душевной, мягкость, обволакивающая, в себе растворяющая – с твёрдостью перед лицом испытаний, податливость, собственное «я» забывающая – с волей… А, впрочем, может и не только русских женщин это достоинство? Других Тягаев не знал.
Ранним утром эшелоны Волжан двинулись на фронт. В дороге ещё «порадовали» – части корпуса размётывались по разным участками. Кавалерию и артиллерию (коренных Волжан!) приказано было передать в распоряжение казачьего генерала Волкова. Осталась одна пехота (и она сосредотачивалась частями) – из красноармейцев большей частью. С ними и воевать только… Владимиру Оскаровичу, между тем, вручалось командование всем Самарским направлением.
Тринадцатого мая произошла катастрофа, какой и боялись более всего. Симбирская бригада перешла на сторону красных. Солдаты, набранные из красноармейцев, уводили с собой офицеров. Известие об этом Каппель получил на станции Белибей, куда прибыл накануне и рядом с которой развёртывались бои. Здесь же находился и Верховный Правитель, в тяжёлый момент чувствовавший себя обязанным быть на фронте. Тягаев не видел адмирала полгода. И сейчас при взгляде на него одна мысль-чувство мелькнула: «Несчастный благородный страдалец!» Ему только-только показали выводимые в тыл части двенадцатой Уральской дивизии. Люди были без обуви, в верхней одежде на голое тело, или же вовсе без шинелей. Прошли чинно церемониальным маршем. Остановились. Отдали честь. Адмирал начал говорить что-то, но сбился – отказало красноречие от горечи, вызванной таким беженским видом героев. И кто-то из них сказал громко, прочувственно:
– Да не надо ничего говорить, ваше превосходительство! Мы ведь всё понимаем…
Александр Васильевич выглядел потрясённым. Не мог он предполагать, что в таком состоянии могут быть армейские части. И о том, как издевалась Ставка над Волжским корпусом, не ведал. Пожалел Тягаев, что не убедил Каппеля обратиться напрямую к адмиралу. Или не напрямую – через Кромина. Надо было убедить, или по собственной инициативе через старого друга действовать…
В этот момент прибежал один из штабных офицеров с лицом опрокинутым, оглоушил известием:
– У нас несчастье! Один полк целиком перешёл к красным, захватив офицеров!
Это – Симбирцы были…
Показалось Тягаеву, что при сообщении этом даже качнуло Верховного, как будто почва из-под ног ушла. Потемнел ещё больше лицом, больными глазами посмотрел на Каппеля, вымолвил голосом, в котором слышались едва сдерживаемые истерические нотки:
– Не ожидал этого… – и, взяв себя в руки, попытался ободрить генерала: – Прошу вас, Владимир Оскарович, не падать духом…
Не падали… Уже и некуда падать было. День этот, тринадцатое мая, стал первым днём Катастрофы вооружённых сил Сибири. Остатки каппелевских частей, отступали с уральцами и сибиряками, неся под непрерывным огнём красных огромные потери. Больших усилий стоило собрать их. А собрав, впору взвыть в голос было. Третий корпус, на который потрачено было столько сил и энергии, практически перестал существовать. А ведь, если бы дали времени требуемого, то была бы это мощная сила, которая била бы большевиков! Да что теперь… Не вернуть…
Отступала, катилась назад стремительно Западная армия, снова оставляя недавно освобождённые города, срывая за собой тысячи беженцев, не успевая закрепиться, удержаться на какой-либо линии, на которой должно было бы остановиться и, подобравшись, снова идти вперёд. Штаб армии слал директивы: «упорно удерживать», «нанести стремительный удар», «энергично перейти в наступление»… Этот поток ненужных приказов не успевали даже расшифровывать. Распоряжались командующие группами сами по обстоятельствам.
В июле докатились до Челябинска. В это время командующим Восточным фронтом был назначен опытный генерал Дитерихс. Появились слухи, что вскоре он займёт место Лебедева. Да давно бы уж!.. Вот кому – карты в руки!
Михаил Константинович Дитерихс не входил в число полководцев, увенчанных победными лаврами, прославленных и известных. Его военная карьера не имела взлётов, а развивалась постепенно. Служить ему приходилось преимущественно на штабных должностях. К работе штабной Михаил Константинович имел несомненный талант. Знаменитый прорыв Брусиловский, увековечивший имя его, был не в меньшей степени заслугой Дитерихса, являвшегося в ту пору генерал-квартирмейстером штаба Юго-Западного фронта и ближайшим помощником Брусилова, большую роль игравшим в разработке всех военных операций. В Семнадцатом успел Михаил Константинович послужить в той же должности в Ставке. При Духонине. Он покинул Могилёв перед самым приездом Крыленко с его головорезами и тем уберёгся от участи последнего Главкома. После этого оказался Дитерихс на Украине, там возглавил штаб Чехословацкого корпуса, с которым и добрался до Сибири. А в Сибири при Колчаке не нашлось опытному сорокачетырёхлетнему генералу места ни в Ставке, ни на фронте. Но нашлось совсем иное дело – Верховный Правитель отправил Михаила Константиновича в Екатеринбург расследовать обстоятельства убийства Царской семьи. И всё это время тем и занят был Дитерихс. К делу на совесть подошёл. Да и как бы иначе? Об убеждениях многих начальников сомневаться можно было, а о Дитерихсе точно каждому известно было: монархист до мозга костей. Он из Екатеринбурга уезжал, когда отступающая армия уже на подступах к нему сражалась. И успел все документы, улики, вещи, принадлежавшие Венценосной семье, переправить из города, спасти. А теперь, как грянул гром, так сперва вручили ему Сибирскую армию Гайды, с трудом из рук этого прохвоста вырванную, а теперь и весь Восточный фронт. На положение дел смотрел генерал мрачно. Он даже в дни побед на фронте, как говорили, далёк был от оптимизма и предрекал нынешнюю катастрофу. И теперь план его был: отвести армию сразу – за Тобол. Укрепиться там, переформировать и пополнить войска, а по весне перейти в наступление. Нужно было людей сохранить, кадры сохранить. Бесчисленные бои измождённой армии уже не могли нисколько спасти положения, но драгоценные жизни уносили. Даже победа, вдруг одержанная, не изменила бы хода дел, потому что сил уже не осталось. Только людей губить – а эти потери невосполнимы. Зачем и победа нужна, если армии не останется? Михаил Константинович правды не боялся. Не скрывал её ни от себя, ни от других. И от адмирала не скрывал. Но правды этой не желали знать. Слишком горька она была, слишком хотелось верить в лучшее. Дитерихса поддерживал военный министр Будберг, известный своим всегдашним пессимизмом.
Но пока оставался на посту злой гений… Лебедев. И метались в Ставке, не могли решиться на что-либо. Противники плана Дитерихса зашумели, что такое решение будет воспринято, как бегство и трусость. Знали чувствительные струны адмиральской души. И, вот, отдан был приказ о переходе в наступление. Переход этот, контрманевр, сражение генеральное назначили на последние числа июля под Челябинском. По мысли господ «стратегов» предполагалось уступить челябинский узел, а затем окружить красных ударными группами Войцеховского с севера и Каппеля с Юга.
Ещё накануне бригада полковника Тягаева закрепилась у небольшой речушки, мелкой, среднерослому солдату едва повыше колен. За ней в крупном селе держали оборону красные. К активным действиям пока не переходили, лишь постреливали с разной степенью интенсивности. Большевистский огонь част был, а ответного – никакого почти. Экономили патроны, которых привычно не хватало. Главная заповедь для белого воина: патроны и снаряды беречь пуще жизни – других не пришлют. Стрелять редко, но промаху не давать. Ожидали приезда Каппеля, чтобы перейти в наступление. А пока мёрзли в наспех вырытых окопах, кастерили тяжёлыми словами Ставку и интендантов – больше чем большевиков.
Погода не баловала третий день. Тусклое серое небо время от времени выдавливало противную морось, задувал северный, совсем не летний ветер. Не поверишь, что июль-месяц. Тягаева знобило. Вот, ещё глупость: всю зиму по сорокаградусным морозам проходить, а летом простудиться… Он сидел под натянутым в редкой рощице брезентом, курил трубку. Временами посвистывали пули вблизи, но и внимания не обращал – так привычно это стало. Наступление виделось ему делом, заранее проигранным. Не говоря об усталости физической, но и настроения не было в войсках. Два месяца отступлений, бесполезных боёв и жертв не оставили места порыву, вере в победу. И моральных уже не было сил вновь теперь проделать тот путь, который лишь весной прошли. Про физические и говорить нечего. Большевики патронов не жалеют, а у нас – каждый на счету. И перевес численный на их стороне. С нужным настроем смяли бы и с перевесом, а так… Смотрел Тягаев на своих бойцов, и читал в их глазах только усталость. Да ещё раздражение на глупость вышестоящую.
– Всё, барин, бесовским зельем утешаешься? – это дед Лукьян подошёл, поморщился от дыма табачного. – Что-то Донька наш запропастился… Пора бы и вернуться ему…
Донька при полковнике исполнял обязанности вестового. Заметил Пётр Сергеевич, что немало мальчишек явилось на фронте. Большей частью, развозили почту, приказы. Целое подразделение сформировано было из таких молодцов. Много кадет среди них было, а ещё гимназисты. Из домов родительских бежали – умирать за Россию. Некоторым лет по двенадцать было. Доньке служба очень по душе пришлась. В Кургане он скучал, как и дед его. Оба рвались в бой. Зато на фронте – воспрянули. Даже отступление боевого задора их не отбивало. В Кургане Доньке пошили форму. Безукоризненно сидела она на нём. Смотрел на себя мальчонка в зеркало, поправляя широкий ремень, и светился радостью – это не сермяга его крестьянская была, настоящая форма! И шла она маленькому герою. Ещё и шинелишка была к ней, но для неё не приспела пора. Выучился Донька строевому шагу и иным армейским премудростям – на занятия ходил исправно. А на фронте выделили ему малорослую сибирскую лошадку – каурого, шерстистого гривача. Летал на нём юный вестовой, доставляя из части в часть приказы и донесения. За отвагу несколькими днями назад прицепил ему на грудь полковник первую в его жизни медаль, весело поблёскивающую на солнце. То-то счастье было для мальчишки! Сиял, как именинник, весь день, а ещё и поздравляли все. В его-то годы что отраднее может быть?
Этим утром Тягаев отправил Доньку с донесением в оперирующую по соседству часть. Нужно было уточнить кое-что для лучшей координации действий. Ускакал на своём кауром и не возвращался до сих пор – а время бы…
– Небось, на подвиги потянуло его, баламута, – качал белой головой кудесник. – Приедет – схлопочет… Дед на его еройства глядеть не станет…
В стариковском ворчании слышалась тревога. Пётр Сергеевич убрал трубку в карман, опустил руку на плечо Лукьяну Фокичу:
– Не переживай, отец. Вернётся Донька. Ты ли своего внука не знаешь? Он же из любого положения вывернется. Из любой передряги уйдёт.
Старик не ответил. Заметил лишь, глядя в сторону:
– Что-то и енерал запропастился… Когда наступаем-то, Петра Сергеевич?
– Как приедет генерал, так и пойдём, – отозвался Тягаев. – Вот, скажи мне, кудесник, что мы все-то запропастились? Вот, и ты всякий бой впереди с крестом шагаешь – а мы всё отступаем, отступаем… Или Бог не с нами? А?
– Бога не трожь, барин. Нам перед ним грехов наших вовек не отмолить… А что отступаем, так нечего было большаками войско растлевать. Или не знали, что на их креста нет? Что иуды? Таких ни один поп не докаит.
– Так других людей нам не дали, сам знаешь.
– А людей вам никаких не дали. Вам иуд дали на пагубу всему Христову воинству. И нечего было брать их! Пусть бы мала горсть была, да спаяна!
– Мы не в парламенте, чтобы приказы обсуждать, – сухо отозвался Пётр Сергеевич. – Скажи лучше, что дальше-то будет? Вовсе пропадём мы, как мыслишь?
– А мы ужо тебе, барин, мысли свои говорили. Говоришь, Бог не с нами? А мы – с Ним? Мы-то полностью ли отринули всякую скверну ради Божия дела? Сам ты, барин?.. – в суровых глазах старика мелькнула укоризна. Тягаев отвёл взгляд. Понимал он, на что кудесник намекает, за что осуждает его. Ещё в Кургане не раз и не два встречал полковник неодобрительное это выражение в Лукьяновых глазах. И каждый раз делал вид, что не замечает. И старик черты не переходил, не напирал в открытую, а только головой качал. А теперь вырвалось:
– Не дело это, Петра Сергеич, не дело… Нехорошо.
А кто спорит, что хорошо? Никто не спорит. Хотя, по правде говоря, жгло – поспорить. Но не счёл Тягаев нужным оправдываться, перевёл:
– Армия выдохлась, Лукьян Фокич. Солдаты воевать не хотят, офицеры утратили готовность к жертвенности. Огня не осталось в сердцах, одни уголья, – делился наболевшим. Никому, кроме этого старца-старовера, не доверял он своих мыслей.
– Эх, барин! Что армия! Народ развратился совершенно – вот, где пагуба. Никто никому подчиняться не желает. Сколько годов живём, а не приходилось такого видеть.
– То-то и оно, что подчиняться не желают. Из Сибирской армии все мобилизованные утекли. Побросали винтовки – и по домам! И заставь-ка их винтовки опять взять! Они, если и возьмут, то против нас их направят, как только случай представится.
– Не веришь ты, барин, в народ, – констатировал кудесник.
Тягаев не успел ответить. Зачастила вдруг стрельба. Послышались крики.
– Что ещё там? Не обошли ли нас?
Быстро вышел полковник из своего укрытия, пригляделся и в серой туманно-дымной пелене разглядел летящего во весь опор всадника. Это по нему стреляли с того берега, норовя подбить. А он – молодчина – изгибался ловким телом, петлял, уворачивался. Ещё мгновение, и в наезднике отчаянном узнал Пётр Сергеевич Доньку. Нёсся во весь опор его каурый гривач. Вот, уже и близко совсем. А стрельба чаще и чаще становилась. Пуля одна ветку перебила прямо рядом с полковником – упала та, листьями шерохнув, на его погон. И не заметил, весь в глаза ушёл. Куда ж ты летишь, парень? Не заговорённый же! В этом частостреле – ну, как твоя пуля окажется?.. А рядом дед Лукьян замер, молитву шептал. Минута прошла? Или того меньше? Взлетел каурка на небольшой пригорок и вдруг… Неестественно выпрямился вдруг Донька в седле. Ладонь поднёс к груди. И оседать стал… И ничем нельзя было помочь!
– Убили… – простонал глухо кудесник.
Да отчего убили сразу? Да, может, ранили только?..
А каурка бег продолжал и, вот, остановился, довезя всадника своего, неподвижного, но, кажется – живого ещё? Бросились, стащили мальчонку на землю, положили на траву – и подстлать не оказалось ничего. Живой ещё был. Только на груди, на мундире, ещё почти новеньком, огромное пятно алое расплывалось. Поблёскивала медалька тускло, и тускло глаза смотрели на бескровном лице. Дед Лукьян опустился на колени, гладил внука по влажным волосом, всхлипывал надрывно.
– Врача! – крикнул Пётр Сергеевич в отчаянии, но сам видел, что врач не поможет.
– Господин полковник… – чуть слышно прошептал Донька, задыхаясь. – Вот, здесь, здесь… – потянул руку к груди. – Донесение… вам… Я ваш приказ… выполнил…
Тягаев наклонился, извлёк запачканную кровью бумагу, пробежал быстро. Безотрадно – не удался манёвр задуманный соседям, теснили их. Пожал Донькину холодеющую руку:
– Спасибо тебе, герой… – и стиснув зубы, добавил: – Приказ… К чёрту бы приказ… Жил бы ты только! А уж мы за тебя сегодня…
Но уже не дышал мальчонка. Лежал недвижимо: рука на окровавленной груди, глаза угасшие в серизну неба уставлены. Перекрестил его дед, зарыдал хрипло, из стороны в сторону раскачиваясь, завыл:
– Донька… Донюшка… Да на кого ж… Да будь они прокляты! Чтоб им в аду гореть вечно! Чтоб… Господи! Господи! За что?! За что не накараешься над нами?! Разил бы раба своего худого любой смертью страшной! А его – за что?! Доньку – за что?! Почему не защитил, не оберёг его, Гос-по-ди?!
Подбежал, пригибаясь, Панкрат, посмотрел растерянно, сглотнул судорожно, но отрапортовал:
– Пётр Сергеевич, командующий прибыл! Отправился на позиции. Вы бы удержали его – убьют ведь его там!
Тягаев тяжело выпрямился, тряхнул головой:
– Ты пока здесь останься. А я к генералу…
Каппеля полковник нашёл на позициях. Владимир Оскарович шёл вдоль окопов, разговаривая с солдатами. Подниматься им он запрещал, чтобы не рисковали, так и беседовали: он на линии огня стоял, а они в окопах лежали. Ободрял их генерал:
– Держитесь, братцы, скоро подойдёт ещё полк, поддержит нас.
Радовались, оживали. Кажется, и настроение боевое появлялось. Как никто, умел его Каппель внушить. Своего рода поверье было: если Каппель в бой ведёт, то должна победа быть. Так прошёл он всю линию – и ни одна пуля не зацепила.
– Владимир Оскарович! – окликнул Тягаев генерала из своего окопа.
Каппель спрыгнул в укрытие, пригнулся, сказал коротко:
– Вас, Пётр Сергеевич, обманывать не стану: положение наше отчаянное.
– А как же полк, который нам на подмогу идёт?
– От этого полка осталось только название. И горсть людей. Но им, – генерал кивнул в сторону войск, – этого знать не нужно. Пусть верят, что идёт настоящая подмога. Так хоть настроение лучше будет. Как бы то ни было, а свою задачу мы должны выполнить: взять это чёртово село и отбросить «товарищей», насколько хватит пороху, дальше.
Это и хорошо было, что цель не менялась. Сейчас, после Донькиной гибели, велико было желание Тягаева с «товарищами» посчитаться. Подошли ещё несколько старших офицеров. Каппель коротко объяснил всем план действий. Разошлись по своим участкам.
– Ну, с Богом! – воскликнул генерал и, поднявшись, скомандовал наступление.
Грохотнула из-за пригорка укрытая там артиллерийская батарея. Поднялись из окопа засидевшиеся в ожидании боя части. Пошли цепью, как один человек – в штыки. Краем глаза заметил Пётр Сергеевич идущего впереди кудесника. Даже страшное горе не заставило его изменить долгу: высокий, по-военному выпрямленный старик с белыми волосами до плеч, чёрной тесьмой вокруг головы перехваченными, в серой сермяге и с массивным старообрядческим крестом в руках. Но вдруг – словно оступился. На колено одно припал. Это пулей ногу ему перебило. Впервые за всё время борьбы… И кто-то крикнул заливисто:
– Братцы, деда ранили! Вперёд! Покажем красным сволочам, где раки зимуют! Бей комиссаров!
А кто-то довесил матерно.
И, вот, уже через речушку перебрались, смяли первые ряды противника. А он – силён был. «Полк» в подмогу подошёл ли? Бог весть! В этом человеческом месиве не разобрать. А оно и лучше. Пусть думают бойцы, что – подошёл. Что не одни они. А всё же замешкались, выдыхаться стали. Но в этот момент несколько человек верховых показались. А впереди – Каппель. Сам в атаку повёл замявшиеся части.
– Ура генералу Каппелю!
– Вперёд!
– Ура!
И на ура – ввалились в село. И на инерции хорошей увлеклись вперёд, выбили «товарищей», погнали. Хорошо выступили, не осрамились. Доволен был Пётр Сергеевич. Едва решился бой, отправился в лазарет, тут же в одной из изб разбитый, надеясь отыскать старика. Кудесника полковник увидел сразу. Его только-только принесли с поля боя, положили среди других раненых – пока на землю: не распределили ещё сёстры, кого куда. У Лукьяна Фокича обе ноги перебиты оказались, но не жаловался, лежал спокойно, сжимая крест сильной, жилистой рукой.
– Отец, ты прости меня, – тихо сказал Тягаев.
– За что?
– За Доньку прости. Что не уберёг.
– Не говори, чего не понимаешь, Петра Сергеевич, – вздохнул старик. – Здесь твоей вины нет. И ничьей нет. За жизни наши лишь ангелы наши пред Богом ответственны. А без Его воли и волоса ни с чьей головы не упадёт. Значит, такова Его воля была… – всхлипнул. – А мы её принять не смогли… Вот, и наш ангел лик на время отвернул… – показал на свои искалеченные ноги. – Это за ропот, за проклятья – наказание… Ничего… Вот, зарастут, и пойдём мы опять за Святую Русь, за Христа на смертный бой. С крестом против серпа и молота ихнего. Мы ещё поборемся, барин… Не грусти…
– Прощай, отец. Поправляйся и возвращайся, – сказал полковник, пожимая руку кудесника. – Возвращайся. Ты нам нужен. Кто ж впереди нас теперь пойдёт?
– Ты пойдёшь, Петра Сергеич. Ты пойдёшь. А я за тебя и за всё воинство наше молиться буду. Иди! Христос с тобой! – сказал Лукьян Фокич, перекрестив полковника двуперстно.
Так и простились. Навсегда ли? Ком к горлу подкатывал. Но не было времени горе горевать. Уже искали Тягаева. Генерал собирал старших офицеров на совещание. Поспешил в штаб, наскоро в избе местного священника, расстрелянного большевиками, размещённый. Там уже собрались, и хмурый Каппель делал какие-то пометы, склонясь над разложенной на столе картой.
– Господа, сегодня мы одержали очередную славную победу… – начал Владимир Оскарович. – Она важна уже тем, что показала большевиками, что мы ещё представляем воинскую силу и способны к действию. Однако, общей ситуации нам изменить не удалось. Челябинской операции нам не выиграть. Это ясно уже сейчас. Следовательно, отступление будет продолжено, и остановить его не в нашей власти. Тыл разлагается. Там действуют красные банды, вносящие смуту и подрывающие наши силы изнутри…
Подрывная деятельность в тылу давно уже стала проблемой серьёзнейшей. Подрывали активно эсеры, так и не принявшие власти Колчака. Эти подлецы, судя по всему, решились довести до конца начатое ещё два десятилетия назад дело разрушения России. Действовали банды дезертиров, красные партизаны. К ним примыкал бедняцкий элемент из крестьян. Банды отличались большой жестокостью и наводили ужас на население. Меры для подавления их и спровоцированных большевистскими агитаторами восстаний обычно оказывались неэффективными. Партизанщина наносила огромный вред белому делу, внося смуту среди населения и вынуждая снимать войска с фронта для борьбы с бандитскими вылазками. И какова ж наглость была! Один из наиболее известных партизанских вождей, бывший штабс-капитан Щетинкин, чья банда отличалась особой жестокостью, действовал… царским именем! В прокламации выпущенной этим ушлым деятелем православные люди призывались на борьбу с «разрушителями России» Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского, на защиту русского народа и Святой Руси под знамёнами Великого Князя Николая Николаевича, которому якобы подчинились Ленин и Троцкий, назначенные им своими министрами. «За Царя и Советскую власть!» – таков был лозунг щетинкинцев. И народ – верил! Гениально это было – объединить два полюса симпатий тёмной массы. Царя до сих пор чтили в народе. А потому и без самозванцев не обходилось. Какая ж русская смута без самозванцев? В Бийске объявился «цесаревич Алексей». И не только тёмная деревня, но и город поверил. Чествовали высокого гостя!
Этим диверсиям в тылу необходимо было что-то противопоставить. И срочно. И Каппель, немало поразмышляв об этом, нашёлся – что. Владимир Оскарович составил целый план действий, которые, по его мнению, могли бы спасти положение. Первая часть его отвечала желаниям Дитерихса и Будберга: выставить заграждение на укреплённом рубеже, после чего белым частям где-то задержаться, отдохнуть, пополниться, чтобы стать снова крепкой силой. Но это не всё было. Разъяснял генерал:
– Все боевые части большевиков, как и у нас, брошены на фронт и в тылу остались только слабые, нетвердые формирования. В их тылу также неспокойно, поскольку население там уже успело испытать все ужасы военного коммунизма. Нужно бить врага его же оружием! Если они разлагают наш тыл, то почему нам не развить такую же работу у них? Мой план таков: я с двумя тысячами всадников, пройдя незаметно сквозь линию фронта, уйду в глубокие тылы противника и начну там партизанскую работу. Мы будем совершать короткие вылазки, нанося врагу максимальный урон. Одновременно поможем организации восстаний, почва для которых несомненно готова. Наши действия приведут красных к необходимости для ликвидации нашего отряда снять какие-то части с фронта, что в свою очередь ослабит его и облегчит положение армии. Что скажете, господа офицеры?
Отвечали не сразу, обдумывая услышанное. Но не спорили, понимая, что при всей опасности осуществление этого плана весомые результаты может дать. К тому же Владимир Оскарович – гений партизанской войны. Уж он-то так перцу под хвост краснюкам подсыплет, что фронт им и вовсе разворачивать придётся. И вместо «Все на Колчака!» призывать всех – на Каппеля. Одобрили. Всё ж таки за столом настоящие каппелевцы сидели. Большей частью, из старых Волжан, славные дела прошлого года хорошо помнившие.
– План очень рискован, – признал генерал. – Может быть нам суждено погибнуть… Но я надеюсь, что Ставка поймёт его целесообразность и поддержит.
Ставка? Поймёт? Лебедев?.. Нет, это безнадёжно!
Вечерело. Разошлись офицеры по своим частям. А Владимир Оскарович всё сидел за столом, вносил коррективы в набросанный план, который как можно скорее нужно было отправить в Ставку. Партизанское движение в тылу противника виделось теперь Каппелю единственным спасением. К тому же рассчитывал он, что там, в страдающих под большевистским игом областях, зреет народный гнев. И нужно лишь дать толчок его выходу, надо помочь организоваться. Владимир Оскарович верил в русский народ. Верил свято и нерушимо, как в Бога и Россию. Он, даже о красных не забывал никогда, что и они – русские люди. И потому сдерживал любые мстительные и жестокие проявления подчинённых. Он верил, что под этой нанесью, пеплом, души замётшим, гнездится ещё в каждом русском память о том, что он – русский. Светлое что-то остаётся. И до этого светлого бы – достучаться!
Даже в тех красноармейцев, которых отрядила ему «щедрая» Ставка, оправившись от первого ошелома, поверил Каппель. И, едва прибыв за ними в Екатеринбург, в казармы войдя, потребовал жёстко снять караул, охранявший пленных, выговорив начальнику его:
– К моим солдатам я не разрешал ставить караул никому. Я приказываю вам, поручик, немедленно снять своих часовых с их постов. Здесь сейчас начальник – я, и оскорблять моих солдат я не позволю никому. Поняли?
Это должно было сразу дать людям ощущение, что они не пленные больше, а солдаты, солдаты, призванные служить общему делу со своими командирами. Видел генерал, как на просторном казарменном дворе толпа красноармейцев, услышав его разговор с караульным, замерла, подобралась инстинктивно и уже ожидала его. Прошёл к ним, приложив руку к папахе, крикнул зычно, ударяя слегка на второе слово:
– Здравствуйте, русские солдаты!
Дикий рёв огласил двор: уставного ответа красноармейцы не ведали. И поняли нелепость своего ответа, смутились, улыбались сконфуженно, переминаясь с ноги на ногу. Улыбнулся и Владимир Оскарович им, ободрил с лёгким вздохом:
– Ничего, научитесь! Не в этом главное – важнее Москву взять – об этом и будет сейчас речь. – А затем громыхнул по-уставному: – Встать, смирно!
И недавно бесформенная толпа вытянулась по струнке… Эту толпу предстояло Каппелю везти в Курган и там воспитывать из неё солдат. Русских солдат. Белых солдат…
И повёз. И воспитывал. День с ночью смешались, и удача была, когда успевалось несколько часов для сна перехватить. Что такое красноармеец? Прежде всего, русский человек. Несчастный, потому что обманут, потому что вся душа его русская наизнанку вывернута. Тут врачевать надо. Аккуратно, постепенно, любовно. Не может быть такого, чтобы русский человек не достучался до русского человека. Если не достучались, то сами виноваты. Значит, нерадивость и леность, и недостаток горячности в деле проявили. Неделя шла, другая. И, вот, по временам встречал уже Владимир Оскарович в глазах чужих красноармейцев отклик своим словам, что-то медленно, с большим трудом, как механизм заржавленный, начинало работать в их сердцах. И если бы дано было время, то, если и не все, то многие восприняли бы внушаемые им идеалы, приняли бы в души их. Эти идеалы успели бы укорениться в них. А за три недели отпущенных лишь наметился сдвиг, и при первом случае отступились они. Как тот пьяница, который, протрезвев после вынужденного воздержания, не успевает к трезвой жизни привыкнуть и при первой возможности вновь срывается в пьяное безобразие…
Отчего так отчаянно не хватало времени всегда? Ведь ни мгновения передышки не давал себе Владимир Оскарович – жизнь его последний год пущенного намётом коня напоминала. А времени – не хватало. Хотя чего, вообще, хватало? Людей? Боеприпасов? Продовольствия? Обмундирования? Лошадей? Да всю дорогу существовали попеременно то на-досталях, то вовсе на-несталях. Единственное, в чём недостатка не бывало, так это в отваге верных людей. Эти чудо-богатыри и в безнадёжных положениях побеждали. И сколько полегло их уже! И восполнить некем…
Время – Божий бич, погоняющий. На кого его не хватило, так это на самых родных существ: Петрушу и Таничку. В Кургане в одном доме жили с отцом, а он за целый день считанные минуты выкраивал, чтобы поцеловать их. И даже в эти мгновения мыслями уносился уже одновременно в нескольких направлениях, разрываясь среди дел неотложных. Что-то будет с ними, сиротками?.. И с Ольгою – что?..
Как ни гнал тяжкие раздумья о ней, а наваливались. Тоской, горечью, страхом и своей виной за то, что не уберёг.
Они встретились одиннадцать лет назад. Полк, в котором служил тогда в должности адъютанта Владимир Оскарович, стоял недалеко от Перми, куда направлен был для ликвидации крупной банды бывшего унтер-офицера Лбова. Здесь же жило семейство Строльманов. Глава его, действительный статский советник, инженер, был директором пушечного завода. Строльманы были людьми нрава строгого, устоев патриархальных. Офицеров-кавалеристов чтили исключительно за вертопрахов и мотов, а потому даже на порог не пускали, оберегая единственную красавицу-дочь от назойливых ухажёров. Да только судьбы – не обмануть!
Был тёплый августовский вечер, на уездный бал съехались прелестные барышни, сопровождаемые почтенными отцами и матронами, и лихие гусары расквартированного здесь полка. Жизнь полковая на развлечения не щедра была, тем более, что сам Каппель не был любителем карточных игр и иных традиционных способов коротания времени, хотя никогда не сторонился товарищей, частенько засиживал с ними за стаканом вина и дружеским разговором, переходящим нередко в спор. Но во всём поручик помнил меру и никогда не переступал её. Всем же скучным развлечениям предпочитал он книгу, и в полковой библиотеке не было ни одной, которая не была бы им прочитана. У Владимира Оскаровича была твёрдая и ясная цель: поступление в Академию Генштаба и военная карьера. Ни о какой иной он и не помышлял никогда. Военная стезя была традиционной в семье Каппеля. Отец его, московский дворянин, находясь в отряде генерала Скобелева, участвовал во взятии укрепленной крепости текинцев Геок-Тепе. Эта операция носила крайне важный характер для обеспечения интересов Российской Империи в Средней Азии и овладении Туркестаном. За подвиг при взятии этой твердыни Оскар Павлович был удостоен ордена Святого Георгия. Не менее достойным примером был и дед по матери – герой севастопольской обороны и георгиевский кавалер. Сколько слышано было в детские годы о славных страницах русской военной истории, сквозной линией прошедшей через судьбы предков! Их доблести достоин должен был стать Владимир Оскарович. Он воспитан был в традициях старых: в верности вере Православной и Государю, в преклонении перед родной историей, в любви ко всему русскому. Верность этим традициям среди молодых офицеров в ту пору не столь уж частой была. Дух свободомыслия проник и в военную среду. И по родному полку явственно подмечал это Каппель. Пермское сидение изрядно успело наскучить ему. Мечталось о деле настоящем, а не о ловле скрывающегося по лесам бандита, которого скорее бы изловить да с тем и перебраться на новое место! Но один единственный вечер изменил настроение в корне. На уездный бал гусары приехали весёлой ватагой – хоть какое-то разнообразие среди серых будней! Да и с барышнями, бдительными родителями за семью замками спрятанными, полюбезничать – счастливый случай!
На этом балу и увидел Владимир Оскарович Ольгу. Ещё и осмотреться не успел порядочно, а уж выделил её и больше ни на кого не смотрел. Стройная, с осанкой горделивой, с лицом продолговатым, интеллигентным, она не похожа была на провинциалку, и на пустую кокетку, каких немало было кругом. В её глазах, временами скрываемых крупными веками с длинными ресницами, сквозило нечто мудрое, глубокое. Ольга о чём-то говорила с подругами. Те щебетали наперебой, смеялись, а она отвечала изредка, улыбалась приглушённо. Не ожидая пока кто-нибудь опередит его, Каппель пригласил красавицу на танец. Легки и плавны были движения её, нежны черты тонкого, совсем юного лица. Так во весь вечер никому и не уступил её ни на один танец. А под конец вечера понял, что и во всю жизнь не хочет отпускать.
Но предупредила Ольга, когда кружили среди других пар в вальсе, что родители её – люди строгие, и не позволят ей видеться с гусарским поручиком. Грешно было обманывать стариков, но что поделать? Если даже на порог не пускают, не беря на себя труда хотя бы узнать, что за человек любит их дочь и любим ею, то остаётся идти на обман. И Ольга пошла. Они встречались тайком, встречи эти были кратки, но сколько блаженства в них было! Да в одном только мгновении! В том, чтобы увидеть её! Поймать полный нежности взгляд! Руки её – целовать!.. А ещё были письма. Их передавала горничная Ольги. Ей, расторопной, щедро, правда, платить приходилось, но и больше бы несравненно дал за весточку.
Так вся осень прошла. От письма к письму, от встречи мимолётной до встречи… И какая же удача была, что негодяй Лбов так ловко скрывался – никак не могли изловить его. Банду разгромили, а вожак с небольшой кучкой людей где-то прятался ещё. Одолжил изрядно, а то бы пришлось покидать Пермь, родной ставшую. И как тогда бы с Ольгою связь поддерживать? И как – не видеть её? Даже мельком?
Требовалось решать что-то. Не сегодня, так завтра должны были перевести полк. И не мог дольше длиться эпистолярный роман. Уже хорошо успел узнать Владимир Оскарович избранницу. На редкость схожи были с ней. И характером, и мыслями. И потому прямо написал ей, что желает венчаться с ней, для чего готов, если требуется, тайно увезти её из родительского дома, если только она на то согласна.
Ольга согласна была. А тут и случай представился счастливый: Строльман был вызван в управление завода в Петербург. Родители уехали, оставив дочь на попечение своего хорошего знакомого, старика-инженера, который переселился в дом Строльманов. Всё дальнейшее сильно напоминало пушкинскую «Метель». Зимняя звёздная ночь, летящие по снежному насту, взметая серебристую пыль сани, маленькая деревянная церковь, где ожидали священник и ближайшие друзья-офицеры… Ольга бледна была, но никаких сомнений не испытывала, и счастливо светились её глаза. Обвенчались тайно и поутру отбыли в Петербург. Там сперва познакомил Владимир Оскарович жену с матерью, которая до слёз рада была им. Сложнее было примириться со стариками Строльманами. Принять дочь и зятя они отказались, но позже всё-таки простили, узнав, что «вертопрах и мот» принят в Академию и проходит там курс. К тому и рождение внучки умилостивило.
Шесть лет безмятежного счастья, отпущенные судьбой, пролетели скоро. А потом началась война. Она, впрочем, Каппелем была радостно встречена. Казалось, что надвигается нечто великое, небывалое – может быть, последняя великая война, для которой ведь и пошёл по военной стезе. Было что-то бодрящее и освежающее в грозовые летние дни Четырнадцатого! Уехал на фронт в душевном подъёме. Правда, тревожился несколько за Ольгу: оставлял её беременной. Она мудрое решение приняла: перебралась на время к родителям. Там уж точно спокойно ей будет, позаботятся.
Можно ли было предположить тогда, что туда, в тихую гавань придёт беда? Не успел Владимир Оскарович в Восемнадцатом добраться до родных, Ольгу после долгой разлуки обнять: задержал долг в Самаре. А пока там с отрядом своим «товарищей» бил, они в его дом пришли. Захватили Ольгу. И детей. И стариков Строльманов. Держал их командующий Пермским фронтом Мрачковский при штабе под неусыпным надзором. Когда отважный Пепеляев совершил свой славный рейд и освободил Пермь, то его офицеры Строльманов и детей вызволили, а Ольгу не успели… Её в качестве заложницы увезли в Москву… Душа обрывалась при мысли, что могло стать с ней.
В дни кровопролитных боёв на Урале пытались воспользоваться красные козырем: если, – передали, – генерал Каппель ослабит свои удары, то жена его может быть освобождена. Словно сердце из груди вынули и на наковальню швырнули. Как-то застонешь? Неужто женой, красавицей, любимой своей, матерью детей своих пожертвуешь? Предашь её на муки и глумление? На позор и смерть?
А дорого ли стоило слово красных? С ними ли переговоры вести? Садись за стол с шулерами! А, может, и в живых уже… Не додумывал до конца страшной мысли. Но переговоров никаких быть не могло. Сам вверялся Владимир Оскарович Божией воле, и Ольгу – вверял. Всегда и она уповала на неё. И как ни разрывалось сердце, а отчеканил твёрдо:
– Расстреляйте жену, ибо она, как и я, считает для себя величайшей наградой на земле от Бога – это умереть за Родину. А вас я как бил, так и буду бить!
Верил Каппель, что Ольга поддержала бы его, как и всегда поддерживала душой понимающей.
С той поры не было никаких известий от неё. Если бы жива… Если бы сотворил Бог такое чудо… Старался не думать об этом. Весь в работу ушёл, даже на сон себе считанные часы оставляя: так и легче было.
Когда осели в Кургане, перевёз детей и стариков туда. Сам со штабом на первом этаже разместился, они – на втором. Таничке уже десятый год шёл, она отца хорошо помнила, а Петруша и не знал. Каппель раз и видел его, когда в отпуск с войны приезжал. А теперь уж четвёртый годок шёл ему. Дети горевали о матери. Особенно, Таничка. А пуще их – старики. И тяжело было Владимиру Оскаровичу взглядом с ними встречаться. Похитил их дочь, женился без благословения и не смог уберечь. Чувствовал себя отныне и навсегда виновным перед ними. И перед детьми – тоже. Ведь если бы не остался в Самаре тогда, а к ним поехал, то, может, иначе бы сложилось? Но не мог не остаться. Он был армии нужен. России нужен. А Россия, долг перед ней выше всего стояли для Владимира Оскаровича. Поступи он иначе тогда, и хуже бы не простил себе. Иначе нельзя было. А всё-таки – виноват… И тяжело было. И оттого ещё, а не только от занятости, так редко на второй этаж поднимался. Там – лишь с Петрушей повозиться отрада была. Он, несмышлёныш, ещё мало понимал и так искренне радовался отцу…
А теперь, вот, новая беда. Фронт откатывался. От Челябинска до Кургана – совсем близко уже. И среди служебных забот надо было побеспокоиться об эвакуации семьи…
Глубокая ночь стояла. Владимир Оскарович достал лист бумаги, стал набрасывать письмо своим. Когда писал им в последний раз? Не мог вспомнить. Написал коротко тестю, и тут адъютант, как неизбежность, на пороге возник:
– Ваше превосходительство, красные перешли в наступление! Из штаба армии передали приказ об отступлении…
И зачем, спрашивается, такие жертвы сегодня были? Провалилась очередная авантюра Ставки. На что они там надеялись? Играли, как зарвавшиеся игроки, швыряясь чужими жизнями…
Письмо опять комкать приходилось. Наспех приписку сделал – Таничке и Петруше. Поцеловал мысленно. Быстро запечатал и поспешил на позиции. Спать этой сырой, беззвёздной ночью опять не суждено было.
Глава 3. Девятый день
14 августа 1919 года. Москва
Лето выдалось небывалое в этом году, такое, какого и не припомнить, чтобы было подобное. Лил и лил, не прекращаясь, дождь, редкие и краткие даря передышки. Откуда воды столько взялось – непонятно. А сегодня прекратился. Зато поутру всего лишь пять градусов тепла было. Октябрь! Как есть октябрь! И в церковь пошла Ольга Романовна в тёплом пальто и сапогах: кого теперь удивишь таким экстравагантным видом? Даже перчаток с дырочками на кончиках пальцев от долгой носки уже стесняться не приходилось. К заутрене отправилась одна. Хотела Надя Олицкая пойти тоже, но занедужила ногами. Да и не хотелось Ольге Романовне, чтобы кто-то рядом был в это утро… В церкви укрылась в тёмном углу, опустилась на колени, не пожалев старых ног и не убоявшись, что трудно потом будет встать. Не так часто бывала на службах прежде. Лишь по заведённому: в воскресенье. А в будние недосуг как будто было. А сейчас день будний стоял. Народу в церкви совсем мало было. И даже удивительно. В годину чёрную народу православному где и быть, как не в церкви? Как не очнуться от прежнего маловерия и не броситься спасаться в храмы? А не вот бросались… Большей частью, старики и старухи к заутрене пришли. Но и не только. Вон – в шинели без погон, однорукий – по стати не спутаешь: офицер бывший. Вон – бывшая барышня в платьице тёмном, в разбитых башмачках венгерских поддерживает под руку слепого старика. Лицо у неё измождённое, запредельно усталое, а в глазах печальных слёзы стоят. Неподалёку монашка. Очень русское лицо, глаза васильковые долу опущены, а иногда поднимаются со взмётом длинных ресниц – икона! За колонной какая-то женщина, с колен не подымающаяся, поклоны бьёт. Смуглая, темноокая. И в глазах – пламя. Будто безумие лёгкое. Две старушки у стены на лавочке примостились. А вблизи другая, помоложе, побойчее – с внуком белокурым, которого своим, видать, платком укутала. И ещё господин средних лет, из чиновников, вероятно, бывших – одиноко стоял и крестился не в такт, кажется, своим мыслям отдался, службы и не слышал. И знакомую фигуру поодаль заметила Ольга Романовна. Пожилой, исхудалый человек, с лицом аскетическим, высветленным – словно уже не лицо это было, а лик. Васнецов собственной персоной. Не близко знались, а бывал Василий Михайлович не раз у покойного мужа Ольги Романовны, и на выставках встречались. Господи, как же давно было!..
Чудна была церковь в этот час. В ней словно уцелевшая Россия собралась. Мало уцелевших оказалось, но ни одного случайного. Наверное, так и быть должно? Предсказано же, что в последние времена верных лишь горсть останется… Уцелевшая Россия… Или бывшие люди бывшей России?
Густо басил полный протодьякон. Не Розов то был, конечно (с Розовым никто не сравнится!), но хорош. И старенький батюшка подстать. Древний совсем, и заметно было, что тяжело и стоять ему, и говорить, но вёл службу, и напрягая голос, громко и твёрдо каждую фразу произносил, и можно было догадываться, с какой силой звучал этот голос прежде.
Шла своим чередом служба в полутёмной церкви, тускло освещённой пучками тоненьких свеч (уполномоченный из бывших священников, рясу сбросивший, теперь заявлял, что нужно не давать церкви свечей, поскольку их сознательному пролетариату не хватает), и сумрачно было на сердце у Ольги Романовны. Боли утраты не было, но пригнетала непереносимым грузом неискупимая вина…
Всё началось месяц назад. В тот июльский вечер она возникла на пороге обличающей тенью. Неузнаваемая. Больная. Страшная. Лицо её посеревшее, высохшее, покрытое испариной дышало всегдашним гневом, рыжие волосы, тронутые ранней сединой, свалялись и выглядели очень неухоженными, зеленоватые глаза блестели фосфорическим блеском. Она в лихорадке была. Ото рта не отнимала окровавленный платок. Переступив порог, придерживаясь о стену, прохрипела натужно, давя кашель:
– Что, не ждала? – усмехнулась. – И не рада? – посмотрела недобро. – Да ты не беспокойся. Долго не загощусь! Я, как всегда – проездом! Только, вот, на этот раз не знаю, куда…
Ольга Романовна смотрела на дочь с немым ужасом. Неужели она это?.. Её Лидинька?.. Красавица и насмешница?.. Ничего не осталось от неё. Только тень. И злая эта тень пришла теперь в родной дом. Пришла, – догадалась, сердцем дрогнув, – умирать…
Лидинька огляделась, заметила желчно:
– А ещё, смотрю, не всё вы распродали! Скажи-ка! Недурно живёте, недурно… А этот где? Муж твой?
– Пётр Андреевич уехал.
– Жив, стало быть… Гасильник… Ищейка полицейская… – погрозила кулаком в пустоту. – Что ж, чёрт с ним. Хорошо, что здесь его нет. Для него – хорошо… А то бы… – не смогла договорить, закашлялась надрывно, согнулась – словно нутро выворачивало.
А в этот момент Надя с Илюшей пришли. Они на Сухаревку ходили торговать. И, вот, вернулись – не с пустыми руками. На деньги, вырученные от продажи домашнего скарба, какой-то снеди купили. Остановились на пороге, с удивлением глядя на нежданную гостью. Никогда не видели её прежде и узнать не могли. Лидинька чуть разогнулась, посмотрела слезящимися глазами на Илюшу, потом на мать. Что-то сообразила Надя, всегда большой чуткостью отличавшаяся, взяла мальчика за руку, потянула за собой на кухню:
– Идём, радость моя, поможешь мне управиться…
Лидинька так и не сказала ничего, захрипела только. И тут только до Ольги Романовны дошло, что дочери худо так, что она уже сама и шагу не в силах ступить. Подошла к ней, подставила плечо, повела в комнату, которую прежде Пётр занимал. Лидинька не противилась – едва в сознании была. Уложила её Ольга Романовна в постель, укрыла тёплым одеялом, смотрела сквозь слёзы. Несчастную била лихорадка, глаза её, потонувшие в чёрных обочьях, блуждали.
– Врач тебе нужен, – сказала Ольга Романовна.
– Не надо… – прошелестела дочь в ответ. – Уйди… Уйди, оставь меня… Уйди!
Ольга Романовна покорно вышла, плотно притворив дверь, прошла на кухню. Илюши, по счастью, там не оказалось, и он не видел сметённого лица бабки. Только Надя увидела. Она, всё ещё дородная, несмотря на голодную жизнь, сновала у плиты, готовя что-то к ужину. Говорила сердито, ни к кому не обращаясь:
– До чего дожили, батюшки святы! До войны сахар пятнадцать копеек стоил, а теперь двести двадцать рублей! За хлеб уже пятьдесят просят! А мука? Мука по семь копеек была… Пятнадцать рублей за спички! Спичек нет, керосина нет… Слава Богу, лето! А зима придёт, пропадать опять? Опять свет на несколько часов подавать будут – и как хочешь… Что ж это делается-то такое…
Это Надеждино ворчанье теперь каждый день слышалось. И чудно было: купеческая дочь, княжеская жена, в богатстве и неге всю жизнь пожившая – а говорила, словно кухарка в стародавние времена. И цены знала, и даже довоенные. Их сама не вспомнила бы, а, знать, делились с нею помнившие, с которыми бок о бок на Сухаревке распродавала остатки имущества. Там и не догадывался никто, что Надежда Арсеньевна, с её простой внешностью и бесхитростным разговором – княгиня. Она и сама себя таковой никогда не ощущала, а навсегда осталась купеческой дочерью и даже провинциалкой. И потому легко ей оказалось находить общий язык с сухаревскими торговцами и торговками, среди которых, впрочем, тоже встречались титулованные особы.
– Яиц купить блазнило. Да куда там! Полторы «косых», как они теперь выражаются. Пойми, что это сторублёвые… «Косые»! Почему «косые»? Непонятно…
Ольга Романовна вошла в кухню, опустилась на стул. Надя тотчас оставила стряпню и всей плотной фигурой подалась к ней:
– Олинька, что? Кто эта женщина?
– Это Лида…
– Кто? – не поняла даже.
– Это моя дочь… – чуть слышно произнесла Ольга Романовна. – Она вернулась…
Ахнула Надя, о передник пухлыми руками прихлопнула. Историю Лидиньки, разумеется, знала она. Искала, что сказать, чем подругу утешить. Обняла за худые плечи:
– Олинька, так и что? И не горюй! Вернулась – и слава Богу! Только очень уж больная… Надо, чтобы доктор посмотрел. А он, наверное, раньше утра не придёт. У него дежурство…
– Доктор не поможет, Надин, – по старой привычке Ольга Романовна называла подругу на французский манер. – Это чахотка. Последняя стадия… – помолчав, сменила тему: – Опять вы с Илюшей на Сухаревку одни ходили? Ведь я просила не ходить. Кругом же воров несчётное число. Как ни усердствует Тимоша, а полная Москва их. Сам же и говорил. А ты опять?
– Олинька, душечка моя, а что же ты мне прикажешь? – Надя виновато улыбнулась. – Денежку выручать надо? Надо. Продавать вещи надо? Надо. Поесть купить надо? Надо.
– Надо, чтобы кто-то из мужчин был рядом.
– Да кого ж просить? – Надя потупилась. – Володя слишком раздражается от подобных дел. Я не хочу, чтобы он со мной ходил. Ему вредно это… Всё-таки он не привык… Он князь, музыкант… Довольно того, что ему приходится служить в какой-то их конторе. Доктор и Тимоша сутками на службе – им не до того. Кого ж просить? Юрия Сергеевича? – рассмеялась. – Его самого защищать надо! Ты не волнуйся, Олинька. Мы с Илюшей очень осторожны. Ничего с нами не случится. Ну, а если вдруг… Ведь говорил же Тимоша: «Если вас ещё не ограбили, это не ваша заслуга. Просто грабителям на всех не разорваться». Чему быть, того не миновать!
Хлопнула входная дверь, и тотчас квартиру огласил высокий баритон Олицкого:
– Чёрт знает что! – и входя в кухню. – Это переходит всякие границы, наконец! Мало того, что за малейшее опоздание на службу эти обезьяны грозят карцером, так ещё и извольте по окончании трудового дня слушать лекцию какого-нибудь идиота о положении дел в Совдепии! Тьфу! А положение-то, положение! Керосина нет! Муки нет! Молока и мяса нет! Мыла нет! Спичек – на пятую часть населения хватит, – чиркнул спичкой, закурил вне себя от раздражения. – Соли нет! Картофеля нет! Ничего нет! Страна-голодранец! Умница Гольдштейн в «Новом слове» написал: «Во что превратилась наша жизнь? В каторгу. Каторга – в господствующее сословие. Война – в мир. Мир – в войну. Законы – в декреты. Суды – в самосуды. А от Великой России остались приятные воспоминания!» Ей-Богу, всего лучше для нас было бы, если б господа союзники взяли наш бедлам, бывший когда-то Россией, под опеку… Хоть порядок бы был! Но и они не торопятся. И хочется, и страшно такой грандиозный хаос под опеку брать – как бы самих не поглотил. Вильгельма-то и поглотил! Дорого пришлось кайзеру платить за поддержку наших мерзавцев! Теперь они и у него заправляют. И поделом!
– Володинька, успокойся и говори, пожалуйста, чуточку тише, – попросила Надя. – У нас тут кое-что произошло…
– Что ещё? – спросил князь, делая внушительное ударение на последнем слоге.
– Лида вернулась, – ответила Ольга Романовна. – Моя дочь здесь.
– Кто-о?! Что-о?! – Олицкий вскочил со стула, на который было сел, словно ошпаренный, смотрел выкатившимися от изумления глазами. – И вы пустили её на порог? – спохватился: – Ах да, вы же не могли не пустить… Она же у вас – член РСДРП! Тьфу!
– Владимир Владимирович, я не могла её не пустить потому, что она – моя дочь, и это – её дом, – строго ответила Ольга Романовна.
Олицкий посмотрел на неё с явным недоумением, передёрнул плечами:
– Что ж, может, к лучшему… Сегодня обезьяны из домкома опять намекали, что нас здесь мало живёт, и пора нас уплотнять. Хотя дочь ваша, Ольга Романовна, уж простите, почище домкома оказаться может. Да, скверно, скверно. Принесла нелёгкая…
– Володя! – Надя укоризненно покачала головой.
Князь махнул рукой, провёл ладонью по гладкому, как биллиардный шар черепу:
– Что ни день, то новости! У меня для вас тоже есть одна. Сегодня я был последний раз в этой богомерзкой конторе.
– Почему? – сплеснула руками Надя.
– Потому, ма шер, что я не желаю больше подчиняться хамам, не желаю писать их гнусные бумажки в их гнусной орфографии! Меня коробит их варварская грамматика! Я без ятей, если угодно, писать не могу! Есть ли хоть что-то, над чем бы не поругались эти подлецы первого разряда? Языка и то не пожалели! Теперь у нас «её» вместо «ея», «они» вместо «оне»… Подумали бы хотя бы, как будут читаться великие наши поэты после этого? «Исторглись из груди её – И новый мир увидел я»? «Пускай в душевной глубине – и всходят и зайдут они?» Бред! Бред! Бред! И сколько сразу возникло слов, одинаковых по написанию! Один чёрт и разумеет, о чём речь идёт! Некогда – теперь и «давным-давно» и «недосуг». Существительное от глаголов вести и ведать – одинаковое! И как разобрать, о чём речь? Путаница совершенная! А «лечу»? Это об лечении или о полёте понимать? Да что говорить! Одно слово: тьфу! Почему бы тогда уже просто не отменить всяких норм и правил языка? Пусть себе валяет каждый в меру собственной малограмотности! Принять декрет об отмене всякой орфографии вкупе с пунктуацией!
– Успокойся, Володинька. Скажи лучше, что же теперь ты будешь делать? Ведь у нас и продать ничего не осталось… Ты мог бы играть где-нибудь…
– Ни за что! – вспыхнул Олицкий. – Я не собираюсь тешить своим искусством торжествующего хама! Между прочим, большинство наших знакомых уже уехали за границу, как благоразумные люди…
– Милый князь, уж не собираетесь ли и вы бежать? – послышался тихий, влажный голос Миловидова.
Никто и не услышал, как он вошёл. За год, миновавший с его болезни, профессор ещё сильнее исхудал и казался почти бесплотным – подует ветер и унесёт. Родной его пиджак, поношенный, но ещё приличный, стал ему изрядно велик, и это странно было: ведь и всегда худ был Юрий Сергеевич. И окончательно побелели волосы. Они походили теперь на шапку одуванчика. Всегда словно несколько дыбом стоявшие, мягкие, как пух – дунет ветер и сорвёт. А в глазах Миловидова, постоянно слезящихся последнее время, будто был он глубоким стариком, угнездилась безысходная печаль. По временам голова его и руки нервически дрожали. А всё-таки продолжал он, неуёмная душа, трудиться, как пчела. Зачисленный в штат наркомпроса, пытался с другими энтузиастами спасти от уничтожения, сберечь исторические и художественные реликвии, читал публичные лекции в самых разных собраниях.
– А почему бы и нет? – Олицкий бросил в пепельницу докуренную сигарету. – В конце концов, я должен работать. А здесь я работать не могу! Морально не могу, понимаете?! За два года я не создал ни одной музыкально композиции. Мне начинает казаться, что я ни к чему больше не способен…
– Что же, в Европе вас, должно быть, примут с распростёртыми объятиями… У вас будет ангажемент, гастроль, тёплый дом с садом… – Миловидов оперся о подоконник, глядя в сумрак клонящегося к концу дождливого дня.
– Вы бы тоже не остались там без дела, – заметил князь. – С вашими трудами! Вашими знаниями!
Такая мысль профессору показалась невероятной. Он удивлённо взглянул на Олицкого, слабо улыбнулся:
– Нет-нет… Этого не будет…
– Да почему?!
– Я никогда не смогу там жить. Я там умру. Вот и всё.
– Кто говорит – жить? Временно погостить и только. Переждать непогоду.
– Князь, нет ничего более постоянного, чем временное.
– Не думаете же вы, что большевики будут вечно? Вот это уж, действительно, невозможно! Большие бури проходят быстро.
– Она уже быстро не прошла, вы не находите?
– Пройдёт, милый профессор, непременно пройдёт!
– Дай Бог… Но я не хочу думать о завтрашнем.
– Напрасно! Вбили себе в голову глупую мысль… С чего вы там умрёте? А здесь? Вы, учёный с мировым именем, таете от голода и лишений, вынуждены ходить на поклон к хамам, захватившим власть. Сколько раз вы лишались чувств во время ваших лекций, которые из всех присутствующих слушали от силы два-три человека, а остальные зевали, причём неприкрыто?!
– Если даже два-три человека слушали меня, услышали, и я смог достучаться до них, то мои усилия не были напрасны, и я опять буду читать – даже для двух человек.
– Вы падали в обморок от истощения, и никто не потрудился даже подать вам воды! Юрий Сергеевич, вы же убиваете себя! Вы на глазах угасаете!
Миловидов достал платок, утёр глаза, вздохнул:
– Дорогой князь, я благодарен вам за заботу, но вы не понимаете… Оставаясь здесь, я могу спасти хоть что-то… Хоть толику реликвий спасти из пламени и сохранить их для будущих поколений. Это сродни всей прежней моей работе, а, может быть, и важнее её. Может, это и есть – главное дело моей жизни. Здесь я угасну, но хоть с какой-то пользой, а там умру безо всякой. Нет, Владимир Владимирович, я никуда не поеду, я хочу умереть в России. А вы поезжайте, пожалуй. Вам там, действительно, лучше будет. И вы сможете больше пользы там принести, потому что там сможете творить.
– Нет, мы тоже не поедем, – вдруг твёрдо сказала Надя. Никогда она так твёрдо не высказывалась, оставаясь всю жизнь лишь тенью своего мужа. А тут прорезалось: – Как же мы можем ехать? Как мы оставим Олиньку? Мы обещали Петру Андреевичу заботиться о ней. И к тому же зло не может продолжаться вечно! Всё это скоро закончится, и мы должны быть стойкими и дождаться этого. Володя, ведь правда?
– Да-да, конечно… – пробормотал князь и побрёл в свою комнату. Надя последовала за ним.
Юрий Сергеевич в отличие от Олицкого новость о возвращении Лидиньки воспринял спокойно. Он хорошо помнил её ещё девочкой и искренне жалел своим сострадательным, чувствительным сердцем.
– Я очень рад, Ольга Романовна, что ваша дочь жива. Наверное, она сейчас будет нуждаться в уходе. Понадобятся лекарства. Доктор осмотрит ей, скажет, что делать. Хорошо, что наш доктор из сочувствующих… Он не вызовет её гнева. И она не будет ему казаться врагом, как, например, князю. Вы пойдите к ней сейчас сами. Пойдите.
Ольга Романовна благодарно посмотрела на Миловидова. Конечно, нужно было к Лидиньке идти. А она – словно нарочно оттягивала, страшась дочери. Теперь заварила чаю, подумав, достала прибранную ещё с прошлого года баночку клубничного варенья. Прошлым летом большой урожай клубники выдался, а потому цены, хоть и дороги тоже, но сравнительно божескими оказались. Закупили побольше, и Надя варенье сварила, вспомнив, как это ещё мать её делала. Правда, потом месяца три сахара не видели, но зато в течение года бывало на столе лакомство. Последняя эта баночка береглась. И, вот, решила Ольга Романовна открыть её, вспомнив, что дочь в детстве это варенье обожала. Положила в розетку и с чаем понесла Лидиньке.
Лидинька так и лежала, как оставила её. И бесконечно жалко её стало. Какой цветущей могла бы она быть сейчас! Какой могла бы быть её жизни! И вот… Поставила чай, всхлипнула – не удержалась. И тотчас хриплый голос бросил:
– Не смей реветь! Как будто бы и впрямь тебе меня жалко …
– А как же иначе? Ведь ты же моя дочь…
– Вспомнила! – в голосе Лидиньки послышались истерические ноты. – Давно?! Мама, мама… Как же я тебя ненавижу! – она села, обхватила руками голову. – Если бы ты только знала, как!
Ольга Романовна стояла на месте, как пригвождённая, не смея приблизиться, обнять, сказать что-то.
– А ведь когда-то так любила… Мама, ты знаешь, как я тебя любила? В детстве ты была моим кумиром, идеалом. А ты всё время уезжала то в театр, то на выставку, то в гости. А я сидела и тосковала. Я никогда не засыпала, не дождавшись тебя, – Лидинька рассмеялась, закашлялась. – Дура! Я ведь ни одного наказания не боялась, а только твоего укоризненного, а, ещё хуже, огорчённого взгляда! А ты всегда мне давала понять, что я не такая, какой должна быть. И держаться не умею, и разговариваю не так, и учусь плохо… И я боялась сделать что-то не так и от страха обязательно делала! Мне так хотелось, чтобы ты мной гордилась… Для меня лицо твоё кошмаром стало! Самым страшным сном! Твоё укоряющее лицо! Выразительно укоряющее, как ты умела! И до сих пор!.. А потом я поняла, что это не я такая плохая, а просто ты не любишь меня…
– Неправда! Я всегда тебя любила!
– Никогда! Ты только Петиньку любила. Только он для тебя свет в окошке был! А я… Кстати, что он теперь? Жив?
– Надеюсь. По слухам он сейчас в Сибири.
– У Колчака, значит… Хорош братец… Одному кровопийце служил, теперь другому… Вечный раб! Пёс! Но чёрт с ним… Я ему зла никогда не желала, хоть он и ненавидит меня.
– Что ты говоришь, Лида? Петя всегда тебя любил, всегда переживал…
– Да не за меня он переживал! За честь семьи, будь она проклята! За свою офицерскую честь! А на меня вам всем всегда наплевать было! Даже отцу! Потому что для него только его поэты и художники существовали… А ты знаешь, как это тяжело, когда тебя не любят?! Это хуже сиротства! Зачем нужна семья, если ты в ней чужая?.. Вот я и ушла… В другую семью! К чёрту… – эта речь утомила Лидиньку. Задыхаясь, она откинулась на подушки.
– Лида, выпей чаю, пока он горячий.
Лидинька взглянула на варенье, затем подняла глаза на мать, долго смотрела на неё, затем выпила чай с вареньем и, снова улёгшись, сказала уже спокойнее:
– Надо же… Ты не забыла моих вкусов…
– Я ничего не забыла.
– Приятно слышать, но больше не приноси мне его. Оставь сыну… Ты, небось, ничего и не рассказывала ему обо мне? Даже фотографий не показывала?
– Почему ты решила?
– Он меня даже не узнал…
Ольга Романовна молча принесла дочери старую фотографию, где она была запечатлена прелестной шестнадцатилетней девушкой, и небольшое зеркало:
– А ты – узнала бы себя?
Лидинька сглотнула слёзы, закусила губу:
– Что ж поделаешь, мама, тюрьма и Сибирь никого не красит. Эта проклятая чахотка оттуда. Это ваш царь, ваша охранка со мной сделали! Смотри! Смотри, какая я стала!
– Разве царь и охранка заставили тебя избрать такой путь?
Лидинька нахмурилась:
– А я, мама, не могла смотреть на то, как угнетается народ! Я не могла, как некоторые, удовлетворяться роскошью, когда бедствовали другие! Я боролась за справедливость! Мы боролись! И мы победили! Помнишь, я говорила тебе, что однажды мы победим? Вот, мы победили! Видишь?! – в голосе дочери звучало торжество.
– Я вижу, Лида. Вижу – анатомические театры, а в них тела убитых в затылок без суда и следствия. Вижу переполненные тюрьмы, которые вы собирались сравнять с землёй. Вижу невиданную нищету и разруху. Вижу грязь, из-за которой даже по центральным улицам стало небезопасно ходить. На днях мы с Илюшей по брошенному кем-то в лужу картону на цыпочках обходили лежавший посреди дороги труп лошади. Голодные люди отрезали от него куски и уносили! И кто-то бросил: «Жалкие остатки России». Это и есть обещанный вами рай?
– Зато теперь вы, жившие в роскоши, поняли, что такое нищета, что такое не иметь крохи во рту… Теперь все стали равны! Теперь нет ни богатых, ни бедных! И это справедливо!
– Лида, смерть – вот, единственное, что равняет людей. Вы смерть сделали средой обитанья. Вы строили рай? В раю люди – небожители. Люди уравненные, лишённые званий, имён, записанные под номерами – это не небожители, а арестанты земли. Вы обещали свободу и братство, а построили острог в размере всей России, где все друг друга ненавидят, и Каин торжествует. Вы ничего и никого не любите, а без любви можно построить только ад!
– Замолчи! – вскрикнула Лида, подаваясь вперёд и меняясь в лице. – Не тебе! Не вам судить о любви! Равенство – это первый шаг! Потом будет и братство! Оно бы уже было, если бы такие, как твой сын, не мешали нам! А потом и свобода настанет…
– Тогда и не вам говорить о кровопийцах. Царь двадцать лет правил Россией, а вы за два года пролили крови в разы больше, чем было пролито при нём.
– Замолчи, мама! Ещё одно слово и я сама напишу в ЧК о том, что ты говоришь! – Лидиньку трясла лихорадка, из угла пересохшего рта струилась тоненькая струйка крови. Ольга Романовна не испугалась угрозы, но пожалела дочь и не стала продолжать бессмысленный спор.
– Что ты говорила обо мне моему сыну? Он знает, что я жива?
– Да. Я говорила ему, что его мать и отец – хорошие и честные люди, что они любят его. Что их честностью и верой воспользовались люди дурные, и в результате им пришлось уехать, но они непременно вернуться…
– Вот как подала! – губы Лидиньки запрыгали. – Обманули их, де, дурачков! А что если я ему всю правду расскажу?!
– Какую же правду? Расскажешь, что он явился плодом случайности, а не любви? Что он был тебе не нужен? Что ты подкинула его мне, чтобы он тебе не мешал?
– Неправда! – на глазах Лидиньки заблестели слёзы. – Ты ничего не знаешь! Ничего не понимаешь! Ничего! Ты злая! Ты всегда была злой!
– Прости меня, Лида… – Ольга Романовна опустила голову. – Я думаю, что лучше бы всё осталось, как есть. Илюша верит, что его родители хорошие люди, которые любят его. И он любит их. Не разрушай его мира, я прошу тебя.
– Хорошо… – неожиданно легко согласилась дочь. – Я не стану разоблачать твоей лжи. Просто потому, что не хочу, чтобы мой сын запомнил меня такой, какая я теперь, больной и страшной. Пусть лучше запомнит ту, что на фотографии… – она вдруг заплакала, закрыв лицо руками. Рыдания смешивались с кашлем, и Лидинька задыхалась. Ольга Романовна села рядом, обхватила её за плечи, стала гладить по голове, целовать в пылающий лоб, но дочь оттолкнула её:
– Не трогай меня! Не нужно этих лживых нежностей! Уходи! Уходи! И, – кивнула, зло посмотрев, на висевший в углу образ, – забери это с собой! В каждой комнате понавешали… Боженьку! Ненавижу я вашего боженьку! Ненавижу! Убери, или я разобью эту доску к чёрту! И уйди сама от меня!
Три нескончаемых недели длились Лидинькины муки. Она вся горела, временами приходила в себя и в эти моменты в ней просыпалась угасшая любовь к матери, к сыну, к людям, но чаще бывали припадки ненависти, и несчастная проклинала весь свет и всех людей, иногда она выходила из комнаты, ища на ком бы выместить свою ненависть, а подчас впадала в полное безумие, и ей мерещились в углах комнаты какие-то странные существа. И так страшны были крики её, и её глаза… Не выдержала бы Ольга Романовна этой пытки, если бы не доктор, ухаживавший за больной всё то время, когда не был на службе. От других мало было проку. Юрий Сергеевич и Надя могли лишь сочувствовать, Володя же и вовсе приходил в ярость от происходящего в доме, и Наде приходилось все силы тратить на то, чтобы успокоить и урезонить его. А Миловидов подходил в тяжёлые часы, брал за руку, смотрел своими влажными глазами:
– Терпите, Ольга Романовна. Значит, так надо. Терпите.
И терпела, терпела… А в тот день не выдержала. У Лидиньки сильнейший припадок случился. На счастье, оказался дома доктор, справился с ней, уложил. Горлом у неё кровь пошла. Мать выгнала с проклятьями. Вся атмосфера в доме накалилась до предела, у всех нервы и без того расшатанные натянулись. Сидела Ольга Романовна за письменным столом покойного мужа, и мелькнула в голове страшная мысль: «Уж лучше бы умерла она…» А через пять минут на пороге явился доктор и лаконично, как всегда, объявил:
– Всё.
И ёкнуло: неужто мыслью собственную дочь?.. Господи, Господи, как же мы осатанели все! Господи, да что же это такое? Господи, прости, прости грех страшный! Прости! И её, страдалицу, прости и упокой!
И теперь, на девятый день, так же холодело сердце, и та же покаянная молитва рвалась.
Служба подошла к концу, и Ольга Романовна поняла, что подняться без посторонней помощи не сможет. Заметалась глазами: найдётся кто-нибудь руку подать?
Нашёлся:
– Вы позволите, Ольга Романовна?
Вот так встреча!
– Серёжа, вы?!
Это, в самом деле, был актёр прежде покровительствуемого покойным её супругом театра Сергей Кудрявцев. Настоящая фамилия его была – Дагомыжский. Молодой человек из знатного рода, сын известного генерала, героя Плевны, он однажды «заболел» театром, и ничто не смогло удержать его от избранной стези. Вначале Серёжа выступал на подмостках тайно, играя характерных персонажей в гриме. Но однажды всё открылось. Отец-генерал был страшно разгневан и даже отказал было опозорившему его имя «паяцу» от дома, но позже смилостивился и простил. Да и времена менялись! Театр становился важной частью русской жизни, а актёры выходили из паяцев во властители дум и душ. А уж после того, как актёром Художественного театра стал аристократ, офицер, бывший адъютант московского губернатора Великого князя Сергея Александровича Стахович, и вовсе всем прочим можно было без всякого смущения заниматься актёрским ремеслом.
Кудрявцев свою карьеру начал четверть века назад. С тех пор переиграно им было немало самых разных ролей: от злодеев до шутов. Для героев не был он довольно красив. Но посчастливилось сыграть Сирано, и роль эта стала коронной его. После неё едва ли не каждая газета посвятила ему хвалебную статью. Ольга Романовна знала Серёжу с первых его шагов в театре, видела все его работы и любила за талант и лёгкость характера. А, вот, поди же: с Семнадцатого, почитай, не виделись!
– Примите мои соболезнования, Ольга Романовна.
– Откуда вы..?
– Да я ведь сперва домой к вам заходил. Видел Надежду Арсеньевну, она и рассказала, а я – сюда.
Вышли из церкви. Плохо слушались затёкшие от долгого и непривычного стояния ноги Ольгу Романовну, и тяжело опиралась она на услужливую Сережину руку. Он – при свете дня разглядела – постарел за это время. Но старение, пожалуй, даже украсило его. Добавило не слишком красивому лицу благородства и утончённости.
Нет, не было сил идти. В церковном садике присела Ольга Романовна на скамейку. Солнце пробивалось сквозь плен облаков, и те, серовато-белые, каймились нежным золотом по краям.
– Как вы живёте, Серёжа? Как ваши? Катя? Здоровы ли?
– Катя здорова, слава Богу, спасибо, – Кудрявцев помедлил. – И девочки. Старшенькая, Аглаша, уже играет!
– Она всегда была одарённой девочкой.
– Да… Её дебют был весной. Очень хорошо прошёл.
– Я от души рада!
– Младшая пока учится… Не знаю, надолго ли. Теперь многие бросают учёбу и идут работать, чтобы прокормиться… А мы едва концы с концами сводим. Сын-то наш теперь в красной армии, – Кудрявцев вздохнул. – С Великой вернулся, помыкался здесь, и по призыву – в красную. Знаете, Ольга Романовна, я теперь сводки с фронтов в газетах читаю с двойным чувством. Читаю: армия Колчака разгромила красных. Сердце падает: а с Павликом моим что? А если убит? А если плен? Читаю: красные теснят колчаковцев. И опять обмираю: значит, никто не придёт нам на выручку? И останутся большевики? Живу как в кунсткамере, как чеховский герой говаривал… И огорчительно мне, что Павлик к красным на службу пошёл, а с другой стороны… Мне рассказали недавно: красные мобилизацию проводили, и один молодой офицер, чтобы избежать бесчестья, застрелился. Чтобы в красной армии не служить, значит. Так ведь ещё страшнее…
– Не переживайте, Серёжа. Ваш Павлик ни в чём не виноват. Просто время такое. Будем молиться, чтобы он вернулся цел и невредим.
– А Егорушку мы схоронили, – вдруг сказал Кудрявцев глухо, опустив глаза. Егорушка был его младшим сыном, родившимся за год до революции. И отец, и мать не чаяли души в этом позднем ребёнке, нежданно подаренном.
– Боже мой… Какое горе! Очень соболезную вам и Кате. Я понимаю, какой это удар для вас обоих.
– Да-да… Катя мужественно перенесла. И девочки очень поддержали. Да… Это всего-навсего пневмония была. Но в наше время и пустая простуда может оказаться смертельной. Если бы вы знали, Ольга Романовна, во что стало лечение! Мы продали буквально всё, что у нас было. Разорились вчистую. Но оказалось, что хоронить – ещё дороже! Одни справки пришлось собирать шесть дней. А потом гроб… Маленький, из некрашеных досок. Двести двадцать рублей! Ольга Романовна, вообразите! А на кладбище сказали, что требуется ещё дать могильщику на чай. Знаете, какие теперь чаевые просят эти товарищи? Тысячу! Ты-ся-чу! Катя дала двести… Всё, что у нас было. И этот пьяный представитель класса-гегемона обрушился на неё с матерной бранью! И даже защититься невозможно! Потому что они теперь – гегемоны! А мы все – на подозрении! – Кудрявцев помолчал. – Вот, Ольга Романовна, какая жизнь настала… Жить – не по средствам. Лечиться – тем более. И даже сдохнуть, простите, не по карману оказывается! Я теперь всерьёз думаю завещать мой бренный прах студентам-медикам для упражнений, чтобы мои родные не разорились окончательно… Вам, должно быть, погребение Лидиньки тоже влетело в копеечку?
Совестно было признаться, поэтому сказала, потупившись, не глядя в глаза:
– Её они сами похоронили. Как заслуженного члена партии… Я не хотела, хотела сама. А доктор убедил, что деньги лучше поберечь для Илюши. Доктор наш вхож в нынешние сферы. Лечит их. Вот и договорился обо всём. Только, вот, я на те похороны и пойти не смогла… Там всё партийные её коллеги собрались, речи говорили. Я бы там не смогла… Вместо этого пошли с Надеждой Арсеньевной в церковь, отслужили панихиду…
– Умный человек ваш доктор, – заметил Кудрявцев. – Мудрый человек. Да… Ах, Ольга Романовна, я, вот, думаю частенько: отчего я не Шаляпин? Только представьте, ему только за участие в благотворительном «Севильском цирюльнике» сорок тысяч заплачено! А с другого спектакля гонорар его составил двести сорок… Куда ему такие деньги? Нет, Шаляпин гений, явление уникальное, но всё-таки! Мог бы и сам догадаться, что получать такие суммы, когда вокруг все бедствуют, просто аморально!
– А вы бы отказались на его месте, Серёжа?
– Врать не буду, не знаю…
– Вот и не судите. Тем более, мы не можем знать, как распоряжается Фёдор Иванович своими гонорарами. Может, он помогает кому-то…
– Дождётесь, – хмыкнул Кудрявцев. – А ведь я к вам, Ольга Романовна, по делу!
– По какому же?
– Хочу вам сосватать квартиранта.
– Весьма кстати! Нас уже давно теснит домком. Я сама думала искать кого-то, чтобы «товарищами» не уплотнили, но тут появилась Лида… Кто этот человек, о котором вы хлопочете?
– О, это дивный человек! Невероятный человек! Можно сказать, гений!
– Актёр?
– И режиссёр! Сапфиров, может быть, слышали? О нём писали в газетах.
– Да, помнится, я читала о нём когда-то… Только я не знала, что он в Москве.
– Прежде он больше гастролировал по Европе. Оригинальный человек! – Серёжа заметно оживился и повеселел.
– Еврей?
– Шут его разберёт! О нём достоверно ничего не известно. Одни говорят, будто он перс, другие подозревают черкеса, третьи предполагают, что он немец. Сапфиров – это, разумеется, псевдоним. Настоящей фамилии не ведаю. Точно знаю, что долгое время он жил на востоке, начинал играть в ташкентском театре, был знаком с Комиссаржевской, ставил в Петербурге, потом гастролировал по всей Европе. В Москву он приехал перед самой революцией и не то застрял здесь, не то по собственной охоте осел, устав кочевать. Здоровье его неважное. Может, в этом причина. Но это гений, Ольга Романовна! Ручаюсь вам! Сейчас он ставит в нашем театре «Фауста»! Это – потрясающе! Для меня, благодаря ему, всё творение великого Гёте открылось заново! И как оно современно! Как оно звучит сегодня! Раньше же мы и услышать не могли… Герман Ильдарович играет Мефистофеля. Это надо видеть! Это такая сила! – Кудрявцев широко развёл руками. – Мне в его постановке тоже досталась роль. Небольшая, но в ней есть монолог, который дороже иных больших ролей. Когда я произношу его, внутри меня всё напряжено. Понимаете, я говорю то, что не посмел бы сегодня сказать вслух, чтобы не быть обвинённом в контрреволюции. Но слова великого Гёте дали мне свободу говорить! Вот, послушайте, Ольга Романовна эти слова! – и приглушённым голосом он начал читать с видимым вдохновением:
– Увы! К чему рассудка полнота,
Десницы щедрость, сердца доброта,
Когда кругом все стонет и страдает,
Одна беда другую порождает?
Из этой залы, где стоит твой трон,
Взгляни на царство: будто тяжкий сон
Увидишь. Зло за злом распространилось,
И беззаконье тяжкое в закон
В империи повсюду превратилось.
Наглец присваивает жён,
Стада, светильник, крест церковный;
Хвалясь добычею греховной,
Живет без наказанья он.
Истцы стоят в судебном зале,
Судья в высоком кресле ждёт;
Но вот преступники восстали —
И наглый заговор растет.
За тех, кто истинно греховен,
Стоит сообщников семья —
И вот невинному «виновен»
Твердит обманутый судья.
И так готово все разбиться:
Все государство гибель ждёт.
Где ж чувству чистому развиться,
Что к справедливости ведёт?
Перед льстецом и лиходеем
Готов и честный ниц упасть:
Судья, свою утратив власть,
Примкнет в конце концов к злодеям.
Рассказ мой мрачен, но, поверь,
Еще мрачнее жизнь теперь.
Так был правдив и ярок этот монолог, столько неподдельного чувства вложено в него, что Ольга Романовна не удержалась и, как бывало некогда, когда Кудрявцев играл свои первые роли, крепко-крепко пожала ему руки и матерински поцеловала в лоб:
– Браво, Серёженька! Вы мне истинное удовольствие доставили!
– Спасибо, Ольга Романовна! Вы знаете, как я всегда дорожил вашим мнением, – Кудрявцев улыбнулся. – Так вы идёте?
– Куда?
– Как куда? В театр, разумеется! Здесь рукой подать до него!
– Нет, Серёжа… Я не могу. Ведь сегодня девятый день и…
– Ольга Романовна, драгоценная! Я ведь вас не на премьеру спектакля зову! Она, если даст Бог, лишь через месяц состоится. А познакомиться с Германом Ильдаровичем. Он уже две недели в театре живёт, так как квартиру, где он жил прежде, уплотнили. А у него здоровье слабое. А у нас в театре холод и никаких условий. Поговорите с ним, может, он сегодня и переберётся к вам. Ольга Романовна, я вас прошу! – Серёжа умоляюще сложил руки.
Отказать столь горячей просьбе было трудно, и через полчаса Ольга Романовна уже входила в театр, в котором раньше бывала каждую неделю, а за два года последних не переступила порога. На сцене как раз шла репетиция сцены Мефистофеля и Бакалавра. Запальчивый юнец надменно бросал чёрту:
– Ах, этот опыт! Дым, туман бесплодный;
Его ведь превосходит дух свободный!
Сознайтесь: то, что знали до сих пор,
Не стоило и знать совсем?
– Обождите чуть-чуть, Ольга Романовна. Репетиция уже заканчивается, – сказал Кудрявцев. – Присядьте!
– Всё движется, всё в деле оживает;
Кто слаб, тот гибнет, сильный – успевает.
Пока полмира покорили мы,
А вы как жили, старые умы?
Вы думали, судили, размышляли,
Да грезили, да планы составляли
И сочинили только планов тьмы.
– Заметьте, Ольга Романовна, это же типичный наш революционер-нигилист! Сапфиров нарочно включил эту сцену в постановку!
– Да, вот призванье юности святое!
Мир не существовал, пока он мной
Не создан был; я солнце золотое
Призвал восстать из зыби водяной;
С тех пор как я живу, стал месяц ясный
Вокруг земли свершать свой бег прекрасный;
Сиянье дня мой озаряет путь,
Навстречу мне цветёт земная грудь;
На зов мой, с первой ночи мирозданья,
Явились звёзды в блеске их сиянья!
Не я ли уничтожил мысли гнёт,
Сорвал тиски филистерства, свободный,
Я голос духа слушаю природный,
Иду, куда свет внутренний влечёт,
Иду, восторга полный! Предо мною
Свет впереди, мрак – за моей спиною!
Юноша ушёл. На сцене остался лишь Мефистофель. Он не был облачён в традиционные алые одежды. На нём был цивильный костюм, длинный чёрный плащ с бордовым подбоем, цилиндр. Он стоял, опершись на трость, и смотрел вслед ушедшему с усталой насмешкой:
– Иди себе, гордись, оригинал,
И торжествуй в своём восторге шумном!
Что, если бы он истину сознал:
Кто и о чём, нелепом или умном,
Помыслить может, что ни у кого
В мозгу не появлялось до него?
Но это всё нас в ужас не приводит:
Пройдут год, два – изменится оно;
Как ни нелепо наше сусло бродит,
В конце концов является вино.
Вы не хотите мне внимать?
Не стану, дети, спорить с вами:
Чёрт стар, и чтоб его понять,
Должны состариться вы сами.
Репетиция окончилась. Кудрявцев взметнулся на сцену:
– Герман Ильдарович, это было великолепно!
– Благодарю вас, но великолепного ничего не было…
Ольга Романовна поднялась следом, и Серёжа, кружа, точно было ему всё ещё двадцать лет, представил её и Сапфирова друг другу.
– Герман Ильдарович, вы не должны отказываться! Над квартирой Ольги Романовны нависла угроза уплотнения. Представляете, как ей будет неприятно, если в соседней комнате заведётся какой-нибудь гегемон? Так что соглашайтесь, собирайтесь и переезжайте! Ведь это же никуда не годится, чтобы вам в театре на старом диване ночевать!
Сапфиров казался несколько удивлённым. Суета Кудрявцева его, погружённого в работу над постановкой, видимо слегка утомляла.
– Хорошо, хорошо. Я вам очень благодарен, мой друг!
– Всегда рад служить! А теперь простите меня, но я должен откланяться. Я Кате обещал… Неотложные дела… – и улетел, улетел танцующей походкой постаревший юноша, во мгновение ока простыл след.
Герман Ильдарович выглядел несколько смущённым:
– Прошу извинить такую назойливость моего друга, Ольга Романовна. Он чересчур беспокоится обо мне… Однако, верно ли он передал суть дела?
– Совершенно верно. Мы с вами могли бы быть полезны друг другу. В моей квартире как раз пустует комната, и она в вашем распоряжении.
– Какова же оплата?
– Бог с вами! В моём доме живут не квартиранты, а друзья. Оплаты никакой. Только живём мы своего рода общиной. Стол общий. Кто что смог достать – всё в общий котёл идёт, на всех делится. Простая взаимовыручка.
– И что же, можно хоть сегодня перебраться?
– Разумеется.
– В таком случае я буду через пять минут. И вы не можете себе представить, какое делаете мне одолжение, и как я вам благодарен!
Сапфиров, действительно, возвратился ровно через пять минут. Он был всё в том же костюме, но без плаща и цилиндра. Вся поклажа его составляла небольшой саквояж. Герману Ильдаровичу по виду давно перевалило за пятьдесят. Внешность его выдавала восточные корни. Его легко было принять за араба, благодаря смуглой матовости кожи и тёмным, как восточная ночь, глазам. Крупный же нос мог свидетельствовать о кавказском происхождении режиссёра. Волосы его, аккуратно подстриженные, были некогда, должно быть, черны, теперь же обильная седина сделала их стальными. Сапфиров был высок, строен. Можно было судить, что в молодости он был очень красив. Ольга Романовна отметила, что роль Мефистофеля весьма и весьма подходила ему. Не злого, мрачного демона, не юркого беса, а ироничного мудреца, всё видевшего, всё знающего.
У театра Герман Ильдарович неожиданно остановил извозчика:
– Прошу вас, Ольга Романовна!
– Право, не стоит! Это слишком дорого, а идти недалеко…
– Однако же, позвольте мне настоять. Довольно, что мой добрый друг заставил вас пешком проделать путь сюда.
Давно не ездила Ольга Романовна на извозчике. Так дорого стало это удовольствие, что в самые дальние концы приходилось ходить пешком. А, оказывается, как сладко это – не идти, а ехать по родным улицам! Давно забытое чувство воскресало. Жаль, краток был путь, и, вот, уже остановились у родного дома. Расплатился Сапфиров, галантно подал руку. «Обаятельный человек!» – подумала Ольга Романовна.
За ранним ужином, ставшим одновременно и поздним обедом, обитатели «Ноева ковчега» знакомились с новым постояльцем. Наибольший интерес вызвал он у Олицкого, старого театрала, к тому же немало музыки сочинившего для спектаклей Свободного театра.
– Объясните, глубокоуважаемый Герман Ильдарович, почему вы, полжизни проездив по Европе, именно теперь остаётесь в России? Когда из неё все наоборот уносят ноги? Почему вы-то не уезжаете?
– По правде говоря, не случись всей этой кутерьмы, я, должно быть, и не остался бы.
– Вам что же, нравится то, что происходит?
– Нет, не так… Понимаете, господа, я тридцать лет был одержим идеей поставить «Фауста». Я колесил по разным странам, ища нечто, что могло бы мне помочь воплотить мой замысел. И не находил нигде! Нужной ноты, атмосферы – не знаю, как объяснить. И, вот, я приехал в Россию, почти утеряв надежду. И угодил в кипящий котёл! Когда началась революция, меня осенило! Я понял, о чём буду говорить в своём спектакле! Я понял, что «Фауста» надо ставить только в России и только теперь! Потому что Россия и есть – Фауст! Понимаете ли вы меня?
– Скорее Иов, – заметил Миловидов.
– Позволю себе не согласиться с вами! Помните ли начало «Фауста»?
Тебе позволено: иди
И завладей его душою
И, если можешь, поведи
Путём превратным за собою, -
И посрамлён да будет сатана!
Знай: чистая душа в своём исканье смутном
Сознанья истины полна!
Господь был уверен в Фаусте и отдал его на испытание Мефистофелю. Тот испытывает его не страданиями, а всевозможными страстями, похотями. Соблазном! Именно соблазн должен был довести человека до состояния гада, ползающего в помёте и гложущего прах от башмака. Россия была отдана на испытание не в Семнадцатом, а раньше! Она и испытывалась соблазном вплоть до революции. Свободы, парламентаризм, печать, растление духа и тела. Кафе-шантны, извращения разных сортов, пьянство, преступления… Да чего только не было! Россия была искушена всем, не было порока, которому бы не пытались поработить её душу. Я жил в Петербурге какое-то время, я хорошо знаю нравы интеллигентного общества, так называемого света. Одних взял соблазн ума, других – плоти. Они пали первыми. Но это ещё не Россия была. Россия шла через эти соблазны, но не один не заставлял её воскликнуть: «Остановись мгновенье!» Они могли тешить на какой-то момент, но души покорить не могли. Так же и Фауст! Чем только не искушал его Мефистофель, а ничего не выходило. Но, наконец, такая жизнь привела Фауста к слепоте. Помните за что? За то, что он презрел заботу. И Россия презрела её в какой-то момент, и ослепла. И всё же благое ещё не умерло в душе. Последняя мечта Фауста: осчастливить весь мир!
Я целый край создам обширный, новый,
И пусть мильоны здесь людей живут,
Всю жизнь, в виду опасности суровой,
Надеясь лишь на свой свободный труд.
Среди холмов, на плодоносном поле
Стадам и людям будет здесь приволье;
Рай зацветёт среди моих полян,
А там, вдали, пусть яростно клокочет
Морская хлябь, пускай плотину точит:
Исправят мигом каждый в ней изъян.
Это и есть – коммунизм! Сладкая грёза слепого, но благожелающего Фауста, познавшего все искусы. Сладкая грёза России, которая вдохновлена теперь идеей не столько построить земной рай у себя, но подарить его всем народам, весь мир осчастливить! Но кому поручается воплощение этой задачи? Бесам! И бесы, пользуясь слепотой Фауста, не рай строят, а роют могилу ему. А он, веря, что они строят рай, восклицает: «Остановись, мгновенье!» Это же суть всей нашей революции! В тот же миг сброшен был Фауст в могилу. Россия была в могилу сброшена! «Фауст» – это пророчество, господа. И пророчество обнадёживающее. Фауст, шагая по пропастям, искал блага высшего, он мечтал о благе для всех людей, и этим сохранил в глубине сердца верность Богу, и за это помилован был.
Цветы вы небесные,
Огни благовестные,
Любовь всюду шлёте вы,
Блаженство даёте вы,
Как сердце велит!
Слова правды чистой
В лазури лучистой
Из уст вечной рати
И свет благодати
Повсюду разлит!
Пламень священный!
Кто им объят —
Жизни блаженной
С добрыми рад.
К славе господней,
К небу скорей:
Воздух свободней,
Духу вольней!
Вы понимаете, господа? Не копьями и стрелами побеждает тёмные силы небесное воинство, а цветами! Смиренными цветами, которые Бог украсил более всех сильных на земле! Бесов, тьму побороло милосердье и любовь смиренных. Этим была спасена душа Фауста. И душа России так же спасена будет! Мефистофель ищет зла, но совершает благо. И я уверен, что наше страшное время станет великим благом! Буря очистила всё наносное, она обнажила глубины зла, но и вершины святости. Могли ли мы догадываться, живя в сытом благополучии, в расслабленности, что столько сохранилось живых душ, которые не нищим копеечку подать всегда готовы, а, как первые христиане, на лютые муки за веру идти? А оказалось, что есть такие! И в этом торжество и красота нашей эпохи!
Юрий Сергеевич слушал пространный монолог Сапфирова и завидовал его вере. Самому Миловидову уже не виделось никакого положительного исхода из воцарившегося ада. Вид всеобщей разрухи в прямом смысле убивал его. В июне по поручению Наркомпроса он в составе назначенной комиссии, в которой оказалось немало достойный и знающих людей, подлинных подвижников в деле сохранения русской культуры, ездил в провинцию, составляя опись ценностей разрушенных и разграбленных усадеб. Вид этих разорённых гнёзд подействовал на Юрия Сергеевича очень тяжело. Правда, ненапрасной поездка была. Удалось спасти некоторые вещи. Ценность их лично перед Луначарским отстаивать пришлось. Ему вроде как и поклониться впору. Без него, должно быть, и того бы сохранить не удалось. Вот и Архангельское взять. Не разрушили, не разграбили, ценности все – на месте пока. Лично и с большим облегчением убедился Миловидов. Правда, парк совершенно запущен стоял, но это – дело восстановимое. Лишь бы не растащили реликвий бесценных! А сколько кануло их без следа… Исчезла, к примеру, замечательная коллекция живописи Великого князя Сергея Александровича. Миловидов знал князя лично. Сергей Александрович, будучи человеком глубоко и всесторонне образованным, большим знатоком истории (даже зарубежной, что продемонстрировал однажды его спор с римским понтификом, в котором выяснилось что русский князь лучше знал историю западной церкви, нежели её глава), не раз принимавшим участие в археологических раскопках, и ценителем искусства, немало потрудился на музейно-просветительской ниве, будучи московским градоначальником. Им были спасены от гибели тысячи уникальных книг, его стараниями был создан Исторический музей, при его поддержке – открыт художественный музей имени Императора Александра Третьего. И музей, которым столько времени заведовал Миловидов, тоже при поддержке князя был открыт. И не просто это была поддержка бюрократа, желающего прослыть ценителем прекрасного, а живейшее человеческое участие искренне заинтересованного человека, любящего и ценящего искусство. А ещё выкупал Сергей Александрович древние иконы, дабы после его смерти стали они достоянием всего народа. Много было реликвий собрано князем. И несколько раз имел Миловидов честь давать ему советы профессионала. Одной из реликвий Сергея Александровича была мантия Серафима Саровского, доставшаяся ему от матери. Эту чудотворную ризу отзывчивый к чужой беде князь давал всякому, с кем приключалась болезнь, и многих исцеляла она. Теперь и этой ризы не сыскать было! Много блага сделал князь для Москвы, а за это сколько шельмовали его, сколько гнусных сплетен распускали… И, в итоге, убили. Что за рок? Убили так же, как его отца. Убили первым из членов императорской семьи, ставших жертвами террора. Теперь и до них добрались. И до праведной жены Сергея Александровича, и до всех, до всех… Его брата, последнего из сыновей Александра-Освободителя расстреляли в Петропавловке в январе… А с ним ещё троих Великих Князей. Среди них – Николая Михайловича, учёного, историка, искреннего друга и покровителя искусства и литературы. Благороднейшего человека. Даже меньшевик Мартов в своей газете воскликнул по этому поводу: «Стыдно!» Но им – разве могло быть стыдно? Они и чувства-то такого не знали! Увидел Ленин крест, бывший памятником Сергею Александровичу, по эскизам Васнецова созданный, освирепился, почему стоит ещё, потребовал верёвку, накинул петлю и на пару со Свердловым лично свалил ненавистный крест. Они сносили памятники царям и героям прошлого и ставили – убийцам. Как острый нож в сердце был Миловидову – памятник Ивану Каляеву! И указано, за что: «Уничтожил Великого Князя Сергея Романова». Уничтожение – главная «доблесть» нового времени! Главные герои не те, кто строит, а – кто рушит, уничтожает… Стоял Юрий Сергеевич перед этим памятником и плакал. Вспоминался Пушкин:
Закон,
О вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: «блаженство!»…
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей? Убийцу с палачами
Избрали мы в цари! О ужас, о позор!
Гении, гении, сколько же прозорливости было у них… Вот и Гёте… Странный этот темновзорый режиссёр какие параллели раскрыл!
– Целый год я откладывал постановку, напитывался атмосферой. А теперь понял: пора. И жизненные сроки торопиться требуют. Здоровье стало подводить… А я непременно должен успеть сыграть этот спектакль! Тогда и умирать не страшно.
– А вы, простите за вопрос, верующий человек, Герман Ильдарович? – спросил Миловидов.
– Смотря, что вы вкладываете в это понятие.
– Вы рассуждали о России очень… религиозно…
– Я верю в Бога, Юрий Сергеевич. Но не отношусь, наверное, ни к одной церкви. Христос мне представляется скорее великим пророком, одним из мудрейших учителей человечества.
– Вы не толстовец?
– Я разделяю отдельные идеи графа, но не все. Я сам по себе.
– Непротивление злу разделяете? – прищурился Олицкий.
– Да, разделяю.
– Неумно с вашей стороны.
– Зло самоистребительно, князь. С ним не нужно бороться, озлобляя самих себя.
– Да? – Олицкий начинал раздражаться. – А, по-моему, самое умное, что могли бы сделать наши кадеты и Керенский, это поставить гильотину на площади и истребить весь этот… совет! К чёрту! Как однажды грозился Милюков!
– Помилуйте, Володя, – покачала головой Ольга Романовна, – ведь вы Столыпина осуждали за жёсткость методов!
– Я этого не помню, – смутился князь, но тотчас продолжил гнуть своё: – Вот, исполнили бы тогда угрозу, и не было бы никакого центрохама! Ни Ленина! Ни этого… Как его теперь должность звучит? Абракадабра несусветная! Троцкого! А он соловьём разливается теперь, – ткнул в лежавшую на столе газету: – Как кулака давить на Украине! И что Колчак разбит! Что дела Деникина плохи! И, вот, извольте резолюция очередная: «Рабочие и крестьяне России смогут в широкой мере восстановить разрушенное контрреволюцией хозяйство и создать для трудящихся советских граждан достойную жизнь без хозяев, без гнёта, без холода и голода…» Чёрта с два!
– Врёт звездочёт!
Алхимик врёт!
Сто раз слыхал!
Напрасно ждал!
Опять и тут
Обманет плут!
– То-то же… Ваши черти закопали Россию в могилу так, что легиона ангелов не хватит, чтобы вытащить…
– Не читайте вы газет, Володя, поберегите нервы, ей-Богу.
Миловидов закрыл нестерпимо болящие глаза. К вечеру они едва видели, а резь не проходила вовсе. Слёзы ли выжгли их беспощадно? Говорят, если глаза постоянно на мокром месте, это первый признак душевного расстройства и утомления мозга. Извёл Юрий Сергеевич и мозг, и душу свою. Он чувствовал, что болен, но не противился болезни. И не думал о загранице. Олицкому – и лучше бы уехать. Одним приличным человеком больше спасётся. А ему, Миловидову, незачем. От себя не убежать. В ту июньскую поездку повидал Юрий Сергеевич много деревень. И ужасался. Не тому, что стало с хозяйством, но – с людьми. Миловидов не так-то далёк был от народа. В своих частых поездках по России он видел простой народ, ночевал в крестьянских избах, разговаривал с мужиками и бабами, и недоумевал, что же случилось вдруг? Прежде он видел сильных, здоровых людей, размеренно живущих и хозяйствовавших. И лица их были спокойны, ясны. А что же теперь? Жадные, завистливые лица, ищущие урвать своего. И краше всех – комбедовцы. Дошлые, плюгавые людишки с недобрыми, хитрыми глазами. Но и другие хороши… Какие, интересно, были лица тех сильных и здоровых, когда они миром шли громить хозяйскую усадьбу, а потом, довольные поживой, тащили в дома ворованную утварь? А, может, не осталось тех? И полегли они на войне? А кто вернулся – те ею искалечены были духовно? В каждой избе ворованное было, и не стыдились… А ведь когда-то ездил Юрий Сергеевич один, имея при себе большие деньги и ценности, и никто ни разу не покусился на него! И сам он никогда не боялся мужика. Не боялся человека. А теперь боялся всех. И все боялись друг друга. Не оттого ли, что человек в человеке умер? А зверь явился?
– Знаете, Герман Ильдарович, мне бы очень хотелось разделить вашу веру в благополучный исход, но я не верю… Я верю, что Россия в том или ином виде возродится, восстановит своё могущество. В то, что у нас будут электричество, машины и иные чудеса техники, от которых, простите, по-моему, больше вреда, чем пользы при духовном падении общества. Но люди? Но душа? А какой смысл в теле, если души нет?
– Юрий Сергеевич, – укоризненно покачал головой Олицкий, и даже что-то ласковое проступило в его тоне. – Зачем такой пессимизм? Если вы не верите в будущее, то зачем тогда бьётесь за спасение реликвий и душ?
– Наверное, от отчаяния…
– А я полагаю потому, что в глубине души вы верите в обратное тому, что говорите, а иначе бы у вас не было сил бороться.
Юрий Сергеевич сомкнул холодные, как лёд, руки, произнёс дрогнувшим голосом, борясь с подступающими слезами:
– А знаете, господа, что такое Россия? Россия – страна плачущих ангелов. Есть такая легенда, что к каждой церкви приставлен для охраны её ангел. Если церковь разрушена, осквернена, если ангел не уберёг её, то он обречён оставаться над тем местом, где она стояла, и плакать о ней до той поры, пока она не будет возрождена. Сейчас осквернённых, запечатанных и разрушенных церквей всё больше. И над каждой из них плачет ангел. И над каждой душой погибшей. И над всей Россией, которая единым храмом была. Может быть, пройдёт много лет, и эти слёзы, как живая вода, дойдут до сердца России и оживят его, и оно забьётся вновь, чистое, здоровое сердце нашей Родины, и тогда, только тогда возродится она.
Глава 4. За деревьями леса не видно…
Сентябрь 1919 года. Новониколаевск
Сколько помнил себя Антон, никогда не был он без дела, но в любой работе – из первых. Таким он был и смекалистым деревенским мальчонкой Антошкой, опорой и надеждой отца, таким оставался и Антоном Евграфовичем, вернейшим соработником и помощником тестя. В детстве, было время, и сапог не имел, и сыт был лишь пустыми щами без подбелки (хотя какая там сытость: голод тот же, а только в брюхе гремит тоскливо), а теперь одевался у лучших портных, и на столе изысканные яства не переводились, и тощий мальчишка превратился в солидного господина. Но ведь и не просто так далось это, это – и заслужил он! И не только, как завистники думали, выгодной женитьбой. Дал бы отец Манюше любимой за бестолка замуж выйти! Взял бы, держи карман, бестолка на службу, сделал бы правой рукой своей! Акинфий Степанович и сына-то за так не устроил бы, не то что зятя. А Антон землю носом рыл, работал так, что только оттаскивай. Он своё благоденствие заслужил годами труда, умом своим, работоспособностью, деловой жилкой, всегда в нём присутствовавшей. И, вот, к тридцати восьми годам стал Антон Евграфович виднейшим человеком в Новониколаевске и, без скромности сказать, во всей Сибири. В кругах экономических кто не знал Юшина? И уже как будто не только, как зятя «того самого Акинфия Земелина»… Тесть стар уже был и хоть всё ещё держал в руках бразды правления, смотрел недрёманным оком, а силы не те становились. И постепенно входил Антон во владение тестевой «империей», включавшей в себя гектары пахотной земли, фабрики, пароходство… Ах, какой размах был! Уже на рынках российских хорошо знали земелинскую продукцию, а впереди – рынки европейские были. Какие перспективы открывались для Антона с его хваткой и опытом! Как бы ещё расширилась «империя»! Если бы…
Что такое революция и чем она чревата Антон смекнул раньше многих. Он и до неё всяких бунтарей-буревестников ненавидел всем сердцем, безошибочно понимая, что разрушат они не что-то абстрактное, далёкое, а его, Антона, хозяйство, его жизнь. Это они со стариком Акинфием подпадали под понятие эксплуататоров, хотя, видит Бог, никто из служивших у них никогда не терпел нужды. Земелин на этот счёт мудр был: лишнего никому не давал, но и на насущном не экономил. Считал он, что на людях экономить – собственному делу вредить. И потому платил им достойное жалованье, и пенсион по болезни и старости (и семьям – по утрате кормильца). Правда, когда грянуло, нашлись дебоширы, которые пытались растравить людей и натравить на «буржуев-раскапиталистов». Но не так-то просто было сибиряка раскачать. Сибиряк – человек суровый, быстроты и горячки не любит. Его с места не вот стронешь. К тому же и серьёзных причин для возмущений не было. Побузили местами, а, пока раскачивались, уже и разогнали совдеп – спасибо Гришину-Алмазову сотоварищи. Так и обошлось. Но не знал покоя Антон. Точил его страх потерять всё, таким трудом добытое. И выворачивало: чтобы какая-то голытьба из лентяев и пьяниц, какая-то шантрапа, дела не знающая, какие-то воровайки, прикрывшиеся идеей – их с Акинфием «империю» разоряли, им диктовали, как жить?! Да не бывать тому!
Потому-то и с первых дней вошёл Антон в сношения с подпольем, стал активным участником его, помогал средствами. Вот, и братца подтянул – нечего болтаться в такое время! И вначале путём пошло дело, душа радовалась – так прижали вороваек, что, казалось, не очухаться им. А теперь…
По весне большие надежды возлагал Антон на открывшееся по весне в разгар побед на фронте (почти до Самары дошли!) Государственное Экономическое Совещание, членом которого он стал. Оно, как представлялось, должно было помочь правительству в выработке необходимых законов в гражданском управлении, которых, по сути, не существовало. Адмирал видел главную задачу в решении вопросов снабжения армии, разборе бюджета, решении земельного вопроса и, в дальнейшем, подготовлении выборов в Национальное Собрание. Об этом он говорил в своей приветственной речи на открытии Совещания. Председатель Совещания, детищем которого и было оно, Георгий Константинович Гинс в своей речи заявил:
– Победы нужно добиться двойной, над большевизмом и над хозяйственной разрухой страны. Победить то и другое можно лишь при условии, что Правительство так же, как год тому назад, будет действовать в атмосфере общего сочувствия и единодушного порыва. Больше чем когда-либо необходимо полное единение всех сил власти и общества. Силы эти должны быть сосредоточены прежде всего на стороне хозяйственной.
Русская революция пошла по неправильному пути. Она совершилась во имя политической свободы и улучшения экономического благосостояния широких народных масс, а привела она к уничтожению свобод и разрушению даже относительного благосостояния, которое было ко времени революции.
Однако возвратить политические свободы легче всего. Кто раз сознал своё гражданское достоинство, тот не обратится в раба. Но есть серьёзная опасность и в этом отношении. Эта опасность заключается в нищете.
Нищим, голодным легче обратиться в рабов или преступников, чем сохранить гражданское достоинство и защищать политическую свободу. Иначе поступают только исключительные натуры. Вот почему для сохранения политической свободы необходимо прежде всего восстановить хотя бы относительное экономическое благосостояние масс.
Антону импонировали высказываемые Гинсом мысли, импонировала деловитость и энергичность его, но и не хватало же многого этому франтоватому столичному юристу, отметившемуся на второстепенной должности во Временном правительстве и занесённому судьбой в Сибирь. Не хватало понимания Сибири, духа её, не хватало хозяйственных знаний, не хватало закалки государственного человека. Некоторая легковесность присутствовала в нём. Довольно разбирался Антон в людях, чтобы заключить, что Гинс без сомнения очень умный, довольно грамотный человек и даже талантливый политик, но не государственный муж, не хозяин. Последних и вовсе не видел вокруг. Велика Сибирь, а людей не хватает… Впрочем, на том первом заседании был Антон в добром расположении духа и искренне надеялся на то, что Совещание сможет решить возложенные на него задачи. Надежда эта тогда разделялась всеми присутствовавшими. И точно выразил настроение представитель земской группы:
– Высказываем убеждение, что все деятели Правительства, и деятели земств и городов, и работники на ниве экономической объединятся в работе Государственного Экономического Совещания, примут необходимое участие в строительстве новой Великой свободной России, с одной мыслью и одним желанием – блага, счастья и величия нашей Родине…
Работа началась, но не принесла ни результатов желаемых, ни отрады. И хуже: чем глубже вникал Антон в дела, тем страшнее становилось. Помилуй Бог, на чём только держалось всё?.. Железные дороги парализованы. Отчасти чехами, якобы их охраняющими. А всего сильнее угнездившимся всюду жульём. О положении на таможне не понаслышке знал Антон: ведь и их «империи» грузы возились по дорогам. Чтобы через Сибирь провезти груз, ох и потрудиться нужно! Ох и много средств истратить! Правительственной таможне – дай. Семёновской таможне – дай. А ещё в каждом центре может приключиться военная реквизиция. И уже на месте назначения могут реквизировать его вкупе с присланными за ним подводами «для нужд военного ведомства». Всё, решительно всё тонуло во взяточничестве и произволе! Власть была, но об этом как будто не ведали. А сама власть совершенно не умела взять с необходимой твёрдостью бразды правления. О законах много говорили, редко принимали и уж совсем не спешили исполнять. А законы так нужны были! Хорошие, грамотные законы, понятные всем и каждому! Единые для всех! И приняв их – добиваться всеми мерами их исполнения! Иначе большевизм не одолеть! И до отчаяния понималось это. С начавшимся развалом на фронте – ещё острее. Наконец, не выдержал Антон. Нужно было что-то делать, нужно было бить в набат. Отправился, не долго думая, к капитану Кромину, состоявшему при Верховном в качестве помощника и бывшему близким к адмиралу человеком. С Кроминым знаком был Антон не только по делам служебным, но и через невестку Надю: Борис Васильевич старинным другом её семьи был. Эта дополнительная зацепка придала уверенности. К кому ж ещё идти, как не к нему? Сначала до него донести, а уж он, глядишь, достучится до своего патрона. И без того слишком долго тянул, откладывал. Уже и Челябинск оставили красным! А дальше – Курган… Курган, в окрестностях которого были у тестя земли и дом… И это теперь воровайкам доставалось! Дожили-таки!
– Борис Васильевич, надо что-то делать! – начал напористо прямо с порога.
– Надо, несомненно надо, Антон Евграфович, – согласился Кромин, и Антона передёрнуло от его спокойного вида. Но, не снижая напора, рубил без лишних обиняков:
– Мы проигрываем партию, Борис Васильевич! И проигрываем из-за собственной неумелости и дряблости! Нужно срочно составить и принять к немедленной реализации план спасения положения, план выхода из той критической ситуации, в которой мы оказались!
– У вас, надо полагать, уже составлен такой?
Показалось Антону, или раздражение прозвучало в этом вопросе, вызов? Предпочёл не заметить, ответил твёрдо:
– Кое-какие наработки есть. Во-первых, нужно другое правительство, состоящее из людей воли, в которых у нас острейшая недостача. Нужно правительство единомышленников, которое осуществляло бы вдобавок единую волю. У нас по сей день цель далеко не всеми одинаково понимается. У нас нет единого плана действий и нет продуманных методов и средств к его реализации. Взгляните на большевиков! Они действуют, как единая машина! У них каждый человек, что винтик! Все подчинены единой идее, единой воле. А у нас кто в лес, кто по дрова! Все на свой страх и риск действуют! С этим надо кончать!
– Всё не совсем так. В последнее время правительство старалось работать именно так, организованно, – не согласился Кромин.
– Значит, плохо старалось! – резко обрубил Антон. – Борис Васильевич, давайте не будем друг перед другом разыгрывать представления. Уверен, что вы всё понимаете не хуже меня. Весной мы все предались эйфории, возмечтав о лёгкой победе. А нужно было дело делать! Законы принимать!
– Так ведь разве мы не принимали их? – вскинулся Кромин. – Мы возродили фактическую вовлечённость населения в систему управления через выборы и иные формы, самостоятельность масс, местное самоуправление! Мы поддерживали предпринимательство, банковскую систему, восстановили свободу торговли…
– И ничего не смогли поделать со спекулянтами, облепившими эту отрасль!
– За год ежемесячное поступление доходов в казну увеличилось с 50 до 140 миллионов рублей. Вспомните, Антон Евграфович, какие крупные кредиты выделялись промышленности, кооперации и местному самоуправлению! Мы приняли законы для улучшения социальной обстановки: пайки, пенсии, лечебные места на курортах для больных, организация мастерских, где организовано обучение инвалидов… А вы говорите, что мы не делали ничего! Да, много недоработок было, но многое и сделали! Мы издали декларацию о земле…
– Борис Васильевич! – покоробило Антона упоминание о последнем «достижении». – От вашей декларации вред один! Не декларация, не декларация должна была быть, а действия! Вы приняли декларацию, а реализацию её отложили до победы! А люди не верят обещаниям! Люди хотят видеть дело! Вы сами дали большевикам козырь для смущения масс, для того, чтобы их прокламации имели успех. А там пишут о сибирском «царьке», «неумолимом скуловороте» Колчаке, возвращающем старые порядки. «Возвращай, крестьянин, землю помещику, которую ты держишь сейчас, а не то, как нарушитель частной земельной собственности, будешь отдан под суд…». Ко скольким восстаниям это привело! В Икее кузнец Степанов обратился к односельчанам: «Явился новый правитель Колчак, он хочет восстановить старые порядки, возместить все недоимки – хлеб и деньги, боевая душа с 18 лет до старости платить 3 руб. будет. Не надо помогать Колчаку!» Добро, оказались в селе трезвые мужики, заорали на него: «Надо Колчаку помогать, он Россию спасает, а то большевики всё разрушат!» А всё-таки – восстание!
– Тёмным массам, Антон Евграфович, не угодишь ничем, – Кромин отхлебнул воды, наполнив гранёный стакан. – Мы отменили государственное регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией, что в полной мере интересам крестьянства отвечало. Скажете, не так? Причина такого отношения крестьян в том, что они ещё большевистского гнёта не испытали на себе.
– Причина всех наших бед в том, что у нас не существует правового государства. У нас действует принцип: приказ приказом, Колчак Колчаком, а морда мордой! Что хочу, то и ворочу! Нужно укреплять право, охрану законности и порядка. И не военно-полевой суд тут нужен, а обычный, но работающий быстро! И нужно же наладить разъяснение населению наших действий! У большевиков все лозунги насквозь лживы, но они так умело и энергично внедряют их, что им верят! Наши лозунги честны, но мы совершенно не умеем убеждать людей в их справедливости, и нам не верят! У нас все заняты политиканством, а не делом! Нужно наводить порядок, Борис Васильевич! Со всей твёрдостью! Если надо, то и с применением силы! Если масса не понимает, что творит, её надо заставить делать то, что требуется, а не то, чего ей хочется. Когда больной бьётся в горячке, срывая швы и выплёвывая лекарства, то его связывают, в конце концов!
– Нас либералы зашикают и союзники…
– К чёрту и тех, и других! Заставьте замолчать этих болтунов! Сейчас не время для политиканства! А оно же – и в армии! У большевиков офицерство, купленное, запуганное, но оно не вовлечено в политику и лишь добросовестно выполняет свои технические функции. При этом оно сыто, обуто и одето. Наше боевое офицерство разуто и раздето! И солдаты – тоже! Мой брат недавно прислал мне письмо. Солдаты и офицеры ходят буквально в рванине! Один прикрыл срам, напялив мешок! Порты износились, а других не нашёл. Взял мешок и надел как юбку! Ведь это – стыд! А склады, между тем, полны вещей! Я лично узнавал! А штабы и всевозможные учреждения полны офицерами-уклонистами! Зато все вовлечены в политику! Нужно разделить армию и политику, обязанности военных и обязанности штатских!
Кромин обезоружено поднял руки, сдаваясь перед сибирским напором Антона:
– Всё, всё, всё! Вы в открытую дверь ломитесь! Всё это является моей болью, поверьте. И ещё в большей степени болью Александра Васильевича. Что вы от меня хотите?
– Как что?! Чтобы вы поговорили с адмиралом! Чтобы убедили его принять необходимые решения!
Затуманилось широкое лицо капитана, скосил глаза. Но, не давая ему уклониться, подался Антон вперёд, навис, схватил за руку, додавливая:
– Вы должны, Борис Васильевич! Вы обязаны! Пока ещё не стало поздно окончательно!
– Хорошо, – сдался Кромин. – Я обещаю довести до сведения адмирала ваши соображения.
– Когда? – не унимался Антон.
– Как только Александр Васильевич вернётся с фронта, – неохотно отозвался капитан.
На том и сговорились, условившись увидеться снова уже в Новониколаевске, куда Кромин загодя был приглашён на праздничный обед в связи с радостным событием: крестинами новорожденного племянника Антона, Петруши.
Редки стали радости в суровые годы, но и не без них было. Родила невестка сына на радость всей семье. И за неё радовался Антон, и за брата Алёшку. Почти всё лето Надя, уйдя из госпиталя, прожила у Антона, под неусыпной Манюшиной опекой. Женщины очень сблизились в этот период. Антон дома бывал наездами, пропадая по делам в Омске. И не сиделось дома, где уже тоже покоя не стало. В августе приехал тесть, вынужденный покинуть свой кров из-за отступления армии. Мудрый старик, он не стал дожидаться, когда она откатится до самого Кургана в слепой надежде на остановку, а, как только пал Челябинск, собрал вещи и вместе с гостившими у него внуками поехал к дочери. А в сентябре приехал с фронта Алёшка. Ему по случаю прибавления семейства дали двухнедельный отпуск. Как ни велика была Антонова квартира, а теперь вдруг тесновато делалось в ней, и чересчур шумно – не сосредоточиться. И удивлялся себе: уже под сорок лет, уже сам человек с положением, а под орлиным взглядом Акинфия Степановича всё ещё робел, и тянулся в струнку, словно в первый год работы у него. Крепок был старик, жилист, ни одна хворь не брала его. И нынешние несчастья принимал он стоически, словно не дело всей его многотрудной жизни в тартарары летело, а мелкая сделка сорвалась.
В самый день крестин приехал в Новониколаевск Надин отец, полковник Тягаев. Он не в отпуске был, а приезжал по каким-то делам в Омск. И лишний день удержал себе, чтобы на внука взглянуть. Рано утром приехал, а вечером уже отъезжал обратно. Тягаева впервые видел Антон, но слышать о нём приходилось. А при встрече сразу безусловным уважением проникся к новоявленному родственнику. Что-то было в этом полковнике особое, не похожее ни на одного из тех офицеров, с которыми приходилось встречаться Антону. Длинная, худощавая фигура, благородное лицо, красивое, но изборождённое глубокими морщинами. Один глаз неподвижен был – стеклянный. Другой, синий до резкости, смотрел напряжённо из-под очков. Это напряжение сквозило в каждой черте Тягаева, во всей фигуре его. Словно напружинен весь был. И за столом сидел так, точно сию секунду готов вскочить и броситься в атаку. Мрачен был полковник и, хотя старался иногда улыбаться, а не выходило. Да и другие, за столом сидевшие тоже невеселы были. Разве только дети, по малости лет не понимающие трагедии, да Надя, для которой радость материнства сейчас выше всего была. Даже Алёшка – отец молодой – понурый сидел.
Все в сборе были уже. Ожидали Кромина. А он запаздывал. И нервничал Антон. Что-то привезёт? А подсказывал голос внутренний: ничего путного. Наконец, прибыл. И ещё в передней перехватил его Антон, воззрился цепко:
– Ну? Что?
Только вздохнул капитан и головой качнул. Ничего, – значило. Ну, так и знал! А подробнее? Что же всё-таки? А, может, просто не было случая с адмиралом поговорить? Но не успел спросить: уже Кромин, обогнув его, входил в гостиную, и оттуда слышался басок его, приветствовал старого друга и счастливую мать, растекался велеречиями. Нарочно разговора избегал? Бросил вышедшей кухарке, рукой махнув:
– Подавай! – и тоже в комнату проследовал.
Непраздничная атмосфера за столом была, – это Борис Васильевич сразу ощутил и подобрался, готовясь к неприятному объяснению. Крестины… Точно на поминках сидели! Только дети и оживляли этот обед – скорее бы он кончился. Да женщины ещё ворковали. И на Надиньку-красавицу посмотреть – отрада была. Молодец, какая молодец! Спородила мужу богатыря! И отцу – на радость! Дожил-таки Пётр до внука. Светилась Надинька, как солнце весенние. Что-то особенно прекрасное появляется в женщине, когда на неё снисходит счастье материнства. Девушкой хороша была Надя, а женой и матерью ещё краше сделалась – глаз не оторвать! А на Петра и взгляда не поднимал, весь он, даже в изношенном мундире своём утянутый, как на параде, живым укором сидел здесь. Наконец, сам не выдержал, проронил глухо:
– Что ты, Боря, глаза-то прячешь? Или совесть гложет?
Чересчур было это. Сразу почувствовал Кромин, что и Антон Евграфович, подле сидящий готов поддержать нападение.
– А почему она меня должна гложить, Пётр Сергеевич? Я, по-моему, в долг не брал у тебя.
– Да не вертитесь вы, господин каперанг! – Тягаев залпом опрокинул рюмку водки. – Вашу омскую артель судить бы следовало за то, что вы с фронтом сделали!
– Лебедев снят с должности…
– Лебедев не снят должен был быть! А предан военно-полевому суду и расстрелян! – жахнул кулаком по столу. – Этот мерзавец армию уничтожил, а вы его пожурили и на другую должностёнку подвинули. И с каждой же дрянью так! Хоть бы кого за абшид вывели! Нет! Все при деле! Точнее, при неделе! Полная безотходность! А оттого совершенное нарушение элементарных процессов жизнедеятельности!
– Послушай, ты преувеличиваешь…
– Я не преувеличиваю! Ты сидишь в Омске! И Ставка сидит в Омске за полторы тысячи вёрст от линии фронта! Вы ничегошеньки не видите здесь! А я фронтовой офицер! Это меня, это наш корпус ваши штабные крысы сначала мариновали в Кургане, не присылая ни гроша и вынуждая на свои средства покупать всё, вплоть до лошадей, а потом прислали «пополнение» из красноармейцев и с ними, сорвав весь план их перековки, швырнули через три недели в бой на верную гибель!
– Тебе следовало поставить меня в известность тогда! В Кургане! А не играть в благородство и не тешить гордыню!
– Владимир Оскарович щадил нервы Верховного.
– Благородно, но глупо. Ты должен был написать мне, и я бы принял меры! Но ты молчал! А теперь вешаешь на меня всех собак! Это несправедливо и обидно!
– Скажи, почему Ставка отвергла план Каппеля о действиях в тылу противника?
– Этот план был признан слишком смелым и нецелесообразным.
– Ложь! Этот план был отвергнут из зависти! Из ревности к потенциальным успехам Каппеля! Побоялись ход дать! Ну как нас, штабную бездарность, затмит!
– Пётр Сергеевич, возьми себя в руки…
– А я держу себя в руках, Борис Васильевич, иначе бы я говорил иначе! Я тебя, друг мой, не как помощника Верховного, а как офицер офицера спрашиваю: ты считаешь, что сотворённое с армией Лебедевым и его подручными не есть преступление? Ответь мне честно!
Провалиться сквозь землю готов был Кромин от этого натиска. Почему он должен отвечать за всё и за всех? За правительство? За Лебедева? И что возразить? Когда-то, ещё в Великую войну, с такой же беспощадностью и хлёсткостью обличал капитан Кромин царское правительство, Ставку и даже самого Государя. И тушевался перед ним Тягаев. Государя защищал, как стена, но и возразить по существу ничего не мог. Крыть нечем было! И каждый раз торжествовал Кромин: хоть ни в чём не уступил ему друг, а и возразить не нашёлся – значит, слаба позиция его, значит, за ним, Борисом Васильевичем, правда! А теперь поменялись ролями. И уже не Тягаев был в шкуре невольно ответственного за Царя и его правительство, а Кромин – за адмирала и его министров. Хотел защитить, всей душой хотел, а сам же и сознавал, что аргументы слабы. О царящем в верхах бедламе знал он куда больше всех присутствующих, и мог бы сам порассказать им… Но долг велел сора из избы не выносить, покрывать, защищать… А самого с души воротило. Ведь уму непостижимо: не власть нынче стала, а двоевластие! Правительство и Совет при адмирале! Формально, правительство главнее. На деле роль его сводилась к тому, что глава кабинета ставил вопрос на голосование, подсчитывал голоса и относил одобренный большинством закон на подпись Верховному. Ни стенограмм прений, ни особых мнений не докладывалось вовсе. Проголосовали, подписали и с плеч долой! Реальные решения принимались Советом. Здесь смещали и назначали командующих, составляли план внешней политики – и всё без ведома министров! Совершенная неразбериха выходила… Катавасия такая, что и сам адмирал жаловался:
– Страшно трудно. При каждом вопросе мне приходится сначала мирить Наштаверха с военным министром, разбирать личные обиды последнего!
У армии тоже семь нянек было, включая иностранных. И спотыкались то там, то здесь. С офицерами, на красной стороне сражавшимися, ошибка вышла. Поздно спохватились, что многие же из них там вынужденно оказались, что их на свою сторону можно перетянуть. Написал тогда в конце весны адмирал обращение к ним: «Пусть все, у кого бьётся русское сердце, идут к нам без страха, так как не наказание ждёт их, а братское объятие и привет». Некоторые переходили, но не приветливо встречали их, а с подозрением. Один из таких офицеров выступал однажды с лекцией, где подробно описывал устройство красной армии, имея цель отметить ошибки в организации белой, которые необходимо устранить. Из зала закричал: «Красноармеец! Предатель!» Офицер, уже и без того больной, слёг в горячке и скоро скончался…
Со всех сторон летели в Омск сообщения о царящем повсеместно произволе. Эти сообщения больно ранили адмирала. Тем более, что многие безобразия творились его именем. Но пресечь их не удавалось. Александр Васильевич был объявлен диктатором, но так и не стал им. Ему присвоили звание Верховного правителя России, но он не ощущал себя таковым. Не ощущал настолько, что не смел прикоснуться даже к вывезенному из Казани золотому запасу. Адмирал считал, что распоряжаться им будет иметь право только будущая всероссийская власть. А как бы пригодились эти деньги теперь, когда так на всё решительно не доставало средств! И на договор с Маннергеймом, обещавшим двинуть войска на Петроград в обмен на независимость Финляндии, не пошёл адмирал, считая себя не в праве «торговать территориями России». А кстати была бы помощь эта! Но был и другой резон, более обоснованный, у Александра Васильевича:
– Мы их признаем, а они всё-таки не помогут…
Он всё меньше доверял кому-либо. Союзникам не верил вовсе. Когда предложили они взять под международную охрану золотой запас и вывезти его во Владивосток, адмирал без лишней дипломатии ответил:
– Я вам не верю и скорее оставлю золото большевикам, чем передам вам.
Весной, когда дела на фронте ещё шли успешно, Александр Васильевич приободрился, чаще стала появляться улыбка на его утомлённом лице, надежды предавали сил. Но как только начались неудачи, всё переменилось. Нервы стали подводить его, он перестал верить даже ближайшим сотрудникам. И ни признания его власти, ни обещания союзников уже не укрепляли его.
Метался адмирал, метался так же и Кромин. Борис Васильевич раздваивался. С одной стороны, его долгом было говорить Верховному всю нелицеприятную правду, а с другой… А с другой не поворачивался язык. По-человечески. Не хватало мужества сыпать соль на незаживающие раны адмирала. Каждое дурное известие встречал он с видом ведомого на казнь, на пытку. И, с таким известием приходя, невольно чувствовал себя Кромин палачом.
Можно было лишь предполагать, каким чудовищным ударом стала для Александра Васильевича челябинская катастрофа. А ведь это сам он настоял на сражении. Поддался уговорам Лебедева и других. Не все знали, как принималось то судьбоносное решение. Но Кромин знал. Это на его глазах было. И сам адмирал признавался:
– Генерал Дитерихс был против этих боёв и за отход без боя от Челябинска, но я приказал дать бой. Это риск – в случае неудачи мы потеряем армию и имущество. Но без боёв армия всё равно будет потеряна из-за разложения. Я решил встряхнуть армию. Если бы вы знали, что я пережил за эти дни!
Армия не была уничтожена, но сражение было проиграно. Не позорно, но проиграно. Не из-за слабости армии, но потому что в самом Челябинске восстали и перешли на сторону красных рабочие, и это решило итог операции. Вспомнились при известии об этом рабочие пермские. Они остались верны адмиралу до конца. Во время одной из своих поездок он был на их заводе, разговаривал с ними. Александр Васильевич умел разговаривать с рабочими, хорошо понимал их, и оттого, возможно, и они проникались доверием к нему, видя в нём не «царька», а человека, хорошо знающего их дело, их нужды. Если бы челябинские повели себя так же!
От челябинской неудачи тяжело было оправиться Александру Васильевичу. Только после неё решил он расстаться с Лебедевым и назначил на его место генерала Дитерихса, чей план был как раз нарушен наступательной операцией.
Это назначение многих заставило воспрянуть. Генерал, обладавший солидным опытом руководства операциями армии, отличившийся в боевых операциях в бытность командующим дивизией, посланной в Македонию на помощь союзникам, в разное время сотрудник двух родоначальников Белого дела, Алексеева и Корнилова, имевший крепкие связи с чехами (сам чешского происхождения был, отец его перешёл на русскую службу и воевал на Кавказе, а сыну по иронии судьбы уже на русской земле выпало чехами командовать) – это ли не удачная кандидатура была?
Может и так. Но Кромину Дитерихс был антипатичен. И крайним монархизмом своим, и фанатичной религиозностью, доходящей до мистицизма. Однако же наведался к нему в первые дни по назначении. Михаил Константинович жил в пульмановском вагоне. Здесь и работал с раннего утра и до поздней ночи, часто до трёх-четырёх часов по полуночи. И всего-то сорок пять лет было генералу, а уж считался он в Сибири стариком на фоне целой плеяды «генералов из поручиков»: чины в Сибири беспорядочно раздавали, и уже всякому известно было, что, чтобы узнать настоящий чин большинства командиров, нужно понизить его на две ступени. А то и на три. Дитерихс одним из немногих «настоящих генералов» был. Ещё Императорской армии. По виду казался он старше своих лет от запредельной усталости, отражавшейся на небольшом, худощавом лице, но тёмные, умные глаза ещё молодо смотрели, хотя и в них та же усталость читалась. Невысокий, сухопарый, генерал целыми днями просиживал за огромным письменным столом, заваленным бумагами, читал донесения, писал что-то, летал карандаш, сжимаемый маленькой, аристократичной кистью, ставя краткие резолюции. А вокруг – иконы, хоругви… Поморщился Борис Васильевич. Всего десять минут пробыл он у нового Главнокомандующего, не желая отнимать его времени, а неприятное впечатление вынес. Когда боевой генерал начинает уповать на чудесное избавление и верить в высшую небесную миссию… Михаил Константинович придавал борьбе с большевизмом религиозный характер, в его воззваниях даже упоминался антихрист. Первым делом им были созданы добровольческие дружины «Святого креста» и «Зелёного знамени» (для мусульман), которыми руководил человек большой смелости и чистоты, профессор Болдырев, религиозно-патриотическое общество патриарха Гермогена и иные объединения подобного рода. Епископом Андреем Уфимским были сформированы Полки Иисуса и Богородицы. Солдаты этих полков были одеты в особую форму с изображением креста, впереди полков шли с пением молитв и хоругвями облачённые в ризы и стихари священники.
А адмиралу, примечал Кромин, по душе был этот мистицизм. Сам он, человек религиозный, всегда с большим вниманием относился к делам церковным. При его горячей поддержке ещё раньше создавались проповеднические отряды под руководством главы ВВЦУ архиепископа Сильвестра Омского.
– Ослабла духовная сила солдат. Политические лозунги, идеи Учредительного собрания и неделимой России больше не действуют. Гораздо понятнее борьба за веру, а это может сделать только религия, – говорил Александр Васильевич.
Дитерихс и провозглашал борьбу за веру, священную войну. Своего рода, крестовый поход. Вся эта повышенная религиозность напоминала Борису Васильевичу приснопамятные дни последнего Царя. Тот тоже был первостатейный мистик вместе со всем своим окружением! Тоже витали в каких-то грёзах! И что вышло? А то, что ослепли совершенно от кадильного дыма, оторвались от земли, перестали понимать реальность и, как итог, потеряли всё и сгубили Россию. Нет, не доводит до добра религиозность, доведённая до фанатизма, до помешательства! Всему мера быть должна! Кромин не был атеистом, но и горячей веры в себе никогда не наблюдал, и всякого рода мистицизм казался ему чем-то странным, неумным и вредным для дела. Дело! – вот, что было главное. Для дел религиозных, слава Богу, есть церковь. Пусть и занимается! А правительству, а командующим надо дело делать: проводить реформы, налаживать порядок в тылу, снабжение армии! А не ждать Божией милости, обвешавшись иконами и хоругвями!
Тут-то и явился к Кромину член Экономического совещания Антон Юшин со своими предложениями. Случись это раньше, и Борис Васильевич не так был бы отзывчив. А тут на подготовленную почву семена попали. Боялся Кромин, что в кадильном дыму потонет реальность вновь, и уж тогда – никаких реформ, никакого дела не будет. Собрал всю волю в кулак и отправился в особняк Батюшкиных, где размещалась резиденция Верховного. Шёл, как на расстрел. Нет, хуже даже, потому что легче было бы Кромину под пулю встать, чем высказать в лицо адмиралу всё то, что он собирался. А и больше того жгло: а вправе ли высказать? Он, Кромин, вправе ли? Ведь это же он и другие мудрые вынудили Александра Васильевича принять власть, взвалили на благородного человека, человека, чья душа уже истерзана была всем пережитым, эту неподъёмную ношу со всей грязью её, не подумав, что бремя непосильным окажется. Сами же и виноваты во всём, а теперь ищут ответчиков…
Но всё-таки заставил себя Борис Васильевич переступить порог адмиральского кабинета. Колчак не сидел за столом, как это бывало обычно, а стоял у высоченного окна, согбенный, с потухшим взглядом, словно безразличный ко всему.
– Александр Васильевич, я подготовил доклад о мерах, необходимых для наведения порядка, – начал Кромин. – Нужно срочно действовать! Нужно начинать реформы… – он и докончить не успел, как адмирал резко обернулся, выпрямился, заговорил на повышенных тонах, срываясь на крик, плохо контролируя себя:
– Реформы?! Какие реформы?! Какие можно начинать реформы, когда враг приближается с каждым днём?! Я запрещаю вам поднимать этот вопрос! Никаких реформ! Никаких отставок! Все хотят быть министрами! Генералами! Главнокомандующими! Оставьте меня в покое! Оставьте!
Так сильна была эта вспышка гнева, что Борису Васильевичу не по себе стало. Поёжился, утратив и без того слабую решимость высказаться. А «шторм», между тем, утихал. Колчак опустился за стол, подпёр бледный лоб подрагивающей рукой, смотрел затравленным взглядом. После паузы сказал твёрдым голосом, за которым слышался, однако, подавленный стон:
– Вы хоть представляете, Борис Васильевич, каково сейчас наше положение?.. Нам, может быть, придётся оставить даже Омск.
О возможности оставления Омска поговаривали в последние недели. Ещё в первых числах августа старый ворон Будберг высказал эту мысль, заметив, что переезжать лучше загодя, а не в атмосфере всеобщего пожара, но тогда она единодушно была признана недопустимой. А теперь, выходит?..
– Это мнение Дитерихса… – продолжал Колчак бесчувственным голосом. – А что значит – оставить Омск? Это же равно признанию поражения, это конец всему делу…
– Генерал Дитерихс может ошибаться…
Глаза адмирала оживились:
– Мне часто думается, что он не тот человек, который нужен. Если бы был Гайда…
– Гайда предал вас, Александр Васильевич. И всё дело.
Колчак болезненно поморщился:
– Может быть, его оклеветали нарочно… – он закурил папиросу и добавил. – Сколько бы я дал сейчас, чтобы быть простым генералом, а не Верховным правителем!
Разрывался Кромин. И всю правду высказать надо было, и что-то утешительное хотелось сказать. И что же важнее? Сидел подавленный, изредка поднимая глаза на Верховного. Нет, не диктатор это был, а мученик. Комок нервов. Человек без кожи. Окажись он теперь на корабле в бушующем море, к нему немедленно вернулась бы его энергия, и он повёл бы судно к спасительным берегам. А здесь, в Омске, стал адмирал – как рыба, на берег выброшенная. Как выводить из шторма корабль под названием «Россия» он не знал и мучительно погибал вместе с ним.
Всё же поговорить о делах удалось. Докурив папиросу, Колчак несколько успокоился, вернулся сам к прерванному разговору:
– Прошу извинить меня, Борис Васильевич, за мою резкость. Вы что-то говорили о реформах? Не трудитесь перечислять… Мне лучше, чем кому бы то ни было, известна тяжесть настоящего положения. Основной причиной неудовлетворённости внутреннего управления является беззаконная деятельность низших агентов власти, как военных, так и гражданских. Деятельность начальников уездной милиции, отрядов особого назначения представляет собой сплошное преступление. Всё это усугубляется деятельностью военных частей польских и чешских, ничего не признающих и стоящих вне всякого закона! Приходится иметь дело с глубоко развращённым контингентом служащих… Вы мне об этом доложить хотели?
Обезоружено стоял Кромин. А адмирал продолжал:
– Вы, может быть, думаете, что я сам не вижу, что происходит? Что я не понимаю необходимости преобразований? – привычно кромсал ножом ручку кресла. – Все ваши замыслы прекрасны и правильны, но кто их будет претворять в жизнь? Где вы возьмёте честных людей для этого? У нас нет возможности подчинить центральной власти атаманов, нет возможности менять министров… Потому что их некем заменить! Где вы предполагаете взять других министров, если людей нет? Поймите же, Борис Васильевич, дело не в законах, а в людях! Можно написать самые лучшие, самые нужные законы, но они ничего не дадут, потому что нет людей, которые могли бы их достойно воплощать. Мы строим из недоброкачественного материала. Всё гниёт. Я поражаюсь, до чего все испоганились! Что можно делать, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи?! Вы думаете, меня удовлетворяют наши министры, как деятели? Они живут канцелярским трудом! Ни талантов, ни инициативы, ни активности! Никто ничего не хочет делать, все боятся ответственности и ждут, когда сделает кто-то другой. Мы – рабы положения…
Нет, конечно, он не диктатор. А – раб положения. И все прочие – рабы. Но так что же, ничего и сделать нельзя?
– Александр Васильевич, но ведь так продолжаться не может. Нужно сокращать всю эту массу тыловых учреждений, проводить реорганизацию ведомств, всех способных носить оружие отправлять на фронт, а всех взяточников, воров и прочих вредителей – карать беспощадно! Как большевики это делают!
– Я согласен с вами. Но признаюсь, я безнадёжно отношусь ко всем этим реорганизациям. Тем более, сейчас. Вы военный человек и должны понимать, что, в конечном итоге, исход будет зависеть не от законов, а от боеспособности армии. Если армия будет побеждать, то законы не имеют большой важности. А в случае поражения они ничего не спасут.
– Законы для тыла нужны. А победа армии обеспечивается, в огромной степени, именно тылом. От его крепости, от порядка в нём зависит снабжение её, боеспособность её. Успехи армии сводятся именно тылом на «нет»! Если в тылу сохраниться разруха, то все жертвы на фронте напрасны окажутся!
– Вот этим и нужно заниматься, – сказал Александр Васильевич с раздражением. – Обеспечением армии! Меня сейчас волнует армия! Она всё решит! А законами пусть занимаются потом те, кто будет к этому призван. К тому же, простите, Борис Васильевич, что мне странно слушать от вас рассуждения об этих вопросах. Когда меня одолевают ими наши политики – это понятно. А вы? Вы сами хорошо представляете, какие должны быть законы?
– Наверное, недостаточно, – признался Кромин. – Но есть люди, которые в этом разбираются. А наши министры, вы сами сказали, серые бюрократы!
– Предлагаете назначить новых? – адмирал бросил нож на стол. – Не желаете ли сами возглавить какое-нибудь ведомство? Понимаете ли, какая загвоздка! У нас есть, быть может, некоторое количество специалистов, но ни одному из них я не могу доверять. С другой стороны, есть некоторое число людей, которым я доверяю. Вы, например. Но они не имеют необходимых профессиональных навыков. Вы, вот, Борис Васильевич, скажите по совести, видите себя на каком-либо ответственном посту?
Ну, Лебедев тоже профессионалом не был. И многие другие. Но Кромин возражать не стал. Не были, не были они профессионалами – вот, и результаты. А он легко рассуждал, наблюдая за всем с безобидной должности помощника. Хорош, в самом деле! Нужно дело делать, нужно дело делать – а сам-то много ли сделал? Приложил руку к ноябрьскому перевороту и теперь сам локти кусал? Большая заслуга! А принять на себя ответственную должность? Готов ли? А Александр Васильевич смотрел испытующе, не сводил чёрных глаз, от изнуряющей бессонницы ввалившихся. Неспроста спросил?
– Я принял бы любую должность, на которую угодно было бы вам определить меня.
– И могли бы ручаться за достойное исполнение её?
– Я все старания приложил бы …
– Так ведь другие тоже стараются! – Колчак помолчал. – Вся надежда моя теперь на Деникина. Нам бы только до октября продержаться… Тогда Деникин возьмёт Москву. Если Москва будет взята, то большевики бросят все силы на нас, и шансов отразить их вал у нас не останется. Раздавят. Но тогда это будет уже не так важно… Лишь бы Деникину удалось взять Москву! А реформы не ко времени сейчас. Я больше не желаю обсуждать этой темы. Можете так и сказать тем, кто, вероятно, обращается к вам на этот счёт. Что касается вас, то я подумаю, на что можно употребить ваши силы и способности. Вы человек честный, а это уже дорогого стоит. А сейчас идите, Борис Васильевич… Оставьте меня… – голос адмирала ослабел, и взор снова потух. Этот человек уже не ждал для себя ничего доброго, а только худшего, и это ясно читалась в его страдальческом лице.
После этого-то разговора отправился Кромин в Новониколаевск. И такая безнадёжность навалилась, что хоть головой в полынью! И самого себя проклинал в тысячный раз за страстишку к политиканству. Прежде всегда гордился он своей осведомлённостью в политике, тем, что всегда был отчасти вовлечён в неё в отличие от других офицеров. Политика всегда захватывала Бориса Васильевича, как игра. На всём Черноморском флоте мало можно было бы сыскать офицеров, столь хорошо разбиравшихся в партиях, движениях, течения, программах. У каждого человека есть своё увлечение. Увлечением Кромина была политика. И себя он считал втайне хорошим политиком, обладающим незаурядными способности. И революция могла бы открыть для них простор (в первые дни эта мысль и тешила Кромина), но совсем не так всё вышло, как хотелось бы. А теперь вдруг подумал Борис Васильевич, что политик из него, пожалуй, ещё более незадачливый, чем министры-«временщики». Вровень с ними. Не в своё дело впутался каперанг – а теперь выплывай, как можешь! А выплывать – как? Да если бы одному… Корабль шёл ко дну, а адмирал продолжал стоять на капитанском мостике, и ясно было, что не покинет его до конца. Когда-то сокрушался Александр Васильевич, что его не было на борту любимого флагмана «Императрицы Марии», когда тот затонул. Сейчас «Императрицей Марией» была вся Россия. Подорванная подосланными врагом диверсантами, она горела и погружалась в пучину. И спасти её не было возможности. Только теперь Александр Васильевич был на борту. И Кромин не мог оставить своего адмирала и своего боевого поста. Значит, и ему суждено погибнуть. Что ж, и пенять не на кого. Если по глупости избрал неверный курс, то и не удивляйся, что угодил на мины, которые сам и расставил…
В таком настроении приехал Борис Васильевич в Новониколаевск. По пути к дому Юшиных постарался ободриться и напустить на себя обычный невозмутимый и благополучный вид. Но здесь не собирались дать ему отдыха. Здесь искали ответчика, и как раз на зубок Кромин попался. И так хотелось им крикнуть давешнее адмиральское, умоляющее: «Оставьте меня в покое! Оставьте!» Но держал в руках себя, сидел, как на иголках, выслушивал. А Тягаев лютовал, словно все-все просчёты решив разом припомнить, весь накопившийся гнев выплеснуть:
– …К лету в нашей армии сколько душ числилось? Восемьсот тысяч! А сколько в строю? Семьдесят! Где было всё остальное? Расползлось по штабам, тылам, обозам! Столько стало генералов, что уже полковнику впору в рядовые идти! Через четыре чина шагали! А раз генерал, то штаб подай! А как паразиты, как полипы наросли! А группе пятнадцать тысяч человек, меньше дивизии, а это обзывается отдельной армией, и её командующий из генералов-недорослей получает содержание главнокомандующего! Вы что, не знали об этом? Не понимали? Штабы и тыл пожрали армию! На семьдесят тысяч бойцов более полусотни штабов! А эту ораву ещё прокормить надо было! У нас солдаты в дырявых портах и кафтанах, в лаптях и босиком, а при штабах таскали обозы до тысячи повозок вместо пятидесяти четырёх! Не войска, а табор, орда какая-то! Вся работа вашей Ставки была одной сплошной авантюрой, Боря! Когда четыреста человек воюют, а семь тысяч отсиживаются в тыловых учреждениях и жируют за их спинами, это верный путь к поражению!
Кромин ничего не отвечал, царапал вилкой по тарелке, понимал, что другу просто выговориться надо, что от собственной боли больно и бьёт он.
– Верный путь к поражению, – подал голос Антон Евграфович, – это когда население не сочувствует армии.
– Ваша правда… Обольшевичился народ! – хмуро согласился Тягаев. – Невольно задумаешься, стоит ли спасать страну, если девяносто процентов её не желает спасения…
– Позвольте не согласиться с вами относительно народа, – это Алексей неожиданно включился в разговор. За время обеда он ни слова не проронил, сидел подле жены и хранил молчание. Трудно было понять даже, слушал ли. А, оказалось, слушал. Что-то сам скажет?
Не мастак был Алёша речи говорить да и слегка тушевался в присутствии более опытных, старших и летами и чином людей. Но разобрало. Может от вина выпитого отчасти. Как-то всколыхнулось разом в памяти: наступление, отступление, все эти бои бесконечные, все города и сёла, через которые шли… А, главное, люди. Солдаты, мужики деревенские – тот самый народ, за который его же кровью борьба велась.
– Народ не обольшевичился, Пётр Сергеевич. Народ просто устал. И не может понять ничего. Мы в одной деревне стояли, так мужичок, у которого мы жили, мне сказал: «Большевики? А чем они от вас отличные? Тоже приехали, тоже с ружьями, тоже в моём доме жили, тоже лошадей отбирали!» Что хорошего видел мужик-сибиряк от власти? Поголовную мобилизацию всех мужчин? Реквизицию лошадей? Только в одном уезде их при отступлении до пяти тысяч взяли! И с повозками! Как простой мужик после этого должен относиться к власти? Вот и рассуждают, что пускай уж большевики будут!
– Дураки говорят! – вспыхнул Антон. – А ты повторяешь!
– А ты горлом не бери! Я две войны прошёл! Не тебе меня жизни учить!
Не ожидал брат такого отпора, умерил пыл:
– Я хотел только сказать, что так говорят те, кто не испробовал на своей шкуре большевизма.
– А генерал Гайда, чтоб ему… уверял Верховного, что сибирская армия прочнейшая из всех, что сибиряки все преданы делу! – покачал головой Кромин.
И что они знали все? Что знал Верховный, этот издёрганный человек, которого однажды видел Алёша на фронте? Приметил тогда, как адмирал, идя вдоль строя, как-то пристально и внимательно заглядывает в глаза солдатам, точно желая прочесть в них их настоящие мысли и чувства… Или просто поддержки искал себе, укрепы в своём многотрудном служении? Так и с Алёшей глазами встретился. Черны эти глаза были, неспокойны, под бровями сдвинутыми словно суровые, а в глубине добрые. И говорил Верховный просто, сердечно, понравилось солдатам. А что, в сущности, знал он об их положении? Что вся Ставка его знала? И этот помощник его с благоденствующим, безунывным видом сидящий – что знал?
Под Уфой зацепило Алёшу пулей. Несильно, даже домой об этом писать не стал, чтобы Надиньку не волновать попусту, а в госпитале полежал несколько. И там куда как много узнал и понял! Между ранеными белыми солдатами, оказывается, рознь царила! Сибиряки родные за большевиков агитировали, а волжане с уральцами готовы их за то были прямо в лазарете кулаками поучить. Они-то знали, что большевики несут, они жезл их железный на спине своей в полной мере познали. Это их деревни сожжены были, это их близкие убиты, это у них выгребали урожай до последнего семени и угоняли скот. Сибиряки ничего такого не ведали. Они знали лишь ужас войны. И хотели лишь одного – войны этой разорительной окончания. Замиряться хотели. Большевики будут? Ну, что ж, пожалуй пусть будут… Лишь бы не трогали нас! О! Не новая была эта песня! И волжане с уральцами хорошо знали слова её. В Семнадцатом и они многие с теми же чаяниями спешили с фронта в родные деревни. «Крути, Гаврила!» Пущай их баре бьются, а мы сами проживём, хоть чёрт с рогами пущай будет – лишь бы нас не бодал! Дорого поплатились за наивность свою, теперь уже знали, почём фунт лиха и ратовали за войну до конца, и объясняли сибирякам, пытались образумить, а те, нераскачиваемые, знай своё дудели: мира! Эх, дурачьё, дурачьё…
Конечно, хороши были и власти. Не умели ничего населению пояснить толком…
– В другой деревне не знали даже, кто такой Колчак. Спорили, из каких он, из англичан будет, или из немцев. Никак не желали верить, что русский. Одному деду битый час объяснял, кто такой Колчак, и из-за чего сыр-бор. А у него, бороды, сын в нашем полку служил! Спрашиваю, что ж ты, так-растак, родному отцу не пояснил ничего? А на кой ему! – отвечает. Да большая часть населения знать не знала, кто мы и что мы. И что большевики. А вы говорите – обольшевичились!
– Агитация у нас из рук вон организована, это точно, – согласился Антон. – Сколько раз я об этом говорил! Без толку!
Агитация… Зато плёткой хорошо агитировали… Послали как-то Алёшину роту подавлять мятеж в одной из деревень. Подавили, конечно. А потом приказ пришёл перепороть селян, чтоб неповадно было. И перепороли. Включая тех, кто против мятежа выступал. А офицер, который экзекуцией заведовал, видимое удовольствие от неё получал. Особливо, когда баб секли. Счастье, что другого полка он был, не пришлось больше встретиться! Жестокость порождает жестокость, а насилие – насилие. Такого количества жестокости не видел Алёша в Великую. А эта – до такого зверства дошла, до такого ужаса раскалённого, что и не за обеденным столом в присутствии женщин и детей повторять. Самому вспомнить тяжко. В одном из сёл нашли двух своих пленников. С них живых содрали кожу и распяли на амбарных дверях. Первых же после этого взятых в плен красноармейцев, двоих же, обезручили и пустили истекающих кровью ползти к своим… А ведь видел Алёша их: простые парни русские… Такие же… Молили о пощаде, клялись, что не виноваты ни в чём. Их не слушали. Дела не было, виноваты или нет. Око за око. И неважно – кому мстить. И до сих пор перед глазами стояли те двое… Да не только они… Пленных коммунистов приказом Верховного расстреливали на месте. Много было их… Виток за витком накалялось зло, превосходило само себя. В одной деревне большевики травили пленных голодными свиньями, в другой местности захватили монастырь и монахинь после истязаний живьём закопали в землю. Лютовали китайцы и латыши – верная гвардия большевиков. И какую выдержку нужно было иметь, чтобы не отвечать той же монетой! Деревенские бунты больше не пришлось подавлять Алёше. Карательные экспедиции поручены были чехам. А это и ещё хуже было. Чехи карали куда безжалостнее. Им эти деревни, люди эти – чужды были. Чехи давно не воевали на фронте, откормленные и холёные, они теперь совершали «подвиги» в тылу. И как должно было воспринимать этих карателей население?
Когда отступление начало набирать обороты стали замечаться брожения среди солдат и возрастание активности большевистских агитаторов. Одного такого бойкого застал однажды Алёша в своей роте.
– Товарищи, ваши офицеры, царские палачи, ведут вас на убой! – энергично жестикулируя, вещал он обступившим его солдатам. – В первом же бою мы должны бросить оружие и перейти на сторону наших братьев, которые сражаются за нашу свободу, за счастье трудового народа!
Прервал поручик Юшин этот пламенный монолог:
– Складно звонишь, товарищ! А ну-ка поясни теперь людям, кого это ты называешь царскими палачами? Рабочих с Ижевского и Воткинского завода, которых их «братья» большевики разорили, а семьи которых уничтожили? Крестьян, у которых их «братья» выгребли всё до последнего зерна и оставили подыхать с голоду? Врёшь ты, шельма! А за враньё знаешь, что бывает?
– Ваше благородие, не марайте рук! Оставьте нам его – мы ему, сукиному сыну, покажем «братьев»! – раздались голоса.
– Отставить! Его военно-полевой суд судить будет!
До военно-полевого суда дело, однако же, не дошло. Агитатор был застрелен при попытке к бегству.
От всех этих нескончаемых отступлений и потоков проливаемой крови мутилось на душе. До того, что по вечерам стал Алёша попивать, чего никогда прежде с ним не случалось. Днём держался: чего стоит нетрезвый офицер в глазах своих солдат, какой подаёт пример? А по вечерам не мог совладать с собой. Так как будто легче делалось, не так тошно становилось на душе. Одну неделю, в которую как раз стояли в небольшом селении, переводя дух, зарядил уже отчаянно, а тут из дома письмо пришло: сын родился! Три раз перечёл, всё не верилось: его сын! Поспешил к командиру просить отпуск. С Рождества не бывал, так что полное право на отдых имел. Командир человек был, сразу в положение вошёл, целых две недели дал по случаю такой радости.
И покатил Алёша в Новониколаевск. И не катить, а лететь бы следовало на крыльях счастья, но не оставляла маята. Он вдруг отчётливо представил, как в случае дальнейшего отступления армии большевики придут в Омск, в Новониколевск, в родную деревню… И уже там начнётся весь тот кошмар, который видел он на Урале, о котором слышал от уральцев и волжан. Холодело сердце. И впервые ясно и чётко понял Алёша, за что воюет лично он. Да за собственный же дом! Да за свою же семью! За мать с отцом, за сестру с племянниками. За Надиньку. За то неведомое, ещё не виденное продолжение себя – своего сына, беззащитного и только пришедшего в жизнь в огненное это время. Кому же ещё защищать их, как не ему? Вот оно, то единственное настоящее, ради чего стоит жить и умереть! Больше всего на свете желал Алёша мира, чтобы зажить ладом с женой, трудиться и растить детей, которых чем больше народится, тем лучше. Но ради мира нужно было воевать, нужно было победить большевиков. Он никогда прежде так не понимал этого, не чувствовал. Да только не поздно ли?..
Теперь, сидя за праздничным столом и слушая споры брата и тестя с адмиральским помощником, который Алёше сразу не понравился своим слишком спокойным видом, хотел поручик всем им высказать, объяснить своё наболевшее. А говорил, как назло, сумбурно, перескакивая. Плохо говорил. И сам чувствовал это. Не дал Бог ораторских способностей! Мысли вроде и ясны, а на словах ерунда выходит. Но окончил свои размазанные, как манная каша по тарелке, излияния, кажется, толково:
– Вы о чём угодно думали. О Великой России, о победе над большевизмом, о союзниках, а о малости одной позабыли! Вы о людях забыли! О человеке забыли! Что вот это всё, – развёл руками, – для людей делаться должно! Для человека! Потому что человек всегда важнее идеи! А вам до человека дела не было! На фронте человек гол, в деревнях тёмен настолько, что про вас же не знает ничего. У нас большая часть солдат – простые мужики. И они, оставленные интендантами наголе, вынуждены грабить своих же братьев-мужиков! Вот, и «обольшевичились»! И те, и другие! А если б заботились о людях, то никогда бы, никогда… – сбился, махнул рукой, выпил. Чувствовал Алёша, что лишнего перебрал нынче и перед Надинькой совестился. Решил, что больше ни рюмки не позволит себе сегодня.
– Тыл! – процедил тесть, приударив ребром ладони по столу. – Тыл наш многих обольшевичил! Достаточно раз в отпуску побывать…
– Генерал Дитерихс на днях очень верную мысль высказал, – сказал Антон. – Что наше Экономическое совещание только тогда будет полезно, когда будет состоять не из интеллигенции, а из крестьян. И правда! Если бы крестьяне в нашем совещании преобладали, то и нужды, и думы простых людей, земли стали бы слышны. И о человеке не забыли бы.
– Михаил Константинович – человек мудрый. Очень надеюсь, что он ещё сумеет привести в чувство наши скорбные дела, – произнёс Тягаев.
– Уж не думаешь ли ты, Петя, что крестоносцы-добровольцы и лес хоругвей сильно помогут вам на фронте? – пожал плечами Кромин. – Впрочем, я так и подозревал, что тебе по душе придётся вся эта мистика! Эта провозглашённая религиозная война… Средневековье какое-то!
– Ты, Боря, я вижу, не понимаешь сути борьбы. По-твоему, какова же она? Экономическая? Классовая? Политическая? Всё это и глупо, и мелко. Мы ведём войну духовную. И генерал Дитерихс совершенно прав, когда открыто заявляет об этом.
– И ты туда же! – вздохнул Кромин.
Сидевший во главе стола Акинфий Степанович, хмурый, суровый старик, не проронивший доселе не слово, кашлянул и заговорил своим надтреснутым, но твёрдым и густым голосом:
– Довольно споров, господа. Я не разбираюсь в военных вопросах и не знаю всех тонкостей политики, но я живу на свете седьмой десяток лет и кое-что видел и понимаю. Все беды происходят от того, что масса людей ничего не понимает и не ценит. И не только тёмный народ, на который вы, светлые головы, здесь ополчились. Я сам из этого тёмного народа вышел, я сам чёрная кость. И не нужно списывать на него все грехи. Много ли понимала и ценила интеллигенция? Образованное сословие? Баре? То-то же, что ничего не ценили! Только ныли и жаловались! Тогда, когда «тёмный народ» работал в поте лица, хозяйствовал и не имел времени на жалобы! Смутили народ, верно. Но кто смутил? Образованные люди! И правду Алёшка сказал: о человеке позабыли. О мужиках, о крестьянах никто не думает. А к тому, скажу вам, Борис Васильевич, что слишком вы с вашими всероссийскими замыслами размахнулись.
– Помилуйте, да как же иначе?
– А так и иначе, что Сибирь знать и понимать след! Мужик-сибиряк прежде свою родную Сибирь любит, а после Россию. А вы о Сибири забыли. Вы вашими всероссийскими задачами задавили сибирский патриотизм, а он-то и есть душа сибиряка.
– Тебя бы, тятя, главой правительства поставить, – сказал Антон. – Твоя голова – всем головам голова!
– Стар я слишком. И не моё дело, – отрезал старик. – А скажу ещё, что, чем на политику месяцы гробить, надо хозяйствовать. Не в игрушки играть, а налаживать хозяйство. Оно – всему опора. А у нас сущее бедствие: языком мести готовы, указы писать, всем чем угодно заниматься, но только не хозяйствовать! Никто не умеет взяться, как след! И все мы живём так, словно происходящее нас напрямую не касается, каждый сам по себе и за себя… В деревне говорят: пущай Ленин с Колчаком меж собой разбираются, наше дело – сторона. У господ офицеров, в тылу обосновавшихся, просто невесть какие рассуждения. Политики разбиваются на партии и воюют друг с другом. Большинство безразлично ко всему, а безразличие большинства торит дорогу меньшинству, которое в итоге и властвует. Скажу по совести, был бы я в иных летах, то пошёл бы на фронт. Но я стар и для фронта негоден. Поэтому на нужды его передаю свои накопления.
– Тятя…
– А ты не обмирай, Антошка! Коли мы одолеем большевика, так ты с твоим умом ещё о-го-го поднимешься! А коли нет, так ведь всё одно лишимся всего. У тебя свой капиталец есть, ты ему хозяин, а своим дозволь уж мне самому распоряжаться. Я и прежде наших соколов не забывал, а теперь пущай уж всё, что пока ещё осталось при мне, на благое дело пойдёт. А вы, Борис Васильевич, пособите, чтобы не разворовали вещей, которые я для фронта закуплю. Знаю я тутошние нравы… А ещё обращусь с воззванием к состоятельному нашему сословию, к которому сам принадлежу, чтобы и оно не оставалось в стороне, следовало примеру. С Божией помощью вернём ещё всё, что утеряли за эти месяцы.
Слова Акинфия Степановича замирили всех собравшихся за столом. И к вящей радости Надиньки споры между дорогими ей людьми, наконец, окончились. И так хорошо было видеть их всех сразу! Хоть на несколько часов! Когда бы мама и бабушка ещё были здесь!
Алёшин рождественский отпуск подарил им обоим много незабываемых мгновений. Никогда так хорошо не было Наде, как в те зимние недели. Разве что в детстве. Несколько раз катались в санях, выезжали загород, а большую часть времени проводили наедине. И не существовало в эти часы войны с её ужасами, ничего и никого не существовало. Только они двое и были в этом мире. Двое, телом и душой одним ставшие.
А потом Алёша уехал на фронт. И снова потянулись дни тягостного ожидания. Снова каждый день надеялась Надинька получить дорогое письмо, а письма задерживались, приходили подчас три разом. И маялась, представляя Алёшу – там, на войне, среди этого ужаса, где вечно ненасытная смерть гуляет. Сжималось сердце страхом за него, а под ним уже совершалось великое таинство зарождения новой жизни. Маленький человек, её и Алёшин ребёнок, жил в ней отныне, и от этой мысли возносилась душа до облаков. Теперь никогда не будет она одна. Даже если не будет рядом самого Алёши, с ней всегда будет часть его, его ребёнок!
Первые месяцы беременности Надя продолжала работать в госпитале, а летом перебралась в Новониколаевск. В этот раз они очень сблизились с Маней. Она, мать четверых ребятишек, взяла над родственницей шефство. Теперь им было о чём поговорить. Маня с увлечением рассказывала о своих детях, и Надинька мечтала, как станет воспитывать своего сына (она почему-то уверена была, что именно сын будет), как они станут жить все вместе, каким вырастет он… Беременность легко проходила, и роды тоже прошли без осложнений. И потому приехавшего с фронта мужа встречала Надя уже вполне оправившейся, цветущей. Ещё слаба немного была, но и только.
Алёша приехал с фронта не таким, как в прошлый раз. Сразу поняла это чутким сердцем. Старался весёлым быть, искренне радовался сыну, немного робко беря это крохотное чудо в свои большие, узловатые руки. И с Надей нежен был. Но чувствовала она, что что-то точило мужа изнутри. Увивалась вокруг, стараясь отогреть словом и лаской, но не отогревался, словно не весь вернулся к ней, а частью остался там, со своей ротой.
И отец такой же приехал. Пожалуй, и хуже того. Весь на нервах. Весь – как струна. Наполовину седой, постаревший. И тоже пытался тревогу и боль скрыть. Но у него это и вовсе не получалось. Никогда отец не умел чувств скрывать. Если Алёша был здесь и лишь частью там, то отец – весь там оставался, а здесь лишь толикой был. Наде казалось, что даже когда смотрит он на внука, то глаз его видит войну. Господи, да как же завладела ими эта страшная война!
У дяди Бори и Антона войны в глазах не было. Откуда и взяться ей? Антон на фронте никогда не бывал, а дядя Боря выезжал лишь вместе с адмиралом. Но и они беспокойны были. Даже дядя Боря, такой безмятежный всегда! И передавалась их тревога Мане. И Наде передавалась. Только, кажется, Акинфий Степанович, спокоен был. Он, бежавший из собственного дома! Смотрел внимательно, но из-под нависших косматых бровей, нахмуренных, глаз почти не видно было. Какая-то громадная сила была в этом старике, ещё и не седовласом даже (у отца, заметила Надя, седины и то больше). И все невольно робели перед ним, смирялись почтительно. Вот и теперь положил конец баталиям – спасибо ему!
Вечером прощались. Отец с дядей Борей одним поездом уезжали. Вышла Надинька проводить их, держа Петрушу на руках. Отец улыбнулся слабо, поцеловал внука:
– Береги его, Надя. Пусть его судьба счастливее нашей будет. Ради этого мы теперь и сражаемся… – привлёк к себе Надиньку, поцеловал и её, долго смотрел на неё, словно запоминая. – Вот, смотрю на тебя с ним, и понимаю, что всё-таки не зря я жизнь прожил, – помолчал ещё и, достав из кармана гимнастёрки, протянул ей одну из сибирских наград – крест с надписью «1918» и скрещёнными мечами: – Все мои награды в Петрограде остались. Бог знает, целы ли. Эта теперь единственное, что у меня есть. Возьми и передай Петруше, когда вырастит. Скажи, дедово наследство.
– Ты ещё и сам ему передашь! И всё расскажешь… – Надя прильнула к отцовскому плечу.
– Даст Бог, так и будет, – поспешно согласился он, точно извиняясь. – Это я – на всякий случай…
Расцеловались затем с дядей Борей.
– До встречи, красавица моя ненаглядная, – говорил он своим волнами играющим голосом, улыбаясь в усы. – Наших речей унылых не слушай! И к сердцу не принимай! Издержки фронтовой жизни, да-с.
Когда они ушли, Надя уложила Петрушу и, дождавшись, когда он уснул, подошла к Алёше. Он сидел на кровати, листал греческий словарь, но по тому, как быстро переворачивал страницы, нетрудно было догадаться, что они остаются непрочитанными.
– Я очень рад, что ты живёшь в семье брата, – сказал, закрыв книгу. – Антон – человек дельный, умный. С ним не пропадёшь.
Надя опустилась на колени и снизу вверх посмотрела в лицо мужу:
– Ты тоже считаешь, что они победят? Что нам придётся бежать?
– Я ничего не считаю.
– Не обманывай меня. Я же слышу, о чём Антон с Маней говорят. Они стараются об этом тишком говорить, чтобы меня не волновать, но я же не глухая! Я всё понимаю!
– Тем лучше, – Алёша легко поднял Надю, усадил к себе на колени, как ребёнка. – Я думаю, может, тебе лучше уехать? Во Владивосток?
– Куда уехать? Зачем? Одной? Как я буду жить там одна с Петрушей?
– Может быть, Маня поедет.
– Маня? Маня не поедет без Антона и отца. И не оставит дома, если только большевики не подойдут вплотную к Новониколаевску… Господи, неужели же это когда-нибудь случиться?! Как всё похоже на Киев… Неужели вы не можете их остановить? – Надя зажала рот руками. – Не слушай меня, Алёша! Я глупости болтаю…
– Мы сделаем всё, чтобы их остановить, родная моя. Чтобы тебя, чтобы вас защитить. Не бойся ничего.
– Я знаю, Алёша, я знаю. Я не боюсь… Ничего. Только потерять тебя. Если надо будет, я поеду во Владивосток, в Харбин – куда угодно. Только бы вместе с тобой! Только бы ты был рядом! Кажется, это судьба наша такая – бежать, бежать, бежать… Мы бежали через всю Россию: из Киева – сюда. Чтобы спастись от них. Теперь мы должны бежать отсюда… А Киев сейчас чей? Киев ведь – Деникина?
– Да, Надя. Деникин наступает. Говорят, скоро будет в Москве…
– Тогда всё нестрашно! – сразу посветлело на душе у Надиньки, целовала мужа в похудевшие, огрубелые щёки. – Тогда всё временно! Деникин возьмёт Москву, и они будут побеждены! А мы пока пореможимся как-нибудь! Ведь правда?
– Правда, родная моя, конечно, правда, – тоже светлел лицом Алёша, отогревался. И почти прежний был.
Тут заплакал Петруша, и Надя метнулась к нему. В комнату Маня просунулась, шепнула, подойдя:
– Давай-ка мне покуда сокровище наше, – улыбнулась зверовато (была особенность такая в улыбке её), но ласково: – Твой-то только неделю здесь будет, помилуйтесь пока, понаглядитесь друг на друга, а за нашим птенчиком я догляжу. Спокойный он у тебя, не то что мои шалопуты были: те горланили день и ночь – спасу не было! – с этими словами она, похожая чем-то на большую, тёплую кошку, взяла Петрушу и, укачивая его, напевая глуховато деревенскую колыбельную, унесла.
Нет, всё-таки высшего счастья не дано природой женщине, нежели это: свой ребёнок, плоть от плоти. И сама бы Надя с удовольствием сейчас убаюкала его, но и права же была Маня: Алёшу с Рождества не видела, а через неделю ему опять на фронт, Бог знает, насколько – надо с ним побыть. Скорее бы уже закончилось это мучение! Скорее бы Деникин Москву взял! Тогда – прямиком туда! К бабушке Ольге Романовне. А там – и в Петроград. К маме. Совсем другая жизнь начнётся тогда! Счастливая!
Глава 5. Орлиная песня
16 октября 1919 года. Орёл
Орёл взяли Корниловцы, Курск – Марковцы. Широко и скоро шагал первый Добровольческий корпус генерала Кутепова! Этот корпус был возглавлен Александром Павловичем в конце апреля и являл собой красу и гордость Добровольческой армии. Бок о бок шагали чудо-богатыри четырёх полков, чтивших своих почивших вождей, неписанные традиции и отличавшихся друг от друга цветами мундиров: юноши гимназисты и юнкера Алексеевского полка в мундирах небесного цвета, чёрно-красные Корниловцы, Дроздовцы в малиновых фуражках, траурные Марковцы… Как символична их форма была! Чёрные мундиры, как траур по погибшей России, и белые фуражки, как надежда на её воскресенье. И чётки у многих. Это даже не полк был, а крестоносный орден со своими обетами.
Смерть не страшна, смерть не безобразна.
Она прекрасная дама, которой посвящено служение,
Которой должен быть достоин рыцарь,
И Марковцы достойны своей дамы…
Они умирают красиво…
Эти стихи написал бывший студент, эсер, а теперь командир батальона, капитан Большаков. Так и назывались они – «Рыцари смерти». «Те, что умирают красиво» – это определение прочно закрепилось за Марковцами…
Больше года прошло, прежде чем подполковник Арсентьев смог вернуться в родной полк. Его, с его полупарализованной ногой никак не хотели возвращать в ряды действующей армии, но Ростислав Андреевич настоял. Служба в контрразведке не удовлетворяла его. Он чувствовал свою неуместность и неумелость в чуждом для себя деле. Наконец, весной Арсентьев получил назначение в полк. И не в какой-нибудь штаб, а на передовую, командиром артиллерийской батареи. В ту пору Марковцы оперировали в южных областях России, с успехом продвигаясь вперёд.
В новой должности Арсентьев освоился быстро. Кроме задач военных, он сразу отметил нелёгкие взаимоотношения между армией и населением. Население боялось всех: и красных, и белых. В областях, где было распространено помещичье землевладение, мужики боялись, что им придётся возвращать барину землю со всем уже посеянным на ней. Генерал Тимановский крестьян успокоил, своей волей разрешив им снимать свой урожай, не обращая внимания на помещиков. Это, само собой, вызвало бешенство последних, грозивших жалобами командованию, что ни капли не встревожило «железного Степаныча».
Чем дальше шли, тем отчётливее примечал Ростислав Андреевич, что население, как не разбирало, что такое есть Добровольческая армия, так и не разбирает и остаётся совершенно бесчувственным к ней за исключением тех случаев, когда кто-нибудь из солдат посягал на крестьянское имущество. В одном селе целое разбирательство пришлось устроить из-за украденных двух кур.
Село зажиточным было. Кур, гусей и всякой скотины – изобилие. Помещиков – вовсе не видали. Красных успели повидать как будто. А отчего-то белым несильно обрадовались. Не успел подполковник в село въехать, так обступили его бабы (мужики заробели, видать) со всех сторон:
– Что же это деется, господин начальник? Житья никакого нам не стало!
– Да в чём же дело?
– Дак житья нет, ваше благородие! Пришли красные – грабили. Белые пришли – тоже грабят! Нет житья!
– Грабежи в Добровольческой армии караются смертной казнью, – заверил Арсентьев, мысленно сморщившись от неправды собственных слов: декларативно-то карали, рядовых, тех, кто проштрафился, карали, а кто когда покарал Шкуро или других командиров, превращавших свои части в разбойничьи ватаги?
Охнули:
– Да неужто смертью?
– Точно так! Сейчас я проведу расследование, и виновный получит по заслугам! – тронул поводья своей гнедой кобылицы-беломордки, с которой из-за больной ноги лишь изредка спешивался, велел срочно собрать всех солдат, бывших в селе, и, когда построились они, предложил бабе, голосившей, что у неё украли двух кур:
– Укажи, мать, который тут твой обидчик. Есть он среди этих молодцев?
– Есть, господин начальник…
– Так укажи, коли есть.
– И что вы с ним сделаете?
– Я же сказал – расстреляем.
– Тогда не покажу, – покачала головой баба. – За что ж у него жизнь отымать? Он ить молодой. У него, чай, мамка с отцом есть. А я его сгублю? Нет, прости ты, ваше благородие, а я греха на душу не возьму…
– Верно, верно! Нельзя эдак-то! – заголосили в толпе.
– Ну, хорошо-хорошо, – согласился Арсентьев, довольный таким сердобольством. – Расстреливать не будем. Но ты укажи нам этого разбойника. Он должен в назидание другим наказание понести. Понимаешь или нет?
– А что ж ты тогда с им сделаешь? – недоверчиво прищурилась баба.
– Велю полсотни шомполов всыпать, и будет с него.
– За что, господин начальник?! За каких-то кур?! Да пропади они пропадом! У меня их много! Хочешь, я тебе, батюшка, сама хоть пяток принесу? За что ж парня-то калечить? Чай, он оголодалый был! Нет, не надо. Ты меня прости великодушно, дуру, за глупость. Это я сгоряча всё.
– Добро, мать, – махнул рукой подполковник. – Я ему ничего не сделаю, только на перекрёстке под ружьё поставлю, чтобы все его видели, чтоб ему совестно было. Должно нам его усовестить или нет?
– Должно, батюшка, должно, – согласилась баба и, помявшись немного, всё-таки указала на своего супостата, который тотчас и получил причитающееся ему «позорное» наказание.
Крестьяне разошлись довольные, и поручик Родионов заметил:
– Всё-таки не совсем у нас народ обозлился. А то я, было, отчаялся. Кур, гусей здесь – сотни, а из-за двух такой скандал! Скажите, Ростислав Андреевич, а вы, действительно, расстреляли бы его? За этих несчастных двух кур?
– Поручик, дело не в курах и не в их числе. Дело в принципе. Население должно знать и видеть, что всякий проступок у нас жёстко карается. Хотя, не стану скрывать, я надеялся, в данном случае, на пробуждение совести.
– Это всё Галузин виноват, – понизив голос, сказал Родионов. – Это он подаёт дурной пример своим солдатам. Этот курокрад ведь из его батареи был.
С этим утверждением трудно было поспорить. Капитан Галузин не отличался высокими моральными принципами, и уже не раз Арсентьев имел с ним неприятные объяснения. Теперь предстояло ещё одно… Возвратившись в избу, в которой квартировал сам, Ростислав Андреевич приказал срочно найти Галузина. Евгений Яковлевич явился четверть часа спустя, и подполковник сразу уловил винный дух, шедший от него. Стрелял капитан глазом, и сильно стрелял. И лицо его, не лишённое красоты, неприятно было. Качнулся от двери, пригладил давно немытые волосы, отдал честь, шаркнув тяжёлым английским ботинком – «танком»:
– Капитан Галузин по вашему приказанию…
– Отставить! – грозно прикрикнул Арсентьев. – Я, кажется, уже неоднократно предупреждал вас, капитан, что не намерен терпеть до бесконечности ваши выходки! Мы наказываем солдат за воровство и недостойное поведение, а вы, офицер, слоняетесь у них на виду в нетрезвом виде, поощряете их дурные наклонности! Сколько раз я говорил, что имущество населения неприкосновенно! Мы не казачья вольница, капитан! Не Шкуро! Не батька Махно! Мы Офицерский полк, и я не позволю вам марать это славное имя!
Евгений Яковлевич усмехнулся:
– В чём вы меня обвиняете, господин подполковник? В том, что я смотрю сквозь пальцы на то, что мои солдаты иногда пользуются имуществом населения? Чёрт возьми! Мы спасаем это население от большевиков, а оно жалеет для нас двух куриц! Если бы оно давало само, никаких эксцессов не было бы! Но его душит жадность, а у жадных голодным не грех и поживиться!
– Вот что, господин капитан, – Ростислав Андреевич прихлопнул набалдашником трости по ладони, – если я уличу вас в грабеже населения, то вы будете расстреляны. И ваших боевых заслуг принимать во внимание я не стану.
– А приговор вы лично в исполнение приведёте? – глаза Галузина сузились. – Вам же не впервой! Мне до вас ещё расти и расти! Я, может, картёжник и пьяница, но не палач! Я в безоружных не стрелял!
– Я буду требовать вашего отстранения от командования батарей, капитан, – ледяным тоном ответил Арсентьев. – Вы свободны!
Даже чести не отдал, усмехнулся криво и пошёл вон. Хороший был артиллерист Галузин – глаз-алмаз. За то и терпели его. Но всему предел есть. Таких, как Галузин, подполковник ненавидел не меньше, чем большевиков. Они своими грязными руками марали белые ризы Добровольческой армии, сквернили святой идеал. Подмечал Ростислав Андреевич, что даже в лице галузинском есть что-то схожее с коммунистами. Этих, последних, всегда безошибочно угадывал Арсентьев. Ему не нужно было отыскивать партбилета в складках одежды, а довольно было взглянуть на лицо. Таких лиц прежде не было ни у русских солдат, ни у русских офицеров. Ни у крестьян. Ни у рабочих. Просто не было таких лиц. На них вдруг проступила смесь наглости, подлости, подобострастия и вседозволенности – что-то совершенно скотское. Как будто чёрное пятно проступило – и не ошибёшься. Но чернота эта в редких случаях начинала являться и среди своих. Вот, Галузин, например. Угасшие лица, как отражение угасшего духа. Духовная проказа, перекидывающаяся от больных на здоровых. И чем дальше внедрялись в советский лепрозорий, тем больший риск был – заразиться…
– Ростислав Андреевич, откуда только в наших рядах Галузины берутся? – уныло спросил Родионов, входя.
– Когда львы идут на добычу, то за ними всегда увязываются шакалы, – ответил Арсентьев. – Что у вас, Леонид Анатольевич?
– Крестьяне там собрались опять.
– Что ещё? Разве дело о краденых курах ещё не исчерпано? – удивился Арсентьев.
– Ещё как исчерпано! – Родионов улыбнулся. – Теперь бабы нашего курятника жалеют, ходят мимо, норовят угостить!
– Чёрт возьми!
– Давно так не смеялся!
– Балаган и только… Так что ж им надо?
– Просят разъяснить им, что такое Белая армия, и куда мы идём.
– Час от часу нелегче! – нахмурился Ростислав Андреевич.
– Как прикажете поступить?
– Скажите, пусть соберутся через три часа. Поговорим.
– Слушаюсь!
– И ещё соберите офицеров… И доктора. Посовещаемся, что говорить. Галузина не звать, разумеется.
– Будет исполнено, господин подполковник!
Поручик Родионов был ещё совсем юноша. Ему едва перевалило за двадцать. Юнкер Михайловского артиллерийского училища, он не успел окончить его, оказавшись вовлечённым в водоворот русской смуты. С виду казался Лёня ещё моложе своих лет. Тонкий, хрупкий юнец, почти мальчик, как виделось Арсентьеву с высоты своих лет, с нежным, очень интеллигентным лицом – над губой едва-едва светлый пух пробивался, а глаза блестели радостно. Ему бы по виду в самый раз в Алексеевский. А, вот – Марковец! И – настоящий Марковец! Ловок был Лёня, расторопен и силён, несмотря на внешнюю хрупкость. И много боёв было за его плечами. И главное, о чём гордо говорил терновый венец с мечом, поблёскивающий на груди – Ледяной поход! А, в общем, не очень-то справедлив был Ростислав Андреевич, полагая, что Лёне Алексеевский полк больше подходил. Всё старыми категориями мыслил, когда двадцатилетний поручик большой невидалью был. А тридцатилетний генерал? Не бывало таких! А теперь, вот, командующий Марковским полком – генерал Тимановский. И у кого бы язык повернулся сказать, что ему, опытнейшему и отважнейшему офицеру, изрешечённому ранами на фронтах Великой, а теперь и этой проклятой войне, чин этот не по летам! Для Лёни «железный Степаныч» был кумиром, и не было большей мечты у поручика, нежели «быть таким, как Тимановский!»
Возвратился. А за ним другие подтянулись. Среди них – Тоня, спутница верная. Попытался было настоять, чтобы осталась она в Ростове, доказывал, что война – не женское дело. Без толку. Ответила, что ничего больше не умеет. Так в лазарет бы? Не захотела. И смирился подполковник. Видать, поздно уже прапорщику Тоне жизнь менять. Ей её гимнастёрка, шинелишка и сапоги кирзовые навсегда роднее, чем платье, туфли, платок милосердой сестры. Так её отец, старый вояка, воспитал. Жалел Арсентьев Тоню и всякий раз совестился, встречая её покорный, как у доброй лошади, взгляд. В этом взгляде столько было преданности ему, столько тихого чувства, не требующего ничего и ни на что не надеющегося. Не отстранял её, но и не приближал, чтобы надежды не подать, держался тепло, но и строго, грани не переступая. А она понятлива была, принимала всё.
– Господа офицеры, полагаю, поручик Родионов уже оповестил вас о предмете нашего совещания, поэтому без лишних предисловий попрошу высказываться.
– По-моему, господин полковник, не наше это дело заниматься разъяснениями. Мы армия, а армия вне политики.
– Мы вне политики, когда речь идёт о политике ВСЮР. Но когда речь о коммунистах, то мы не можем быть вне политики. За что же мы тогда воюем?
– Если нас спрашивают, мы должны отвечать! Мы сами должны говорить, даже если не спрашивают! Если мы боремся за освобождение народа, то должны ему это объяснять! – горячо сказал Лёня.
– Господа, я прошу вас ближе к цели! Не отвечать мы не можем. Но нужно чётко сформулировать, что именно отвечать.
А что, собственно, было отвечать? Не осваговскими же штампами народ пугать. Ещё во дни Ледяного похода негодовал Арсентьев на неумение офицеров грамотно объяснить казакам суть борьбы. И казалось тогда, что, спросили бы его, и уж он бы сформулировал! А не так просто оказалось… Не о своей же судьбе искалеченной говорить мужикам… И не о Царе, о котором наверху молчали страха ради либерального. Нужно говорить о том, что важно им. А что им важно?
– Нужно объяснить крестьянам, что все обещания большевиков – ложь!
– Отлично! А они тебя спросят: а чего вы, баре, нам обещаете? И? Что мы им пообещаем? Чай, мы не Троцкие, чтобы обещаниями разбрасываться!
– Нужно им сказать, что мы защищаем интересы трудолюбивых, сильных крестьян, а большевики – лентяев и пьяниц.
– Разъяснить, что Маркс всегда ненавидел крестьян…
– К чёрту Маркса! Кто бы из них понимал, что такое Маркс вкупе с Энгельсом! Да и мы в этом ни ухом, ни рылом, положа руку на сердце. Понятнее надо, понятнее! Чтоб к сердцу ложилось!
– Тоня, что вы скажете?
Замялась Тоня, боясь что-нибудь не то сказать. Вокруг сплошь люди образованные стояли, и она чувствовала себя между ними неловко.
– Здесь люди хорошо живут. Им только спокою не хватает. Уверенности в завтрашнем дне. Так и пояснить, что мы им это несём.
– Нет, господа, так мы далеко не уедем, – Арсентьев нервно крутил в руках свою массивную трость. – Мы совершили большую ошибку. Вся армия. И уже давно. Отстранившись от политики, мы стали проигрывать этот фронт большевикам. Их комиссары всегда готовы популярно и с огоньком растолковать суть их борьбы. Неважно, насколько лживо. А нас подобные вопросы застают врасплох. Жизнь сама ставит перед нами политические вопросы, и мы обязаны отвечать на них. Мы все свято веруем в нашу Белую идею. Но в чём она состоит? Мы должны мочь выразить её, понять сами и донести до других. Мы должны твёрдо знать, за что боремся. Не вообще, а предметно, применимо к любой области жизни. И против чего боремся. То есть, что есть большевизм. Опять же предметно.
– Боюсь, Ростислав Андреевич, что такую махину за час нам не одолеть, – заметил доктор Бенинг, пожилой, флегматичный военврач. – Мой старший брат в своё время увлекался хождениями в народ. Они пытались объяснить крестьянам, что борются за их счастье. Мужики частенько бежали от них, как от чумных.
– От большевиков не побежали…
– Разумеется. Потому что народники были идеалистами, а большевики – прагматики. Мы тоже идеалисты…
Ну и дела! Сражались и гибли за Белую идею, а выразить её не умели, словно немчины! Впору за голову было хвататься.
– Белая идея – это идея свободной жизни в освобождённой стране… – неуверенно произнёс Родионов.
– Неплохо, поручик, – одобрил Арсентьев, – но мало. Мало…
Бесплодно прошли три часа, и явившийся староста доложил, что крестьяне собрались и ждут. Ростислав Андреевич со вздохом скомкал исчирканный лист бумаги и, тяжело оседая на трость, отправился на встречу с массами.
Собрались на площади у церкви. Кажется, вся деревня пришла: от ветхих старцев до младенцев, которых притащили с собой бабы. Будто бы не подполковник Арсентьев держал речь перед ними, а сам генерал Деникин. Ростислав Андреевич одиноко возвышался в седле перед замершим в ожидании его слов народом. Никогда прежде не приходилось говорить ему речей. А тут – изволь! Да без подготовки! Да перед мужиками! А ведь от его речи зависело теперь, поверят ли эти полторы сотни человек белому делу… А ещё каким словом обратиться? При нынешней чехарде? «Граждане» – казённо. «Друзья» – слишком демократически. Ах, вот, пожалуй…
– Соотечественники! Я не являюсь политиком или агитатором. А простой армейский офицер, прошедший две войны, а потому говорить с вами буду просто и откровенно. Начну с того, что скажу прямо: я не считаю вас бедными. Я не видел в вашем районе ни одного бедняка. Скажите честно, вы сами можете, не погрешив против совести, назвать себя бедными?
Мычали нечленораздельно, соглашались, что, в общем, прав господин офицер: не голодуют у них.
– Я понимаю, что всегда чего-то не хватает, всегда хочется чего-то ещё. Но нынешнее ваше благосостояние вас удовлетворяет, не так ли? Стало быть, первая и главная цель – защитить его, сохранить, чтобы затем и приумножить таким же честным трудом, как и прежде.
– Верно! Верно!
– Что для этого нужно? Порядок! Вспомните Тринадцатый год! Не тогда ли богатели вы? Не тогда ли покрывали крыши железом? Не тогда ли приобретали и копили блага для детей и внуков? Не тогда ли жили в мире, взаимной любви и благоденствии?
– Было такое, ваше благородие! Хорошее времечко было!
– Это было при Царе. Но не стало Царя, и пришли самозванцы, которые внесли сумятицу, разлад и страх. Теперь никто не может поручиться за свой завтрашний день, никто не может быть уверен, что плоды труда его не будут отняты. В этом повинны большевики, которым необходим беспорядок для укрепления личной власти. Коммунисты презирают крестьян, как людей второго сорта. Отнимают урожай, угоняют скот. Для них не существует никакого права. В том числе права на собственность, на землю, на плоды своих рук. Они говорят о справедливости, но что это за справедливость, которая начинает с того, что насилует, грабит и убивает? Мы уже вспомнили Тринадцатый год. То золотое время возможно возвратить, если будет установлен прочный порядок, обеспечивающий законность, свободу труда и неприкосновенности жизни и имущества всякого трудящегося человека. Во имя этого мы и сражаемся. Именно этот порядок несёт Белая армия! Теперь вы можете спрашивать меня обо всём, что вас волнует, я постараюсь ответить… – по реакции людей видел Арсентьев, что слова его достигали цели. Слушали внимательно, утвердительно кивали головами. Да и сам Ростислав Андреевич чувствовал, что говорил хорошо, вдохновенно. Вот, только о чём станут спрашивать? Подобрался весь внутренне. На вопросы-то ещё меньше готов был он отвечать…
Но не пришлось отвечать практически. Вопросов мало было, а больше рассказывали люди о наболевшем, подтверждая правду слов подполковника и о светлых днях довоенных, и о бесчинствах красных.
– Они не только скотину, они и хлопцев наших угнали!
И завыли бабы в голос.
– Когда б мы раньше знали, что такое Белая армия, то наши бы хлопцы не ушли с ими!
– Ваше благородие, а, может, вам провиант требуется, али ещё что? Вы скажите – мы пособим!
Вот так победа была! Покрупнее военных! Вот, так и разговаривать с народом! Без страха! Откровенно!
После двух часов разговора Арсентьев возвратился к себе. Ожидали его Тоня, Родионов и доктор, штудирующий том Эдгара По. Остальные офицеры разошлись по своим частям.
– Как, господин подполковник? – вытянулся поручик, глядя нетерпеливо.
– Отлично! – ответил Ростислав Андреевич, устало опускаясь на стул. – Не ожидал от себя таких агитаторских способностей!
– Об Учредительном собрании спрашивали?
– Поручик, кому нужно ваше Учредительное собрание! А, вот, когда я говорил о Царе, то встретил полное сочувствие и понимание! Я всегда уверен был, что наш народ – монархист. И лозунг о возрождении монархии должен был украшать наше знамя.
– Не переоценивайте сознательность масс, – сказал Бенинг. – Лозунги большевиков они встречают с равным сочувствием.
– Но не лозунг об Учредительном собрании! Мы не разговариваем с массами, и это плохо отражается на нашем деле.
– Простите, Ростислав Андреевич, но я не склонен рассчитывать на сознательность масс. Что есть массы? Хоры. И только. Массы не обязаны понимать, разделять, участвовать… Для этого есть узкая группа, знающих и понимающих. Мы. И мы должны направлять массы.
– Ваши суждения, дорогой доктор, отдают большевизмом, – заметил Лёня.
– Однако, доктор, если даже встать на вашу точку зрения, то нельзя отрицать необходимости работы с массами. Иначе как их направлять? Огнём и мечом? Мы не только должны сформулировать для себя сущность Белой идеи, но стать живым воплощением её. Примером. Массы должны видеть отражение её в сильной и мудрой власти, в честных исполнителях её воли. Наш моральный облик должен быть достоин нашей идеи.
– Скажите это Галузину, – хмыкнул Бенинг.
– Галузин будет уволен, я этого добьюсь. Я не позволю больше этому шакалу разлагать мне солдат.
– А с остальными Галузиными что вы делать будете? С теми, что высокие посты занимают? И где взять сильную и мудрую власть? Антерну, я не вижу ни силы, ни мудрости в её действиях.
– Увидите, доктор, когда до Москвы дойдём, – беззаботно бросил Лёня.
Арсентьев промолчал, понимая, что в суждениях Бенинга немало справедливого.
С момента своего первого выступления перед крестьянами Ростислав Андреевич стал больше прислушиваться к настроениям селян освобождаемых областей, чаще разговаривать с ними. По мере продвижения вглубь России настроения эти становились всё более враждебны большевикам. Здесь уже не спрашивали, что такое Белая армия, здесь слишком знали, что такое армия Красная. И прорывалось не раз накопившееся чувство:
– Уничтожить надо большевиков! Чтобы совсем они сгинули! Не нужна нам эта советская власть. Была бы власть, которая дала бы свободу жить, как мы раньше жили.
Если крестьяне встречали Добровольцев с радостью, то интеллигенция колебалась. Она занята была мыслями о личном устройстве. И, как-то устроившись при большевиках, не очень радовалась белым. Даже среди священников оказывалось немало подобных приспособленцев. В одном селе, желая проверить местного попа на вшивость, постучали к нему:
– Батюшка, укрой! Нас красные преследуют!
– Изыдите! Вы братскую кровь проливаете, озлобляете людей и нарушаете мирную жизнь!
Ах ты собака в рясе… Не тебя большевички на вратах родного храма распяли, не тебя живым в могилу зарыли…
А в том же селе крестьянка пожилая:
– Родненькие, у меня в подполе двое ваших скрываются! Ранетые! Когда красные напали, я их укрыла. Сынки, позовите доктора! Я нашего не кликнула, потому что он большевик.
Область за областью освобождали, а отчего-то с каждым днём тяжелее на душе становилось у Арсентьева. Он уже реже общался с крестьянами, сторонился их, хотя все они кастили большевиков и рассуждали здраво. Но Ростислав Андреевич – не верил. Это были крестьяне уже родной его полосы. Крестьяне, которых знал он с детства. Такие же, какие жили в имении отца… Жили, делили скорби и радости, праздновали праздники, а потом убили, разграбили и сожгли дом… А если – и эти?.. Своих мыслей не высказывал Арсентьев вслух, но тяжким камнем лежали они на сердце. Эти крестьяне были его народом, за свободу и счастье которого он сражался. А он не верил им. Не мог простить. И нестерпимо мучила эта раздвоенность.
Зато по мере приближения к Курску всё радостнее становился поручик Родионов. В Курске жила его семья: родители и три сестры, девицы на выданье.
– Ах, Ростислав Андреевич, я непременно, непременно вас с ними познакомлю! Вы же не откажетесь сделать нам честь?
Что ж, пожалуй…
– Вот, увидите, как мои обрадуются вам!
Давно никто не радовался…
– Отец всю жизнь проработал в почтовом ведомстве. Тишайший, интеллигентнейший человек. А мама… Мама – удивительная! Даже не знаю, как сказать… Если в лютый мороз укутаться в тёплую, пушистую шубу, понимаете ощущение? Вот, мама моя такая и есть. И сёстры… Да вы сами увидите их, Ростислав Андреевич! Они очень славные, правда!
Как невинен, как чист ещё был этот мальчик-поручик. Он видел войну, но она не опалила его души, не угасила сияющих звёзд в глазах, не огрубила, не ожесточила черт. Должно быть, и сёстры его, и родители были похожи на него. Хорошая русская семья, которую лишь бы смута эта не разметала…
Курск взяли с налёту и без приказа. Точнее, наперекор приказу. Когда план взятия «красной крепости», об укреплениях которой ходили легенды, разрабатывался в штабе первой дивизии приехал Кутепов и, схватившись за голову, категорически запретил атаку:
– Ждите прихода тяжёлой артиллерии! Без неё об атаке курских укреплений и не думайте!
Запретил и уехал. А генерал Тимановский, немного поразмыслив и докурив очередную трубку, заявил:
– Александр Павлович, конечно, прав. Но чёрт знает, сколько ждать этой артиллерии. Побеждают, как говаривал незабвенный Сергей Леонидович, не числом, а умением. И духом. О духе защитников Курска я не высокого мнения. Уверен, мои Марковцы и Корниловцы легко с ними справятся. Я даже доволен, что атака будет проведена без ведома Кутепова. По крайней мере, времени её не будет знать и его начаштаба… – начальнику штаба корпуса Достовалову Николай Степанович не доверял и всячески старался избегать сношений с ним. – Итак, Курск будем брать! Под мою ответственность!
Вот это было по-марковски! Вот это бодрило!
Аккурат первого сентября выступили и через неделю боёв овладели «красной крепостью». Его защитники, мобилизованные красноармейцы, не проявили упорства в отстаивании города. Большинство из них были крестьянами южных губерний, и теперь они рады были вернуться домой. Эти возвращенцы устремились в тыл и буквально забили шоссе, ведущее в Курск. Их была целая армия, а город взят был горсточкой Добровольцев. Верно оценил обстановку «железный Степаныч»! Впрочем, прибывший Кутепов, не переносивший самоволия и нарушения своих приказаний, всё же немедленно сделал Тимановскому выговор, но тем и уладилось, ибо победителей, как известно, не судят.
Освободителей встречали с неподдельным восторгом. Люди, запрудившие дотоле пустынные улицы, целовались и поздравляли друг друга со слезами на глазах. Марширующие части забрасывали цветами.
В целом же, Курск производил впечатление мрачное. Полумёртвый город, притихший в страхе и скорби. Дома были сплошь облуплены, в царапинах, в серых подтёках от содранных вывесок. Один квартал выгорел дотла, и местные жители пугливым шёпотом поясняли:
– Здесь была ЧК. Перед уходом чекисты облили здание керосином и подожгли. Сгорел весь квартал…
В этих чёрных развалинах находили обугленные человеческие кости.
Неподалёку от этого страшного места Арсентьев заметил смутно знакомую фигуру. Этот горбоносый профиль и огненную копну волос он не мог забыть. Окликнул:
– Полина!
Полина обернулась. На этот раз одета она была очень просто, чтобы не выделяться из толпы. Черты лица её, осунувшегося и постаревшего за это время, ещё более заострились, огрубели, но всё ещё сохраняли прежнюю своеобразную красоту.
– Ростислав Андреевич? Не ожидала встреть вас здесь.
– Тем более, не ожидал вас встретить я. Откуда вы здесь, Полина?
– Я здесь уже дольше месяца. По заданию контрразведки, – закурила нервно. И не было при ней обычного мундштука. Курила дешёвые папиросы.
– Вот оно что…
– Нас было трое, – низкий голос Полины стал ещё ниже. До хрипоты. – Двое, – кивнула на пепелище, – здесь…
– Здесь сильно было подполье?
– Куда там! Буржуа прятались по домам, господа офицеры заглушали тоску кокаином. Здесь, кажется, через одного – кокаинисты…
Арсентьев присмотрелся к Полине. Должно быть, и сама она этим зельем не брезговала. Говорила бесстрастно, смотрела мимо подполковника.
– А мы здесь месяц работали… Аркадий Варламович, Денисов и я. Аркадий Варламович всю жизнь в этом городе прожил, работал в архиве. Он такой старый был, и я удивлялась, как же он решился. Он же у нас главным был. Такой мудрый, такой отважный человек… И Денисов хороший был. Из офицеров. Числился в Красной армии, а, на самом деле, служил России, копировал все планы, какие попадались ему, и передавал Аркадию Варламовичу. А я – через линию фронта – нашим… Знаете, Ростислав Андреевич, сколько мы всего успели! – вроде бы заплакать самое время было этой странной женщине, а она ни слезинки не проронила, только истончившиеся, увядшие губы подрагивали. – А потом они узнали про Денисова. А выследили. Их обоих пытали здесь. Знаете, что делают с людьми в ЧК? Что с женщинами делают? Они не выдали меня… Ни этот старик, никогда не ведавший войны, ни Денисов…
– Вы нуждаетесь в отдыхе, Полина.
– Я ни в чём не нуждаюсь, – зеленоватые глаза вспыхнули. – Тем более, в отдыхе. Раньше я хотела отомстить лишь за одного человека. А теперь счёт увеличился.
– Куда же вы теперь?
– В Москву, Ростислав Андреевич. Там я тоже буду прежде вашего.
– Вы туда по собственному почину или по заданию?
– Разумеется, по заданию. Курск был лишь промежуточным звеном. А конечная цель – Москва. Мне нужно кое с кем встретиться там…
– Как же вы доберётесь до Москвы? Вас же задержат…
– Контрразведка задержала видную большевичку Евгению Гербер. Она оказалась довольно похожа на меня. Теперь у меня её документы, её легенда… Не задержат, Ростислав Андреевич! – Полина усмехнулась. – Меня теперь хоть в самый Кремль пропустят!
Арсентьев вздрогнул:
– Так вы не отказались?
– От чего?
– От вашей безумной идеи убить кого-нибудь из них?
Полина не ответила:
– Мне пора идти, господин подполковник. Простите.
– Полина, не делайте этого. Это ничего не изменит, разве вы не понимаете? За ваш выстрел страшную цену заплатят тысячи неповинных людей!
Но не слышала словно… Из небольшого саквояжа достала маленький букет свежих цветов, положила на пепелище, поклонилась низко и, проходя мимо Арсентьева, обронила лишь:
– Прощайте, Ростислав Андреевич. Мы с вами больше не увидимся, – и скользнула тонкой, долгой тенью по пустынной улице вдоль обшарпанных, потемневших стен уцелевших домов.
А ведь наверняка не знали в контрразведке о безумных планах, таившихся в голове этой несчастной женщины. Если бы знали, не послали бы никогда… А если вдруг удастся ей?..
Не успел Арсентьев подумать-представить, что тогда будет. Послышался стук копыт, и следом звонкий голос Родионова:
– Ростислав Андреевич, вот вы где! А я вас ищу!
Весь сиял Лёня, ёрзал в седле. Он хоть, в отличие от подполковника на ноги не жаловался, а предпочитал верховую езду пешей ходьбе. Он и в атаку верхом летел, хотя так опаснее было – слишком выделялся среди пеших частей. Но хотелось поручику покрасоваться. Была такая слабость у него. Знал он, что в седле прекрасно держится и выглядит молодцевато. Спешившись – хуже. Щупловат и росточком не вышел. Да и бравировал тем, что красных пуль не боится. Как генерал Тимановский. Последний, впрочем, в атаки пешим ходил, несмотря на хромоту. Шёл впереди частей, опираясь на палку, не выпуская трубки изо рта. Таким и запомнился со времён Ледяного. Но в этом Родионов отчего-то генералу не подражал.
– Ростислав Андреевич, я только что от моих! Живы и здоровы! – выдохнул радостное.
Ну, слава Богу! Хоть у кого-то все живы и здоровы. Искренне рад был Арсентьев за поручика.
– Так вы будете к нам? Завтра? К ужину? Отец и мама, и сёстры: мы все вас покорнейше приглашаем!
Не очень-то хотелось Ростиславу Андреевичу идти на этот семейный ужин. Не расположен был к этим тихим посиделкам. Мутилось на душе. Но и не отказать же хорошим людям! Для поручиковой ранимой натуры большая обида будет. Жаль было омрачать его радость.
– Благодарен вам, Леонид Анатольевич, за приглашение! Я непременно буду.
Следующий вечер Арсентьев провёл в тёплом кругу семейства Родионовых. Лёня не преувеличивал: все они оказались милейшими людьми. И Анатолий Трофимович, и его супруга, Арина Анфимьевна, и их дочери, Варвара, Лариса и Ксения. Несмотря на всё пережитое при советской власти, Родионовы сохранили завидное расположение духа. И квартира их, заметно пострадавшая от обысков и вынужденной распродажи имущества, сохраняла тепло и уют. За столом, и это было ново, намеренно не говорили о текущей обстановке. Лишь однажды Анатолий Трофимович попытался было обратиться к ней, но Арина Анфимьевна тактично остановила мужа:
– Нет ничего вреднее, нежели говорить о политике за столом. Вы, Анатолий Трофимович, расскажите лучше что-нибудь весёлое.
Отношениями этих пожилых людей можно было залюбоваться: столько искреннего, не притупленного годами чувства, столько предупредительности и нежности было в них. Анатолий Трофимович был десятью годами старше жены. Это был сухопарый старик, с интеллигентным лицом. Голова его была гладкой, как биллиардный шар, белая, аккуратно подстриженная бородка обрамляла подбородок и скулы. Глаза, смотревшие из-под стёкол пенсне, казались несколько усталыми. Эту породистость и интеллигентность Лёня всецело унаследовал от отца, переняв от матери сияющие звёзды-глаза и её живость, лёгкость, льющуюся звонкую речь. Арина Анфимьевна была из породы тех женщин, рядом с которыми хочется находиться всегда, так как в них заключён громадный запас тепла, щедро расходуемый ими на всякого оказывающегося рядом. И точен был поручик, когда уподобил свою мать тёплой, мягкой шубе. Волна тепла шла от этой бойкой, весёлой женщины, накрывая и обласкивая каждого.
И Арсентьева встретила она, словно родного. И дела не было ей до чинов его, до командной должности. Она не сыновнего начальника, а человека встречала. И вся семья отнеслась к нему так, будто бы сто лет знакомы были, будто бы всем им он страшно дорог был. Наверное, похожим образом встречали в доме Ростовых Денисова…
Чудесные были люди. Чудесный был вечер. Чудесный дом. И давным-давно не выдавалось подобных часов, так похожих на канувшую безвозвратно жизнь. А Ростиславу Андреевичу плохо было. Чем радостнее и приветливее были Родионовы, тем острее чувствовал он, как не подходит он к ним. Не к ним! К жизни светлой и хорошей! Жгуче проснулась в Арсентьеве дремавшая в окопах боль. Вспомнился родной дом. Тихие осенние вечера, проводимые с отцом и Алей… Какой мукой всколыхнулось всё это, утраченное, осквернённое, уничтоженное! Если б мог знать сердечный поручик Родионов, какие страдания переживает подполковник… А он ведь как лучше хотел, хотел доставить ему удовольствие… И, чтобы не огорчать сердечных людей, силился Арсентьев улыбаться, отвечать что-то, не обижать хозяйку небрежением к её угощению (а кусок в горло не лез), а сам считал минуты до того заветного часа, когда можно было бы откланяться. Добрые люди часто не могут взять в толк, какую муку причиняют своей добротой…
Чтобы перевести дух вышел на балкон покурить. А следом неожиданно Ксения выскользнула, младшая из трёх девиц. Двумя годами старше была она своего брата, очень похожа на него. Точнее, на отца. Ещё больше, чем Лёня. Из трёх сестёр Ксения не самой красивой была. Но было в ней обаяние, которого красота не могла бы дать. Оно рождалось от безмятежности её лица, от мягкости глаз и улыбки. Тишина была в ней, ровность.
– Простите, Ростислав Андреевич, я вам не помешала?
– Ничуть, как вы могли подумать…
– Наверное, всё-таки помешала. Вам ведь очень в тягость этот вечер, правда? И вы торопитесь уйти?
Неужто так явственно было… Нехорошо вышло…
– Почему вы так решили?
– Я почувствовала. Нет, вы не беспокойтесь, другие не заметили. Вы были так любезны с маменькой. Для неё большая радость, что вы пришли. Она очень любит гостей, а, пока были большевики, никто ни к кому не ходил, все попрятались. Страшно было. Я вас поблагодарить вышла.
– За что?
– За то, что пришли, за то, что не подали виду, что вам это тяжело.
– Всё-таки почему вы сделали такой вывод?
– Потому что я весь вечер на вас смотрела.
Не заметил, надо же…
– Они разговаривали, а я смотрела. А если на человека долго смотреть, то многое можно понять, – Ксения говорила вкрадчиво, куталась в длинную, светлую кашемировую шаль.
– И что же вы увидели?
– Боль. Такую сильную, что у меня сердце сжалось. Я подумала, что, если бы, как в сказке, мне позволено было загадать три желания, то одним из них было бы, чтобы боль ваша исцелилась.
– Спасибо вам, Ксения Анатольевна, – тепло сказал Арсентьев, тронутый этим порывом доброй души.
– Вы не мучайтесь дольше. Скажите маменьке, что дела службы требуют вашего присутствия. Она не обидится.
Ростислав Андреевич слегка пожал кончики пальцев Ксении, оказавшиеся ледяными:
– Благодарю вас! Вернёмся в комнату. Вы слишком легко одеты, простудитесь.
По возвращении в комнату Арсентьев объявил, что вынужден покинуть гостеприимный дом Родионовых по делам службы. Лёня вызвался сопровождать подполковника, но Ростислав Андреевич остановил его, видя, что поручик едва держится на ногах из-за обилия поднятых тостов.
– Оставайтесь, поручик, оставайтесь! Тем более, что в полк вам надлежит вернуться лишь через день. Я даю вам увольнительную, чтобы побыть с семьёй.
– Премного благодарен, господин подполковник!
Тепло простившись с Родионовыми, в особенности, с Ариной Анфимьевной, Арсентьев с облегчением покинул их дом, пробудивший в нём невольно столько болезненных воспоминаний. Ксения вызвалась проводить его до дверей парадной. Там она протянула ему большую белую хризантему:
– Вчера на улицах воинов-освободителей встречали цветами… Вы примите этот цветок от меня.
Ростислав Андреевич с благодарностью принял неожиданный дар, сунул в петлицу:
– Вот так. У них – красные гвоздики. А у нас – белые хризантемы. Сердечно благодарю вас, Ксюшенька.
– Красный – цвет крови и пламени. Белый – цвет чистоты, цвет наших храмов, ангельских риз, снега, подвенечных платьев… Всего невинного, всего светлого… И часто беззащитного… Знаете, какими мы беззащитными стали теперь? Перед всем. Перед большевиками. Перед голодом. Перед болезнями. Перед тем, что те, кого мы любим, могут быть навсегда похищены у нас. А разве может быть что-то страшнее на свете? Даже простая разлука – это маленькая смерть. А если навечно? И никак защититься нельзя!
Ксения поёжилась, не то от холода, не то от страха. Что-то понимала эта юная, хрупкая девушка. Тоненькая, как тростинка. С глазами, не похожими на глаза её матери, из-за затаённой печали. Почему такие глаза у неё? Какую утрату она оплакивает? И не потому ли угадала настроение чужого ей подполковника, что и сама в схожем была?
– Мы сделаем всё, чтобы защитить вас…
– Не надо, Ростислав Андреевич, – Ксения покачала головой. – От судьбы нельзя защитить. От Его, – посмотрела на небо, – воли нельзя защитить. И не нужно… И спрашивать Его не нужно. Знаете, какой самый глупый вопрос, который можно задать Богу?
– Какой же?
– «За что?» Это неправильный вопрос. А правильный – «Зачем?» Если Бог посылает скорбь, то не за что-то, а для чего-то. А всё, что делает Бог, имеет одну цель – наше благо. Значит не для чего-то, а для блага нашего. И мы поймём его, если только не впадём в грех отчаяния и не отступимся, не помешаем сами Богу привести нас ко благу. Помните евангелийского слепого? Христа спрашивали, за что Бог его покарал. А Он ответил, что ни за что не карал его Бог, но нужно было это, чтобы Его слава умножилась…
Не мог разобрать Ростислав Андреевич: то ли в сердце его читала эта юная барышня, то ли своё сердце раскрывала. А только от её слов, от мерной, вкрадчивой речи притуплялась боль. И сам от себя не ждал порыва:
– А разрешите вы мне, Ксения Анатольевна, как-нибудь написать вам?
– Конечно, Ростислав Андреевич. Я буду очень рада и обязательно отвечу.
А он бы и без этого обязательства написал. Вдруг подумалось, что совсем некому писать ему. Ни единого родного человека во всём свете. И благодарен был сердцу отзывчивому. Всю мучительность этого вечера сгладила Ксения. И уже не жалел Арсентьев, что пришёл. Ради одного разговора этого с душой родственной стоило прийти.
В расположение батареи возвратился подполковник утешенный, а первым человеком, которого встретил, Тоня была. Улыбнулась чуть, сразу притушив улыбку, соблюдая установленную между ними дистанцию:
– Добрый ночи, Ростислав Андреевич. Хорошо ли вы вечер провели?
– Неплохо. Очень хорошая русская семья. У Леонида Анатольевича замечательные родители.
– И сёстры, – вырвалось у Тони.
– Да, и сёстры, – невозмутимо согласился Арсентьев. – Очень хорошие люди. В следующий раз, Тоня, я возьму вас с собой.
– Спасибо, Ростислав Андреевич, но я не пойду.
– Отчего так?
– Там люди образованные, интеллигентные. А я что? Сама стесняться буду и других стеснять своей невоспитанностью.
– Глупости вы говорите, Тоня. Уж кому-кому, а вам себя стесняться нечего.
– Полно вам, Ростислав Андреевич. Вы уж лучше без меня, – вздохнула Тоня.
И опять совестно было перед ней. Ничего не обещал ей, ничего не мог дать. Но… Эта женщина несколько месяцев ходила за ним, как нежнейшая мать, как заботливейшая сестра, выхаживала, помогала делать первые шаги, была единственной опорой, надёжной и верной, самым преданным другом. И искренне привязан был к ней подполковник. Как к другу. Мало было людей на земле, к кому бы он ещё привязан был. Но знал ещё, что она, прапорщик Тоня, ничуть не похожая на амазонок, женщин-воительниц, но лицом и фигурой – ни дать, ни взять – солдат, совсем другие чувства испытывает к нему. Знает всю безнадёжность их, таит в себе, не выказывая. А в иные моменты казалось Арсентьеву, что не удержится, уступит влечению – и тогда бы не избежать тяжёлого объяснения. Но Тоня удерживалась, видимо, и сама боясь такого объяснения. Так в умолчаниях и тянулись их отношения уже дольше года…
У Родионовых Ростислав Андреевич больше не бывал. Но Ксению видел мельком, когда, выступая из города, части шли мимо её дома. Она стояла на балконе, махала белым платком. А позади – сёстры, мать и отец. Провожали сына…
С Курщины двигались к Орлу. Замирало сердце по временам. Ступить на землю родной орловщины… Увидеть жуткое пепелище отчего дома и могильные кресты над дорогим прахом… И лица крестьян, которые совершили это каиново дело, крестьян, с которыми мальчишкой играл в казаки-разбойники… Неужели выдержит душа?
Тянулись скучной вереницей русские сёла, куда более бедные и унылые, чем южные. Крестьяне озлобленно говорили о большевиках, иные вступали в ряды армии. Но, в общем, пополнений мало было, и это тревожило. Курск почти не дал людей. Тамошние офицеры, отравленные дурманом кокаина и алкоголя, не ведали традиций Добровольцев, были чужды их духу и могли вносить лишь растление в их ряды. Чем дальше продвигались вглубь России, тем ядовитее делался воздух, тем тяжелее было противостоять ему.
Шли, как водится, с боями. После одного из них привелось наблюдать мерзкую сцену: на дороге лежал убитый красноармеец, которому отменный удар шашки снёс полчерепа, неподалёку валялась и фуражка его, подбежавший мужик радостно схватил её, выкинул на землю бывшие в ней мозги и тотчас надел себе на голову, при этом по лбу потекла струйка крови…
– Мерзавец! – вырвалось у Родионова, сбледнувшего с лица от этого зрелища и приложившего ладонь ко рту, словно его тошнило. – В ногайки бы его!
– Вот-с вам народ-богоносец, – хмыкнул Бенинг, ехавший рядом на одной из подвод.
– Ну, не стоит, доктор, одним паразитом весь народ мерить, – не согласился Лёня.
– Если бы паразит был один, мы бы не варились в этом кровавом месиве третий год подряд!
Единственной отрадой стали для Арсентьева письма Ксении. Она писала ему даже чаще, чем он ей. И были её письма умны и глубоки, чего сложно было ждать от юной барышни. Писал и Ростислав Андреевич. Поначалу с трудом: отвык от писем, да и не окружающую же грязь было описывать! А потом легче пошло, делился многими мыслями. Как-то во время стоянки к подполковнику заглянул Родионов. По смущённому виду поручика Арсентьев угадал, что тот имеет к нему какой-то не совсем обычный разговор.
– Что вам, Леонид Анатольевич?
– Простите, Ростислав Андреевич… Разрешите вопрос?
– Слушаю вас.
– Вы ведь переписываетесь с моей сестрой, да? – пылали нежные щёки Лёни, неудобно ему спрашивать было.
– Да, а вам это не нравится?
– Нет, нет… Что вы… Вы же знаете, Ростислав Андреевич, как я вас уважаю. Вы для меня…
– Оставим славословия.
– Как скажете. Просто я хотел спросить, насколько серьёзно вы относитесь к ней. Всё-таки она мне сестра.
– Леонид Анатольевич, я очень уважаю вашу сестру, как мудрую, щедрую и чистую душу. Я понимаю ваши опасения и даю вам слово, что никогда и ничем не оскорблю и не обижу Ксении Анатольевны.
– Спасибо вам, Ростислав Андреевич, – расцвёл поручик. – Вы меня успокоили! Нет, я и не сомневался, вы не подумайте! Просто я очень люблю Ксюшу. Мы с ней всегда были особенно близки. Поэтому…
Объяснение было прервано явившимся капитаном Ромашовым. Виктор Аверьянович только что прибыл из отпуска и с тем предстал пред ясные очи командира. Ромашов был самым красивым офицером батареи. Былинный молодец – кровь с молоком! Любо-дорого посмотреть. Сила и здоровье, ни единой пулей за две войны не попорченное, через край хлестало. От женщин этому красавцу, само собой, не было отбоя. Да и он никогда не против был утешить своим присутствием какую-нибудь сдобную вдовушку.
– Рад вас видеть, Виктор Аверьянович! – Арсентьев поднялся навстречу. – Ну, что тыл?
– Да, что там, в тылу? – подхватил Родионов. – У нас часть за частью отнимают для борьбы с каким-то Махно! Неужели никак нельзя самим справиться с какой-то шайкой разбойников? Или в тылу людей не осталось, способных носить оружие?
– Действительно, режут нас по живому. И без того нам людей не хватает так, что воюем чудом. И умением. По-марковски. А от нас ещё требуют части на этого бандита! Только что шесть полков на внутренний фронт вытребовали, а чем прикажут Москву брать?
– Рассказывайте, господин капитан! Что там?
Виктор Аверьянович важно расположился на стуле, закинув ногу на ногу, и на вопрос Родионова ответил одним единственным непристойным словом, которыми мастак был жонглировать.
– А подробнее? – осведомился подполковник.
– Работает вовсю тыл, – фыркнул Ромашов. – Одни сидят в канцеляриях и стучат на машинках не хуже, чем мы на пулемётах. Другие спасают Россию за чашечкой кофе! Рестораны и улицы гудят народом, а взять в руки винтовку – это, видите ли, некому! У каждой сволочи в кармане белый билет или свидетельство о том, что он незаменимый специалист по спасению России! Ну, и спекулируют, конечно, чем только можно… – и ещё одно веское слово употребил, обозначив им всех засевших в тылу.
– Куда же Деникин глядит со своими боярами? – ахнул Лёня.
– Гнать надо в… три шеи этих бояр! На старых дрожжах теста не поднимешь. А Деникин, как старый кот, который спит, когда мыши пляшут у него под носом.
– Помилуйте, Виктор Аверьянович, да что это вы! Нельзя же так! Ведь армия побеждает! Ещё немного – и мы будем в Москве!
– В самом деле, господин капитан. Обсуждение командующего – не дело армии. Мне понятны ваши чувства, но прошу не высказывать таких мыслей при подчинённых, – сказал Арсентьев.
– Я-то не выскажу. Да только скоро они сами нам эти мысли высказывать станут, помяните моё слово.
Нехорошо, нехорошо было всё, что Ромашов рассказывал. Если уже этого жизнелюба тревога взяла, значит, неладное что-то творится. Да Ростислав Андреевич и сам видел. Старых кадров всё меньше оставалось в Добровольческой армии. Их места занимали красноармейцы, присылаемые из тыла в качестве пополнений. Мало того, какого нутра были эти пополнения, так ещё же полураздетые! Ни обуви, ни шинелей! Стребуй потом с них корректного отношения к пленным и мирному населению! Сам ещё в Курске требовал у одной интендантской крысы сапог:
– Того гляди, снег начнётся, и как, по-вашему, мои люди будут работать при орудиях?!
А дела не было сему мерворождённому – как. Не его дело. Чах, как кощей, над своими складами…
И пошлёпали на босу ногу по раскислой осенней грязи, под проливными дождями зарядившими, прямясь перед ледяным ветром, сгибавшим в дугу оголённые деревья и игравшим, точно мячами, перекатиполе среди помертвевших равнин. И враг не так страшен был! Враг меньше жизней отнимет, чем пневмония и тиф…
Даже крестьяне замечали беженское положение освободителей, жалели, предлагали помочь вещами. И блазно было согласиться, но отказывались, жалея, в свою очередь, крестьян. Бог знает, какая судьба станется, а прознают комиссары, что крестьяне помогали Добровольцам – несдобровать им. Всё ж таки потихоньку приносили: кто сапоги, кто валенки, кто тулуп – как погорельцам.
– Что же это вы отказываетесь, родненькие? Да ведь измёрзнете все!
– Ничего! Мы, Марковцы, непромокаемые и непромерзаемые! – отвечали с бравадой, а у самих зуб на зуб не попадал от холода.
Шли, тонули в серой беспросветной мгле и, вот, вышли к Орлу. И взяли его первого октября, но тут-то и пошла Настя по напастям, тут-то и застопорились…
Уже три дня шли бои у реки Оки, южнее Орла. И всё тяжелее виделось положение Арсентьеву. Здесь Добровольцам противостояла отборная Латышская дивизия в десять тысяч штыков и три тысячи сабель, подкреплённая кавалерийскими частями. О латышах говорили пленные:
– Без них бы мы давно отскочили за Москву.
Да и мы бы в Москве уже были давно, если бы казаки Мамонтова во время своего знаменитого рейда, дойдя до Тамбова, шли бы дальше и били красных, а не занялись грабежом. Вернулись с обозами добычи! Герои! Да их не славить за это надо было, а под трибунал отдать! Такой шанс упустили… Втуне не жаловал Ростислав Андреевич казаков, подозревая, что они по сей день живут духом Стеньки Разина. Вот и ярко проявлялось. К настоящему служению не годились они. Сиюминутное для них затмевало главное. Мамонтов ярчайшим примером стал: для него быстрая добыча затмила Москву и победу.
С утра выехал Арсентьев с Родионовым на позиции. Били неумолчно орудия, из которых несколько новых было, англичанами присланных. Накануне первый батальон был отброшен латышами, потеряв до четверти своего состава, а сегодня перешёл в наступление, но уже видно было: захлёбывался. Теснили его латыши. А Ростислав Андреевич знал уже, из штаба просочился слушок: Орёл думают оставлять. Нету сил держать его. Временно? По тактическим соображениям? Чтобы иметь свободу манёвра? Непонятно. Взять город и оставить его через три дня? Ах, поехать бы в штаб самому! Зрела у Арсентьева идея толковая: ночь не спал – обмозговывал. Поехать и лично Кутепову, товарищу старому, доложить. Да как батарею оставить в тяжёлом бою? И быть с ней – долг. И доложить, пока не стало поздно – долг. И какой главнее?
– Ростислав Андреевич, смотрите! Отступаем! Ростислав Андреевич, отступаем! – воскликнул Лёня, приподнявшись в седле.
Точно. Отходили опять, аккурат до места вчерашнего боя дойдя и успев забрать убитых, отходили под ударами латышей. Неладно.
– Надо их остановить! Надо остановить! – волновался поручик, гарцуя на своей Белянке.
Остановишь их теперь, куда там! Прежде в таких случаях лично Сергей Леонидович останавливал дрогнувшие цепи и увлекал их за собой, своим примером. А теперь кому?
Поздно увидел подполковник, как Родионов пришпорил коня и, выскочив из укрытия, где они хоронились от огня противника, помчался в самую гущу боя, к отступающей цепи. Только услышал высокий, от волнения совсем мальчишеским ставший, голос, кричавший отчаянно:
– Стойте! Слушать мою команду! Вперёд! Вперёд! За Россию! Ура!
– Поручик Родионов, назад!
Но не услышал уже среди гула и упоённый мгновением. Каким героем сейчас должен был ощущать себя этот восторженный юноша, мчавшийся на верную смерть, чтобы увлечь за собой в атаку солдат! Какой прекрасной мишенью была его белая лошадь в сером месиве смешавшихся цепей. Он летел, разрезая её, гордо выпрямленный. Шашка наголо… Он, должно быть, кричал что-то отходившим цепям, но не слышно было. Вот, уже впереди них оказался поручик. И кое-кто даже последовал за ним, но большинство продолжали откатываться. Бах! Взрыл неприятельский снаряд чёрную землю, и перевернулась белая лошадь, грохнувшись всем корпусом в грязь. А всадника подбросило вверх и, через голову её, швырнуло размашисто о землю. Из шедших за ним несколько тотчас бросились назад, опамятовавшись. А двое подхватили убитого и понесли, поволокли, рискуя собой, чтобы не оставить мёртвого товарища на глумления врагам…
Лёню Родионова хоронили вечером. Он лежал на земле такой хрупкий и маленький, а лицо его оставалось восторженным, счастливым.
– Бедный, бедный… Он такой хороший был, такой добрый… – тихо всхлипывала Тоня, гладя убитого по русым волосам. По её долгому лицу катились слёзы, катились – и так не вязались с этим лицом, с нею. – Такой славный был мальчик…
Не мог и Арсентьев сдержать слёз. Он смотрел на белое лицо поручика, но видел не только его. Но и другое, так на него похожее. Что-то будет с ней, когда узнает? «Не спрашивайте, за что, спрашивайте, зачем. И отвечайте – ко благу нашему»… Неужели и это сможет, как благо, принять? И возблагодарить Бога? Может быть, и сможет. А мать её? Сёстры? Долго щадило горе семью Родионовых и, вот, пришло. К беззащитным. Отняло единственного сына и брата. А Ростиславу Андреевичу – эту скорбную весть ещё и сообщить предстоит. И не просто, как командиру полка, что проще бы было, но – как другу. Сообщить, что не уберёг их Лёню, не удержал от безумного шага. Смотрел в бинокль, как он гибнет, и ничего не мог сделать.
Простившись с поручиком, Арсентьев всё же отправился в штаб. Он уверен был, что никого не разбудит, явившись ночью. Во всяком случае, Александра Павловича точно не разбудит. И верно рассчитал. Кутепов уже которую ночь глаз не смыкал. Сидел, склонясь над заваленным картами и донесениями столом – как всегда, подтянутый, в безупречном мундире, гладко выбритый. А лицо боевитое хмуро было. Арсентьева встретил генерал, не чинясь, как старого друга:
– Рад видеть тебя, Ростислав Андреевич! – и к делу сразу. – Садись, рассказывай, с чем пришёл.
Арсентьев сел, вытянув параличную ногу.
– Александр Павлович, верно ли говорят, что Орёл будет оставлен?
– Его взятие было ошибкой, – Кутепов прихлопнул себя ладонью по мясистой шее. – Я говорил, что нельзя Орёл брать. Что взять его – не штука, но тогда мой фронт выдвинется вперёд, как сахарная головка. И тогда противник лишит нас маневра и станет бить по флангам. Будённый с одной стороны. Латыши – с другой. А мне приказали – взять!
– Но наши войска ещё держатся. Дроздовцы даже одерживают победы… Я слышал, что наша кавалерия сосредотачивается против Будённого?
– Чёрт знает, когда она сосредоточится! Ты не всё знаешь, Ростислав Андреевич. Сегодня конница Будённого нанесла удар в стык нашей армии с Донцами, взяла у них Воронеж и вышла нам в тыл.
Вот это так новость была! Не удержались шкуринцы в Воронеже, драпанули, значит! Правильно, не могут растленные грабежами и гульбой части стойко противостоять неприятелю. Но это значит…
– Фронт прорван?
Тонкий, как ниточка, растянутый на три версты, ослабленный тыловыми беспорядками и оттяжкой большого количества людей на внутренний фронт против Махно и Петлюры – он держался чудом, а у чудес есть предел…
– Да, и поэтому нам придётся оставить Орёл, – откликнулся Кутепов.
Арсентьев нервно закрутил в руках трость. Оставить Орёл – немыслимо. Нет, конечно, можно оставить на время, перегруппироваться и вернуться, но… Что-то подсказывало, что этого делать не нужно.
– Александр Павлович, позволишь мне высказать моё мнение?
– Изволь, конечно.
– Орёл оставлять не нужно. Нужно, прежде всего, всем штабам приказать покинуть вагоны. Все обозы и раненых срочно отправить в тыл – они для армии, как вериги. Затем собрать все наши полки в кулак и навалиться на Латышскую дивизию. Она уже довольно потрёпана и не выдержит такого удара. Все прочие советские части нам не страшны. А потом, не задерживаясь, идти маршем на Москву. На пути мы встретим лишь мобилизованных, а они воюют плохо и не смогут нас остановить. Мы возьмём Москву, и это станет сильнейшим деморализующим ударом для Красной армии. Все карты большевиков будут спутаны! А это уже половина победы!
– А что же делать с конницей Будённого? – чёрные пытливые глаза неотрывно смотрели на подполковника.
– Ничего. Она будет громить наши тылы, разумеется. Но им это только на пользу пойдёт. Возьмутся за винтовки… В конечном итоге, Будённого постигнет участь Мамонтова. Его остановят свои же обозы, непомерно разбухшие от награбленного добра.
– План твой, Ростислав Андреевич, смел и не лишён смысла, – задумчиво произнёс Кутепов, разглаживая жёсткие усы. – Но Ставка никогда не согласится на него.
– И пусть! – воскликнул Арсентьев. – Ставку надо лишь предупредить, а затем порвать с нею все провода!
Александр Павлович покачал головой:
– Ты не просто смельчак, ты революционер. Нарушить указания Ставки, действовать по собственному разумению… Ростислав Андреевич, мы же не атаманы!
– Победителей не судят!
– Зато судят побеждённых! Ты представляешь, каких собак на меня станут вешать в случае неудачи! Да это просто… трибунал!
– В случае неудачи нас просто не будет в живых, а мёртвые сраму не имут. Зато при удаче…
– Довольно! – Александр Павлович поднялся. – План твой, возможно, неплох, но на конфликт со Ставкой я не пойду. Я офицер и привык чётко выполнять приказы, равно как и привык, чтобы мои приказы выполнялись. Если каждый командующий начнёт оперировать в соответствии с собственной стратегией, то какая это, к чёрту, будет армия?
Нет, не получилось убедить. Отважный, честный и грамотный генерал, Кутепов был солдатом. Он не мог переступить через дисциплину, которая была для него богом. Он следовал ей даже в мелочи, а Арсентьев пытался склонить его к крупному нарушению – изначально провальная затея была. На такой план мог бы пойти человек с авантюрной жилкой, но у Александра Павловича её, кажется, не было. Честолюбие? Вероятно, не чуждо было оно генералу, но не в такой степени сильно, чтобы заставить забыть об уставе и долге. Он сделает всё, что возможно, но в рамках приказа. А приказ был – отступать…
– Завтра мы оставляем Орёл, Ростислав Андреевич.
И пяти дней не продержались… Впору прощальную песню петь. Не лебединую. Орлиную песню! Какую и спел сегодня поручик Лёня Родионов, летя, как ветер, через поле боя на верную смерть – за Россию!
Глава 6. Понужай!
14-15 ноября 1919 года. Позади Омска
Тихая эта выдалась ночь. Но тихая зловеще. И ясное, унизанное звёздным бисером небо могло бы показаться спокойным и мирным, если бы не страшное зарево на западе. Багряные, как кровь, всполохи рвались к небу, а вокруг тёмные клубы дыма смешивались с тёмно-алыми отблесками пламени… Это не закат был. Это – горел Омск. И окровавленное небо казалось пропитано кровью всех погибших на грешной земле, убранной погребальным саваном снегов.
– Большевики стреляли по всему городу, а теперь подожгли его со всех сторон!
– Откуда знаешь?
– Я в последний момент утёк. Ещё войска не было, большевики местные вовсю уже разъезжали. Белые мост взорвали, а большевики с другой стороны пожаловали.
Загрохотало на западе. Чаще, чаще.
– Пороховые погреба загорелись…
– К чему ж теперь вернёмся? К руинам?
Столбы дыма уходили в небо, унося с собой чьи-то бессмертные души. И казалось, словно бы из-за этого зарева, из пылающего города слышны чьи-то предсмертные крики, стоны…
А Петруша? Где-то он теперь?
Два месяца миновало с их последней встречи. А встреча такой мимолётной была! Приехал Пётр Сергеевич с фронта по делам на считанные дни и на день ещё уехал к дочери. Одна только ночь, даже не ночь, а обрывок её остался им. Но и он не был похож на те счастливые мгновенья в Кургане, из которого Евдокия Осиповна перебралась в Омск при наступлении красных. Теперь всё не то было. А скорее – как некогда в Казани. Петруша был весь изнервлен, истревожен, бросал отрывистые фразы о том, что творится на фронте, в тылу – и до отчаяния. И тревога его ей передавалась. Не знала, как поддержать, чем утешить родного человека. Не находилась. Нет, совсем всё не похоже было на Курган… Ни надежд на скорую победу, ни тихого снежного хруста за окном, ни треска печи с его весёлыми огоньками. А только тревога, осенняя изморось, комната, где и не поговорить в полный голос, потому что за стеной – хозяева. Ну, хоть посидеть рядом. Рука к руке. Глаза в глаза. Тепло родного человека ощутить. Наглядеться на него.
Пролетели очередные украденные у судьбы мгновенья. Заторопился Петруша. Ему перед фронтом ещё к дочери надо было, на внука взглянуть. И невольно кольнуло под сердцем это: дочь у него, внук. Слава Богу, конечно. А что-то скребло. Когда бы самой родить ему сына! Ещё в Кургане однажды проговорился Пётр Сергеевич, что жалеет, что нет у него сына. А ведь у Евдокии Осиповны сколько нерастраченной нежности в души накоплено было! Не то, что на сына, на пятерых сыновей хватило бы.
В тот приезд даже слова ласкового не вымолвил Петруша. Не о том мысли были. Но в глазах, но в прикосновениях читала Криницына, что любит по-прежнему. Просто слишком тяжело на душе, чтобы говорить. Не было нужных слов на языке, а потому на прощание потеплевшим голосом, будто вернувшись на миг издалека, прочёл, обняв, касаясь губами волос и уха:
– В моей стране спокойная река,
В полях и рощах много сладкой снеди,
Там аист ловит змей у тростника,
И в полдень, пьяны запахом камеди,
Барахтаются рыжие медведи.
И в юном мире юноша Адам,
Я улыбаюсь птицам и плодам,
И знаю я, что вечером, играя,
Пройдёт Христос-младенец по водам,
Блеснёт сиянье розового рая.
Тебе, подруга, эту песнь отдам,
Я веровал всегда твоим стопам,
Когда вела ты, нежа и карая,
Ты знала всё, ты знала, что и нам
Блеснёт сиянье розового рая…
Господи, как далеко был этот рай! Петруша уехал, и два месяца не было ни весточки от него. Евдокия Осиповна до последнего надеялась, что Омск удастся отстоять, что здесь дождётся она Петра Сергеевича, но всё выходило совсем не так.
В последние дни улицы города были запружены толпой. Во всём чувствовалась лихорадочная торопливость и страх. Одни пытались припрятать наиболее ценные вещи, другие спешно собирались уезжать. Оставались преимущественно те, кому бежать было некуда. На всех стенах расклеено было объявление коменданта города, что Омск сдан не будет, но уже каждый знал: правительство покинуло столицу. Правда, адмирал ещё оставался в городе, но уже не обнадёживало это.
Всё утро двенадцатого числа Криницына бесцельно бродила по улицам, протискивалась сквозь толпу, прислушивалась к разговорам, надеясь узнать что-то новое о положении армии. Вернулась домой лишь к полудню и увидела сидящего на лестнице человека. Со света в тёмной парадной глаза почти ослепли, а потому не сразу признала Кромина. А он, едва увидев её, вскочил, схватил за руку:
– Ну, наконец-то, Евдокия Осиповна! Я уже час жду вас! Ни вас нет, ни хозяев ваших. Боялся, что вы уехали куда-нибудь.
– Что-то от Петра Сергеевича? – спросила Криницына, подавив страх. – Он жив? Только одно скажите!
– Жив, насколько мне известно.
– Слава Богу!
– Евдокия Осиповна, давайте в дом войдём. Я порядком продрог, покуда вас ждал.
В квартире, при свете дня разглядела Криницына, что Борис Васильевич сильно похудел, и куда-то слетела его обычная вальяжная невозмутимость, оптимизм. Объявил без предисловий, не раздеваясь:
– Собирайтесь, бесценная Евдокия Осиповна, я за вами приехал. Через час наш поезд отходит.
– Простите, Борис Васильевич, я не совсем понимаю… Я не собиралась уезжать.
– Вы собирались красных дождаться? – Кромин вскинул голову. – Они будут здесь не позднее, чем через три дня!
– Но адмирал ещё здесь!
– Адмирал уезжает завтра. Это решённое дело.
– А вы не с ним?..
– Я выезжаю раньше, потому что надеюсь подготовить кое-что в Иркутске к его приезду туда.
– Но…
– Есть ещё вторая причина!
– Какая?
– Вы! – Борис Васильевич хлопнул мохнатой шапкой о ладонь. – Точнее-с, мой друг Тягаев. Пётр Сергеевич, да будет вам известно, уезжая на фронт, поручил вас моим заботам. Взял с меня обет торжественный, что если падение Омска станет неизбежным, то я о вас позабочусь и из города вывезу.
– И вы обещали ему?
– А вы думаете, у меня хватило бы духу отказать в единственной просьбе лучшему другу, уходящему на фронт? О Надиньке, слава тебе Господи, есть кому позаботиться. Юшины – люди умные и предприимчивые. А ваша судьба Петра Сергеевича весьма и весьма тревожила.
Тёплый лучик сердца коснулся. Всё-таки о ней он думал, уезжая на фронт, о ней заботился. Самый родной человек в мире, где он теперь? Как его найти в этом хаосе?
– Евдокия Осиповна, время не ждёт. Вы должны немедленно собраться и ехать со мной. Это воля Петра Сергеевича, поэтому, прошу вас очень, не раздумывайте и не отнекивайтесь, иначе… – Кромин развёл руками, – мне придётся увезти вас силой.
– Я буду готова через полчаса.
Если Омск сдавали, то оставаться в нём не было больше смысла. Нужно было отступать со всеми. И искать Петрушу! Евдокия Осиповна собралась скоро, написала записку хозяйке и отправилась вместе с Борисом Васильевичем на вокзал.
Город казался ещё более взволнованным, чем утром. Люди шли, бежали, ехали. Формировались целые обозы, вереницей текущие к станции. Вдоль дороги валялись трупы лошадей, некоторые уже ставшие скелетами – в последнее время улицы города вовсе престали убирать. Бродили и лошади живые, брошенные хозяевами. Смотрели тоскливо и оголодало, не находя себе пищи.
– Последний день Помпеи, – мрачно изрёк Кромин. – Все стремятся спастись из гибнущего города.
Они разместились в теплушке, точнее в части её, отделённой от остального салона, занятого другими людьми, шторой. Через четверть часа Омск остался позади…
За два дня, прошедшие с той минуты, многое страшное и невообразимое предстало глазам Криницыной. На железнодорожных путях стояли замершие составы, пассажиры которых на себе таскали воду для паровозов, чтобы запустить их. Многие не имели тёплых вещей. По-видимому, покидая родные дома ещё месяц-другой назад, не предполагали, что это надолго. Ехали, как на прогулку, и, вот, встали. И обгоняли их бесконечные обозы, части отступающей армии, оборванной и голодной. О, французы на Смоленской дороге представляли собой, должно быть, менее жалкое зрелище!
На второй день пути у одной из станций поравнялись с санитарным поездом. Ничего более жуткого Евдокия Осиповна не видела за всю свою жизнь. Площадки, прицепленные в хвосте поезда, были забиты голыми, окоченевшими телами, связанными между собой, как вязанки дров. Это были те, кого пожрал дорогой ненасытный тиф и кого некому, некогда и негде было хоронить… Из самого поезда выползали ещё живые, но уже мало походившие на живых солдаты. Оборванные и грязные, истощённые до подобия скелетов, с безумными, небритыми лицами, они ползали по грязному снегу между поездами, ели этот снег, скреблись в двери поездов, молили отчаянно:
– Хлеба! – и тянули руки, от которых остались лишь кости, обтянутые синеватой кожей.
И кто-то сердобольный бросал им какую-то снедь, как голодным псам, и они, в страшном жару, в тифозном бреду не помнящие себя, как звери хватали эти куски и проглатывали. О, лучше бы не было этого милосердия! Истощённый организм не принимал этой еды. И, вот, уже крючились несчастные в предсмертных муках, крича и стеная, и смерть была милосердна к ним…
Это были солдаты ещё недавно победоносной армии, очистившей от красной нечисти всю Сибирь, дошедшей почти до самой Волги! Тянулись руки, блестели обезумелые, жуткие глаза, извивались тела на холодной земле, хрипело и стонало за окнами:
– Хлеба!..
Поезд стоял недвижим. На подножке одного из вагонов появилась фигура, отдалённо напоминающая сестру милосердия, но гораздо более похожая на крючащихся на земле несчастных. Она, это даже из окна было видно, сама была больна, в жару, едва держалась на ногах. Озиралась беспомощно. Наконец, ступила на землю, срывая с себя сбившуюся косынку, сделала несколько шагов и упала навзничь.
Кромин выскочил из вагона. Из окна Евдокия Осиповна видела, как он склонился к сестре, пощупал пульс, перекрестился. Уже мертва она была, разделила до конца страшную судьбу своих больных. Борис Васильевич решительно вошёл в мёртвый поезд. Криницына не усидела и вышла следом за ним. К ней со всех сторон тотчас устремились молящие взгляды, костенеющие руки и вой:
– Хлеба!!!
Евдокия Осиповна ступала по снегу, между ползающими полумёртвыми людьми, с мукой понимая, что ничем не может им помочь. Она уже приблизилась к страшному эшелону, но уже навстречу ей спешил Кромин с опрокинутым, растерянным, потрясённым лицом. Остановил решительно:
– Не надо ходить туда вам, Евдокия Осиповна! Не надо! Видеть этого не надо! – по его взволнованному до дрожи голосу Криницына поняла, что ей, в самом деле, не стоит видеть того, что увидел в этом кошмарном поезде он.
– Борис Васильевич, сколько же таких эшелонов на путях стоит? – вырвался вопрос. – И это и есть наше планомерное отступление?.. Ведь все эти несчастные, и те которые лежат на задних платформах, они же ещё совсем недавно были живы, веселы, они все – чьи-то сыновья, братья, мужья. И кто-то ждёт их, веря, что они спасутся, не зная, как они брошены, какая ужасная смерть их ждёт. Борис Васильевич, как же это могло статься?
Что мог ответить ей Кромин? Он и сам бы понять хотел, как? Он и сам представить себе не мог совсем недавно, до чего доведена армия. Только и начал понимать в последние два месяца, когда на фронт зачастил. Адмирал назначил его своим уполномоченным по вопросам снабжения. Поезжайте, следите, пресекайте, налаживайте… Что ж, сам напросился Борис Васильевич на эту неблагодарную работу. Назвался груздем – будь добр, полезай в кузов. Делать нечего, полез. Мотался, как заведённый, по всем фронтам и осознавал свою полную бесполезность в создавшихся условиях. Сибирская (первая) армия, как боевая единица, перестала существовать. Её ряды поредели настолько, что при очередном наступлении красных генерал Пепеляев вынужден был броситься в бой сам вместе со своим штабом, так как больше некого было выслать. И отбили атаку противника, но на том и наступил предел. Дитерихс приказал отводить первую армию в тыл. Лишь ощутив непосредственную угрозу себе, тыл вспомнил о своих обязательствах перед армией, вспомнил о полных складах вещей, столь нужных ей (теперь горели они синим пламенем в Омске), стал судорожно грузить и посылать на фронт эшелон за эшелоном. Но уже не могли они, долгожданные, добраться до фронта. На восток сплошным потоком шли поезда с беженцами и ранеными, а движение в обратном направление оказалось почти остановленным. Эшелоны идущие на запад неделями простаивали на станциях и лишь затрудняли эвакуацию. А всего хуже было то, что великий русский путь – железнодорожная магистраль, протянувшаяся через всю Сибирь – оказалась в нерусских руках, в полной власти чехов. Ими захвачено было громадное число составов (на сорок тысяч подлецов – двадцать тысяч вагонов!), в которых с комфортом размещались они сами и награбленное ими имущество. Всё прочее должно было плестись в хвосте их эшелонов, ожидать своей очереди. Когда же это выпустили из рук ключевой объект – железную дорогу?! А ведь и раньше с омерзением замечал Кромин, как «дорогие союзники» нахально забирают себе лучшие поезда, составленные из лучших вагонов, с кухнями, ванными и электричеством. Эти поезда были оборудованы с роскошью, которая была бы недопустима в их собственных странах. Распоряжение всеми салон-вагонами присвоил себе Жанен со своим штабом: присвоил и выделял их только иностранцам! Лишь японцы в отличие от европейских «друзей» вели себя достойно и скромно, и Борис Васильевич вслед за адмиралом проникся искренним уважением к этим суровым и честным самураям.
«Союзникам» уже давно стала надоедать их миссия. Уже хотели, разрабатывали план примирения белых с большевиками, приглашали на конференцию по этому предмету. Александр Васильевич отказался гневно: «Не может быть никакого перемирия между нашими войсками, защищающими существование нашей Родины – России, защищающими жизнь, благополучие и верование всего русского народа, и красноармейскими шайками изменников, погубившими свою родную страну, ограбившими всё народное имущество, избивающими без жалости население, надругавшимися над верой и святыней, не может быть соглашения между нашим правительством, отстаивающим право, справедливость и счастье народа, и засевшими в Святом Московском Кремле комиссарами, которые задались только одной целью – уничтожить нашу Родину – Россию и истребить наш народ».
А с наступлением развала ощутили господа «союзники» полную вседозволенность и безнаказанность. В конце сентября их представители потребовали удалить ряд русских отрядов и бронированных поездов, прибывших в последний месяц, из Владивостока и не приводить новых без разрешения командования союзных войск. И не для этого ли только и явились эти лицемерные «спасители» в Россию, чтобы Владивосток к своим лапам прибрать (давненько зарились)? Адмирал, само собой, требований нахальных не удовлетворил, а отправил приказ начальнику Приамурского военного округа: «Повелеваю вам оставить русские войска во Владивостоке и без моего повеления их оттуда не выводить. Интересы государственного спокойствия требуют присутствия во Владивостоке русских войск.
Требование о выводе их есть посягательство на суверенитет права Российского Правительства.
Сообщите союзному командованию, что Владивосток есть русская крепость, в которой русские войска подчинённые мне и ничьих распоряжений, кроме моих и уполномоченных мною лиц, не исполняют.
Повелеваю вам оградить от всяких посягательств суверенные права России на территории крепости Владивосток, не останавливаясь, в крайнем случае, ни перед чем».
Не отстали от ушлых заправлял и «братья»-чехи. Подсуетились тут как тут с меморандумом: «Охраняя железную дорогу и поддерживая в стране порядок, войско наше вынуждено сохранять то состояние полного произвола и беззакония, которое здесь воцарилось. Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрел без суда представителей демократии, по простому подозрению в политической неблагонадёжности, составляют обычное явление, и ответственность за всё перед судом народов всего мира ложится на нас: почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию». Описывали свои собственные «подвиги» и приписывали их без зазрения совести русским военным органам, чья вина состояла в том, что допустили «братьев» до карательных операций в районах восстаний, чтобы не снимать с фронта свои части. А половину и вовсе придумали для того, чтобы вескости придать в глазах «цивилизованного мира». Русские деревни оный мир не сильно встревожат, а, вот, «расстрел представителей демократии»… Куда там Ильичу с Троцким до кровавых колчаковцев! А всего-то цель была у этой гнусной бумажонки – получить разрешение на выезд из этой страны, а чтобы без сучка и задоринки он проходил, чтобы предоставлена им была «свобода к воспрепятствованию бесправия и преступлений, с какой бы стороны они ни исходили». Читай: дозвольте нам защищать украденные нами поезда от частей отступающей армии, ежели она, устав месить грязь, захочет всё-таки заполучить в них места. Есть ли предел подлости?!
Не могло не быть связи между восстанием во Владивостоке (а там без Гайды не обошлось) и этим меморандумом. И адмирал сразу угадал её, угадал и смысл этих акций:
– Хотят добиться права вмешательства своей вооружённой силы в русские дела и избрали своим орудием политическое интриганство и шантаж. Могли хотя бы более прилично вести себя.
А им в приличиях нужды не было. Они уже смотрели на омское правительство, как на отыгранную карту…
«Меморандум» вызвал большое возмущение в патриотических кругах. В них, вообще, многое вызывало возмущение. Особенно, в кругах монархических. Доходило до серьёзных скандалов. В салоне генеральши Гришиной-Алмазовой, муж которой недавно был убит красными, когда направлялся с Юга обратно в Сибирь, везя какие-то бумаги от Деникина, которые, к счастью, успел уничтожить, во время жаркого спора застрелили офицера. Дело замяли, но салон был закрыт.
Сдавали, сдавали нервы у всех. И было отчего! В тылу и по пути отступающей армии множились восстания. Из Минусинска какие-то страшные легенды доходили о банде Щетинкина. Там, в области той, жили преимущественно старосёлы, и не было бедняков. А поверили проходимцу, что за Царя идёт! Призывал их бить белогвардейцев и большевиков! И уже в действующую армию лазутчиков понабилось, агитировали солдат: перебейте своих офицеров, а мы комиссаров перебьём, выдайте нам Колчака, а мы вам – Ленина. Развешивали уши! Чем не дело – баш на баш! Замиряться надо! Понужай!
Это словцо, кем-то брошенное, «понужай» – стало лейтмотивом всего отступление. Как с Германской бежали – «крути, Гаврила!», так здесь – «понужай!». Отступали истомлённые, частью разложившиеся, деморализованные части, поглатывая своей бесформенной массой боеспособное ядро. Впереди красная армада. По бокам – банды. На железной дороге – чехи. Позади – прогнивший тыл. Безнадёжье охватывало! Читал это безнадёжье Кромин в глазах и понимал: Омска не отстоять. Ещё в сентябре он надеялся на лучшее, он не одобрял плана Дитерихса об заблаговременном оставлении столицы, но, покочевав по частям разгромленной армии понял, что надеждам не суждено оправдаться.
Тут-то и настигло Бориса Васильевича известие об отставке Дитерихса. Ещё недавно обрадовался бы. Не любил Кромин этого религиозного фанатика. А к тому казалось ему, что Михаил Константинович нарочно старается всё делать наперекор Верховному. И сам Александр Васильевич жаловался, что доходит генеральская самостоятельность до того, что приходится напоминать ему, что лицо решающее всё-таки пока ещё Колчак. Упорные слухи ползли, будто бы монархические круги хотят сместить адмирала и поставить на его место Дитерихса. Сам бывший заговорщик, Борис Васильевич не мог от этой информации отмахиваться. И подозревал, и не доверял Главнокомандующему. И находил, что Михаил Константинович сознательно подводит адмирала. Может, просто из-за личной неприязни. Уж очень разные были люди, и никак не уживались между собой. Дитерихс с его фанатичным монархизмом должен был, положительно, видеть в Колчаке демократа, отступившего от светлых идеалов монархии. Для него Россия без монархии немыслима была. А Александр Васильевич готов был любую принять её, лишь бы то Россия была, а не Совдеп.
Вот уж не думал Кромин, что огорчится отставке генерала-мистика… А приходилось. Нельзя же так запросто коней на переправе менять! И какова замена! Генерал Сахаров! Кто таков? Что о нём известно было? Успел побывать в большевистской тюрьме. Монархист не меньший, чем Дитерихс, только что не в такой степени религиозен. Как военачальник ничем особым не отличился. Но с амбицией. И, говорили, изрядный оптимист. Весь план, уже в действие приведённый, разом насмарку пошёл! Эвакуация Омска, отвод армии… Нельзя же метаться так, распыляя скудные силы!
Адмирал изначально против воли принял план Дитерихса, и немного усилий потребовалось, чтобы убедить его пересмотреть решение. И общественность гудела. И пришла целая делегация Экономического совещания во главе с Гинсом. Ещё до отъезда на фронт у Кромина побывал Юшин. Шумел, горячась, что Омск оставлять нельзя ни в коем разе. Ну, с ним ясно: у него с тестем всё имущество сгорало безвозвратно при намеченном плане. А Гинсу почто не нялось? Сами ругали «союзников» подлецами и сами же боялись, как «союзники» посмотрят… А тут ещё Сахаров, как на беду, приключился. Он в отличие от Михаила Константиновича к адмиралу всей душой был расположен и, должно быть, желая ободрить, отнёсся, что не так всё безнадёжно, что есть шанс. И подумать не мог, чем его неосторожность обернётся. Как огонь на солому попал! Уцепился Верховный за эту надежду, как утопающий за соломинку. И снял Дитерихса, который тотчас и убыл во Владивосток. И назначил Сахарова, которому на попятную идти поздно было.
Чего не мог сначала понять Борис Васильевич, так это, почему убеждённый в своей правоте Дитерихс не попытался отстаивать свою точку зрения? Ведь прямой долг был его, если считал, что судьба армии от реализации его плана зависит. Повернулся и уехал гордо. Оскорбился. Нашёл время! А причина-то не та же, часом, была, что и у Будберга? Этот старый ворон всегда предпочитал свои мрачные прогнозы высказывать в узком кругу, но не стремился убедить в чём-либо Верховного, к которому относился явно пренебрежительно. Должно быть, себя ощущал человеком умнейшим. И это сознание весьма его гордыню утешало. Прогнозы его, впрочем, действительно, оправдывались. И Кромину казалось, что Будберг испытывает при этом определённое злорадство, что, вероятно, облегчало огорчение от провала дела. Будберг убеждён был, что Омск надо оставлять. Он давно говорил об этом. Но не пошёл с докладом к адмиралу, не воззвал, не изложил аргументировано, а тешил себя собственным даром предвидения и отсутствию его у других. Может, всем им в глубине души и хотелось, чтобы больше ошибок сделал Верховный, чтобы рухнул авторитет его? Да только вместе с ним гибло дело, а это словно и не понимали – «прозорливцы»… Причина была та же, что и у генерала Болдырева, покинувшего страну из-за нежелания подчиниться Колчаку (а мог бы быть Главнокомандующим…). Гордыня. Честолюбие, которое заставляло чувствовать себя несправедливо обойдёнными. Вот, что оказалось важнее Дела. Важнее России. Эсеры били Колчака слева. Монархисты подталкивали справа. И не на кого опереться было… А ещё были те, кто молчал не по гордости, а потому что – не спрашивали. Знали про себя и молчали, зная своё место, не спеша высовываться. Спросят – тогда пожалуй. А самим – зачем соваться? А ещё… А ещё – сколько раз сам Кромин промолчал? Сколько раз наливался язык свинцовой тяжестью и не поворачивался выговорить нелицеприятную истину, тяжёлые вещи и без того угнетённому Верховному? Окажись он в Омске в решающий момент, смогли бы оспорить господствующее мнение? И более того – поддержать (скулы сводило от мысли) Дитерихса? С Будбергом? Напомнить знаменитую фразу севастопольского героя адмирала Корнилова: «Москва горела, но Россия от этого не погибла». А ведь промолчал бы тоже… Слава Богу, в этот раз решилось всё без него, и он взаправду не мог повлиять, и хоть в этом совесть чиста была!
Вся эта чехарда едва не повлекла гибель всей армии. И в том, что спаслась она, не было заслуги командования, а только – природы, Господа Бога, умилостивившегося над страдальцами. На пути отступающих войск встала непреодолимая преграда: ещё не покрывшийся льдом Иртыш. Сзади наседали красные, впереди лежала река, которую не было возможности перейти. Задержись тёплая погода на несколько дней, и катастрофа была бы полной. В те дни Александр Васильевич не мог думать ни о чём другом, кроме как о судьбе армии. Весь уйдя в свои запавшие, блестящие от бессонных ночей глаза, он словно хотел достигнуть взором берега Иртыша, увидеть, что там происходит, он всем своим существом, каждым нервом был там, вместе со своей армией. Но Иртыш – не «союзники». Иртыш не предал. Ударили морозы, и река стала замерзать, и в последний момент армия успела переправиться.
Омск уже не надеялись удержать. Защиту обречённого города поручили молодому, но весьма грамотному и смелому генералу Войцеховскому. Кромин встречался с ним однажды. Отметил глубокую сосредоточенность, серьёзность красивого, породистого молодого лица, затенённого облаком печали. Он понимал, что не сможет отстоять города, но готов был стоять до конца. И того же требовал от своих подчинённых. Генерал Гривин отказался подчиняться приказаниям, что грозило подорвать дисциплину в войсках. Войцеховский вызвал бунтовщика к себе, уговаривал вспомнить о долге, но это не возымело действия. Многие решительные и жёсткие командиры в таких случаях терялись, и это приводило к смущению в войсках. Интеллигентный Войцеховский просто застрелил предателя, о чём немедленно подал рапорт командующему. Поступок генерала был признан правильным, и по указанию Сахарова на улицах города расклеили объявления о «подвиге генерала Войцеховского». Кромина при виде этих «афиш» передёрнуло. Такие прискорбные случаи следовало бы скрывать, а не похваляться ими перед всем народом, создавая почву для дополнительных толков.
Десятого ноября Омск покинуло правительство, отправившееся в Иркутск. Председатель Совета министров Пепеляев (назначили нужного человека на нужное место – но как же запоздало!) желал остаться с Верховным, но тот приказал ему уезжать. А сам оставался. Адмирал должен был покинуть свой корабль последним… Его уговаривали уехать, он отказывался, говоря, что хочет разделить судьбу своей армии. Каким образом, если армия шла пешком, а ехать предстояло поездом? Но здесь эмоции брали верх над здравым смыслом, и бесполезно было настаивать.
Кромин не находил себе места в эти последние дни. Его тяготили два долга. Долг перед другом и долг перед адмиралом. Честь требовала до последнего оставаться с Александром Васильевичем. Хотя бы потому, что не без его, Кромина, руки взвален был на него страшный крест власти, и, значит, нужно разделить этот крестный путь. И никаких сомнений не было бы, за свою судьбу мало страшился Борис Васильевич, но было ещё обещание, данное Петру. Позаботиться о его belle dame. Это нужно выполнить было. Можно, конечно, было просто посадить Евдокию Осиповну на поезд и отправить, но слишком знал Кромин, на что стали похожи дороги. Одну отправлять никак нельзя. Найти надёжного сопровождающего? Где его найдёшь! Все надёжные, кого знал – на фронте. А здесь – только на себя и надежда. Значит, ехать самому. А как же оставить адмирала?
Двенадцатого утром явился к Александру Васильевичу. По городу шушукались о нём – роковой человек! На него и впрямь, как в яму, всё сыпалось. И не только в политике, на фронте. Ещё в сентябре в отсутствии Колчака в его доме прогремел взрыв, произошедший вследствие неосторожного обращения с гранатами. Несколько солдат караула погибли. Не успели отстроить и освятить новую караульную, как в гараже возник пожар. В тот день лил нескончаемый дождь, сопровождаемый шквальным ветром, и среди этой беспросветности и сырости полыхало огромное зарево, вокруг которого суетились солдаты и пожарные. Адмирал, неподвижный и мрачный, стоял на крыльце и наблюдал за тушением пожара, и отблески пламени освещали его бледное, измученное лицо, отражались в чёрных, бездонных глазах.
– Вот, Борис Васильевич, дотянули мы до годовщины, – хмуро сказал Колчак.
Вспомнил Кромин, о чём и забыл, закрутившись: через несколько дней же – годовщина переворота!
– С «отличными» результатами подошли к ней, – травил нещадно собственную душу, сохраняя внешнее спокойствие. – Деникин Москвы не взял и отступает, Юденич отброшен от Петрограда, а мы… Знаете, дорогой Борис Васильевич, какая смерть самая гнусная? Смерть от рук «товарищей»! Словно живьём быть поглоченным свиньями…
– Александр Васильевич, если удастся закрепиться на линии Новониколаевск-Томск, то, перезимовав, мы вновь сможем перейти в наступление, – фальшиво прозвучало, словно Сахарова из себя разыгрывал, но в безнадёжных глазах адмирала блеснула искра. Но и погасла тотчас.
– Все предали нас. Все бегут. Все думают, будто я держусь за власть, а я отдал бы её с радостью тому, в кого поверил бы. Где такой человек?
Не так ли отрёкся ошельмованный, преданный, разуверившийся во всех Император? И прав был Пётр, когда так рьяно доказывал Кромину его неправоту?
– В том, что произошло, нет вашей вины, – зачем-то сказал.
– Вы ошибаетесь, Борис Васильевич, – голос адмирала стал жёстким. – Побеждённый виноват всегда! Запомните это. Не судят только победителей, а побеждённым – горе! И это справедливо!
– Когда вы намерены покинуть город?
– Не раньше, чем убежусь в том, что его покинули все, кто этого желал. Я не желаю, чтобы вдобавок ко всему, что обо мне говорится, присовокупили ещё и то, что я бежал, бросив людей, бросив армию на произвол большевиков. Этого не будет!
Адмирал оставался на корабле, так и думал Кромин. Значит, и ему надлежит остаться с ним. Чётко явилось это убеждение. А для Евдокии Осиповны найти хорошего сопровождающего. Всего лучше, какую-нибудь порядочную семью. Не бросят же её, любимицу публики, на произвол судьбы. Так и сделать. Решил и на душе сразу спокойнее стало, но в ту же минуту Верховный из обретённого равновесия вывел:
– Вы, Борис Васильевич, уезжайте сегодня.
Изумился Кромин:
– Как же так? А не могу, Александр Васильевич. Как же я поеду, если вы ещё здесь?
– Вы приедете в Иркутск раньше меня, успеете осмотреться и потом доложите мне обо всём, когда я приеду. Кому ещё я могу доверять?
– Александр Васильевич, я прошу вас позволить мне остаться и сопровождать вас.
– Не позволю. Вы должны выехать сегодня же. Это приказ.
Приказ есть приказ… Значит, само собой решилось: и долг перед другом выполнить, и не подводить адмирала. Но точило что-то. Омрачился. Александр Васильевич подошёл, крепко взял его за руки, посмотрел тем тёплым взглядом, которым всегда так располагал людей:
– Прощайте, друг мой.
Впервые за всё время другом назвал… Ком к горлу подкатывал, хотя никогда не был Кромин чувствителен. Нет, слеп он был тогда, год назад. Слеп. Разве мог стать жёстким и грозным диктатором этот рыцарь с его болезненной щепетильностью, впечатлительностью, ранимостью, его чуткостью к людям, его мягкостью? Эта мягкость так старательно скрывалась им под маской суровости, но все (особенно проходимцы) очень быстро отгадывали её, пользовались ею. Для Колчака люди никогда не были средством для достижения цели, а оставались людьми. А те, с которыми приходилось работать, быстро делались близкими, с которыми трудно потом разрывать было, к которым прикреплялся душой. Он не мог лгать сам и не терпел лжи в других. Он мог быть и был решительным и твёрдым в вопросах, своё мнение по которым уверенно считал верным. Но это был – флот. Это была – наука. Но не политика. И не сухопутные операции. Здесь неизбежны были влияния оказавшихся рядом, а кто оказывался? Старшие начальники, наиболее знающие слишком высоко ставили себя, чтобы напрашиваться. Младшие готовы были, но не имели опыта. И проходимцы готовы были. Льстить, лгать, потакать, играть на чувствительных струнах. Колчак на протяжении всего года своего правления так и остался один, как на том вечере, на котором он ещё не ведал, что его судьба решается за его спиной. И Кромин не смог ничем помочь, оказавшись и сам беспомощным в решении вставших вопросов. Почему он так уверен был, что Александр Васильевич идеальная кандидатура на роль диктатора? Потому ли, что не видел других? А диктором не мог стать романтик, каким являлся адмирал. Что были его полярные экспедиции? Его увлечённость восточными военными теориями, любование старинным самурайским мечом в отблесках пламени? Его настойчивое желание делить тяготы своей армии, из-за которого он зимой принимал парады в одной шинели и слёг с воспалением лёгких? И это теперешнее нежелание покинуть своей столицы до последнего часа? Романтизм, чистой воды романтизм! И идеализм. Романтизм и идеализм – прекрасные черты, но преобладание их в характере опасно для политика, для человека, облечённого властью.
Только в прощальную минуту всё это отчётливо осознал Кромин. Посмотрел мутнеющими от подступающих слёз глазами на адмирала, сжал ответно его руки:
– Прощайте, Александр Васильевич! И простите меня!
Тем же утром выехал с Евдокией Осиповной из города. А Колчак, как узналось, отправился на другой день. И в тот же вечер Омск был охвачен огнём, и отблески его напоминали те пожары, которые преследовали адмирала в последние месяцы.
Смутно было на душе у Кромина. Будто бы ледяная длань сердце сдавила. А поезд плёлся еле-еле, часами простаивая на станциях и в открытом поле. Такими темпами – сколько ж до Иркутска добираться? И поезд Верховного так же плестись будет?.. Почему же раньше не уехали! Уже бы были там! Уже бы работа шла! Изнывал от вынужденного бездействия, от оторванности от своего адмирала, которого всё-таки нельзя было оставлять, даже несмотря на приказ!
А тут ещё проклятый этот эшелон… Дёрнул чёрт в вагон подняться. В темноте сперва даже не сообразил, почему это пол под ногами странно шевелится – а это вши были. Передёрнуло. И сразу удушливым смрадом окутало. На грязных койках лежали люди: уже окоченевшие и ещё живые, молящие о помощи – вперемешку. И поднялся навстречу пожилой врач. Тоже больной, но ещё не в бреду. Махнул слабой рукой, прошептал:
– Уходите отсюда! Вы не поможете ничем!
Как индульгенцию дал! Чуть не опрометью выскочил из вагона от этой мерзостной картины, а навстречу – belle dame с глазами расширенными и вопросом на прекрасных устах:
– Как же допустили?
Увлёк её обратно в теплушку. Слава Богу, как раз тронулся эшелон. Но ненадолго. Получаса не прошло, как опять встали, и минут через сорок выяснилось, что – насовсем. Паровоз сломался, а другого не достать – все чехи позабирали. Приехали! И куда теперь? Хорошо ещё сам с Евдокией Осиповной поехал, а то как бы Петру в глаза смотрел потом…
А пассажиры уже бежали в соседние деревни – нанимать подводы. Ну, что ж, делать нечего – придётся присоединяться к пешему потоку. Благо одних саней достанет при скудости скарба. У Евдокии Осиповны, к кочевой жизни привычной, всего один чемодан был, и у Кромина – тоже. Помог ей выйти из вагона, наказал ждать себя и заспешил в деревню, пока там ещё не всех лошадей расхватали.
Сани с лошадью Борис Васильевич раздобыл неожиданно легко. Ещё и крупой на дорогу запасся. Возвратившись к поезду, он застал Евдокию Осиповну к компании живого мертвеца. Этот, правда, живее был, чем те, из эшелона санитарного, но тоже без слёз не взглянешь: сидел, весь дрожа, на снегу, до костей иссохший, оборванный, обмороженный, плакал беззвучно. И Криницына вокруг него, что сестра милосердная, суетилась. Уже и пуховым платком своим шею ему укутала – не пожалела. Завидев Кромина, шагнула к нему, заявила решительно:
– Борис Васильевич, этот человек поедет с нами!
Сама ошалоумела, и его хочет с ума свести…
– Евдокия Осиповна, в здравом ли рассудке вы? Он же вот-вот умрёт!
– Он выживет! Я лучше знаю!
– Послушайте…
– Нет, это вы послушайте! Неужели вы не понимаете, что на его месте мог оказать кто-то из наших близких?! Кто-то из них также тянул бы руки, моля о спасении, а все отворачивались бы, спасая себя!
– Вы же видите, что таких, как этот несчастный, сотни, если не тысячи… Мы не можем помочь всем!
– Вижу. Мы не можем помочь всем, Борис Васильевич. Но давайте поможем хоть одному человеку. Он же не к другим подошёл, а ко мне. Понимаете? Ко мне! Значит, я теперь перед Богом за него отвечаю. Если вы откажетесь взять его, то и я не поеду.
И ведь не поедет. Правду Пётр говорил: такая хрупкая с виду, а сколько силы и решимости! Ох, удружил друг любезный! Всё-то на кроминскую голову… Махнул рукой: с сумасшедшими не поспоришь. Огляделся кругом. По протоптанному тракту вереницей ползли беженские обозы. Кого тут только не было! Престарелые сановники и интеллигентные профессора, нежные барышни, благодетельные матроны, дети… Вон, проехал священник со всей фамилией: перепуганные лица его и матушки… Вся Россия в этом потоке уходила невесть куда, спасаясь от красной лавины. Так, должно быть, в древности бежали от батыевых полчищ. А вдоль дороги лежали трупы лошадей. И людей. А на одном – тулуп неплохой был. Подошёл Кромин решительно, стал, внутренне содрогаясь, снимать. Нет-нет, это не мародёрство, это попытка спасти жизнь другому… Это же не для себя…
– Господи, Борис Васильевич, нельзя же! Что вы делаете?! – испуганно воскликнула Криницына.
– Можно, Евдокия Осиповна. Вы же не хотите, чтобы этот несчастный, у которого нет ничего, кроме рваной шинельки, окоченел в пути?
Потупилась. То-то же. Подошёл Кромин к нежданному попутчику, нахлобучил на него тулуп, ухватил охапчиво (лёгок он был, как младенец!), усадил в сани. Тот прошептал что-то обмёрзшими губами. Должно было это «спасибо» обозначать. Может, и права belle dame, нельзя же живую душу подыхать оставить, как собаку. Так и самого могут однажды… Помог и ей усесться, впихнул два чемодана и узел со снедью, сам – за кучера.
– Н-но! Понужай!
Тронулись сани, а Саша Колокольцев всё не мог поверить своему счастью. Да ещё и не осознавал его вполне затуманенным рассудком. Только чувствовал тепло от накинутого на него тулупа и тончайший аромат духов от пухового платка, которым ангел обернул его шею…
Саша Колокольцев был из тех юнкеров, которые ещё в декабре Семнадцатого восстали против большевиков в Иркутске. Семья Колокольцевых издавна проживала там, занимаясь торговым делом. Отца Саша худо помнил. Помер родитель, тяжкой хворобой замученный, во цвете лет, когда младшие сыновья его, Саша и Юрик, ещё совсем малы были. Запомнились похороны. В Тихвинской церкви отпевал папеньку отец Дамиан, красивый, густоголосый священник, крестивший здесь же Сашу, его братьев и сестру. Папенька лежал в гробу иссохший, пожелтевший, и так странно было, что он, всегда сильный, весёлый, громогласный и деловитый, вдруг стал таким. И заплаканная мать подвела младших детей для последнего целования. Саша помнил, как поцеловал отца, помнил, что пахло от него воском, помнил, что так взволновался тогда, что упал в обморок прямо в церкви, и его отнесли домой. То была первая горькая утрата в его жизни. Если бы последняя!
Матери пришлось семейное дело взвалить на свои плечи. Тяжело ей это было, и подточили непосильные труды её крепкое здоровье, состарили до срока. Спасибо ещё дядька Ефрем пособлял, крестный Юрика. А то бы совсем несладко пришлось. Хотя и так несладко было. До того, что старший брат Андрей, учась в Иркутском военном училище, вынужден был помогать матери в делах и давать частные уроки. Он умён был, Андрей. Успевал всё. И прочили ему большое будущее. И с фронта приехал он в чине поручика. Юрик с Сашей, уже сами юнкера в ту пору, любовались братом. Очень Андрей был на отца похож. Такой же рослый, деловитый. Разве только строгости после фронта добавилось. Приехал он в отпуск, но не спешил уезжать. Рассказывал, что фронта больше нет, что солдаты бегут, что офицеров убивают. Размышлял, не подать ли в отставку. А тут и октябрь пришёл, и захватили власть большевики. И в Иркутске тоже. А захватив, объявили, что военные училища расформировываются, а все звания отменяются! И потребовали сдать оружие!
Восстание вовсе не подготовлено было. Офицеров в городе было мало, и юнкера старших классов уже успели получить производство и разъехаться. И не все оставшиеся готовы были решительно бороться. Третья школа прапорщиков (позор несмываемый!) вовсе заняла нейтральную позицию, сговорившись с большевиками. И из двух других сотня трусов набралась. Из них и предатели нашлись: донесли «товарищам», что готовится восстание. Иркутское училище стало центром его, а командиром единогласно избрали юнкера своего преподавателя полковника Никитина.
Первые дни восстания будоражили кровь и воображение! Что-то сладко кололось внутри – словно шампанское! И сорокаградусный мороз лишь добавлял бодрости. Ведь подумать только: шестьсот, всего шестьсот юнкеров против шести тысяч большевиков выступили! А последних все уголовники Сибири поддержать собрались. Стекались в Иркутск банды каторжан из Омска, Томска, Красноярска, Ачинска, Канска… Зверьё в человеческом обличье, они готовы были стереть с лица земли любого, кто покусится на власть, давшую им свободу. А ещё был у большевиков резерв: солдаты запасных полков. Их до шестнадцати тысяч в городе стояло. И если бы всех выставили… Но, видимо, не у всех было желание рисковать шкурой.
У юнкеров резервов не было. Эсеры, обещавшие помощь, с первых же дней подло скрылись, выжидая, чем закончится дело. Правда, пришли на выручку казаки генерала Оглоблина. Очень они помогли юнкерам. Совместными усилиями завладели центральным районом города. Тогда погиб товарищ Саши, юнкер Переверзев. Смертельно раненого шрапнелью, которой наряду с гранатами большевики вели обстрел из-за Ангары, его успели дотащить до захваченной казаками детской больницы, но помочь уже нельзя было.
К ночи стало известно, что на помощь «товарищам» идут рабочие Черемховских угольных копий. Встретили их у понтонного моста на Ангаре. Шла, надвигалась густой массой тёмная толпа, среди которой – женщины. Тащили мешки пустые – явно намеревались пограбить «буржуев». И Андрей, этой операцией руководивший, скомандовал – зычно прозвучал его голос в ледяной ночи:
– Огонь!
Дали залп. Попадали первые убитые и раненые. Несколько выстрелов ответных – «в молоко», не умели стрелять черемховцы. Дрогнула толпа, побежала, не побеспокоилась даже о своих павших товарищах.
А каторжане и примкнувшие к ним солдаты бесчинствовали на улицах Иркутска: громили лавки, грабили магазины и частные квартиры, насиловали женщин. К дядьке Ефрему ворвались двенадцать солдат (или переодетых каторжан – не разобрать!), жестоко избили его, кинули связанного и набросились на семнадцатилетнюю дочь Марфиньку. Отчаянные крики её слышали соседи, но никто не пришёл на помощь, боясь за себя. Над несчастной глумились на глазах отца. Насиловали по очереди, а затем убили «за сопротивление». Из дома вынесли всё ценное. Дядька умер через несколько часов – не выдержало сердце.
Вот, когда улетучилось восторженное настроение Саши Колокольцева! Вот, когда понял он весь ужас происходящего! А ведь так могли и к ним в дом прийти, к его матери, к его сестре Любане… Он видел истерзанное тело Марфиньки, ровесницы, всегдашней подружки по детским играм – узнать было нельзя. О, если бы он оказался рядом! Если бы оказались рядом Андрей и Юрик! Но никого не оказалось, никто не пришёл на помощь, не вырвал из лап мучителей. А изверги бродили теперь по ночным улицам, пьяные, озверелые, и ломились в другие дома!
Бои, между тем, шли уже возле родного дома. Красные, на подмогу к которым подошли бойцы из Ачинска и Красноярска, захватили Тихвинскую церковь, осквернили её и загадили, повели наступление по Амурской улице, прямо мимо дома Колокольцева – весь он после этого пулями искорябан был, и одно окно разбили. Но уж здесь насмерть стояли! К вечеру оттеснили большевиков и командира их, товарища Лазо с бойцами в плен взяли. В этом бою потеряли нескольких человек, и ранен был навылет в плечо брат Андрей. Но держался, только рану перевязали – и снова в строю.
На девятый день большевики были разбиты. Их было убито более двухсот человек. Юнкера и казаки потеряли около шестидесяти. Много погибших было среди гражданского населения, включая детей. Немало домов оказалось разрушено артиллерией, пострадало от пожаров. Тут-то и повыползали из всех щелей трусы-эсеры, и присвоили себе чужой кровью добытую победу, заключили с большевиками перемирие, а те, чуть дух переведя и укрепившись, разорвали все договорённости, и оказались все жертвы героических дней восстания напрасными, а победа украдена.
Смириться с этим братья Колокольцевы не могли. Иркутское восстание было для них и многих их друзей только началом борьбы.
С той поры, почти два года, Саша Колокольцев воевал. За это время практически никого из тех, кого он любил, не осталось на свете. Осенью минувшего года скончалась мать. С ней братья даже не успели проститься, и не смогли собраться вместе, чтобы помянуть. Откладывали до победы… Юрик умер от заражения крови весной, в самый разгар наступления. Счастливец! Он умирал, зная, что армия победоносно движется вперёд, и Россия скоро будет свободна! Андрей был лишён этого утешения. Он погиб в сражениях под Уфой, когда армия уже отступала.
На всём белом свете осталось у Саши только сестра. Любаня. Она была старше его восемью годами. Умная, волевая, она была верной помощницей матери до последних её дней. Она и схоронила её, а затем отправилась на фронт сестрой милосердия.
И ничего Саша не знал о ней. Отступала ли она в рядах разгромленной армии? Ехала ли в одном из эшелонов? Слегла ли в тифу? Попала ли (не приведи Господи!) в плен? Да просто-напросто – жива ли?! Саша свято верил, что Аглая жива. Верил, как в Бога, который после всех утрат стал ещё ближе ему. Верил, что где-то бредёт она меж отступающими. И, значит, надо её найти! Может, только из-за этой веры, только из-за этого желания он до сих пор не умер сам. А должен был умереть по всем законам…
Саша плохо помнил последние недели. Его память была поглочена тифозным жаром. Трудно было разобрать, что происходило наяву, а что грезилось. Перед глазами, терзая, разрывая на мелкие куски несчастную голову, кружил калейдоскоп страшных видений: картины недавних боёв, отступление, мёртвый Андрей с пробитой пулей головой, давние похороны отца, и тягучее, неестественно растягиваемое:
– Со святыми упокой!
И словно не отца хоронят… Нет, не отца. Юрика отпевают. Плакал, целовал родное лицо братика, который всего на полтора года старше был, с которым так близки были.
– Юрик, встань! Прошу тебя, встань! Не оставляй меня!
Брат улыбался из гроба и молчал…
А потом являлись ночные улицы Иркутска. Ватага солдат и каторжан. Двенадцать изуверов. Это – не про них ли у Блока?.. Новые «апостолы»… Стоят кругом, а посреди них с перекошенным лицом – Марфинька… Окровавленная, в изодранной одежде, зовущая на помощь… Толкают её, гогочут, швыряют на землю… А это не Марфинька… Аглая! Родное лицо в смешных конопушках, страхом исполненное!
– Нет! Нет! Только не это!
Рвался к ней, а словно связан был по рукам и ногам, придавлен и не мог шевельнуться…
– Со святыми упокой!..
Потом исчезало всё во мраке, чтобы снова прийти. Понтонный мост, Ангара, загаженный храм, а в нём среди разгрома и нечистот бледный, осунувшийся отец Дамиан с крестом. Стоит над гробом, а он пуст. Не для Саши ли?..
Сохранила память обрывки реальности. Вначале ехал Саша в санитарном вагоне, а потом эшелон встал, и он выполз из него на воздух, и ел снег, и полз куда-то… Потом шёл, потом опять падал и полз… На ногах добрые валенки были – не сняли с бесчувственного, как ни удивительно. А на руках – ничего. Руки отмерзали. Он уже почти не чувствовал их, словно одеревенели. Посиневшие пальцы скрючились и не разгибались уже. А на левой руке два – отвалились…
Ещё помнил, что какой-то сердобольный мужик вёз его какое-то время на дровнях. А потом опять – снег, снег, снег… Небывалый, животный голод. Люди, которым до него не было дела… Ад!
И вдруг среди этого ада увидел Саша – лик ангела. Ангел стоял у красного вагона поезда, кутаясь в отороченную мехом шубку. Подошёл шатко, рухнул на колени, простёр изуродованные руки, простонал сквозь слёзы:
– Хлеба! Умоляю! Хлеба!
Ангел не исчез, не отшатнулся в испуге.
– Сейчас, миленький! Сейчас! Потерпите!
И, вот, уже кипяток вливался в онемевшие губы, оживляя нутро. И нежная рука отламывала маленькие кусочки хлеба и, размочив их, вкладывала ему в рот:
– Вам нельзя сразу много. Вот так, по чуть-чуть. Хорошо, – и сколько ласки в голосе прекрасном было! Ноги целовать этому ангелу! Но не было сил. Лишь рыдал беззвучно и пытался выговорить слова благодарности.
Ангела звали Евдокией Осиповной. Кипятком и хлебом не ограничилась она, а достала тёплый, дурманящим запахом духов пропахший пуховый платок, замотала им Саше шею, и, с болью глядя на его руки (на левой уже только два пальца осталось), стала растирать их снегом, какой-то смесью, отогревать своим дыханием, наконец, отдала свою меховую муфту. Гладила по плечу, по щеке, как родного:
– Потерпите, миленький. Всё хорошо будет.
Так хотелось рассказать ей об Аглае! Обо всём рассказать! А не мог, просто не было сил. От нежданной этой теплоты как-то ещё больше ослаб Саша, размяк. Уже и на ноги подняться не мог. И появившийся её спутник, коренастый, мрачный мужчина, уже почти бесчувственного обрядил его в чужой тулуп и усадил в сани. И теперь они мчались в белую даль. А ангел сидел рядом, шепча утешно:
– Всё хорошо будет, миленький. Вот, приедем в какую-нибудь деревню – поедите горячего, полегчает вам. И руки ваши мы отогреем. Обязательно.
Слёзы замерзали на израненных холодом щеках. Слушая ангельский голос, Саша закрыл глаза, и впервые перед взором не явились кошмары, а увиделся безоблачный летний день, золотящаяся в солнечных лучах Ангара, семейный пикник: в тени сидят отец с матерью, наблюдая за игрой детей в волнах царицы-реки.
– Саша! Саша, не заплывай далеко! – взволнованно кричит мать.
– Маменька, не волнуйтесь, я же рядом! – успокаивает Андрей, и мускулистое его тело, блестящее от воды, внушает уверенность – с ним рядом никакая волна не страшна. Они с Аглашей играют в мяч. Плещутся, резвясь, и Саша с Юриком, поднимают волны друг на друга. И брызги воды радостно искрятся в солнечных лучах, как брызги шампанского…
Глава 7. Последний путь
Конец ноября 1919 года. Москва
У зверя есть нора, у птицы – гнездо, Сын же Человеческий не имеет, где головы приклонить… Звери и птицы всегда найдут себе пропитание, а что делать человеку? Человеку, имеющему несчастье принадлежать к вымирающему классу культурных людей? Царь-Голод об руку с тифом и лихоманкой воцарился в Москве, унося каждый день обильную жатву. Проснувшись этим утром, Юрий Сергеевич явственно ощутил, что не имеет сил подняться. Говорят, что сон притупляет голод, но и сон уже не выручал, хотя никогда в жизни не позволял себе Миловидов спать столько. Он и теперь не позволил бы, но каков выход? Электричество подавали в новую эру лишь на несколько часов в день, а ночи в ноябре были ранние. И свечей достать не вот удавалось – по тем ценам, по каким шли они, приходилось экономить каждый огарок. А без света ничего делать нельзя. Только спать. Как в деревнях прежде: с заходом солнца ложились, с зарёй поднимались. Первобытные времена! И жаль только, что Москва – не деревня была…
Сон не спасал. Больше десяти часов мёртво проспал этой ночью, а хоть бы чуть сил прибыло. От пронизывающего холода, от истощения тело словно онемело, а в голове растеклась липкая муть, в которой путались мысли. Пролежал ещё с час, а потом всё-таки совлёк измученное тело с постели, похлебал кипятку с лепестками роз, именуемого теперь чаем, поплёлся, пошатываясь, на службу.
А лучше бы и не ходил… Для чего было ходить, чтобы созерцать, как гибнут без следа труды всей жизни? День за днём утекали куда-то бесценные предметы искусства. Один реестр погибшего в Зимнем дворце мраком душу окутывал, парализовывал. Мягкая мебель и портреты Андреевских кавалеров проткнуты штыками, шкафы и прочая мебель изломаны в куски. На полу, как рассказывали, валялись разорванные исторические письма, заметки, записные книжки… Рисунки Жуковского! Миниатюры, портрет Императрицы Елизаветы Алексеевны, незаслуженно забытой Государыни, о которой князь Сергей Александрович собирал материалы и хотел писать, но не успел, злодейски убитый Каляевым. Украли множество ювелирных изделий, включая оклад Евангелия, из которого последнее было варварски вырвано и брошено на пол. Особенно усердствовали погромщики в покоях последнего Государя и его отца. Изломали мебель, в клочья изорвали важнейшие исторические бумаги, книги, портреты изорвали штыками так, что и восстановить нельзя оказалось. Среди прочих дивную работу Серова – портрет убитого Императора… А сколько ещё бесценных реликвий, невосполнимых мелочей стародавней жизни было утрачено! Слёзы наворачивались от мысли. Хорошо, сам не видел всего этого, а только от видевших слышал. Ещё и о том, что на стенах погромщики похабные рисунки изобразили. Свобода опять же!
Но хватало Юрию Сергеевичу и того, что видеть пришлось. Только изъятие церковных ценностей каким ужасом было! Циркуляром Комиссариата юстиции от двадцать пятого августа постановлено было, что на местах проводится «полная ликвидация мощей». Руки дрожали, когда читал. За окаянные эти три года уже успели шестьсот семьдесят три монастыря уничтожить, и над остальными дамоклов меч навис – последние дни доживали. И давно уже принялись за разорение мощей, но теперь приобрело это новое ускорение. Вскрыли раки шестидесяти трёх русских святых. И ничья рука не отсохла! Газеты захлёбывались: «Сама жизнь в лице обманутых трудящихся масс сбросила тайные покровы с раззолоченных рак, и религиозная тайна рассеялась!»; «Долой церковные застенки с мощами! К ответу чёрную рать! Да здравствует свет и истина!» Сто лет бы не читал профессор этой мерзости. Но князь Олицкий всякий день, как на работу, ходил к месту расклейки свежих газет (купить их совершенно негде стало), читал всё подряд, а вечером пересказывал, снабжая ядовитыми комментариями, на которые был мастак.
Теперь новое горе: добирались не отсыхающие руки до раки Преподобного Сергия. Уже с большой уверенностью говорили, что Лавру скоро закроют, а мощи великого Молитвенника Земли Русской осквернят и уничтожат.
И не в силах был Миловидов ничему этому помешать. Утешал себя тем, что хоть что-то сумел отстоять, что музей ещё сохранился и не был разграблен. А сегодня объявили решение: закрыть его, распределив часть экспонатов по другим музеям, а часть… Это точно знал Юрий Сергеевич: продадут. Продадут, не указав даже куда, и не раскрыв, на что затрачены вырученные средства. Молодое советское государство нуждалось в деньгах. А культура, искусство… Не такие же ли это реакционные понятия, как совесть, патриотизм, любовь? И зачем только дано глазам всё это увидеть? «Уснуть и видеть сны…»
Раздавленный и почти бесчувственный, Миловидов брёл по улице. Москва превратилась в средневековый городишко. Выбоины на дорогах, грязь, помои… Чтобы это всё расчистить, месяца понадобятся! Падал редкий снег с унылого неба, смешивался с грязью, с жухлой листвой. Оголённые ветви деревьев диковато топырились, ожидая белого убора. Время от времени дома вдруг начинали налезать друг на другу, кружиться, покачиваться, и Юрий Сергеевич останавливался, зажмуривался, чтобы справиться с дурнотой. Собственное тело казалось ему совершенно невесомым – подует ветер, и унесёт. Но крыльев не было, а ноги отказывались служить, и каждый шаг давался с трудом. Прежде можно было сесть на трамвай, остановить извозчика. Но бывшему человеку такая роскошь не по карману.
Из переулка вынырнула согбенная женская фигура, тянущая за собой тележку (санки, поставленные на колёса), на которой лежал дощатый, необтёсанный гроб. Какая привычная картина стала за последнее время! Теперь даже у близких не осталось слёз, чтобы оплакать дорогих покойников. А одно только слово, почти завистливое: «Отмучился, сердешный!» И некому стало отвезти гроб на погост. И несчастные вдовы, сироты впрягаются в телеги и сани, заменяя собой лошадей, и тянут горькую и тяжёлую кладь в последний путь, изнемогая. Миловидов снял шляпу, перекрестился. Женщина посмотрела на него слезящимися глазами и, всхлипнув, потащилась дальше, а гроб загремел следом. Она была тоже из бывших культурных людей – Юрий Сергеевич угадал это. И муж её, должно быть, имел немалый чин. И, вот, конец… Тащит его полуживая супруга к последнему пристанищу, утопая в грязи и читая непристойные надписи на тянущемся вдоль улицы заборе.
Заборы – вот, единственная стала свободная трибуна! Вот, где идейная борьба идёт! И полный спектр мнений представлен: от «Бей жидов!» до «Смерть белогвардейцам!», от «Бей Ленина!» до «Смерть попам!» И уж конечно непечатными словами многое. Это и есть «свобода»: нацарапать на заборе неприличное слово, а того лучше, выкрикнуть его во весь голос. С упоением. Свобода варвара…
Долго блуждал Миловидов по городу, то ли пытаясь собрать свои разрозненные мысли и чувства, то ли истомить оставшиеся силы так, чтобы вовсе никаких не осталось ни мыслей, ни чувств. Наконец, внезапный толчок, чуть было не повергший его на землю, заставил Юрия Сергеевича очнуться. Это наскочил на него какой-то сильно спешащий молодчик с бычьей шеей и скуластым лицом. Само собой, и не подумал извиниться, а пёр дальше в полнейшем убеждении, что всё остальное должно расступаться перед ним.
Осмотревшись, Миловидов обнаружил, что ноги принесли его к Мясницким воротам. Здесь громоздилось некое странное сооружение, частично скрытое от взоров публики дощатым заграждением. Доски, впрочем, уже изрядно поредели, разбираемые на топку несознательными горожанами, и сооружение можно было рассмотреть. Это был изваянный футуристами памятник Бакунину. Нечто бесформенное и пугающее, не похожее не только на человека, но на любой какой ни на есть предмет. «Дух разрушающий есть созидающий дух» – было высечено на постаменте чудовища. Памятник духу разрушающему – актуальнее некуда! Этот дух властвовал теперь надо всем, и в его жутковатой атмосфере приходилось существовать…
Созерцая произведение футуристической мысли, Миловидов, наконец, решил, куда, собственно, он направляется. Возвращаться домой не хотелось, нужно было поговорить с кем-то, выговорить наболевшее. Побрёл в направлении бывшего Свободного театра. На набережной остановился, уставился на чёрную, ещё едва тронутую льдом гладь воды, борясь с очередным приступом тошноты и головокружения. Вода магнитом тянула его к себе, зачаровывала обещанием вечного покоя. Юрий Сергеевич боялся долго смотреть на неё. В последнее время им, вообще, стал часто овладевать безысходный, беспричинный страх. Не страх пред смертью, перед тяготами жизни, перед людьми, а более всего страх самого себя. Миловидов чувствовал, что нервы его истощены ещё более тела. Его всё чаще подводила память, и по временам он не мог вспомнить простейших вещей, которые знал всегда. Юрий Сергеевич боялся потерять рассудок, окончательно утратить контроль над своими расшатанными нервами. Но страхом этим даже поделиться не с кем было.
– Не надо, – вдруг произнёс мелодичный голос рядом.
Миловидов обернулся. В нескольких шагах от него стояла молодая девушка в пальто и платке. Причём платок этот был повязан ею не на революционный манер, а по-русски, по-монашески.
– Что – не надо?
– Того, что вы хотите сделать. Не надо! – повторила незнакомка и ушла.
Почему-то показалось Юрию Сергеевичу знакомым её лицо. Где же мог видеть? Проклятая память, как тяжело стало извлечь из неё что-либо… Припомнилась недавняя лекция. Слушатели – молодёжь. Сплошь революционная. Никому никакого дела до больного профессора, слабым голосом пытающегося донести до них какие-то вечные истины. Переговаривались, посмеивались. И нельзя было прикрикнуть на них, призвать к порядку. До слёз обидно было. Они предательски наворачивались каждую минуту, но сдерживался, терпел эту муку. Ещё и голос заставлял не дрожать от слабости. Наконец, истекло отведённое время, и слушатели расходиться стали, на профессора даже не глядя. И вдруг подошла девушка, протянула небольшой букет, сказал просто и искренне:
– Спасибо!
И убежала точно так же. Даже не успел Юрий Сергеевич поблагодарить её. А поблагодарить – так хотелось! В тот день порывом своим она буквально воскресила его, подала надежду, что всё-таки не напрасны его усилия. Если хоть одна душа откликнулась… Может, эта девочка в будущем продолжит дело сбережения памяти, культуры. И вспомнит добрым словом… Да что там! Просто радостно было живую душу увидеть.
Тогда упорхнула она. Исчезла и теперь, как мираж. И снова не успел Миловидов удержать её, спросить имя. А, может, она привиделась только? В больном воображении?..
Снег густел и уже покрывал белой заметью тротуары и карнизы домов. Когда Юрий Сергеевич добрёл до театра, даже мостовые были устланы тонкими снежными коврами.
В театре полным ходом шла репетиция. Герман Ильдарович сидел в первом ряду, устало объяснял что-то актёрам. Он уже не взлетал, как прежде, на сцену, чтобы показать, как нужно произносить ту или иную реплику, и каждый в театре знал – Сапфиров болен. Болен серьёзно. Надеялись, как всегда, на чудо, но в глубине души знали, что дни мастера сочтены. Он и сам знал это. Но не показывал виду. Утром наблюдал за репетицией, сам не участвуя в ней, ибо свою роль ему не нужно было оттачивать – он и ночью разбуженный сыграл бы её виртуозно. Вечером – выходил на сцену и играл так, что никто и заподозрить не мог, какого усилия воли это стоит.
Прежде Миловидов частенько бывал в театрах. Не было, пожалуй, такого спектакля в обеих столицах, какого бы он не видел, не было актёра, которого бы не знал. С иными и лично знаком был неплохо. А после катастрофы забыл в мир кулис дорогу. И лишь с появлением Сапфирова обрёл вновь. «Фауст», поставленный мастером, произвёл на Юрия Сергеевича впечатление потрясающее. За два беспросветных года ни одно событие не вызывало у него такого искреннего восторга и восхищения. Теперь он нарочно пришёл в театр, чтобы поговорить с Германом Ильдаровичем. Отчего-то казалось, что Сапфиров легче поймёт его, нежели кто-то другой.
Мастер сидел, укутавшись в плащ, скрестив руки на груди. В полумраке хорошо различимо было его бледное лицо. Заметив вошедшего Миловидова, он тотчас пригласил его сесть рядом:
– Что-то случилось, Юрий Сергеевич?
– Они приняли решение закрыть музей.
– Вы ожидали иного?
– Герман Ильдарович, да ведь это же катастрофа… Маленькая катастрофа, ставшая частью большой, всеобщей… У меня такое чувство, словно рухнула последняя опора, словно распадается всё.
– Всё, действительно, распадается, дорогой профессор. Но не стоит так близко принимать это к сердцу. Периоды распада естественны.
– Не утешайте! Они же разграбят всё культурное наследие… Мы даже не узнаем, что и куда делось. Мы навсегда потеряем величайшие произведения искусства! – с отчаянием воскликнул Миловидов.
Сапфиров вдруг сжал зубы и поморщился от боли, прикрыл на мгновение похожие на спелые маслины глаза.
– Герман Ильдарович, вам бы не стоило каждый день приходить на репетиции. Вы напрасно пренебрегаете советами доктора. Он, кстати, говорит, что операция могла бы помочь…
– Дмитрий Антонович на днях вступил в партию, вы уже знаете?
– Нет, я не слышал… Не думаю, чтобы он это сделал из искренних побуждений.
– А не всё ли равно, по каким побуждениям человек совершает гнусный поступок? – пожал плечами Сапфиров.
– Мне не менее вашего не нравятся большевики, но я не могу осуждать…
– Дело не в большевиках. Если бы доктор вступил в иную партию, я бы сказал то же самое. Потому что любая партия – гнусность. Представьте себе мозаику. Целиком она образует единую и прекрасную картину. Но что такое отдельный её кусочек? А представьте, когда такой кусочек заявляет, что он один составляет целую картину! Вот, это и есть партийность. Или представьте, что один какой-нибудь орган пытает представить себя всем организмом. Партии, профессор, это глупость и гнусность.
– Думаю, князь Владимир Владимирович не разделил бы вашего мнения. Он, как истинный англоман, считает партийный строй лучшим изобретением человечества. Он счёл бы вас за консерватора и ретрограда.
Сапфиров улыбнулся:
– Это было бы забавно, чёрт побери… Никогда ещё в ретрограды меня не записывали. Тоже глупость. Консерваторы – тоже партия. А я – вне партий. Партия навязывает своим адептам догмы, ограничивает их самостоятельность, лишает свободы мысли. Человек, вступающий в партию, отказывается от части собственного «я». Сам себя загоняет в кабалу. Я, профессор, против партий, против любого диктата.
– Вы анархист?
– Анархисты – тоже партия. А я – просто свободный человек. Не зависящий ни от кого. И своей свободы я не променяю ни на что.
– Советами доктора вы пренебрегаете из-за его партийности?
– Я не жалую докторов, Юрий Сергеевич. Да и какие его советы мне следует слушать? Меньше работать? Самый глупый совет, какой можно дать человеку, для которого работа единственное в жизни счастье. Если бы я работал меньше, так уже и не жил бы. Вы знаете ли, насколько продлевают мне дни выходы на сцену, вид зрительного зала, овации? Да ни одно снадобье не дало бы мне большего! А от операций увольте. Я не хочу кончить своих дней на больничной койке с распоротым животом. Я умру здесь, – Сапфиров указал рукой на сцену. – В крайнем случае, за кулисами, отыграв последний спектакль и услышав последнее «браво». Что может быть прекраснее такой смерти?
– Не боитесь отойти к Богу в образе Мефистофеля?
– Ничуть. Так даже красивее. Профессор, красиво прожить жизнь – это искусство. Но не меньшее искусство – красиво уйти из неё. Свою жизнь я прожил легко и красиво. У меня не было и нет ничего, что бы привязывало меня к какому-то месту. Ни дома, ни семьи, ни состояния. Один саквояж, с которым я исколесил полмира. Я видел многие страны, выступал на бесчисленном множестве сцен. Я изучал всевозможные вероучения, от христианства до буддизма, от оккультизма до конфуцианства. И подчас мне чудилось, что моя душа смутно помнит минувшие эры, в которые она несомненно жила. Я знал выдающихся и интереснейших людей. Я играл множество ролей, о которых можно лишь мечтать. Я никогда не голодал, но никогда не имел ничего лишнего, а потому избавлен был от забот об этом лишнем. Единственное, о чём я сожалею, что не родился веком раньше, чтобы встретиться со стариком Гёте, который один был умнее всех немецких философов и тибетских лам вместе взятых. Теперь осталось красиво уйти из этой жизни.
– А что, по-вашему, означает уйти красиво, кроме смерти на сцене?
– Чехов ушёл красиво. С бокалом шампанского в руках…
– Стахович покончил с собой…
– Нет, – Сапфиров опять поморщился. – Это некрасиво. Удавиться на ручке двери. Аристократу! Офицеру! Артисту! Никуда не годится.
– А если бы не на ручке двери?
– Воин, который падает на свой меч, чтобы избежать пленения, умирает красиво. Наша известная певица, принявшая яд во время выступления на глазах предавшего её возлюбленного, тоже ушла красиво…
– Вы, Герман Ильдарович, как-то уж очень режиссёрски смотрите на смерть, – покачал головой Миловидов.
– Я и на жизнь смотрю режиссёрски. А что, собственно, вы желали бы услышать?
– Не знаю… Церковь считает, что самоубийство это грех.
– Но я не церковь. Я вообще избегаю употреблять слово «грех». То, что совершенно естественно для одного, может оказаться греховным для другого.
– Это софистика…
– Отчасти. Но понятием «грех» я могу апеллировать только в отношении себя. Я знаю, что я не должен делать ни при каких обстоятельствах. Но я не требую того же от других.
– Мне, знаете ли, всегда было отчаянно жаль Шумана, – сказал Миловидов, возвращаясь к своей мысли. – Он чувствовал, что рассудок предаёт его. Он хотел покончить с этим прежде, чем ум его окончательно помрачится, чтобы не мучиться самому и не доставлять хлопот другим. А ему помешали… Выловили из воды, спасли. И он был обречён ещё годы провести в доме скорби. Зачем его спасли? Разве он не имел право так распорядиться?
Сапфиров тяжело повернулся в своём кресле, внимательно посмотрел на Юрия Сергеевича, сказал серьёзно:
– Вы мысль эту оставьте, пожалуйста. Я не церковь и не судья, но, если уж говорить не режиссёрски, а по-человечески, то самоубийство мне не кажется достойным исходом. Как вы считаете, профессор, у меня есть причины для него? Я отлично знаю, что жить мне осталось, в лучшем случае, полгода. И все эти полгода я буду обречён на мучительные боли, которые, в конце концов, станут невыносимыми, которые уже не одолеет даже морфий. Есть от чего прийти в отчаяние, как вы считаете? Но я же не прихожу! Наша жизнь, а сегодня особенно, предоставляет нам великое множество возможностей проститься с ней, не прилагая к этому собственной руки. Подобный ход был бы слабостью, бегством…
– Вы правы, конечно… – вздохнул Миловидов. – Я слишком растрепался. И это сегодняшнее известие… Я пойду. Простите, что отнял у вас время.
– О чём речь! – Герман Ильдарович с заметным трудом поднялся, крепко пожал ему руку. – Держитесь, профессор! Всё ещё наладится, – усмехнулся, – поверьте Мефистофелю.
– Спасибо вам, – тепло поблагодарил Юрий Сергеевич.
– До вечера! А, может, вы задержитесь до конца репетиции? Вернулись бы вместе. А то вы чересчур встревожили меня, страшно, чтобы вы шли один.
– Не беспокойтесь. То, что я наговорил вам, просто бред усталого человека… Не придавайте большого значения… Спасибо, что выслушали. Простите…
И снова тянулись грязные, едва припорошенные снегом улицы. И на одной из них опять видел Миловидов вдову, но теперь на её тележке лежал не гроб, а вязанка досок, дрова, которые тянула она из последних сил, чтобы обогреть свой угол, где, быть может, ждали её голодные дети. Слёзы подступали от этой картины, от вида испитого лица в ранних морщинах. И ничем не мог помочь Юрий Сергеевич её беде, отступил, пропуская её и сам провалившись при этом ногой в лужу.
Наконец, ступил в квартиру, переобулся спешно, не снимая пальто, прошёл в комнату.
– Надежда Арсеньевна, а нельзя ли поленце в печь бросить?.. Невозможный холод…
– Юрий Сергеевич, милый, так ведь дров нет у нас, – послышался в ответ усталый голос Олицкой. – Тимоша обещал к вечеру раздобыть.
Вот же расстепель… Полдня проболтаться по улицам и не сообразить прихватить хоть какую-нибудь доску! И нечего на слабость валить… Женщины и дети на себе возят и носят дрова и воду, а профессор-белоручка ни к чему не годен… Миловидову стало совестно, но идти искать дрова в промокших ботинках он не отважился. Укутался пледом поверх пальто.
– Надежда Арсеньевна, а вода-то хоть есть сегодня?
– Нет и воды. Володя пошёл за ней.
Миловидов представил себе князя Олицкого, тащащего вёдра с водой. Ничего не скажешь, дожили… И не стоило бы ему, право. Ему, пианисту, руки надо беречь.
– А Ольга Романовна?..
– На Сухаревку ушла с Илюшей. Я думала с ними пойти, да ноги разболелись опять. Дмитрий Антонович говорит, что это от холода и сырости, – последовал тяжёлый вздох. – Как мы надеялись, что к зиме уже Деникин придёт. А он так и не пришёл… Володя сегодня утром бегал читать газеты, что вывешивают. Пишут, что Деникин отступает. Троцкий уже похваляется разгромом обоих белых фронтов…
Голос Олицкой звучал монотонно, созвучно подающему за окном снегу. Больше всего она беспокоилась о муже, болезненно переживающем «неурядицы», жаловалась привычно на сумасшедший рост цен…
– Боже мой, а ведь раньше было центральное отопление, водопровод… Электричество! Даже неизвестно, дадут ли его сегодня хоть на несколько часов. Может быть, Володя прав, и надо уезжать? В Италию… Там сейчас так тепло, так солнечно… Мы с Володей там однажды целый год жили. Потом ещё в Париже, в Дрездене… Но Италия лучше. Там так спокойно, так тепло…
– Да, Надежда Арсеньевна, вам стоило бы поехать, – сказал Миловидов. При упоминании о Париже сердце болезненно дёрнулось воспоминанием о Мари и девочках. Несколько месяцев назад от них было нежное письмо. Мари же не приписала ни строчки. Спасибо, хоть не запретила девочкам написать…
– Вы думаете?
– Уверен. Вам необходим тёплый климат для лечения. И Владимиру Владимировичу нельзя дольше продолжать так… В Италии он наверняка смог бы обогатить культуру новыми произведениями.
– Но вы же не едете…
– А я, Надежда Арсеньевна, уже ничего и никого не могу обогатить.
– Зачем же вы так? Ах, Боже мой, вы ведь ужасно продрогли, должно быть… Я сейчас встану и вскипячу вам чаю.
– Нет-нет, не нужно! Мне надо немного поработать, пока дневной свет ещё не угас.
Юрий Сергеевич разложил на столе бумаги и, глубоко вздохнув, принялся за письмо. Писал он Луначарскому, надеясь убедить наркома в важности сохранения музейных экспонатов. Несколько раз такие обращения уже помогали, и теперь Миловидов решил снова прибегнуть к этому средству. Всё-таки рано было сдаваться, не испробовав все возможные пути. Руки дрожали не то от холода, не то от нервного напряжения, плед наброшенный на плечи согревал мало, и в глазах время от времени темнело, но мало-помалу черновой вариант письма начинал обретать приемлемые формы. Вот, как бы переписать его ещё должным образом. Да не так-то просто это, когда руки ходуном ходят. Попросить кого-нибудь? Неловко даже. И без того все заняты делом, и хватает всем своей усталости. Прерваться, выпить кипятку – может, легче станет…
В дверь постучали.
– Надежда Арсеньевна, не вставайте, я открою! – крикнул Миловидов поспешно и, оставив плед, направился к двери.
На пороге Юрий Сергеевич увидел незнакомую женщину довольно приметной наружности. Интересное, хотя несколько жестковатое лицо, крупный, как у горных красавиц, нос, зеленоватые, пристальные глаза, густые цвета тёмного янтаря волосы с редкой проседью… Одета при этом просто, ничем не выделяясь. Спросила низким, с лёгкой хрипловатостью, но приятным, впрочем, голосом:
– Это квартира Ольги Романовны Вигель?
– Да… Но её сейчас нет. Она будет только к вечеру.
– В самом деле? – женщина нахмурилась. – Это очень жаль. Мне непременно надо было её видеть.
– Так вы можете обождать её или зайти позднее.
– Увы, как раз этого я и не могу. Ни обождать, ни зайти позднее. Я в Москве проездом, и времени у меня нет.
– В таком случае, может быть, передать что-нибудь Ольге Романовне? Я старинный друг её семьи и здесь живу. Скажите мне, а я передам ей.
Женщина немного подумала:
– Как ваше имя?
– Я профессор Юрий Сергеевич Миловидов. А вы?..
– Это неважно, – женщина явно торопилась и не особенно заботилась о правилах хорошего тона. – Что ж, другого выхода у меня всё равно нет. – Достав крохотный свёрток, она протянул его Юрию Сергеевичу. – Вот, передайте ей это. Прощайте.
Последних слов Миловидов уже не расслышал. Он стоял, словно оглушённый, и всё окружающее плыло перед его помутившимся взглядом. В этом свёртке он увидел крест, крест, который не мог не узнать. Это был – Лёвушкин крест, крест, надетый на него матерью, её благословение… Лёвушка никогда бы не расстался с ним, если бы… Два года Юрий Сергеевич не имел вестей от старшего сына. Два года мечтал ещё хоть раз увидеть и обнять его. Два года боялся, как самого страшного в жизни, что придут, напишут, позвонят – и сообщат, что Лёвушки больше нет. И, вот, сбылось. Пришла эта странная вестница и принесла крест – как последнее сыновнее «прости». Как завещание. Как указание. В один день жизнь утратила последний смысл, прервались хрупкие нити, ещё привязывающие к ней. Кто сказал, что Господь никогда не посылает нам испытаний выше наших сил?.. Неправда! Этого последнего испытания, последнего сокрушительного удара уже не могла выдержать душа Миловидова…
– С вами всё в порядке?
Ах, не успела уйти сразу! Заметила, что как-то уж слишком посерело и без того прозрачное лицо профессора. Замешкалась.
– Вам нехорошо?
Словно не слышал. И вдруг, так и не ответив ничего, повалился на пол бесчувственно. Этого только и не доставало Полине! Как чувствовала же, что не надо в этот дом ходить! А теперь и не уйдёшь же! Не бросишь беднягу лежать так… Наклонилась к нему, крикнула:
– Эй, есть дома кто?
На зов из комнат тяжело вышла полная женщина с приятным лицом. Сплеснула руками:
– Господи! Юрий Сергеевич, милый, что с вами?! – подняла вопросительные глаза на Полину.
– Принесите воды, или какие-то соли… – едва унимала Полина раздражение. Время, драгоценное время утекало между пальцев. – Простите, я должна идти!
– Постойте! – что-то испуганно-молящее было в голосе женщины. – Помогите хотя бы перенести его в комнату, мне одной не справиться…
И следовало бы отказать, пускай бы сами разбирались, но не смогла. Дотащили профессора до комнаты (не тяжело вовсе оказалось – так лёгок он был, Полина бы и одна справилась), уложили. Пока перепуганная толстушка, видимо, больная ногами, ходила на кухню за водой, Полина положила на стол адресованный Ольге Романовне свёрток, выроненный несчастным стариком, и поспешно сбежала из квартиры, боясь, что ещё что-нибудь задержит её.
На улице уже сгущались сумерки, и от волнения Полина покусывала кончики затянутых в перчатки пальцев. Хоть бы уж не потеряли там записку в суматохе… Нужно было просто отказаться передавать её. Сущее безумие было: ехать в Москву под видом красной комиссарши и иметь при себе крест и записку деникинского офицера к матери. Да найдись это всё при обыске, случись таковой, несдобровать бы Полине! Но и не хватило духу от лишнего этого риска уклониться. Кто был ей капитан Николай Вигель? Посторонний человек. Но этот человек однажды, переборов собственное горе и усталость, пришёл к ней, чтобы передать последнее «прости»… Мог бы тоже не приходить. Не была она ни женой, ни сестрой, ни матерью тому, о ком пришёл он сообщить скорбную весть. Долг платежом красен. Да к тому же искренне посочувствовала Полина бедной старой женщине, оставшейся одной в Москве и так долго не имеющей никаких известий о родных. А потому согласилась передать весточку: крохотную записку, на клочке бумаги нацарапанную и крест. Вшила этот свёрток под подкладку пальто – Бог не выдаст, свинья не съест. И, вот, довезла благополучно. Немного тревожило, что не в собственные руки отдала Ольге Романовне. Но ничего не попишешь. Да и не кому-нибудь отдала всё же, а известному профессору. Полина труды его знала и, в Москве будучи, была когда-то давно на его лекции. А тут не враз признала – сильно переменился, сильно истрепала его жизнь.
Недолго оставались мысли Полины в доме Вигелей. Уже другие накатывали. В Первопрестольную приехала она лишь накануне. Большую часть пути проехала в обществе красноармейцев. Легко сошла среди них за свою, благо документ утверждающий её революционные заслуги, в контрразведке выправленный, с нею был. Хороший документ оказался. Полковник, который его ей вручал, пошутил: «С таким и в Кремль пустят!» Не знал, какую трепещущую струну задел. Так и загорелась сразу мыслью: в Кремль! В дороге солдаты к «товарищу Гербер» относились с большим почтением, а Полина вдохновенно рассказывала им истории из «своего революционного прошлого». Рассказывала и думала, что зря всё-таки положила свою цветущую жизнь на науку, а надо было в актрисы подаваться – таланта не занимать! Долго не хотели её в контрразведку принимать, но, когда приняли, то жалеть не пришлось. Полина словно рождена была для конспирации. Один Курск что стоил! Да разве один только Курск… Когда бы всё пережитое доверить бумаге, увлекательнейшая бы книга вышла! Жаль, некому будет написать.
Её поездка в Москву решилась ещё до Курска. В столицу уже посылали людей, но их перехватывали. Посылали и женщин, из доброволиц. Но удача не сопутствовала им, и они, отважные, приняли мученическую смерть в застенках чеки. Полина смерти не боялась. И мучений, которые ждали её в случае провала, она не боялась тоже. И легла карта наудачу с этой большевистской комиссаршей – решено было Полину в Москву послать. На возвращение её благополучное мало надеялись и поручения давали в один конец. В первую очередь, увидеться с оставшимися в столице представителями Национального центра, указали перечень имён и адресов, куда следовало наведаться. Все их Полина запомнила, чтобы не подвергать опасности людей наличием при себе списка. Столь важна была эта операция, что напутствие Полина получила от самого Главнокомандующего.
Когда решался вопрос о поездке, Добровольческая армия ещё победительно шагала, и велика была надежда на скорое взятие Москвы. Но покуда добралась Полина до столицы, ситуация на фронте переменилась. И совсем очевидно стало, что билет её – в один конец. Однако, все поручения требовалось исполнить вне зависимости от обстановки. И едва прибыв в столицу, Полина отправилась по указанным ей адресам. Далеко не всех удалось застать. Кого-то уже не было в живых, кто-то находился под арестом, иные покинули Москву, но хоть с некоторыми удалось снестись, передать всё, что требовалось. Ничего и никого не позабыла Полина, нигде не допустила оплошности. А теперь ждало её главное дело. Её собственное главное дело…
Время ускользало стремительно, и, экономя его, Полина наняла извозчика. Дорогое это было удовольствие, но она знала наперёд, что деньги ей после осуществления задуманного уже не понадобятся. Ехала, как пружина собранная. Каждый нерв напряжён, каждая клеточка тела. Так ли чувствовали себя террористы, ждавшие с бомбами и револьверами царских министров и самих царей? Не случилось в ту пору Полине в их число попасть. Хотя училась стрелять и выучилась блестяще. Хотя среди тех была, кто очередной акт приветствовал аплодисментами. Так казалось всё бездарно, что убийство каждого постылого радостью отзывалось. А ну-ка подбавить жару ещё! Чтобы жизнь им мёдом не казалась! Тогда, глядишь, сами отступят и освободят место! Если бы знать тогда, чем обернётся, если бы предвидеть…
Вот и к Кремлю подъехали. Расплатилась с извозчиком, докурила папиросу, пошла. Шла как-то деревянно, походкой военной. Документ безотказно действовал. Не ошибся полковник – все двери с ним открывались. Всё-таки невероятно повезло с этой большевичкой! Схожа с нею была Полина лицом, и успела изучить биографию её, и теперь перевоплощалась. И никто не заподозрил её. Погодите, узнаете скоро… Лишь бы волнение не подвело! Нащупывала в кармане револьвер. Ещё с утра проверила – осечки не даст. И рука не дрогнет. И глаз не подведёт. Её глаз промаха не давал, хорошо учили. Бомба бы надёжнее была, но её в кармане не провезёшь и не пронесёшь. Рискованнее. Да и не приходилось иметь дела с адскими машинами. Пуля не менее надёжна, если стрелок хорош. Даже волнение отступило куда-то, и развеселилась. Шла по Кремлю, пробралась в самую сердцевину большевистской власти! Кому бы такое ещё по зубам оказалось! А подорвать бы весь этот улей… Подлецы, засели в Кремле. Знают, что ни одна русская рука на Кремль, на святыню свою – не поднимется.
Того, по чью душу пришла, Полина увидела в коридоре. Он шёл ей навстречу в окружении нескольких человек, которых она не признала. Маленький, лысый, и что-то звериное в лице, в узких, недобро прищуренных глазах, сверлящих. Остановилась Полина, замерла в ожидании, рука с револьвером срослась. Вот, сейчас всё случится. Ещё мгновение, и… Приближался, жестикулируя живо. Кажется, совершенно оправился после прошлогоднего покушения. Много раз видела его Полина на фотографиях, на портретах, а вживую – впервые. Уже совсем в нескольких шагах он был, мешкал, отдавая какие-то распоряжения. И вдруг глазами встретились. И замерла Полина, словно это не глаза, а две пули выпущены в неё были, словно из глаз этих какой-то парализующий яд в её душу, в её кровь впрыснут был. И почудилась насмешка. Была бы верующей, непременно бы определила её сатанинской… Прошёл мимо неё, остолбенелой, и рука с револьвером в кармане осталась, так и не выстрелила…
Кремль покинула Полина, как в тумане. Она ненавидела себя всей душой. Такой шанс упустить! Пробраться в логово зверя и не убить его! И почему? Почему?.. Это не трусость была, нет. А словно бы гипноз… Надо было в спину стрелять! А, может, ещё не упущено? Попробовать ещё раз? Подкараулить и уже не смотреть в лицо, в глаза, а – в спину! Но подсказывало что-то, что второго такого случая не представится.
Как ни взволнована была, как ни раздавлена, а заметила Полина намётанным взглядом слежку. Видать, привлекла-таки своим странным поведением бдительных псов. Что ж, следовало ожидать…
Их было двое. Неприметные товарищи, они шли за ней, держась на равном расстоянии, иногда останавливались, курили, делали вид, что увлечены беседой. Но Полина разгадала их безошибочно. Прибавила шагу – ускорились и они. Петляла по переулкам тёмным – как тени следовали. Не скрываясь особо. Задерживать не спешили. Надеялись, что выведет на кого-то ещё? Напрасно, не на ту напали.
Нырнула в подворотню и сразу углядела впереди, в темноте – ещё двоих. Капкан захлопнулся. Вот, значит, и всё… Как жаль… Главного так и не удалось сделать. Но хотя бы всё, что поручено было, выполнила. И молодцев этих на хвосте не привела за собой к другим. Что ж, пора и честь знать! Полина оторвала от пальто пуговицу, в которую, как когда-то в перстни, была вделана ёмкость с ядом, ею же самой (вот, когда пригодилась учёность!) и изготовленным. В тот же момент двое впереди ринулись к ней, а сзади раздался крик:
– Хватайте её! Она нам живой нужна!
Ну, нет, товарищи, живую вы не получите. Белый порошок оказался слегка горьковатым, и Полина успела проглотить его за мгновение до того, как подбежавшие молодцы схватили её за руки. Что-то кричали они, разгневанные смехом в ответ на их слова, потом тащили по земле, по грязи, со снегом смешанной, куда-то, а душа разлучалась с телом. Без сожаления.
Глава 8. Последнее право
5-6 января 1920 года. Под Красноярском
– Стой! Кто такие?
– Да вы что, сукины дети, своих не узнаёте?! Товарища командарма не узнаёте?! Да я вас в распыл!..
– Просим извинить, товарищи. Тут близко колчаковцы. Так мы это, настороже!
– Всё правильно. Бдительность – первейшая защита от врага. Объявляю вам благодарность! А теперь скачите и известите ваш Совет о нас, а то чего доброго постреляете нас, приняв за колчаковцев!
Попались мужички на нехитрый трюк. По всему видать, из новобранцев были. Поскакали в село докладывать о приезде «командарма» с отрядом. Пётр Сергеевич хрипло прокашлялся, кутаясь в бурку:
– Как думаешь, Панкрат, не раскусят они нас раньше времени?
– Да кудыть им! – Панкрат презрительно сплюнул сквозь изрядную брешь в зубах. – Лапти, одно слово!
– Добро, коль так. Не засыпаться бы нам с нашей вылазкой! – предупредил своих отрядников: – Всем на чеку быть! Предельно!
А им, впрочем, и говорить необязательно было. Всё народ бывалый. И в разведку исключительно по своей охоте вызвались. Нужно было узнать о действующих окрест красных бандах и запастись фуражом для оголодалых лошадей. Первую задачу поставил командующий, вторую – жизнь.
В селе и впрямь не заподозрили подвоха. Совдепщики расстарались – в короткий срок тоже встречу торжественную организовали с флагами, плакатами и импровизированными речами. Здесь, оказывается, давным-давно ждали красной армии-освободительницы! Здесь, оказывается, давным-давно противостояли колчаковской тирании! Тем хуже для вас, тем хуже.
– А что, товарищи, велик ли ваш отряд? – осведомился Тягаев.
– Куда велик! Часть наших к партизанам примкнула, разошлась, а здесь нас только и осталось, сколько видите.
– А партизан много в вашем районе?
– А где мало их теперь? Щетинкин, сказывают, уже у Красноярска!
Загудели радостно. Щетинкин! Этого мерзавца только и недоставало! О приближении его уже точно известно было, потому и спешили так к Красноярску, чтобы опередить. Щетинскинские банды составляли большую силу. И встречаться с ними ни малейшей охоты не было.
– Щетинкин уже вот-вот здесь будет! К нам и человек от него был намедни! Да вы сами, товарищи, не встречали ли его?
– Мы с другого направления шли. Наши основные силы остались позади, а мы выехали вперёд, дабы разузнать положение дел и выбрать лучшее место, откуда мы могли бы нанести удар во фланг колчаковцам. Для реализации этого плана нам требуются надёжные люди из местных.
– Мы готовы оказать любое содействие, – заявил рослый бородач, по-видимому, начальствовавший в Совдепе.
Хорошо иметь дело с легковерным народом! Подробнейшим образом расспросил Тягаев «товарищей» о нахождении и численности партизанских отрядов. Рассказывали обстоятельно, хорошо рассказывали. Похвалились ещё революционными «подвигами»:
– Давеча разъезд беляков порубали. У них там какой-то капитан шибко попёр на нас. Трёх наших изрубил, сволочь! Ну, мы уж с ним поквитались! Погоны с лампасами вырезали на шкуре белой!
И сейчас бы приказал Тягаев мерзавцев этих изрубить! Знал он того капитана, растерзанное тело которого нашли накануне. Наизмывались русские люди над героем Германской, родная мать не признала бы… Стояли теперь, похвалялись. Вокруг народ толпился. Бабы, старики, детвора любопытная. И не разберёшь – сочувствовали или нет говоримому. Или просто такая обычная тяга поглазеть, рты разинув.
– А что с фуражом у вас? С продовольствием?
– Этого довольно!
– Добро! В таком случае приказываю погрузить две подводы для наших товарищей и лошадей. Мы остановимся здесь недалеко, и будем взаимодействовать с вами. Совместными усилиями разгромим колчаковцев и отстоим Красноярск!
– Ура, товарищи!
Как-то не в один голос подтянула толпа, и без воодушевления. Некоторые уже и по домам разбредались. Так-то и лучше. Совсем не нужна была здесь лишняя публика. Хотя и предлагал Панкрат всё село поджечь, но не поддержал Пётр Сергеевич. Что проку всё село жечь? Вся эта зевающая толпа виновата чем? Старики, бабы, дети? И польза – какая? Жгли уж деревни восставшие, а с того только больше у красных сторонников явилось. У Щетинкина того же. Как ни озлён был Тягаев, а отвергал крайние меры. Да и Владимир Оскарович никогда не одобрил бы.
За фуражом и продовольствием Панкрат с несколькими отрядниками отправился сам, приглядывал сколько клали, и много ли оставалось. Ещё и третью подводу велел нагрузить. Нагрузили послушно. И быстро-быстро покатили гружёные сани по снежному насту.
– А как ваша фамилия, товарищ командарм? – спросил бородач, хваставший более других расправами с колчаковцами.
– Полковник Тягаев!
Как гром подействовал ответ! И как молния – блеснувшие золотые погоны, скрываемые дотоль буркой, теперь скинутой. Посерели, вытянулись лица. И ещё никто не успел издать ни звука, как грянул первый выстрел – застрелил Пётр Сергеевич бородача. Ухнул верзила и плюхнулся в снег, почти не обагрив его – пуля аккурат в сердце попала.
– Белые! – раздались крики. – Бей их, братцы!
Но поздно было! Уже блеснули шашки в руках тягаевских отрядников и опускались на большевистские головы. Дождались молодцы заветного часа! Патроны жалели – маловато было их. Изрубили «товарищей» шашками в считанные минуты – отплатили за своих убитых друзей.
– Уходим! – скомандовал Пётр Сергеевич.
Уходить спешно надо было, чтобы не повстречаться с партизанами, которые могли прийти на выручку. Пришпорили усталых коней, понеслись сквозь снежное таёжное царство. Только великаны-деревья, лиственницы, пихты, ели и сосны, тянущие отовсюду свои мохнатые от снега лапы, толпились по обеим сторонам. Нет, не толпились вовсе! А стояли шеренгами, как почётный караул, как старые воины Лейб-гвардии Гренадёрского полка. И гудел ветер, и чудилось, что не просто гудит, а поёт – «Коль славен…».
Ледяна была сибирская зима. Но Пётр Сергеевич уже обвык к холодам, к сорокаградусным морозам. Да ведь их только благословлять можно было! Если бы не они, если бы не зима, поспешившая вступить в свои права, то кончилось бы стояние на Иртыше бесславной гибелью всей армии.
До Иртыша «допонужались» быстро, не сумев закрепиться на какой-либо линии обороны. Собственно, после отставки Дитерихса Тягаев утерял последнюю надежду на лучший исход. Дитерихс покинул армию, все планы его были перечёркнуты в один момент, армию возглавил генерал Сахаров, к роли этой не годящийся. Сахаровскую же почти разгромленную третью армию передали Каппелю. С ней и подошли к Иртышу в тех же числах, в которых больше века назад наполеоновские сапёры, работая по горло в воде, строили мосты через Березину. Но Иртыш Березиной не был. Сапёры беспомощно разводили руками. Река ещё не покрылась льдом, по поверхности её только-только начинало плавать «сало» и мелкие льдинки. Нужен был мороз! Не только армия, но десятки тысяч беженцев стояли на берегу, моля Бога о явлении чуда. А красные уже совсем рядом были.
Владимир Оскарович был мрачен. Глядя на бесчисленное множество подвод, он лишь качал головой:
– Если река не замерзнет – часы этих повозок сочтены. Фронт совсем недалеко, а враг наседает. Переправы другой нет.
Но зима всё-таки умилостивилась. И сапёры проявили смекалку, какая и не снилась французам. Рыбачьими сетями они перегородили реку, задержав таким образом льдинки и «сало». На начавший образовываться тонкий лёд они клали солому и ветки, заливая их водой. Вскоре получились «тропинки», покрытые довольно толстым слоем ледяной коры. По ним начали переправлять обозы. Сойти с этих «тропок» было равносильно самоубийству. Некоторые беженцы, чрезмерно торопившиеся, проваливались под лёд и тонули. И всё же большинство переправилось благополучно. Следом за беженцами Иртыш перешла и армия, сохранившая свою артиллерию, которая затем разбила снарядами ледяную дорогу, задержав тем самым на два-три дня наступавших большевиков. Это был день четырнадцатое ноября. День переправы французов через Березину.
Всё дальнейшее тоже немало напоминало отступление армии Бонапарта. Войска, по уже заведённой печальной традиции, оказались без зимнего обмундирования. Ветхие шинелишки и сапоги сделались худшим врагом, чем красные. Брали вещи у населения. Но на всех наберёшь ли? И не разорять же население вчистую! Тысячи раненых и тифозных везли на санях, связав верёвками, чтобы не свалились. Все – едва одетые: больно смотреть. Сдавать их в поезда было бесполезно. В поездах обречены они были мучительной смерти. Все запасные пути были забиты эшелонами с мертвецами. На стоянках здоровые спали вместе с больными. С больных на здоровых переползали вши, и эпидемия разрасталась. Лошадей нечем было кормить. Загнанные, голодные, дрожащие, они стояли или лежали, издыхая, бессильно у дороги, с упрёком и тоской глядя на проходивших людей полными слёз глазами. Весь путь армии был усеян трупами несчастных животных.
А враг, между тем, не терял времени. Проверенный в Семнадцатом клич «Долой войну!» летел над Сибирью! В частях то и дело являлись агитаторы. Попадались они и Петру Сергеевичу. С этим товаром полковник не церемонился. Для них одно лишь слово было: «Расстрелять!» Насмотрелся на них за три года! Как облупленных знал. И оттуда же уши торчат – от господ эсеров! Великий рассадник их был в армии Пепеляева, разложившейся прежде прочих и отведённой в тыл. Закончил «революционный генерал» тем, что вместе со своим братом, премьер-министром, самовольно арестовал Главнокомандующего генерала Сахарова, возложив на него ответственность за крах армии. Как ни скептически был настроен Тягаев в отношении последнего, но подобное нарушение воинской дисциплины, заставлявшее вспомнить первые дни революционного бедлама, вызвало у него возмущение. В негодование пришёл и Каппель, немедленно выехавший на станцию Тайга, где находился арестованный Главнокомандующий. Эшелон Сахарова был оцеплен частями первой армии, вход и выход из вагонов эшелона был запрещен. Владимир Оскарович направился в вагон Пепеляева. Братья о чем-то горячо и взволнованно говорили. Анатолий Николаевич сидел за столом с расстегнутым воротником и без пояса. Молча, не говоря ни слова, Капель, всегда подтянутый и строгий к себе и своей внешности, стоя у дверей, впился глазами в «революционного генерала». Увидев его, тот надел пояс, застегнул воротник, встал из-за стола и во время пребывания Каппеля в вагоне не проронил ни слова. Владимир Оскарович предпочёл вести разговор со старшим братом.
– По чьему приказу арестован главнокомандующий фронтом? – спросил он.
– Вся Сибирь возмущена таким вопиющим преступлением, как сдача в таком виде Омска, кошмарная эвакуация и все ужасы, творящиеся на линии железной дороги повсюду! – начал объяснять министр. – Чтобы успокоить общественное мнение мы решили арестовать виновника и увезти его в Томск для предания суду…
Каппель не дал ему закончить:
– Вы, подчиненные, арестовали своего главнокомандующего? Вы даете пример войскам, и они завтра же могут арестовать и вас! У нас есть Верховный правитель и генерала Сахарова можно арестовать только по его приказу. Вы меня поняли? – резко повернувшись, не ожидая ответа, Каппель вышел из вагона.
Вечером генерал Пепеляев явился к Владимиру Оскаровичу. Он был сильно взволнован и заявил:
– Арестовать главнокомандующего можно действительно только по приказу Верховного Правителя, и мы просим вас помочь нам достать этот приказ. Владимир Оскарович, только на вас одного теперь вся надежда!
Приказ об аресте Сахарова Верховный правитель отдал, и эшелон бывшего главнокомандующего был отправлен в Иркутск. Пророчество же Каппеля оправдалось, и через несколько дней взбунтовавшиеся части генерала Пепеляева арестовали его самого.
Формально Сахаров уже не был Главнокомандующим. Ещё до этого позорного ареста адмирал отрешил его от должности. И назначил на неё – Каппеля. На станции Судженка Владимир Оскарович встретился с Верховным. Он уже долго пытался догнать его поезд: дважды прибывая на очередную станцию, узнавал, что эшелон адмирала уже покинул её. Наконец, встреча состоялась. На станции было тихо – на запасных путях стояли два-три эшелона, но ни шума, ни беготни не было, только около одного эшелона во мгле прохаживались несколько офицеров. Внезапно тишину нарушил голос адмирала:
– Скажите, а скоро приедет генерал Каппель?
Ускорив шаг, Владимир Оскарович подошел к Александру Васильевичу и приложил руку к головному убору:
– Ваше Высокопревосходительство, генерал Каппель по вашему приказанию прибыл.
Колчак протянул к нему обе руки:
– Слава Богу, наконец! – и, оглядевшись, спросил: – А где ваш конвой, Владимир Оскарович?
– Я считаю лишним иметь конвой в тылу армии и загромождать этим путь и так забитой железной дороги, – ответил Каппель.
Адмирал пригласил его в свой вагон. Их разговор длился три часа. О чём был он, Пётр Сергеевич не знал. Уже ночью Верховный правитель во френче, с белым крестом на шее, вышел провожать Каппеля. Владимир Оскарович повернулся и отдал честь. Колчак спустился на одну ступеньку, протянул ему руку и сказал тихо и взволнованно:
– Владимир Оскарович, только на вас вся надежда…
После встречи с адмиралом Каппель был неразговорчив. Сказал лишь, что советовал Колчаку быть ближе к армии, быть с армией, но тот ответил, что находится под защитой союзных флагов…
– Все не так, все не то, – мрачно повторял он.
Приняв после возвращения со станции Судженка дела штаба фронта от генерала Сахарова, Каппель включил свой эшелон в общую ленту эшелонов, и стал медленно двигаться на восток. Он часто задерживал свой поезд, чтобы поддержать живую связь с армией и находиться в непосредственной близости фронта. Каждый день, а иногда не один раз, Главнокомандующий, то в автомобиле, а чаще верхом, оставив поезд, отправлялся на передовую. В той путанице частей и обстоятельств, которые сопровождают отступление, он один знал все мелочи текущего дня, часто исправляя положение, казавшееся безнадежным. Основной его идеей стало вывести армию за рубеж, где она сможет отдохнуть и переформироваться. Для этого нужно было, прежде всего, ввести порядок в отступавшие части, научить командиров этих частей поднятию дисциплины, выработать порядок движения, по возможности сменяя арьергардные части, искоренить своеволия в отношении населения, снабжать из встречных на пути интендантских складов бойцов, думать о двигающихся с армией семьях, вдохнуть дух бодрости, чтобы отступление не обратилось в бегство, строго следить за офицерским корпусом и все это и многое другое проводить с учетом небывалых трудностей и мертвого мороза сибирской зимы.
Весть о назначении Каппеля Главнокомандующим вдохнула надежду в деморализованные войска. «Каппель выведет нас даже из ада… С Волги вывел и теперь выведет», – говорили Волжане, а за ними и вся армия.
Изучая состояние частей, Владимир Оскарович побывал в расположении Степной группы, находившейся под началом бывшего начальника Ставки Лебедева. Никто из встреченных офицеров не смог ответить Главнокомандующему, где искать командира и штаб. До предела радзраженный он тотчас же послал генералу Лебедеву телеграмму с приказанием немедленно явиться в штаб фронта для дачи объяснений. На третий день ординарец доложил Каппелю, что с востока движется какая-то воинская часть. К штабу фронта ехал, в сопровождении конвоя, равного по тем временам целому полку, генерал Лебедев. Дверь открылась, и в вагон Каппеля вошёл невозмутимый бывший начальник Ставки:
– Владимир Оскарович, вы меня вызывали. Здравствуйте…
В бешенстве Каппель хватил кулаком по столу:
– Генерал Лебедев, вас вызывал не Владимир Оскарович, а Главнокомандующий!
– Ваше Высокопревосходительство, генерал Лебедев по вашему приказанию прибыл! – тотчас вытянулся Лебедев.
– Прибыли? – загремел Каппель. – Откуда? Из своей группы? Или находясь от нее за сто верст? Прибыли? Приказ был послан три дня назад, явились вы сегодня. Вы знаете положение вашей группы? Вы знаете, в чем нуждаются ваши офицеры и солдаты? Вы знаете, где сейчас ваша группа? Почему вы не делите с ней ее боевую страду? Я, Главнокомандующий, каждый день провожу на передовой линии, а вы? Или управлять вверенной вам частью легче, находясь от нее за сто верст? – и, понизив голос, добавил, не отрывая синих глаз от лица генерала: – А может быть безопаснее?
– Ваше Высокопревосходительство… – начал было тот, но замолчал.
– Генерал Лебедев, приказываю вам немедленно со своим конвоем отправиться к своей группе. Конвой включить в число бойцов частей. Оставлять группу, без моего особого разрешения, категорически запрещаю. О прибытии в группу немедленно мне донести. Время военное и ответственность за неисполнение боевого приказа вам известна. Вспомните генерала Гривина. Можете идти.
После ухода Лебедева Каппель продолжал стоять, а потом, опустившись на стул, сжал голову руками, плечи его задрожали, вымолвил с подавленным стоном:
– Стыдно! За него стыдно. И за себя стыдно, что не сумел это предупредить, не доглядел. А, может быть, сам слабым, недостаточным примером служу.
Так говорил человек, отрёкшийся от всего в этой жизни во имя служения России. Совершенно случайно узнал Тягаев, что Владимир Оскарович категорически отказался принять деньги для своей семьи. Полковник Вырыпаев, из-за слабости после тифа не годившийся для строевой службы, а потому временно занимавшийся личной перепиской Каппеля, нашел письмо от его семьи, уехавшей в Иркутск. Зачисленная на военный паек, получаемый в небольших размерах, она находилась в большой нужде. Вырыпаев составил телеграмму командующему Иркутским военным округом сделать распоряжение о выдаче семье генерала Каппеля десяти тысяч рублей и подал Владимиру Оскаровичу на подпись. Генерал пришел в ужас и категорически не соглашался на такую большую сумму, не видя возможности в скором времени вернуть ее обратно. Пришлось уменьшить на половину, и только тогда Каппель дал неохотно свою подпись. А не столь велика была эта сумма, учитывая, что сибирские деньги были очень обесценены и простой гусь стоил сто рублей. От Вырыпаева же знал Тягаев, Каппель из личных средств оказывал помощь многим обращавшимся к нему родственникам своих бойцов. Своё жалованье он расходовал до копейки, никому не отказывая…
И несмотря ни на что, хранил Владимир Оскарович свою непостижимую веру в русского человека. Это поражало Петра Сергеевича. А ещё более поражало то, что присутствие Каппеля, его вера в русского человека заставляла самого русского человека вспомнить себя таковым. Наблюдал это Тягаев на Аша-Балашовском заводе. И теперь наблюдал вновь. На станции Мариинск власть была захвачена местным земством, отличавшимся левым уклоном и склонным к сотрудничеству с большевиками. В городе находились большие склады военного имущества. В тот день земцы заседали в небольшом каменном доме. Подъехав к нему, Владимир Оскарович сказал сопровождавшему его Петру Сергеевичу:
– Зайдём!
Вдвоём, безо всякого конвоя, поднялись на крыльцо и вошли в помещение. Каппель подошёл к столу и представился:
– Я генерал Каппель.
Все собравшиеся вскочили со своих мест и бросилось к дверям. Кое-как их удалось задержать. Генерал сел, закурил папиросу и спокойно заговорил. Он начал с того, что поблагодарил земцев за то, что, взяв власть, они поддерживают порядок в городе, затем объяснил, что сейчас подходит армия и понятно, что управление переходит к военным властям. Рассказал, в каком состоянии двигаются отходящие части, как в сибирские морозы они идут часто в старых шинелях, голодные, полуживые, везя с собой сотни тифозных и раненых. Он говорил просто и ясно, без громких фраз, но в тоне его голоса чувствовалась такая боль за этих людей, что в зале была мертвая тишина.
– Вы русские и те, кто в армии, тоже русские – а дальше думайте сами, – резюмировал он и, попрощавшись, уехал в штаб фронта.
На утро земцы явились к Каппелю с хлебом-солью и списком всего военного имущества, находящегося на складах, для передачи его армии. И пока штаб фронта стоял в Мариинске, все проходившие части были снабжены продуктами и теплой одеждой, в чем так они нуждались.
Сколько командующих сменилось у сибирского войска! Самолюбивый Болдырев, бездарный Лебедев, религиозный Дитерихс, отчаянный Сахаров… А нужен-то был совсем другой человек. И, вот, в последний момент обрели его. В последний момент поставили на место, которое давно бы занимать ему! Не поздно ли? Выдающийся полководец, личность, имевшая гипнотическое влияние на людей, Каппель всё же не был кудесником. И Богом не был. А чтобы поворотить вспять эту понужающую массу именно Богом надо было быть. На него и смотрели, как на Бога, но не беспредельны же человеческие возможности!
Встречаться с адмиралом Владимиру Оскаровичу больше не приходилось. Желая быть ближе к армии, он лишь отдалился от неё. Его эшелон, гружёный вывезенным некогда из Казани золотом, которое Верховный не рискнул доверить Семёнову, шёл в Иркутск под охраной «союзников». Армия двигалась пешком – сама по себе. Чтобы быть с армией, нужно было пересесть в сани и ехать с нею. Но адмирал боялся оставить золото. А не отбыл в Иркутск загодя, не желая оставить армии… Что за роковой человек! И неужели, не веря никому, поверил гарантиям подлецов-«союзников»? И не послушал совета Каппеля – идти с армией. И оказался в западне, словно Государь во Пскове. Что за повторяющаяся трагедия!
Из Нижнеудинска пришла телеграмма Верховного правителя: чехи силой забрали два паровоза из его эшелонов, и он просил, чтобы Каппель повлиял на них, заставил прекратить эти бесчинства. Всякое выступление против чехов с оружием еще более ухудшило бы положение адмирала, а армию поставило бы в безвыходное положение – с востока появился бы чешский фронт, а с запада шли красные. Всю ночь Каппель мучительно пытался найти выход. Наутро он составил телеграмму:
«Генералу Сыровому, копия Верховному Правителю, Председателю совета министров, генералам Жанену и Ноксу, Владивосток Главнокомандующему японскими войсками генералу Оой, командирам 1-й Сибирской 2-й и 3-й армии, Командующим военных округов – Иркутского генералу Артемьеву, Приамурского генералу Розанову и Забайкальского атаману Семенову. Сейчас мною получено извещение, что вашим распоряжением об остановке движения всех русских эшелонов, задержан на станции Нижнеудинск поезд Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего всех русских армий с попыткой отобрать силой паровоз, причем у одного из его составов даже арестован начальник эшелона. Верховному Правителю и Верховному Главнокомандующему нанесен ряд оскорблений и угроз, и этим нанесено оскорбление всей Русской армии. Ваше распоряжение о непропуске русских эшелонов есть не что иное, как игнорирование интересов Русской армии, в силу чего она уже потеряла 120 составов с эвакуированными ранеными, больными, женами и детьми сражающихся на фронте офицеров и солдат. Русская армия, хотя и переживает в настоящее время испытания боевых неудач, но в ее рядах много честных и благородных офицеров и солдат, никогда не поступавшихся своей совестью, стоя не раз перед лицом смерти от большевицких пыток. Эти люди заслуживают общего уважения и такую армию и ее представителя оскорблять нельзя. Я, как Главнокомандующий армиями восточного фронта, требую от вас немедленного извинения перед Верховным Правителем и армией за нанесенное вами оскорбление и немедленного пропуска эшелонов Верховного Правителя и Председателя совета министров по назначению, а также отмены распоряжения об остановке русских эшелонов. Я не считаю себя вправе вовлекать измученный русский народ и его армию в новое испытание, но если вы, опираясь на штыки тех чехов, с которыми мы вместе выступали и, уважая друг друга, дрались в одних рядах во имя общей цели, решились нанести оскорбление Русской армии и ее Верховному Главнокомандующему, то я, как Главнокомандующий Русской армией, в защиту ее чести и достоинства требую от вас удовлетворения путем дуэли со мной. N 333. Главнокомандующий армиями восточного фронта, Генерального штаба генерал-лейтенант Каппель».
Эту телеграмму Владимир Оскарович зачитал наутро чинам штаба. Тягаев сидел молча, стиснув зубы. С каким бы удовольствием он сам послал этот вызов! С каким бы удовольствием сам вышел на поединок с одноглазым чешским предателем! Любым оружием! И убил бы… И одной бы руки достало…
– Навряд ли Сыровой примет вызов, – заметил кто-то из чинов штаба.
И то сказать! Давно миновали времена, когда князья шли на бой, объявляя «иду на вы», когда рыцари бросали перчатку, вызывая соперника на поединок. Но генерал Каппель был именно таким рыцарем, а потому взорвался на замечание:
– Он офицер, он генерал – он трусом быть не может!
Ян Сыровой так и не ответил на брошенный ему вызов. Даже после того, как аналогичный направил ему атаман Семёнов.
Между тем, чехи полностью завладели железной дорогой. Владимира Оскаровича заваливали донесениями о творимых ими бесчинствах. Что мог поделать Каппель? Все требования и воззвания его оставлялись без ответа. Оставалось лишь подбирать беженцев, но их обозы становились тягчайшей обузой для отступающей армии. Но какое дело было до всего этого подчинённым Иуды Сырового? Трудно было поверить, что у этой подлой орды могли быть такие благородные герои, как полковник Швец! Прежние «братья» отбирали паровозы у эшелонов с ранеными, выбрасывая из вагонов самих раненых и эвакуирующихся женщин и детей. Какого только добра не было в их украшенных зелеными еловыми ветками поездах! От военного имущества до награбленной мебели. Из вагонов слышались звуки пианино. Это играли женщины, которых захватили с собой чехи, обещая вывезти из России.
Не раз обращал внимание Тягаев на мешки, остававшиеся в снегу по прохождении чешских эшелонов.
– Интересно, что там может быть? – разбирало любопытство Панкрата.
– Во всяком случае, ничего ценного. Ценное им нужно самим.
– Так-то так, а всё-таки…
Всё-таки не совладал Панкрат с любопытством. Распорол один мешок, другой, третий… Вернулся бледный, дрожа, сказал, запинаясь:
– Пётр Сергеич, там это… Бабы наши! Мёртвые!
– Что?!
– Видать, надоели своим чешским полюбовникам, так они их и вышвырнули… Едва одетые все, перемёрзли… Осатанели совсем! Конечно, бабы эти известного сорта были, подлянки… Таких только пороть, подол задрав! Но чтобы так… Помять, сунуть в мешок, чтоб не выбралась, и с поезда в снег вышвырнуть, что котёнка, это уж… Это уж… – задохнулся Панкрат, не находя слов.
Да и Тягаев не находил должных. Не помещалось в голове.
Много-много мешков этих виднелось вдоль дорог, но уже не подходили к ним, не открывали. Только крестился Панкрат:
– Хоть и подлянки, а прости им Господи!
А в эшелонах, у которых «братья»-чехи отняли паровозы, насмерть замерзали беженцы и раненые. Их потом складывали штабелями на полустанках, связав верёвками. И если к виду таких «поленниц» из тел умерших раненых и больных очерствелая душа привыкла, то мелькающие меж них женские платья, крохотные детские ручонки вызывали ужас, от которого хотелось бежать так далеко, как только возможно. А бежать некуда было. Вокруг обступала тайга, сзади настигали красные. И ещё шныряли их мелкие банды вокруг. Шныряли, чая улучить момент и напасть на замешкавшихся. И люди спешили, люди бежали, боясь отстать. Страшась не столько смерти, сколько плена и издевательств. Здоровые подчас бросали больных. Выпрягали лошадь из саней и уходили. А оттуда, словно из могилы, слышался зовущий голос, голос несчастного, который ещё не понял, что брошен, что оставлен умирать. И никто не спешил помочь ему, потому что не было сил. И потому что замёрзла совесть. Ждали красные банды своей добычи, подобно стаям волков, в таком же множестве рыскавших на пути армии: лишь отступи с дороги в лес – и нарвёшься. Часто казалось, что за стенами тайги по обеим сторонам идут стаи волков и бандитов, идут, скрывшись под покровом темноты, созданной сплетением ветвей, не пропускавших даже солнечного света, идут шаг в шаг с армией и только ждут часа, чтобы напасть и растерзать. И леденела и без того заледеневшая кровь.
– Помогите! На помощь! Спасите, кто-нибудь! – такие крики нередко долетали до слуха Тягаева. Но он не спешил на них. И его совесть замерзала в этом ледяном походе, и его силы сходили на «нет». Клял себя, но продолжал путь. Но в этот раз перевернулась душа, оборвалась, и кровь в голову ударила. Он узнал этот голос! Её голос! Голос, который не спутать ни с одним другим! Развернул коня, стегнул по худым бокам, помчался к таёжной гущи, откуда крики долетали, кого-то, кажется, сметя с ног по дороге.
Он увидел её сразу. Она стояла в накренившихся набок санях, прижав руки к груди. Лошадь бежала, о чём недвусмысленно свидетельствовали повреждения передней части «экипажа». Позади саней стоял на коленях, пытаясь подняться, измождённый человек в намотанном на голову пуховом платке. На них с рыком надвигались два ощеренных волка. От саней их отделял лишь выступивший вперёд смертельно бледный Борис Васильевич. В вытянутой руке он держал пистолет, нажимал на курок, но безрезультатно: видимо, от холода механизм заклинило. Один из волков прыгнул вперёд, раздался оглушительный крик Дунечки. Мгновение, и зубы хищника впились бы в шею Кромина. Но мгновения этого и не достало, и подстреленный в прыжке волк с воем рухнул в снег, истекая кровью. Та же участь постигла и второго. Всю обойму разрядил Тягаев в серых бандитов.
Соскочив с коня, Пётр Сергеевич, миновав растирающего пылающее лицо снегом Кромина, бросился к саням, запрыгнул в них, обхватил рукой полубесчувственную Дунечку.
– Евдокия Осиповна! Ангел мой! Какое счастье, что вы живы… – целовал дорогое лицо, такое бледное, напуганное и усталое. – Успокойтесь, дорогая моя, успокойтесь. Всё хорошо!
Усадив Дунечку, Тягаев достал флягу, в которой осталось ещё немного коньяка, влил несколько капель в рот смертельно испуганной женщины. Подействовало! Широко открылись чудные глаза, прояснели, потеплели.
– Господи! Наконец-то я вас нашла! – Евдокия Осиповна заплакала, уронила голову на грудь полковника, обняла его ещё дрожащими от пережитого испуга руками. – Я так боялась за вас! Я хотела ждать в Омске, но Борис Васильевич настоял и увёз меня… А потом мы всё ехали и ехали, ехали и ехали. А кругом только снег, только беженцы, и эти кошмарные поезда, и мёртвые, мёртвые… А вас нет! Я всё ехала и искала, искала, спрашивала везде о вас. А кругом лица, лица, столько лиц, а вашего, родного – нет! Милый Пётр Сергеевич, мне теперь ничего нестрашно. Только бы вы рядом были…
– Тише, тише, дорогая. Я рядом, и больше ничего не случится, – говорил Тягаев успокаивающе. – Евдокия Осиповна, вам лучше? Скоро стемнеет, и нельзя дольше здесь оставаться. Идёмте! Сядете на мою лошадь, доберёмся до ночлега, а там я постараюсь найти для вас более подходящее средство передвижения.
– Не беспокойтесь, Пётр Сергеевич, – Дунечка слабо улыбнулась. – Если надо, я и пешком идти смогу. Не верите?
– Я не допущу, чтобы вы шли пешком, – отозвался Тягаев. Он помог Евдокие Осиповне выбраться из саней, усадил её на своего каурого, сам повёл его под уздцы, боясь излишне утрудить и без того усталое животное. Кромин, с узлом за плечами, и их странный спутник пошли рядом.
– Спасибо тебе, Боря! – с чувством поблагодарил Пётр Сергеевич друга.
Борис Васильевич махнул рукой:
– Я ведь дал слово тебе, что позабочусь о твоей belle dame. Разве мог я не сдержать его?
Кромин заметно постарел за недолгий срок их разлуки. Похудел, осунулся, и не осталось ни следа от важности, от всегдашней весёлости и оптимизма. За всю жизнь не видел Тягаев его таким подавленным и мрачным.
– Ты вовремя появился, друг мой. Иначе нас, пожалуй, сожрали бы эти серые черти! А, ей-Богу, премерзко, по-моему, стать для этих тварей ужином! Всё что к «товарищам» в лапы угодить! – нет, бодрился ещё Кромин, но голос не так звучал, как бывало прежде, натянуто.
– У меня чуть грудь не разорвалась, когда я услышал крик Евдокии Осиповны в лесу, – признался Тягаев.
– Всё хорошо, что хорошо кончается, – усмехнулся Борис Васильевич. – Хотя нашему приключению конца и края не видно…
Заговорились и не заметили, что спутник их отстал. Даже и забыл про него Пётр Сергеевич. А он, бедняга, остался позади и уже валился в снег. Так и забыли бы, если б не всполошилась Дунечка:
– Боже мой! А где же Саша? Пётр Сергеевич, голубчик, умоляю, помогите ему! Посадите его на лошадь, а я пойду пешком! Он же болен, а со мной всё хорошо… – и спрыгнула на землю сама.
Тягаев вопросительно взглянул на Кромина. Тот лишь развёл руками:
– Это личная благотворительность Евдокии Осиповны. Она подобрала этого несчастного юношу на дороге. Я думал, что он – не жилец. Но она выходила его, так и едет с нами… Обождите, я сам подсоблю ему, – бросил узел в снег, пошёл, увязая в снегу, сгрёб медвежьими лапами бедолагу, поволок к лошади.
За это время Дунечка успела кратко рассказать Пётру Сергеевичу горькую историю поручика Колокольцева.
– Не могла же я бросить этого несчастного, – словно оправдываясь, говорила она. – Я бы себе не простила!
– Конечно-конечно, моя дорогая, вы всё сделали правильно, – согласился Тягаев, вспоминая, скольких замерзавших в лесу сам он, возможно, мог спасти и не спас, не дрогнул душой замёрзшей, слыша мольбы, и боясь за Евдокию Осиповну – как бы не захворала сама при такой благотворительности. Но и перед мужеством её, перед душой её – благоговел. Ни перед одной женщиной не благоговел, а ей – поклонился бы.
Вернулся Кромин с больным поручиком. Совсем юн тот оказался. И истощён так, что смотреть жалко. Но смотрел осмысленно, не в бреду – и то уже недурно. Пытался идти сам, отнекивался от лошади:
– Господа, право не стоит, – говорил, задыхаясь. – Пусть Евдокия Осиповна едет… А я ещё могу идти. Если бы только чуть-чуть медленнее, – и едва держался на ногах при этом.
– Сашенька, не глупите. Вы же шагу ступить не можете! – покачала головой Дунечка.
– Поручик, садитесь в седло, – строго сказал Тягаев. – Это приказ. Уже смеркается, и мы не можем медлить, иначе на ближайшей стоянке не найдём себе крова, и придётся ночевать на улице. Ну же!
– Слушаюсь, господин полковник! – влез кое-как на каурого не без помощи Кромина.
До деревни добрались в сумерках, все избы уже заняты были. Но кое-как отыскал Пётр Сергеевич свободный угол. Это был просторный дом сибирских старожилов. Не раз приходилось Тягаеву бывать в таких. Всё-то было благолепно в этих домах, крепко, на века построено. И в каждом – обязательный портрет отца Иоанна Кронштадтского. А нередко – и Государя. Таков был и этот дом, величавый покой и благолепие которого были изрядно нарушены постояльцами, спавшими в разных позах в каждом помещении, вповалку, прямо на полу. Хозяин оказался мастером по санному делу. По оному подвизалась и вся семья. Это кстати было! Сразу спросил Тягаев, нет ли каких ни на есть саней продать.
– Саночки-то, оно, может, и сыщутся, – отвечал хозяин, двигая мохнатыми бровями. – Да ведь не самокатные у меня. Чай, вам, ваше благородие, и лошадку ещё подай?
– Я бы хорошо заплатил…
– Чем? – хозяин усмехнулся. – Сибирскими деньгами, за которые при большевиках я ничего не выручу? Ходите все, ходите… Всем лошадей подай! Родить их вам, что ли? Весна придёт – землю на чём пахать?
– Мы же оставляем вам своих.
– Ага, чуть живых. Которых, чтоб снова забегали, кормить на убой надо. А чем кормить-то, ваше благородие? Вы же весь фураж выгребаете. Ваши кони солому даже с крыш обжирают. Нешто не могли большевику холку намять?
– Лошадь достанешь?
Хозяин вздохнул, махнул рукой:
– А куда ж я денусь? Всё одно спасу нет. Не вы заберёте, так красные отнимут. Уж лучше вы берите…
– Спасибо!
Совсем маленький уголок достался в эту ночь Евдокие Осиповне. Закуток. В нём и улечься в полный рост никак невозможно было, а только лишь – калачиком свернувшись. Так и легла она. Тягаев вместо одеяла укрыл её своей буркой, сел рядом, о стену облокотясь. Дунечка не спала, попросила тихо:
– Дай мне руку.
Пётр Сергеевич протянул ей руку, и она, гладя её своими маленькими ладонями, прижалась к ней щекой.
– Как же я боялась потерять тебя. В этом безумии так много людей друг друга потеряли, и не могут найти. Всё ищут, всё ищут. Иногда мне казалось, что это навечно. Что всё, что мне осталось, это искать тебя. Саша так сестру свою ищет. Знаешь, он очень хороший. Он мне за эти недели, как брат младший стал. Помнишь, я говорила тебе, что у меня был брат? Он был болен, а я не смогла спасти его. Саша мне его чем-то напоминает. Он мог бы быть совсем таким, если бы выжил. Сашу я выходила, и, если только мы выберемся из этого ада, я всё сделаю, чтобы помочь ему как-то устроить жизнь. Он должен учиться, на это потребуются деньги… Но если я буду выступать, они будут… Хоть какие-то… Господи, о чём я говорю! Где это всё? Университеты, концерты, деньги… Разве это важно сейчас? Сейчас, когда ничего нет, кроме этой тайги с её ужасами. Но и нестрашно. Ты рядом теперь, а остальное вторично.
Она говорила приглушённо и будто бы сквозь сон. И всё не отпускала руки Петра Сергеевича, словно боясь потерять его вновь.
– Почему ты молчишь?
– Я любуюсь тобой, – искренне ответил Тягаев. – Твоим сердцем, которое не заморозила даже эта проклятая тайга.
– Сердце не должно замерзать, Петруша. Если замёрзло сердце, то человек пропал. Даже если сохранит в целости ноги и руки – всё равно. Без сердца всё мертво.
– Спи, мой добрый ангел. Скоро утро, и нас ждёт долгий путь.
– Скажи что-нибудь ещё. Пожалуйста. Я так давно не слышала твоего голоса. Я так хочу его слушать.
– Я не знаю, что говорить, – признался Пётр Сергеевич. – Ты же знаешь, что красноречие – не моя добродетель.
– Знаю, милый. Это я болтушка, – Дунечка чуть улыбнулась. – Тогда почитай мне что-нибудь. Почитай, и я засну.
– Какой же вы ещё ребёнок, Евдокия Осиповна! – Тягаев ласково поцеловал её. Что за счастье было видеть её! Слышать её голос, её дыхание совсем рядом, чувствовать её тепло. Оттаивало замёрзшее сердце, словно ледяная глыба, тронутая весенним лучом.
– Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть,
Лишь под пулями в рвах спокойных
Веришь в знамя Господне, твердь.
И за это знаешь так ясно,
Что в единственный, строгий час,
В час, когда, словно облак красный,
Милый день уплывает из глаз,
Свод небесный будет раздвинут
Пред душою, и душу ту
Белоснежные кони ринут
В ослепительную высоту.
Там Начальник в ярком доспехе,
В грозном шлеме звёздных лучей,
И к старинной, бранной потехе
Огнекрылых зов трубачей…
Её дыханье звучало ровно и умиротворённо, а на губах застыла счастливая улыбка. Евдокия Осиповна уснула, свернувшись клубочком под лохматой буркой, и так и не выпустив руки Петра Сергеевича.
Хозяин не обманул, и наутро подал к крыльцу маленькие саночки изящной работы и гнедую кобылку. Предупредил:
– Езжайте сторожко. Саночки добрые, но тонкой работы. Мне их в прежние времена один богатый купец заказал, а сам помер и не успел расплатиться. Всё берёг их – тонкая ж работа! Задарма жаль отдавать было. А потом их и брать не хотели. Подозревали, что дюже хлипкие, не увезёшь на таких разной рухляди. Что с них взять – дурачьё! Ничего в нашем деле не разумеют! Вы, барышня, поглядите, какая отделка! Как княжна поедете!
Никакой нужды не было мужику расхваливать своего товара, ибо иного всё равно не было, но, знать, привычка брала своё. Трижды обвёл Евдокию Осиповну кругом, показывая разные украсительные виньетки:
– Это же не какие-нибудь розвальни вам! Это же искусство! Царские саночки! Кобылёнка, конечно, не по ним. Стара. Но крепка ещё. Где лучше сыщете?
Расплатились за «экипаж» поровну с Кроминым. Тронулись в путь: Дунечка со своим подопечным в санях, Борис Васильич за кучера, Тягаев – верхом. Тянулись среди бесконечной вереницы обозов, забившей дорогу так, что в день нельзя было пройти более двенадцати вёрст. И ни единой дороги обходной: вокруг сугробы выше двух аршин. А чуть станет кто, и сзади понукают его: «Понужай!» Понужали – мимо деревень, где уже не то что овса или сена, но и соломы нельзя было найти. К одной цели – Красноярску. К этому городу были обращены теперь взоры армии. Там должен был ждать измученных людей столь необходимый отдых. Так и шли с чувством, что, вот, последний рывок остался, самую малость продержаться – и спасены! И тем страшнее и громовей грянула весть, что комендант города генерал Зиневич изменил! Мерзавец объявил себя «сыном рабочего и крестьянина» и призвал окончить войну. Достойный последователь генералов-изменников Брусилова и Рузского… Сразу чувствовалась здесь рука вездесущих эсеров! И точно: ближайшим помощником Зиневича оказался эсер Колосов! Грозили уже: если армия не присоединиться к ним, весь гарнизон выступит против неё с оружием и не пропустит на восток. С ответом Каппель медлил, надеясь стянуть к Красноярску части второй и третьей армий и разгромить бунтовщиков. Но терялось драгоценное время из-за непролазных сибирских снегов и тайги. А уже и большевики опередили, и Зиневич сдал им город. Стали приходить из Красноярска подлейшие летучки, гласившие: «Братья, протянем друг другу руки, кончим кровопролитие, заживем мирной жизнью. Отдайте нам для справедливого народного суда проклятого тирана Колчака, приведите к нам ваших белобандитов, царских генералов, и советская власть не только забудет ваши невольные заблуждения, но и сумеет отблагодарить вас».
У самого Красноярска пришла от очередного Иуды телефонограмма:
– Когда же вы наберетесь мужества и решитесь бросить эту никчемную войну? Давно пора выслать делегатов к советскому командованию для переговоров о мире.
Страшно было смотреть на Владимира Оскаровича, когда он читал эту подлость. В таком состоянии видел его дотоле Тягаев не более двух раз. Ничего на свете не выводило генерала из себя так, как чья-то подлость. Вот, с чем не умело мириться благородное сердце. Плечи Каппеля дрожали, голос прерывался.
– Если бы он был здесь! – вымолвил, задыхаясь и хватаясь за кобуру. Но всё-таки усилием своей железной воли взял себя в руки, продиктовал ответ:
– Вы, взбунтовавшиеся в тылу ради спасения собственной шкуры, готовы предать и продать своих братьев, борющихся за благо родины. И прежде, чем посылать делегатов для переговоров о мире, нужно иметь их согласие – захотят ли они мириться с поработителями России… – при этих словах у генерала перехватило дыхание, и потемнело в глазах, он покачнулся, схватился за край стола и докончил: – С изменниками родины я не разговариваю!
Бросились за водой ему. Отмахнулся подавленно:
– Оставьте, не нужно…
Сдача Красноярска стала огромным ударом для всей армии. И в те же дни Тягаев получил удар, не менее тяжёлый. Случилась беда. Беда, которой больше всего боялся Пётр Сергеевич. Заболела Евдокия Осиповна…
Поутру жаловалась на головную боль, но – с кем не бывает? Пустились в путь. А к вечеру худо стало дело. Позвала Дунечка слабым голосом, сказала тревожно:
– Что-то нехорошо мне… Голова…
А от самой уже жар, что от печи, шёл! Глаза блуждали, туманясь. Ночью ещё хуже сделалось. Металась, начинала бредить.
– Петруша, ты только не оставляй меня, слышишь? Не оставляй!
– Успокойся, ангел мой, я никогда тебя не оставлю. Я здесь, я рядом! – говорил Пётр Сергеевич какие-то слова нежные, а сам немел от страха. Господи, неужели ещё и это вынести?! Неужели и её, последнее в жизни, отнимешь?! Да лучше бы быть растерзанным красными, самую мученическую смерть принять, но не это, не это…
Не отходил от больной всю ночь. Сомнений не было, что это – тиф. Дунечка бредила. Звала то своего умершего братика, то покойного благодетеля, то самого Тягаева. То вдруг начинали ей сниться кошмары, и она плакала. Сердце рвалось на части! А тут ещё поручик губы дрожащие кусал:
– Это я виноват, я… Это из-за меня она…
– Да замолчите вы, поручик! – взорвался Пётр Сергеевич, но добавил, уже спокойнее: – Никакой вашей вины здесь нет! Половина нашего «табора» в тифу! В каждой избе, где мы стояли, были тифозные! Кругом масса паразитов, разносящих эту заразу! Причём здесь вы…
Сознание к Евдокие Осиповне больше не возвращалось, а припадки бреда становились всё чаще. Однажды она поднялась с постели, схватила оказавшийся рядом нож и бросилась с ним на Тягаева. Вовремя зашедший Панкрат успел схватить её, вырвать нож и силой уложить в постель, а не то, пожалуй, убила бы. За кого приняла? Отчего таким страшным было лицо её и глаза? Так и вставало перед взглядом, и не по себе становилось. Как и многих страдавших буйством тифозных, пришлось привязать Дунечку к саням, чтобы не спрыгивала в снег, чтобы ещё чего-нибудь не учинила. Невыносимо было смотреть на её муки, но старался быть рядом, не отлучаться. Да не удавалось! Как раз после истории с ножом послан был Пётр Сергеевич с отрядом охотников на разведку. Даже обрадовался тому. Хоть какое-то дело серьёзное. Хоть чем-то отвлечь немеющую от чёрного отчаяния душу…
И, вот, возвращались. Сведений, правда, негусто собрали, но хоть фуражом запаслись – и то дело. Поборов желание перво-наперво справиться о здоровье Дунечки, Тягаев поспешил в штаб. Долг оставался для него на первом месте, не смотря ни на что.
В штабе застал Пётр Сергеевич против ожидания общее собрание. Сразу ясно стало, что случилось нечто важное. Каппель стоял у окна, спиной ко всем. А все – не сводили с него глаз, ожидая, что скажет человек, на которого была вся надежда. Наконец, Владимир Оскарович, потемневший лицом, отошёл от окна, сел, оповестил собравшихся:
– Генерал Зиневич, как стало известно, арестован и посажен в тюрьму.
Надо же! Не угодил чем-то! Туда и дорога мерзавцу…
– Идти вперед мы должны и будем, – твёрдо продолжал Каппель. – Красноярск не гибель, а одна из страниц борьбы. Скажу больше – это тяжелый экзамен, выдержат который только сильные и верные. Но они будут продолжать борьбу. Слабые отпадут – их нам не нужно. Крепкие пойдут со мной – и я их спасу, или погибну с ними. Но, если это суждено, то я буду с войсками до конца и своей смертью среди них докажу им свою преданность. Сегодня будет написан приказ, в котором я скажу об обстановке, создавшейся благодаря измене. Этим приказом, кроме того, я разрешу всем колеблющимся и слабым оставить ряды армии и уйти в Красноярск, когда мы к нему подойдем. Тем, кто останется со мной, я в этом приказе скажу, что нас ожидает впереди только тяжелое и страшное, может быть гибель. Но если останется только горсть, я и ее поведу. Красноярск мы должны будем обойти. Наперерез нам будут, конечно, брошены красные части – мы прорвемся. Мы должны прорваться, – голос его зазвенел. – Вы поняли – мы должны прорваться!
Поручик Бржезовский, молодой адъютант Каппеля вскочил и воскликнул:
– Прорвемся! Обязательно прорвемся!
Итак, вместо отдыха предстояло прорываться. И опять: не брать города, не побеждать, а обходить врага. Но идти на штурм самоубийством было бы! Щетинкинцев опередить не удалось, а иметь дело и с ними, и с гарнизоном для измотанной армии непосильно. Ещё и генерал Вержбицкий со своей колонной ушёл севернее Красноярска, потому что штаб не удосужился порядочно направить её. А за Вержбицким ещё с Сибирского тракта по пятам «товарищи» следовали. Уже через несколько часов подойти могли и отрезать северный путь. Хочешь, не хочешь, а – понужай!
К ночи прибыл генерал Войцеховский, подтвердил, что банды Щетинкина уже подошли к Красноярску с Юга. Вот-вот грозил захлопнуться капкан. Войцеховский накануне предпринял попытку атаки города, что-то на манер разведки боем. Ударили успешно по окрестным деревням, заняли станцию, но тут подоспел красный бронепоезд, и передовые роты отступили… Рисковать снова слишком опасно было. В случае неудачи оказались бы в тисках: сзади наседали регулярные части красных, впереди – красноярские банды. Куда ни кинь!..
Обходить город по примеру Вержбицкого было решено с севера. Всем слабым и не желавшим бороться частям Каппель разрешил оставить армию и уйти в Красноярск, чем воспользовались многие. Таким образом, остались лишь воины, готовые идти до конца. Они и выступили в направлении Красноярска на рассвете шестого января. В Сочельник…
Тяжело плелись усталые лошади, таща за собой сани по сухому, перемешенному с землёй снегу. Чувства людей притупились от ощущения бессмысленности происходящего, от утомления и немилосердного мороза. Мелькали в туманной серизне утра чёрные возки, бесформенные из-за кое-как натянутых одежд фигуры. Шагали вперёд войсковые колонны. Каппель, пропустив последние части, покинул свой эшелон, движение которого дальше было невозможно, и приказал сделать то же своему штабу. Через несколько минут поезд оказался в руках передовых частей красных. Все чины штаба успели к тому моменту покинуть его, и лишь, поручик Бржезовский, крикнувший «Прорвёмся!», по иронии судьбы, попал в плен…
Красные оказались всюду. Они преградили каждую дорогу в нескольких местах. Выдвинутая из города артиллерия била с юга. В этот час стало окончательно, зримо ясно: армии не существовало. Не ожидая такой активности красных, всё смешалось, всё обратилось в невообразимую сумятицу. Обозы беженцев и пехота, посаженная на подводы, рвались в разные стороны. По ним стучали пулемёты с горных возвышенностей. А сзади уже надвигались регулярные части. В сумраке метались повозки и люди. Неслись кто куда, во все стороны: на запад, на юг, на восток, на север – плохо понимая, куда и зачем, идя на поводу у паники, и в неразберихе этой попадая аккурат под огонь противника. Стоны, крики, брань, ржание лошадей, громыхание орудий – от грешной земли до готовящихся к празднику небес всё пронизано было этим оглушительным шумом. И где-то в этой круговерти метались изящные саночки, запряжённые гнедой кобылицей… Хоть бы прошли! Хоть бы Кромину твёрдость не изменила! Хоть бы не разлетелась в щепки хрупкая работа сибирского умельца!
А иные части уже сдаваться шли. К ним высылали делегатов из сдавшихся раньше:
– Война кончена, нет больше нашей армии! Кладите оружие!
И – клали! Застило взор от позора! И не в одну глупую голову не взбрело удивиться, почему, коли кончена война, не кладут оружия сами красные? Два Оренбургских казачьих полка отдали свои винтовки, пулемёты, шашки – где их стыд был?! Но и получили же своё. Посмеялись комиссары:
– А теперь можете убираться к Семёнову! Нам таких нагаечников не надо!
Велик был бы позор, если бы не оказалось в полумёртвой армии частей, ещё не забывших чести. Они-то и вступили в бой, отвлекая силы красных на себя, дабы дать пройти отступающим. Конный отряд Тягаева сомкнуто держался. Никто не дрогнул, не повернул, не поддался панике. Уже и рассвело совсем. Солнце, впрочем, не благословило грешную землю, не пролило золотой слезы на окровавленный снег, а сокрыло лик свой за пеленой облаков. Да это и не солнце, это сам Господь, ныне рождающийся, сокрыл свой лик от обезумевших людей.
Пронеслись в памяти все прежние атаки. Та, роковая, в которой лишился руки и глаза, летя впереди своих бойцов на неприятельские позиции. Пора настала стариной тряхнуть.
– Братцы, не опозорим нашего славного пути! Вперёд! За Россию! Шашки к бою! – и захватив повод зубами, первый шашку из ножен выхватил и пришпорил каурого. Несся во весь опор мимо шалых обозов, впереди летящего за ним отряда, на тучи красных, встречавших пулемётным огнём, щерящихся штыками. Ледяной ветер бил в лицо, обжигая его, но и освежая, бодря. Этот бой был уже не за Россию, которую проиграли безнадёжно, и даже не за тех несчастных беженцев, жизни которых ещё следовало спасти, но – за честь армии, за честь русского офицерства, за свою честь.
Не спасёшься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь,
Но молчи: несравненной право –
Самому выбирать свою смерть.
Вот, действительно – право высшее! Выбрать смерть – то же, что выбрать жизнь. Одно и то же. Смерть неизбежна, но право человека избрать, какой ей быть. Избрать, умереть ли Человеком, до конца исполнившим всё, предназначенное судьбой, или псом, шакалом, предавшим собственную душу. Погибнуть, борясь до конца, или издохнуть, пресмыкаясь в пыли. Выбор смерти – право великое и право последнее, и потому из всех выборов, с которыми приходится сталкиваться на жизненном пути, этот – наиважнейший. Избирающий смерть, избирает жизнь. Полковник Тягаев свою смерть избрал задолго до Красноярского боя…
Глава 9. Конечная
7 января 1920 года. Красноярск
– Господа, большевики! Большевики, господа! – эти крики прорезали гомон Новониколаевского вокзала. Люди заметались, бросились по вагонам и саням – скорее прочь! Уверениям начальства, что большевики только на окраине города никто не поверил. И, как оказалось, правильно. Несколько мгновений прошло, и уже сухой треск пулемётов заслышался совсем близко. Затем – взрыв. Ещё миг, и на платформе показались первые красные конники. Толпа, а с нею и большая часть охранной роты схлынула на пути, бежали по шпалам, ещё надеясь спастись. А там, на платформе, раненый офицер с перебитым плечом ещё пытался остановить бегущих подчинённых:
– Стоять! Не будьте трусами, господа! Назад! – и упал на колени, простирая руки: – Да остановитесь же вы!
А они бежали мимо него, не обращая внимания на воздетые руки, на призывы. И, вот, схлынули. Лишь некоторые посылали ещё выстрелы приближавшимся большевиками. И когда те появились, офицер тяжело поднялся с колен, придерживая болтающуюся, как плеть, руку. Он не смог остановить свою роту, заставить её принять бой, он мог теперь лишь дать ей пример того, как следует умирать. Этот офицер погиб первым, сражённый пулей. Его распластанное тело и стягивающееся полчище красных было последним, что видела Надинька из окна отходившего от станции эшелона, и образ этого несчастного героя все эти дни не выходил у неё из головы. Так было жаль его, что сердце плакало.
Они покинули Новониколаевск в последний день. Не очень было это разумно, но Антон до последнего надеялся на чудо. Уверял, что, согласно новому плану, армия должна закрепиться на линии Новониколаевск-Томск и отсюда, переформировавшись и отдохнув, снова перейти в наступление. Акинфий Степанович лишь хмурился и хмыкал, слушая зятя, но не спорил с ним. Маня же, как водится, вторила мужу:
– Невозможно, чтобы наша армия оказалась столь слаба, чтобы оставила и Новониколаевск!
А ведь уже Омск оставлен был. Который никогда и ни за что не сдавать грозились. Но упорство Антона не на вере в армию держалось, а на нежелании всё нажитое оставлять. Природная дальновидность изменила ему на этот раз, и готов он был поверить любому чуду, лишь бы не бросать имущества. Тут резко отличался Антон от тестя. Старик Акинфий с нажитым расставался с иововым смирением. Но и то сказать – он по летам своим уже в могилу глядел, хоть и крепок ещё был. А Антон во цвете сил. Да с большим семейством на шее. Дениска, добро, почти взрослый уже, а Кланя, того гляди барышня на выданье, из пансиона домой вернувшаяся? А младшенькие? С таким грузом с нажитого место куда как нелегко сниматься!
Мрачнел Антон с каждым днём. Даже прежний лоск исчез. И обычная его деловитость, подкреплённая множеством связей, сменилась теперь обычным обывательским ожиданием вестей, жадной ловлей их, в особенности, тех, которые можно было хоть как-то трактовать в лучшую сторону.
Но армия отступала, и, наконец, сомнений не осталось: Новониколаевск ждала участь Омска. Город доживал последние дни. В эти-то последние дни вернулась к Антону прежняя решимость, воля к действию, и он принялся спешно искать выход из создавшегося положения. В его отсутствие старик ворчал, выговаривая дочери:
– Хлипок твой муж на проверку оказался. Чего доброго, из-за него прямиком к «товарищам» в лапы и угодим.
– Папаша, но ведь была надежда на армию…
– У дураков она была, – презрительно фыркнул Акинфий Степанович. – Кабы не был я такой ветошью да не вынужден оказался у Антошки твоего нахлебником жить, уж я бы ему устроил выволочку! Уж он бы у меня вспомнил разум!
– Да ведь как же столько добра на разграб оставить! – плаксиво тянула Маня.
– У вас, что ль, у одних – добро? Али у меня его помене вашего было? А я не стал дожидаться, когда мне большевики пинка, как псу, дадут. Похватал внучат да скарб, какой можно увезть было, и айда. Дураки вроде Антошки твоего ещё зубоскалили: «Зачем это вы, Акинфий Степанович, этак насерьёз собрались? Даже шуб не позабыли! Ведь это ж – временно! Скорёхонько возвернёмся!» Верзвернулись! Они, дурачьё, и поехали, как на пикник! Ничего с собой не взяв! Добро ещё не в чём мать их родила! У нас же армия! Я думал, хоть Антошка твой умнее. Да видать, время такое, что всем разум отказывает. Когда суды Божии вершатся, поздно думать о том, чтобы спасать своё земное достояние. В Евангелии сказано: горе будет тем, кто в эти дни окажутся непраздными. Так, вот, это, думается мне, не только о вашей сестре, что бременем отягщена. Это о всех нас. И о всяком бремени. Любая кладь – бремя. Любое имущество. Во дни мирные хорошо иметь его, но во времена бедствий оно тяжким бременем оборачивается. Бросить его жаль, с ним идти тяжко. И, вот, одни остаются сторожами при своих житницах и гибнут вместе с ними. Другие такую великую кладь на плечи взваливают, что не могут унести, и гибнут с нею в пути. Вот оно – бремя! Бремя убивает в такие дни! И счастлив тот, у кого ничего нет. Ему легко идти…
– Вы, папаша, вместо того, чтобы морализаторствовать, лучше бы посоветовали, что делать!
– Ты поучи ещё отца! Морализаторствовать! Слов-то каких понахватала в своих светских обществах! – старик с силой ударил палкой об пол. – Что делать, пущай твой Антошка теперь соображает. Я говорил ему, что нельзя до последнего часа досиживать.
Акинфий Степанович, однако, напрасно сомневался в способностях зятя. Антон сумел-таки найти выход из положения, обратившись за помощью к знакомому польскому офицеру. Польская дивизия была сформирована ещё при Временном Сибирском правительстве из добровольцев, в основном, бывших австрийских военнопленных. Поляки видели в большевиках германский авангард, а потому пошли на русскую службу вполне охотно. Правда, служба эта оказалась не из почётных: большей частью, полякам пришлось исполнять роль жандармов, усмиряя большевистские восстания в деревнях. В отличие от чехов им не повезло забрать под свои нужды большого числа эшелонов и прорываться на восток в первых рядах. Польская дивизия уходила последней и служила арьергардом для всех едущих на восток, ведя бои с наступающими большевиками.
Капитан Квасневецкий согласился предоставить семье Юшиных место в одной из теплушек. Разумеется, не даром, но и это было большим благодеянием с его стороны. Собирались наспех. Брать решено было лишь самое необходимое, что оказалось нелёгким делом. Особенно, для Мани, которой даже расставание с любимыми нарядами казалось великим несчастьем. Надя наблюдала за всей этой суетой со стороны. Своих вещей у неё практически не было: все они, включая вещи малыша, легко уместились в один небольшой узел. Не менее аскетичен был Акинфий Степанович. Поначалу он наблюдал за беспорядочными сборами дочери и зятя с насмешкой, но скоро не выдержал и, несмотря на отчаянные протесты Мани, перетряхнул её чемоданы, извлёк из них всё необходимое по своему разумению и, сложив это в один баул, поставил перед дочерью:
– Всё, больше ты ничего брать не будешь, – сказал твёрдо, пристукнув палкой.
Противиться воле родителя Маня не посмела. Под его бдительным надзором сборы прошли быстро и тихо.
На вокзал приехали, когда в городе уже царила паника, и отовсюду слышно было лишь одно: «Большевики идут! Большевики!»
– Дотянул-таки, – хмуро глянул Акинфий Степанович на зятя, но не продолжил увещеваний. И без того на Антона жаль смотреть было. В считанные дни лет на десять состарился.
На поезд, по счастью, успели вовремя. Он отошёл от станции, провожаемый стрекотом пулемётов, но красные не преследовали его.
В польской теплушке кроме Юшиных ехала ещё одна русская семья. Поручик Дрожжин, только что вышедший из госпиталя после тяжёлого ранения в грудь, с матерью и женой. Кое-как разместились все. Надя с Петрушей заняла «верхний этаж». Сидеть там было почти невозможно, а только лежать. И лежала, задёрнув штору, словно в отдельной «комнате». Душно было в теплушке, и малыш плакал. Боялась Надинька, как бы не расхворался. Тетешкала, напевала колыбельные, которым от Мани выучилась.
Всё-таки польская теплушка невероятной удачей была! Думалось, что и к лучшему вышло казавшееся зряшным антоново промедление. А то бы как повернулось? Русские эшелоны сплошь без паровозов стояли. Пассажиры их перебирались в сани. А в санях как с малышом по сорокаградусному морозу ехать? Даже и подумать страшно! Помиловал Господь от такого!
Из окон видела Надя бесконечные обозы, спешащие на восток. От священника до офицера, от интеллигента до мужика – решительно всех захватил этот беженский поток! Даже безмужние бабы с малолетними детьми погоняли своих худых лошадёнок, спасаясь от неведомого зла. Плакали, причитали и исчезали вдали. Ехали ветхие старцы, которым по летам, как и Акинфию – лежать бы на печи. Тянулись сани, нагруженные больными, умирающими и уже умершими солдатами. Ни днём, ни ночью не иссякал, не прерывался этот сплошной поток. Должно быть, так в диких джунглях спасалось всё живое от засухи, спеша к водопою.
– Боже мой, куда же бегут все эти люди? – спросила Надя, не адресуя никому своего вопроса, а просто рассуждая вслух. – Куда мужики бегут? Бабы с детками? Разве их ждёт что-то впереди? Где они остановятся? Где голову приклонят? Их всё больше и больше становится, а где конец пути? Что они ищут?
– Они не думают, что впереди, Надюша, – мрачно ответил Антон. – Они думают лишь о том, что сзади их. И бегут в никуда. Бесцельно…
– Эти бабы вряд ли знают толком, кто такие большевики, но бегут от них, как от пожара. Неужели им было бы хуже, если бы они остались? Ведь им придётся же где-то остановиться…
– Ты права, многие из бегущих вполне могли бы остаться, и хуже бы им не было. Но это – рассуждая по логике. А они не рассуждают. Они поддаются общей панике. Спроси такую бабу, куда и на кой она бежит, похватав своих детей, она ничего вразумительного не ответит. Куда глаза глядят! А много бы лучше им всем остаться было. Может, и для них лучше. Потому что добрая половина их просто перемрёт в пути от холода и тифа. И уж точно – для нас. Для остатков армии. С таким чудовищным обозом любая попытка действия будет обречена. Я был слеп, я не предвидел такого страшного исхода! А теперь смотрю и понимаю, что не один генерал, будь он даже Наполеоном или Суворовым, не сможет спасти дела. Армия растворена в обозах и наверняка растлена ими. Люди сошли с ума… Хорошо, мы бежим, потому что знаем точно: нас не пощадили бы. И потому что имеем средства, чтобы устроиться в другом месте. Во Владивостоке. На худой конец, в Харбине. Я не раз бывал там по торговым делам, знаю там многих. Я понимаю не только, от кого мы бежим, но и куда. И для чего. Но эти! Ты, Надюша, совершенно права, впереди их ничего нет. Кто выживет, те остановятся и пойдут обратно. У них не будет другого выхода.
– У них был другой выход! – резко сказал Дрожжин, нервно дёргая тонкий ус. – У солдат, у мужиков – у всей этой беженской толпы! Они могли защищать свою землю с оружием в руках! Посмотрите, посмотрите, сколько здоровых мужчин в этом потоке! Собрать их всех – вот вам и армия! И никакие большевики не одолели бы! А они предпочли бегство борьбе… Та же смерть, только ещё и позорная. Да нет, хуже! Тот, кто борется, всегда имеет шанс победить. Но тот, кто опустил оружие, повернулся спиной и побежал, тому нет спасения. Все эти люди, Надежда Петровна, платят за свою трусость. И за их трусость платим и мы заодно.
– Пропадает народ… – покачал головой Акинфий Степанович.
– Интересно, останется ли что-нибудь от нашей России? – вздохнула мать Дрожжина, Ольга Валерьяновна.
– Бурелом да кустарник останется, – отозвался старик. – Этак, вот, если лес рубят нерачительно, то на месте порубок болота и бурелом остаются. А с того оставшиеся деревья жучок точить начинает. И гибнет лес. И на месте сильных могучих деревьев плохонькие да чахлые подрастают, ни на что не годящиеся. Да кустарник ещё. Вот, Россия такой лес и есть. Добрую породу изведут теперь, а останется так, дрянцо – ни избы сколотить, ни печи истопить. Нескоро лес возрастёт.
Антон молчал. Его больше беспокоила теперь не судьба России, а то, что слишком медленно шёл польский эшелон, и никак не отрывался от красных. Те же не дремали и через десять дней пути напомнили о себе на станции Тайга.
Ранним утром Надю разбудили выстрелы. Отдёрнув штору, она увидела, что все спутники её уже проснулись и недоумевают, в чём дело, так же, как и она. На лицах застыло выражение испуга и вопроса. Маня обнимала девочек, чуть слышно шептала им что-то успокоительное. Явственно застучал пулемёт. Дрожжин достал револьвер:
– Я пойду узнаю, в чём дело!
Жена повисла на его руке:
– Андрей, не ходи! Прошу тебя!
– Вера, я должен…
В этот момент в вагон вскочил смертельно бледный Квасневецкий, известил дрожащим от волнения голосом:
– Мы окружены! Большевики окружили станцию! Наш паровоз ещё в ремонте, в депо, и мы не можем ехать! Начался бой…
– Как не можем ехать? – ахнула Маня. – Нас что же, убьют?! А дети? Что будет с нашими детьми?!
Но капитан уже исчез. За ним из вагона выпрыгнул, вырвавшись из рук рыдающей Веры, Дрожжин.
– Господи, что теперь будет! – простонала Вера, закрывая лицо ладонями.
– Манюша, быстро одень детей, – нервно сказал Антон.
– Зачем их теперь одевать? – бессильно вымолвила Маня. – Куда мы можем пойти? Он же сказал: мы окружены…
– Мама, успокойся, – сказал ей сын. – Может, ещё обойдётся.
При этих словах Надя впервые заметила, что за то время, которое минуло с тех дней, когда она обучала этого мальчика французскому, Денис сильно возмужал и говорил теперь, как взрослый. Она подошла к распахнутым дверям вагона, у которых стояла плачущая Вера. Под соседним эшелоном польские солдаты, скрывшись за тёмными колёсами, стреляли из винтовок по наступавшим красным. Всё громче, всё чаще долбил пулемёт.
– Красные атакуют «Забияку»! – крикнул кто-то.
Русский броневик «Забияка» стоял совсем близко…
– Это конец! – вырвалось у Мани. Она сидела неподвижно, полубесчувственная, уставившись расширенными глазами в одну точку.
Единственным, кто сохранял спокойствие, был Акинфий Степанович. Ни один мускул не дрогнул в сморщенном, хмуром лице. Надя подумала, что старик, вероятно, молится про себя.
– Господи! Взгляните сюда! – вскрикнула Ольга Валерьяновна, смотревшая в окно по другую сторону поезда.
Метнулись на зов, прильнули к стеклу. Там, на снежном насте лежало множество убитых. И в рассеянном дыму было видно, как бегут поляки навстречу наступающим большевикам в белых меховых шапках с красными лентами. Что-то страшное творилось вокруг русских эшелонов, в которых ехали офицеры и их семьи. Из санитарного поезда выскочил седой врач, огляделся кругом, приставил дуло нагана к виску и нажал на курок. Выбежавшая сестра милосердия увидела его бездыханное тело, всхлипнула, извлекла из кармана какую-то склянку, выпила её содержимое и упала рядом. Надя прижала пальцы к губам. Подумалось, что в этом поезде осталось много раненых и больных. И теперь им совсем некому помочь. И… что же будет с ними? Что с ними сделают большевики? И со всеми что сделают?
– Отойдите, отойдите, господин полковник! – истеричный вопль. Это кричал польский солдат приближавшемуся офицеру. Тот замер, и обезумевший солдат взорвал гранату. Звякнули разбитые стёкла, рассеялся дым, и уже не было солдата, а лишь разбросаны по снегу окровавленные части ещё мгновение назад молодого, сильного тела.
– Надя, отошла бы ты от окна, – подавленно сказал Антон. – И вы тоже, Ольга Валерьяновна. Не стоит вам обеим видеть всего этого…
Ольга Валерьевна не шелохнулась. Смотрела, словно окаменев, на акт страшной драмы. Её красивое, породистое лицо, покрытое сетью мелких морщин, было бледно, губы плотно сомкнуты. Наконец, она проронила:
– Может быть, они и правы… Правы, что не ждут смерти более страшной. Ведь, когда большевики придут, будет поздно. Вы знаете, что они с нами сделают? Убьют сразу? Уведут куда-нибудь? Или станут измываться прямо здесь? Если бы сразу… Если бы скорее…
– Ольга Валерьяновна, возьмите себя в руки! – сухо произнёс Акинфий Степанович. – Малодушие хвалы не достойно!
– Я не за себя боюсь, – стала оправдываться Дрожжина. – Я уже старуха… Но с нами же молодые женщины, дети…
Маня взяла Антона за руку, спросила негромко:
– У тебя есть оружие?
– Есть, – хрипло ответил Антон.
– Это хорошо. Если они войдут, ты, пожалуйста… – Маня осеклась, ещё крепче стиснула мужнину руку. – Ты ведь понимаешь, о чём я прошу, да? Обещай мне!
– Я обещаю…
– Спасибо.
Кланя с испугом переводила глаза с отца на мать, затем кинулась к деду, схватила его жилистую ладонь:
– Дедушка, что же это будет, а? – заплакала.
Акинфий Степанович обнял внучку за плечи, усадил рядом:
– Не слушай своих родителей. Им страх ум помутил. Ничему-то доброму не научили вас в ваших гимназиях и пансионах… Богу молиться не научили!
В этот самый момент из стоящего напротив поезда выскочил полковник колчаковской армии. Уже пожилой, совсем седой, он с отчаянием озирался по сторонам, ища спасения. В его дрожащей руке был зажат револьвер. За ним на перрон выбежала дама средних лет, схватила его за плечо, спросила истерично:
– Спасения нет? Ну, говори! Спасения нет?
Бедный полковник лепетал что-то неразборчивое, но она всё сильнее трясла его. Наконец, он вырвался, пошёл решительно туда, где наиболее гулко звучала канонада. Женщина догнала его и, схватив за руку, стала со слезами говорить что-то. Надя смутно почувствовала, что она просит мужа о том же, о чём только что просила Маня. Полковник остановился, стал медленно ходить по перрону, справляясь с тяжёлой мыслью, время от времени поглядывая на жену. Из вагона выскочила худенькая девочка лет десяти в коротком платьице, чулочках и ночных туфлях, бросилась с плачем к родителям:
– Папа! Папочка!
Полковник вздрогнул, шагнул к дочери, но остановился опять, взмахивая рукой, словно отгоняя назойливое наваждение. Девочка остановилась рядом с матерью, не чувствуя мороза. Теперь они обе смотрели на отца, а тот всё ещё колебался, терзался мучительнейшей борьбой в своём сердце. Наконец, полковник взвёл курок и посмотрел на жену полным любви, мольбы о прощении, невыносимой тоски и решимости взглядом. Она поняла его, кивнула, страстно обняла и поцеловала дочь и снова обернулась к мужу.
– Нет! Нет! – ахнула Надя. Ей хотелось выбежать из вагона, остановить эту трагедию, схватить за руку несчастного, потерявшего мужество человека и не дать ему совершить непоправимое. Но было уже поздно. Полковник поднял руку с зажатым в неё револьвером, крикнул надорванным, отчаянным, рыдающим, раненым голосом:
– Не отдам! Не отдам! Большевики будут издеваться над ними! Уйдём отсюда вместе!
Громыхнул выстрел, и женщина ничком упала на перрон. Девочка бросилась к ней, целовала, плача, смотрела непонимающе на почерневшего от горя и муки отца. А тот уже наставил дуло на неё. Девочка вскочила, схватила полковника за руку и, глядя ему в глаза, защебетала тонко и умоляюще:
– Папочка! Папочка, оставь меня! Дай мне жить! Оставь! Мне ничего не сделают большевики! Папочка, пожалуйста!
Этой мольбы не могло выдержать отцовское сердце. Содрогаясь от рыданий, он бессильно опустил руку. Он не мог отнять жизни у своего ребёнка. В заплаканных детских глазах не было прощения, не было понимания… Полковник смотрел то на дочь, то на мёртвую жену, то на задымлённое небо. На небо он смотрел особенно долго, словно ища в нём ответа и облегчения. Потом тряхнул головой, и усмешка муки и боли скользнула по его лицу. Девочка стояла на коленях, обнимая его ноги, плакала и молила:
– Папочка, жить! Зачем всё это, папочка? Бедная мама… Папочка, оставь меня! Жить! Жить!
Полковник посмотрел на жену, прохрипел:
– Прощай, я иду за тобой! – резко поднял руку и выстрелил.
Худенькая, посиневшая от холода девочка стояла на коленях между остывающими телами двух самых дорогих людей, закрывала руками заплаканное лицо и громко всхлипывала.
Не сговариваясь, Надя и Ольга Валерьяновна выбежали из вагона и бросились к ребёнку.
– Куда?! – крикнул было им Антон, но побежал следом.
Дрожащую, полубесчувственную девочку, не сводившую остановившегося взгляда с мёртвых родителей, принесли в вагон, уложили. Ольга Валерьяновна, забыв недавнее настроение, принялась хлопотать о ней.
– Господи, нужно было раньше… Нужно было помешать… – тихо сказала Надя, беря из рук Веры хныкающего малыша и прижимая его к груди. Петрушу пора было кормить. И забравшись на свой «этаж», задёрнув штору, Надинька дала ему грудь. Страшная сцена не выходила из головы, и слёзы сами собой текли по щекам. Она целовала ребёнка в едва покрытую светлым пухом макушку, шептала ласковые слова, но леденящий ужас сковывал сердце: что же будет теперь? Если большевики захватят поезд?.. И почти бесчувственное прорывалось: да хоть бы скорее уже конец! Надя слышала, как Антон тихо и взволнованно сказал Мане:
– Ты знаешь, я не смогу… Я не смогу, как этот полковник… – в его голосе послышались слёзы. – Он хоть на фронте убивал, должно быть… А я в жизни своей… Я не смогу!
– Тогда отдай мне пистолет! Тогда я сама! – вскрикнула Маня.
– Тихо! – грозно рявкнул Акинфий Степанович. – Замолчите оба немедленно! Хоть бы детей постыдились…
Всё стихло в вагоне. Слышались лишь тихие всхлипы девочки и шёпот Ольги Валерьяновны и Веры. В молчании и оцепенении ждали конца. Внезапно в вагон влетел Квасневецкий, выдохнул:
– Мы почти спасены! Наши солдаты, под ужасным огнём, вытащили паровоз из депо и сейчас его прицепят к нашему поезду! – и соскочил опять.
– А Андрей?! Где мой муж? – вскрикнула Вера.
– Я здесь! – Андрей впрыгнул в вагон уже на ходу и закрыл дверь. – Мы сейчас будем прорываться через цепь большевиков. Будет страшный огонь. Поэтому всем лучше лечь!
Все повиновались. В наступившей тишине слышно было, как нарастает огонь, как всё чаще слышится брань красноармейцев. Но, вот, утихать стало позади, и Дрожжин объявил:
– Кажется, прорвались!
Вера обняла его, шепча сквозь слёзы:
– Слава Богу! Слава Богу!
– Расскажите же, поручик, что там было? – спросил Антон.
– Бой был. И доложу я вам, отменный бой! Давно большевикам такого жару не задавали! Их пленные так и говорили: «Не помним, когда такое было!» Набили их порядком… Долго помнить будут! Ещё польска не сгинела. И русские тоже сгнили не все! С Польским полком бок о бок дрался наш Пермский. Богатырски сражался! Давно я таких солдат не видел! Истинные львы! Прорвали цепь красных и ушли из Тайги. А наши друзья поляки умудрились паровоз вытащить. А там такой огонь был! Страшнейший!
Маня разогрела чай на железной печке. Страх её прошёл, и она снова ожила, приободрилась. Передавалось и воодушевление Дрожжина.
– Покуда такие орлы есть, как пермяки, мы ещё не совсем пропащий народ, – говорил он.
– Надо же, а столько людей, не веря в спасение, убили себя… – покачала головой Вера.
– А я говорил, что маломужество недостойно похвалы, – сурово заявил Акинфий Степанович. – Что теперь будет с этой сиротой, родители которой не пожелали дождаться Божией воли?
– Она поедет с нами, – спокойно отозвалась Ольга Валерьяновна. – Я не оставлю это несчастное дитя и беру её под свою опеку.
Путешествие продолжилось. Большевики, получившие под Тайгой серьёзный урок, остерегались ввязываться в бой вновь и без задержек пропустили польский эшелон через станцию Сундженку.
К двадцать девятому декабря добрались до Ачинска. Станция была буквально загромождена эшелонами колчаковской армии. Где-то здесь стоял и штаб нового главнокомандующего генерала Каппеля. В Ачинске поезд ненадолго остановился, и, пользуясь этим, Антон, Дрожжин и Маня с Денисом отправились в близлежащее селенье за покупками. Надя же поспешила на станцию. Всю дорогу она старалась не пропустить не одного вокзала, ни одного полустанка. Она должна была прочесть надписи, которыми испещрены были стены. Их писали проезжавшие ранее беженцы и отступавшие солдаты, писали в надежде, что кто-то из своих, с кем в сумятице потеряна связь, прочтёт их послания. «Мамочка! Я жив и здоров. Идём в Красноярск. Твой сын Матвей Фёдоров», «Маша родная! Мы отступаем к Красноярску! Береги Лизу и Васю! Георгий Лавров», «Митенька, ищу тебя! Люблю тебя! Твоя Катя Крынкина», «Даша! Видел твоего мужа! Здоров. Ищет тебя. Твой брат Сергей Самаев», «Сыночек, мы едем в обозе. Куда, зачем – Бог весть! Сыночек, где ты?! Анна Колыванова», «Сашенька, братик мой дорогой! Я жива! Ищу тебя! Твоя сестра Аглая Колокольцева»… Рябило в глазах от бесчисленных этих записок. И сколько ж судеб, сколько разлук стояло за ними! Имена, имена… Но родных имён не было среди них. Имени отца, впрочем, и не ждала увидеть Надинька, угадывая по характеру его, что он и не стал бы автографов оставлять, просто не подумал бы оставить. Но Алёша! На каждой станции ждала Надя среди корявых, налезающих друг на друга записок разглядеть дорогое имя. Тщетно! Ни словечка… Дольше трёх месяцев не виделись они. А от той последней встречи какая-то недосказанность осталось. Как ни старалась Надя отогреть мужа своей лаской, а до конца так и не удалось: слишком мало времени было. Да и сама ещё слаба после родов была. Не смогла этой чуждости, вдруг в родном человеке явившейся, одолеть. Уже и уехал. Усталый, подавленный… Так хотелось на плечах у него повиснуть и не пустить! Никуда! Тем более, на эту проклятую войну! Проигранную войну! Зачем? Зачем она? Зачем столько горя и смертей? Сколько чьих-то мужей, отцов, сыновей сгинуло в бессмысленных боях, замёрзло во время переходов в дырявых шинелях, умерло от тифа в кошмарных санитарных эшелонах… Зачем?! И Алёше – зачем?.. Не пустить бы, чтобы навсегда остался рядом с ней и с Петрушей… А теперь – где искать? Может, лучше было бы, если б ранило его загодя, как Дрожжина. Тогда теперь вместе ехали бы… Читала, разбирала Надя до боли в глазах беспорядочные автографы и безуспешно боролась со слезами, набегавшими каждый раз, когда надежда вновь не оправдывалась. Ещё оставался на стене маленький клочок неисписанный. Вывела на нём углём: «Алёшенька! Еду в польском эшелоне. Ищу тебя! Твоя Надя Юшина». Такие надписи Надя оставляла почти на каждой станции, где бывали остановки. Может быть, он будет проходить здесь? Может, он просто идёт позади, и потому нет так необходимых весточек? Пусть хоть сам прочтёт. И нагонит однажды…
Внезапно раздался странный гул, а вслед ему громыхнули подряд два оглушительных взрыва. Такой силы были они, что земля содрогнулась, и волной Надю швырнуло навзничь в снег, так что она пребольно ударилась головой. Часть станционной крыши обрушилась, её обломки падали совсем рядом, и Надя с ужасом подумала, что сейчас один из них накроет её. Разлетались с визгом разбитые стёкла, осыпались, как град. Надя видела клубы ревущего пламени и дыма, рвущиеся ввысь. От дыма засвербило в горле, ядовито-удушлив он был. Надя приподнялась на локте и замерла от страха. С неба падали обломки вагонов. Куски искорёженного железа глубоко врезались в землю. Неподалёку упавшая углом дверь товарного вагона на аршин взрыхлила мёрзлую землю. Надинька боялась шевельнуться. Беспомощно посмотрела по сторонам, но увидела только убитых. Совсем рядом лежало обезглавленное тело офицера, которого она заметила, когда только пришла на станцию. А поодаль накрыло кого-то куском разбитой крыши. Своего разбитого лба и ушибленного плеча Надя не чувствовала. Её парализовал страх, не дающий двинуться с места. Заплакала по-детски:
– Мама… Мамочка… Да что же это?..
– Надежда Петровна! – из дымных клубов вдруг Дрожжин явился.
– Андрей Алексаныч! Я здесь! – так обрадовалась, его увидев, что даже силы вернулись подняться.
– Слава Богу, вы живы! Наши с ума сходят, не приключилось ли беды. Антон Евграфович хотел бежать за вами, да с его женой настоящая истерика случилась. С вами всё в порядке? – Дрожжин заботливо взял Надю под руку. – Кажется, вы сильно ушиблись при падении. Можете идти?
– Конечно, конечно, – торопливо кивнула Надя. – Я просто испугалась… Спасибо вам, Андрей Алексаныч!
– Идёмте скорее отсюда!
Оказавшись за пределами станции, Надя вскрикнула от ужаса и вцепилась в руку Дрожжина. Картина, представившаяся её взгляду, была страшнее любого поля битвы, любого лазарета. Пламя, жар, обломки вагонов и… бесформенные кровавые куски человеческих тел… Ноги, руки, головы… Чтобы идти дальше, нужно было переступать через них, идти по крови. Справа и слева полыхали стоявшие в несколько рядов вагоны, и сквозь огонь и дым было видно корчившихся от огня еще живых людей. Это были, большей частью, больные и раненые. И беженцы. Мимо пронёсся со страшным криком дымящийся человек – по-видимому, контуженный. Извивались на снегу обгоревшие, ошпаренные несчастные, воя, бранясь и моля о помощи. Но помочь им не успевали. Пробегали мимо солдаты, перескакивая через тела и то, что от них осталось, кричали, ругались. От горевших вагонов, между тем, задымались другие, уцелевшие от взрыва. Вот, появился молодой генерал с тёмным от копоти лицом и с ним несколько офицеров. Генерал распоряжался энергично:
– Отцепить уцелевшие составы, вывести их из сферы распространения огня!
– Каппель, – шепнул Дрожжин. – Слава Богу, он жив. Я слышал, из штабного поезда уцелело лишь несколько вагонов, погиб почти весь конвой.
– Мне дурно… – едва слышно сказала Надя, чувствуя, как земля уходит из-под ног.
Андрей Александрович подхватил её на руки и понёс к польскому эшелону, стоявшему вдали от эпицентра взрыва. Краем глаз Надя видела происходящее вокруг. Поезда отводили на безопасное расстояние, тушили пламя. Бродили, ища близких, уцелевшие беженцы. Пробежала растрёпанная, рыдающая женщина:
– Ася! Ася! Ася, ты где?! Ася!..
Мыкалась растерянно маленькая девочка:
– Мама, мама! Где моя мамочка? – и тёрла кулачками опухшие от слёз глазёнки.
А солдаты уже собирали то, что осталось от погибших людей. Как мусор – в кучи. Один из них подобрал женскую руку с драгоценными кольцами на тонких пальцах.
– Что ты будешь делать с этой рукой? – спросил его товарищ.
– Дурак я, что ли, чтобы оставить кольца большевикам! – усмехнулся солдат и, достав нож, отрубил пальцы, снял с них свою добычу, а руку швырнул в одну их мясных куч.
Надя зажмурилась, почувствовал острый приступ тошноты.
– Андрей Алексаныч, неужели это люди? Что стало с людьми, если они так могут..?
– Это не люди, – сквозь зубы отозвался Дрожжин.
Они, наконец, дошли до своего поезда, где их уже ждали переполошённые спутники.
– Скорее, скорее! – заторопил Антон. – Квасневецкий сказал, что поезд отходит через десять минут! Говорят, это диверсия большевиков!
– Или наше разгильдяйство, – хмыкнул поручик, укладывая Надю и предоставляя её заботам женщин.
Ольга Валерьяновна тотчас принесла воду и, смочив в ней тряпицу, протёрла Надин разбитый лоб:
– Ничего, ничего, хорошая моя. Всего-навсего ссадина. Заживёт.
– Рассказывают ужасные вещи, – нервно говорил Антон. – Будто бы многие пути разбиты, и масса человеческих жертв! Сотни, сотни! Трудно счесть, потому что части тел на далёкое расстояние разбросаны… Какой-то ад! А ведь мог бы и наш эшелон стоять ближе…
– Умоляю тебя, перестань! – взмолилась Маня. – Я не могу больше слышать этого! И видеть! Я сойду с ума от этой проклятой дороги! Почему, почему мы не уехали раньше?!
– Помилуй, Манюша, ведь ты сама не хотела уезжать!
– Так нужно было заставить меня! Хоть силой! Ты же глава семьи! – Маня стиснула ладонями щёки. – Почему это всё с нами происходит? За что это нам?
– Умолкни, глаза твои бессовестные! – послышался сердитый голос Акинфия Степановича. – Благодари Бога, что сидишь в тёплом вагоне, а не мечешься в санях по ледяной тайге!
Поезд тронулся. Надя почувствовала себя лучше и, сев, взяла у Веры хнычущего Петрушу. Машинально взглянула в окно. Там продолжалась ликвидация последствий взрыва. Подомчалась откуда-то группа всадников, и фигура одно из них чем-то напомнила Надиньке Алёшу.
– Смотри, Вер, так на моего Алёшеньку похож…
Вера понимающе улыбнулась:
– Мне тоже вечно Андрей мерещится, когда его рядом нет. Вечно ищу его глазами. Судьба наша! – вздохнула. – Ничего! У тебя Петрушка есть, – ласково погладила малыша. – Я, как мы с Андреем поженились, очень маленького хотела. Но пока Бог не дал. С одной стороны, думаю, к лучшему. Среди этого-то ада страшно! А с другой… А с другой хоть не было бы мне так одиноко, когда Андрея нет. Счастливая ты…
С Верой Надинька подружилась за время пути. Лишь двумя годами старше она была, характером мягкая, тихая. Семья Верина дворянской была, но не богатой. Жили в Перми. Отец был человек учёный, агроном, профессор. Мать – пианистка. Пристрастила и дочь к музыке, но Вера таланта матери не унаследовала, а потому играла лишь для себя и близких. Отец умер за год до революции. И он, и мать всегда придерживались передовых взглядов. Особенно мать, при избытке свободного времени читавшая радикальные журналы и книги. Революцию она встретила, как великий праздник, всплакнула только, что отец не дожил до светлого дня. Когда же начались беды и лишения, мать уехала в Болгарию по приглашению жившей там старинной приятельницы. Звала ехать и Веру, но та только что вышла замуж и не собиралась покидать любимого мужа. И осталась в России. И, вот, уже два года жила бесконечными разлуками и ожиданиями. Как это было знакомо Наде! Радовалась родственной душе. И уже думалось, как было бы хорошо не потеряться потом, а сохранить эту дружбу, семьями дружить. Как ни страшна была война, а всё-таки грезилось о мире, и верилось, что однажды всё-таки наступит он. Не может же ужас и боль остаться единственным существом жизни навсегда!
Польский эшелон шёл в Красноярск. За ним следовал наскоро сформированный русский санитарный поезд, куда поместились часть больных, раненых и семейств офицеров. Находившийся в Красноярске начальник Польской дивизии полковник Румша обещал провести его на восток.
Но всё вышло совсем против ожиданий… Первое, что привелось увидеть на станции Красноярск, толпы красноармейцев, обвешанных гранатами, важно разгуливающие по перрону. И узнали: город занят большевиками! Занят партизанами Щетинкина, о бандитах которого ходили кошмарные легенды. Вокзал ещё находился в руках поляков, но их эшелоны не могли двигаться вперёд, потому что все пути были заняты чехами. Чехи требовали, чтобы поляки отдали им свои паровозы, потому что собственные они заморозили. Польское командование ответило, что свободных паровозов не имеет и убедительно просит «братьев-чехов» разогреть свои и скорее продвигаться вперёд, освободить дорогу для польских эшелонов. Чехи ответили угрозами забрать паровозы силой! Одновременно на поляков давили большевики, требуя выдачи русских офицеров, ехавших в их поездах. Давили покуда мягко, так как ещё не подошли к городу их основные силы, и ещё стояли на подступах «каппелевцы». Но ясно было, что скоро разговор станет куда жёстче.
Стояла морозная рождественская ночь. До станции долетал шум боя, ведшегося у города с раннего утра. Прежде в эту ночь люди собирались в церквях, поздравляли друг друга и ожидали рождения Младенца-Искупителя. Теперь люди убивали друг друга и ожидали смерти. Не славили Христа, но вновь и вновь распинали его.
Вспомнились Наде два минувших Рождества. Первое, в замершем, голодном, разгромленном Киеве, в радушном семействе Марлинских, над которым, как и над тысячами других уже занесён был беспощадный меч торжествующих большевиков. Не радостным был тот праздник, но отравленным предчувствием надвигающегося горя. Вспомнился Фёдор Степанович, его горбоносое, сухое лицо с разметавшимися длинными, седыми прядями, хрипловатый голос, произносивший свой последний в жизни тост. Тётя Аня, такая тёплая, добрая, благословившая её вместо матери на брак с Алёшей. Родя… Что стало с ними обоими? Где они теперь?
Рождество второе – в Омске. В госпитале. Страшный рассказ умирающего об убийстве Царской семьи… Вокруг – война, война, и ничего кроме войны. А всё-таки счастливым оно было, прошлое Рождество! Потому что с фронта приехал Алёша! И никогда не была их близость столь полной, как в эти обидно недолгие, но безмерно счастливые дни, плодом которых стал Петруша. Много бы отдала Надя, чтобы хоть один день тот возвратить, пережить ещё раз!
И, вот, третье Рождество. Красноярск. Разгромленная армия. Неизвестность об Алёше. Вокруг красные. Что впереди? Страшно думать… Сидели тихо в вагоне. Не праздновали. Какой уж праздник, когда все мысли об исходе. Как онемели, и ни слова не проронил никто. Звякнули двенадцать раз золотые часы Антона. Акинфий Степанович перекрестился:
– С Рождеством! Да помилует нас всех Христос-Искупитель, хоть и не заслужили мы его милости.
Поздравили друг друга, но бесчувственно. Мысли у всех далеки были от праздника. Даже дети притихли, боязливо жались к Манюше, а та сидела, как изваяние, и не имела слов, чтобы успокоить их.
Снаружи раздались быстрые шаги. Дверь открылась, и следом за вдунутыми внутрь снежинками в вагон тяжело ступил Квасневецкий. По лицу его очевидно стало, что произошло непоправимое. Не спрашивали, смотрели выжидательно.
– Всё кончено, – глухо сказал капитан. – Поклон «братьям-чехам»! Эти подлецы перекрыли нам дорогу. Мы зажаты в тиски между ними и большевиками. Воевать на два фронта дивизия не может, и… – он осёкся не в силах продолжать.
– И ваше командование начало переговоры с большевиками, – докончил Дрожжин.
– Мы заключим с ними договор. Не позорный для нас… – словно оправдывался Квасневецкий. – Хотя… Чёрт знает, что это будет за договор! И станут ли большевики исполнять его условия! Проклятые чехи! – почти простонал он. – Хоть бы и их постигла такая же участь!
– Вокзал уже передан большевикам? – спросил Дрожжин, поднимаясь. – Поезд оцеплен?
– Нет-нет. Пока нет. Переговоры только начались, и, пока они не завершатся, мы не отдадим вокзала.
– Надо уходить, – Андрей Александрович быстро открыл чемодан, достал оттуда штатскую одежду.
– Вы правы, – кивнул Акинфий Степанович, вставая. – Нам с вами надо уходить.
– Как уходить? Куда? – всполошилась Маня.
– Если уходить, то всем! – поддержал Антон.
– Всем уйти не удастся, – спокойно ответил старик, быстро перебирая вещи в своём узле и освобождая его ото всего, что было свыше необходимого. – Куда вы пойдёте с детьми? Здесь даже саней не сыщешь. И нет необходимости вам уходить. Вы все люди мирные, беженцы. Да! Антон, немедленно сожги все ваши документы! Приготовь те паспорта, которые мы заготовили на такой случай! Смотри внимательно, чтобы ни одной бумажки лишней, ни одной фотографии не осталось! Они не должны знать, кто вы!
– Дед, зачем тебе-то уходить? – спросил Денис. – У тебя же тоже паспорт другой есть!
– Действительно, зачем? – поддержала брата Кланя.
– Лица у меня другого нет, дети, лица! – Акинфий Степанович проворно увязал узел. – Акинфия Земелина пол-Сибири в лицо знает! А ну как узнают? Я ведь тогда всех вас под монастырь подведу! Нет уж, лучше я один уйду.
– Тятя, – протяжно всхлипывала Маня, – да куда ж это ты пойдёшь? В твои-то годы! Ведь замёрзнешь дорогой!
– А это – как Бог даст, дочка. Какой век кому отмерен, един Он ведает. Не реви, детей не волнуй зряшно.
А младшие дети уже обступили старика, хватали его за сухие руки, за полы шубы:
– Дедушка, не уходи! – просили жалостно.
И впервые показалось Наде, что на суровых, почти невидных – так глубоко сидели под навислыми бровями – глазах Акинфия Степановича выступили слёзы. Он по очереди обнял, расцеловал и благословил всех внуков и дочь:
– Прощайте, родные! Даст Бог, свидимся!
Антон, между тем, торопливо бросал в огненную пасть печурки всё, что могло бы скомпрометировать их в глазах большевиков. Чернели, извивались и обращались в золу документы, письма, фотографии – вся история семейная.
С верхней полки следила за всем происходящим расширенными глазами сиротка Сима. За все эти дни, прошедшие с гибели родителей, она не произнесла ни слова, что очень пугало Ольгу Валерьяновну, боявшуюся, что девочка так и останется немой. Про неё и забыли в этой суете.
Вера никак не могла отпустить Дрожжина. Поручик уже сменил офицерскую форму, и Квасневецкий забрал её, чтобы большевики не нашли при обыске, и стоял у самых дверей, пытаясь утешить жену.
– Я с тобой пойду, Андрюша! Пожалуйста, возьми меня с собой!
– Нет, Вера, не проси. Я не знаю, что меня ждёт впереди! Я не могу рисковать тобой! И не хочу, чтобы мама осталась одна! Верочка, я очень тебя прошу, позаботься о ней. Всё образуется! Постарайтесь добраться до Харбина, и я вас там найду!
– Послушайте! – вмешался Антон. – В Харбине живёт наш давний компаньон Иван Черемханов. У него там крупное дело, он известный в городе человек. Если папаша и вы, Андрей Александрович, доберётесь туда раньше нас, то оставьте у него для нас весточку, где вас найти. Если мы окажемся там прежде, то сделаем то же. Так – не потеряемся! Слышите, Вера? Мы непременно встретимся все вместе в Харбине! Ну, успокойтесь же!
– Успокойся, доченька, Антон Евграфович дело говорит, – добавила сквозь слёзы Ольга Валерьяновна, мягко отделяя невестку от сына. – Храни тебя, Господь, Андрюша! Поспеши, пока вокзал ещё не отдали большевикам!
Дрожжин поцеловал мать и выпрыгнул из вагона. За ним, поклонившись остающимся и благословив их, сошёл, опираясь на свою палку, и Акинфий Степанович. Вначале видны были во мраке их удаляющиеся фигуры. И замирало сердце: вдруг заметят их большевики? Но обошлось. Никто не заметил, не окликнул, не остановил. И, наконец, растворились они в темноте…
– Вот и всё, – тихо обронила Маня. – Конец…
– Это не всё, – раздался тонкий, но осипший голос. И все обернулись на него. Сима всё так же сидела на полке, поджав под себя ноги, и смотрела на стоящих в дверях полными слёз глазами. Добавила тихо:
– Конец, это когда все умерли, и нельзя вернуть. А мы – живы…
Глава 10. Ледяной поход капитана Юшина
8 января 1920 года. Деревня Подпорожная
– Что за жизнь паскудная настала? Ни поговеть, ни разговеться! Ни согреться, ни посидеть порядочно, ни выспаться толком. Даже с бабёнкой сдобной не помилуешься! Вдовиц охочих в кажинном селе хоть отбавляй, а не то, чтоб прижать, глянуть недосуг! Бабёнка, глико, стосковалась вся, а ты на пол завалишься, как пёс, и дрыхнешь мёртвым сном. Добро, ежели несколько часов хоть на то остаётся, а то и сутками глаз не сомкнёшь. Всё только «понужай» да «понужай»! – Артуганов выпил поднесённый ему сдобной хозяйкой стакан самогона, толкнул локтём лежащего на лавке, отвернувшись к стене, Алексея. – Юшин! Слышишь, что ль? Ну, чего отвратился? Садись рядом, выпьём, брат, за светлый праздничек, и за то, что Господь всемилостивый нас в него не помиловал, аки младенцев, которых Ирод зарезал!
– Не кощунствуй, Клим, – сухо сказал Алёша, не поворачивая головы.
– «Не кощунствуй!» К чёрту тебя… – Климент крякнул, впился зубами в принесённую курицу, выговаривал, жуя: – Раскис, аки баба! На меня посмотри! Мне ли нет с чего скисать? А я ничего себе! Балую пока!
– Что бы ты знал, Клим, чтоб рассуждать!
– Где уж нам, дуракам, чай пить! – фыркнул Артуганов. – Ты бы не кабенился слишком-то. Ты, может, думаешь, если я сижу пошучиваю да на бабёнок глазами стреляю, так у меня не жизнь, а мёд? Хочешь, я тебе про этот «мёд» расскажу? Поворотись-ка ко мне пристойной частью тела да послушай!
Алексей, нехотя, обернулся, посмотрел на заросшее бородой, вечно насмешливое лицо капитана Артуганова. Тот вгрызался в куриную ножку, сок которой стекался по его бороде, подбавлял в стакан самогон из стоящей на столе бутыли. Бросил обглоданную кость, выпил и заговорил, повернувшись к Юшину:
– Предки мои ещё с позапрошлого века на Ижевском заводе трудились. Они из первых рабочих были на нём. Они из колена в колено его строили и устраивали. Ты знаешь, Юшин, как мы жили? Как у Христа за пазухой, а то и лучше! Жалование рабочим платили отменное, каждая семья имела собственные сады, огороды, покосы. Мы не были пролетариями, у которых за душой ни шиша, кроме внушённой им всякой сволочью претензии стать гегемонами! Мы были рабочие! Настоящие! У нас в Ижевске школ знаешь, сколько было? И для специалистов, и начальных! Моя семья жила возле Михайловского собора. Его строили на средства рабочих. Мой дед, силач, самолично колокола на звонницу втаскивал. Я, Юшин не был ни в Москве, ни в Петрограде, а только уверен, что наш собор не уступал столичным! Как зазвонят колокола в престольный праздник, как выйдут наши на улицы нарядные да весёлые, песни поют! Отец мой мастер был от Бога. Изобретал много. Ему, как другим особо заслуженным, сам Царь кафтан старинного покроя пожаловал. Он этот кафтан по праздничным дням надевал. Очень гордился царёвым подарком! Большое ему уважение среди наших было. Семья у нас велика была. Сыновей четверо, да дочерей пять душ. Меньшуха, правда, померла рано, и осталось нас восьмеро. И как же хорошо мы жили, Юшин! Дружно жили! Весело! На праздники к тётке Февронье ездили. Она с мужем в деревне жила рядышком. С деревней наши, вообще, дружили. Издавна. Все продукты покупали у них. Да и родственными связями обросли. Как одна семья! Старший брат мой, Николай, недюжинного ума был. Золотая голова! Ему на нашем заводе тесно показалось, учиться решил. Отец поддержал: таким-то способностям нельзя пропадать! А на заводе рабочих рук и так избыток. И укатил Николаша в Петроград. Приезжал потом – важный! Учёный человек! По мне, так спортила его столица. К нам он, конечно, не возвратился уже. Так там и осел. Оженился, дети пошли. В войну писал отцу, что вошёл в военно-промышленный комитет. Больших он высот достиг там, в Петрограде, да… Но и как бы с его головой не достигнуть! Чёрт, правда, знает, что теперь с этой головой поделалось, – Артуганов закурил. – Сестёр старших отец рано замуж выдал. Одну в деревню отправил, другую в Сарапул. Вроде ладком устроилось. А тут и мы, младшие, подросли. Золотое время было, Юшин! По улицам ходили, песни под гармонь наяривали, а то и гляди – сойдёмся стенка на стенку, и уж тогда держись! Я по этой части удал был! Петруха, старшой за Николашкой брат, оженился. Весь Ижевск на его свадебке гульнул – родители не поскупились. Санька, сестра, тоже замуж вышла. За Ваську Никифорова. У неё, Юшин, с ним любовь с детства была. В соседних домах мы с Никифоровыми жили, играли вместе. А Санька с Васькой всегда как-то наособицу были. Санька его на пять лет моложе была, так он всё ждал, когда она в лета войдёт. На других девок не смотрел даже. А Митяй-брат жену с деревни привёз. Граню. Хорошая была, ласковая. Мальчонку родила ему… – взгляд Климента затуманился, он помолчал несколько мгновений, а затем продолжил:
– Так мы, Юшин, жили, бед не знали. А потом началась распроклятая эта война. Я и теперь в толк не возьму, на кой ляд она нам была? Все мы, кто в возрасте был, на фронт отправились. Только Васька остался. У него какую-то хворобу нашли. А мы, Артугановы, все, как один, в окопы вшей кормить! Да на разных оказались фронтах: Митяй на севере, я с Петрухой на Юго-Западном. В шестнадцатом при наступлении Петруху в живот ранило. Все кишки разворотило. Сутки мучился и помер. А я, значит, с контузией да Георгием на побывку поехал… Домой. А дома у нас поменялось много. Наших-то парней, коренных ижевцев под германскую шрапнель послали, а на наше место пришлых отрядили. А пришлые мало того, что нашим обычаям чужды были, так ещё сплошь распропагандированные. Пролетариат, мать их дери! Отец тогда уж чуял, что добра с этого не выйдет. А мне как-то не до того было. Мне, Юшин, двадцать второй год шёл. Я полтора года вшей кормил. Я героем приехал! И одно у меня дикое желание было: жить! Здесь и сейчас! Гулять, пить, с бабёнками миловаться. Теперь понимаю, что расстроил тогда родителя гульбой своей, но распирало меня, разрывало! Думал я, вот, вернусь на фронт, и разворотят мне там брюхо, как Петрухе! А я и пожить не успел… А тут ещё петрухина баба, бестия, так и льнула ко мне. Родителям она всегда не люба была, а Петруха любил её. Да и родители у ней на заводе люди большие были. Порченая баба была, даже при муже глазами постреливала. А как его не стало! – Артуганов махнул рукой. – Не знаю уж, с кем эта бестия ещё вожжалась, покуда брат воевал, а только, как я вернулся, так она мне прохода не давала. И кой-то ночью сама пришла. А я что ж? Я с войны что полоумный! В общем, нагрешили мы тогда с нею… Ещё же постные дни шли, а мы!.. Она, вдовица свежеиспечённая, я – её мужа родной брат. Но, Юшин, хороша была баба! Понял я, как она этак Петруху-бедолагу приворожила. Чистая ведьма! Так весь отпуск и провожжались с ней. Отец наспоследях грозился пришибить меня, а мне что? Мне, может, через неделю брюхо разворотят! Полоумный был… Уехал опять на фронт, там меня, натурально, ранило. Отпуска уже не дали, а запихнули гнить в лазарет. Там я поразмыслил немного про себя да про неё. Попу покаялся, что был такой грех. Решил, что к чёрту её, бестию эту! Довоевал я остатние месяцы, а, как война приканчиваться стала, так я домой заторопился. Приехал, а стерва эта с каким-то пришлым хороводится! Сознательным пролетарием из созданного на нашем заводе Совета! Прихожу я, а они сидят, наливкой разговляются. Ну, я, натурально, долго думать не стал – как съездил дряни этой по уху! Аж серьгу её поломал! Полюбовник её в окошко сиганул, а она в рёв: «Климушка, родной, он меня снасилил!» Совсем, натурально, за полуумного держит! Будто бы я не знаю, что она за товар! Посёк я хорошенько в тот вечер, и надо было бы дверью хлопнуть, а духу не хватило! На фронте оголодал без бабы, а тут… Эх!
А на заводе, меж тем, каша заваривалась. Советчики всю власть под себя заграбастали. Старых мастеров по боку, а сами, криволапые, на их место. Постановили, что пролетарию никаких личных садов и огородов не нужно. Это, де, буржуйство! Ну, не сволочь ли? Поотняли у нас наши огороды с покосами. Знай, пролетарий, свой станок, а больше ничего тебе не нужно! Решили эти сукины сыны из рабочих рабов сделать, скотину послушную! Торговлю запретили, карточную систему ввели: комиссарам – избыток, рабочим – шиш. Обыски по всем домам прошли, да не по разу. Всё ценное вынесли. Решили, наконец, хлебную монополию ввести. Это у нас-то! Да у нас только у вотяков-крестьян скирды годами накапливались, неисчерпаемые запасы были! Совсем, натурально, решили нашего брата в бараний рог скрутить. Ну, наши выступать начали, а те сразу – террор! Токаря Сосулина убили, выступавшего против их зверств. Из-за угла застрелили! Да и ещё многих. Мастеров, купцов. Многие в деревнях и лесах попрятались. Отец мой тоже. Мы, фронтовики, объединяться стали, чтобы отпор этим сукиным сынам дать. А тут брат Митяй вернулся. И что ты думаешь? Вступил в семнадцатом в партию большевиков! Не дурак ли? Сам сказал, что дурак. Напоили нас, говорит, ослиной дозой большевизма. Поверили мы их обещаниям, не понимали, что к чему! А, как посмотрел, что у нас на заводе поделалось, так, натурально, и понял. Членский билет отдал, а они ему стали грозить, что, если он в Красную армию не запишется, так расстреляют его, как дезертира. Заарестовали его. Тогда уже Каппель к Казани подходил. Большевики занервничали, решили среди нас мобилизацию проводить. Ну, мы, натурально, и мобилизовались! Похватали винтовки, которые наш же завод и произвёл, да сами скрутили сукиных сынов в бараний рог! Арестованных освободили. И Митяя среди них.
Так наша борьба началась. На нас, само собой, сразу карателей снарядили. Мадьяров да латышей, дери их мать. Ну, уж мы их встретили! Взяли несколько пудов пороха с завода и заложили его на мосту на пути этой сволочи. Как они подошли, так и рванули. Сразу две сотни «товарищей» к чёрту в ад отправили. Подрывников наших, правда, расстреляли они, но мы им уйти не дали, обложили их в лесу со всех сторон и перебили. Такая победа была, что думалось, теперь скоро разгромим и всех их. Ведь и воткинцы к нам присоединились! И вокруг восстания полыхали. А не вышло… Осенью взяли нас большевики за глотку. Выбор не велик у нас был: или погибнуть, или уходить за Каму. Уходили в ночь. До тридцати тысяч душ нас было. И солдат, и беженцев. Воткинцы успели ещё госпиталя вывезти и управление завода с электрическими машинами, чтобы работу на нём не могли возобновить красные. Мы тоже свои винтовки не забыли. Последние части наши уже по горящему мосту отступали, отбиваясь от красных. Мы думали, что уходим ненадолго, а пришлось отступать до самой вашей Сибири, а потом – обратно… Родня моя осталась в Ижевске. Только Митяй с отцом ушли. Всё мы вместе держались. Митяй с отцом всеми мыслями дома были, а я… А я что ж? Я, Юшин, жить хотел. А как жить да не грешить? Правда, приключилась со мной любовь. Настоящая. Была у нас сестра милосердия, девчонка совсем. Гимназистка. Лидочка Попова. Храбрости невероятной! Она наши цепи за собой поднимала, Юшин! Так мы весело наступали с ней! С песнями! Помню, лежим как-то в окопе. Пули свистят – вжих, вжих! А у меня гармонь была моя неразлучная, заиграл я песню весёлую, наши подхватили. А Лидочка, натурально, перед цепью выскочила и начала танцевать! «За мной!» Как попёрли мы! Смяли большевика! Лидочке, правда, в том бою, ноги перебило, попала она в лазарет, а с той поры я её не видал. У нас в неё все поголовно втрескались, но никому не свезло. И мне не больше других. Вот, в таких боях, дошли мы, Юшин, до родных краёв. А лучше бы не доходить никогда… Знаешь ты, Юшин, что нас ждало там?
– Я слышал… – тихо отозвался Алексей.
– Мы тоже – слышали! – Климент горько усмехнулся. – А когда увидели, то… Они, брат, только в первые три дня до десяти тысяч людей расстреляли. Ни одной семьи не осталось, где бы не было жертв. За городом вырыли овраг и сводили туда. А других замучили до смерти в ЧК. Мы, Юшин, шли, ожидая радостных встреч, а встретили стоны и плач. Даже могил не нашли, потому что их не осталось! Всем одну братскую вырыли! Чтобы сосчитать наших убитых, пришлось переписчиков по домам послать… В первые же дни арестовали Ваську Никифорова с отцом. Санька увидела, что их среди других арестованных ведут, кинулась следом: «Куда ведёте?» А ей говорят: «Идём, увидишь!» Она и пошла… Их обоих расстреляли. Мать, когда узнала, померла от удара. Племяша моего, Севку, подростка, расстреляли. Никого не щадили звери: ни детей, ни женщин, ни стариков… А Граню комиссары увезли куда-то. Никто о ней ничего не слышал. Мне моя бестия нашептала, будто один из них на неё давно глаз положил, а она его отваживала. Эта-то дрянь живёхонька осталась. К счастью, однако. Она о меньшухе нашей, о Нюрке, позаботилась и о Санькином сыне. Свезла их к старшей сестре нашей, Севкиной матери, в деревню. Так-то, Юшин… Шли мы домой, думали обнимем родных, отметим возвращение, поживём… А вместо этого поминки справляли. И весь завод наш – словно погост. Лучше бы и не видеть, – Артуганов налил самогон в два стакана, сунул один Алексею: – Помянем, что ль. Мать, братьев, сестёр… А теперь и отца, которого тиф пожрал! – выпил, зажмурившись.
Алёша выпил тоже, зажевал коркой ржаного хлеба. Он понимал, что поводов для горя у него ничуть не больше, чем у Артуганова или многих других. Но чужое горе даже самого тонкого человека не пронимает так, как своё личное. А человека, с загрубевшим и замёрзшим сердцем – и подавно.
Подтягивались в тёплую вдовью избу замёрзшие бойцы, грелись у печи, улыбались обмёрзшими губами полной красавице-хозяйке.
– Что, много ли полегло вчера в бою? – спрашивала она.
– До половины состава, – отвечали ей уныло. – А многие разбежались в суматохе – отыщи их!
– Куда ж вы теперь пойдёте?
– Сказывают, на север. В тундрах укроемся до весны.
– Не бреши, чего не знаешь.
– Куда Каппель скажет, туда и пойдём. Хоть на самый северный полюс!
Юшин снова лёг. Армия была разгромлена – это яснее дня представлялось. Этот красноярский бой стал последней каплей, добившей её. Но не это рвало на части сердце Алёши. Не это томило его. А вид уходящего от станции Ачинск польского эшелона…
Когда громыхнул взрыв на ней, Алексей со своими людьми находился в соседней деревне. Оттуда вызвали их срочно для помощи в наведении порядка. Примчались немедленно, застали тошнотворную картину разбросанных по снегу ошмётков человеческих тел. Поморщился Юшин и проехал к дымящейся станции. Там, под обломками, несколько тел лежало. Живых не осталось. Взглянул рассеянно на сохранившуюся стену, и как стрелой пронзило: «Алёшенька! Еду в польском эшелоне. Ищу тебя! Твоя Надя Юшина». И дата! Вылетел со станции, как обезумелый, спросил первого попавшегося офицера:
– Скажите, польский эшелон ещё здесь?!
– Польский? Только что отправился в Красноярск. Вон, – кивнул вперёд, – видите, ещё виднеется.
Поезд, действительно, ещё виднелся впереди. И в этом поезде была – Надя! Всё время отступления Алёша сходил с ума от мыслей о ней, всего больше страшась, что окажется она в одном из остановленных чехами поездов, обречённых на гибель. Боялся и убеждал себя, что такого не может быть, потому что никогда не допустит этого Антон. Потому что Антон – не чета ему, нескладному, неприкаянному. Антон – голова! Антон ужом извернётся, чтобы своих в целости в безопасное место вывезти. Значит, и Надиньку…
Все эти месяцы, что прошли с их последней встречи, Алёша мечтал увидеть жену и боялся этого. Боялся, потому что какая-то неуловимая черта пролегла между ними. Он явственно почувствовал это, когда приезжал на крестины сына. Алексей не мог объяснить этого странного чувства. Он по-прежнему любил Надю, любил даже больше, чем раньше, но переменилось нечто внутри него. Алёша чувствовал себя опустошённым, ожесточённым на всех. И, самое главное, не понимал, что делать дальше, что будет дальше. Белая борьба была проиграна, и ему, офицеру, не приходилось рассчитывать на милость победителей. А если так, то как жить дальше? Где жить? Чем жить? Вместо защиты и опоры, он становился вечной угрозой для своей семьи. Для Нади и малыша. Бежать за границу? И что делать там? Что, вообще, мог делать он, Алексей Юшин? Всё виделось бессмысленным и безнадёжным. Алёша не узнавал себя. Он всё чаще заглушал тоску спиртным, несколько раз срывался на нижних чинах, он перестал жалеть врагов, перестал жалеть и простых людей. Все чувства отмирали в нём, а оставалась лишь пустота, разочарованность, ненависть. Не только ко врагам, но к самому себе. За свою нескладицу, за неумение жить, за скверный характер. Пробовал молиться, но не шло. Ушёл куда-то Господь за семь небес, отвернул светлый лик, замкнул слух… Отвёл взор от воздеваемых к нему рук за то, что руки эти полны братской крови… Алексей чувствовал себя искалеченным хуже, чем, к примеру, однорукий тесть. Он боялся своей искалеченной души. Что делать с такой душой? Если и даст Бог соединиться с Надей, то как жить? Сможет ли она его принять таким? Знал себя Алёша, знал, что не сможет преодолеть себя. Значит, измучает и себя, и жену. А за что ей это? Обещал сделать счастливой, а сделает глубоко несчастной. Оттого и страшился встречи…
А судьба (или Бог?!) словно нарочно куражилась, хохотала в лицо. Недели через две после возвращения на фронт привелось участвовать в ожесточённом бою. Не крупное это было сражение, но такой накалённости никогда прежде не бывало. Сначала кинулись в штыки, но скоро перешли в рукопашную. Как первобытные люди, катались по земле, грызя друг друга зубами, душа. День туманный выдался, и лиц друг друга нельзя было разобрать. Да и до лиц ли было! Один против трёх оборонялся Алексей, и какой-то ретивый красноармеец всё набрасывался на него сзади, вис на плечах, норовил повалить на землю, хватал цепкими ручищами за шею. Холодное бешенство владело Алёшей. Штык давно не шёл в дело, а только руки, ноги, зубы, нож… Наносил этим ножом удары хладнокровно, сам уворачивался с ловкостью. А тот, чёрт, всё набрасывался сзади, куснул пребольно за ухо. Тут уж окончательно вышел Алексей из себя, перекинул с рёвом через себя противника, поверг на землю его и стал душить. Тот рычал, плевался, пытался отбиваться руками и ногами, но Юшин был сильнее. И нечеловеческая ярость добавляла силы. Наконец, враг перестал трепыхаться, хрипеть и замер. Алёша утёр пот со лба и тут только разглядел лицо убитого. И отпрянул. Лежал перед ним Давыдка… Как воочию последний разговор вспомнился в бане. Как зарекался, что никогда не убьёт товарища… А тот обещал: убью, если надо будет. А повернулось всё наоборот. Лежал Давыдка в грязи, длинный, тощий, с синим, перекошенным лицом и выпученными глазами. Заплакал Алёша, тряхнул друга за плечи:
– Давыдка, да ты что? Да ты зачем?! Очнись! – обнял убитого, закрыл глаза ему, а сзади, как псы, налетали красные – отшвыривал их бесчувственно. Так ни царапины и не получил в том бою. Словно проклятый!
После этого такая тяжесть легла на душу, словно бы вся пролитая кровь братоубийственной войны на ней была. Словно бы не друга, а самого себя убил. Конечно, это был честный бой. И даже у красных было превосходство. И непременно убил бы его Давыдка. Но сознание этого не облегчало. Сознание того, что закадычные друзья детства стали убийцами друг друга – могло ли облегчить? А уж лучше бы и самому убитому быть!
А отступление шло своим чередом. К зиме до родных краёв «допонужали». Мелькнула мысль в Новониколаевск свернуть с Надинькой повидаться, но полк не шёл туда. Конечно, можно было отпроситься у командира или своей волей хоть на день метнуться, но не хотелось. Тяжела была б эта встреча. И даже полегчало, что полк не в Новониколаевск шёл. Вроде как и совесть спокойна…
А, вот, в отчем доме побывать привелось нежданно. Аккурат через родное село путь лежал. На ночлег останавливались бойцы в просторных избах. При свете месяца подошёл Алексей к своей. Стоял дом родной, снегом серебристым заметённый, такой же совсем, как в детстве. Вокруг яблоньки заиндевевшими ветвями сплетались – точно кружева. Дымок из трубы валил, приветно светились окна. Только не лаял, встречая, Бушуй. И ворчливый отец не высматривал из окна. Отец умер два месяца назад, весть об этом ещё успел получить Алёша. И мало горевал: помиловал Бог старика – не дал дожить до окончательного разорения. Не вынес бы он его. А Бушуйка верный не пережил хозяина. Повыл три дня и околел. Что-то сиротское в отчем доме проступило, и задрожали слёзы на ресницах, сразу превращаясь в лёд.
Алексей поднялся на крыльцо, вслушиваясь в знакомый скрип каждой ступеньки, постучал в дверь. На пороге явился незнакомый полковник:
– Простите, капитан, но этот дом занят!
– Простите, господин полковник, но это мой дом…
– Ваш?
Не успел полковник отправиться от недоумения, как подмышкой у него проскользнула Анфиска, вскрикнула, бросаясь навстречу:
– Алёшка! Живой! Господи, живой! Маманя! Маманя! Алёшка приехал!
Полковник отстранился от двери. На его усталом лице с большими мешками под глазами заиграла добрая улыбка:
– Простите, капитан, я не знал, что вы здесь хозяин.
Выбежала из комнат зарёванная мать, упала на грудь, шептала, захлёбываясь:
– Сыночек, сыночек… Слава тебе Господи, не дал помереть, не повидавшись!
Сразу заметил Алексей, что мать очень сдала. Пригорбилась, похудела… Почему-то Алёше всегда казалось, что мать никогда не станет старой. Он смотрел на согбенных, сморщенных, беззубых деревенских старух и думал, что его мать никогда не станет такой. Разве такая высокая, статная, сильная, красивая женщина может стать такой? Невероятно! А, вот, стояла перед ним старушка. Ещё не беззубая, не безобразная, но уже – сухонькая, маленькая, с намечающимся горбиком – и не заподозрить в ней былой рослой красавицы. Плакала заливисто:
– Отца-то, Евграфия-то прибрал Господь, помилосердовал. Хоть бы и меня вослед теперь! Зачем только земля носит? Зачем только глаза видят? Вот, тебя повидала, и пора к нему… Он-то, небось, соскучился там, Евграфий-то…
– Мать, ну, что ты говоришь такое, а? К тебе сын живой пришёл, а ты помирать собираешься, – увещевал Алексей, стараясь вложить в голос побольше ласковости.
– Прости, сыночек, – мать утёрла кончиком накинутого на плечи платка слёзы. – Анфиса, неси скорее на стол, что есть у нас! Сыночек! А ты что же, как все, только на ночь? – оборвался голос: не хотелось старой с сыном разлучаться, едва успев обнять.
– Да… Ты же знаешь, по пятам большевики идут…
Мать прижала мокрый конец платка к лицу, закачала головой, закручинилась:
– Ох, ты горе горькое! Да за что же нам такое, Господи? Чем мы так провинились? Думала я, сыночек в офицеры вышел – то-то радость! – смотрела страдальчески. – Сыночек, может, всё-таки останешься, а? Мы тебя спрячем!
– Куда? – Алексей усмехнулся. – В погреб? На чердак? Мать, они везде найдут. Ещё и вам достанется за укрывательство.
– Что за жизнь настала! Бежите вы, словно какие разбойники… Да неужто нельзя этих аспидов остановить, сыночек?!
– Они не бегут, а планомерно отступают, – зло сказала Анфиска, подавая к столу яичницу-верещанку и другую снедь. – Коней наших забрали уже. А за ними большевики придут, и будут мстить нам за них. Лучше бы уж сразу большевиков приняли!
– Анфиса! – ахнула мать и замахала испуганно руками. – Ты что говоришь-то?! Бога побойся!
– Я большевиков боюсь! – всхлипнула Анфиска. – У меня дети мал-мала меньше! Матвейка уже взрослый почти! Ну, как они его в солдаты?! Да Демид ещё с ними, иродами, не в ладу! Уехать бы… Алёшка, что если мы с вами покатим, а? Сани у нас есть…
– У нас и так обоз в разы больше, чем армия. Из-за этой оравы всякая возможность действия теряется! Сидели бы уж по домам! – сорвался Алексей.
– Конечно! Как сами от большевиков драпать – так ничего! А мы – орава! Мы вам мешаем! А кто нас защитит?! Кто?!
– Да пойми ты, дурёха, что мы сами не знаем, что завтра будет! Куда кривая выведет! Куда вы поедете? С детьми?! Ты хоть понимаешь, о чём говоришь?!
– Не ори на меня!
Алёша смутился, попытался обнять сестру:
– Прости, пожалуйста. Мама, и ты прости… Все осатанели… Иногда мне кажется, что я схожу с ума.
– Ты тоже прости меня, – вздохнула Анфиса. – Ты, конечно, прав… Просто мне очень страшно. За детей, за маму, за Демида. Кажется, уехала бы на край света. Да некуда! – махнула рукой, ушла, устало отмахиваясь от дёргающего её за подол малыша.
Мать обняла Алексея за плечи, уткнулась лицом в его лохматые, спутанные волосы:
– Бедные вы, бедные… Что ж с вами будет? Куда вы пойдёте? Я свой век прожила, и помереть бы спокойно. Да с каким сердцем помирать, зная, что детей не на счастье, а на муки оставляю? У нас весь дом солдатиками занят. Молоденьких совсем много. Один нашего Матвейки едва ли старше. Бабушка, говорит, дай поесть чего-нибудь… У них же, наверное, тоже матери, сёстры… И не знают даже, живы ли они. Это не ты, сыночек, с ума сходишь, а вокруг всё в тартарары летит. Отец-то наш, покойник, предвидел это. А мы ещё не верили, помнишь? А он, Евграфьюшка, всех нас зорче был.
Причитала старая, роняла горячие слёзы. Никогда прежде не говорила мать так. Всегда в голосе её воля звучала, твёрдость. А теперь совсем по-старушечьи бормотала, гладила морщинистыми, пропахшими духовитой выпечкой руками сыновнюю голову.
– Ты на Анфиску не взыщи. Замучилась она. Я-то совсем никудышная стала, весь дом на ней. Она у нас теперь – большуха. Матвейка помощник на радость нам вырос. Только изболелись мы: как бы не забрали в солдаты! Пропадём ведь тогда! Вот, она и сорвалась.
– Я понимаю, – отозвался Алёша. – Я сам виноват. А где Демид? Мне бы повидать его.
– Да должен прийти вот-вот. Отозвали в соседний дом к исповеди. Беда и с ним тоже… Большаки-то священников не любят. А те, что из местных зуб на него давно имеют. Вот, вы уйдёте, а они придут. И что-то будет с нами? Деревня-то наша осиротела. Почти ни одного дома нет, откуда бы война эта проклятущая не вырвала кого-нибудь. Красных ли, белых ли… Все ведь люди! Вот, и дружка твоего закадычного, Давыдку, в бою, говорят, убили.
Алексей вздрогнул, чуть не поперхнувшись куском. А мать не заметила, продолжала:
– Хоть и красный был, хоть и не любил нас, а жаль всё же. Молодой парень был. Жил бы себе, трудился, детишек рожал… Как отцы-деды. Зачем смерть свою искать пошёл?
На Алёшино счастье в это время вернулся Демид, и неприятный разговор прервался. Алексей осторожно снял с плеча материнскую руку, попросил:
– Мне бы с Демидом наедине словцо сказать…
Мать понимающе закивала:
– Конечно, сыночек. Поговорите. А я пока в дорогу тебе сберу чего-нибудь.
Ушла старая, ногами шаркая, голову седую клоня и бормоча что-то. В доме было шумно, все комнаты заняли набившиеся в него бойцы, лишь одну оставили хозяйки за собой и детьми. Да, вот, ещё закуток уступил добрый полковник вдруг приехавшему хозяину, каковым и не ощущал себя Алёша в отчем доме. И никогда-то не ощущал, а теперь и подавно. Он отсел от стола, прижался щекой к грячей печной стене, скосил взгляд на Демида, устало сидевшего на краю стула. Клевал носом отец Диомид. Знать, сильно натрудился. Но всё же отметил, редкую бородку теребя:
– Переменился ты, Алёшка.
– Не побреешься да не помоешься с моё – ещё не так переменишься.
– Да я не о том. Глаза у тебя другие стали.
– Неужто? И что же ты, батюшка, у меня в глазах читаешь?
– Тяжко тебе, вот что. Ты с войны не таким пришёл. А за эти полтора года переменился. Обожжённый ты какой-то. Молился-то давно, чай?
– Давно, Демид, давно. Не помогает! Тебе хорошо! Сидишь здесь… Жена с ребятишками под боком. Тепло, светло. Тебя не душат, и ты никого не душишь. Благодать! Только молись! Живёшь, как Божья тварь. А мы там, как твари, Богом отвергнутые, друг друга грызём.
– Ты, Алёшка, со мной, как со священником, говорить хотел, или как с роднёй?
– А и так, и так. Исповедоваться по форме не буду. Не готов… – Алексей закурил, забыв о том, что отец Диомид на дух не терпит табачного дыма. А тот не подал виду, не поморщился даже, лишь руку к виску приложил: голова разболелась.
– Ты, Демид, знаешь, что Давыдку убили?
– Слыхал, как же.
– А знаешь, кто его убил?
Демид поднял на Алёшу свои кроткие, тихие глаза, проронил:
– Ты?
– Чёрт! – Алексей вскочил на ноги, рассмеялся нервно. – Но моими руками! Как наваждение! Сплелись мы клубком, грызём друг друга зубами, катаемся, земли полон рот, рычим, как звери. Ни штыка не нужно! Ни винтовки! Я лица-то его не видел! И зачем мне было его лицо? У врага же лица нет! Враг – это только враг! Или ты его, или он тебя! И вышло, что я его… Вот этими, – поднял руки, растерянно на собственные ладони глядя, – руками удавил. А потом увидел лицо… На чёрта увидел! На чёрта не бросился сразу на другого! Я его теперь во сне вижу. Демид! Мы же выросли вместе! Здесь выросли! В наш лес бегали, на речку… Бывает разыграемся, повздорим, надаём тумаков друг другу. Иной раз и крепко! Помню, разругались как-то да как сцепимся! Там, на дороге… Катаемся, как щенки, орём, тузим друг друга. Мать выскочила, напустилась на нас. Мы ж, как черти, грязные были! Порты с рубахами изодрали! Рожи исцарапанные, все в синяках… А наутро опять лучшими друзьями были! А, вот, теперь не настанет утра, и не быть нам больше друзьями. Потому что я его, Демид, убил!
– Не ты убил, Алёшка, – отец Диомид покачал головой.
– А кто, Демид? Кто?!
– Ты сам сказал. Чёрт. Чёрт сейчас в человеческие души влез, мутит их. Давыдкину замутил, твою. И потешается! А ты не виноват. И Господь знает это.
– Складно у тебя всё выходит. Всё по полочкам, всё ясно. У меня никогда так не было. Даже, когда в семинарии учился. Одни вопросы… Наверное, поэтому и попа из меня не могло выйти. И монаха. Вообще ничего. Правильно отец меня всю жизнь пилил, что я бестолок.
– А кто не бестолок? Посмотри вокруг, Алёшка. Разве что-то толковое осталось? Одна бестолковщина. Воистину говорят, что, если хочет Бог покарать, то отнимает разум. Вот, и перевёлся он у нас. Разум-то.
– Как вы живёте-то здесь, Демид? – спросил Алексей, сменяя тему.
– Бог грехам терпит, – вздохнул отец Диомид. – Голодать – не голодаем покуда. Ещё с четырнадцатого года хлеб лежит. Не зря ж большевики лозунг бросили: «Вперёд, в Сибирь, за хлебом!» Семь шкур с нас сдерут и по миру пустят… – помолчал и добавил глуше: – Анфиса-то моя брюхата опять. И вроде бы радоваться должно, а мы с ней вместо этого горюем – Бога гневим. Конечно Матвей у нас взрослый уже, и старшенькая подросла – помощница матери. Да ведь двое мальцов. А теперь и ещё одного ждём. Среди этой кутерьмы! Как поднимать? Что при большевиках с нами станется? А ну как Анфиса занеможет? Весь же дом развалится! Маловеры мы, Алёшка. Вот, гляди на меня. Тебе и другим Божие слово проповедую, а сам, как осиновый лист дрожу, в Его милости сомневаюсь. Сказано: по вере вашей будет вам. И на что ж я рассчитывать могу с такой-то верой? Всё по грехам нашим, Алёшка, по скверне нашей и маловерию.
Жаль было Алексею шурина. Жаль и сестру с матерью. И племянников. А одеревеневший язык не желал даже слова доброго выговорить. Завалился спать на полу, подложив под голову малахай и укрывшись отцовским долгополым тулупом, принесённым матерью. Старая сидела с ним рядом, беззвучно шевелила истончившимися губами: то ли ласкательное что говорила, то ли молилась. Не сводила глаз с непутёвого сына. Словно насмотреться хотела в последний раз. Всегда знал Алёша, что, хоть и повторяет мать всё за отцом, а из всех детей своих его больше других любит. Не прыткого, самоуверенного, удачливого Антошку, не хозяйственную, послушную Анфиску, а его, бестолкового, неприкаянного. Жалела старая и оттого больше других любила. А сама-то что хорошего от него видела? Только огорчения…
– Мама, я очень люблю тебя, – всё-таки вымолвил деревянный язык. И, кажется, впервые в жизни. – Ты, пожалуйста, за отцом-то не спеши. Я обязательно домой вернусь. Я хочу, чтобы ты ждала меня. Чтобы, как раньше, вышла встречать на крыльцо. Обещаешь?
– Обещаю, сыночек, – тихо всхлипывала старая, уткнувшись лицом в Алёшину грудь. – Только уж ты-то недолго… Я-то подожду, да Господь-то ждать не станет.
– Я приеду, обязательно…
– Спаси тебя Христос, сыночек!
Так и простились ещё затемно… В дорогу собрали Алексею узел с домашней снедью. И отцовские валенки с тулупом взамен рванины чистым подарком стали. Успел Алёша прежде отъезда на отцову могилку сходить, поклониться праху родителя. Уезжал, когда первый рассветный луч рассеял ночной мрак. Шум царил, лился по сельской дороге живой поток из людей, лошадей и подвод. И вливаясь в него, в очередной раз покидал капитан Юшин отчий дом, провожаемый с крыльца заплаканными глазами матери и печальными – сестры и шурина.
Впереди ждал тяжёлый и опасный поход к Красноярску. Туда направлялись разными путями части разгромленной армии. Туда двигались и Барнаульцы, рассчитывая соединиться с основными силами. Путь к Красноярску лежал через Щёгловскую тайгу, где была прорублена сносная для передвижений тропа. Щёгловская тайга, называемая местными «чернью», прежде находилась в царских владениях и славилась неисчислимым богатством лиственных пород. Алексею «чернь» была знакома. Некогда ездили через неё с отцом по делам в Щёгловск. Было тогда Алёше лет десять, и тайга запечатлелась в детском воображении сказочно прекрасной. Сугробы двухаршинной глубины, великаны-ели, покрытые пластами снега, переливающегося всеми цветами радуги, подобно алмазам. Чудилось, что это и не снег вовсе, а самые настоящие алмазы. Алмазный край! Захватывало дух от такой красоты! А мороз несилён был, пощипывал игриво. И мчались вперёд сани, запряжённые любимой отцовской Душкой, потряхивающей долгой гривой. И крепко держал поводья отец, ещё не старый, сильный, деловитый. И самому ему весело было от этой езды, от обступающего с обеих сторон великолепия. Покряхтывал, покрикивал, а то и затягивал песню, зычно разносившуюся по тайге. И Алёша тонко подтягивал ему…
И теперь прекрасна и величава была тайга. Только страшны были морозы её, доходившие до сорока градусов. И малонаезженная дорога, вполне пригодная для лёгких саней, для походных колонн узка была. Запрягали лошадей уносом, но мало выручало. То и дело срывались подводы с дороги, и приходилось выталкивать их из сугробов. А какие сугробы были в этом нехоженом царстве! Шаг от дороги, и барахталась беспомощная лошадь по брюхо в рыхлом снегу, не имея опоры ногам. Выматывались бедные животные. И люди – не меньше. Особенно тяжко приходилось артиллерии. Люди волновались, подгоняли друг друга. То здесь, то там слышалось привычное: «Понужай!» И иные находчивые принимались стрелять, надеясь выстрелами подогнать замешкавшихся впереди. Кое-кто сворачивал на обочину, надеясь обогнать медленно движущуюся колонну. Но дремучая тайга, заваленная валежником, не оставляла шансов. Так непроходима была она, что и отряду лыжников не удалось бы её одолеть.
– Понужай! – и подтянули несколько голосов, и подбавили матерной бранью.
– Куда лезешь?! Назад, сукин сын!
– Да побойтесь Бога, господа!
– Пойди к чёрту! У тебя две лошади, а у меня ни одной!
– Отойди от лошади, а то пристрелю!
Прянула выпряженная лошадь в сторону, скакнула несколько раз и провалилась в глубокий снег и замерла бессильно, лишь ушами потряхивая.
– Родимая, поднимайся! Давай! – молил её офицер, таща за удила. – Поднимайся, пожалуйста! Ну! – и осердившись, хлестал в отчаянии плетью по морде. – Пошла, тварь! Пошла! – но, встретившись глазами, опустил хлыст, рухнул на колени, заплакал: – Прости… Прости… – поцеловал издыхающую кобылку и застрелил, чтобы не мучилась дольше. Побрёл, увязая в снегу, волоча винтовку…
Ночевать приходилось, в основном, под открытым небом, так как вокруг практически не было жилищ, кроме изб лесников. Люди, зачастую плохо одетые и обутые, страдали от обморожений. Лошади гибли от бескормицы и отсутствия воды. От холода спасали лишь костры, горевшие на протяжении всего непомерно растянувшегося обоза. Дорогу заволакивал едкий дым, от которого слезились глаза и першило в горле.
Несмотря на постоянные заторы, двигались всё же быстро. Страх гнал людей вперёд лучше любого кнута. А страшиться было чего! Сзади наседали большевики, движение которых тормозили шедшие в арьергарде доблестные Ижевцы. В самой тайге бесчинствовали красные банды. Щёгловск находился во власти командира красных партизан Щетинкина. Его отряды наводили ужас на окрестности своими зверствами. Пленных раздевали донага и на морозе обливали ледяной водой и избивали плетьми или палками до тех пор, пока жертвы не падали замертво. Не щадили даже грудных младенцев. Их, по рассказам чудом уцелевших очевидцев, убивали, хватая за ноги, об угол дома или замёрзшую землю. Судьба сбившихся с пути, отбившихся от основной колонны обозов была страшна. В одну из ночей группа, предводительствуемая горячим молодым офицером прорвалась вперёд и решила, не дожидаясь основных сил, спешить в ближайшую деревню, чтобы не проводить ещё одну ночь без крыши над головой. Жажда тепла и горячей пищи была естественной и одолела все доводы разума. Ночью в тайге слышались выстрелы, но никто не поспешил на выручку. Ушедшие сами избрали свой путь. Судьба несчастных стала известна наутро, когда колонна продвинулась вперёд. На своём пути она нашла перевёрнутые сани, на оглоблях которых были распяты недавние попутчики, столь опрометчиво поспешившие вперёд в надежде напиться горячего чаю и выспаться в тёплой избе. Хоронить убитых было некому и негде. Так и остались стоять изувеченные мертвецы вдоль дороги, устрашая живых…
После этого случая нервы у людей стали сдавать окончательно. То и дело вспыхивали ссоры, истерично кричали женщины, грубо бранились офицеры. Вспыхивали конфликты из-за подвод, которые более сильные пытались отнять у более слабых. Разум отступал перед натиском страха. Позорно повёл себя начальник седьмой Уральской дивизии полковник Бондарев. Расталкивая других, он со своим санями и группой конного конвоя, пытался прорваться вперёд. Однако, сани застряли в снегу. Бондарев выпряг лошадей, усадил жену верхом, вскочив в седло сам, нервно крикнул:
– Лёля, за мной! – и понёсся вперёд, сея панику, увлекая за собой других отчаявшихся.
Вслед ему раздалось несколько выстрелов. Это стрелял командир Ижевцев генерал Молчанов, хотевший убить труса и пресечь поднятую им панику.
Викторин Михайлович Молчанов пользовался в армии большим и заслуженным уважением. Можно было только гадать, чем окончилась бы щёгловская эпопея, если бы не распорядительность генерала. Поняв, что с таким обозом далеко не уйти, он принял единственно возможное в сложившейся ситуации решение: избавиться от большей части повозок, исключая самые необходимые, посадить всех, кому достанет лошадей, верхом, остальных вести пешим порядком. Сани оставлялись лишь немногим: женщинам, детям и раненым, следовавшим при частях. Больных и раненых, которые могли рисковать встречей с красными, решено было оставить в деревне Дмитриевке. Это решение было наиболее тяжёлым, но необходимым. С ранеными добровольно остался врач и сестра милосердия. В Дмитриевке же пришлось оставить и большую часть пулемётов, для которых не было патронов, и продовольствие. В деревне творился неописуемый хаос. Все дворы, улицы и выходы из неё были завалены брошенным имуществом, оружием и санями. Дома – заполнены ранеными и больными. Чтобы расчистить дорогу, Молчанов приказал скинуть обозы в сторону, обрубить постромки и заставить беженцев идти пешком. Но исхитрялись люди обойти приказ. Дожидались прохода бригады и, возвратясь назад, чинили постромки и снова загромождали дорогу. Тогда Викторин Михайлович прибег к более радикальным мерам.
– Сани собрать в кучу и сжечь, не считаясь ни с какими протестами! – приказал он. – Исключение – только для детей и раненых. Поручик Багиянц, вы поняли приказание?
– Так точно, ваше превосходительство!
– А если встретите командующего армией, едущего в санях, то что будете делать?
– Сожгу сани и предложу ехать дальше верхом. Скажу, что диктатор тайги, генерал Молчанов, приказал так поступить.
– Исполняйте!
И полыхнули сани к ужасу и горю своих владельцев. Не пожалел поручик Багиянц найденного керосина на исполнение генеральского приказания. Вдоль всей дороги дымились почерневшие санные остовы, гибли в пламени сундуки с одеждой, одеяла и подушки, шипело сибирское масло, которое везли целыми бочонками, иногда взрывались патроны и ручные гранаты, и лошади испуганно вздрагивали от их грохота. Подводы были уничтожены, и по освобождённой дороге движение пошло быстрее. Вот только дорогую цену заплатил за это арьергард, всё время разгрузки обоза отбивавший атаки красных. В этих боях полностью погибли остатки седьмой уральской дивизии, командир которой так трусливо и позорно бежал. Большие потери понесли войска и у Щёгловска, где погибли сотни солдат и офицеров.
Казалось, не будет конца этой страшной тайге, её гробовая тишина, её неприступность, непроходимость, невозмутимость, давила с обеих сторон. В ней гибли, не оставляя могильных крестов, остатки третьей армии, и не верилось, что впереди есть ещё что-то. Страх всё больше овладевал людьми. Как-то раз Алёша и братья Артугановы, с которыми отчего-то сошлись за время похода, замешкались в пути. Ночь стояла ледяная, промёрзли до костей, а разжигать костёр долго было. Глядь, горит впереди! Шедшие впереди развели, кипяточек греют. Попросить погреться – погонят: озверел народ, снега прошлогоднего не допросишься, не то что места у костра и капяточку. Поскрёб Климент за ухом да возьми и жахни из винтовки в воздух! Всполошились у костра сидевшие, припустились бежмя. Даже не разобрались, бедолаги, что к чему. Сели у их костра, как раз и кипяточек подошёл – выпили, обогрелись. И ничуть не ворохнулась совесть, что чужим воспользовались. Климент так и развеселился, как удачно сообразил пугнуть.
Но, вот, расступилась тайга, поглотив великое множество жизней и похоронив почти всю артиллерию третьей армии. Лишь герои-Воткинцы спасли свои орудия. Лошади не могли вывезти их, сани ломались под их тяжестью на разбитой дороге, и тогда на собственных плечах вынесли их пехотные части.
На станции Тайга рассчитывали соединиться с частями первой армии, но запоздали. Тайга оказалась уже в руках красных, которые вели там ожесточённый бой с эшелонами Польской дивизии. Пришлось идти в обход. В поисках своих Молчанов выслал вперёд несколько разъездов. Группа под командой Климента Артуганова, в которую среди охотников вызвался Алёша, следовала вдоль железной дороги. Всё полотно представляла собой кладбище брошенных поездов. Это были русские эшелоны, в которых пробивались на Восток офицерские семьи, беженцы и раненые. Чехи отняли у них паровозы и обрекли на верную смерть. Кто мог, разошлись пешком, другие остались, став лёгкой добычей красных. Красных же часто опережал мороз, забиравший обречённых в свои мягкие лапы, избавляющий их, возможно, от худшей судьбы.
Поезда стояли друг за другом, обледеневшие, с покрытыми инеем окнами. Подъехав ближе, Алексей разглядел в вагонах фигуры сидящих людей.
– Клим! – позвал Артуганова. – Погляди-ка, там люди!
– Должно быть, мертвецы, – отозвался Климент, приблизившись. – Поедем.
– А если там есть живые? – Алёша забарабанил пальцами в стекло, позвал. – Эй! Есть кто-нибудь живой?!
Мёртвая тишина была ответом.
– Я же говорю тебе, что живых там нет!
– Всё же нужно проверить…
– Чёрт возьми! У нас своих обозников некуда девать! Пришлось бросать раненых в Дмитриевке! На горбу на своём повезёшь их?! – Артуганов тряхнул головой. – Тьфу… Прости, Юшин. Что-то я не то несу. Ладно, полезай проверь. А я здесь обожду. Не люблю этого товару…
Алексей спешился и поднялся в один из вагонов. Там, действительно, сидело несколько человек. Старик со старухой, по-видимому, благородного сословия, одноногий офицер, дама средних лет, молодая женщина с маленьким мальчиком. Люди сидели неподвижно, смежив усталые веки. Можно было подумать, что они спят, если бы не отдающая в синеву белизна их худых лиц. Всё же Алёша подошёл к сидевшей в углу женщине. Совсем молодая, с тонкими чертами лица, она была укутана поверх шубы в тёплый плед и обнимала прильнувшего к ней очень похожего на неё мальчика, вероятно, своего сына. Ребёнок сжимал маленькими ручонками материнскую руку. Алексею показалось, что он ещё жив. Что ещё шепчет побелевшими губами: «Мамочка, не оставляй меня!» – надеясь разбудить навсегда уснувшую мать. Алёша тронул мальчика, и из руки женщины на пол выпала фотография. На ней была запечатлена она сама с пухлым младенцем на коленях, а рядом стоял высокий, красивый офицер с густыми баками и лихо закрученными усами. На обороте Алексей прочёл дату: «8 июня 1914 года»… Он положил фотографию в сумку женщины, снова наклонился к ребёнку, ещё надеясь уловить хоть слабый вздох невинного создания.
– Юшин! – послышался сзади нервный голос Артуганова. – Оставь его, Юшин! Разве ты не видишь, что он мёртв? Здесь нет живых, Юшин! Уйдём! Это приказ!
Алексей снял шапку, перекрестился и последовал за Климентом. В мёртвых поездах, действительно, не было живых. Разъезд продолжил путь сквозь лес, а за частоколом деревьев всё мелькали безмолвные красные вагоны. Как ни замёрзла душа, а цепенела. Может быть, тот офицер с лихо закрученными усами бредёт сейчас в какой-нибудь колонне, согреваясь единственной надеждой, что его семья жива и отыщется. А семья замёрзла насмерть из-за глупости и головотяпства командования и невероятной подлости чехов. И сколько же таких офицеров! Таких семей! А если и Надя так?.. И снова уговаривал себя, что с Надей не может случиться такого. Что не допустит Антон…
А оказалась Надя в том самом Польском эшелоне, который обошли, не желая вступать в бой с красными! Дважды упустил её! Сколько сомнений и колебаний было в душе, а как прочёл записку на стене в Ачинске, так будто бы разомкнулось что-то в сердце, и смертельно захотелось увидеть Надю, обнять её. Хоть на мгновение одно! До того захотелось, что в жар бросило, кровь в голову ударила. Да как же посмел, будучи в нескольких верстах от Новониколаевска, к ней, ненаглядной, любимой, ждущей его – не вырваться?! Прав, тысячу раз прав был покойник-отец, когда бранил на все лады! Вот уж поискать другого такого бестолка!
Если бы четвертью часа раньше в Ачинск приехать! Стоял Алёша, как убитый, глядя вслед уходящему польскому эшелону. А потом побежал за ним, увязая в снегу, изо всей мочи. Словно бы мог догнать! Словно бы мог успеть! Бежал, на ходу неуклюжий тулуп совлекая. Наконец, споткнулся, упал. Поезд почти растворился вдали, лишь дымок виднелся. Ткнулся пылающим лицом в снег, застонал отчаянно, за перепутанные волосы дёрнул себя в озлоблении, вырвав клок и не почувствовав боли. Катался по снегу, как припадочный.
Артуганов подбежал, тулуп сброшенный принёс, накинулся:
– Ты что ж, дурья башка, вытворяешь?! Сдурел ты, Юшин?! Вставай, одевайся, пока не обморозился!
Объяснил ему, когда отпустило маленько, что к чему. Но не проняло Ижевца. Удивительным душевным здоровьем обладал Климент! На зависть! Казалось бы, куда беспросветнее: почти вся семья погибла, дом разорён, борьба проиграна… А он – ничего! Бодр. И даже весел. Шуткует, с хозяйками хорошенькими заигрывает. Вроде ему и горе не беда! Брат-то его, Митяй, мрачен был, суров. Слова из него не выжать. А Клим на каждом ночлеге какой-нибудь забавный случай припоминал, веселил товарищей. Были ли эти случаи на деле, или на ходу сочинял их Артуганов, а неистощим был на них. И за это любили его. Вот, и теперь сидел Климент в окружении набившихся в избу бойцов и травил им очередную байку, вызывая взрывы хохота. А Алексей не мог заставить себя слушать друга. После Ачинска он питал ещё надежду увидеться с Надинькой в Красноярске. Но Красноярск пришлось обходить. И много хуже того: все эшелоны, шедшие через него, были остановлены красными и не пропущены на Восток. Это означало, что и Надя, и Антон с семьёй теперь в плену. Какое значение имело в сравнении с этим всё прочее?! Лежал, отвернувшись к стене, грызя в отчаянии «ухо» своего малахая. Артуганов больше не трогал его, не пытался призвать к бодрости, переключившись на более благодарную аудиторию.
Хлопнула дверь, и сразу стих смех, отодвинулись стулья. Вставали бойцы, начальство приветствуя. Знакомый глуховатый голос разрешил:
– Вольно!
Алёша повернулся и сел. Посреди комнаты стоял его тесть, полковник Тягаев. Вот, уж кто был офицер до мозга костей! Даже в этом страшном походе не польготил себе. Бородка и усы аккуратно подстрижены, одежда чиста, подлатана – ни малейшей неряшливости. А одет-то не по сибирской зиме Пётр Сергеевич! Шинелька тонкая, солдатского сукна – холодная, поверх жилет кожаный из тех, что союзнички присылали. Как не замёрз ещё? При виде подтянутого, прямого, как на параде, полковника невольно подтянулись и все присутствующие. Он стоял перед ними высок, худ, сед, с лицом посеревшим, прозрачным от худобы, посверкивал стёклами очков. Весь он казался – как ток электрический, как нервный порыв. Сообщил ровным тоном:
– Господа, мы идём на Иркутск. Выступаем по руслу реки Кан. Такое решение только что принято на совещании у генерала Каппеля. Я только что оттуда.
Хозяйка поднесла полковнику кружку самогона. Тот выпил её залпом, отдал, поблагодарив, но так и не сел к столу, а тем же чеканным шагом покинул дом, от двери добавив ещё со значением:
– Выступаем сегодня же.
– Опять «понужай»! – вздохнул Артуганов, вставая и потягиваясь. – Некогда и головы приклонить! Вставай, Юшин! Довольно травить себя. Бери пример со своего папаши. Ястреб! Натурально, ястреб! Из металла он сделан, что ли? – натянул, кряхтя шубу, облапил напоследок хозяйку, поцеловал крепко: – Прощай, красавица! Знать, не судьба нам с тобой жить-поживать да добра наживать!
– Какое теперь добро, капитан! Только зло нажить можно! – бросил кто-то.
Бойцы уже теснились в дверях, вздыхая и поругиваясь. Алёша, слегка волоча затёкшую ногу, присоединился к ним.
– Прощай, красавица! Не вспоминай лихом! – поклонился Климент доброй хозяйке, подметя половицы мохнатой папахой.
Глава 11. Катастрофа
8-10 января 1920 года. Нахичевань
Рождество миновало под грохот боёв. Это Будённый, обходя Добровольцев, отступающих к Ростову, бил и бил в правый фланг своей конницей. Конницу эту должны были бы взять на себя казаки, но их сколоченная наспех конная группа никакого сопротивления красным не оказывала, и доносили из штаба Донской, что части её не желают и не могут выдержать даже малого напора противника. И уж понятно было, что главным является здесь слово «не желают». Уже давно «не желали». И из-за этого нежелания, во многом, конница «славного» Шкуро, возглавляемая в ту пору не менее «славным» Мамонтовым, оперировавшая в стыке Донской и Добровольческой армий, отступила под натиском красных, разрушив единство фронта и дав первый толчок к его падению. Казаки этой группы были слишком разложены внутренней распрей: кубанцы ругали донцов, донцы – кубанцев… И сказалось нечувствие интересов общероссийских. Дон да Кубань, да прилегающие области очистили, а до Москвы была охота тянуть! Свой баз ближе – его и защищать! Хозяйство собственное от разрухи налаживать опять же. Вот, и докатились до своего база, теперь удержи его…
На другой день по Рождестве Корниловцы получили приказ наступать на Новочеркасск и вместе с корпусом Мамонтова выбить из казачьей столицы большевиков. Ещё только до Александровской станицы дошли и встретились с мамонтовцами. Валила невозмутимо их лавина в обратном направлении – к переправе через Дон. Переполошился Скоблин, крикнул им:
– Стой! Куда идёте?
Молчали, не смущаясь вопросом старшего по званию. Катили дальше. Насилу добился Николай Владимирович ответа от одного из офицеров, что идут казаки в станицу Ольгинскую. Ну уж ни в какие ворота не лезло! Побагровел Скоблин, пришпорил коня, поскакал к Мамонтову. И Вигель с ещё парой офицеров вместе с командиром поехали. Отыскали казачьего полководца. Тот стоял, пышные, посеребрённые усы свои разглаживая, смотрел на прибывших свысока. По летам Скоблин ему в сыновья годен был, а об остальной «делегации» и говорить нечего – и взглядом не удостаивал. Разгорячённый Николай Владимирович кратко обрисовал задачу, возложенную на Корниловцев и Донцов командованием, но ничуть это не поколебало Мамонтова. Отвесил холодно:
– Я Кутепову не подчинён.
– Да разве в этом дело? Надо спасать Новочеркасск, а я всецело перейду в ваше подчинение! – ещё надеялся Скоблин убедить Константина Константиновича, полагая, что гордость не позволяет ему подчиниться столь молодому летами полковнику.
Поглаживал пушистый ус Мамонтов да не дул в него:
– Половина моего корпуса уже на том берегу, я не могу вернуть казаков обратно… Брать Новочеркасск не буду!
Собственная столица казакам не нужна стала?.. Вигель нервно покусывал губу. Ох, и подмывало же высказать теперь всё этому казачьему полководцу! И о рейде его, когда мог он Москву взять, а предпочёл грабежами заниматься, и о бесстыдном недавнем ультиматуме. В тяжелейший для армии момент генерал Мамонтов оскорбился на назначение начальником конной группы генерала Улагая. Да так оскорбился, что разослал по всем инстанциям обиженную телеграмму и, самовольно оставив свой корпус, злорадно пообещал, что без него донские полки панически разбегутся. И никто не осудил подобного поступка. Но хуже: приказ Деникина об отрешении Мамонтова от командования вызвал резкое противодействие донского атамана и генерала Сидорина, которые указали, что без Мамонтова его корпус разбежится вовсе. Бесстыдный проступок был прощён, Константина Константиновича уговорили вернуться, и он смог собрать боеспособный отряд, нанёсший пару ударов Будённому. На том, впрочем, остановился. Вот, когда бы можно было пожалеть об атамане Краснове, которого буквально вытеснили с Дона по несхождению его характером с Деникиным, вытеснили и заменили Богаевским. При Краснове хоть и не обходилось без дерзостей, но порядка было заметно больше, умел Пётр Николаевич держать своих казаков. Хотя, быть может, просто время было иное, и ещё не так истомлены люди, и, не выдвигаясь из пределов Юга, чувствительнее понимали казаки необходимость борьбы с большевиками. Хотя теперь вот, кажется, и в родной вотчине не больно готовы были сражаться.
– Брать Новочеркасск не буду!
– Прошу вас переговорить по прямому проводу с генералом Кутеповым, – сдерживая гнев, предложил Скоблин.
– Повторяю вам, я Кутепову не подчинён…
Чёрт возьми! До чего докатилась армия! Никто никому не подчинён, каждый сам за себя… Чистой воды анархия. Мутило Вигеля. Не столько от недавно перенесённого тифа, сколько от вида этой бестолковости и бесстыдства.
– Тогда я соединю вас непосредственно со Ставкой, переговорите с ней, ваше превосходительство!
– Хорошо, – нехотя согласился Мамонтов.
По аппарату связались со Ставкой, и та подтвердила строптивому генералу приказание. Ну, Ставке-то подчинён ведь? Или?..
– Я уже рассказал полковнику Скоблину, в чём дело. Добавлю, что, опасаясь оттепели и порчи переправ, я в случае неудачи погублю весь корпус. Категорически заявляю – брать Новочеркасска не могу! – и оборвал связь. И Ставка не указ ему! Ушёл следить за переправой своего корпуса… А Новочеркасск? Что же, одним его Корниловцам брать?
Николай Владимирович подошёл к аппарату, связался со штабом корпуса. Наудачу сам Кутепов к проводу подошёл. Изложил ему Скоблин ситуацию:
– Александр Павлович, что делать теперь?
– Николай Владимирович, дай дивизии отдых на несколько часов и возвращайся обратно в Нахичевань, – застучал в ответ аппарат. – Твоя новая задача – оборонять подступы к Нахичевани. На твоём левом фланге будет терская дивизия генерала Топоркова, с ним войди в связь.
– Александр Павлович, я вижу по всему, что Ростова нам не удержать. Чтобы выгадать время для эвакуации города, тебе будет достаточно местных сил, а мне разреши перейти за Дон здесь, в станице Александровской. Кроме этой переправы, другой до самого Ростова нет.
Не разрешил Кутепов, повторил приказ. Стало быть, опять к Нахичевани возвращаться, откуда только поутру выступили и целый день в пути провели – месили холодную грязь. А теперь – в обратный путь. Ох, и мутило же… Но прежде велел Скоблин усталым Корниловцам устроиться на ночлег. Хоть несколько часов ночных дух перевести, а затем, если приказа не отменят – назад. И надеялся Николай Владимирович, что всё-таки повезёт, и передумают в штабе, и разрешат переправиться следом за казаками.
Казалось Вигелю, что стоит ему только притулиться где-нибудь, и мёртвый сон тотчас сморит его. Но не тут-то было! Чрезмерной оказалась усталость, и не шёл сон облегчить её. А только болела голова, и мутилось в ней, и нестерпимо тошно было на душе. Новочеркасск, Ростов, Ольгинская – два года назад здесь же и начиналось всё. В такую же распроклятую пору. И для чего были эти два года? Эти несчётные жертвы? Чтобы вернуться туда же? Да ещё (кажется, неизбежно уже) и это потерять? А дальше куда? В новый Кубанский поход? Всё сначала? Бред… Бред… Бред…
Под гору катиться всегда легче. И труднее остановиться. Столько времени завоёвывалась огромная территория, а отдали её в считанные месяцы. И что это были за месяцы! Началось всё в ноябре, в распутицу. Шли, утопая по колено в грязи, а по временам, когда наваливало снега – по грудь в сугробах. И беспощадные метели, дикие, как рой пчёл, ударяли в лицо. Серые дни, чёрные, непроглядные ночи… Падали, не выдерживая пути, кони, а люди шли. В подбитых ветром английских шинельках, в изношенных, разваливающихся сапогах, в обледенелом тряпье, намотанном на головы… А большевики, их полки, их латышские бригады были тепло и хорошо одеты. Им не страшны были ни метели, ни грязь. Одели бы так господа интенданты армию, и, возможно, и отступления бы не было! По крайней мере, могло бы остановиться оно. Но не одевали, а по складам прятали, а склады эти при отступлении доставались – красным!
Ничего нет тяжелее для армии, чем отступление. Вперёд идти тяжело, но спасает радость от продвижения, надежда на скорую победу. Вперёд – светлеет душа! Вперёд – видится за загородью вёрст колокольня Ивана Великого! Отступление же – всегда отчаяние. А отчаяние парализует, отчаяние убивает боевой порыв… Затянувшееся отступление превращается уже в инерцию – не остановить. Вначале ещё шли, бодрясь, веря, что это лишь манёвр, и скоро наступление возобновится. Но чем дальше, тем темнее становилось на душе. Непостижимо было разуму, как, имея в руках весь Юг с его плодородными землями, Каменноугольным бассейном и нефтью, получая пусть и недостаточную, но всё-таки помощь союзников, дойти почти до самой Москвы и вдруг начать с головокружительной быстротой всё терять! Почему? Как? Из-за того ли, что казаки устали от войны и стали отходить без боёв? Из-за того ли, что наверху царил разлад? Из-за того ли, что тыл разложился и попал во власть трусов и спекулянтов, до того взвинтивших на всё цены, что оказавшемуся в тылу Добровольцу жалования хватало лишь на то, чтобы три раза пообедать? Много было причин, а всё-таки не давали они объяснения. И шли Корниловцы в горьком недоумении, понурые. И лишь изредка какой-нибудь живец, отчаяния не ведающий, крикнет ободрительно:
– Что приуныли, господа? Грянем-ка песню! – и заводил: – «Вот несётся трубач, на рожке играя, он зовёт верных сынов на защиту края…»
И подтягивали ему, вначале глухо, но взбодряясь по ходу:
– Марш вперёд, Россия ждёт!
И всё-таки унынием веяло от несоответствия песни положению.
Одна отрада была – устроиться на ночлег в тёплой крестьянской избе, похлебать горячего. Крестьяне, в большинстве своём, сочувствовали отступающим. Но и раздражены были. И было отчего. Когда шли вперёд, и общий подъём был, мобилизацию запрещали. А теперь на откате вдруг объявили её. Не нелепица ли? Возмущались крестьяне. И мобилизацией, и тем ещё, что им, оставляемым на произвол большевиков, не дают винтовок. Да их бы в достатке себе добыть… Впрочем, воинственно в отношении красных были настроены преимущественно центральные губернии, уже испытавшие на себе гнёт. На Юге же этого настроения не наблюдалось. Приказ о мобилизации скоро был отменён. В новых условиях предпочтение отдавалось малым ротам, сплочённым, проверенным, способным к манёвру. Некоторым крестьянам, бегущим от большевиков, приходилось даже отказывать в приёме в ряды армии, брали лишь по несколько наиболее подготовленных человек. И возникал соблазн принять больше, но неоправданно было. Лишние люди, не знакомые с военным делом, не знающие дисциплины, могли в условиях отступления стать не подспорьем, а балластом, тормозящим маневренность.
А ещё страдали крестьяне от подводной повинности. Подводы и лошадей конфисковывали повсюду. Считалось, что хозяева должны сопровождать их до следующей остановки, где будут взяты другие подводы, а со своими они смогут возвратиться домой. Но далеко не всегда выходило так. И пройдя много вёрст, подводчик не выдерживал и, оставив подводу, бежал в родные края. Иные части особо ретиво подходили к подводной повинности, обращая её в откровенный произвол. Подводы использовались для всевозможного скарба, из-за которого обозы непомерно разрастались. И никакие приказания об их сокращении не имели результата. Результат давала лишь воля отдельных начальников. Так, генерал Барбович лично останавливал следующие за частями повозки и инспектировал каждую из них. Все избыточные грузы просто выбрасывались, а подводчики отправлялись по домам.
Корниловцы никогда не бывали замешаны в грабежах и погромах. Конечно, реквизиции проводились ими, но можно ли было избежать этого? Оружие можно было взять в бою у врага, но где брать одежду и пищу?
В ряде других частей процветали грабежи, ложившиеся пятном на всю армии. У себя в первом корпусе Кутепов всего этого не допускал.
– Там, где я командую, погромов быть не может, – говорил Александр Павлович и беспощадно вешал и расстреливал всякого виновного в подобных деяниях, не делая исключений даже для офицеров-первопоходников.
Когда оставляли Харьков, генерал приказал своему конвою и охранной роте обходить патрулями город, в котором уже начались грабежи и убийства, и каждого грабителя вешать на месте, дабы обеспечить безопасность горожан. В то же время «шкуринцы» вместо того, чтобы сражаться, пьянствовали и бесчинствовали на улицах города, бросая на кутежи бешеные суммы.
Систематическая борьба с произволом началась на фронте Добровольческой армии с назначением её командующим генерала Врангеля, как раз накануне падения Харькова переброшенного на этот фронт с фронта своей Кавказской армии, ведшей кровопролитные бои под Царицыным. Пётр Николаевич сменил на этом посту генерала Май-Маевского, чьё поведение давно уже стало поводом для осуждения и толков. Говорили, что Май-Маевский пропил Добровольческую армию. Однако, Ставка очень долго закрывала глаза на поведение генерала и, лишь когда наступила катастрофа, спасать положение был призван Врангель. Его назначение было встречено радостью и подъёмом. Общим убеждением было то, что, хотя назначение и запоздало, но Пётр Николаевич, во всяком случае, не допустит развала армии и её поражения. Наконец-то Добровольцы обрели своего командующего! Его первый приказ заставил сердца вновь наполниться верой и забиться горячее: «Я требую исполнения каждым долга перед Родиной. Перед грозной действительностью личная жизнь должна уступить место благу Родины. С нами тот, кто сердцем русский, и с нами будет победа!»
В Харькове Вигеля свалил тиф. Первое недомогание он старался не замечать, надеясь, что это какой-нибудь пустяк. Да к тому же не до себя было. Мало забот фронтовых, так ещё и впал в отчаяние ближайший друг подполковник Карлин. Он стал как-то вял и безучастен ко всему, и какое-то нехорошее выражение явилось в его беспокойных глазах. В тот вечер он что-то долго писал и, когда Вигель подошёл, взглянул на него зло, загородил написанное ладонью:
– Что тебе? Оставь меня, пожалуйста!
Не очень хотелось Николаю Петровичу разговаривать, а мечталось свалиться в углу, укрыться шинелью и провалиться в сон. Его уже мучил сильный жар, и временами кружилась голова. Но пристроившись в заветном углу и искоса поглядывая на друга, понял Вигель, что засыпать не стоит, а надо перемочься. Что-то дурное задумал Карлин, и угадывал Николай, что. Он уже видел такой взгляд… Следил больными глазами, борясь со слабостью. Наконец, подполковник сложил лист вчетверо и достал револьвер.
– Андрей! – окликнул его, собравшись с силами.
Карлин обернулся, руки его подрагивали.
– Андрей, подай, пожалуйста, флягу… Что-то плохо мне… – попросил Вигель. Ему, в самом деле, хотелось пить и тяжело было подняться. Но больше хотелось отвлечь друга.
Подполковник помялся, убрал револьвер в карман галифе, принёс воды:
– Ты чего это, а? Заболел? – спросил принуждённо, но вроде и не совсем безразлично.
– Всё тело горит… Тиф, наверное.
Заволновался Карлин, бороду рыжеватую поскрёб:
– Уверен? Может, так?..
– Может… Только плохо мне. Чёрт, как не вовремя… Сейчас кинут в какой-нибудь забитый полумертвецами поезд – и конец.
– Конец – он всем нам конец, – мрачно откликнулся подполковник. – Ты, вот, человек умный. Правовед… Скажи мне, что мы не так сделали, а? Почему это всё с нами? Я об этом думаю каждую минуту до того, что спать не могу! И не могу придумать! Может, надо было объяснять лучше населению наши цели? Разговаривать с ним по-человечески, а не дрянью осваговской снабжать? Что они могли из неё почерпнуть… Про жидов да масонов? Про сионские протоколы? Да они масонов в глаза не видали! Зачем мужику масоны? Он в бой-то идёт и перед собой масонов разве видит? Сионских мудрецов? Нет! Таких же крестьян и рабочих… И приходят к нему оттуда тоже рабочие. Солдаты. И на смех поднимают: какие масоны? Какие протоколы? Неужели по-человечески говорить нельзя было! И ведь глупость! Командование верховное, правительство – республиканцы или, по крайности, непредрешенцы. Монархического знамени поднять не позволяли. А листовки эти – черносотенство в худшем виде!
– Говорить по-человечески, конечно, стоило бы, – Вигель положил ладонь на руку севшего рядом Карлина, – но это не решило бы дела. Словам верят мало. Верят своей шкуре. Вспомни орловских и курских крестьян. Да они большевиков ненавидели! А южане? Им пусть хоть большевики приходят. Те шкурой своей поняли, что такое большевизм и поднялись против него. И все другие поднимутся не от наших слов, а от того, что собственную их шкуру опалит красным огнём.
– Иными словами, Россия должна пережить большевизм, чтобы восстать на него. Это распространённое мнение. Но, в таком случае, у меня два вопроса. Во-первых, переживёт ли Россия большевизм? Не убьёт ли он её? А, во-вторых, что тогда делать нам? Без Родины? Без надежды? Если мы не можем ничего изменить, тогда зачем всё, Вигель? Зачем?! – Карлин провёл обеими руками по лицу. – Я не хочу ждать, пока прозрение снизойдёт на Россию, и всё как-то наладится, Бог управит… Вигель, я скажу тебе честно, я не верю в Бога! Я верил в Россию и в разум русского народа, а теперь и в него я не верю! Я верил в себя! Верил, потому что был удачлив, потому что у меня была великая страна, потому что… Да неважно, почему! А теперь я не верю в себя. И не верю в наших вождей. Даже во Врангеля, которого вы так превозносите. Когда всё рухнет окончательно, а это неизбежно, наши командиры уплывут за кордон, а мы… Мы либо будем растерзаны этой красной мразью, либо тоже предпочтём изгнание, где мы нужны, как прошлогодний снег. Я не желаю ни того, ни другого. Я не могу больше ползти по этой грязи, как побитая собака, без надежды перегрызть глотку тому, кто ударил, без надежды увидеть свет. Не могу и не хочу, – голос подполковника дрожал от беззвучных, подавляемых рыданий. – Если всё напрасно, то и бороться незачем. Можешь обвинять меня в слабости, но у меня больше нет сил…
Совсем уже темнилось в глазах. Но крепился Вигель. Надо было выговорить другу важное, успеть, пока язык ещё ворочался во рту, и мысли не утеряли связности. Цедил с трудом:
– Не опускайся до уровня студентов-невротиков. Ты не барышня, Андрей! Ты офицер! Ты давал присягу и должен быть верен ей до конца, а не ретироваться с поля боя благородным образом, бросая своих солдат в безначалии!
– Оставь, оставь… – Карлин морщился и слабо мотал головой.
Николай с усилием приподнялся, крепко схватил товарища за плечо:
– Не смей, слышишь? Что будет, если мы все поднимем руки и вкатим пулю себе в лоб? То-то насмеются над нами большевики! Мёртвые сраму не имут лишь в том случае, если смерть их была достойна. У тебя под началом батальон. Люди, за которых ты, как командир, несёшь ответственность! Кто поведёт их, если их командиру изменит мужество? Силантьев мог, но его убили два дня назад! Никитин ранен. Я – ты видишь. Ты нас всех теперь предать хочешь?! Не смей! В Бога ты не веришь, но хоть о нас, своих товарищах подумай. Вкатить пулю в лоб – дело нехитрое. И всегда успеется. А сейчас ты должен вывести батальон. Слышишь ты меня или нет?! – откинулся бессильно на дощатый пол. – Считай, что это последняя моя просьба к тебе, как к другу…
Карлин вынул и нагрудного кармана сложенный вчетверо лист, разорвал его, отбросил клочки в сторону.
– И почему этот проклятый тиф выбрал тебя, а не меня? Слёг бы я теперь в бреду да и сдох бы, как тысячи других…
– Не юри головой в петлю, ещё успеешь, – усмехнулся Вигель пересохшими губами. – А теперь тащи-ка меня в лазарет, а то самому мне уже не доползти до него…
Что было потом, Николай помнил смутно. В памяти образовался совершенный провал. Он очнулся в какой-то день от холода и обнаружил себя лежащим на полу в одном белье среди застывших в разных позах мертвецов. Это был морг. Видимо, и его приняли за мертвеца и принесли сюда. Сознание ужаса положения рассеяло туман бреда. Вигель попытался встать, но не смог. Хотел позвать на помощь, но голос не слушался его. В это время два дюжих санитара притащили ещё одного покойника. Увидев их Николай замычал, замахал непослушной, но всё же действующей рукой. Санитары испуганно вскрикнули, увидев ожившего «мертвеца», но, по счастью, не сбежали, а перенесли из мертвецкой обратно в лазарет, а оттуда, как и прочих больных и раненых, в санитарный поезд.
Затуманенное сознание плохо воспринимало ход времени. Вигель лежал на голых досках, стиснутый со всех сторон другими больными, и не понимал, идёт ли поезд или стоит. Временами становилось нестерпимо жарко, а то вдруг начинало колотить от холода. Рядом кто-то бредил, кричал отчаянно:
– Пристрелите меня Бога ради! Пристрелите! Все мои убиты, жить больше незачем… Я не хочу жить! Пристрелите меня, господа!
Чудилось, что это Карлин…
Наконец, сознание стало яснеть. И первое, что прояснилось – это то, что поезд никуда не идёт, а стоит на месте. И нет ни врачей, ни сестёр, ни воды, ни пищи. Страх и холод лучше всего яснят сознание. Николай нашел в себе силы приподняться. Он увидел, что среди лежавших в вагоне больных некоторые уже мертвы. Другие, кто был здоровее, видимо, выбрались наружу, поскольку число их явно поредело. Вигель добрался до дверей, вдохнул морозного воздуху. Тотчас рядом с ним оказался симпатичный темнолицый, горбоносый офицер с черными угольками глаз.
– Живой! – протянул он, белозубо улыбнувшись. – А я толкал вас, толкал – думал, что вы уже не подниметесь!
– Что-то очень часто меня хоронить стали, – усмехнулся Вигель.
– Значит, жить долго будете! – офицер протянул руку. – Ротмистр Орбелия к вашим услугам!
– А по имени?
– Михаил Ираклиевич.
– Капитан Вигель. Николай Петрович. Рад знакомству, жаль, что при таких обстоятельствах. Ротмистр, у вас воды нет?
– Как не быть, за ней и ходил, – беспечно улыбнулся Орбелия, протягивая флягу.
И сразу понравился Вигелю смуглый ротмистр. Он стоял перед ним, худющий, обряженный в отрепья, заросший чёрной бородой, едва оправляющийся от болезни, а ни тени уныния не было в нём, а сплошное жизнелюбие и весёлость. Сам Николай обнаружил себя в кальсонах и рубахе, как в мертвецкой лежал, но при шинели и разбитых сапогах с чужой ноги.
– А почему наш поезд стоит, вы не знаете?
– А потому же, почему и все другие, – Орбелия кивнул на застывшие на путях эшелоны. – Затор на дороге. Небось, барахло вывозили, а о раненых «забыли». Кто может, те расползаются, чтобы с голоду не подохнуть. В соседнем поезде, говорят, один офицер повесился. Вы идти можете, капитан?
– Чёрт знает, не пробовал…
В это время какое-то оживление почудилось возле стоявшего неподалёку эшелона.
– Что там случилось?
– Сейчас узнаю! – Орбелия, немного пошатываясь, отошёл. Вигель прислонился лбом к стене вагона. От голода и слабости нестерпимо тошнило, и мысли никак не хотели увязываться в больной голове. Куда теперь деваться? И где большевики? Армия уже ушла или ещё здесь? Если здесь, то есть надежда. Если нет…
– Николай Петрович! С вокзала прибежал человек! Говорят, туда приехал командующий! – взволнованно сообщил вернувшийся Орбелия.
– Кто? – не понял Вигель.
– Врангель!
Значит, не отрезаны ещё, это хорошо… Врангель? С трудом ворочался мозг… Врангель! Здесь! Совсем рядом! Если бы ему с вокзала – сюда! Увидеть этот ад! Эти эшелоны с брошенными людьми! Да надо же доложить! Да от кого же ещё помощи ждать? Если упустить этот шанс, то и пиши «пропало».
– Михаил Ираклиевич, нам с вами нужно срочно на вокзал!
– Нужно! – сразу согласился бойкий грузин. – Идти сможете?
Голова кружилась, ноги болели. Едва ступив на землю, Николай охнул и точно свалился бы, если бы Орбелия не успел подхватить его и подставить плечо. Но всё-таки надо было идти… Дойти надо было! И быстрее, покуда командующий не уехал!
– Обождите мгновение! – откуда-то притащил ротмистр костыль. – Давайте-ка, одной рукой на него, а другую мне на плечо кладите.
– Помилуйте, да вы сами ещё больны!
– Ничего! – Орбелия мотнул головой. – Меня ни одна холера не возьмёт! Идёмте!
Так и добрались до вокзала. Пешком, ползком, на четвереньках, по-пластунски, падая и снова поднимаясь. Пришли два живых мертвеца. Грязные, заросшие, замёрзшие, полураздетые. Генерал со свитой ещё на вокзале был. Издали голос его слышался гневный. Разносил кого-то:
– Целый эшелон, гружёный мебелью! Вы в своём уме?! Немедленно выбросить всё это вон! Я лично осмотрю каждый из стоящих здесь эшелонов! Спекулянты, которые в такой момент забили поезда своим товаром, будут повешены!
– Что прикажете делать с грузом?
– Сжечь!
– Да ведь это огромные деньги! – чей-то плаксивый стон.
– Сжечь! А поезда нужны раненым. И беженцам! И никаких вагон-салонов! Никакой роскоши! Нам не хватает вагонов для эвакуации людей!
И ещё громыхнуло по поводу обличённого во взяточничестве начальника станции безапелляционное:
– Повесить мерзавца!
Вигель увидел высокую фигуру барона издалека. Врангель быстро шёл по перрону навстречу. Несколько мгновений и вот уже в нескольких шагах был, остановился, заметил. Николай изобразил что-то вроде шаркания плохо слушающейся ногой:
– Здравия желаю, ваше превосходительство!
Следом и Орбелия изобразил нечто учтивое и нелепое в его отрепьях.
Пётр Николаевич стремительно приблизился:
– Капитан Вигель, вас ли я вижу? Откуда вы? – спросил взволнованно, недобро глянув в сторону станционного начальства.
– Из ада, ваше превосходительство… – откликнулся Вигель и почувствовал, что больше не может говорить. В глазах потемнело, чьи-то руки подхватили его, уже падавшего, сзади. А Орбелия, поняв, что пришёл его черёд, орапортовал по-военному кратко:
– Ваше превосходительство, на запасных путях стоят эшелоны с беженцами и ранеными. Все в ужасном состоянии. Ни воды, ни пищи, ни медперсонала. Кто в силах, разбредаются, ища пропитания. Остальные обречены на смерть.
И всё уже ясно было барону. Ясно, что из-за эшелонов с товаром спекулянтов, давших взятку начальству, отгоняются на запасные пути поезда с ранеными. Безотлагательно направился туда сам, чтобы собственными глазами оценить бедствие. Решительно всем должен был заниматься командующий армии! И разгрузкой железнодорожных путей, инспекцией эшелонов – в том числе…
Из дальнейшего помнил Вигель лишь отдельные фрагменты. Помнил, как добрались до своего эшелона. Помнил суету, вызванную появлением командующего, которого сразу окружила толпа несчастных людей, моливших о спасении, смотрящих на него, как на Бога. Помнил ещё лицо генерала, наклонившегося к нему, его крепкое рукопожатие, откуда-то издали прозвучавшие слова:
– Выздоравливайте, Николай Петрович. Надеюсь, ещё свидимся с вами при лучших обстоятельствах.
Когда Вигель пришёл в сознание вновь, то обнаружил себя лежащим в теплушке, не производящей столь ужасающего впечатления, как первая. Здесь тоже было тесно и душно, но всё-таки люди не лежали друг на друге, и, самое главное, среди них не было мертвецов. Да и уже не в нижнем белье лежал Николай Петрович, а в чём-то, очень похожем на мундир. Поезд медленно полз, стуча колёсами по шпалам. В теплушке слышались разговоры. Приподнявшись, Вигель тотчас увидел перед собой Орбелию, которого не сразу узнал из-за отсутствия бороды. Тот занят был важным делом, как будто поглотившим всё его внимание: ловлей и истреблением вшей.
– Ротмистр, оставьте это пустое занятие. Эти твари неистребимы, как большевики…
– И так же омерзительны! – Орбелия раздавил ещё одного паразита и повернулся к Вигелю. – С возвращением вас, капитан!
– Зачем это вы бороду сбрили?
– Чтобы меньше походить на разбойника и хоть отдалённо на офицера, – улыбнулся Михаил Ираклиевич, подкрутив ус.
– Сколько я был без памяти?
– Да почитай, дней пять бредили. Как свалились тогда на вокзале, так и уже в память и не приходили. А много потеряли! Видели бы вы, что творилось, когда генерал приехал! И круто же он за дело взялся. Все поезда спекулянтские сразу же под раненых были отданы. Медики тоже получили своё, что бросили нас издыхать. Сразу продовольствие закупили, медикаменты. Всех раненых устроили. И поехали эшелоны наши. Еле-еле, конечно, но хоть как-то.
– Да, ротмистр… А не окажись на вокзале командующего, не дойди мы до него… Представляете, что бы было?
– И представлять не хочу. Без того довольно паршиво всё. А как вы сумели добраться до вокзала, я до сих пор не понимаю.
– Так ведь с вашей помощью!
Рассмеялись. Лёгкий человек был Орбелия, и в последующие дни привязался к нему Вигель, как к старинному товарищу. Михаил Ираклиевич был ещё совсем молод и горяч, как и все кавказцы. Отец его, военный врач, родился и прожил всю жизнь в Тифлисе. Орбелия очень любил вспоминать о родном городе. Он говорил о нём так, словно рассказывал какую-то прекрасную сказку, распевно, долго. В эти часы вся теплушка умолкала и слушала эту устную поэму в прозе.
– Мы жили высоко-высоко… На Давидовой горе. В жаркие дни на неё бывает утомительно подниматься. Тогда отец носил меня на руках. Мой отец был очень сильный человек. Как и мой дед. Дед помнил ещё пленение Шамиля и рассказывал нам, своим внукам, о том времени. Вы знаете, какое солнце в Тифлисе? У вас, на севере, никогда не бывает такого солнца! Ослепительного, прекрасного и в знойные дни беспощадного… Иногда мы ездили на прогулки в горы. Я не знаю ничего прекраснее гор. Мы со старшими братьями добирались до самых высот, карабкались узкими, крутыми тропинками, которые знали лишь чабаны. Брат Георгий, старший, взбирался на уступ, свешивался вниз, хватал за руку нас, младших, и втягивал за собой. Мы тогда не понимали, насколько это было опасно! Нам было просто весело! Вы когда-нибудь стояли на высоком горном уступе, высоко-высоко над землёй? Когда я оказался там впервые, я испытал чувство такого огромного восторга, словно небо разверзлось, и легион ангелов предстал моему взору. Где-то внизу, как на ладони, остался Тифлис. Он был так далеко, что мне казалось, что до неба отсюда ближе, чем до земли. Что стоит только протянуть руку – и я дотянусь до него. Когда смотришь на мир с такой высоты, чувствуешь дыхание Бога, близость к нему. Однажды я ушёл в горы один и сидел много часов, просто смотря на это великолепие. А потом стало темнеть, и высыпали звёзды, и мир погрузился в тень. Домой я вернулся лишь утром и нашёл матушку почти без чувств, а отца в таком бешенстве, в каком никогда прежде его не видел. Оказывается, меня искали с факелами всю ночь, но не отыскали и уже опасались, что я сорвался в пропасть или стал добычей дикого зверя…
Вигель никогда не бывал в Грузии. И теперь, слушая мелодичный голос Орбелии, рисовал в своём воображении сказочный край, в котором жаль было бы не побывать в этой обезумевшей жизни.
– Господа, когда закончится война, я всех вас приглашу к себе! Вы увидите Тифлис! Наши горы! Наше солнце! Я прикажу накрыть столы в нашем саду, и нам подадут весёлое молодое вино из лоз, растущих в нашем винограднике! Господа, я уже сейчас приглашаю вас всех!
Поезд всё полз и полз сквозь метели и дожди, всё более отдаляясь от заветной цели – Москвы. Временами он останавливался и подолгу простаивал посреди пути, временами где-то совсем рядом с ним слышны были раскаты артиллерии – где-то рядом отступала в кровопролитных боях армия. Отступала, взрывая за собой мосты, едва успевая, а иногда и не успевая пропустить поезда…
В какой-то день поезд остановился. Совсем рядом слышался шум боя, взрывы. К ночи Михаил Ираклиевич, вызвавшийся сходить на разведку, вернулся крайне встревоженный:
– Господа, нужно немедленно уходить! Мы отрезаны, и поезд дальше не пойдёт!
Всё-таки отрезаны! Всё-таки не успели прорваться! Но как и куда уходить? Больным? В мороз и метель? Кто был сильнее, стали выбираться из вагонов. Другие зарядили и положили рядом с собой пистолеты. Не для обороны, конечно, а чтобы не попасть в плен. Прощались наспех. Оставшиеся без тени осуждения провожали уходивших тоскливыми взглядами, уходившие прятали глаза.
Николай был ещё плох. Сильно болели ноги, и одолевала болезненная слабость. Но он решил попытаться выбраться. Если совсем больной, в жару дошёл до вокзала, то неужто здесь не сдюжить? Сдаться в лапы «товарищам» или покончить расчёты с жизнью? Нет, он ещё готов был бороться. К тому же рядом верный друг Орбелия был. Вдвоём и окунулись в снежный мрак зимней, вьюжной ночи.
Холод усилил боль в ногах, и вскоре она стала непереносимой. Вигель до крови искусал губы, чтобы не завыть во весь голос. Пробовал ползти, но не было сил. Лежал в снегу, смотрел с мёртвым безразличием усталого человека на горячащегося ротмистра.
– Послушайте, ведь я вас не смогу на себе нести! – тревожно говорил Орбелия, елозя вокруг и тряся Николая за плечи. – Вставайте, умоляю вас!
– Идите один, ротмистр… Я не могу. Надо было остаться в поезде… – отозвался Вигель. На него снизошёл покой и умиротворение, почти радость о того, что всё подходит к концу. Это ощущение часто испытывают тяжелораненые, теряющие силы для борьбы со смертью и оттого облегчённые.
И Михаил Ираклиевич ушёл. Скрылся в разбавленной снежными брызгами черноте. И Николай мысленно простился с ним навсегда. Но ротмистр вернулся. Вернулся не один, а с каким-то кряжистым мужиком. Вдвоём они подхватили почти бесчувственного, замёрзшего Вигеля, понесли по ледяной степи. А за ней – деревня была. А в ней – дом того мужика, в окно которого наудачу постучал Орбелия.
Судя по внешности Фрола Демьяновича, трудно было заподозрить в нём сердобольного человека. Хмурый, тёмный, суровый человек, с цепкими, небольшими глазами и клочкастой бородой, от него трудно было ожидать отзывчивости и охоты помогать ближним с риском для собственной жизни. Но внешность иногда бывает обманчивой. И открыл Фрол Демьянович дверь среди ночи негаданному пришлецу, и приволок в дом его замёрзшего товарища, и приютил обоих, не сказав ни слова.
У него-то на печи и проснулся Вигель следующим днём, чувствуя, как жизнь постепенно возвращается к нему. И сразу мелькнула перед глазами стройная фигурка хорошенькой девушки. Две косицы чёрных, личиком бела, ясна, на отца ни капли не похожа.
– Батя, батя, там офицерик, кажись, очнулся.
Батя, сидевший за столом с Орбелией, неохотно поднялся, подошёл к Николаю:
– Садись-ка, мил человек, и давай сюда ноги свои, покуда не пришлось с ними прощаться.
Вигель с трудом сел, свесил распухшие ноги, слабо вскрикнув от пронзительной боли, но тотчас закусив губу под грозным взором мужика.
– Таиска, тащи сюда сало!
Таиска метнулась в соседнюю комнату, принесла требующееся. Фрол Демьянович натёр салом больные ноги Вигеля, обмотал их тряпьём:
– Лежи, болезный. Скоро бегать будешь.
– Спасибо вам! – искренне сказал Николай.
Фрол Демьянович поморщился и, ничего не ответив, воротился за стол.
– Таиска, самовар наладь!
Таиска летала по комнате, смоляные косы её развивались. Шепнула:
– Вы не смотрите, что батя такой сердитый. Это он нарочно напускает!
– Таиска, не шепчись! Я всё вижу! Живей налаживай на стол!
– Спешу, спешу, батя!
Миновала неделя, прежде чем Вигель с помощью Орбелии смог сделать первые шаги. За это время он узнал, что их хозяин, крепкий крестьянин-кулак, изрядно, впрочем, разорённый войной, когда-то служил не где-нибудь, а в лейб-гвардии Преображенском полку. Там же служил и сын его, фотографию которого Фрол Демьянович не без гордости показывал постояльцам. О судьбе сына уже давно ничего не слышал он, но памятью о нём объяснялось его участие к явившимся ночью в его дом офицерам.
– А ну, как и мой Гришка так где-нибудь шатается? Замерзает? Может, и его какая добрая душа обогреет, не даст, как псу, околеть… – говорил мужик, поглаживая корявыми пальцами рамку сыновней фотографии. – Эх, разомчались кони – не осадишь… Всё брехали-жалобились, какая тяжёлая жизнь при Николае была. Эвона, какой лёгкой теперь добились! Вот, одолеют большевики, дак станет нам жизнь лёгкая, только много ли из нас тогда жить останется.
– Не скрипи, отец! Мы их ещё снова до Орла отгоним! Дай срок! – удало обещал Орбелия, постреливая глазом на бойкую хозяйскую дочку.
– Ишь ты, ратник какой! Отгонишь ты их! Чем? Сапогом своим без подошвы в них запустишь? Наших сукиных сынов теперь воевать не заставишь. Им мозги-то почистили пуще, чем в семнадцатом, разные агитаторы, будь они трижды прокляты! Обратили людей в зверей, перепахали… Бьются, режутся, от тифа мрут, поди уже половину России в могилу ахнули, а всё свободу ищут! Справедливость! Хорошую жизнь! Большей свободы убивать, поди, и не знавали ещё. Пришло на нашу землю безурочье и безсудица. И крест на нашей прежней жизни стоит. Теперь уж и похожей на неё не будет.
– Полно тебе, отец, тоску нагонять. Мы ещё тряхнём «товарищей» – вот, увидишь! – не столько для Фрола Демьяновича орлился ротмистр, сколько для его чернокосой дочери. Уже в третий день приметил Вигель, что симпатия между ними взаимна. Да и как было не разгореться девичьему сердцу от пламенных взглядов красавца-южанина? Ей уже и замужем пора была быть, да всех женихов отняла война, и цвела красота писанная лишь отцу отрадой. А что завтра дожидать? Ведь всё прахом шло. Безурочье… Вряд ли и Фрол Демьянович не замечал зреющего между Таиской и ротмистром чувства, но не мешал тому, видно, жалея дочь, понимая её.
Из дома офицеры не выходили, чтобы не привлекать внимания соседей. Таились от любопытствующих взоров, набирались сил, чтобы как можно быстрее отправиться в путь. И людей хороших не хотелось под лишний риск подводить, и к своим пробираться надо было. И знала Таиска, что ещё несколько дней, от силы недель счастья отпущено ей, а потом уедет красавец-ротмистр и вряд ли вернётся. А не останавливало это. Стосковалась девка, льнула к приключившемуся гостю, ища тепла и ласки…
В ночной тиши слышал Вигель, как Орбелия на цыпочках прокрался в комнату Таиски, как навалился на неё жадно, а она и не вскрикнула, не попыталась оттолкнуть – знать, ждала его. Лежал Николай, вперив взгляд в темноту, невольно слушая приглушённые вздохи и шёпот, доносившиеся из-за стены, и страдал. Страдал от чувства невыносимого одиночества. И мечтал, чтобы хоть толика этих даримых в тот миг товарищу ласк и тепла перепала и ему. Вспоминалась, как никогда прежде ярко, Наташа. Каждый изгиб её красивого, нежного тела, её волосы, голос… Сколько бы дал, чтобы оказаться рядом с ней! Ещё и ещё вспоминал мучительно, растравляя себя, распаляя. И решил тогда твёрдо, что, если суждено будет выбраться из этой передряги, жениться на Наташе.
А Орбелия-счастливчик всю ночь у Таиски провёл и лишь под утро так же бесшумно выскользнул. А днём всё вроде бы и обычно было. И ничего не выражало лицо Флора Демьяновича, хотя мог поклясться Вигель, что он всё знал, всё слышал.
– Знаешь, Николай, если бы не война, я бы женился на ней, – говорил потом ротмистр. – Она похожа на мою мать. Такие же косы чёрные, глаза… Она чудо! Ей-Богу, чудо!
И во всякую ночь повелись «тайные» визиты, ни для кого не бывшие тайной. Всё знал отец, а виду не показывал, и поэтому при нём ничем не выдавалась «тайна». Лишь когда уходил он куда-нибудь по делу, засиживали Таиска с Орбелией за разговором. Вигеля не особенно стеснялись, а он для пущего их спокойствия делал вид, что спит.
– Когда кончится война, я увезу тебя отсюда, – струился голос Михаила Ираклиевича. – Мы поедем сначала в Тифлис, а потом в Батум. В Батуме живёт моя тётка с семьёй. Прежде мы гостили у неё каждое лето. Батум ещё прекраснее Тифлиса! Потому что там море… Ты видела когда-нибудь море? Увидишь! Оно лазурное, величественное, блаженное… Шум волн, запах воды, манящий, как и горизонт, за который всегда хочется уплыть! И из-за которого со всех концов земли прибывают в бухту корабли, с палуб которых сносят тюки и сундуки со всевозможным товаром, клетки с попугаями, диковинные фрукты… Море таинственно. В море плавает множество рыб. И медузы. Ты знаешь, что это? Они похожи на цветы, налитые светом. Мы ловили их, вытаскивали на берег, и там они таяли, как снег, и ничего не оставалось. А весь берег усыпан разноцветными камнями: агатами, халцедонами, сердоликами, аметистами… Словно разбросанное небрежно ожерелье. Мы любили собирать их. И ещё любили собирать белые трубки, которые приносила река Чорох. И чёрные, рогатые орехи челим, которых многие боялись из-за сходства с чёртом. И морские звёзды… Ты всё это увидишь, Тася! Обязательно. Ты влюбишься в этот край, как и я. Я отведу тебя в лавку, которую держит там один грек, до смерти похожий на пирата. Эту лавку я обожал в детстве. Там было столько удивительных вещей! И сама она была не похожа ни на одну другую. Я мог целый час разглядывать выставленный в ней товар из разных стран, путаясь в развешанных там же рыбацких сетях. Мы пойдём туда с тобой и купим тебе нитку кораллов или венецианские бусы. Что тебе больше нравится? А всего лучше, купим и то, и другое. И каких-нибудь редких лакомств. И всё, что ты захочешь.
Таиска слушала, то расплетая, то заплетая одну из своих кос, вздыхала в ответ:
– Не обещай ничего, Мишенька. Ты скоро, совсем скоро уедешь, а я останусь одна. А, может, и не одна… Может быть, я ребёночка рожу. Раньше бы застыдилась, что безмужняя. А теперь всё равно! Хоть он мне отрада будет, твой мне подарок.
Это, наверное, в женщине заложено: несмотря ни на какие безсудицы, думать о продолжении рода, и, чем безотраднее вокруг, тем отчаяннее искать этой ни с чем не сравнимой радости, утешения – родить ребёнка и уже не чувствовать себя такой одинокой, короткий бабий век в пустоте растрачивающей.
Красивой парой были подвижный, жилистый Орбелия и бойкая, юркая Таиска. И что-то сходственное было между ними, темноокими, чернокудрыми.
А счастье коротким было… В тот вечер прибежала Таиска, смертельно напуганная, оглоушила с порога, задыхаясь:
– Большевики в соседней деревне! Уходите скорее! Они все избы обшаривают! Вот-вот здесь будут!
Кинулись опрометью в конюшню. Там ротмистр золотую цепочку с массивным крестом, чудом сохранённую, с шеи снял и всучил белой, как полотно, Таиске:
– Больше у меня ничего нет! Возьми! Продашь – хорошие деньги выручишь!
– Не возьму, нельзя, – замотала головой Таиска. – Ты же говорил, что это материнское благословение! Что это ещё твоей бабки крест!
– Они меня простят, – Орбелия сжал в кулак ладонь девушки с лежащим на ней крестом, обнял её, зареванную, поцеловал в ровный пробор на головке. – Прощай, красавица! Прости за всё и не поминай лихом! Если буду жив, найду тебя!
Заволокло тучами месяц, и в кромешной тьме выехали, таясь, за деревню, и тогда лишь припустили коней и рысью промчали несколько вёрст по степи. Если бы месяц той ночью повременил выплыть из-за плотной завесы туч, то обошлось бы всё без лишних приключений. Но он, как острый глазом соглядатай, выскользнул из своего укрытия, не иначе как затем, чтобы покликать погоню, указав серебристым лучом вынырнувшему откуда ни возьмись красному разъезду: «Вон они! Держите их!» С начала Восемнадцатого, со дня побега из плена в компании покойного Северьянова и юнкера Митрофанова не помнил Вигель такой безумной скачки. Мчались, припустив лошадей в меть, по бездорожью, по яругам, взметая комья грязи и снега, жмуря слезящиеся глаза от бьющего в лицо беспощадного, озлённого ветра, пригибаясь в надежде увернуться от сыплющихся вслед пуль.
Тех – был целый отряд. Они неслись по пятам чёрной стервятничей стаей, почти настигая. У них были винтовки. И пистолеты тоже были. И не было нужды скупиться на патроны в спины врагов. А отвечать им нечем было безоружным…
Орбелия, блестящий наездник, легко петлял и уворачивался под градом пуль, изгибался своим жилистым телом. Николай же к скачкам навыка не имел и в который раз за последнее время подумал, что спастись не удастся. И пожалелось, что не отдал Богу душу от тифа. Хоть бы плена тогда избежал!
Мчались уже по дороге, и впереди развилка была. Налево – снова степь, которую бороздили, как бунтующий океан. Направо – лесок.
– Расходимся в разные стороны! – крикнул ротмистр. – Может, хоть одному из нас повезёт!
– Прощай!
Разделились. Михаил Ираклиевич снова по степи нёсся, а Вигель свернул в лес. Разделились и преследователи. Была бы шашка или пистолет, то прекратил бы Николай эту скачку, а развернулся бы и принял неравный бой. Но безоружному оставалось только бежать, надеясь на чудо. Усталый соглядатай-месяц вновь затаился под пологом туч, и лес погрузился во мрак. Николай успел приметить глубокую ложбину и нырнуть в неё, соскочив с коня.
Не заметили. Пронеслись мимо алчущей крови стаей. И едва затих топот копыт, как стал Вигель пробираться дальше от дороги, затаился в гуще кустарника. Знать, поленились «товарищи» спешиться и прочесать окрестности. Повезло. К утру Николай, продрогший до последней возможности, решился продолжить путь. На душе было тяжело. Думалось об Орбелии. Повезло ли ротмистру так же, или сомкнулись навеки его глаза с вечными весёлыми огоньками, так и не повидав родных гор, улочек Тифлиса и побережья Батума? Думалось о Фроле Демьяновиче и черноглазой Таиске. Свалились на их голову и как бы не подвели под монастырь. Не пощадят их «товарищи», если дознают. Если бы могла спасти их добровольная сдача Вигеля большевикам, то непременно пошёл бы и сдался. На любую муку и глумление. И справедливо бы было… Но никого бы не спасла эта жертва. А, может, и хуже бы вышло.
Николаю повезло ещё раз. Плутая по лесу, он нашёл свою лошадь. Обрадовался ей, как родной, целовал в рыжеватый разгривок… Теперь оставалось пробиться к своим, нагнать отступающую армию, о положении которой никаких точных данных не имелось.
До своих добрался Вигель аккурат первого января. А через день прибыл в родной Корниловский полк, где оставшиеся в живых товарищи уже не чаяли увидеть его на этом свете. Многое переменилось за те недели, в которые Николай был оторван от своих. Генерал Врангель уже не был командующим Добровольческой армией. Не существовало больше и самой армии. За время отступления она просто истекла кровью, её численность сократилась настолько, что решено было свести её в корпус, командующим которого стал Кутепов. Много говорилось об окончательном расхождении Врангеля со Ставкой. Будто бы барон написал в адрес Главнокомандующего резкое письмо, в котором указал на все совершённые Ставкой промахи, приведшие к катастрофе, и копии письма этого разослал другим командующим, а после получило оно и более широкое хождение. Спорили, действительно ли Пётр Николаевич сам распространил это обличительное послание, или это сделали без его ведома. И допустимы ли подобные действия в такой момент. Одни стояли за Врангеля, другие поддерживали Деникина, памятуя о том, что Антон Иванович был ближайшим и последним оставшимся в живых сподвижником Корнилова. Ходили слухи о якобы замысленном убийстве генерала Романовского, которого с редким единодушием признавали злым гением Ставки. Потрясён был Николай. Как бы то ни было, но замышлять офицерам убийство своего начальника – это уже нечто из ряда вон выходящее! Это эсеровщина, провокация, чёрт знает что! И просто не верилось в это.
Фронт, ещё недавно тысячевёрстный, сузился теперь до восьмидесяти вёрст. Отступали к Ростову. Ёкало сердце: а Наташа там как же? И отец? Об отце, впрочем, меньше волноваться приходилось. Отец в тяжёлые моменты всегда сильнее, бодрее становился. А Наташа-то… С её нервами! И нельзя же им оставаться в городе, а уезжать как можно быстрее! И ведь сколько времени ничего не знают они о нём! Должно быть, извелась Наташа, ожидая хоть строчки, хоть весточки с кем-нибудь переданной. Да как бы, в самом деле, дать о себе знать? Рукой подать было до Ростова, а не мог Вигель ни поехать к Наташе, ни написать ей. А ведь сколько не виделись! Скоро год будет, как… Подумал и сам поразился. Целый год! Целый год он не видел её! И не получал писем несколько месяцев – как началось отступление, смешавшее всё. И захотелось непреодолимо хоть на день, хоть на несколько часов увидеться! Да хоть просто в глаза посмотреть, обнять, успокоить… А не тут-то было. Корниловцы вели бои, и не смел Николай оставить фронт. Ведь и других же ждали жёны. Матери. Дети. И не менее долго ждали. И если все, забыв о долге, припустятся к ним? И без того довольно позора…
Наташе он всё-таки написал. Но не с кем было отправить этого письма. И так и лежало оно на груди, ожидая оказии. А в эту ночь, так и не заманив к себе сон, написал ещё одно. Верилось, что когда-нибудь прочтёт она их. Не осталось у Вигеля даже любимого портрета Наташи. Всё растерялось в бредовые тифозные недели. А так хотелось смотреть на её прекрасное лицо! И вызывал его в памяти, прикрыв глаза.
– Подъём!
Уже и времени не осталось вспоминать. Уже пора было выступать Корниловцам. За время непродолжительной передышки, за несколько ночных часов успело кое-что произойти на фронте. Донской корпус оставил Новочеркасск и отступил за Дон, корпус Мамонтова самовольно бросил фронт. На правом фланге дела обстояли отраднее: там били «товарищей» отважные Дроздовцы и конница Барбовича. Приказ Кутепова остался без изменений, и Корниловцы выдвинулись в направлении Нахичевани.
Ворчали в рядах на убитое без дела время. Вчера – туда. Сегодня – обратно. Что за бездарный перевод времени! Не выспались все, продрогли. Ехал Николай, лицо башлыком до глаз замотав, ругал себя, что не прикорнул хоть на час-другой, рассентименталился. Теперь совсем тошно было, и одолевала дремота. Но как рукой сняло её перед самой Нахичеванью. Вздрогнул, ушам своим не веря.
– Господин полковник, Нахичевань занята большевиками! – офицер посланного разъезда перед Скоблиным стоял.
Да не во сне ли?..
– Как – занята? Да вы пьяны, поручик! – полковник тоже верить отказывался.
– Никак нет, Нахичевань занята.
– Быть не может! Вам померещилось… Немедленно поворачивайте и проверьте!
– Слушаюсь!
Ускакали всадники, снимая фуражки и крестясь, скрылись в предрассветной мгле, а позади стрельба раздалась. Это новочеркасские большевики настигли шедший в арьергарде третий полк, ударили по нему. Ох и втяпались же! Впереди большевики, сзади большевики – кольцо?! И всё из-за предательства Мамонтова! Схватить бы теперь эту холёноусую сволочь и… и… Не додумал Вигель, что бы надлежало сделать с генералом в таком случае. Уже поднимались по крутой дороге к Нахичевани. А на подступах к ней не свои поджидали, а – красные. Выгодное положение заняли «товарищи», наверху закрепились, а Корниловцам – подниматься по наледи. Но самим на рожон переть зачем? Выждали, покуда красные в атаку пойдут, подготовились встретить. А в атаку не абы кто, а кавалерия товарища Будённого пошла! По склону вниз помчалась – тут-то устроили ей горячий приём огнём всех пулемётов! Лошадей набили – что вся дорога усеяна ими оказалась. И пленных захватили. Неплохое начало! Стали откатываться буддённовцы – а в гору-то по льду лезть, от огня спасаясь куда труднее, чем вниз катиться! Допекли их ещё сзади. И вошли в город. Там первое, что увидели – разъезд перебитый… Лежали посреди улицы кони, ординарцы и поручик, только-только докладывавший Скоблину… А с конца улицы уже гремел навстречу броневик, за которым, пригибаясь, шли красноармейцы. Тут настала очередь броневика. Серьёзная то была сила, если бы не подвёл её ледяной скат. Закрутился броневик под огнём и по льду, съехал прямо в расположение Корниловцев. Оказали не менее горячий приём «товарищам». Оказались они, смешно сказать, из еврейского полка, который разгромили вчистую ещё под Орлом.
Так отбили часть города, но очевидно было – ненадолго. Сзади новочеркасские большевики напирали. Второй полк уже вёл ожесточённый уличный бой. Из-за каждого угла, из подворотен и окон, с крыш летели пули. Одни находили свои жертвы сразу, другие сперва ударялись о камни и рикошетом наносили страшные рваные раны. И помощи неоткуда ждать.
– Николай Владимирович, что это может означать?..
– Только одно – катастрофу. Видимо, что-то случилось перед Ростовом за те часы, пока мы шли сюда. Немедленно свяжитесь с Терской дивизией!
Перед Ростовом… Господи, да что же там?! Мало надежд было с Терцами, центр фронта державшими (или не державшими уже?) связаться по такому развалу, но удалось. Донесли оттуда, что дивизия разбита красными… Катастрофа! Отступать было некуда. Но и наступать – тоже?.. Всего два моста, всего две переправы были через Дон. Одна позади, в Александровской. Вторая впереди – в Ростове. И обе были захвачены большевиками. Успели перейти Донцы и мамонтовцы, а Корниловской дивизии – пропадай?
– Есть ещё один мост! – осенило полковника. – Здесь! В Нахичевани! Деревянный настил через реку! «Таганрогский мост»! Мы должны перехватить его раньше большевиков!
А «мост» этот совсем рядом был. Взяв с собой роту Корниловцев, Скоблин сам бегом бросился к этой последней переправе и встречен был огнём с противоположного берега. Это стреляли стоявшие там казаки.
– Господин полковник, смотрите, казаки тащат солому, сейчас подожгут мост! – крикнул Вигель, заметив подозрительные манипуляции на другом берегу.
– Вперёд, за мной! – скомандовал Николай Владимирович. Вихрем пронёсся он со своей ротой по деревянному настилу, разметали горящую солому и обрушились с самой отборной бранью на казаков, оправдывавшихся тем, что приняли Корниловцев за большевиков.
Узок и плох был «Таганрогский мост», и теснились на нём подводы, артиллерия, кони и люди. Иные срывались вниз, на лёд. Падали или просто скидывались с моста сражённые вражескими пулями, чтобы тела убитых не преграждали путь живым. Какая-то гружёная повозка съехала и свесилась наполовину над рекой, заметались испуганные лошади, впряжённые в неё, застопорилось движение.
– Распрячь лошадей! – приказал Вигель. – Скинуть повозку с моста!
А бои на улицах продолжались. Пока одни переправлялись, другие под свинцовым градом сдерживали натиск врага. В сплошном грохоте почти не слышал Николай собственного голоса. В дыму он увидел санитарную повозку. Сестра, совсем молодая женщина, спрыгнула на землю и пыталась подобрать лежащих на земле раненых. Она протягивала руки к бегущим, кричала, прося, чтобы они помогли ей, но не очень-то доходчивы были её призывы для ожесточившихся, сатанеющих в этом кипящем котле людей, с боем прорывающихся к последней надежде на спасение – мосту.
– Остановитесь, господа! Помогите мне спасти раненых! Где ваша совесть!
Совесть глохла от грохота, совесть слепла от дыма, совесть теряла чувство от усталости. Но всё же эта маленькая бесстрашная женщина своим голосом, тем, как тащила на хрупких своих плечах раненых к повозке, заставляла совесть пробудиться. Метнулся Вигель к ней:
– Сестра, сядьте и держите вожжи! А я уложу раненых!
– Спаси вас Господь, господин капитан! – чистое лицо-лик, так напоминающий Таню…
Уже и ещё несколько офицеров подоспели на подмогу. Подпоручик Зозулин, старинный знакомец и подчинённый, да ещё двое. Грузили поспешно раненых, поглядывая на мост – не опоздать бы! И назад – как близок неприятель? О пулях думать забыли. Что думать о них? От своей не увернёшься! Не увернулся Зозулин. В спину ударила ему шальная, и рухнул подпоручик ничком, даже не вскрикнув. А двое других уже к переправе ринулись. Трещал не привыкший к такому грузу деревянный настил. А подтянувшийся третий полк понял, что ему по этому мосту, двумя другими полками запруженному, не успеть переправиться, и отчаянно стекал на лёд. Хоть и хрупок он был, но авось выдержит! Двум смертям не бывать!
Не всех подобрать успели, но и не безразмерна подвода была – и без того друг на друга раненых наваливали. Вигель взял лошадь под уздцы и потянул её за собой к мосту. Врезались в клокочущее месиво из орудий, коней и повозок, а сзади наседали красные. От самого моста успел Николай выстрелить несколько раз из взятого у одного из погибших однополчан браунинга. Попал ли в кого – и чёрт не смог бы разобрать в этакой кутерьме! А сестра спокойна была, и нельзя было не восхититься её самоотверженностью.
– Господин капитан, садитесь рядом!
– Лошадь может испугаться и метнуться в сторону, лучше, если я буду держать её под уздцы!
Одолели переправу одними из последних, и прямо за спиной вспыхнул деревянный настил, подожгли его казаки перед самым носом у красных. Полыхал «Таганрогский мост», гремели выстрелы на противоположном берегу, по хрупком льду тянулся чёрной вереницей расстреливаемый в спину третий полк, оставляя на белой глади распластанные тела своих боевых товарищей, командиров.
Дорого стоил этот страшный бой Корниловцам. Всего порядка четырехсот офицеров из полутора тысяч штыков осталось. Едва переведя дух, Скоблин отправился в Батайск, где должен был находиться штаб корпуса. С ним поехали несколько офицеров, включая Вигеля, ещё не успевшего в круговерти этих нескольких дней получить строевой должности и находившегося в распоряжении командира дивизии. По дороге встретили молодого генштабовского адъютанта, холёного, одетого с иголочки и уже этим вызывающего неприязнь. Он передал полковнику приказ командира корпуса. Пробежав его глазами Николай Владимирович побледнел и, выругавшись самыми тяжёлыми словами, обратился к капитану, задыхаясь и дрожа от бешенства:
– Какого чёрта вы доставляете мне приказ об отходе моей дивизии через Александровскую переправу только сегодня?! Почему вы вчера не доставили его мне?! Из-за вашей трусости у меня убитых только шестьсот человек! Расстреливать таких офицеров! – и показалось на мгновение, что, и в самом деле, сейчас застрелит чёрный от усталости, грязи и гнева полковник холёного штабного адъютанта. Но сдержался, пришпорил коня, проскакал мимо, отвесив напоследок ещё одно грузное словцо.
На вокзал Батайска, с обороны которого два года назад начинался добровольческий путь Вигеля, примчались, когда штабной поезд уже отходил.
– Задержать поезд! – срывающимся голосом крикнул Скоблин и, плохо контролируя себя, вспрыгнул в вагон командира корпуса.
Поезд остановился и тронулся вновь через некоторое время, когда опустошённый, словно оледеневший Николай Владимирович сошёл на платформу. Он медленно возвратился к оставленным офицерам, сказал глухо:
– Мы потеряли половину дивизии, а корпус – большую часть своего состава… Катастрофа, господа, – тяжело вскочил в седло, добавил, трогая повод: – Возвращаемся. Наша задача теперь – защищать Батайск…
Глава 12. У последней черты
Последние числа января 1920 года. Новороссийск
– Не толпитесь, не толпитесь, всем хватит! – Анна Кирилловна возвышала свой не очень-то сильный голос над сгрудившейся вокруг походной кухни толпой, с ужасом думая, что на всех, на самом деле, может и не хватить.
Походная кухня с упряжкой, как и все прочие идеи по облегчению участи больных и беженцев, была изобретена доктором Лодыженским. Он же одним ему ведомым способом добыл для неё провизию. А кроме того лекарства, перевязочный материал, одежду и бельё для беженского люда, забившего город до последнего предела. Свирепствовавший тиф уносил бесчисленное число жизней. Ещё по пути в Новороссийск Анна Кирилловна видела множество брошенных вдоль железной дороги трупов, которые в угаре беженства некому было хоронить. В самом городе творился неописуемый беспорядок. Люди целыми днями скитались по улицам, уже не надеясь на то, что отступающая армия сможет их защитить, а уповая только единственно на какое-нибудь судно, которое отвезёт их к берегам Константинополя. Для всей этой массы голодных, оборванных, часто больных людей требовалось наладить хоть какую-то помощь. Первое, что сделал Юрий Ильич, это организовал пост скорой медицинской и питательной помощи для беженцев, после чего раздобыл ещё и походную кухню. Всё это доверено было им сёстрам. Сам доктор, оказавшийся единственным врачом в Главном управлении Красного Креста, вынужден был постоянно инспектировать эвакуационные пункты и госпитали.
Не привыкать было сёстрам к тяготам. После пережитого в Киеве мало что могло ужаснуть их. Осень минувшего года Анна Кирилловна до сих пор вспоминала с дрожью. Тогда занявшие город петлюровцы убили и арестовали многих офицеров и юнкеров. Среди арестованных оказался и её сын, Родя. Его вместе с другими заключили в здании Киевского музея. В одну из ночей туда была брошена бомба. Террористы рассчитывали воспользоваться провокацией и перебить пленников. И это бы могло случиться, если бы не находчивость Юрия Ильича, которого Анна Кирилловна не могла называть иначе, нежели Ангелом-Хранителем. Не Ангелом даже, а Архистратигом… Сколько людей было спасено от смерти этим необыкновенным человеком, сочтёт ли кто? Той ночью, едва услышав взрыв, Лодыженский немедленно обратился в немецкую комендатуру с просьбой послать в музей немецких солдат для охраны пленных от избиения. Но этим доктор не ограничился. На «Скорой помощи» он поехал в музей сам и, пользуясь случаем, вывез оттуда не только раненых, но и ещё некоторое количество человек, за раненых выданных. Среди последних – и Родю.
После этого героического дела белый центр обратился к Юрию Ильичу с просьбой организовать в музее постоянный краснокрестный пункт и помочь отправке офицеров из Киева на Юг. В организации пункта помогла миссия датского Красного Креста. Вторую же задачу Лодыженский решил самостоятельно, решил дерзновенно, решил так, как не умудрился бы никто другой. Всем желающим доктор выдавал хранившуюся на складе солдатскую одежду и соответствующие удостоверения. Само это действо происходило открыто, среди бела дня, в здании Городской Думы. На вопрос, не сошёл ли он с ума, Юрий Ильич со свойственной ему безунывностью отвечал:
– Открытость – лучшая ширма. Никто не заподозрит «преступных» намерений при такой открытости.
Действительно, не заподозрили. И среди прочих убыл на Юг Родя. Страшно было Анне Кирилловне отпускать сына, но ещё страшнее было бы, если бы он остался в Киеве. Сама же оставалась. Огромный фронт работы открывался перед Лодыженским и его немногочисленными сотрудниками, среди которых оказался и брат покойной актрисы Комиссаржевской, ставший секретарём Юрия Ильича. Для помощи заключённым по инициативе доктора и под покровительством швейцарского консула был создан Международный комитет Красного Креста помощи жертвам гражданской войны.
Основную тяжесть работы приняли на себя сёстры. В их задачу входило собирать сведения о заключённых, следить за их судьбой и сообщать о ней их родственникам, инспектировать места заключения, кормить пленников, оказывать им медицинскую помощь… Непочатый то был край. С установлением власти большевиков число заключённых лишь возрастало. Содержались они в условиях чудовищных. Чекисты не слишком охотно допускали к ним сотрудников Красного Креста, но Юрий Ильич пугал их угрозой распространения эпидемий, если заключённые будут оставлены вовсе без врачебной помощи. Вдобавок комиссары не заботились о прокормлении своих пленников и не возражали, чтобы этим занимались благотворители.
Каждый день погружалась Анна Кирилловна в пучину человеческого страдания. Теперь ясно понималось ею, что на свете нет чужого горя, чужой беды. На месте умирающих от голода и болезней, от пыток и унижений людей мог быть её сын. Каждое утро она с другими сёстрами спускалась в ад, чтобы хоть чем-то облегчить муки заточённых в нём несчастных. Развозили и разносили еду, приготовленную в выбитых Лодыженским для походных кухонь бараках. И всего страшнее было, когда камеры, ещё накануне переполненные, вдруг оказывались пустыми, потому что ночью их узников «пустили в расход». И предстояло ещё уточнить имена убиенных, и обойти их родных со скорбной этой вестью. Примером для Анны Кирилловны была Вера Владимировна Чичерина. Эта женщина, лишившись мужа, на собственные средства оборудовала передовой санитарный отряд. Всю войну она трудилась на передовой, выносила раненых из-под огня противника, за что получила солдатский Георгиевский крест, и в Киеве работала она с такою же самоотверженностью, отвагой и энергией.
Трудились сёстры, сна и отдыха не ведая. Сколько ж судеб, сколько лиц прошло перед ними за эти месяцы! С кем только не сводила судьба! В Лукьяновскую тюрьму носили еду арестованным митрополитам Антонию и Евлогию. Тюрьмы обычные, со старых времён сохранившиеся, ещё не так ужасны были, как импровизированные, организуемые по подвалам, которые ещё искать приходилось, чтобы узникам помочь. И ведь едва ли ни каждый день новые находились! Как-то на запасном пути обнаружили вагон-ледник, с запертыми в нём людьми. Целый месяц несчастных катали между Киевом и Одессой практически без пищи и воды. Заключённые были в ужасном состоянии, и Юрий Ильич добился их освобождения. Среди спасённых оказался верный сподвижник Столыпина, последний министр земледелия царского правительства Риттих. Этот замечательно деятельный, умный, мужественный и честный человек стал вернейшим помощником доктора. Думалось, глядя на этих редких людей, что если бы в последние дни Империи правительство состояло из таких, как они, то последние дни не наступили бы никогда…
Большевики недолго терпели активность доктора. Вскоре в «Известиях» появилась заметка, где он именовался врагом революции. Но покрыла невидимая Рука Юрия Ильича и в этот раз. Он вынужден был бежать из Киева. Был в Москве, где виделся с Горькими, жил в Полтаве у Короленко, посильно старавшегося помогать деятельности краснокрестного комитета. В Полтаве, как и в Киеве, шли в ту пору массовые аресты и расстрелы. Расстреляли и зятя Короленко. Юрий Ильич был арестован, но уцелел и вернулся в Киев, когда город был освобождён Добровольцами.
Всё время его отсутствия сёстры продолжали работать. Страшные дни не минули даже с падением большевиков, ибо они оставили после себя страшное «наследство»: подвалы, битком забитые трупами расстрелянных в последние дни жертв. Места нахождения этих братских могил не были известны, и целую неделю сёстры искали их. Найдя, проводили опознание и вновь обходили родственников жертв, отнимая у них последнюю надежду и принося в их дома безысходную скорбь. Груды тел свозились на грузовиках к огромной загородной братской могиле, здесь в присутствии многотысячной толпы состоялось отпевание невинно убиенных. Впервые за долгое время в тот день Анна Кирилловна лишилась чувств. Вид сотен изуродованных тел, трупный запах, пропитавшее воздух горе и отчаяние родных, стоящих у страшного рва – всё это вернуло её в страшную ночь Восемнадцатого, в парк мертвецов, где нашла она своего убитого мужа. Вся страшная моральная и физическая усталость, накопленная за время красного террора, столь долго сдерживаемая, прорвалась в тот мрачный день, и несколько дней потребовалось после Анне Кирилловне, чтобы прийти в себя. Последнему способствовал другой молебен. Радостный. Его в часовне Божией Матери на Подвальной улице решили отслужить спасённые сёстрами бывшие «смертники». После молебна многие из них плакали, вспоминая ужасы заточения, в котором сёстры, приходящие к ним с риском для собственной жизни, стали единственным светом, надеждой на спасение. Было сказано много трогательных и благодарных слов. Никогда в жизни не слышала Анна Кирилловна стольких в свой адрес. Но гораздо больше слов говорили лица, глаза собравшихся людей. И глядя на них, плакали и сёстры. И от слёз этих легчало на душе, словно отмывалась она от ужаса последних месяцев…
После освобождения Киева доктор Лодыженский был вызван в Ростов. С ним поехали и некоторые сёстры. Поехала и Анна Кирилловна, надеясь повидать сына, с которым была столь долго разлучена. В Ростове решено было образовать новый Комитет Красного Креста по помощи жертвам Гражданской войны. Его председателем по предложению Лодыженского стал Риттих, сам же Юрий Ильич стал его управляющим делами. Казалось, что теперь работа пойдёт легче, но на деле всё вышло иначе. Немереное количество сил и времени уходило на то, чтобы добиться необходимой помощи от правительства Юга. Даже энергия доктора не могла пробить этой стены. У Риттиха вскоре сдали нервы. Он был обескуражен беспорядком, сломлен всеми переживаниями последнего времени, утратил веру. Снова основная тяжесть работы ложилась на Юрия Ильича, но выше человеческих сил было обратить вспять начавшееся отступление, из-за которого над Ростовом нависла угроза эвакуации. Единственное, что мог сделать Лодыженский, покидая оставляемый армией город, это, вытребовав запасы захваченных белыми советских денег, самолично, пешком, в сопровождении одного лишь денщика, разнести их по госпиталям и тюрьмам, чтобы тем легче было пережить первые месяцы власти большевиков, наскоро делился опытом работы в Киеве, советовал, что и как делать. В итоге едва не опоздал на поезд, шедший в Новороссийск. Поезд, впрочем, до города так и не дошёл из-за затора на дорогах, и добираться пришлось пешком.
Теперь пытались наладить работу здесь… Каждое утро садилась Анна Кирилловна в повозку с походной кухней и ехала в порт. Затем на вокзал. Боялась мародёров, которых, как и в Ростове, немало было в Новороссийске. Родя, которого отыскала она на Юге, сопровождал её. И этим утром прибыли в порт вместе. Анна Кирилловна раздавала привезённую пищу, а Родя, насупившись, следил, чтобы кто-нибудь не попытался ухватить себе лишнего.
– Господа, прошу, не напирайте так! Вначале пусть подходят дети и женщины!
Детей здесь много было. На них особенно жалко было смотреть. И ничем не могла Анна Кирилловна помочь свыше того, что делала. У неё даже личных средств никаких не осталось. Ещё в Киеве она распродала все ценности, которые удалось сберечь, и вырученные деньги пошли на помощь заключённым. Тянулись отовсюду руки. А некоторые, получая еду, сразу запрашивали и врачебную помощь. Кому-то советовала сразу, кого-то просила подойти после раздачи пищи. Здесь врач нужен был, а врачи – наперечёт. Врачи в госпиталях не успевают управляться, тем более, что многие слегли сами с тифом.
– Родя, не сиди истуканом! Раздай пока вещи, которые мы привезли!
Немного рассредоточилась толпа. Часть оттянулась на раздачу белья и одежды. У Роди дело это бойко пошло, словно бы на базаре торговал прежде.
– Сестрица, посмотрите моего сына. По-моему, у него пневмония!
– Сестрица, нет ли у вас морфия? Страшная боль…
– Мой отец! Помогите ему! Он умирает…
– Возвратный тиф…
– Позовите врача!
Изнемогала Анна Кирилловна, и уже все эти мольбы сливались в ушах в один гул, и лица не различались. Ледяной норд-ост, обычный в эту пору, пронизывал до костей. Лошадь волновалась от напора толпы, но спокойная была, не дёргала. А ещё же на вокзал ехать… Господи, хоть бы какой-нибудь порядок обеспечили!
Еды, по счастью, достало всем. И вещи Родя раздал подчистую. Ещё осмотрела Анна Кирилловна некоторых больных, саму себя чувствуя больной хуже их, едва на ногах держась.
– Благослови вас Господь, сестрица!
Наконец, отъехали. Родя сел за кучера, подгонял усталую лошадь. Возмужал, и всё более походил на отца – полнилось нежностью материнское сердце. Анна Кирилловна сидела рядом, смотрела на запрудивших улицы людей, пыталась унять расходившееся от напряжения сердце. Ещё вокзал впереди! Ещё там продержаться! А потом несколько часов передохнуть… А, впрочем, лучше и не загадывать. Может статься, что и этих часов перехватить не удастся, а срочно потребуются где-то рабочие руки и отзывчивое сердце. И надо будет спешить туда, а отдых… Отдых это из области грёз…
Мимо потянулась вереница покрытых брезентом телег. Родя попридержал лошадь, уступая дорогу, расступились и люди. Этот мрачный кортеж шёл от вокзала. Приходившие туда санитарные поезда привозили десятки, сотни умерших, и их вывозили оттуда телегами. Из-под брезента и рогож свешивались окоченевшие руки и ноги, виднелись оскаленные, уже более похожие на черепа, лица мертвецов.
Проехали… Опять засновали очерствевшие сердцем люди…
– Давай я один съезжу на вокзал, – предложил Родион, трогая поводья и с жалостью глядя на мать. – Я справлюсь. Чего там!
– Справишься, конечно. С раздачей пищи. А с медицинской помощью? Нет, я должна ехать…
– Они бы хоть охрану дали! В городе толпы мародёров!
– Ты же со мной, – мать ласково улыбнулась.
– Меня в любой день могут отправить на фронт! Вообще, не понимаю, почему до сих пор не отправляют… – Родя с раздражением хлопнул кулаком по колену. Это вынужденное сидение в тылу изводило его. С Семнадцатого года (да что там – с Четырнадцатого!) он рвался на фронт. А фронт, фронт, бушевавший повсюду самым нахальным образом обходил его. Уже его, Родионовы, однокашники по Киевскому военному училищу сражались в рядах Добровольческой армии, сейчас именно они защищали Крым от лавины красных. А Роди не было в их рядах! Вот, не эвакуировался в своё время с ними, остался в Киеве, а с той поры и идёт всё кувырком…
Думал, что уж с Петлюрой-то приведётся в поле чистом встретиться. Где там! Помёрзли на дурацкой линии обороны, которая ничегошеньки не обороняла, поболтались по улицам Киева и «завернули оглобли» по приказу графа Келлера. Да ещё так неудачно завернули, что аккурат к петлюровцам и влопались. Те, спасибо, помордовали немного, кулаки размяв, но убивать не стали, а заперли с прочими арестантами в здании Педагогического музея. Тысячи людей сгрудились там. Лежали на полу, друг на друга навалившись, что ступить негде было. Кабы не немцы, так и перебили бы всех. Вламывались в музей разъярённые банды с винтовками, но немцы преграждали им путь. Бесконечно долго тянулись дни! И из всех неприятностей пленного положение было особенно отвратительно то, что в музее в первые же дни сломался клозет, и петлюровцы, издеваясь, немедленно снарядили на чистку его заслуженных, пожилых офицеров. Но не очень-то это делу помогло…
Сменяли друг друга недели, и изводился Родя. Не успел на Дон пробраться! Там сейчас настоящая борьба! Там война! А он, юнкер Марлинский, лежит, как мешок, на грязном полу, укрывшись шинелью, раз в день, раздевшись почти донага, перетряхивает одежду, давя жирных вшей, и ждёт решения своей участи. И все ждали. Многие с уверенностью, что это – конец. Правда, при этом тут же, в вестибюле составляли списки желающих на Дон. Но, вот, пришло Рождество. И в одну из ночей раздался страшный грохот. Звон битого стекла, выстрелы, крики людей.
– Господа, спокойно! Это взрыв!
Изготовились уже к худшему, но обошлось. А вскоре увидел Родя знакомую высокую фигуру. Юрий Ильич Лодыженский! В ночном хаосе доктор распоряжался вывозом раненых так, будто бы он, а не петлюровцы был начальством здесь. И никто не смел возражать этому решительному и бесстрашному человеку. Сёстры проворно перевязывали раненых, выносили и выводили их вон. Родя подобрался ближе. Юрий Ильич едва заметно кивнул, и, вот, уже сёстры наложили повязку на ни коим образом не поцарапанную голову и повели из тюрьмы на волю… Самый счастливый был миг! А в лазарете уже и матушка ждала, наплакаться не могла от волнения.
Огорчало лишь, что в хаосе потерял верного дружка Коку Куренного, его не вызволил. Позднее лишь прознал, что Коку и ещё шестьсот пленных из Киева интернировали в Германию. Ну, слава Богу, хоть жив остался!
Из Киева под видом солдата, возвращающегося из немецкого плена (документами и одеждой тоже Юрий Ильич, спаситель, помог) пробрался Родя на Юг. Здесь отыскал родственников. Дальних, правда, даже не кровных, но всё-таки. Оказался здесь Пётр Андреевич Вигель и его сын Николай, доводившийся сводным братом матушкиному деверю, и тётка Николая, Рассольникова с мужем и дочерью. Седьмая вода на киселе, конечно, а не родня, но всё-таки и не совсем сторонние люди. С Петром Андреевичем нередко приходилось видеться в Новочеркасске. Старик квартировал у некой молодой вдовы, и Родя не без удовольствия пользовался всегдашним приглашением к обеду, пытаясь удовлетворить свой уже год не проходящий голод.
Думалось Роде, что уж теперь-то навоюется он! Наконец, вступил он в Добровольческую армию. Ждал, что теперь – на Москву! Большевиков бить! И опять насмеялась судьба. Командованию бойцов не хватало в тылу. Чтобы с разными более или менее крупными бандами бороться. И определи Родю в один из таких отрядов, оперировавших сперва против батьки Григорьева, а позже в районе Новороссийска, вдоль побережья, где участились вылазки «зелёных». Это тоже, конечно, дело было. Тоже – война. Но не та, о которой Роде мечталось. Гонялись, как проклятые, за какими-то бандитами, а их всё больше и больше становилось… Наконец, добился зачисления во второй кавалерийский полк. Но – запоздало. Уже никуда не наступала Армия, а стремительно катилась назад. Не удержали даже Ростова…
Так и оказался вольноопределяющийся Родион Марлинский в Новороссийске, в котором мыкался неприкаянно уже несколько недель. Одна радость была: приехала матушка и Юрий Ильич. Покуда работали они в Ростове, лишь раз и повидаться удалось – Родя нарочно отпросился у командира. А теперь, как прежде в Киеве, вместе собрались. Только, кажется, не исчерпывалось сходство лишь этим обстоятельством, но ожидала Новороссийск участь Киева.
Покуда не отправляли на фронт, Родя взялся помогать матери. Комитет Красного Креста отчаянно нуждался в рабочих руках. Хоть чем-то бездарно проходящее время заполнялось. Беспокоился Родя, глядя, как выбивается из сил мать. Ведь не такая уж и сильная она. Не захворала бы… А с другой стороны, если уж ужасы красного террора в Киеве пережила, так теперь навряд ли тяжелее ей. Мать очень усталой казалась, но мало постарела за этот год. Моложавая, привлекательная женщина. И даже что-то девчачье есть в ней. Вон, косынка на бок сбилась, и чёлка белокурая на лоб спадает. И такая мягкость в лице…
До вокзала доехали в молчании. По дороге пытались прицепиться к повозке двое мародёров, один даже попытался ухватить лошадь под уздцы. Но вид направленного по их адресу револьвера заставил мерзавцев улетучиться. Матушка восприняла этот инцидент спокойно. Так погружена она была в свои заботы о страждущих, что всё прочее очень мало тревожило её. У вокзала приободрилась, собралась с силами и снова взялась за работу: кормила, лечила, утешала. Когда окончилось всё, уже на обратном пути сказала горестно:
– Сколько же страданий вокруг! Верно говорят – горе, как море. Не исчерпать, не осушить… Что со всеми ними будет? Кто о них позаботится?
– Если бы половина из них вместо того, чтобы дожидаться красных во всех городах Юга, пошли бы на фронт, то ничего этого не было бы, – хмуро отозвался Родя. – Даже среди этих беженцев есть немало людей, годных для ношения оружия.
– Ты говоришь, как Пётр Андреевич.
– Я согласен с ним.
– Какой же ты стал взрослый… – мать грустно улыбнулась, погладила Родю крупной, натруженной ладонью по выбившимся из-под фуражки волосам.
Доставив матушку в целости и сохранности до питательного пункта, Родя пошёл к набережной. Идти «домой» ему не хотелось. «Домом» теперь являлась одна единственная комната в чужой, забитой такими ж беженцами, людьми. Комната разделялась надвое ширмой, и жили в ней четыре человека: Пётр Андреевич Вигель, его ростовская хозяйка Наталья Фёдоровна, женщина, страдающая тяжёлой формой неврастении, сам Родя и мать, впрочем, лишь изредка добиравшаяся до этого уголка.
На Серебряковской повстречал товарища и однополчанина, вольноопределяющегося Саволаина. Иван тоже был родом с Украины. Со скамьи харьковского университета окунулся в белую борьбу, сражался в рядах Добровольческой армии. Их было пятеро братьев – Саволаиных. И ни один не отклонил выпавшего жребия. Ни старшие – офицеры-михайловцы, ни младшие, такие же вольноопределяющиеся, как Иван. Ивану шёл двадцать первый год. Стройный, худощавый молодой человек с продолговатым, бледным лицом и тёмными, печальными глазами, он был проникнут религиозным ощущением длящейся борьбы. Родя знал, что Саволаин – поэт. Что ещё до войны его стихи бывали на страницах губернской газеты. Но Иван отчего-то не читал своих стихов. Быть может, не та ещё степень товарищества была меж них, чтобы поверять сокровенное.
Обрадовался Родя встрече. Пошли по запруженной улице, обсуждая последние безотрадные вести с фронта, переживая, что зачем-то их не отправляют туда, а держат в этом превратившемся в ночлежку городе. Валила нескончаемым потоком толпа. В ней немало было состоятельных господ и нарядно одетых дам. Процокала каблуками мимо одна, в мехах, шлейф духов позади оставляя. А с нею рядом – полковник. Тоже не в отрёпьях, осанистый… Иван ненавистно посмотрел им вслед:
– Предатели… – процедил срывающимся голосом. – Из-за таких, как эти подлецы, сейчас гибнет армия! Лучшие гибнут! Те, которые свою верность России запечатлели кровью.
– Иногда очень тянет приложиться к какой-нибудь из этих рож, – согласился Родя. – То же самое было в Киеве перед приходом Петлюры. Мне даже кажется, что это те же самые рожи.
– Вечно повторяющаяся подлость!
У стены дома, затиснутый снующими людьми, сидел безногий офицер со знаком Первого Кубанского похода на груди. Перед ним лежала фуражка, в которую изредка бросали какую-то мелочь.
– Посмотри! Посмотри! – нервно говорил Иван. – Наши газеты регулярно сообщают, что то там, то здесь покончил с собой офицер-первопоходник. Покончил из-за того, что ему не на что было жить! И этот закончит так же, не вынеся унижения! А эти! – взмахнул рукой, – жируют по ресторанам и думают, как спасти свои бриллианты! Все эти умершие от забвения и унижения герои – на их совести! Это они – убийцы! – закурил папиросу, пошёл вперёд, задавливая рвущиеся эмоции.
Родя пошарил в кармане, нашёл какую-то мелочь и, подойдя к инвалиду, положил их в его фуражку. Тот посмотрел на него страдальческим взглядом и быстро отвёл глаза, затуманившиеся слезами.
– Простите… – сказал Родя, чувствуя себя чем-то виноватым перед этим героем. Его терзал стыд. Стыд за то, что такое положение людей, отдавших всё во имя спасения Родины, возможно. За то, что правительство не сумело хотя бы их-то, героев, оградить от беспросветной нищеты и унижения. За то, что толпа сытых и хорошо одетых бездельников, проходит мимо, и слёзы героя не трогают их окаменевших сердец. Да они и не видят их! Они не смотрят в его сторону, чтобы не портить расположения духа, не будить совести! А если бы только посмотреть им в его жгучие глаза! Или не проняло бы?.. Нельзя, невозможно одолеть врага при таком отношении к героям… Этот безногий офицер был не первым, которого Родя видел с протянутой рукой. И каждый раз, кладя милостыню этим людям, он стыдился самого себя. Стыдился того, что обут, одет и здоров. Того, что имеет пищу тогда, когда они не имеют ни крохи. Того, что не может дать, сделать большего. И опускал глаза, и спешил уйти. И сейчас поспешил.
Иван, между тем, дошёл уже до конца Серебряковской, вывернул на узкий, разбитый тротуар, ведущий к набережной. Навстречу быстро поднимался высокий, статный, моложавый офицер в длинной шинели. Саволаин нарочито смотрел в другую сторону и прошёл мимо, не отдавая чести. Издали Родя услышал звучный голос, окликнувший товарища:
– Вольноопределяющийся, пожалуйте сюда!
Иван обернулся, вытянулся.
– Почему это вы чести отдавать не изволите?
– Виноват, ваше превосходительство, не заметил!
– Неправда, вы прекрасно видели меня и с целью смотрели в противоположную сторону, – приметлив оказался офицер. Увещевал строго, но не грозно, как напроказившего шалуна. – В какой армии служите?
– В Белой, ваше превосходительство…
– Не может быть. Вы подумайте хорошенько, может быть, вы в Красной армии служите?
– Никак нет, ваше превосходительство…
– А по-моему, вы красный. Только там чести не отдают. Стыдитесь!
Родя, стоявший в нескольких метрах поодаль, вытянулся по струнке, отдавая честь приближающемуся к нему генералу. Он узнал его почти сразу. Это был тот самый генерал, о котором так много говорил Пётр Андреевич и Николай, служивший под его началом в Кавказской армии. Врангель! Врангель, которому в грозные эти дни Ставка не нашла должности, и который вынужден был теперь в бездействии коротать дни в Новороссийске. Если уж такой военачальник оказался не нужен на фронте, то к чему там вольноопределяющиеся Марлинский и Саволаин… Странные дела!
Генерал посмотрел на Родю с чуть заметной улыбкой, кивнул ему и прошёл дальше.
Догнав взволнованного товарища, Родя спросил его с удивлением:
– Что это ты фрондёрствовать решил? Или вправду не заметил?
– Не узнал… – пристыжено признался Иван. – Мне издали он показался совсем молодым офицером. Ротмистром или подполковником. А потом, как обернулся, гляжу – погоны генеральские!
– Эх ты!
– Не трави душу… И так не знал, куда от стыда деться. Лучше б он меня под шашку в наказание поставил, ей-Богу. А от его «стыдитесь» мне сквозь землю провалиться захотелось!
– Да ты и теперь, как варёный рак, – Родя развеселился. – Выводы сделал?
– Да. Лучше отдавать честь всем подряд, чем хоть раз так ошибиться!
К вечеру Родя возвратился «домой», гадая, найдётся ли ему что-нибудь на ужин. Хотя днём и перепало несколько от беженского обеда, но крохи же! Молодому, здоровому организму требуется подкрепление гораздо серьёзнее. Матери не было. Видимо, опять не могла оставить своих больных. Зато у Петра Андреевича был гость, пожилой господин в пошитом из мешковины костюме, которого Родя видел впервые. Навстречу выплыла Наталья Фёдоровна, улыбнулась приветливо:
– А мы уже беспокоились, где вы запропастились. Больно нехорошо нынче на улицах… – вздохнула, и сразу слёзы навернулись. Но взяла себя в руки: – Вы, должно быть, голодны? Я вам оставила кое-что на ужин. Садитесь! Я сейчас принесу.
Родя прошёл в комнату, учтиво поздоровался со стариками.
– Что город? – спросил Пётр Андреевич, отвлёкшись от разговора с гостем.
– Город грезит о брегах Стамбула…
– Чёрт знает что! Ещё три года назад мы грезили о том, как победно ступим в Константинополь! А теперь – о том, чтобы спасти там шкуру! Позор, позор…
– Я сегодня видел обезноженного офицера-первопоходца, просившего подаяния.
Лицо старика Вигеля исказила болезненная гримаса:
– Пора бы уже нашим искалеченным героям устроить акцию на манер московской… Помните, князь? Сотни инвалидов на Красной площади с плакатами «Здоровые – на фронт!». Актуально было бы у нас!
– Ваша правда. Вспоминаю, когда немцы наступали на Париж, он как бы слился с фронтом. На улице не мог показаться здоровый молодой человек, чтобы его не освистали и не осмеяли. Все автомобили были посланы на фронт! Все увеселения закрыты. Всё население работало над защитой своей страны! Самих себя! А у нас… Я был в Харькове незадолго до его оставления. Одних кабаре – десяток! И все битком! Пьянство, спекуляция. А я выступал там в это время в холодной зале перед немногочисленной публикой. Читал им лекцию на тему «Подвиг фронта и задачи тыла». Кажется, без особого успеха. Те, кто пришли и кутались в шубы, всё понимали сами. Те, кто сидел по кабакам в тепле и уюте, меня не слышали. Да и не проняло бы, я думаю…
– Небывалая мерзость!
– Пётр Андреевич, вам нельзя так волноваться, ведь у вас сердце, – робко вставила Наталья Фёдоровна, подавая Роде миску с непонятным, но довольно аппетитно пахнущим варевом.
– Плевать на сердце! – махнул рукой Вигель.
Всё внутри Петра Андреевича клокотало от негодования, от созерцания какой-то нескончаемой глупости, сокрушающей всё в последние годы. Почему пало Царское правительство? Враньё, что из-за революции! Из-за социальных причин! Из-за козней врагов! В первую голову, от собственной глупости пало! От чего гиб теперь безнадёжно Юг? Да от того же самого! О неимения нужных людей на нужных местах! И если бы людей, в самом деле, не было! Но – были же! Умница Кривошеин был! Только позови, только дай работать ему! Дай сформировать правительство! И горы бы свернуло оно! И – не дали. Только недавно по настоянию общественности на должность начальника снабжения расщедрились неохотно. Косились на него из Екатеринодара, как на слишком правого. А думал Вигель, что не столько в правости дело было. А – боялись. Сильной фигуры боялись. Боялись, что такая личность всю власть под себя подомнёт, что властью делиться придётся. Боялись рядом с ним не потянуть. Мелочное самолюбие выше всего оказалось! Князь Павел Дмитрич, впрочем, не согласен с этим был:
– Вы преувеличиваете, Пётр Андреевич. Я не раз встречался с Антоном Ивановичем, и могу вам сказать искренне: это рыцарь, настоящий рыцарь и патриот России. Вспомните, как просто он признал власть адмирала Колчака!
– Так ведь Колчак был далеко! Такое признание никоим образом не сковывало его. Тем более, что наступать стали в противоположную от Колчака сторону… Зато какое честовоздаяние было получено!
– Очень уж вы зло судите, Пётр Андреевич. Деникин допустил немало ошибок, но в его личном благородстве я не сомневаюсь.
– Самое лучшее, что бы мог он теперь сделать, как честный человек и патриот, это уйти, пока ещё не стало окончательно поздно. Если уже не стало…
– Хотите менять коней на переправе?
– Хуже от этого не будет!
– Хотите видеть на посту Верховного генерала Врангеля? – продолжал угадывать Долгоруков, закуривая трубку.
– Да, хочу, – честно ответил Вигель. – Я знаю его, как человека незаурядных способностей и большой личной порядочности.
– Ходят слухи, что сторонники барона готовят переворот. Будто бы даже митрополит Вениамин принимает в этом участие. Не слышали вы ничего об этом?
– Слышал. Но не верю. Тому, во всяком случае, что сам Пётр Николаевич принимает в этом участие. В Ставке верят глупым сплетням и наветам разных бессовестных деятелей, имеющих на барона зуб. Опять-таки, дорогой князь, всё упирается в личное самолюбие! Именно на нём сыграли заинтересованные лица, и Деникин увидел в Петре Николаевиче соперника, взревновал! И кому прок о того, что в такой момент командующий, обладающий таким талантом, сидит без дела в Новороссийске?! Только не армии! Только не России!
Кипел от возмущения, о больном сердце позабыв. О заговоре слышал Вигель. Но судил так, что заговора никакого нет, а есть течение мысли, которое выдаётся за заговор теми, кому течение это не по нутру. А течение, между тем, крепло. Врангель жил в своём вагоне в Новороссийске, и туда к нему ежедневно шли люди. И иные, наверное уж, поднимали тему о смене власти. Был однажды и Пётр Андреевич у барона, пользуясь тем, что тот хорошо знал его пасынка и сына. Поговорили с полчаса. Очень приятное чувство от того разговора осталось. Трезво видел барон ситуацию и предлагал меры по выходу из неё. Сколько их он предлагал в разные этапы катастрофы! Но отворачивалась Ставка. Потом и подхватывала подчас, да уже опоздано. Несколько месяцев назад, когда накалились до предела отношения с Кубанью, кого позвали, чтобы урегулировать? Врангеля! Когда началось предсказанное бароном крушение фронта, кого срочно бросили на спасение Добровольческой армии? Врангеля! Бросили, но и подрезали крылья. Не дали отводить её, согласно им намеченному плану, вне связи с Донцами: так и угробили лучшие кадры добровольческие, подставив, фактически, их на линию огня. И уже плодились слухи, и уже всякое действие генерала в Ставке вызывало подозрение. Конечно, он сам не скрывал своего несогласия с руководящей линией. Высказывался подчас резко. И резкости эти многократно преувеличивали, доводя до чувствительных к тому ушей Главнокомандующего. В итоге же не нашли лучшего, как выдавить строптивого генерала отовсюду. Да ещё какие-то не в меру ретивые прохвосты оказывали командованию медвежью услугу, распуская в кофейнях мерзкие слухи о том, что Врангель, де, из-за личных амбиций бросил армию в критический момент! Рассчитывали настроить публику против неугодного генерала, а, на самом деле, вызывали раздражение кадровых офицеров против командования, которое подозревалось в роспуске этой гнусной клеветы.
Рассказывал Пётр Николаевич, что просил разрешить ему хотя бы принять все с его точки зрения необходимые меры для эвакуации Новороссийска. Не дали. Такая подготовка, де, произведёт нежелательное впечатление на население! Будто бы население было слепо и глухо, и не понимало, к чему всё идёт!
– Я сижу в вагоне в положении классного пассажира вместо того, чтобы воевать, – сердился барон. – Я готов был бы стать даже командиром полка, если бы это не было опасной демагогией…
Предугадывал Вигель, что ещё раз, в последний раз позовут Врангеля, когда будет слишком поздно спасать положение. Что ещё ждёт его впереди немало трудов. И сколькие уже видели в нём вождя! И среди офицеров, и среди политиков. Особенно – среди монархистов. И Севастопольский митрополит Вениамин в приватных беседах не раз высказывался в этом духе. Об этом знали. Знали и в Ставке. И нервничали тем более.
Среди прочего то ещё раздражало Петра Андреевича, что сам он вынужден был сидеть, сложа руки. Не привык к этому. К тому же в чаду бедствий от чёрных мыслей – лишь работой и спасаться! Князю Долгорукову повезло больше. Он, едва оказавшись на Юге, как в бушующее море, бросился в общественную работу. Полный надежд, князь поселился в Екатеринодаре, где не раз встречался с Деникиным, которого и защищал теперь от злых нападок Вигеля.
– Всё-таки прошу вас поверить моему мнению, Пётр Андреевич. Деникин никогда бы не опустился до интриг. Это очень простой и прямой человек.
Поверить мнению старого друга трудно было. Слишком чист душой был Павел Дмитрич, слишком склонен к идеализации других людей, меря их по себе.
– Просто бремя оказалось для него слишком тяжело. Он уже в Восемнадцатом показался мне усталым и разочарованным. Говорил, что люди вокруг опошлились, и не на кого положиться.
– Сам же он и оттолкнул многих! Князь, скажите по душе, вы считаете действия Деникина верными?
– Я уже сказал вам, дорогой Пётр Андреевич, что бремя оказалось непосильным для него. Антон Иванович легко внушает людям доверие и уважение, но он не может вдохновить их на смерть. Он готов умереть за Россию сам, но не может повести за собой других. У него нет энергии вождя, диктатора. Он почти не бывает на фронте, где от него отвыкли… Но всё же я всегда считал и считаю должным делать всё для укрепления его авторитета, раз уж судьба именно его поставила на этот пост в такое время.
Действительно, весь этот год Павел Дмитрич всемерно старался поддерживать Деникина. Не раз из-за этого вступал в прения с коллегами по партии. Особенно негодовал Милюков из своего далека. Этот напрочь лишённый совести человек изначально презирал белую борьбу. А ведь и его некогда добрейший князь считал другом и порядочным человеком. А теперь даже имени этого избегал произносить. Главным делом Долгорукова на Юге стало развитие Национального центра. Глубоко возмущало Павла Дмитрича, когда коллеги обвиняли его в отклонении от партийной линии. Считал князь, что в годину всенародного бедствия никаким партийным линиям места нет, а борьба должна быть надпартийной. Потому так и дорожил Национальным центром. Много писал князь статей в этот период. И прекрасен был слог их, прекрасно чувство…
«Кубань – колыбель новой России, и имя её будет благословенно в истории России, а значит, и в истории человечества. Здесь казацкая удаль сочеталась с великорусской доблестью, крепостью духа и мудростью русских вождей, казачья боевая слава сплелась с творческим гением великих русских витязей, стойких и сильных своей верой в Россию и в конечное торжество правды.
Мы уезжаем отсюда, мы движемся на Москву. Но и из Москвы мы будем присылать наших сынов и внуков сюда, к кубанским памятникам казацкой и всероссийской славы. Здесь, в Екатеринодаре, они преклонят колени в склепе под величественными сводами Екатеринодарского собора и на высоком берегу Кубани, где у фермы белеет крест. Уходя отсюда, Добровольческая армия оставляет Кубани эти дорогие для России останки и памятники своего возрождения. Многие местечки и станицы Кубани будут теперь связаны с историей этого возрождения, и по степям кубанским разбросано много безвестных могил борцов за бытие России. В степях этих, орошённых слившейся в один поток казацкой и великорусской кровью, зародилась и зреет нива новой русской государственности.
И это кровное родство делает Кубань ещё более близкой и дорогой для России.
Мы покидаем героическую Кубань с лучшими чувствами к её населению, к Черноморью, к линии и к нагорным аулам. Мы желаем процветания и мирного развития Кубани. Её автономия и местные интересы обеспечены в будущей единой России. Местные интересы «своей колокольни» естественны и законны. Но и для жителей Кубани, как и для всех русских, одна колокольня должна выситься над всеми остальными – колокольня Ивана Великого».
Это не грубая казённая листовка Освага была! Это настоящее Слово было! И читая статьи друга, чувствовал Вигель, как ком подкатывает к горлу, как учащённо бьётся сердце. Вот, чьи доходчивые сердцу, от сердца произносимые слова могли бы сравниться с воззваниями Шишкова во дни Отечественной войны. Вот, кто мог бы творить на этом поприще!
Свободно и взвешенно было всякое слово князя. Со страниц «Свободной речи» говорил он о важном и волнующем:
«Итак, мы вышли на большую московскую дорогу. Но скоро ли мы будем в Москве? Как мы ни стремимся в Москву, мы обязаны учитывать все предстоящие нашей доблестной армии трудности и предвидеть, наряду с её подвигами и блестящими успехами, и неминуемые неудачи, и частичные отступления. Большевики, которым терять нечего, будут при своём издыхании делать отчаянные, судорожные усилия, и, как это ни печально, а для жителей Совдепии как ни трагично, мы допускаем возможность и зимней кампании. При огромном протяжении фронта слишком смелые броски и поспешность при необеспеченности тыла могли бы быть пагубны и для Москвы, и для конечного освобождения России.
Стремясь в Москву, мы не будем ныть, как чеховские сёстры: «В Москву, в Москву!» Мы не будем от разочарований с тыловой паники быстро переходить к обывательскому оптимизму. Лучшим средством для успехов и упорядочения фронта, а следовательно, и для достижения Москвы является упорядочение тыла и всемерная поддержка временной власти и новой государственности. В этом – первейшая задача и национальной, патриотической прессы. Разумеется, при общественной поддержке власти мы допускаем и нелицеприятную критику вводимых ею реформ и отрицательных её проявлений на местах».
И сколько же надежд было! «В кровавом мареве мерещатся стены Кремля; за грохотом орудий и треском пулемётов глухо звучит призывный колокол Ивана Великого»…
Не сбылись надежды… С началом отступления Павел Дмитрич перебрался в Ростов. Там и свиделись впервые за год. В Ростове, куда спешно пришлось перебраться из Новочеркасска под натиском красных, в ту пору повидал Вигель многих прежних знакомых. И особенно Москвой повеяло от труппы Художественного театра (а в ней первачи славной сцены – Книппер, Качалов…), захваченной во время гастролей в Харькове. Тоска по дому со всей силой навалилась…
Но долго предаваться меланхолии не пришлось. Вскоре заговорили об эвакуации Ростова. Через город с фронта потянулись обозы, войска и беженское население. Не хватало вагонов и паровозов. Многие покидали город пешком. В последние дни декабря на улицах творилось что-то невообразимое. Магазины закрывались, их громили мародёры, которых ещё успевали временами ловить и вешать здесь же на фонарях. Возникли перебои с электричеством. Всё это чрезвычайно дурно сказалось на нервном состоянии Натальи Фёдоровны. Вид повешенных привёл её в ужас. Случился припадок, усугублённый ещё и страхом повторения недавних кошмаров. Уже и позабыл Пётр Андреевич о Москве! Нужно было хоть как-то привести в чувство Наталью Фёдоровну и вывезти её из города. А она сопротивлялась. Она не хотела покидать родной дом, не хотела уезжать без Николая.
– А вдруг он приедет? И не найдёт нас? Нельзя! Нельзя! Надо дождаться его… – всё это произносилось в горячке. В межумочном состоянии. Ожидать просветления в сознании несчастной женщины времени не было. На счастье, милейшая Анна Кирилловна достала успокоительное, и Наталья Фёдоровна несколько утишилась. Пётр Андреевич наскоро собрал кое-какой скарб, не позабыв и кота, утрату которого нервная женщина могла воспринять слишком болезненно, и сумел почти в последний момент втиснуться в теплушку, местом в которой Вигель снова был обязан Павлу Дмитриевичу.
Наталья Фёдоровна первое время, большей частью, дремала, что лучше было и для неё, и для её спутников. Пётр Андреевич вспомнил об оставленных в Ростове Рассольниковых. Остались или успели уехать? Ах, надо было бы побеспокоиться… Всё-таки Олюшкина сестра! Несколько раз навещал её Вигель, скорбя сердцем при виде её горя. Потерять разом двух сыновей – что может быть страшнее для матери? Вспоминал её розовощёкой девочкой, какой была она когда-то. Кто бы мог напророчить такую страшную судьбу… От горя досрочно в старуху превратилась и болела всё, от прежней крепости ни следа не осталось. Надо, надо было побеспокоиться о ней. Но и не разорваться же! Успокоил себя тем, что всё-таки было, кому позаботиться о родственнице. Муж, дочь…
Пути железнодорожные намертво забиты были, а потому ехали долго. Рождество в дороге встретили. Жарили колбасу на костре. Спросил тогда у светлого и не знающего уныния князя:
– А что, князь, как вам кажется, это нормально, что мы с вами опять вместе, опять в набитой до предела теплушке и опять куда-то бежим?
– Значит, судьба! – легко пожал плечами Долгоруков.
– Опять скажите, что это всё временные трудности, и скоро мы вернёмся в Москву?
Павел Дмитрич подумал несколько минут, а потом ответил просто и искренне:
– Любые трудности – временны. И преодолимы. И что бы там ни было, борьбу надо продолжать! Что касается меня, то я до конца останусь с нашей армией.
Он и теперь не терял веры и бодрости, этот старый князь. Он не имел своего угла, питался в общественной столовой, носил единственный костюм из мешковины, но словно не замечал этих «временных трудностей». Смотрел на всё просто и светло. Его заботы были прикованы к Национальному центру, к газете, в которой продолжал писать. Теперь Павел Дмитриевич сидел в полумраке на маленьком, полуразвалившемся диване, курил трубку и говорил негромко, но вдохновенно, с молодой верой, которой не угашали ни лета его, ни потрясения, сидящему напротив и цедящему сердечные капли, поданные Натальей Фёдоровной, Вигелю:
– Россия представляет теперь из себя клокочущее море; русская государственность – утлое судно, потерпевшее аварию. Это судно, в последнее время с креном налево, борется с волнами. И если нам не суждено быть в командном составе этого судна, мы должны работать в кочегарном отделении, должны спуститься в трюм, выкачивать воду и заклепывать пробоины, чтобы не дать судну погибнуть. Вот, милый Пётр Андреевич, наша задача сегодня.
Глава 13. Можно ли жить, если умер Атрид…
25-26 января 1920 года. Недалеко от Иркутска
Чёрные лапы вековых деревьев пересекали небесную гладь, ещё недавно лазурную, а теперь заклубившуюся, затускневшую в ожидании стремительно приближающегося закатного часа, и красный шар ледяного солнца гас, укрываясь за стеной тайги. Белое безмолвие этого края было нарушено скрипом саней, конским ржанием, криками людей. Всё это сливалось в единый шум в угасающем вместе с днём сознании. Время от времени сани подбрасывало на ухабах, и это причиняло невыносимую боль, от которой свет мерк в глазах. Владимир Оскарович закрывал их, внутренне готовый к тому, что открыть больше не приведётся. Но нет, ещё терпела костлявая… И, вновь открыв воспалённые глаза, он видел над собой всё то же тускнеющее с каждой минутой небо, пресечённое чёрными ветвями.
Всё же конец близился. Так же стремительно, как ночь. Надо же было попасться так! Но, знать, Божия воля… Владимир Оскарович не боялся смерти. Но одна мысль точила его, не давая покоя даже в последние часы: что будет с армией? Кто выведет армию? Армию, верящую в него до идолопоклонства? Армию, вверенную ему адмиралом? Он должен был вывести её, должен был до конца разделить её путь, и, вот, не выходит…
– Владимир Оскарович, на вас последняя надежда! – звучал в голове взволнованный голос Александра Васильевича. Это не пустые были слова. Эта надежда сквозила в голосе его, во взгляде больных, ввалившихся глаз, в том, как поспешно и крепко сжал он обеими руками ладонь Каппеля. Подвести этого человека Владимир Оскарович не мог.
А как же не хотелось взваливать на себя груз командования надо всей армией! Никогда не стремился Каппель к высоким постам. Никогда не искал их. Своё место видел он во главе партизанского отряда, оперирующего в тылу врага, но не одобрили штабные крысы этого плана. И пришлось подчиняться безпланью, пытаясь внести хоть что-то разумное на вверенном участке действий. А участок – ширился! Столько времени не нужны были Волжане, не нужен был Каппель – не вспоминали даже, только отмахивались, а, как припекло, так и занадобился. И, вот, уже бросили на полуразгромленную третью армию, командующий которой, Сахаров, сменил генерала Дитерихса. И довольно бы? Но – нет! Оставление Омска решило судьбу незадачливого оптимиста Сахарова, а заодно и судьбу Владимира Оскаровича.
– Владимир Оскарович, я хочу видеть вас на посту Главнокомандующего взамен генерала Сахарова, – тон адмирала был твёрд, но Каппель всё же попытался отказаться от уготованного ему жребия:
– Ваше высокопревосходительство, есть много командиров старше и опытнее меня. Я неподготовлен к такой большой и ответственной роли. Ваше высокопревосходительство, почему вы мне это предлагаете?
– Потому что только вам, Владимир Оскарович, можно верить…
Сколько горечи было в этих словах! И до чего же должен был разувериться в людях этот благородный человек, именуемый диктатором Сибири? Сколько обманутых надежд должно было лежать за его горькими словами, сколько разочарований, сколько нравственного мученичества. Да ведь столько военачальников вокруг! Неужели некого выбрать? Неужели поверить некому? До сих пор всего-то ничего и виделись. Тогда, в январе, когда Волжане добрались до Сибири, и после – на фронте. Никаких отношений тесных. И вдруг такая вера? От отчаяния была она. Понял Владимир Оскарович, что невольно сделался соломинкой, за которую хватается утопающий. Пожалуй, и не один… Искренне жаль было благородного адмирала, искренне хотелось помочь ему, но сознание своих возможностей мешало по совести принять высокий пост. Принять и провалить дело? И последнюю надежду обмануть?
– Ваше Высокопревосходительство, я с готовностью принял бы кавалерийский полк, но армию…
– Ну, а если вы получите приказ? – голос Александра Васильевича стал резким.
Бесполезно было сопротивляться. Ответил обречённо:
– Приказ я принужден буду выполнить…
Немного разгладилось хмурое лицо Верховного, потеплели страдальческие глаза. Стали обсуждать план дальнейших действий отступающей армии. Не нравилась Владимиру Оскаровичу идея адмирала о параллельном с войсками движении в сторону Иркутска по железной дороге. Пытался уговорить пересесть в сани и ехать в рядах армии.
– Владимир Оскарович, я не могу оставить золотой запас. Его ведь разграбят, а мы должны сохранить его для будущей России. Может быть, вы возьмёте часть?
– Нет, Александр Васильевич. Наш путь слишком сложен и опасен, чтобы иметь при себе столь дорогую кладь.
Только этого золота и не хватало иметь при себе. Довольно возились с ним в Казани, из-под носа у большевиков увезли его. А теперь – тащить его по тайге, где орудуют красные банды? И без того довольно тягот у армии с навьюченным на неё непомерным обозом, чтоб ещё заботиться о золоте. Отказался наотрез брать его. И попытался ещё раз убедить:
– Александр Васильевич, на дорогах небезопасно. Оторвавшись от армии, вы окажетесь слишком уязвимы. Армия же сможет обеспечить вам надёжную защиту.
– Господа союзники уже пообещали мне защиту, – отозвался адмирал, но в голосе его прозвучал явный скептицизм и злая ирония в отношении «союзников».
– Вы им доверяете?
– Всё же они дали официальные гарантии…
Так и не смог переубедить. Может, недостаточно усилий приложил? Плохо старался? Если бы уговорил тогда, так и не случилось бы несчастья, не оказался бы Верховный в плену. Вырвать его оттуда Каппель считал своим прямым долгом. И ни малейших сомнений не было в выборе пути. Только – на Иркутск. И как можно скорее. Разбить там большевиков, освободить адмирала, а затем уходить в Забайкалье, провести там реорганизацию армии и снова наступать.
Необходимость отхода в Забайкалье не вызывала сомнений ни у кого, а, вот, маршрут пути разделил армию на два лагеря. Владимир Оскарович считал, что нужно двигаться по реке Кан. О реке этой было мало сведений. Срочно отыскали карты, планы, описание военного округа. Скудны были данные, но и то добро, что хоть что-то отыскалось. На совещании в Подпорожной часть начальников выступила против плана движения по Кану, настаивая, что безопаснее двигаться на север по Енисею, почти до Енисейска, а оттуда по Ангаре идти к Байкалу. Этот путь представлялся более изученным и надёжным. Но притом был он и длиннее на две тысячи верст, и частям пришлось бы идти по почти безлюдной снежной пустыне.
– Если нам суждено погибнуть, то лучше здесь, чем забиваться на север, где климат более суровый, – настаивал Владимир Оскарович.
Конечно, о Кане знали мало, и грозна была, по добытым сведениям, эта река своими порогами. Но разве сокращение пути на две тысячи вёрст не стоило риска? Какой смысл затягивать дело, если никаких ощутимых выгод енисейский вариант не даёт? Лишнее промедление лишь вымаривает армию. И к Иркутску надо спешить, выручать адмирала и золотой запас.
Всё же, как и перед Красноярском, разрешил несогласным идти своим путём. Ушли Барнаульский полк и ещё несколько частей. Остальные остались.
Берег Кана был практически отвесным. Лошадей спустили на русло без саней. Животные съезжали вниз на крупах, поджав задние ноги, или завалившись на бок. Легко съехали вниз сани. Проводники предупредили, что река местами не замерзает даже зимой. С виду русло было покрыто ровным покровом снега в аршин высотой, но под ним били горячие источники с соседних сопок. Нужно было двигаться вперёд крайне осторожно, нащупывая, проверяя путь, как если бы пришлось идти по болоту. Дорогу остальным прокладывали четвёртая дивизия и собственный конвой Каппеля. Пропитанный водой снег обращался в месиво, в ледяные бесформенные комья, резавшие ноги лошадей и выводившие их из строя. Искалеченные, они ложились на лёд, чтобы уже больше не вставать. Вмерзали в лёд полозья саней, и немалых усилий стоило вытянуть их. Многих приходилось оставлять. Иногда сани с людьми проваливались в открытые полыньи. Незамерзающие пороги реки приходилось объезжать, прокладывая дорогу в непроходимой, дикой тайге, покрывавшей отвесные горные ущелья, сжимавшие с обеих сторон коварную реку.
Мороз доходил до тридцати пяти градусов, начался снег, не перестававший падать почти двое суток. Солнце не проглядывало, и ночь тянулась бесконечно, как в заполярье. Люди двигались, словно под гипнозом, забыв о тепле, обмороженные, не различающие дня от ночи, утоляющие голод горстью муки или кусками мёрзлого сырого мяса. Даже дети не плакали и лишь боязливо жались к своим матерям. Гробовую тишину, нависшую над медленно ползущей колонной, нарушали лишь бредовые бормотания и вскрики больных.
Через четыре-пять верст пути по Кану проводники предупредили Каппеля, что скоро будет большой порог и если берега его не замерзли, то дальше двигаться будет нельзя, вследствие высоких, заросших тайгой сопок. Владимир Оскарович отправил приказание в тыл движущейся ленты, чтобы тяжелые сани с больными и ранеными временно остановить и на лед не спускаться, чтобы не оказаться в ловушке, если порог окажется непроходимым. Послали конных разведчиков вперёд, но они не возвращались. Сумерки сгустились окончательно, и ещё крепче стали морозы, усиленные леденящим ветром. Разожженные костры не согревали. Люди начали волноваться, явился слух, что раненых и семьи могут отправить назад в Подпорожное. Положение спасли Ижевцы. Устав ждать, они с криком «Айда!» покатили вперёд во главе колонны. Увидев полыньи, приостановились, но снова стегнули лошадей – «Айда!» – и проехали поверх них. Оказалось, что это не настоящие полыньи, а вода, набежавшая поверх льда от тёплых ручьёв с берега.
Мало напоминал армию обоз, переполненный беженцами и больными, но Владимир Оскарович был твёрдо уверен, что армия ещё не прекратила своего существования. Даже после Красноярска. Он верил в свою армию так же, как верила ему она. И никакой цели не стояло перед ним, кроме одной – спасти армию. Он ехал верхом впереди колонны, забыв о морозе и голоде. Никто не должен был видеть его усталости, догадываться о безрадостных думах. Тот, в кого верят, должен внушать веру бодростью и уверенность, улыбаться и шутить, превозмогая усталость, идти вперёд, показывая пример во всём. Нельзя требовать подвигов, выдержки, мужества от подчинённых, если сам не станешь примером для них, – это было давнее убеждение Каппеля, которому он следовал всегда. И руководствуясь им, он сходил на лёд и шёл со своими конвойцами, прокладывая путь остальной колонне. Месил ногами глубокий пушистый снег и вдруг… по пояс провалился в ледяную воду. Промокшие бурки отяжелели и через несколько минут покрылись пленкой льда и до боли сжали ноги. До ближайшего селения было семьдесят вёрст. О случившемся Владимир Оскарович никому не сказал, не желая беспокоить людей, надеясь как-нибудь перетерпеть и одолеть оставшийся путь до селения. Продолжал идти сквозь ночной мрак, отдавал приказания, следил за движением колонны, бурки становились всё тяжелее, а ноги – коченели…
В какой-то момент он нашёл себя без сил лежащим на снегу. Уже бежали на помощь встревоженные конвойцы. Нужно было держаться, не подать виду… С трудом поднявшись с помощью подоспевших людей, хрипло прошептал:
– Коня…
Но и в седле не сиделось уже: склонился головой на гриву коня и стал падать. Верные руки положили на сани, укрыли шубами, шинелями, одеялами… Через несколько верст полозья саней провалились в глубокий снег и, попав в протекавшую под снегом воду, сразу примерзли ко льду. Оторвать их было невозможно. Снова водрузили на коня, а сбоку богатырь-доброволец поехал. Охватил Владимира Оскаровича за талию, чтобы он не упал, и шагом двинулся с ним впереди растянувшейся ленты армии. Больше ничего не мог припомнить Каппель…
Он очнулся лишь через сутки в жарко натопленной избе и сжал зубы, чтобы не застонать от пронзительной боли в ногах. Разглядев мутящимся взглядом врача, спросил слабо:
– Доктор, почему так больно?
Тот пояснил, что пришлось провести срочную ампутацию пальцев и пяток. Слишком сильно отмёрзли ноги. Ещё чуть-чуть и началась бы гангрена. Операцию за неимением других инструментов, пропавших в дороге, делали подручными средствами – обычным кухонным ножом, раскалённым в печи и протёртым спиртом. Подумалось об отчаянном положении армии, в которой нет даже элементарных медикаментов. А ведь в ней столько раненых и больных! И сколько ещё будет…
– Пригласите ко мне начальников частей.
Как ни одолевала слабость, но нельзя было терять из-за неё времени. Нужно было, не откладывая, позаботиться об организации порядка движения. Отдал явившимся командирам необходимые распоряжения, назначил выступление на следующее утро. У богатого мехопромышленника нашлись большие удобные сани, в которые преданные офицеры хотели уложить Владимира Оскаровича. Но от этого удобства он, не раздумывая, отказался. Ещё не хватало Главнокомандующему ехать, лёжа в санях! Какой пример для армии? Ведь это же, чего доброго, подорвёт её дух! И знать не нужно никому о серьёзности положения. Пусть думают, что лёгкая простуда…
– Сани? Это напрасно – дайте мне коня.
Переглянулись удивлённо, по всему видать, приняв этот приказ за приступ бреда. Повторил им громче и строже:
– Коня!
Коня подали к крыльцу, и офицеры усадили Владимира Оскаровича в седло. На мгновение малодушие подступило: такая страшная боль пронзила, что пожалел об удобных санях. Но сжал зубы и не подал виду. Тронув поводья, выехал на улицу – там тянулись части его армии. Как на параде! Вот, для них, чтобы веру и бодрость их укрепить, стоило претерпеть эту адскую боль и сесть на коня. А иначе как бы приветствовал их? Неужели из саней? Преодолевая мучительную боль и общую слабость, Каппель выпрямился в седле и приложил руку в папахе. Бойцы отвечали ему зычным приветствием, измождённые, измёрзлые лица их светились радостью при виде своего командующего, и от этого как будто и легче становилось.
С закутанными одеялом ногами Владимир Оскарович продолжал свой последний путь. Стоять и ходить не было мочи. На ночлегах его осторожно снимали с седла и вносили на руках в избу, где чуть обогревшись, лежа на кровати, он приступал снова к своим обязанностям Главнокомандующего, вызывая отдельных начальников, отдавая приказания, направляя движение. Через неделю ему стало хуже: усилился жар, участились обмороки. Ни термометра, ни лекарств не было, и врачи, сосредоточившись на обмороженных ногах, не обратили внимания на усиливавшийся кашель. А это пневмония оказалась…
Всё-таки пришлось лечь в сани. А противился до последнего, чувствуя, что, лёгши раз, встать уже не придётся. Жар больше не проходил, и всё чаще наваливался мучительный бред. Вспоминался хмурый горожанин, встреченный на улице при оставлении Новониколаевска, брошенное им с горьким сарказмом:
– Генерал! Догенералились!
Догенералились… Теперь точно…
Последней радостью было известие о бое под Нижнеудинском, в ходе которого противник был разбит и отступил. Вот, лучшее доказательство, что армия жива и способна бороться!
– Иначе быть не могло, – слабо улыбнулся, выслушав рапорт.
Армия была жива, но кому теперь выводить её? Всё яснее осознавал Владимир Оскарович, что не ему. Он провёл её по смертоносному устью Кана, довёл до Нижнеудинска, где ещё недавно был подло предан адмирал, увидел, что она жива, но самого его жизнь уже покидала. Она уходила с каждым мгновением, не оставляя и тени надежды. Что ж, невеликая это цена, если только армия будет спасена! И дороже заплатил бы…
После Нижнеудинска движение армии шло параллельно железной дороге, по которой сплошной лентой тянулись чешские эшелоны. Чешские офицеры хорошо знали Каппеля по Волге и, в отличие от своих старших начальников, относились к нему с большим уважением. Узнав о состоянии Владимира Оскаровича, они предлагали вывезти его, гарантируя секретность и безопасность, давая место для сопровождающих его двух-трех человек.
Немыслим был этот шаг! Оставить армию и вверить свою судьбу – кому?! Подчинённым труса и изменника Сырового, не соизволившего принять брошенный ему вызов?! С тем, чтобы разделить участь адмирала? Ответил категорично:
– Я не оставлю армию в такой тяжелый момент, а если мне суждено умереть, то я готов умереть среди своих бойцов… Ведь умер генерал Имшенецкий среди своих, и умирают от ран и тифа сотни наших бойцов.
Сознавая неизбежность этой перспективы, Владимир Оскарович решил собрать совещание с тем, чтобы назначить себе заместителя. Нужно было торопиться, пока голова не затуманилась бредом окончательно. Из всех командующих наибольшего доверия заслуживал генерал Молчанов. У этого человека ещё светилась Божья искра в глазах. Тем не менее, после продолжительного совещания решено было остановиться на кандидатуре генерала Войцеховского. На том же совещании, состоявшемся двадцать третьего января, Каппель утвердил план дальнейших действий армии: двигаться на Иркутск двумя колоннами, стремиться подойти к нему возможно скорее и постараться завладеть городом внезапно (внезапность, деморализующая противника всегда приносила удачу!), освободить адмирала, отнять золотой запас, после чего связаться с Семёновым, пополнить и снабдить армию, наладить службу тыла и занять боевой фронт западнее Иркутска.
Два дня прошло с тех пор, и, изредка приходя в себя, Владимир Оскарович благодарил Бога, что успел отдать все последние приказания. Он сделал всё, что было в его силах. Вероятно, слишком мало. Вероятно, иной, более опытный и талантливый вождь, сделал бы больше. Но не оказалось иного, а свой путь Владимир Оскарович прошёл до конца, ни в чём не уклонившись от него.
– Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и своей смертью среди них доказал это… – прошептал плохо слушающимися губами.
Тело горело и сотрясалось ознобом. Перед глазами проплывали картины боёв, атак, в которые вёл он своих Волжан. А впереди – Иркутск! Как важны будут бои за него! Как понадобится там внезапность, неожиданность, смекалка… Иркутск! Если бы довести армию до него, взять его, освободить Александра Васильевича и других с ним арестованных – тогда умирать не страшно. А уходить на полпути мучительно было. Владимир Оскарович знал, как взять Иркутск. Не сомневался в успехе. Он разработал план и детально изложил его своему преемнику, но окончательный план мог быть решён лишь на месте. И решён быстро, без промедления, которое могло погубить всё дело. Справится ли с этим Войцеховский? Если бы самому… Если бы ещё чуть-чуть жизни! Чуть-чуть сил, чтобы хватило снова сесть на коня и повести армию в последний бой. Никакая боль не остановила бы! Всё бы превозмог! Хотя… Вот, уж и переоценил раз свои силы. Думал, что справится тренированное, закалённое тело с болезнью, а оно не выдержало. Оно – предало.
Всё реже и реже являлось небо на смену бредовых кошмаров. На нём уже звёзды высыпали, месяц… Скрипели по снегу полозья саней, спешащих к ближайшей деревне. И проплыла счастливая грёза: Пермь, дом Строльманов, несущиеся сквозь ночь к сельской церквушки сани, а в ней возбуждённая, раскрасневшаяся, немного испуганная Ольга… Где она теперь? Жива ли? Увидеть бы напоследок родное лицо, услышать голос, попросить прощенья, что столько горя принёс ей, своей единственной… И её прощение почесть к любимых глазах. А не бывать тому! Ни её прощения, ни детей не услышать. Хоть бы их судьба пощадила… Их и – армию!
– Господи, спаси армию… – стон-молитва вырвалась.
Чьи-то руки опять несли в очередной дом, укладывали, укутывали, суетились вокруг.
– Надо что-то делать!
– Генерал совсем плох!
– Пётр Сергеевич, рядом румынские и чешские поезда стоят.
– Генерал отказался от их услуг…
– Но хоть врача позвать! Там же врачи! Медикаменты!
– Бегите за врачом!
Румынского врача ждали собравшиеся у одра умиравшего Главнокомандующего офицеры, словно Бога. А тот руками развёл:
– Если у вас один патрон в патроннике, а против вас вооружённый полк, то что можно сделать? – и чуть попятившись от убийственного тягаевского взгляда, докончил, как гвоздь в гроб вбил: – Крупозное воспаление лёгких. Одного уже нет, а от второго осталась лишь часть… Он умрет через несколько часов.
Лучше бы самому умереть было! Да что умереть! Последний глаз отдал бы! Последнюю руку! Вышел Пётр Сергеевич, шатаясь, из душной избы, проводил глазами уносимого в румынский эшелон бесчувственного генерала, мысленно простился с ним.
Смутную душу мою тяготит
Странный и страшный вопрос:
Можно ли жить, если умер Атрид,
Умер на ложе из роз?
Беспощадная судьба! Что за рок злой! Не кого-нибудь, а самых лучших, самых нужных похищала смерть… Она знала, к чьему сердцу протягивала свою ледяную руку. А Бог не отвёл… Три года кровавой каши, а что же Бог? Он в этой круговерти на чьей стороне был? Он же не стоял над схваткой! Нет! Он был на одной из сторон… Неужели на их? Чтобы заставить нас искупить какие-то страшные грехи?.. Но почему же искупительными жертвами должны были стать честные и чистые? Потому же, почему Христос был распят, а Варавва освобождён?
Всё, что нам снилось всегда и везде,
Наше желанье и страх,
Всё отражалось, как в чистой воде,
В этих спокойных очах.
И, вот, сомкнула смерть спокойные очи, взгляд которых подчинял, гипнотизировал, внушал веру и возвращал мужество малодушным. И что же будет теперь? Без него? Тело не может жить без души, а армия без Каппеля!
В мышцах жила несказанная мощь,
Нега – в изгибе колен,
Был он прекрасен, как облако – вождь
Золотоносных Микен.
Что я? Обломок старинных обид,
Дротик, упавший в траву,
Умер водитель народов, Атрид, -
Я же, ничтожный, живу…
Наградил Господь памятью! Сколько вызубрено было некогда строк для крепости её – ни одна не потерялась. Не забылась за безумные годы. Не выбили заученные строки громы боёв, не затупило памяти безумие творящееся вокруг. И твердил Тягаев сквозь зубы строфы, привычно пытаясь заглушить таким способом боль, утихомирить расшатанные нервы. Выдавливал каждое слово, чеканил по отдельности.
Манит – прозрачность – глубоких – озёр,
Смотрит – с укором – заря.
Тягостен – тягостен – этот – позор –
Жить – потерявши – Царя!
Пётр Сергеевич бесцельно шёл вдоль стоящих на путях эшелонов. Их обитателей, сытых и благополучных «союзников» он ненавидел всем сердцем. Ненавидел больше, чем большевиков. Ненавидел со всей силой чувства, на которое ещё был способен.
Эти мерзавцы смотрели из окон на муки умирающей армии, насмехались в лицо её воинам. Несколько дней назад едва не убил Пётр Сергеевич одного из таких подлецов. Откормленный чех сидел на ступеньках вагона, жуя хлеб с изрядным куском мяса. Нахально смотрел на идущих мимо голодных людей. Тягаев остановился. Чех, видимо, угадал голод во взгляде сутки не имевшего крохи во рту полковника, крикнул:
– Хочешь есть? Я могу поделиться с тобой! Отдай мне свой пистолет! Он тебе всё равно больше не пригодится.
– Таким, как ты, он не пригодится тем более, мразь, – отозвался Пётр Сергеевич, чувствуя, как закипают слёзы от унижения и бессилия перед этой тварью, которую даже пристрелить было нельзя, потому что подобный акт спровоцировал бы вооружённый конфликт с чехами.
Чех выругался по-своему, швырнул недоеденный бутерброд на землю, как бросают кусок голодным псам, и ушёл в вагон. Тягаев схватился дрожащей рукой за пистолет, но удержался, чтобы не выстрелить негодяю в спину. В этот момент какой-то солдат с обезумевшим от голода лицом, как дикий зверь, бросился к брошенному куску.
– Отставить! – хрипло гаркнул на него Пётр Сергеевич. – Не позорьте чести русской армии! Бросьте немедленно!
Два испуганных глаза уставились на Тягаева. Солдат затряс головой, отползая назад и жадно глотая куски бутерброда:
– Нет, господин полковник… Нет…
Пётр Сергеевич наставил на него пистолет, с отвращением думая, с каким удовольствием наблюдают эту постыдную сцену чехи:
– Брось или я тебя пристрелю!
– Стреляйте, господин полковник! – солдат не то рассмеялся, не то зарыдал. – А хоть сыт буду! – и дожёвывал, словно боясь, что отнимут, вращая безумными глазами и отползая в сторону, елозил на коленях, подбирая крошки.
– Встать! Встать, сукин сын!
– Пётр Сергеевич, оставьте вы его! – подбежавший Алёша схватил Тягаева за руку. – Разве вы не видите, что этот человек обезумел?
Пётр Сергеевич убрал пистолет. Слёзы гладом катились по лицу, и он не мог сдержать их от стыда за сумасшедшего солдата, от бессильной ненависти к чехам, от истощения собственных нервов…
Чехи! Из-за них погибли семьи многих офицеров. Из-за них осталась в большевистском плену Надя, мысли о которой иглами пронзали сердце и мозг. Эти выродки человеческого рода жировали в тёплых вагонах, когда русская армия гибла на льду Кана, умирала от тифа и ран, устилала каждую версту мёртвыми телами. Несчастному солдату было, от чего сойти с ума. К концу пути запасы продовольствия истощились настолько, что приходилось есть падшую конину и смесь муки со снегом, из которой получался клейстер. Кончились спички, и не стало костров. Люди засыпали на снегу, и многим уже не суждено было проснуться. Нередки стали галлюцинации. Измученным людям грезились костры в непроглядных лесах, караваи ароматного хлеба. С криком бросались они во мрак тайги навстречу своим миражам, и тотчас становились добычей волков, чьи горящие, ожидающие поживы глаза всё чаще светились из-за кустарника, а вой леденил души.
Во время похода едва не потерял Пётр Сергеевич друга. Как и многих изнемогшие и замёрзшие, Кромин в какой-то момент сел в снег, укутался в свою доху и уснул. Снег уже начал заметать Бориса Васильевича, когда Тягаев увидел его. Спешился, стал трясти за плечо:
– Просыпайся, Боря! Чёрт тебя возьми, вставай!
Кромин еле-еле мотал головой:
– Не могу больше, не хочу… Оставь…
Всё же кое-как растолкал его, заставил сесть на свою лошадь, сам пешмя пошёл. Так пообтерпелся к морозам за волжский поход и теперь, что в худой шинели и меховом жилете поверх выдерживал их. Бурку, что прежде от всех ветров надёжно защищала, отдал Дунечке, укрыл её, бесчувственную, ею… Вот ещё из всех мук тягчайшая была! Всякий час ждать, что подойдёт кто-нибудь, Колокольцев тот же, и сообщит, что… И ведь везло кому-то переболеть сыпняком в лёгкой форме! Вроде даже на холоде легче на поправку шли. Но это – кому-то… А уж кого Бог возлюбил, на того всё, как в яму, валится! Не легчало Дунечке. То вроде бы спадал жар, прояснялось сознание, а то опять горела вся, и бредила. И в бреду начинала петь… Звенел над тайгой чудный, но надломленный голос. В армии многие знали Евдокию Осиповну, сочувствовали и беспокоились о ней. Но никто и ничем не мог помочь! Только Бог. А Он – поможет?.. И надо бы верить, а изверилось сердце.
– Полковник Тягаев?
Пётр Сергеевич обернулся. Высокая фигура спрыгнула с подножки чешского вагона и быстро направлялась к нему. Этого чешского офицера Тягаев уже видел где-то. Ах да, Казань… А потом госпиталь в Омске. Вот же сводит судьба!
– Майор Маринек, – чех приблизился и отдал честь. – Не узнали?
– Отчего же? Узнал. Что вам нужно, майор? Если желаете предложить мне кусок хлеба за моё оружие, то не теряйте времени зря.
– Я понимаю вашу предубеждённость в отношении нас, – Маринек помрачнел. – Поверьте, мне самому стыдно за поведение моих братьев и…
– Стыдно? – Тягаев зло усмехнулся. – У подчинённых Яна Сырового ещё есть стыд? Поразительная новость! Я был уверен, что вы похоронили вашу совесть в одном гробе с полковником Швецем!
– Господин полковник, я просил бы не оскорблять меня. Я всего-навсего следую приказам своего начальства, и не моя вина, что дело обстоит так, как оно обстоит.
Пётр Сергеевич ухватил чеха за отворот его дорогой, тёплой шинели, тряхнул с силой:
– Не ваша вина? Разумеется! Но не смейте говорить о стыде вы! Вы едете в классном вагоне с музыкой, вы не знаете мороза и голода, потому что вагоны ваши забиты нашей едой и вещами, награбленными по всей Сибири! Вы смотрите из своих окон на умирающих от голода и болезней людей и бросаете им куски хлеба, как псам, чтобы посмеяться их унижению! Вы обрекли на смерть тысячи людей! Беженцев! Женщин и детей! Когда вы, майор, ехали в своём уютном вагоне, они замерзали насмерть, потому что ваши отняли у них паровозы! И вы говорите, что вам стыдно?! Лжёте! Если бы у вас была совесть, вы бы вышли из своего вагона и пошли бы среди тех, кого ваши обрекли на смерть! Если бы вам было стыдно, вы бы поступили, как полковник Швец! Но вы спокойно продолжаете свой путь! Что ж, каждый сам за себя – это понятно. Но в таком случае, не смейте говорить о стыде вы, его потерявший!
Маринек безмолвно выслушал гневную отповедь, затем произнёс глухо:
– Я ничего не стану вам возражать, господин полковник. Я хотел вас только спросить об одном. Евдокия Осиповна с вами?
Пётр Сергеевич отпустил чеха, ответил медленно:
– Да, со мной. А что вам за дело до неё?
– Скажите, с ней всё благополучно? Она здорова?
– Нет, майор, Евдокия Осиповна тяжело больна! Как и половина наших бойцов и беженцев, она лежит в тифу. Вашими молитвами!
Майор схватил Тягаева за руку:
– Послушайте! Я могу устроить её в наш вагон! Ей будет обеспечен лучший уход! Клянусь, что наши врачи сделают всё возможное, чтобы она поправилась!
– А потом вы сунете её в мешок и выбросите из вагона, чтобы не мешала?! – зло бросил Пётр Сергеевич, теряя над собой контроль.
Маринек отступил на шаг, побледнел.
– Господин полковник! – прошептал он подрагивающими от возмущения губами. – Я прошу вас прекратить оскорблять меня, вешая на меня чужие грехи! Я, может быть, виноват в том, что не застрелился от стыда, как полковник Швец, но более ни в чём! Я не заслужил подобных упрёков! Я бы вызвал вас на дуэль, если бы не понимал вашего положения…
– Я бы с радостью принял ваш вызов! Только сомневаюсь, что подчинённые генерала Сырового ещё, действительно, способны защищать свою честь путём поединка!
Майор сжал рукоять шашки, судорожно сглотнул, вымолвил глухо:
– Я не брошу вам вызова даже после этих слов. Вы можете относиться ко мне, как угодно. Равно как и я к вам. Но сейчас это не имеет никакого значения. У нас есть с вами одно общее дело, ради которого я предлагаю на время забыть наши личные счёты.
– У меня нет с вами никаких общих дел! И быть не может!
– Всё же я прошу вас выслушать меня! Неужели вам так безразлична судьба Евдокии Осиповны?
Пётр Сергеевич принудил себя подавить гнев, разрешил, скрепя сердце:
– Говорите, майор.
– Я знаю, господин полковник, что вы любите эту женщину. Я это понял ещё в первую нашу встречу. Тогда, в Казани. Не стану скрывать, что и я питаю к ней такое же чувство. Когда она жила в Омске, я пытался добиться её расположения, но потерпел полную неудачу. Она не обращала на меня ни малейшего внимания. Её сердце было занято. Как я понимаю, вами, моим счастливым соперником. Тем не менее, мне не безразлична судьба Евдокии Осиповны. Моё предложение вы уже знаете. Не спешите отказываться от него. Давайте рассудим спокойно. Вы в настоящее время ничем не можете ей помочь. Если она погибнет, разве вы не будете проклинать себя за это всю жизнь? А я смогу помочь ей. Тепло, хороший уход сделают своё дело. Лишь бы не было поздно! Понимая ваши опасения, я даю вам слово, что не воспользуюсь своим положением, ни в чём не пойду против воли Евдокии Осиповны. Если она по выздоровлении пожелает вернуться к вам, я не стану ей препятствовать. Я хочу лишь спасти её жизнь и больше ничего. Решайтесь, господин полковник!
Давно не приходилось принимать столь мучительного решения! Своими руками отдать Дунечку этому чеху? Немыслимо! Оставить её в обозе? В этих чудовищных условиях, которых и более сильный организм может не выдержать? А если она не вынесет их? И тогда вся вина падёт на его, Тягаева, плечи – что не уберёг, не смог позаботиться сам, и не позволил другому. Но где гарантия, что этот другой не обманет?
– А какова цена вашему слову, майор? Как я могу ему верить? Ваше командование давало слово Верховному Правителю и предало его!
– Я не моё командование, – сухо отозвался Маринек. Он извлёк из ножен клинок дорогой работы, поцеловал его: – Эта сабля принадлежала моему отцу, господин полковник. Я клянусь вам его памятью и призываю в свидетели Господа Бога, что никогда не нарушу моего обещания.
Эта клятва чести убедительно звучала. Как ни презирал Пётр Сергеевич чехов, но всё же не верилось, чтобы все они лишились совести настолько, чтобы такими клятвами бросаться.
– Решайтесь, господин полковник! Разве жизнь Евдокии Осиповны не дороже наших распрей?
– Хорошо, майор, – всё ещё борясь с собой, произнёс Тягаев. – Я приму ваше предложение, но с одним условием. Кроме Евдокии Осиповны, вы возьмёте с собой ещё двух человек.
– Господин полковник, вы режете меня без ножа! Надо мной ведь стоит начальство! Я не могу взять ещё двоих!
– Тогда нам не о чем разговаривать, – Пётр Сергеевич круто развернулся.
– Постойте! Я могу взять одного!
Что ж, хоть так… Вернувшись в лагерь, Тягаев отыскал Кромина и рассказал ему о предложении чеха. Необходимо было посовещаться с кем-то, хоть отчасти разделить груз принимаемого решения.
– Что ты думаешь, Боря? Согласиться?
– Думаю, это лучшее решение, – подумав, сказал Борис Васильевич. – Чехи, конечно, подлецы, но думаю, что твой Маринек слово сдержит. А Евдокия Осиповна не перенесёт дальнейшего похода, я говорил с врачом. У неё уже лёгкие тронуты, понимаешь? Если запустить, то уже ничто не спасёт. У нас нет выхода.
– Боря, поезжай с ней! – попросил Пётр Сергеевич. – Они могут взять ещё одного человека.
– Нет, – отрезал Кромин. – Если хочешь, поезжай сам.
– Я не могу бросить армию!
– А я не могу укатить с чехами, не дойдя до Иркутска! Довольно и того, что я уехал с твоей belle dame из Омска, хотя обязан был остаться с адмиралом! Ты хочешь, чтобы я пошёл на это вторично? Никогда!
– Тогда поедет Колокольцев, – решил Тягаев.
– Проку от него…
– По крайней мере, она бы была довольно таким решением. Была бы рада, что явилась возможность помочь её протеже.
Сашу Колокольцева долго уговаривать не пришлось. Ещё слабый от болезни, понимающий свою полную бесполезность для армии и преданно любящий свою спасительницу, этот юноша с готовностью согласился ехать с нею. На том и сговорились.
В этой суете прошла ночь. Уже засветло, простившись с не приходящей в сознание Евдокией Осиповной и вверив её заботе майора Маринека, Тягаев возвращался в лагерь. Навстречу тянулся обоз, брели заспанные, мрачные, необычайно притихшие люди. На глазах многих Пётр Сергеевич заметил слёзы. Завидев шагающего с лошадью на поводу Кромина, спросил его, уже догадываясь об ответе:
– Что-то случилось, Боря?
– Только что сообщили из Утая. Генерал Каппель скончался, – откликнулся Борис Васильевич и опустил голову.
– Осиротели мы, Пётр Сергеевич, – с тоской прибавил подошедший Панкрат. – О-си-ро-те-ли… – протянул ещё по слогам, словно проверяя самого себя.
Ждал Тягаев этой вести, а всё-таки поразила она, оглоушила. Всё-таки огоньком потухающей лампады теплилась в глубине души надежда на чудо. Но, вот, и этот последний живой огонёк растоптан был. Не стало последнего рыцаря, вождя, способного поднять за собой даже мёртвых. Сколько раз выводил он своих людей из безнадёжных положений, а себя уберечь не смог! Ушёл именно тогда, когда так был нужен! Ушёл, отдав всё до последнего вздоха Родине, ради которой пожертвовал всем, которой служил так самоотреченно, так свято, как, может быть, лишь древние воители способны были служить… Он, деливший все тяготы своей армии, всегда шедший впереди неё, был так им подобен! И что-то теперь станет с армией? Как перенесёт она утрату своего вождя, на котором сосредотачивала все надежды, всю веру свою? Можно ли жить, если умер Атрид?..
– Господи, ну, по-че-му?! – Пётр Сергеевич уткнулся лицом в тёплую шею лошади и заплакал.
Глава 14. Свет нездешний
Январь 1920 года. Петроград
Электричество горело всю ночь. Электричество, которое берегли в последний год до того, что подавали его в сутки часа на два: с десяти до двенадцати вечера. Тьма была страшна, но ещё страшнее были такие наполненные светом ночи. Этот свет зажигали палачи. Зажигали, чтобы осветить себе путь к очередным жертвам, чтобы поглотить их. Освещённые ночи были зловещи, и жители полумёртвого города не смыкали глаз, ежеминутно ожидая, что стук раздастся в их дверь, что их очередь настанет кануть в ненасытной утробе чудовища. Это раньше лучшей соспешницей преступления была тьма, когда преступление ещё не стало формой государственного строя, управления. Теперь преступления, хотя и совершались по укоренившейся привычке по ночам, но уж запаляли для пущего удобства свет, не жалея электричества.
Поначалу Елизавета Кирилловна смертельно боялась этих ночей. Боялась больше, чем чего-либо в своей жизни. Боялась безотчётно, наперекор здравому смыслу, говорившему, что бояться уже давным-давно нечего. Что гораздо страшнее, если на то пошло, голод и эпидемии. Но зажигался свет в неурочное время, и на Елизавету Кирилловну находило какое-то затмение, похожее на панику. Склонный всё анализировать ум делал неутешительный вывод: нервы стали подводить. Но чувство не подчинялось уму. И в освещённые ночи она не смыкала глаз, ожидая грозных визитёров. Как-то и нагрянули они. Переворошили остатки вещей, которые столь были худы, что не годились в продажу, и ушли ни с чем. Ни с чем, потому что многие фотографии и все награды мужа, могшие навлечь на неё беду, Елизавета Кирилловна загодя закопала в землю, запомнив место в надежде откопать их когда-нибудь и вернуть на законное место. Ни с чем, потому что не осталось в доме ни единой сколь-нибудь ценной вещи, которую можно было «экспроприировать». Только натоптали и накурили в доме…
Страх скоро притупился, оставив место безразличию. Вдобавок гораздо страшнее было стремительно ухудшающееся зрение. Знавала Елизавета Кирилловна людей, которых истощение довело до слепоты. Да ведь это много хуже смерти! Вот, чего стоило по-настоящему бояться. И от чего нельзя было спастись, потому что положение в городе становилось всё хуже… Паёк первой и второй категории ещё летом сократили до восьмой доли фунта в день, а категории третьей его не выдавали вовсе. Елизавета Кирилловна, как служащая, свой паёк получала, но долго ли можно протянуть на таком пайке?
Петроград пустел день ото дня. Кто мог, бежали из города вон. Оставшиеся уходили тоже – в небесные чертоги. Одна только холера выкосила несчётное количество жизней. А что говорить об испанке и тифе и просто о голоде! Петроград скатился в средневековье. Водопровод, отопление, электричество, все прочие удобства стали достоянием истории. Но при этом негде было добыть керосина, свечей и дров. Тьма и холод стали средой обитания. Должно быть, голода и холода не ведали правители города, но ни для кого из жителей льгот не было. Голодал даже Блок! Елизавета Кирилловна однажды была на поэтическом вечере, где литераторы читали за паёк свои творения. Был там и Александр Александрович. Признаться, лишь из-за него пошла на этот вечер, хоть неблизок был путь. Иссохший, с предельно заострившимися чертами, поэт больше походил на тень. А читал что-то из старого, и чувствовалось, как мучительна для него эта повинность – читать свои стихи за кулёк крупы. До слёз жалко было смотреть на него! По окончании подошла, не стыдясь ни своей латаной одежды, ни огрубелых рук, покрытых цыпками, как у нищенки с паперти, сказала несколько необязательных слов. Всё-таки встречались прежде несколько раз на различных мероприятиях, одного времени и одной культуры были люди, и было, что вспомнить. Ответил и Блок с обычной вежливостью.
На другой день Елизавета Кирилловна зашла проведать другого бывшего культурного человека, из редких уцелевших знакомых – художника Ивана Мареева. Иван Тихонович жил в своей мастерской, расположенной в мансарде. Трудно было понять, чем питался (и питался ли вообще) этот худой, как Кощей, старец, с отросшими пегими волосами и крупной, похожей на соль, щетиной на впалых щеках и остром подбородке. Закутанный в плед, перемотанный вокруг костлявого тела верёвкой, чтоб не сваливался, в валенках, в похожей на ермолку шапчонке, в рваных, перепачканных краской перчатках, он, несмотря на чудовищный холод, царивший в его неотопленном жилище, продолжал самозабвенно творить. Жаловался, болезненно щуря раздражённые, красные, как у кролика, глаза:
– Что за время! Ни порядочных красок раздобыть, ни холста… Приходится подбирать шляпные картонки, представьте себе! И мешать масло с темперой и гуашью! Сущее наказание!
Елизавета Кирилловна с интересом разглядывала развешенные на стенах акварельные рисунки. На них Иван Тихонович запечатлел всё пережитое родным городом в смутные годы. Вот, хлебные «хвосты», с которых всё началось, а следом уже два мОлодца, сшибающих орла с крыши какого-то здания. Митинг у статуи Александра Третьего… Погром в Зимнем: пьяная солдатня, терзающая штыками портреты самодержцев… Мёртвая лошадь с развороченными внутренностями, из которой голодные люди вырезают по куску… Старик-офицер с затравленным, почти безумным лицом, и пляшущие позади расхлябанные солдаты… Мешочники, уносящие в свои деревни всякую разность… Разбитной матрос со своей кралей… Старуха, тащащая сквозь вьюгу сани с гробом…
– Иван Тихонович, по вашим картинам следовало бы изучать историю наших окаянных лет. Вы не боитесь рисовать подобное?
– А чего мне бояться? – пожал плечами Мареев. – Я ведь не золотопогонников каких рисую, а, позвольте заметить, сознательный пролетариат! Красу и гордость, так сказать! В славные моменты торжества революции!
– У ваших пролетариев такие забубенные лица…
– Нечего на зеркало пенять. Пусть поглянут в него и, если увидят там нечто благородное, то я признаю себя бездарностью и клеветником. Взгляните лучше на это! – художник, наконец, отодвинул завесу от картины, над которой трудился последнее время.
Елизавета Кирилловна приблизилась и замерла в восхищении. Полотно изображало сцену расстрела. В центре группа обречённых: два раненых офицера, юнкер, студент, профессор, молодой человек (не то поэт, не то художник), старая барыня, старик-священник, монашек, купец, крестьянин с сыном, стоящая на коленях мать, обнимающая своего ребёнка, юная барышня, сестра милосердия… По бокам – нелюди. Те самые, с забубёнными лицами. Краса и гордость. Глумящиеся, озверелые. Пулемётные ленты поверх тельняшек. И ещё один – в чёрной кожанке. Горбоносый. С маузером. Похожий неуловимо на Троцкого… А позади, поверх всего этого – порушенный храм со снесённым крестом с одной стороны, убегающий в ужасе ангел, закрывший лицо руками – с другой. И посредине вместо луны – пятиконечная звезда, внутри которой выведена не выпукло, а вписанно в её тон – символика «Чёрной ложи»: череп, песочные часы, косы… Вся картина выполнена была в сероватых тонах, лишь немного разбавленных разными красками. Эффект притушенных цветов, затянутых сумраком ночи, запачканных. Мрачное полотно было одновременно пугающим и величественным.
– Что скажете, Лизонька?
– Это гениально! – выдохнула Елизавета Кирилловна. – Но, Иван Тихонович, если эту картину у вас найдут… Тут уже у вас не сознательный пролетариат.
– Бог не выдаст, свинья не съест. Жаль, конечно, если эта картина сгинет. Хоть пока это и не картина даже, а только общий эскиз. Для того, чтобы её написать, нужны условия.
– Не боитесь?
– Чего бояться, голубушка? Родных у меня нет, денег нет. Ничего нет! Расстреляют? На доброе их здоровье. При нынешних условиях мне, старику, ничего кроме смерти не светит. Либо от голода и болезней, либо от пули. Не всё ли равно?
– А я вчера была на поэтическом вечере, – поделилась Елизавета Кирилловна. – Представьте, какое варварство! Даже Блок умирает с голоду! Ведь это же просто за гранью!
– И что? – Мареев пожал плечами. – Чем он лучше других, ваш Блок? Почему, если другие мрут – это не за гранью, а он – за гранью?
Даже и не нашлась сразу, как ответить, оторопела от жестокой логики некогда мягкого, интеллигентного человека.
– Помилуйте, да ведь он же великий поэт!
– И что? Мы с вами тоже не шаромыжники были.
– Вы в самом деле не понимаете? Он – достояние России! Нашей культуры! Надо же беречь!
– А остальных беречь не надо? – озлённость звякнула в голосе старика. – Вы меня простите, дражайшая Лизонька, но мне нет дела до Блока. В конце концов, что он хотел, то и получил! Не надо было носиться с красным флагом и поддерживать этих мерзавцев! Он расхлёбывает ту кашу, которую сам же и помогал заваривать. А, вот, мы с вами вынуждены её хлебать неизвестно за что! Потому что они – заварили!
Жалость умерла с голодухи… Известная логика была в горьких словах, но что-то внутри Елизаветы Кирилловны ей противилось. Поэты, люди искусства всегда виделись ей существами над землёй приподнятыми. И с обычной шкалой не выходило подойти к ним. Даже сейчас.
Девятнадцатый год при всей тяжести дарил многими надеждами. Передавались вести с фронтов. Наступает Колчак. Громит большевиков Деникин. А Юденич уже под Петроградом! Ещё чуть-чуть, и возьмёт его! И каково же было разочарование, когда отбросили Юденича… Снова сгущался мрак. Мрак, сопряжённый с липкой осенней сыростью. И впереди новая зима маячила. И жутко понималось – ещё одной не пережить!
Как ни сильна, как ни вынослива была Елизавета Кирилловна, а и её силам наступал предел. И особенно ощутила она это после уплотнения. Теперь в её квартире жило семейство рабочих, какой-то еврей, служащий в ведомстве с названием столь изощрённо сокращённым, что никак нельзя было понять, что бы могло оно означать, и наглая девица со своим матросиком-«мужем». Из всей этой компании еврей доставлял неприятностей менее всех. Рабочие же были весьма шумны: и муж, и жена, и их великовозрастный сын. Нередки были кутежи у них, собирались гости, доходило и до драк. Однажды сын по пьяному делу набросился на родителя с топором. Прибежавший на крики верзила-матрос оттащил его. Матрос этот казался не самым негодным представителем своего класса. Развязен, груб, из немногословных фраз – половина нецензурщина и сальность. Но, во всяком случае, он не был зол. Если рабочие не упускали случая сказать какую-нибудь гадость в адрес Елизаветы Кирилловны, то матрос больше помалкивал, хотя всегда гоготал за компанию. При этом однажды поднёс «бывшей барыньке» тяжёлую вязанку дров, встретив её, согнувшейся под этой ношей, на лестнице. Усмехнулся, ухватил одной ручищей вязанку и легко донёс до дверей. За эту нежданную доброту получил он, однако, порядочный нагоняй от своей половины, и впредь уже не позволял себе жалости к «эксплуататорам».
Эта «половина» стала для Елизаветы Кирилловны сущим наказанием. Все пьяные выходки рабочих были ничто в сравнении с её каждодневным давлением. Девица эта некогда была одной из учениц Елизаветы Кирилловны. Училась она скверно и неохотно, но бредила революцией и не отличалась, как впоследствии выяснилось, строгостью нравов. За многочисленные проступки Агата Дарницына была отчислена с курса, и сделано это было не без настояний Елизаветы Кирилловны, опасавшейся дурного примера для своих воспитанниц. И надо же было такому случиться, чтобы именно эту дрянь подселили в её квартиру! Как всё ограниченные, упрямые и недобрые люди, Агата отличалась злопамятностью и не упускала случая больнее ударить бывшую учительницу. И не ответить ей! Донесёт со своим матросиком, куда надо – и пиши «пропало». Не раз угрожала уже. А что тогда с Поличкой будет? Поличку Елизавета Кирилловна полюбила, как родную. Привязалась и девочка к ней. И Агата шпыняла и её, вымещая неутолимую злобу. Видела бы она, как однажды её «муж» угостил Поличку двумя кусочками сахара! Вот бы шум подняла! А верзила этот, «краса и гордость революции», боялся её пуще полундры, и даже смешно было наблюдать, как эта истерическая эмансипэ, наделённая, правда, красотой, но красотой злой, а потому отталкивающей, вертит им. Агата, надо сказать, не особенно считалась и с другими жильцами, третируя по возможности всех. Особенно нервировала она еврея, раздражавшегося от её визгливого голоса. Абрам Янкелевич считал свою соседку «набитой дугой», но предпочитал с нею не связываться, а ретировался в свою комнату.
Жаль было квартиру… В полный бедлам превратили её новые квартиранты. Агата и супруга рабочего сильно потешались, когда «бывшая барынька» взялась вымыть полы не только в своей комнате, но и в общем коридоре. На кухню не пошла уже, поскольку вовсе перестала туда наведываться, обходясь собственной керосинкой. На кухне хозяйничали они, не ведавшие голода, всегда имеющие снедь, вкус и запах которой давно был позабыт людьми.
В свою комнату Елизавета Кирилловна перенесла наиболее дорогие для себя вещи из прошлой жизни: книги, иконы, фотографии… Получился относительно уютный уголок, для безопасности которого от соседей в дверь был врезан замок. Встречи с жильцами, таким образом, были сведены к минимуму. На службу Елизавета Кирилловна, напившись кипятку и взяв с собой Поличку, чтобы девочку не обижали в её отсутствие, уходила раньше, чем пробуждалась Агата, и проводила там весь день, возвращаясь лишь вечером. Вечером избегнуть порции наглых выпадов не удавалось, но и переживать из-за хамства «набитой дугы» не было ни сил, ни желания. Не удостаивала ответа, проходила мимо так, словно не замечала Агаты. И Поличку научила тому же. Агата бесилась, но чем пуще лютовала она, тем безразличнее становилась Елизавета Кирилловна.
Единственное, с чем повезло, так это с работой. Музей города, Аничков дворец ещё хранил в себе прежнюю атмосферу, благодаря служившим в нём людям, обожавшим своё дело и работавшим по душевному влечению, а не за паёк. Здесь среди прочих служила и баронесса Мария Дмитриевна Врангель, мать Петра Николаевича. После спешного отъезда мужа, которому угрожал арест, она осталась в городе совсем одна. Надеялась, что скоро всё закончится, а потому не поторопилась с отъездом. И оказалась в плену. Голодала, страдала от уплотнения, таскала на себе воду и дрова… Ей предлагали материальную помощь подпольные офицерские организации и несколько культурных учреждений, чтивших память её младшего сына, известного искусствоведа, умершего ещё в начале войны, но эта мужественная шестидесятилетняя женщина отказывалась от всех субсидий, говоря, что не желает записываться в инвалиды, что служба осталась для неё последней отрадой и забвением от ужасов жизни.
Служба и общение с близкими по душе людьми составляли последнюю отраду и для Елизаветы Кирилловны. Имея перед глазами пример баронессы Врангель, она не позволяла себе ныть и опускать руки. Ей, годившейся Марии Дмитриевне в дочери, не стыдно ли было вздыхать и жаловаться на слабосилье?
Осень подходила к концу. А с нею полный надежд год. Ни Колчак, ни Деникин, ни Юденич так и не пришли, красные бесы властвовали в России, и не Белая армия, а белая зима вошла в Петроград. С нею ещё одна белая, с белым мелом в руках, чтобы рисовать кресты на чьих-то дверях, за которыми ещё теплилась жизнь.
Когда ударили морозы, Елизавета Кирилловна стала оставлять Поличку дома, боясь, что девочка простудится. Сама же уходила затемно и потемну возвращалась, приходила и бессильно валилась на кровать. В то утро она почувствовала недомогание, но всё же поспешила в Аничков. К середине дня поднялась температура, и Елизавета Кирилловна попросила отпустить её отлежаться. На улице бушевала метель, обжигающая щёки и выедающая слепнущие глаза. Полумёртвый город не подавал признаков жизни. Чернели провалами беззубых, источающих гнилостный запах цинготных ртов подворотни, особенно страшными кажущиеся. В одной из них Елизавета Кирилловна остановилась. По мостовой, растянувшись во всю ширину её маршировали красноармейцы. Пели «все как один умрём в борьбе за это». Бездарно! Все они – бездарны! Бесплодны творчески… Всё, что они могут – грабить чужое. От личных вещей «буржуев» до песен. Не могли даже придумать своего марша. Украли добровольческую «За Русь Святую», испохабили, переиначили – и поют вот! Жалкие, бездарные воры. Воры везде и во всём. Воры искони. Что могут построить воры? Тюрьму для ограбленных ими, каторгу для разорённых ими… «Сделаем засаду для убийства, подстережём непорочного без вины; Живых поглотим их, как преисподняя, и – целых, как нисходящих в могилу; Наберём всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею…»
Топали, топали сотни ног по мостовой, гудели голоса. И нельзя было прорваться через их стену. Как поезд шёл – и приходилось пережидать. Елизавета Кирилловна чувствовала, как силы отставляют её, как мутится в голове. Неужели и ей придётся навечно уснуть в снегу, и кости её будут обглоданы псами?.. Нет, нет, нужно дойти, доползти до дома… Ведь там Поличка одна! Что с нею будет? Жалась к стене, пыталась собраться с силами. А они всё топали и ревели про власть Советов, за которую умрут, и звенело в ушах… А ветер ярился, бросал в подворотню облака снега, царапал по лицу.
Хорони, хорони меня, ветер!
Родные мои не пришли,
Надо мною блуждающий вечер
И дыханье тихой земли.
Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить:
Видишь, ветер мой труп холодный,
И некому руки сложить.
Неужели, в самом деле, всё? И больше не увидеть Петрушу? Не увидеть Надиньку? Неужели этот город теней не отпустит? Станет могилой? И никто не узнает, никто не отпоёт и не похоронит…
Закрой эту чёрную рану
Покровом вечерней тьмы
И вели голубому туману
Надо мною читать псалмы.
И чтоб мне легко, одинокой,
Отойти к последнему сну,
Прошуми высокой осокой
Про весну, про мою весну.
И весны – не увидеть… Выскользнула клюка из бессильных, немеющих рук, ударилась о камни. Когда-то же уже выскальзывала она из таких же коченеющих рук! И бездыханное тело лежало рядом, и Елизавета Кирилловна закрыла остекленевшие глаза мёртвой и взяла её клюку… И всё повторится? Наклонилась, чтобы поднять палку, и не устояла на ногах, повалилась рядом с нею. Сообразила гаснущим сознанием: это – тиф.
Сколько-то прошло минут, и кто-то стал трясти за плечи, и почему-то до боли знакомый голос вопрошал взволнованно:
– Елизавета Кирилловна! Елизавета Кирилловна! Голубушка, откройте глаза! Это я, Миша! Вы слышите? Вы живы?
– Мишенька, вы? – оказывается, предсмертный бред бывает сладким. – Пойдите к нам… Там Поличка… Спасите её…
Знать, сильно истончилось и излегчилось тело, если сумел тонкий, хрупкий Мишенька поднять и донести до дома. Дома и очнулась Елизавета Кирилловна после двухнедельного бреда. Очнулась и увидела Поличку. Рассказывала после та, суетясь вокруг:
– Вас дядя Миша нашёл и домой принёс. Агата сразу разверещалась, что им тифозных в доме не нужно, эти, пьяницы, тоже лаялись. Только дядя Миша их слушать не стал. Врача привёл, еды принёс… Тётечка Лиза, вы представляете, он молока принёс! – Поличка округлила глаза, худенькое личико вытянулось. – Я даже пить его боялась сперва. Это же – мо-ло-ко! – задрожала. – И крупы принёс. И сказал, что когда вы поправитесь, то достанет… мяса! Тётечка Лиза, как вы думаете, он это взаправду? Дядя Миша такой хороший. Он каждый день приходит. Он и сегодня придёт!
Мишенька, в самом деле, пришёл вечером. Поблагодарила его Елизавета Кирилловна, а самой более всего узнать хотелось, откуда у него (у него!) молоко, мясо и прочие недоступные людям яства. Но стеснялась спросить. Всё равно как бы полюбопытствовать насчёт чужого кармана. Бестактно. А Миша карт раскрывать не спешил. Рассказал только, что долго ездил с гастролями, а недавно вернулся в Петроград, поселился в общежитии при театре, выступает. За выступления артисты, конечно, получали пайки, но не верилось, чтобы столь щедрые. Мишенька хоть и большой талант, но не Собинов.
– Мне очень неловко, что вы извели на меня такие деньги, Миша. Вам самому они нужны…
– Елизавета Кирилловна! Вы меня обижаете. Мы с вами культурные люди, а культурные люди должны друг другу помогать. Разве я могу забыть, как ваша покойная матушка была расположена ко мне? Как вы приняли меня в свою семью, как родного?
– Я и без того вам обязана спасением Петра Сергеевича.
– Нашли, о чём вспоминать! Елизавета Кирилловна, разве вы на моём месте не сделали бы для меня того же?
– Разумеется, сделала бы.
– Вот, видите. Так что давайте не будем считаться, – Миша улыбнулся своей всегда несколько робкой улыбкой. – К тому же сейчас вы не можете отвергнуть моей помощи.
– Да, Мишенька, вы правы. Без вас мы погибнем, – согласилась Елизавета Кирилловна.
– Вы не погибнете. Я буду заботиться о вас, – пообещал Миша. – А когда вы поправитесь, мы переправим вас в Финляндию.
– Но я не думала…
– Правильно, об этом вам пока рано думать. Но подумал я. Елизавета Кирилловна, – Мишенька понизил голос, – здесь оставаться нельзя. Я знаю надёжные каналы и надёжных людей. Поверьте, всё пройдёт без сучка и задоринки. Вы только выздоравливайте!
Закружил, закружил, подавил своей энергией… Откуда она только взялась в нём? Никогда не примечала прежде. Всегда Миша был натурой возвышенной, немного не от мира сего, натурой поэтической, артистической, инфантильной. А теперь явилась в нём твёрдость, решительность, практичность. Откуда бы таким переменам быть? Терялась Елизавета Кирилловна, но не было выбора: покуда лежала она больной, не было для неё и Полички иного источника жизни, кроме Мишеньки. Вместо того чтобы копаться, что и откуда взялось у него, лучше бы просто поблагодарила.
Выздоровление шло медленно, ослабленный двумя годами голодной и холодной жизни организм не имел достаточно сил, чтобы бороться с болезнью. И всё же две последовавшие недели казались райскими. Ни каждодневных хождений на службу сквозь ледяной сумрак города теней, ни хамства соседей, ни отчаянного поиска пропитания. Мишенька приходил каждый вечер, приносил продукты. Рассказывал в общих чертах о плане переправки в Финляндию.
– Доберёмся до Гельсинфорса – тогда вздохнём! Свободная страна, много наших знакомых… Раньше бежали туда от царизма, а теперь от большевиков. Интересно, что должны думать о нас степенные финны?
– Что же вы будете делать за границей, Мишенька?
– Да хоть что! Хоть ресторанную публику душещипательными песнями развлекать! Лишь бы отсюда выбраться… Лишь бы не ждать каждую ночь стука в дверь! Право, за одно это многое можно дать!
Дни утекали унылой, однообразной вереницей, и, вот, наступил день, когда Миша не пришёл. Накануне занемоглось Поличке, и он обещал привести врача. Но не привёл. И не пришёл сам. Ни в другой день, ни в следующий…
Поличка слегла как-то вдруг и сразу. Это не тиф был, а что – не могла понять Елизавета Кирилловна. Девочка лежала на кровати, худенькая до прозрачности, больно было смотреть на похожие на спички руки её и ноги, на голубоватое лицо с ввалившимися щеками. Кости, обтянутые прозрачной кожей… Страшно смотреть и на взрослых в таком состоянии, на детей же – вовсе невозможно. Поличка стала очень серьёзной, жаловалась на мучительные боли в голове, иногда тихонько плакала.
…А Миша не шёл! И ясно стало, что что-то случилось с ним, а, значит, больше неоткуда ждать помощи. Елизавета Кирилловна несколько раз поднималась со своего одра, чтобы самой бежать за доктором. Но сил не хватало даже на то, чтобы дойти до двери и, доползя по стенке до середины комнаты, она обречённо возвращалась назад. Колотить кулаком в стену, звать на помощь было бессмысленно. Никто из жильцов не шевельнул бы пальцем… Еврей остался бы безучастен: о себе заботиться надо, а не разных там сторонних. Агата с рабочими только обрадовалась бы смерти «бывшей барыньки». Её матрос, может, и посочувствовал бы в душе Поличке, но тотчас и забыл бы доброе чувство и загоготал вместе со всеми. Елизавета Кирилловна поняла, что выхода нет…
Скудные запасы еды и дров быстро подошли к концу. Комната погрузилась в холод и сумрак. Лишь изредка Елизавета Кирилловна зажигала спички, чтобы оглядеться, посмотреть время… А в эту ночь не пришлось чиркать ими. Электричество зловеще горело во всём городе. И даже приутихли соседи за стеной, видно, тоже боящиеся, несмотря на пролетарское происхождение. А Елизавета Кирилловна не боялась. Впервые за это время. Несколько дней назад она впервые увидела Смерть. Смерть вошла в её комнату, села в углу и теперь сидела там, выжидающе. Смерть не была страшна. Не была стара. Не имела мифической косы в руках. Смерть не хохотала, не смотрела победительно, с ненасытным торжеством радуясь новым жертвам. Она тихо сидела в углу, измождённая, как все тени мёртвого города, в рваном плаще, с клюкой. Лицо Смерти не было злым, а усталым, почти безразличным, но, пожалуй, даже сострадательным, более милостивым, нежели все теперешние человеческие лица.
Смерть смотрела на Елизавету Кирилловну, а она вглядывалась в неё. Рассматривала, изучала, привыкала…
Электричество погасло, а утра не наступило. Утро, видимо, слишком контрреволюционно по отношению к ночи. Как весна – к зиме. Поэтому утра больше нет. И весны нет. И ничего нет, кроме хаоса, вечных сумерек… Значит, наступил обещанный конец света? Окно заиндевело и было наполовину заметено снегом. За ним снова лютовала, билась в истерическом припадке вьюга.
Всё-таки Елизавета Кирилловна предприняла последнюю попытку дойти хотя бы до двери. Но непосильно оказалось. Вернулась, легла рядом с затихшей Поличкой, сжимавшей в руке большую, красивую куклу, некогда особенно любимую Надинькой, натянула два одеяла, прижалась щекой к голове девочки:
– Как бы я хотела согреть тебя своим теплом, но у меня не осталось его… Совсем не осталось.
– Тётечка Лиза, мы умрём, да? – спросила Поличка.
– Нет, моя дорогая, мы не умрём.
– Значит, нас спасут?
– Конечно, спасут. Придёт дядя Миша и спасёт нас… А потом мы сядем на корабль и поплывём. Море будет биться о корму, и чайки будут летать над нами, а мы станем кормить их с рук. Мы поплывём далеко. Туда, где всё и все ещё живы. Где нет голода, где всегда тепло, где люди не обратились в диких зверей.
– Тётечка Лиза, а вы тогда меня бросите?
– Почему?
– Там будет ваша настоящая дочка. А я не настоящая. Я вам не нужна стану.
– Я тебя никогда не брошу, родная. Ты моя самая настоящая дочка. И я всегда буду рядом с тобой, что бы ни случилось.
Смерть не шевелилась и всё так же неподвижно сидела в углу, видимо, никуда не торопясь и терпеливо ожидая своего часа. Елизавета Кирилловна продолжала говорить, приблизив немеющие губы к самому уху своей умирающей воспитанницы, закрывшей глаза с тем, чтобы не открыть больше, радуясь новому дню и новой весне:
– У нас будет свой дом с крыльцом, увитым плющом. Небольшой, но уютный и тёплый. И очень красивый. Мы с тобой вместе сделаем его таким. А потом приедут Надинька и Петруша, и мы станем жить вчетвером. Я не буду больше писать статей, заниматься науками, и мой раненый воин, наконец, навоюется и перестанет постоянно уезжать… – это уже не для Полички говорила она, а грезила вслух. – Мы станем жить так просто, так спокойно. Будем, если надо, возделывать землю, и обязательно заведём сад. Вишнёвый. Или яблоневый. А лучше смешанный. Чтобы и груши, и сливы, и яблони, и вишни… И там будут петь птицы, весенние птицы! а летом мы станем пить чай под его сенью и любоваться закатом. Ты станешь учиться, моя родная. Я сама буду учить тебя. Всему, что ещё помню сама. А по вечерам мы будем читать друг другу вслух и заниматься шитьём… Мой отец всегда по вечерам читал вслух, а мама вышивала. Это были такие тихие, такие счастливые вечера! И мы будем так же счастливы. Мы ещё увидим утро, и весну, и… – с лёгкой горечью окончила вспомнившимся, – небо в алмазах…
Елизавета Кирилловна скользнула глазами по развешенным на стенах фотографиям. Прежде она никогда не развешивала в большом количестве семейных фотографий. Но эту, последнюю свою комнату буквально завесила ими, чувствуя необходимость всё время видеть родные лица. Вон папа сидит в кресле с газетой. Ещё в расцвете сил, тёмные усы а-ля Александр Второй пушатся… Мама… Такая хрупкая, нежная, трепетная. Лучший портрет её! Покойный брат, мальчуган с задорным лицом… Сестра Анюта с мамой… Портрет Анюты. Семейный снимок её с мужем и сыном. Прекрасная фотография, Анюта подарила её всем близким с дарственной надписью. Петрушина фотография, единственная. Единственная, потому что лишь на ней он запечатлён в штатском. Сделали во время отдыха в Крыму… А на остальных – всегда при погонах был. Пришлось в землю зарыть. Кто теперь отыщет! А так хотелось взглянуть напоследок. Ну, хоть на эту… И много снимков Надиньки. Их и прежде много висело в доме стараниями мамы, куда как трепетнее к фотографиям относящейся, чем Елизавета Кирилловна. Надинька маленькая, Надинька в Крыму, Надинька верхом, Надинька с бабушкой… И ещё три портрета крупных. Красавица выросла, каких поискать!
Умирать оказалось совсем не страшно. И какое-то облегчение было в этом, и как-то спокойно и мирно было на душе. Вспомнилось, как мама незадолго до смерти время от времени вдруг начинала говорить с умершими, как с живыми, словно видела их. Умирать страшно, когда смерть ещё далека, а когда стирается грань между двумя мирами, когда отверзается небо, то страх уходит.
Снова осветилась комната. Но это не электричество было. И не дневной луч. А какой-то иной свет. Свет нездешний. Он струился из того угла, где сидела Смерть. Но самой Смерти больше не было там, а вместо неё стояла, светло улыбаясь и раскрыв руки для объятий – мама!
– Мама! Как хорошо, что это ты… Мне так тебя не хватало, мама…
Глава 15. За всё надо платить
6-7 февраля 1920 года. Иркутск
– В связи с этими мерами репрессий, по вашей инициативе совет министров принял два постановления, которые отмечены шестнадцатого и восемнадцатого апреля 1919 года, №47, 48 и 52 секретных заседаний совета: вы предложили совету обсудить вопрос о расширении прав командующих войсками в том смысле, что за преступления, которые раньше не наказывались смертной казнью, могло быть повышено наказание до смертной казни.
– Да, были такие распоряжения.
Они торопились в последние дни. Вначале расспрашивали обстоятельно, словно к биографии, а не для обвинительного приговора собирали материалы. И это неплохо было. Стремительно приближался жизненный круг к своему завершению, не оставляя времени, чтобы написать самому, рассказать, объяснить. А ведь столько нужно было рассказать и объяснить! И эта эсеро-большевистская комиссия, её протоколы оказались последним шансом для такого рассказа. А потому обстоятельно и подробно отвечал Александр Васильевич на все их вопросы, словно не на допросе сидел, а диктовал страницы собственных мемуаров. И до последних дней они слушали со вниманием, не перебивали. Но, вот, заторопились, занервничали, стали обрывать, комкать. Знать, напугало их приближение к городу каппелевских частей. А потому спешат покончить… Жаль, не дотянули до конца. Ещё много-много страниц осталось недосказанных…
– Я недавно беседовал с одним из членов революционного комитета. Он меня спрашивал, известны ли мне зверства, которые проделывались отдельными частями. Я сказал, что в виде общего правила это мне неизвестно, но в отдельных случаях я допускаю. Далее он мне говорит: «Когда я в одну деревню пришёл с повстанцами, я нашёл несколько человек, у которых были отрезаны уши и носы вашими войсками». Я ответил: «Я наверное такого случая не знаю, но допускаю, что такой случай был возможен». Он продолжает: «Я на это реагировал так, что одному из пленных я отрубил ногу, привязал её к нему верёвкой и пустил его к вам в виде «око за око, зуб за зуб». На это я ему только мог сказать: «Следующий раз весьма возможно, что люди, увидав своего человека с отрубленной ногой, сожгут и вырежут деревню. Это обычно на войне, и в борьбе так делается».
– На сегодня достаточно.
Уже? Однако, весьма рано, ещё белый день за окном. Заторопились, заволновались. Что же, пусть волнуются. Им ещё есть, о чём. А тому, чей приговор подписан, уже не о чем. Ничто не даёт такого спокойствия, как чёткое сознание завершённости земного пути. Многое не удалось на нём, но уже поздно исправлять, уже не переменить ничего. Конец – облегчение. Уже не давит на плечи невыносимый груз ответственности за судьбы людей, армии, России. Эта ответственность тяготела над Верховным правителем, а у бесправного арестанта остался лишь один единственный долг – с честью пройти остаток пути, как бы короток и тяжек он ни был. И оттого после всех треволнений здесь, у последней черты, на душу, наконец, сошёл покой, и, часами просиживая на допросах, Александр Васильевич воскрешал в памяти всю свою практически отлетевшую прочь жизнь, огреваясь лучами лучших дней, бывших в ней когда-то.
Ирония судьбы! Надо же было ей повернуться так, что свой конец суждено оказалось встретить в том же краю, где начинался некогда путь, суливший столь много. Более двадцати лет назад мичман Колчак приехал в Кронштадт к адмиралу Макарову, отправлявшемуся в экспедицию по Северно-Ледовитому океану, мечтая принять участие в ней, но служебные обстоятельства тому помешали. Ещё обучаясь в корпусе, Александр Васильевич бредил Севером, мечтал найти Южный полюс, интересовался океанографическими исследованиями в полярной области. Окончив корпус вторым, собственной волей уступив первенство другу, которого считал более талантливым, получив престижную премию адмирала Рикорда, он немедленно отправился в плавание по Тихому океану. Корабельная жизнь оставляла достаточно времени для самообразования. Александр Васильевич изучал древние индийские и китайские философии, а, прежде всего, расширял знания специальные, вёл работы по океанографии и гидрологии. Плодом этих работ стала статья «Наблюдения над поверхностными температурами и удельными весами морской воды, произведённые на крейсерах «Рюрик» и «Крейсер» с мая 1897 г. по март 1898 г.». С тех пор северная часть Тихого океана занимала Колчака в гидрологическом отношении, и на борту броненосца «Петропавловск» он снова отправился на Дальний Восток, по пути куда получил заветное приглашение принять участие в полярной экспедиции барона Толля. Об этой экспедиции, имевшей целью исследовать земли на севере от берегов Сибири, Александр Васильевич уже знал прежде и мечтал принять в ней участие, но не решился предложить Академии свои услуги. И, вот, барон сам обратил на него внимание, ознакомившись с вышедшими в печати статьями! Сбывалась мечта!
Предложение Александр Васильевич принял сразу и несколько месяцев готовился к экспедиции, работая в Павловской магнитной и Главной физической обсерваториях, занимался у знаменитого полярного исследователя Нансена, будучи в Норвегии, где оборудовалось судно для экспедиции, в которой ему предстояло заведовать гидрологическими работами и быть вторым магнитологом.
Экспедиция стартовала в начале лета 1900-го года. Колчак вёл гидрографические и океанографические работы, измерял глубины, наблюдал за стоянием льдов и земным магнетизмом, вместе с Толлем путешествовал по Таймыру, ведя маршрутную съёмку. С Эдуардом Васильевичем, несмотря на разницу лет и званий, их соединила взаимная приязнь, переросшая в дружбу. Барон считал Колчака лучшим офицером, ценил его любовную преданность гидрологии, и открытому экспедицией острову у Северо-Западного побережья Таймыра и мысу в том же районе присвоил имя Александра Васильевича.
На третий год экспедиции барон Толль в сопровождении нескольких человек отправился на север Сибирских островов. Он рассчитывал найти некий новый материк, но из-за состояния льдов пробраться можно было лишь к земле Бенетта, но и туда вряд ли могло пробраться судно. Вдобавок к тому практически закончились запасы. Принимая во внимание сложившуюся обстановку, барон велел своим соратникам пробиваться к земле Бенетта и обследовать её, а, если не получиться, возвращаться в Петроград и начать работу по новой экспедиции, сам же он рассчитывал самостоятельно дойти дотуда и вернуться на Ново-Сибирские острова, где для него были оставлены склады. Экспедиции не удалось пробиться к земле Бенетта и пришлось возвратиться в столицу. В Академии Наук были сильно встревожены участью барона Толля, и на первом же заседании Колчак заявил о необходимости немедленного снаряжения новой экспедиции на землю Бенетта для оказания помощи Толлю и его соратникам. Главная трудность состояла в том, что судно «Заря» было разбито, а других суден, годных для экспедиций такого рода, просто не было. Оставить своего друга и учителя без помощи Александр Васильевич не мог. Подумав и взвесив всё, что можно было сделать, он предложил пробраться на землю Бенетта и на поиски барона Толля на шлюпках. Спутники отнеслись к этому плану чрезвычайно скептически и говорили, что это такое же безумие, как и шаг барона Толля. Никто не хотел рисковать, оставалось самому взяться за приведение в жизнь «безумного» плана. Академия Наук пошла навстречу Александру Васильевичу, дав главное: полную свободу рук и средства на выполнение смелого замысла.
Немедленно началась самая горячая и энергичная работа. Были закуплены собаки и снаряжение для новой экспедиции, но необходимо было ждать вскрытия моря. Провизии не хватало, и пришлось заниматься охотой, чтобы прокормить себя и собак, часть из которых пришлось пристрелить. Когда море вскрылось, Колчак и ещё шесть человек на вельботе тронулись в путь. Море оказалось в тот год совершенно открытым, не было даже достаточно крупных льдин, чтобы вылезти на них и передохнуть, приходилось постоянно сидеть в шлюпках на пронизывающих ветрах. Подчас приходилось добираться вплавь с вельбота до берега в ледяной воде. На земле Бенетта нашли следы экспедиции: документы, дневник, записку… Группа барона Толля под угрозой голодной смерти отправилась в сторону материка, но так и не добралась до него. Скорее всего, люди утонули в ещё не полностью замёрзшем море. Об этом Колчак доложил в Академию. В ходе экспедиции по оказанию помощи барону Толлю, Александру Васильевичу удалось открыть и описать новые географические объекты, внести уточнения в очертания береговой линии и сделать ряд других важных замечаний. Одному из открытых объектов Колчак дал имя своего учителя.
За четыре года экспедиций было собрано множество материалов. На то, чтобы разобрать их вечно не доставало времени… Вначале пришлось отложить это занятие из-за начавшейся войны с Японией, затем были другие труды и другая война. Так и не удалось погрузиться в науку всецело, а сколько раз мечталось! Кое-что всё же успелось разобрать, и несколько научных работ подвели промежуточный итог под полярной вехой.
О своих юношеских мечтах Александр Васильевич не забывал, даже став Верховным правителем, организовав при правительстве Комитет Северного морского пути, приняв участие в организации нескольких экспедиций, создав большую геологическую службу для выявления богатств сибирского края, продолжив строительство Усть-Енисейского порта, начатое в семнадцатом году…
Война дважды вторгалась в его жизнь, оба раза серьёзно меняя её, внося свои поправки в стройные планы. Так произошло с Японской. Только что вернувшийся из экспедиции, в ходе которой заполучил ставшие хроническими бронхит и ревматизм, а к тому и явные признаки цинги, не давая себе отдыха, Александр Васильевич поспешил из Сибири прямиком в Порт-Артур. Путь туда лежал через Иркутск. А в Иркутске ждали его отец и невеста, именем которой Колчак назвал один из открытых мысов на острове Беннета. С Софьей Фёдоровной они должны были пожениться по окончании первой экспедиции, но помешала вторая, и, вот, на пороге войны, эта самоотверженная душа срочно прибыла из Италии в Петербург, а оттуда вместе с будущим тестем на оленях и собачьих упряжках добралась до самого Ледовитого океана… В Иркутске состоялось венчание, сразу после которого Александр Васильевич отбыл на фронт. А не явись Соничка тогда, разминись с ним, кто знает, как сложилась бы судьба? Может, и не связались бы их судьбы брачными узами, не принёсшими, в итоге, счастья обоим…
Вряд ли был на свете другой человек, перед которым он был бы так кругом виноват… Жена! Женщина большой красоты и редкого ума, представительница старинного дворянского рода, среди предков которой были генерал-фельдмаршал Миних и генерал-аншеф Берг, выпускница Смольного института, знавшая семь языков, натура волевая и независимая, она, как никто, заслуживала счастья. А что смог дать ей? С самого первого дня обречена она была жить ожиданием его. Из экспедиций, с войны, из плена… Из плена он возвратился совершенным инвалидом, и понадобилось время, чтобы восстановить здоровье. А чуть восстановив, уже снова спешил к работе – к науке, к преобразованию флота – да непочатый край этой работы был! В ней Александр Васильевич не знал усталости, на ней был женат, а Соничка оставалась несправедливо обойдённой его вниманием. Она родила ему троих детей. Две девочки умерли в малых летах, и даже хоронить их ей пришлось одной, без него… Остался лишь сын, Славушек. С ним, пятилетним, Софья Фёдоровна вынуждена была бежать из Либавы с первыми громами войны. Бросив там практически всё имущество, она приехала в Гельсингфорс, где в это время служил Александр Васильевич. А там ждало её новое испытание. Соперница… Мудрая, благородная женщина, как стоически она принимала всё, не унижаясь до сцен, не роняя своего достоинства.
Их, оставшихся в Севастополе, могли растерзать во время погромов на Черноморском флоте. Слава Богу, спасли верные офицеры, рискуя собственными жизнями, вывезли ночью под самым носом у большевиков и переправили за границу. А он, муж и отец, как всегда, оказался слишком далеко…
Они не виделись с Семнадцатого года. Всё участие в жизни семьи сводилось с той поры к посылке денег, которых им катастрофически не хватало. Но что ещё он мог? В письмах Сонички временами проскальзывали упрёки. Конечно, она имела право на них, но Александр Васильевич жёстко прерывал её, когда грань приличия оказывалась перейдённой, просил не писать более подобного, не повторять услышанных сплетен. Трудно давалось Софье Фёдоровне и понять, почему он, Верховный правитель, не может более существенно помогать семье материально, укоряла за недостаток заботы. Вот уж с чем не согласен был! Большую часть своего жалования, мало отличавшегося от министерского, Александр Васильевич переводил жене и сыну. Но где же взять больше? Соничка просила присылать хотя бы восемь тысяч франков вместо пяти, но при падении курса рубля это составило бы сумму в сто тысяч рублей! Не мог таких денег расходовать Александр Васильевич! Не имел права. Объяснял ей, что единственная цель его отныне стереть большевизм и всё с ним связанное с лица России, истребить и уничтожить его, объяснял своё положение: «Мне странно читать в твоих письмах, что ты спрашиваешь меня о представительстве и каком-то положении своём как жены Верховного правителя. Я прошу тебя уяснить, как я сам понимаю своё положение и свои задачи. Они определяются старинным рыцарским девизом Богемского короля Иоанна, павшего в битве при Кресси: «Ich diene». Я служу Родине своей Великой России так, как я служил ей всё время, командуя кораблём, дивизией или флотом.
Я солдат прежде всего, я больше командую, чем управляю, я привык, по существу, приказывать и исполнять приказания. Когда Родина и Её благо потребуют, чтобы я кому-либо подчинился, я это сделаю без колебаний, ибо личных целей и стремлений у меня нет и своего положения я никогда с ними не связывал. Моя сила в полном презрении к личным целям, и моя жизнь и задачи всецело связаны с указанной выше задачей, которую я считаю государственной и необходимой для блага России. Меня радует всё, что способствует этой задаче, мои печали лежат только в том, что препятствует её осуществлению. Всё остальное временно имеет второстепенное значение и даже никакого значения не имеет.
У меня почти нет личной жизни, пока я не кончу или не получу возможность прервать своего служения Родине…»
Но – слабо действовало. И понятно, отчего… Как бы ни мудра была Соничка, но женщина есть женщина. Окружённой сплетнями о муже, к тому же пускаемыми вокруг действительного факта – как не усомниться? Да и тяжело приходилось ей одной с малолетним сыном на руках. Вот, ещё перед кем невольно виноват был Александр Васильевич. Ничего практически не успел дать ему, ничему его научить. Мальчик входил в возраст, когда больше всегда рядом нужен отец, когда формируется личность, а отца не было. И родной земли под ногами не было. Оторван был Славушек от корней… Не испортилась бы душа его в Париже! Единственный, любимый сын, похожий на отца, как две капли воды, он обязан был вырасти достойным человеком, достойным сыном своей Родины. Писал Соничке: «Я знаю ты заботишься о Славушке, и с этой стороны я спокоен и уверен, что ты сделаешь всё, что надо, чтобы воспитать его до того времени, когда я буду в состоянии сам позаботиться о нём и постараться сделать из него слугу Родины нашей и хорошего солдата. Прошу тебя положить в основание его воспитания историю великих людей, т.к. примеры их есть единственное средство развить в ребёнке те наклонности и качества, которые необходимы для службы, и особенно так, как я её понимаю».
Увы, давно уже умерла надежда на то, что удастся самому приложить руку к воспитанию сына. И какой Родине теперь придётся служить ему? Не Совдепии же! Сохранил бы память и преданность той, которая погибла от трусости и предательства, которую не сумел спасти его отец. Соничка, несомненно, всё сделает для этого. В ней Александр Васильевич не сомневался. В последнем письме успел оставить краткий завет и самому Славушке: «Я хотел, чтоб и ты пошёл бы, когда вырастешь, по тому пути служения Родине, которым я шёл всю свою жизнь. Читай военную историю и дела великих людей и учись по ним, как надо поступать, – это единственный путь, чтобы стать полезным слугой Родины и служения Ей. Господь Бог благословит Тебя и сохранит, мой бесконечно дорогой и милый Славушок…»
Всё отгорело теперь на пороге конца. Но из многих заноз, одна всего сильней тревожила сердце. Её судьба. Судьба прекрасной феи, вошедшей нежданно и стремительно в его суровую, отданную службе жизнь, с тем, чтобы не покидать до самого конца. Последней радостью, отпущенной на этом свете, были встречи с нею во дворике тюрьмы во время прогулок. Вот, выпорхнула она, лёгкая и грациозная, навстречу, озарённая ясным зимним солнцем, подала обе руки, улыбнулась своей необыкновенной улыбкой, в которую вкладывала всю нежность, всю трепетность:
– Александр Васильевич!
Дал Господь свидеться ещё раз… Каждое из этих свиданий, мучительных и счастливых, могло стать последним, и тем острее чувствовала Анна Васильевна, что значит для неё этот человек, тем жаднее вбирала, бережно складывая в тайниках любящего сердца каждую черту дорогого лица, каждую ноту глухого, чуть хрипловатого от усилившегося в тюрьме бронхита голоса, каждое слово, произнесённое им.
Предсказал бы кто-нибудь ей, девушке из старообрядческой семьи, дочери известного пианиста, дирижёра и педагога, директора Московской и Национальной Нью-Йоркской консерваторий, интеллигентной барышне, окончившей гимназию княгини Оболенской, писавшей стихи и картины, что так причудливо и трудно сложится её жизнь! А поначалу шло всё размеренно, не предвещая бури. Совсем юной вышла она замуж за друга семьи, капитана Сергея Николаевича Тимирёва, человека очень хорошего, любящего её. Анне казалось, что и сама она любит его. Но что могла знать о любви двадцатилетняя барышня? Только то, что читала в книжках… Могла бы остаться неузнанной эта ошибка, и дружно прожили бы они с Сергеем Николаевичем всю жизнь, растя сына Одю, родившегося вскоре после брака. Могла бы, если бы в какой-то день, один из тех мирных, ещё довоенных гельсингфорских дней, когда жизнь текла спокойно и весело, наполняясь походами в гости, где велись необязательные разговоры и бывали танцы, не случилось встречи, в один миг изменившей всю её судьбу.
Они встретились на квартире общих знакомых, и Сергей Николаевич сам представил их друг другу, не преминув рассказать Анне о подвигах Колчака-Полярного. Не заметить Александра Васильевича было нельзя – где бы он ни был, он всегда был центром. Он прекрасно рассказывал, и о чём бы ни говорил – даже о прочитанной книге, – оставалось впечатление, что всё это им пережито. Как-то так вышло, что весь вечер они провели рядом… Долгое время спустя Анна Васильевна спросила его, что он подумал о ней тогда, и Александр Васильевич ответил: «Я подумал о вас то же самое, что думаю сейчас».
В ту пору он был ещё полон замыслов и надежд, всегда оживлён и весел, его тёмные глаза искрились и излучали тепло, а улыбка очаровывала. Однажды они случайно встретились на улице, заговорили о незначащих пустяках. Анна чувствовала, что её всё сильнее тянет к этому полярному герою, удивительному человеку, не похожего ни на кого другого. Она боялась своего чувства, но ещё больше ответа, который угадывала в его глазах.
Нравы в офицерской среде строги, и казалось совершенно немыслимым переступить черту дозволенного. Анна Васильевна любила сына и уважала мужа. Связан был и Александр Васильевич. А кроме людских законов и человеческой порядочности были же ещё законы Божии, которых не могли забыть ни старообрядческая дочь, ни религиозный офицер. Но как магнитом притягивало их друг к другу, и не было сил бороться с этим притяжением! Тщетно старалась Анна вытеснить из сердца поселившуюся в нём химеру. Но слишком дорога была она…
Бывая где-либо, они всегда сидели рядом, оживлённо разговаривали. Это привлекало внимание окружающих. Не могла не заметить увлечения мужа и Софья Фёдоровна, но, будучи женщиной мудрой, она не показывала виду, часто принимала Анну Васильевну у себя и относилась к ней, как к подруге. С одной стороны, было невероятно неловко перед ней, с другой эта дружба позволяла больше узнать о своей химере.
Его звезда поднималась всё выше. На Пасху Шестнадцатого года он был произведён в чин контр-адмирала и той же весной со своими миноносцами совершил нападение на караван немецких судов с грузом руды, рассеял пароходы и потопил одно из конвоирующих судов. А уже в конце июня Александр Васильевич получил чин вице-адмирала и назначение командующим Черноморским флотом. Впереди была разлука. Отчаянно разрывалось сердце – были бы крылья, полетела бы следом! Но как? Нельзя забыть долга перед сыном и Сергеем Николаевичем, так терпеливо относившимся к тому, что происходило с женой. Конечно, фактической измены не было, их отношения с Александром Васильевичем оставались исключительно платоническими, но мыслью, но сердцем измена была совершена. Думалось, что разлука, возможно, охладит чувство, но и не верилось в это. Слишком велико оно стало. И перед самой разлукой были произнесены те слова, которые так долго жили в сердцах, и которым долг не позволял сорваться с уст. Она призналась ему первой, забыв все правила, всё, что разделяло их, и услышала в ответ заветное, переворачивающее окончательно душу и судьбу:
– Я вас больше чем люблю!
И горько было, что расставались, и какое счастье было быть вместе в тот миг, и ничего больше не нужно! Так и смешались неразделимо горечь со счастьем, так и шли они рука об руку затем…
Из Севастополя приходили его письма. Частые, длинные. Настолько, что это привлекало внимание. Софья Фёдоровна никогда не получала от него столь длинных писем. Не менее часто и длинно отвечала своей химере Анна Васильевна. Она всё больше жила его жизнью, его мыслями и чувствами, и его боль стала для неё своей, и даже большей. Так было, когда затонула «Императрица Мария». От Александра Васильевича пришло мучительно горькое письмо: «Я распоряжался совершенно спокойно и, только вернувшись, в своей каюте, понял, что такое отчаяние и горе, и пожалел, что своими распоряжениями предотвратил взрыв порохового погреба, когда всё было бы кончено. Я любил этот корабль, как живое существо, я мечтал когда-нибудь встретить Вас на его палубе». Анна всеми силами старалась утешить любимого человека: «Пусть самый дорогой и любимый корабль у Вас не единственный, и если Вы, утратив его, потеряли большую силу, то тем больше силы понадобится Вам лично, чтобы с меньшими средствами господствовать над морем. На Вас надежда многих, Вы не забывайте этого, Александр Васильевич, милый».
Он писал ей решительно обо всём: о своих рейдах и планах, о симфонических концертах, на которых доводилось бывать, о художнике, писавшем картину на тему боя русских кораблей с крейсером «Гебен» и желании устроить выставку… Как удивительны были его письма! Сколько тонкости, сколько высокого чувства было в них! Она хранила их бережно, перечитывая раз за разом, словно слыша далёкий родной голос, говоривший: «Вы были для меня в жизни больше, чем сама жизнь, и продолжать её без Вас мне невозможно. Все моё лучшее я нёс к Вашим ногам, как бы божеству моему, все свои силы я отдал Вам…»
В первое время после революции их отношения едва не надломились. Александр Васильевич слишком болезненно принимал к сердцу всё происходившее. Как истинный рыцарь, он мечтал посвящать своей избраннице победы, положить к её ногам Константинополь… И вдруг всё рухнуло, всё, чему служил он, и сам он оказался брошен в грязь, в которую обратили всё, столь святое для него. Его письма были пронизаны невыносимым страданием, а Анна Васильевна не сумела найти нужных слов… Ему стало казаться, что и она отступила, что он стал не нужен и ей… Какая ошибка! А она не сразу поняла причины его переменившегося тона. Он даже задел её. Но, вот, они встретились в Петрограде, и всё прояснилось. Целый день они провели вместе: обедали в ресторане, ездили в автомобиле по улицам, ужинали у тётушки Марии Ильиничны Плеске… Вспоминая этот счастливый день, вырванный из потока прочих, чёрных, как дым, Александр Васильевич написал Анне: «Ваш милый, обожаемый образ всё время передо мной. Только Вы своим приездом дали мне спокойствие и уверенность в будущем… Лично для меня только Вы, Ваш приезд явился компенсацией за всё пережитое, создав душевное спокойствие и веру в будущее. Только Вы одна и можете это сделать». Так и пришло осознание своего долга: быть опорой ему, быть утешением для его страдающей души, укреплением его колеблющейся веры. Она бесконечно любила его – победителя, но его, надломленного несчастьями, полюбила ещё сильнее. И всё бы отдала, чтобы вернуть ему прежнее душевное спокойствие.
Жизнь становилась всё труднее и мрачнее. Что несёт с собой революция, Анна Васильевна могла воочию видеть на Балтике, где в первые дни разыгралось кровавое безумие, унёсшее жизнь многих офицеров, включая комфлота Непенина, и понимать из слов отца. Отец был контрреволюционером до глубины души. Если революция – разрушение, то вся его жизнь была созиданием, если революция есть торжество демократического принципа и диктатура черни, то он был аристократом духа и привык властвовать над людьми и на эстраде, и в жизни. Оттого он так и страдал, видя всё, что делалось кругом, презирая демократическую бездарность как высокоодарённый человек, слишком много предвидя и понимая с первых дней революции… Отец вскоре умер, и ещё беспросветнее стало кругом.
Снова тянулись дни нескончаемой разлуки. Александр Васильевич был теперь ещё дальше, чем прежде. За границей, на пути к другому концу света… Но всё также приходили его письма, согревая и волнуя одновременно. Перипетии судьбы явно подрывали здоровье Александра Васильевича, расшатывали его нервы. «Милая моя, Анна Васильевна, Вы знаете и понимаете, как это всё тяжело, какие нервы надо иметь, чтобы переживать это время, это восьмимесячное передвижение по всему земному шару…» – писал он. И всё же не забывал за этими тяготами не только о письмах, но и подарках для неё. Из Англии Анна получила посылку с предметами дамского гардероба: перчатками, обувью и столь любимыми шляпами. Эта забота и внимание, сочетаемые с тонким вкусом, проявлялись во всё время их эпистолярного романа.
– А что, Анна Васильевна, ведь хорошо нам с вами было в Японии? Неправда ли? Есть о чём вспомнить! – истончившихся, бескровных губ Александра Васильевича коснулась улыбка, слабо напоминавшая прежнюю, потеплели глубоко провалившиеся глаза.
Япония! От одного этого воспоминания разливался в сердце весенний свет. Их медовый месяц… Их осколочек счастья, похищенный у спешащей судьбы…
Это казалось невозможным. Уже долгое время она ничего не знала о его судьбе, так как почта перестала работать. Сергей Николаевич получил от советского правительства командировку на Дальний Восток, рассчитывая, воспользовавшись ею, вырваться из большевистского плена и вывезти из него семью. В конце весны восемнадцатого, проделав путь через всю Россию, они прибыли во Владивосток. Здесь Анна Васильевна узнала, что её химера совсем рядом. В Харбине. И можно ли было не поехать туда? Не увидеться после такой долгой разлуки?.. Сергей Николаевич спросил лишь:
– Ты вернёшься?
И пообещала зачем-то, совестясь и жалея его:
– Вернусь… – и как же раскаялась тотчас при встрече с Александром Васильевичем, поняв, что вернуться уже не сможет, не сможет оставить этого человека, которому так отчаянно нужна, нужна больше, чем кому бы то ни было, даже сыну. Он приходил к ней каждый вечер, измученный и изнервлённый политической работой, столь чужой и нелюбимой, усталый, истерзанный бессонницей, которая стала развиваться у него. Ему так нужна была её поддержка, её любовь… Промелькнули, как одно мгновение несколько вечеров счастья, и Анна стала мучительно разрываться: она не могла уехать и не смела не вернуться, не сдержать данного слова. Призналась ему:
– Сашенька, милый, мне пора ехать во Владивосток. А мне не хочется уезжать…
– А вы не уезжайте, – ответил Александр Васильевич и, помолчав, добавил: – Останьтесь со мной, я буду вашим рабом, буду чистить ваши ботинки. Вы увидите, как хорошо я умею это делать.
Он говорил словно полушутя, но Анна Васильевна понимала, что за этим тоном кроется почти мольба.
– Меня можно уговорить, но что из этого выйдет?
– Нет, уговаривать я вас не буду. Вы сами должны решить.
И она решила сама. Съездила во Владивосток, чтобы проститься с Сергеем Николаевичем, и после тяжёлого объяснения навсегда возвратилась к своей химере. И как награда за все разлуки и терзания, судьбой были посланы дни счастья, проведённые в Токио. Они жили в смежных номерах гостиницы, на прогулках любовались разноцветными листьями клёнов в горных лесах, водопадами и действующими вулканами… Здесь, в Японии, их отношения перестали быть химерическими, пусть ещё не перед Богом и людьми, но отныне она стала его женой, вечной спутницей в горе и радости. И по его желанию незадолго до отъезда они побывали на службе в русской церкви. Он не был ещё разведён со своей женой, а она – с мужем, но литургия в почти пустом храме, где они стояли рядом, была для них чем-то вроде венчания. Всю службу Анна Васильевна молилась о прощении за грех, который они совершили, а по окончании её сказала Александру Васильевичу:
– Я знаю, что за всё надо платить – и за то, что мы вместе, – но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на всё согласна.
Словно уже знала тогда, что будет впереди… За всё надо платить – так всегда говорил Александр Васильевич. И они платили. Платили, не делая долгов – полной мерой. Платили вперёд – до Японии. Платили после – в Сибири. В Омске, чтобы не афишировать отношений, Анна поселилась в частном доме, вдали от центра. Виделись часто. Александр Васильевич навещал её по вечерам, когда оставалось время, сама же устроилась работать переводчицей Отдела печати при Управлении делами Совета министров и Верховного правителя, а вскоре организовала мастерскую пошива одежды и белья для солдат. Часто приходилось бывать в госпиталях, в качестве переводчицы присутствовать на официальных и неофициальных встречах в Ставке…
Счастье и мучение вновь шли рука об руку. Счастье – быть рядом с ним. Мучение – видеть, как изводит его выпавшая на его долю ноша. Как окончательно сдают нервы, как глухое отчаяние таится в воспалённых от бессонницы глазах, как покрывается рубцами страдальческих морщин дорогое лицо… Он изнемог и состарился в своей борьбе, и не было средства исцелить его ран. Средство было одно: победа над большевиками, возрождение России. Но победа-то и не давалось. Зато измен было слишком много! И каждая становилась страшным ударом для Александра Васильевича. Одна только последняя измена, измена собственного конвоя, оставившего его на произвол судьбы в Нижнеудинске, состарила его сразу на десять лет, в одну ночь сделала совершенно седым…
Этот последний путь, от Омска до Иркутска, Анна Васильевна разделила с ним. Больная испанкой, она покинула город на день раньше вместе с генеральшей Гришиной-Алмазовой, ухаживавшей за нею. Вскоре Александр Васильевич нагнал её. Вошёл мрачнее ночи, сейчас же перевёл её к себе, и началось это ужасное отступление, безнадёжное с самого начала: заторы, чехи, отбирающие на станциях паровозы, замерзающие составы, еле передвигающийся поезд. И полная неизвестность впереди.
Россия гибла. Гибло дело всей его жизни. Гибла армия. Боже, как похоже было замерзающее в снегах белое воинство на те белые ландыши, которые Анна получила от Александра Васильевича, покидая Гельсингфорс. Белые, чистые цветы, они оказались так беззащитны перед дорогой и холодом! И в увядшей их красоте почудилось тогда недоброе предзнаменование. Почернели и увяли белые цветы, не выдержав стужи, и также гибла теперь в ледяном плену Белая Армия. И почернело от муки и усталости лицо её рыцаря, оставленного всеми…
Измена началась в Новониколаевске, совершилась в Нижнеудинске и была закреплена в Иркутске. В Иркутске Александр Васильевич должен был быть передан чехами Высшему Союзному Командованию, но, в результате сделки генерала Жанена с большевиками, был предан в их руки, став платой за беспрепятственный проезд чехов с их награбленным имуществом…
В вагоне Александра Васильевича ехало около сорока человек. После сообщения о скорой сдаче, которое принёс начальник эшелона, они растерянно столпились вокруг него, Анна сидела рядом, держа его за руку, тревожно ожидая развязки. В вагон заглянул чехословацкий офицер и сообщил:
– Господин адмирал, сейчас вас передаём местным властям.
– Где же гарантии генерала Жанена? – устало спросил Александр Васильевич.
Он поднялся, прощаясь, взял за руку Анну Васильевну, но она не собиралась прощаться. Она решила быть с ним до конца и сказала твёрдо:
– Я желаю разделить участь Александра Васильевича.
– Адмирала Колчака, очевидно, ждут всевозможные последствия, – предупредил чех.
– Это не имеет для меня никакого значения, я хочу быть с ним до конца.
Из вагона они вышли рука об руку. В здании вокзала им было объявлено об аресте…
И потянулись дни заключения. Холодная одиночная камера, записки, встречи на прогулках. Он старался не говорить о больном, вспоминал счастливые дни, оставшиеся в прошлом, рассказывал о своём плавании в Америку. И был совершенно уверен, что участь его предрешена.
– Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось – только бы нам не расставаться…
– Я слышала, Каппелевцы уже под Иркутском. Генерал Войцеховский выдвинул ультиматум. Он требует твоего немедленного освобождения!
Мерцала едва-едва надежда. Если бы помиловал Господь! А нет, так и обоим погибнуть – третьего не дано. Анна Васильевна то и дело опускала глаза, чтобы скрыть набегавшие слёзы.
– Голубка моя, спасибо за твою ласку и заботы обо мне. Как отнестись к ультиматуму Войцеховского, не знаю, скорее думаю, что из этого ничего не выйдет или же будет ускорение неизбежного конца. Я только думаю о тебе и твоей участи – единственно, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь – ибо всё известно заранее. Этого не нужно бояться. Ничто не даётся даром, за всё надо платить – и не уклоняться от уплаты. Я часто думаю – за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за тебя – я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не даётся даром…
Невесел и бесславен вышел итог сулившего много пути. Оглядывался назад Александр Васильевич и не уставал посыпать солью незаживающие раны. Он был полярным исследователем и мог бы принести много пользы в этой области, но не достало времени, чтобы довести до конца начатую работу. Он был хорошим офицером и командующим флота, на его счету было немало удач, но пьянящего кубка настоящей победы так и не довелось испить. Он был Верховным правителем огромной части России, первым в списке врагов совдепа, и эту борьбу проиграл. Только и было счастье в жизни – Анна Васильевна… И лишь она, единственная, не отреклась, не покинула, осталась рядом, когда бежали все. Даже те, кому доверял совершенно, от кого не мог ждать предательства!
Поразительная подлость чехов, отказ «союзников» от своих обязательств (только рыцарственные японцы остались верны своему слову!), измена собственных министров – всё это не удивляло. В этом подлом сговоре каждая сторона преследовала свои цели. Чехи хотели как можно скорее покинуть Россию со всем награбленным, как уже сделали французы, англичане и прочие трусы. Жанен также желал поскорее завершить свою миссию, да и с первого дня не заладились отношения с ним. Министрам нужно было спасти собственную шкура, заслужить её любой ценой. Большевикам и Политцентру, пришедшим к власти в Иркутске, был нужен Колчак и золото. Судьба была предрешена!
Но самый тяжёлый удар Александр Васильевич получил в Нижнеудинске. Из Иркутска пришла телеграмма от Совета министров с требованием отречения правителя от власти и передачи её Деникину. Колчак согласился и одновременно назначил, переборов личную неприязнь, правителем Восточной окраины России атамана Семёнова. В это время начальник штаба генерал Занкевич доложил о предложении чехов:
– Чешский комендант предложил сегодня вывезти вас, Ваше Высокопревосходительство, в одном вагоне до Иркутска. Это предложение не чешского коменданта, это предложение командующего союзными войсками генерала Жанена.
– Вы же знаете, что я ни за что не соглашусь бросить преданных мне людей на растерзание большевикам.
– Чехи дали понять мне, что получили указание не препятствовать, если вы захотите покинуть эшелоны и уйти в Монголию…
– Эта мысль мне нравится. Я согласен на любые испытания, лишь бы не зависеть своим спасением от чехов. Назначаю вас начальником экспедиции! Какими средствами передвижениями вы считаете возможным воспользоваться?
– Я считаю возможным двигаться на автомобилях совместно с конно-санным транспортом. Считаю, что вашего конвоя из пятиста человек вполне достаточно, чтобы пробиться в Монголию.
– Соберите конвой перед моим салон-вагоном…
Конвой был собран, и в наступающих сумерках Александр Васильевич выступил перед ними с краткой речью, закончив её словами:
– Желающие могут остаться со мной и разделить участь до конца, остальным предоставляю полную свободу действия.
К утру весь конвой, кроме нескольких человек, покинул его и ушёл в город… Покинули люди, которые всюду сопровождали его, которым он верил совершенно, в чьей преданности не сомневался, люди, ради безопасности которых он отказался от предложения союзников… Вечером в вагоне собрались офицеры, сопровождавшие его. Им Александр Васильевич предложил совершить поход через Монголию. Неожиданно поднялся капитан второго ранга и спросил:
– Ваше Высокопревосходительство, ведь союзники соглашаются вывезти вас?
– Да…
– Так почему бы вам не уехать в вагоне, а нам без вас будет легче и удобнее.
– Значит, вы меня бросаете?
– Никак нет. Если вы прикажете, мы пойдём с вами.
Александр Васильевич ничего не ответил, а на утро обречённо сказал Занкевичу:
– Все меня бросили… Делать нечего, надо соглашаться и ехать… Продадут меня эти союзнички…
Подойдя к замёрзшему окну, взглянул на перрон. Поезд был оцеплен чехами. Внезапно сквозь их цепь прорвался русский офицер и отдал честь своему правителю … Ещё не все предали, ещё кто-то хранил верность. Ответным отданием чести приветствовал смельчака.
Какова цена клятвам в верности? Людским обещаниям? Уже давно чувствовал Александр Васильевич, что преданность большинства определяется наличием побед. Когда были победы, всё было хорошо, когда наступали неудачи – очевидно становилось, что никто не поддержит и никто не окажет помощи ни в чём. Всё основано только на самом примитивном положении – победителя и побеждённого. Победителя не судят, а уважают и боятся, побеждённому – горе! Вот сущность всех политических отношений, как внешних, так и внутренних. От побеждённого бегут все. И отчасти Александр Васильевич был готов к этому, понимая и принимая жестокий закон. Но не в такой степени…
Сколько людей было рядом, а верных не оказалось. И в Иркутске лишь одна единственная душа последовала за ним. Милая Анна Васильевна… Последний луч в кромешном мраке. Она ещё питала надежды на ультиматум Войцеховского, на помощь. Что же, надежда поддерживает дух. Сам Александр Васильевич не имел никаких надежд. Конец он ощущал так ясно, словно он уже наступил. Да и разве лучше вечное изгнание? Полководец, проигравший войну, должен сложить в ней свою голову, чтобы не пить позор поражения всю оставшуюся жизнь. Побеждённый полководец всегда сам виноват в своём поражении, он ответственен за всё, он, а никто другой, и поэтому горе побеждённым! Если война проиграна, а Россия обратилась Совдепом, то что осталось? Опять кондотьерствовать в чужом войске? Тихо угасать вдали от Родины? Что за жалкая участь…
Время прогулки подошло к концу. Хотелось крепче обнять милую Анну Васильевну, но под неусыпным надзором тюремного конвоя приходилось сдерживать порывы. Предупредил её на прощанье:
– За каждым шагом моим следят, и мне очень трудно писать. Пиши мне. Твои записки единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня, сохрани себя… До свидания, целую твои руки.
…И снова с грохотом захлопнулась тяжёлая дверь камеры. Восемь шагов в длину, четыре – в ширину. У одной стены железная кровать. У другой – железный столик и неподвижный табурет. На стене полка для посуды. В углу выносное ведро, таз и кувшин для умывания. В двери камеры было прорезано окошко для передачи пищи. Над ним небольшое стеклянное отверстие – волчок. Сколько часов мерил он это больше похожее на могилу пространство! Сон практически не навещал его, а тюремную пищу было невозможно есть. Оставаясь в этих четырёх стенах, Александр Васильевич испытывал всю тяжесть произошедшей катастрофы. Истерзанный мозг перебирал разные моменты сибирской эпопеи, напряжённо отыскивая, где же были совершены роковые ошибки, повлёкшие такой страшный конец? Если бы лишь для него – какая бы пустячная мелочь была! Но для всей армии! Для стольких людей! Для России!.. А, может быть, главная ошибка была в самом начале? В решении принять власть? Ведь уже тогда шёл за ним рок… И навлёк его на всё дело? Может быть, окажись у кормила кто-то другой, даже останься Директория, и сложилось бы иначе? Мысль о том, что он невольно стал причиной краха, не давала Александру Васильевичу покоя. Она являлась всякую ночь и изводила беспощадно. Как ни томительны были допросы, но сколь легче, нежели эти ночи, в которые мысли, как рой диких пчёл, немолчно гудели в голове, больно жаля, не допуская спасительного сна. От холода и растревоженных нервов давило грудь, мучил кашель. Свет гас ровно в восемь часов, и во мраке слышалась лишь ругань красноармейцев, суливших расстрелы и казни. Так длилось из ночи в ночь, и в эту, только приближающуюся, Александр Васильевич не надеялся сомкнуть глаз, прилёг ненадолго, но скоро встал. Чтобы не так ощущать пронизывающего, сырого холода, чреватого обострением ревматизма, надел шапку и шубу поверх шинели, ещё загодя утеплённой мехом заботливыми руками Анны Васильевны, привычно стал бродить из угла в угол.
Однако, обманчивая тишина этой ночи оказалась недолгой. После трёх в коридоре раздались быстрые шаги. Через мгновение на пороге возникли несколько тепло одетых красноармейцев во главе с комендантом тюрьмы Бурсаком и начальником ЧК Чудновским, чем-то очень похожего на младшего брата товарища Троцкого. Александр Васильевич не удивился их появлению. Он ждал их, и ещё раньше, чем Чудновский зачитал постановление ревкома о его расстреле, знал, зачем они пришли. Спросил лишь с горькой иронией:
– Как! Без суда?
Не понял чекист иронии, ответил гордо, раздувая крылья горбатого носа:
– Да, адмирал, так же как вы и ваши подручные расстреливали тысячи наших товарищей! – спросил, соблюдая форму: – Есть ли у вас какие-нибудь просьбы или заявления?
– Просьба есть. Я хотел бы проститься с женой.
– Это невозможно. Что-нибудь ещё?
– Больше ничего.
Ушла расстрельная команда, вернулась через короткий промежуток времени вместе с бледным, как полотно, не справляющимся с нервной дрожью Пепеляевым. Значит, и Виктору Николаевичу не удалось избегнуть «пролетарского суда». Александр Васильевич поправил папаху, нарочито медленно натянул перчатки, вышел из камеры, не оглядываясь. Гулкими шагами нарушая тишину одиночного корпуса, прошли по коридору, минуя двери, за которыми томились в ожидании своей участи другие узники. И среди них – дверь Анны Васильевны. Так и не привелось проститься… Мысленно благословил её в последний раз, воскресив перед взором любимые черты.
Ночь была морозной и ясной, луна равнодушно смотрела с высокого неба, серебря ледяным мерцанием голубоватый снег. Полурота красноармейцев, выстроенная во дворе, окружила осуждённых, двинулись сквозь ночь по берегу реки Ушаковки. По небу мелькал луч прожектора, а из предместий явственно доносились звуки выстрелов. Каппелевцы вели бои у самого города…
Наконец, дошли до места впадения Ушаковки в Ангару. Совсем рядом сияли купола и кресты Знаменского женского монастыря. Красноармейцы споро вырубили во льду прорубь, чёрная вода которой отразила безучастный лик луны. Остановились у самой кромки. Ни креста, ни могилы, а концы в воду? Ирония судьбы… Вода не поглотила шлюпку в Ледовитом океане, вода не потопила кораблей на Балтике и Чёрном море, а теперь вода этой проруби должна была сомкнуться над его головой. Ангара! Эту реку Александр Васильевич знал лучше других. Несёт она свои мощные волны к Ледовитому океану, туда, куда так рвался всю жизнь, откуда всё началось. И чем завершалось…
Полурота построилась в две шеренги.
– Смирно! – скомандовал Бурсак, обернул уголовную физиономию к осуждённым.
– Прощайте, адмирал, – подрагивающим голосом произнёс Пепеляев.
– Прощайте, – коротко откликнулся Александр Васильевич и, докурив папиросу, бросил окурок в снег, застегнулся на все пуговицы.
– Пора, – шепнул Чудновский Бурсаку, и тот с готовностью взмахнул рукой:
– Взвод, по врагам революции – пли!
Глава 16. Последний рывок
8 февраля 1920 года. Посёлок Иннокентьевский
– Это я во всём виноват… – уже в десятый раз повторил Кромин эти слова, сидя за массивным столом и невидяще глядя в замёрзшие окна.
Ещё вчера воскресали в омертвевшей душе, словно первоцветы из-под снега, хрупкие надежды. Как было не воскреснуть им после того, как армия разгромила большевиков сначала под Нижнеудинском, а после у Зимы. Бой у Зимы, на самых подступах к Иркутску сильно потревожил красных. Думали они, что сгинули Колчаковцы в тайге, что не способны сражаться. А те ударили на них, невзирая на в разы меньшую свою численность, не боясь ледяных окопов, надёжно защищавших большевиков, по глубокому снегу, не позволявшему использовать кавалерию. Сам Борис Васильевич шёл на красные окопы, увязая в снегу! Впервые в жизни… Невмочь больше было обозником ехать. Как-никак не обыватель он, а морской офицер! Сибирские снега, знамо дело, не океан, к ним своих флотских способностей не приложишь, но чтоб с винтовкой на перевес в атаку идти специальных наук и не требуется. Как рядовой солдат шагал в цепи каперанг Кромин, чувствуя, как загуляла по венам застоявшаяся от ледяной походной рутины кровь. Хорошо наступали, бодро, словно бы и не было красноярского позора. Дрогнули красные, стали откатываться, и спешно укатил в Иркутск их главком Калашников со штабом. И сами бы добили их, но нежданно-негаданно пришли на выручку – чехи! Стоял на станции их эшелон под начальством майора Пржхала, оказавшимся из тех немногих братьев-чехов, кто ещё верен был союзным обязательствам, традициям полковника Швеца. На свой страх и риск выступил он во главе конного полка и разоружил большевиков. Победа была полная! Правда, уже через несколько часов порыв Пржхала был остановлен Сыровым, приказавшим вернуть красным оружие и ничего не давать белым. Последний приказ, впрочем, исподтишка нарушался.
Тем не менее, победа была значимая. До Иркутска оставалось подать рукой, и большевики запаниковали. До того, что черемховские рабочие в страхе стали разоружать красноармейцев. Из города стали спешно эвакуировать всё ценное, а представители чехов и американцев выступили в качестве представителей большевиков на переговорах с генералом Войцеховским. Сергей Николаевич, посовещавшись со старшими начальниками, выдвинул ультиматум, при исполнении которого армия готова была обойти Иркутск во избежание кровопролития:
1. Немедленная передача адмирала Колчака иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу.
2. Выдача российского золотого запаса.
3. Выдача армии по наличному числу комплектов тёплой одежды, сапог, продовольствия и фуража.
4. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведших переговоры.
Ответственность иностранных представителей, обязательства большевиков… Отчего-то и не помыслилось тогда, что грош цена и тому, и другому. И о другом не помыслилось. Хотя так легко было догадаться, что никогда они не отдадут его. Как не отдали Государя. Паук никогда не выпускает из лап своей жертвы…
Первые слухи о том, что ночью адмирала убили стали доходить утром. Вначале не верилось. Хотя не самым ли логичным для большевиков был именно этот ход? Но слухи крепли: доносили о гибели Верховного и перебежчики, и чехи. И, наконец, собственная разведка подтвердила.
Понималось теперь, что иначе не могло быть, но не облегчало ни на йоту это осознание. Хуже новости не мог принести этот трижды проклятый день! Борис Васильевич вспомнил своё последнее свидание с адмиралом. На его лице уже тогда лежала печать… И в запавших глазах, и на челе, пересечённом глубокой морщиной, и в роковом изломе страдальчески сдвинутых бровей. В этом лице читалась вся его судьба. И сам он шёл ей навстречу по своему убеждению, что опасности всегда надо идти навстречу.
– Это я виноват… – стонал Кромин, сдавливая руками голову.
– Брось, Борис! – с лёгким раздражением прервал его Тягаев, закуривая папиросу, ловко высекая огонь одной рукой. – Причём тут ты?
– Ты ничего не знаешь! Ведь это я настаивал, чтобы он принял власть! Это мы состряпали заговор за его спиной, чтобы сделать его диктатором наперекор его воле! Я, покойный Пепеляев, другие…
– Вот оно что, – Пётр Сергеевич скривил бескровные губы. – А ведь всегда говорил тебе, Боря, не лезть в политику.
Он говорил… Правда, говорил. А Борис Васильевич всегда отмахивался, уверенный в своей политической зоркости. Смело судил обо всём, с долей снисходительного пренебрежения относясь к первобытной приверженности друга трону и его уклонениям от обсуждения животрепещущих вопросов. А, пожалуй, и прав был Тягаев? Кабы меньше языками мололи, так ничего бы и не вышло? Власть над своим языком – одна из наивысших добродетелей! А Кромину не давалась она. И полетел зачем-то в Сибирь из тихого Гельсингфорса. А лучше бы, много лучше бы сделал, если бы остался там. Затворялся в кабинете от домашней суеты, слушал истерики Эмилии, толстел от неподвижности и скуки… Пользы бы никакой не принёс, но и вреда бы не принёс. А это само по себе чем не польза?
– Если бы не мы, адмирал уехал бы на юг и был бы жив!
– Не говори ерунды, Боря. Жизнью и смертью заведует Бог, а не люди. Откуда ты знаешь, что бы стало с адмиралом на юге?
– Я знаю, что с ним стало здесь… Его все предали, все!
Все предали… Так и остался Александр Васильевич один среди как будто бы тучи людей, снующих вокруг и при этом отстоящих на расстоянии от него. Как в тот вечер, накануне переворота, когда он ещё не подозревал, что какие-то люди решили за него его судьбу, самовольно двигали его фигуру по шахматной доске в своей партии. И Кромин был среди этих людей! И он виноват первый, потому что ближе других знал Александра Васильевича.
– Все предали Государя, но это не приводило тебя, мой друг, в такое отчаяние, – обронил Тягаев с несвойственным ему прежде резонёрством.
– Государь сам отвадил от себя всех дельных и верных людей. Променял их на свою больную жену и своего проклятого, гнусного «старца»! Оставил вокруг себя одну шваль, которая сбежала при первом дуновении! Он сделал всё своими руками!
Пётр Сергеевич потушил папиросу, скосил на Кромина единственный глаз, ввалившийся, огромный, горящий неугасимым внутренним огнём:
– Вернулись к вечному спору. Очень ко времени! Я мог бы, Боря, сказать тебе, что адмирал тоже сам выбрал свою судьбу, оставшись до последнего в Омске и доверившись «союзникам», и был бы прав, но я не имею ни малейшего желания развивать этой темы. Иначе мы, пожалуй, разругаемся.
Борис Васильевич также не имел охоты развивать больную тему. Совсем иная измена изводила его теперь. Измена собственная. Пусть и невольная, но не ставшая оттого простительной. Он обещал быть рядом с адмиралом, обещал помогать ему. А чем помог? Во весь этот омский период? Что сделал полезного? Помощник Верховного Правителя! А ведь гордо звучало! И ощущал себя Кромин на этой «должности» значительной фигурой. Ох и глупец был… Ох и глупец… Значительная фигура! Несчастная пешка… А кем был в этой игре Александр Васильевич? Королём, который многое видит, но крайне скован в своих передвижениях. Отчего-то в шахматах король всегда столь беззащитная фигура? Выше любой иной, но беззащитнее. Для успешной партии кроме короля нужен ферзь. А ферзя не было. Ферзя потеряли где-то. То ли под стол завалился, то ли другое что. И не сумели заменить. Ни одна пешка так и не вырвалась в ферзи, хоть многие такими себя мнили. Да и сам Кромин недалёк был…
– Я должен был с ним ехать. Разделить до последнего часа его судьбу.
– Ведь адмирал сам приказал тебе уехать. Ты лишь исполнил приказ. Здесь тебе не в чем себя упрекнуть.
– Ты не понимаешь! Ведь теперь всё кончено, всё! – воскликнул Кромин. – Куда мы пойдём теперь?
– В Читу.
– За-чем?! – Борис Васильевич вперил в друга вопрошающий взгляд, пытаясь понять по выражению его исхудалого, как у схимника, лица, на самом ли деле он ещё верит во что-то. Но тот непроницаем был, лишь едва заметно подрагивали губы.
– У нас ничего не осталось… Никого…
Тягаев резко поднялся, надел папаху:
– Хотя бы затем, чтобы довести армию и людей до безопасной гавани. Хотя бы во имя памяти наших вождей. Приказом Войцеховского наша армия носит теперь имя Каппеля, и опозорить его мы не имеем права. Поэтому оставим наши чувства. Наш долг вести за собой людей. И вывести их. Как командир, я не могу себе позволить роскошь сходить с ума. И тебе, Боря, не советую. Есть Долг, и его нужно выполнять.
– Долг? У тебя, Пётр, он, действительно, есть. За тобой твои люди идут, и ты за них отвечаешь. А какой долг у меня? Я уже забыл, когда у меня был настоящий долг! Мой долг на Чёрном море был! На борту моего корабля! Я даже в Омске не вполне знал, в чём мой долг состоит, потому что у меня своего дела не было! Мой долг был быть с адмиралом, но и этот, единственный долг я выполнить не смог! Виктор Николаевич, с которым мы заварили ту ноябрьскую кашу, был с ним до последнего мига. Он заплатил жизнью за нашу политику… В этом был мой долг. Умереть вместе с адмиралом, если ни на что больше я оказался не годен.
В избу просунулся косматой головой Панкрат:
– Пётр Сергеевич, Главнокомандующий собирает очередное совещание. Приказано вам быть.
– Иду, – кивнул Тягаев. Он опустил руку на плечо поникшего Кромина, сказал твёрдо: – Очень тебя прошу, Боря, возьми себя в руки. «Огненной воды» выпей, в конце концов, – поставил на стол свою флягу, тряхнув, проверяя содержимое. – Ещё осталось немного. А лучше обожди меня. Вернусь с совещания, вместе помянем. Ну же! – зашагал быстро к двери.
Борис Васильевич проводил друга взглядом, глотнул из его фляги обжигающего сибирского самогона, вздохнул:
– Прощай, друг мой Пётр Сергеевич…
Новость о гибели Верховного громом грянула не только для Кромина, но и для всей армии. На совещании, срочно созванном Войцеховским, собрались все старшие начальники. Спорили яростно о том, что делать дальше. Больше всех горячился генерал Сахаров:
– Господа, я уверен, что Иркутск надо брать! Да, главная цель нашего быстрого движения к городу не удалась – Александр Васильевич погиб. Но тем не менее нужно взять Иркутск хотя бы для того, чтобы покарать убийц и искупить жертву великого человека!
По лицу генерала Молчанова пробежало неопределённое выражение. Викторину Михайловичу вспомнилось, как ещё в сентябре, при наступлении к Тоболу, адмирал, предвидя возможные осложнения в тылу, намеривался послать в Иркутск надёжную часть для охраны порядка в этом важном пункте. Выбор Верховного пал на Ижевскую дивизию, и тогда же к Молчанову прибыл для предварительной подготовки посланный Колчаком штаб-офицер, привезший Викторину Михайловичу подарок адмирала – погоны защитного цвета. Сговорились обо всём быстро. Молчанов целиком разделял опасения Александра Васильевича и готов был немедленно взяться за исполнение поставленной задачи. Но тут вмешался генерал Сахаров, в составе армии которого находилась дивизия, заявивший, что отправка Ижевцев ослабит фронт. И снялся вопрос с повестки дня… А когда бы не воспрепятствовал Константин Вячеславович, да твёрже оказался бы адмирал, то никогда бы не оказался Иркутск в руках большевиков! Не допустил бы этого Молчанов со своими молодцами. Был бы надёжный форпост для отходящей армии. А теперь, вот, вдохновенно убеждал Сахаров со своим обычным оптимизмом остальных начальников, что Иркутск необходимо брать. И выходило это, по его словам, как пара пустяков. Как Омск отстоять…
– По моим сведениям, у большевиков поджилки дрожат, и они не надеются удержать Иркутска! Я разговаривал с двумя чешскими солдатами, перешедшими на нашу сторону. Они говорят, что Иркутск взять – ничего не стоит! Рабочих-коммунистов всего несколько сотен, окопы наспех из снега построены и залиты водой. План их эти бравые солдаты обещали нарисовать.
– А не врут ли ваши молодцы, Константин Вячеславович? – усомнился Войцеховский. – Может быть, они большевистские провокаторы? Чешское командование угрожает выступить против нас с оружием в руках, если мы попытаемся взять Иркутск.
– Господа! – вмешался, заметно волнуясь, атаман енисейских казаков Феофилов. – Я прослужил в Иркутске долгие годы, я знаю там каждую складку местности, каждую тропинку! Мои казаки уже входили сетью разъездов в самое предместье города! Мы возьмём Иркутск без всякого риска неудачи! Мы не имеем права отказаться от этой цели! В большевистских тюрьмах находится масса офицеров, в их руках наш золотой запас и огромное военное имущество! Просто преступно оставить им всё это!
– Не менее преступно рисковать нашими людьми, – ответил Сергей Николаевич. Сцепив тонкие пальцы и чуть наклонив вперёд продолговатое лицо, он развил свою точку зрения: – Вам всем не хуже меня известно, что наши части на данный момент представляют сплошные транспорты тифозных. На дивизию не наберётся более трёх сотен здоровых. Что станет со всей этой массой людей при неудаче? К Байкалу ведёт одна единственная дорога. Если чехи сдержат угрозу и перекроют её, мы погибнем. Если мы откажемся от овладения Иркутска, они не станут препятствовать нашему обходному движению.
– Опять обход!
– Я не верю, что чехи выступят против нас! – воскликнул Сахаров.
– А я очень даже верю, – холодно отозвался Войцеховский, и лицо его стало ещё более сосредоточенным и сумрачным. – Неудача может стать гибелью. Это огромный риск. А во имя чего? Значительных групп белых, ожидающих нашей помощи, в городе нет. Имущество? Красные, по донесениям разведки, увели из города абсолютно всех лошадей, а наши наличные перевозочные средства столь скудны, что не позволят нам увезти даже тех запасов, которые мы нашли здесь, в Иннокентьевском. У нас мало людей. И ещё меньше патронов. Как вы предполагаете взять город без патронов? В том, что чехи могут выступить против нас, я ни секунды не сомневаюсь. А, вот, в чём я сомневаюсь, так это в ничтожности сил большевиков. Я думаю, господа, что это обычный манёвр. Они отступили, чтобы ослабить нашу бдительность, заманить нас в ловушку, а затем обрушиться всей мощью, проведя контратаку. Исходя из всего вышесказанного, я не считаю возможным штурм Иркутска.
Абсолютное большинство присутствующих согласились с мнением Главнокомандующего. И только Феофилов с Сахаровым продолжали упорствовать.
– Сергей Николаевич, мои люди рвутся в бой! – горячился Константин Вячеславович. – Они не боятся ни большевиков, ни чехов и мечтают поквитаться с последними.
– Это всё эмоции, – резко ответил Войцеховский. – Солдатам и молодым офицерам они извинительны, но мы с вами не имеем права ими руководствоваться.
– Сергей Николаевич, разрешите провести налёт на город с юга одними моими силами! С генералом Феофиловым мы составили надёжный план и не сомневаемся в его успехе!
– Так точно, ваше превосходительство, – подтвердил атаман. – Мои люди внимательно исследовали местность. Большевики не ждут нас там. Мы нападём внезапно, и город будет наш!
Уверенность обоих генералов несколько поколебала Войцеховского. Однако, поразмыслив некоторое время, он повторил твёрдо:
– Генерал Сахаров, я категорически запрещаю вам брать Иркутск, – и добавил, обращаясь ко всем: – Выступление авангарда в обход города назначаю на одиннадцать часов ночи. Впереди пойдут Ижевцы, Егеря и вы, Константин Вячеславович. Я со штабом выдвинусь следом. Остальная армия пойдёт за нами. В Иннокентьевском до прохождения основных сил останется заслон, который будет демонстрировать подготовку штурма, чтобы отвлечь внимание большевиков. Всем ли ясен приказ?
– Так точно! – готовно ответили все, и лишь Сахаров с Феофиловым – глухо и с явным недовольством.
Снова заскрипели полозья по снегу, спешно укладывалось на подводы содержимое найденных в Иннокентьевском интендантских складов. Носильные вещи разобрали ещё загодя – для оборванной армии они подлинным подарком были. На всех не доставало их, а потому тот, кто успел поживиться, мог торжествовать. В этом смысле, более всех повезло шедшим в авангарде Ижевцам. Климент Артуганов справил себе новые валенки. Обтаптывал их по снегу:
– Тесноваты мальца, но ничего, разносятся!
Алёша обновами не озаботился. Ему и взятые из родного дома вещи ещё служили исправно. Хотя, вот штука – не спасли от простуды! Когда только пристала она? Тогда ли, когда шлёпнулся, заснув, с коня, и чуть было не остался навсегда лежать на тракте? Вот уж не думал Алексей, что его молодой, здоровый организм, сызмальства приученный к сибирским морозам, подведёт его так не ко времени. Разбаливался который день, и всё тяжче становилось дышать – захлёбывался кашлем.
– Тебе, Юшин, в обоз лучше, – посоветовал Клим. – Куда тебе идти? Ты больной совсем.
– Ерунда, – отмахнулся Алексей. – Я не баба и не младенец, чтоб в обозе тащиться. Не хуже вас пойду.
– Как знаешь! – пожал плечами Артуганов. Он был изрядно раздражён приказом об обходе Иркутска, говорил со злостью: – Думал, хоть здесь дело будет! Так нет! Опять «понужай»! Допонужаемся так до самой границы! Взяли бы Иркутск в два счёта, и попробуй вышиби нас! И чехам этим всыпали бы за всё «хорошее», запомнили бы они нас! А теперь опять – чехи в классных вагонах, большевики в Иркутске, а мы, как загнанные волки, обходными тропками сквозь ночь крадемся! Эх, нет с нами Каппеля! Он бы Иркутск взял!
– Помолчи ты, балалайка, – прервал его Митяй. Этот темнолицый, хмурый мужик в противоположность брату был предельно немногословен, и Климова болтовня явно сердила его. – Без тебя, генерала, не разберут, как нам идти следует. Чай, не дурнее тебя наши командиры! А наше дело солдатское: куда скажут, туда и идти.
Время шло к одиннадцати, и Ижевцы, построившись, выступили в путь, пролагая его для остальной армии. Весь поход они шли в арьергарде, сдерживая натиск красных, не давая им настигнуть армию. На них легла самая тяжёлая задача, и Ижевцы достойно справились с ней. Теперь же, когда наибольшая опасность могла грозить впереди, им досталось возглавить колонну, чтобы, в случае надобности, грудью встретить противника и заслонить от него основные силы. Алексей окончательно пристал к Ижевской дивизии в Подпорожном, отстав от своих Барнаульцев, ушедших по Енисею, и теперь шагал между рослыми братьями Артугановыми, опираясь на винтовку и борясь с приступами разрывающего грудь кашля. Ощутимо потряхивал озноб, и Алёша чувствовал, как, несмотря на холод, тело и лицо покрываются потом. Ах как не ко времени разболелся! Обидно свалиться на последнем переходе.
Из-за скрывших звёзды и месяц туч и разыгравшегося снежного буруна, лес стал ещё чернее. На расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно было. Шли вслепую, полагаясь на опытных проводников. Иногда проносились мимо тени всадников. Вот, промчался к следующему позади штабу адъютант генерала Молчанова Ещин, славившийся умением любое донесение облекать в стихотворную форму.
– Вот, с кем бы не поскучали! – осклабился Климент. – Давеча он стихи свои читал. Жаль, у меня памяти на них, натурально, нет. Развеселил, умница! Эх, братцы, может, спеть нам нашу походную, а?
– Поголоси ещё, – грозно одёрнул Митяй. – Как раз большевиков на нашу душу накличешь! С твоей-то трубой иерихонской!
– Злой ты, брат, – покачал головой Артуганов. – Злой.
– Поди ты! – Митяй прибавил шагу и исчез в темноте.
– А что, капитан, как там поживает спасённая вами егерша? – спросил Климента один из идущих рядом бойцов. Знать, соскучились усталые люди, плутая во вьюжной круговерти, а кому ж было взбодрить, как не Артуганову, всегда имевшему про запас дюжину анекдотов?
– Больше я этих баб спасать не буду! – полушутя заявил Клим. – Натурально, самые неблагодарные существа!
Рядом хохотнуло несколько голосов. Не удержался и Алёша от улыбки. История спасённой егерши была ему хорошо известна. Заслуги Артуганова, впрочем, в этом деле не было никакой. Егерский батальон попал в засаду красных. Большевики предложили Егерям сдаться, пообещав им жизнь. И те, наивные, поверили… Слова своего «товарищи», само собой, держать и не подумали и тотчас по разоружении изрубили сдавшихся вместе с их жёнами и детьми – в общей сложности, двести человек. Страшную картину этого побоища застали следовавшие за Егерями части. Навстречу им выбежала обезумевшая женщина, умолявшая спасти её. Она единственная уцелела в устроенной большевиками бойне, успев добежать до ближайшего посёлка и укрыться в курятнике. Несчастную, разумеется, взяли в обоз, где она постепенно стала оправляться от пережитого. Особенную заботу о егерше проявил вездесущий Артуганов, навещавший её, подкармливавший, старавшийся развеселить. Но, знать, не пал бастион под натиском…
– Неужто вы потерпели поражение?
– Артуганов никогда не терпел поражений! Просто я, как наше командование, решил, что крепость не стоит штурма, и предпочёл обходной манёвр!
Ещё зычнее хохотнули в темноте.
– Вот, скажи мне, брат Юшин, – Климент и сам развеселился, получив возможность поразглагольствовать, – что этим бабам надо? Я к ней, натурально, со всей душой, а она предпочла какого-то безусого корнета! Решено, если доберёмся до мирной жизни, оставлю честный труд и буду зарабатывать на хлеб с маслом карточной игрой! Натурально, должно же хоть в этом повезти! Раз так заклято не везёт в любви! Ни к женщинам, ни к Родине, которая, в сущности, есть та же женщина!
– Удивляюсь я тебе, Клим, – сквозь кашель выговорил Алёша. – Как ты можешь среди этого ада думать о бабах?
– А чём же прикажешь думать? – развёл руками Артуганов. – О Родине и о нашей судьбе? Дак ведь от таких мыслей впору в петлю влезть или свихнуться! А я, Юшин, хочу жить и сохранить рассудок.
– Могу лишь позавидовать твоему жизнелюбию.
– Завидовать не надо! Жизнелюбию надо учиться! – назидательно произнёс Климент.
Внезапно впереди сквозь вьюжную мглу и ветви деревьев замигало множество огоньков.
– Это что ещё? – удивился Артуганов, останавливаясь.
– Что случилось? – раздался позади голос генерала Сахарова.
– Проводники сбились с дороги, – донёсся ответ Викторина Михайловича. – Это Иркутск. Наши походные заставы подошли почти к самому предместью. Видно, здесь большевики не ждут нас!
– Чёрт! – Климент Алексея за плечо: – Чуешь, Юшин, чем дело пахнет? Сейчас бы и ударить, а? Врасплох бы застали и шабаш! Ведь сам Бог шанс посылает! Сам Бог вывел нас к городу! Тыкнул буквально: «Берите!» А, Юшин? Сейчас бы и айда! Чего молчишь-то?
Алёша почувствовал, как невыносимо закружилась голова. Он выронил винтовку и рухнул на колени. Кашель душил его.
– Юшин, дери твою мать! – Артуганов подхватил Алексея под руки, поднял, тряхнул: – Да ты горишь весь! Говорил же, в обоз надо!
– Ничего, ничего… Сейчас пройдёт… – задыхаясь, шептал Алёша, ещё и сам веря, что сможет идти дальше.
В это время послышался недовольный голос Главнокомандующего, обращённый к генералу Сахарову:
– Что это, нарочно вы хотите настоять на своём, ваше превосходительство? Ведь я приказал определённо – Иркутска не брать!
– Ах, дьявол! Сейчас всю песню испортит! – выдохнул Артуганов, разглядев в темноте тонкую фигуру Войцеховского.
– Сергей Николаевич, никакого нарушения с моей стороны нет, – начал объяснять Сахаров положение. – Проводники сбились с дороги, и выход к Иркутску стал для меня и моих подчинённых полной неожиданностью!
– Так точно, ваше превосходительство, – подтвердил Молчанов.
– Но позвольте заметить, что эта неожиданность может быть знаком судьбы! Большевики нас не ждут. Грех не воспользоваться этим! – Сахаров начинал горячиться. – Мы сможем занять город без боя и без потерь!
– Константин Вячеславович, занять город – мало. Нужно ещё иметь довольно сил, чтобы удержать его. А у нас их нет. Менять налаженные и отданные распоряжения возможным я не считаю. Приказываю продолжать движение к Байкалу!
Войцеховский ушёл, и колонна стала отодвигаться от города. Снова сомкнулись ветви тайги, сгустился мрак, и последние огоньки заветного города угасли позади.
– Прощай, Иркутск! – вздохнул кто-то…
Глава 17. Москва уходящая…
Первые числа марта 1920 года. Москва
– Хотите, князь, свежий анекдот? – Скорняков, видимо, полагал себя должным разряжать печальную атмосферу, и его ухищрения начинали надоедать Олицкому. – Загадка! Какой самый известный памятник на еврейском кладбище? Ответ: Минину и Пожарскому! Или вот ещё. Если за столом сидят шесть советских комиссаров, то что под столом? Ответ: двенадцать колен Израилевых!
– Где вы только собираете все это, Тимофей Лукьянович?
– А зачем же мне собирать? Мне «всё это» сами приносят! Агентура! – Скорняков ощерил крупные зубы.
– С указанием, кто эти весельчаки, что смеют так опасно шутить?
– Бывает, что и с указанием. Да ведь это не по моей части! Политикой у нас ведомство Дзержинского занимается, а я себе хлебушко мирным честным делом добываю: ловлей жулья. Сколько ж теперь этого товару стало! Такое ощущение, что жулики кругом!
– Тимофей Лукьянович, да ведь так оно и есть. Разве мы с вами, допустим, не жулики? Разве не разбирали заборы, чтобы как-то обогреться зиму? Это теперь долг каждого порядочного человека стал: тянуть всё, что худо лежит – будь то доска от казённого забора или карандаш в конторе. Прежде в голову бы не пришло никому! А теперь тащат сплошь. На чёрный день. На всякий случай. Привычка!
– Да чёрт бы с этим. Но ведь банды орудуют! Под Москвой намедни шестнадцать человек к Богу в рай отправили! С ног мы сбиваемся, чтобы с нечистью этой сладить.
– И не сладите, – посулил Олицкий. – Слаживать надо с этими самыми коленами, о которых вы только что шутить изволили. Отняли у народа веру, достоинство, совесть… А народ только и был народом, покуда всё это хоть сколько-то в наличии оставалось. А как свободу от совести дали, так и обратился в шайку. А вы попробуйте изловите!
Скорняков с хрустом повёл широкими плечами:
– Говорят, будто бы клоуны Бим и Бом дают очень смелые представления. Рассказывают такой номер. Перед троном, на котором знаки царской власти лежат, борются двое людей: один в белом балахоне, а другой – в красном. И в увлечении борьбой не замечают, как на троне усаживается «некто в пейсах». Тогда ещё один артист разнимает их, указывая на трон: «Чего вы дерётесь попусту, – разве не видите?» А они в ответ: «Мы-то видим, а вот эти дураки чего смотрят?» – и пальцем на публику показывают.
– Обывательские сплетни, – Олицкий махнул рукой. – Никогда не поверю, чтобы они такие номера отчебучивали. Давно бы их в ЧК оприходовали…
– И я того же мнения. Но согласитесь, очень забавная вышла сцена!
Князь промолчал. Его не веселили шутки Скорнякова. И только ещё отчаяннее скреблись кошки на душе. Последние месяцы Владимир Владимирович жил с ощущением какого-то небытия. Будто и вовсе не жил. Двигался, говорил, таскал дрова и воду, но внутри словно умерло всё. Это была не жизнь, не выживание, а доживание по инерции. Безнадёжное.
Смерть Миловидова стала для Олицкого ударом, гораздо более тяжёлым и болезненным, чем можно было ожидать. Часто споря с Юрием Сергеевичем, князь в душе всегда глубоко уважал и любил этого человека и дорожил дружбой с ним. Он видел, что профессор угасает, переживал за него, но не мог подумать, что всё именно так кончится. В тот проклятый день Владимир Владимирович задержался, встретив старинного приятеля, а, вернувшись, застал жену сильно взволнованную и в слезах. Рассказала, что приходила какая-то женщина, что у Юрия Сергеевича был приступ, а потом он ушёл куда-то, даже пальто забыв.
– Я не заметила, как он ушёл! Не поспела удержать! – ломала руки Надя. – Всё из-за моих ног! Нужно срочно его найти!
Хорошо было сказать – найти. Кого мог найти Владимир Владимирович? Не Скорняков же… Знать хотя бы, что произошло! А тут и прояснилось: пришла Ольга Романовна и прочла оставленное ей письмо. Оказалось оно от пасынка Николеньки. Писал, что жив и сам он, и отец, и брат Пётр. А ещё, что погиб Лёвушка Миловидов… И, вот, крест свой завещал передать отцу… А крест этот тут же лежал. Ольга Романовна только за сердце схватилась:
– Володя, бегите! Ищите его!
А Олицкий растерялся. За окном уже вечер непроглядный был, снег с дождём лепил. И понимал, что надо идти, а куда? На счастье, Скорняков явился. Тому долго объяснять не надо было, что к чему. Как собака охотничья, побросал принесённые дрова и поспешил на розыски. И Владимир Владимирович с ним. Всю ночь прометались по улицам – без толку. Чудо ещё, что пневмонию не заработали с того раза. Уже чувствовали, что непоправимое произошло, но искали, не хотели мириться. Потом отправил Скорняков продрогшего князя домой, сам обещался дать знать, если что.
Никто в ту ночь глаз не сомкнул. Герман Ильдарович, чёрный, как головёшка, рассказал о своём последнем разговоре с Миловидовым. О самоубийстве говорили… В глазах мутнело – неужели?.. Сокрушался Сапфиров, что отпустил профессора одного, не пошёл с ним. И Надя, бедняжка, рыдала, не могла себе простить, что не доглядела. Если бы могла знать! Да ведь думала обычный обморок! Бывало такое прежде с Юрием Сергеевичем. Надо же было сообразить письмо прочесть. Да неудобно. Не ей адресовано было. Ах, какие глупые условности! Из-за них сколько важного не говорится и не делается подчас! И Олицкий в общем тоне виноватым себя чувствовал. Хотя в чём, собственно… Разве что вот – заболтался со случайно встреченным приятелем. А не случись этого, а вернись он раньше, и мог бы изменить…
– Никто ничего не смог бы изменить, – тихо сказала тогда Ольга Романовна. – И никто не виноват. Только проклятое наше время…
Она не теряла самообладания. Держалась. И невозмутим опять доктор казался. Ну, с него, свежеиспечённого партийца, что взять… А сам Владимир Владимирович как-то не на шутку разбередил себя. Хоть самому следом…
А утром явился Скорняков. И дал знать… Что нашли. В реке…
Как ни тягостно было, а счёл Олицкий своим долгом все хлопоты о похоронах на себя взять. С батюшкой сговорился об отпевании, растолковал, что здесь самоубийство не вольное, а просто помутился ум от горя у изнервлённого и истощённого человека. Отпели, как подобает, по чину. И похоронили достойно. Ольга Романовна последнюю ценную картину продала, чтобы всё устроить. А людей мало пришло проститься. Теперь на похороны не больно ходили – у всех свои утраты невосполнимые были. Все их оплакивали. Да и откуда было узнать? О смерти близких узнавали часто месяцами спустя. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось: призри и посмотри на поругание наше: Наследие наше перешло к чужим, домы наши – к иноплеменным; Мы сделались сиротами без отца; матери наши – как вдовы. Воду свою пьём за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем – и не имеем отдыха… Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несём наказание за беззакония их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их»…
Не прошло и трёх месяцев, как навсегда опустился занавес в жизни-пьесе гениального Сапфирова. Герман Ильдарович сыграл свой последний спектакль, прошёл за кулисы и умер. Зрители вызывали мастера на бис, но на последний поклон он уже не вышел. В газетах по этому случаю появился скромненький некролог. Этих некрологов непомерно много стало.
Оглядывался Олицкий назад и немел от ужаса. Путь, усеянный могилами! Почти никого не осталось из тех, с кем был близок! Неужто уже и самому скоро?.. Нет, нет, не хватало ещё сойти с ума, как несчастный Миловидов! А немудрено сойти! Просто устать! Отупеть от этой жизни-нежизни! От жизни, сведшейся к животному уровню – к добыванию хлеба насущного, без которого не будет жив человек. От безысходности. Теперь уже совершенной, потому что Колчак расстрелян, а Деникин почти разгромлен…
И совсем холодело сердце, глядя на жену. Неужто её, друга единственного и незаменимого, ангела всей жизни тоже провожать придётся?.. Никого, даже родную дочь не любил так Олицкий, как свою Надю. Он и женился-то на ней наперекор родителям, считавшим купеческую дочь не подходящей партией для него. Да его это родительское неодобрение не очень смущало. Владимир Владимирович с юных лет либерален был и считал подобный деспотизм пережитком прошлого. К тому же и не ладились отношения с родителями, считавшими, что карьера музыканта не достойна отпрыска их старинного рода. А Наде нелегко было через волю своих родных перешагнуть. Но отважилась. Венчались тайно и сбежали в Москву. Потом много горького было. Погиб отец, и едва не повредилась умом мать, но со временем наладилось, и более четверти века прожили с Надей душа в душу. И теперь смотреть, как она, друг сердечный, угасает?!
Клял себя Владимир Владимирович, стыдил. Ведь сам же и виноват! Всё это время главную тяжесть «уступал» жене. Она, голубка, княжеское его достоинство, принципиальность его щадя, взвалила на себя все трудности. Ходила, как на работу, на Сухаревку, торговала. Там её оскорбляли, обирали, однажды подвергли аресту. С её-то душой тонкой! И ни разу не попрекнула, ни разу не указала, что это его обязанность добывать хлеб насущный, а не её. А он принимал такое положение, как последний подлец. Не может же князь, известный композитор среди базарных торговок стоять! С хамами дело иметь! А Надя вроде как и могла. Сама улыбалась: «Я дочь купеческая. Мне – в самый раз». Будто бы когда-то занималась купеческим делом… Это Сухаревка и доконала её здоровье. Это от многочасовых стояний на холоде стали невыносимо болеть, распухать её бедные ноги. Все эти тяготы должен был Владимир Владимирович нести сам. А не понёс. И за то чувствовал себя бесконечно виноватым перед женой.
Нет, не могло так продолжаться дольше. Нужно было спасать Надю. Спасать себя. Бежать! Князь по ночам стал просыпаться с одной этой мыслью: бежать! К чёрту миловидовское сентиментальное «умереть в России»! Где она – Россия, дорогой профессор? Нет больше России! А умирать в Совдепии от голода и грязи увольте! Продолжал уже с умершим спорить, самого себя стараясь убедить. И крепло решение. К тому же вновь угрожали уплотнением. Если бы не доктор с его связями (надо отдать должное – многим обязаны ему), то и уже бы уплотнили. Не хватало ещё дождаться какого-нибудь (передёргивало от мысли) «товарища» в собственной гостиной!
Конец всем сомнениям положило письмо дочери. Лена, удачно вышедшая замуж за сотрудника русского посольства в Швеции, спокойно пережила в европейской сравнительной тишине лихолетье и звала родителей приехать. Тут уже и Надя сомневаться перестала. Не о себе пеклась, но отчаянно дочь хотелось обнять и двух карапузов-внуков. Оставалось поговорить с Ольгой Романовной. И нервничал Олицкий перед этим столь непростым казавшимся ему разговором.
В это утро Ольга Романовна вышла из своей комнаты поздно. Это вошло у неё в привычку. Она вставала, как прежде, очень рано, но теперь подолгу молилась, прежде чем выйти. И ничего не ела на завтрак, ограничиваясь стаканом кипятка. Вот, и на этот раз, выпила его, цедя мелкими глотками, села в кресло, прямя спину, сложила худые руки на коленях, готова была слушать, что хочет ей важного сказать князь.
– Ольга Романовна, мы с Надей решили уехать, – объявил без обиняков, покосившись зачем-то на Скорнякова. – Лена приглашает нас к себе, и мы…
– Конечно, Володя, – Ольга Романовна кивнула. – Наде нужно лечение. Там ей наверняка станет лучше.
– Но это не всё…
– А что же?
– Ольга Романовна, я обещал вашему мужу о вас заботиться.
– Мы обещали, – вставил Скорняков.
Вот уж не лез бы!
– Мы обещали… Поймите, мы с Надей не можем уехать и оставить вас здесь. Квартиру непременно заселят Бог знает кем. И, если вы не поедете сейчас, то потом вам это станет гораздо сложнее. Мы все надеялись на Деникина. На Колчака. Но теперь надежды нет. Я прошу вас, Ольга Романовна, поехать с нами. Если вы не поедете, мы не простим себе…
В грубоватом лице Скорнякова Олицкий прочёл насмешку. Опять, мол, вы, ваше сиятельство, про себя думаете. О своей совести беспокоитесь. Мы всё равно уедем, но вы нам нашу совесть облегчите. А, может, этого и не думал Скорняков вовсе. А собственная совесть мучила и за неимением поблизости другого принимала облик мужиковатого сыщика.
– Не продолжайте, Володя, я всё понимаю, – откликнулась Ольга Романовна. – И я поеду с вами. Здесь меня уже ничего не держит… Это уже не мой дом. Не моя Москва. Я поеду с вами и попытаюсь добраться до Юга. Может, хоть мужа ещё приведёт Господь увидеть… – встала, не касаясь ладонями поручней, и ушла к себе…
Умереть было бы легче… Легче, чем вынести то, что пришлось пережить этой зимой, самой страшной из всех московских зим последней поры. Кто не переживший этого поймёт? Поймёт, что значит видеть, как день за днём умирает рядом с тобой самое дорогое тебе существо, невинный ребёнок, который никому не сделал зла? Видеть мучения его и не мочь облегчить? Почему она, старуха, никогда не отличавшаяся чрезмерным здоровьем, пережила все эти зимы и до сих пор жива, и даже имеет силы, чтобы время от времени ходить и торговать на ненавистную Сухаревку? По-че-му?..
Илюша заболел внезапно. Простыл и стал кашлять. Вначале о страшном не думалось. Тем более, что Дмитрий Антонович был рядом. И доставал нужные лекарства. В самом деле, мальчику вскоре полегчало. Он стал вставать, играть. И уже поправился почти. И тут-то и подстерегло несчастье. В январе от сильных морозов вновь полопались все трубы, и пришлось ходить за водой к проруби. Ходили Тимофей, Володя и доктор. Чаще других, Володя, так как остальные слишком заняты были на службе. А с ним бегал и Илюша, норовивший непременно чем-нибудь помочь старшим. Промочил ноги где-то и не сказал, а Володя, конечно, не заметил… Вечером Илюша уже лежал в жару, и бесстрастный доктор констатировал у него крупозное воспаление лёгких.
Дни и ночи напролёт не отходила Ольга Романовна от постели больного внука. Забыла напрочь о том, что нужно есть и спать. Молила Бога, чтобы отвёл беду, чтобы чашу сию мимо пронёс. А Илюше всё хуже становилось. Он задыхался, метался, звал бабушку, сидевшую тут же, сжимающую его маленькие ладони и плачущую. Иногда приходил в себя, лежал, непривычно тихий, исхудавший, смотрел ставшими огромными страдальческими глазами (не дай Бог видеть такие у родного ребёнка – пережить нельзя!).
– Бабунечка, ты не плачь. Дмитрий Антонович сказал, что я скоро поправлюсь. Бабунечка, а скоро мы опять на Сухаревку пойдём?
– Скоро, солнышко. Вот, поправишься, и пойдём. Будем с тобой шить варежки и продавать их. Говорят, за варежки теперь можно хорошие деньги выручить. Сахару купим. А, может, и леденчиков…
– Я варенья хочу…
– Летом мы обязательно купим много ягод и наварим варенья.
– Бабушка, на много нам не хватит денег.
– Продадим дедушкины вещи, и хватит…
– Дедушкины вещи нельзя продавать. Он приедет, а их нет. Он на нас рассердится.
– Не рассердится, золотко. Спи.
– Бабунечка, если я всё-таки умру, как та женщина, которая у нас жила, то ты положи со мной моих солдатиков. Мне без них будет скучно. А остальные игрушки отдай Жене и Коке. Им они всегда очень нравились… И, когда мама с папой вернуться, скажи, что я их очень любил. Очень-очень.
Последнюю волю внука она выполнила. Положила в его маленький гроб солдатиков, а остальные игрушки отдала двум мальчишкам с Сухаревки, с которыми Илюша дружил. Оба они очень плакали, узнав о его смерти.
Последнюю ночь Илюша уже не говорил, а только хрипел натужно, пылали ввалившиеся щёки. По временам вскрикивал страдальчески:
– Бабунечка! Бабунечка, больно! Бабунечка, спаси меня!
Даже доктор, столько смертей видевший, всегда спокойный, нервно покусывал губы. Когда дыхание Илюши оборвалось, Ольга Романовна потеряла сознание. Она пролежала, как мёртвая, два дня, безумно пугая ухаживающую за ней Надю. А молчала и вовсе до девятого дня, словно утратив дар речи. А потом сказала охрипше:
– Это она его с собой забрала, не оставила мне… Это мне кара…
Часто снилась теперь Ольге Романовне дочь. Снилась чаще ещё молодой, здоровой, красивой. Иногда – вместе с Илюшей. Так и не узнал сердешный, что «та женщина» его мамой была. Так и не обнял её, а так мечтал. Или теперь уже обнял? Там? К ней и ушёл? За ней? Чтобы ей там не так одиноко было… Забрала-таки сына, не оставила…
Дни сливались с ночами, а ночи с днями. Но ещё теплилась лампада. Жив ещё Петя. И сын жив. И, значит, надо жить для них. Нужно выдержать, справиться… Тяготы физические совершенно перестала чувствовать Ольга Романовна. Голод, холод, грязь, домком, сутолока Сухаревки – всё это уже не томило её. Всё отошло, всё показалось мелочным и неважным. Даже если бы подселили теперь в её квартиру «товарищей», уже бы ничего не дрогнуло в душе.
Предложение Олицкого ничуть не удивило её. Удивило только, что так долго терпел он. Может, ещё много раньше надо было уехать, не цепляясь за родной очаг… И тогда бы Илюша был жив? Согласилась ехать без трепета. Уже внутри себя примирилась Ольга Романовна, что всё родное придётся оставить. Да и стоит ли о том так печалиться? Не зря все святые учили не прикрепляться душой к вещам, которые завтра могут сгореть и быть расхищены. Нагими вошли в этот мир, нагими и уйдём. И, слава Богу, что всё это, покидаемое, так долго было у нас.
Сидела, сомкнув руки, в глубоком кресле за письменным столом. Этот стол зимой едва не пошёл в топку вслед за многими другими предметами мебели. Но пожалела. До новой зимы. И фортепиано пожалела, и теперь слышались его печальные звуки из-за стены: Владимир Владимирович окоченелые пальцы разминал.
Ольга Романовна скользила по развешанным и расставленным в кабинете фотографиям, по родным лицам. Остановилась взглядом на портрете мужа.
– Вот и всё, Петенька. Вот и всё… Бегу, как от пожара. Не надеясь ничего спасти… И тебя нет рядом! И твоего совета не спросить! Что же мне делать? Вещи нужно будет собрать. А много ли увезёшь с собой? И что же взять?.. Что же ты молчишь? Посоветуй мне!
Тёрла кончиками пальцев виски, пыталась сосредоточиться. Взять, что наиболее дорого. В чём история семьи заключена. Письма, фотографии, несколько реликвий фамильных… Иконы… Что-то из ценных вещей оставшихся, что там продать будет можно. Взглянула на библиотеку, мужем столько лет и с такой любовью собираемую. Это не вывезти уже. Не спасти. Разве что отдельные, самые дорогие для Пети книги. Их надо взять непременно для него.
Бродила Ольга Романовна вдоль распахнутых шкафов, брала некоторые вещицы, задерживаясь взглядом на каждой, вспоминая прежнюю жизнь. Словно Робинзон с тонущего корабля, она пыталась спасти хоть что-то для новой, неведомой жизни. Слишком много выходило. Столько брать нельзя. Мудрецы советуют брать столько, сколько можешь унести. Что может унести на своих плечах старуха? Нет, это преувеличение. Нужно золотую середину найти. Не брать лишнего и не оставить необходимого. «Лёгкая» задача! Ведь всё, всё необходимым кажется! Ко всему прикипело сердце! С каждой мелочью дорогие воспоминания связаны!
Читала названия книг, доставала некоторые и ставила назад. Брать только те, которых уже потом не восстановить. И те, которые наиболее дороги. Тех и других аккурат на чемодан наберётся, пожалуй. Глупость? Сентиментальность? Тащить чемодан книг в неизвестность… Но Петя бы именно так поступил. Это Ольга Романовна точно знала. Он бы необходимое оставил, а книг бы не посмел бросить. А она так и готовилась к сборам, представляя, что бы он взял на её месте.
Помечала на листке бумаги, что непременно надо будет взять, чтобы потом в суматохе предотъездной не перезабыть. И всё возвращалась мыслями к библиотеке. С остальными томами что делать? Растащат! Ольгу Романовну эта мысль не ужасала, так как после смерти Илюши участь вещей, пусть и дорогих, уже не воспринималась ею остро. Но Петю бы ужаснула. Значит, надо позаботиться. Кому-то завещать. Кому? Не Тимоше же! Он за всю жизнь полторы книги с грехом пополам одолел! Разве что Дмитрию Антоновичу. Хоть и партийный теперь, а порядочный человек, интеллигентный, понимающий цену такого собрания. Так, стало быть, и решено. Опять же, не чужой человек. И если случится чудо, то и возвратит, не присвоит себе и не распродаст.
Набросав приблизительный список и утишив волнение, Ольга Романовна снова села в кресло, сжала кулаки, зажмурилась, сжимаясь в пружину, чтобы достало сил на очередной рывок. Добраться до Швеции (или куда там Володя собирается), оставить вывезенные обломки былой роскоши на попечение Олицких, а самой уже с единственным узлом, который хватит сил унести самой, ехать, плыть туда, где Петя. Как-то он бедный там один? Сердце сжималось. Разве думали, что придётся под старость разлучаться так надолго! К нему, к нему поспешать надо, хоть ещё успеть поглядеть друг на друга. Решила так, перекрестилась – вроде и душа на место встала. Теперь самое время было по Москве пройтись, проститься с родными улицами… Хоть и не завтра ещё убывать, а откладывать не стоит. Как теперь можно за завтрашний день ручаться?
Весна в этом году заявила о себе рано, растопила снег, но в последние дни подморозило, и повсюду образовалась зеркальная наледь. По такой уже и саночки не потянешь! Самое скверное время. Для санок снега нет, а для сооружённых иными умельцами возков (те же саночки на колёса поставили) нет мостовых. Вот, и извольте, бывшие люди, дрова и всё прочее на загорбу таскать, превращаясь из ездовых вовсе во вьючных животных – авось, не развалитесь.
Ольга Романовна шла медленно, скользя калошами по льду (и ведь даже чистить некому!), опираясь на трость, для пущей безопасности прихваченной из дома. Всё-таки приближалась весна, уже дышала сквозь отверзнувшиеся поры, уже плясала солнечными лучами по плавящейся ледяной глади. А прежде в такие дни на улицах ярмарки гудели! На Девичьем поле балаганы шумели и всеми красками радовали взор! И тройки летели вскачь, и зазывали со всех сторон торговцы к своему товару… Милая старая Москва! Как пряник медовый! Любила Москва на широкую ногу пожить, потешить себя вкусностями разными, погулять. Сколько было кондитерских, рестораций, трактиров и трактирчиков… Вспомнила Ольга Романовна, как водила детей в кондитерскую к Абрикосову. То-то праздник был всякий раз! А в трактире Арсентьича, что в Черкасском переулке на Ильинке, покойник-муж всегда ветчину заказывал. Ветчина Арсентьича ни с какой другой сравниться не могла… А «Храм Бахуса» – Елисеевский! А любимый Петей Гурьевский трактир, славный своими русскими блюдами, из которых особенно славны были гурьевская каша и фаршированные калачи. А булочная Чуева на Тверской! В детские годы ещё, когда в кармане грош с копейкой не сталкивались, Ольга Романовна с сёстрами часто заглядывали туда. Покупать лакомства не на что было, но хоть посмотреть, хоть вдохнуть этот чудный, несравнимый ни с чем аромат тамошних булочек! А иногда везло, и добродушный булочник угощал девочек сухариками. Эти знаменитые чуевские сухарики для Ольги Романовны так и остались с детства любимым лакомством. Милая старая Москва! Сколько же чудного и прекрасного в ней было! А Сухаревка? Разве была она похожа на то, чем стала? Ведь там торговля шла прилично. Торговали много разного, а среди того – книги. Целый ряд там был. Попадались старинные. Пётр Андреевич там регулярно прохаживался, и каждый торговец знал его, и, едва завидев, спешили показать, что нового появилось у них… А теперь Сухаревку за Хитров рынок принять легко. Хитрованцев новая власть реабилитировала. Те навострились выдавать вездесущей ЧеКе бывших полицейских и клятвенно заверяли, что при «своей рабочей власти» они не станут заниматься прежним ремеслом. Тимоша Скорняков после этого насилу слова в приличном обществе допустимые находил, чтобы свою оскорблённость выразить. Ловил он ловил всю жизнь эту братию, а теперь к ней новые власти с большим доверием относились, нежели к нему. А потом кто-то удивляется, что под Москвой грабители шестнадцать человек убили…
Милая старая Москва! Какие были здесь бульвары и сады! И теперь остались ещё, но как запущено, какая грязь кругом! Кто и когда решил, что грязь и хамство есть непременный атрибут свободы?
А церкви! Сколько их, чудных, по улочкам московским рассыпано. Иверская, Спаса-на-Бору, Ильи-Пророка, Вознесения в Сокольниках, Преподобного Сергия на Ильинке, Георгия-Победоносца на Лубянке (там молебен за сына Петрушу заказывала, когда он ранен был), Никольские на Арбате – сразу три… Теперь и их колокола тише стали. Взялась власть, от совести свободная, за церковь так, что только держись! Шли процессы над священниками, глумились, не зная удержу, газеты (особенно некто Галкин (Горев), сам из священнического звания выбывший, лютовал – в первые гонители вышел), Патриарха едва не убили – какая-то сумасшедшая ударила его ножом…
Ходила Ольга Романовна по с детства знакомым улицам, но с трудом узнавала их. Нет, нет, это уже не та Москва была. Не её Москва… Кое-где ещё сохранялись черты родные, но всё меньше и меньше их было. Старая Москва умирала вместе со старыми москвичами, которых, выкошенных голодом, холодом, испанкой и тифом, который год буднично свозили на погосты. И даже не верится, что на полупустынных этих улицах когда-то весело гудела праздничная толпа, ездили трамваи и конки, проносились извозчики, бегали мальчишки-газетчики, пахло свежеиспечёнными булочками… Может, это вернётся когда-нибудь? Нет, вряд ли. До тех пор, пока это сможет вернуться, последние очевидцы сойдут в могилы, и только по воспоминаниям, по фотографиям будущие поколения смогут отдалённо узнать, каким чудом была Москва!
Ноги сами принесли Ольгу Романовну ко вратам знакомой церкви, где молилась она в сороковой день по смерти дочери. Поднялась на крыльцо, осторожно ступила внутрь. Там при слабом стечении народа, в полумраке служба шла. Ольга Романовна разглядела, что вёл её всё тот же старец-священник. Сколько было лет ему? Не меньше девяноста. Ему уже тяжело было ходить и, время от времени, молодые служки поддерживали его под локти. Но какая-то огромная сила чувствовалась в этом старце с белоснежной бородой и всё ещё твёрдым, звучным голосом. Вот, служки отстранились, священник выпрямился и, чуть откинув назад красивую, седовласую голову, заговорил громко и воодушевлённо, старческую немощь преодолев:
– Сегодня, братья и сестры, мы вспомним с вами одно из великих чудес Господа нашего Иисуса Христа. Евангелист Марк рассказывает нам, как Господь, идя в толпе, теснящей его со всех сторон, ощутил, как сила изошла от него. «Кто коснулся риз моих?» – спросил Господь. И ученики удивлялись его вопросу, так как толпа была вокруг, и все касались. Но простое касание ничего не могло дать касавшимся. И лишь прикосновение с верой привело к тому, что толика силы Господа отошла от него, чтобы исцелить страждущую душу. Такая вера была у кровоточивой женщины, которая мучилась много лет, и много потерпела от врачей, и разорила на лечение всё достояние своё без результата. Многие из нас, встречаясь с недугом, так же бросаются искать исцеления у врачей, у всевозможных шарлатанов, которым так верят бедные люди, шарлатанов, которые сулят немедленное исцеление, а вместо этого лишь грабят больного и оставляют его ещё более больным. И, вот, претерпев от них много, несчастная узнала, что Господь близко. И сказала себе: «Если коснусь риз его, здорова буду!» И сделала так, и в тот же миг была исцелена. И, когда вышла она из толпы и призналась, то Господь сказал ей: «Вера твоя спасла тебя!» Эта история особенно должна прочитываться нами сегодня. Россия, несчастный русский народ и есть кровоточивая женщина. В самом начале её болезни, когда она искала врачей, искала кудесников, а все они оказывались шарлатанами. Долго будут продолжаться эти искания и мытарства. Лже-врачи, лже-кудесники будут сменять друг друга, будут терзать наше Отечество, разорять его. И только когда разорят окончательно, только когда все пути обманные будут пройдены, она обратится к единственному Целителю. Ко Господу нашему. И тогда настанет исцеление. «Вера твоя спасла тебя!» – сказал Господь. Запомним это в сердце своём! Только вера спасёт нас, русский народ, Россию! Отчего происходят беды наши? О того, что забыли Бога. И забыли творение его – человека. Нам внушали Толстой и многие другие, что человек хорош, что он не нуждается в исправлении, а только в свободе! Падший человек, за которого Господь Иисус Христос пролил свою божественную кровь, был объявлен не нуждающимся в исправлении, в очищении, в духовном возрастании до той высоты, той праведности, какой отличался человек до грехопадения. Человеку дали свободу остаться в падении, во прахе. Оставили голого человека со всеми его страстями безо всякой помощи. Так произошло во Французскую революцию. Так происходит и теперь у нас. Кто может быть несчастнее такого человека? Человек нуждается в исправлении, нуждается в совершенствовании. И для этого необходима Церковь, которая одна имеет силу помочь ему. Ни одна идея не осчастливит человечество, потому что человек испортит любую идею, будь то монархия или республика. Сейчас у нас много явилось шарлатанов-лекарей. Мы видим их методы и результаты их. Они не исправляют человека. Зачем исправлять? Зачем такие сложности? Если человек не принимает нашу идею, то надо просто убить такого человека! Вот, что говорят они! Что это за идеи, которые убивают людей за то, что они не могут их принять? Все эти идеи будут бесплодны до тех пор, пока не будет поставлена главная задача: исправление человека, возрождение человека, восхищение духа его из бездны. Все идеи будут бесплодны, пока мы не озаботимся главным, как сделать человека лучше. Мы должны вспомнить о человеке, мы должны заботиться о человеке. И не просто говорить ему, чтобы он стал лучше. А помогать ему в этом! Восхищение человеческого духа из бездны, в которую он ввержен, вот, должна будет быть первая задача, когда Россия пройдёт все круги ада и обратиться, наконец, ко Господу, и прильнёт к краям Его пресветлых риз.
Евангелие повествует нам, как по исцелении кровоточивой Господь совершил ещё более великое чудо – воскресил дочь Иаира. Господь пришёл в дом Иаира, и там сказали ему: «Ты напрасно пришёл, ибо она уже умерла». Господь ответил на это: «Она не умерла, но спит». И, как пишет Евангелист, смеялись над Ним. Смеялись над Ним! Смеялись рядом с покойницей те, кто якобы пришёл скорбеть о ней! Не смеялись лишь родители её. И поэтому только их Господь взял с собою к одру их дочери. И сказал ей: «Талифа куми!» Что значило: «Девица, восстани и ходи». И в тот же миг она поднялась от одра своего. Помните же это! И когда скажут вам, что России больше нет, что она умерла, не верьте. И не смейтесь, как лживые плакальщики над теми, кто не поверит этому. Потому что настанет час, и по вере нашей будет нам, и милосердный Господь сойдёт к одру нашего многострадального Отечества и произнесёт заветные слова: «Талифа куми!» Аминь.
Глава 18. Судный день
13-14 марта 1920 года. Новороссийск
Раненые и больные оставались в Новороссийске. Им не хватило места на отходящих в Крым и Стамбул судах. С ранеными оставались врачи и сёстры. Им по ходатайству руководителя Комитета Красного Креста Юрия Лодыженского были выданы все имевшиеся в наличии у правительства советские деньги. Больше ничего не могли сделать уходившие для оставшихся. В госпиталях царило большое волнение. Ждали красных. Ждали расправы. Обречённо. Те, кто могли двигаться, ушли на пристань, надеясь спастись. Остались лишь тяжёлые. И сёстры, не пожелавшие их оставить, самоотречённо продолжавшие работать.
Тоню Арсентьев отыскал не без труда. Пришёл к ней, простившись с умершим от тифа командиром Марковцев полковником Блейшем. Она лежала у окна, укрытая до подбородка шерстяным одеялом. Словно угадав его приближения, открыла блёклые, редкими, бесцветными ресницами обрамлённые глаза:
– Ростислав Андреевич, зачем вы здесь?
– Пришёл проведать вас, Тоня. Как вы?
– Хорошо… – по белым губам скользнула улыбка. – Надо же, за столько лет – первое ранение. И так не вовремя!
– Ранений своевременных не бывает, Тоня.
– Что большевики? Близко они?
– Думаю, завтра будут в городе.
– Ростислав Андреевич, я очень вам благодарна, что вы пришли. Но поспешите на пристань. Не дай Бог вам опоздать и остаться здесь!
Арсентьев опустил голову. Сказать ли этой душе преданной, что решил, в самом деле, остаться? Пожалуй, не стоит. Разволнуется излишне, расстроится. Пусть будет спокойна. Сжал крепко её крупную ладонь в своих:
– Я не опоздаю, Тоня, не волнуйтесь.
– Ростислав Андреевич, могу я вас попросить?
– О чём?
– Оставьте мне ваш револьвер. На всякий случай…
Арсентьев замялся:
– Хорошо, Тоня, я дам вам револьвер, но если только вы, в свою очередь, пообещаете мне, что воспользуетесь им лишь в самом крайнем случае. Вы понимаете?
– Понимаю. И обещаю вам, что прибегну к нему лишь как к последнему средству.
Ростислав Андреевич отдал Тоне револьвер, и она спрятала его под кулёк, заменявший ей подушку:
– Спасибо! С ним мне будет спокойнее.
– Не за что, Тоня. Я должен был бы сделать для вас больше. Я вам обязан жизнью, вы были рядом все эти полтора года, а я не могу хоть отчасти ответить вам тем же. Простите меня.
По продолговатому, худому лицу потекли слёзы:
– Ростислав Андреевич! Не говорите ничего! Вы такой хороший… Вы же не знаете сами, какой вы хороший… Я бы ради вас на любую пытку пошла с радостью. Простите, что я так говорю вам всё это! Но я полтора года молчала… Ростислав Андреевич! Мы сегодня с вами, вероятно, в последний раз видимся. И поэтому я такая смелая. Поэтому говорю вам… Вы же ничего не знаете…
– Я всё знаю, Тоня, – тихо отозвался Арсентьев. – За эти месяцы вы стали для меня самым дорогим и близким человеком. И что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас, – помолчав, протянул ей ещё банку сгущённого молока и шоколад. – Вот, возьмите тоже.
На бледных губах дрожала смешанная со слезами улыбка. Что доброго видела от жизни эта бедная женщина? Разве что детские годы, проведённые рядом с любимым отцом. А потом война, война. Кровь, грязь, смерть… А ведь не ожесточилась, не огрубела душой, как иные «амазонки». Что-то нежное и ранимое хранила в себе прапорщик Тоня, а кто знал об этом? Кто видел под невзрачной оболочкой красивую душу? Хотелось что-то ласковое ещё сказать, а язык огрубелый не находился. И пора было прощаться…
– До свидания, Тонечка. Постарайтесь поправиться, я очень прошу вас, – наклонился Арсентьев, поцеловал шершавую руку.
Удивилась Тоня, как-то по-детски посмотрела на руку:
– Рук мне никогда не целовали… – и чуть приподнявшись, – Ростислав Андреевич!
– Да, Тонечка?
– Пожалуйста, наклонитесь ко мне. Один раз…
Арсентьев склонился к самому лицу Тони, и она коснулась губами его щеки:
– А теперь прощайте, Ростислав Андреевич! – прошептала. – Берегите себя!
– И вы, Тонечка, берегите себя. До свидания.
С нелёгким чувством покидал Арсентьев госпиталь. Мучительно думалось о судьбе Тони, о судьбе всех, оставляемых на произвол большевиков. И не хватало злости на бездарность верхов, не сумевших загодя озаботиться эвакуацией. В вестибюле замешкался у небольшого зеркала, ища задёвавшиеся куда-то папиросы. Бросил взгляд на своё отражение, усмехнулся с горечью. Траурный марковский мундир, сохранённый в чистоте и порядке, несмотря ни на что. Сильно побитая сединой голова. И странно седина легла, неравномерно. Часть шевелюры черна ещё оставалась, а другая – снега белее. Словно нарочно под форму… А погоны – полковничьи уже. Когда-то – мечта заветная! И так страдалось от задержек в чине! А теперь… Что были теперь эти полковничьи погоны? И даже – генеральские? Прошлогодняя листва… Армия уходила в вечность. Белый Юг агонизировал последние часы. И всё ничтожным становилось перед этой катастрофой.
От занятых в начале осени позиций откатились в считанные недели. Проходили знакомые до боли места. В первых числах декабря миновали роковую Шаблиевку, где сложил голову незабвенный Сергей Леонидович. В ту пору Марковцы отступали в полном составе к Таганрогу, ведя арьергардные и фланговые бои с наседавшими частями красных. К концу месяца подошли к крупному, расположенному по обе стороны глубокой лощины селу Алексеево-Леоново. Несмотря на декабрь, на Кубани стояла ранняя весна, снег стаял и двигаться приходилось сплошь по грязи. Из-за непогодицы дивизия запоздала с выступлением, отчего нарушился контакт с Корниловцами, продолжившими путь на Ростов, не дождавшись Марковцев. Действовать в Алексеево-Леоново предстояло исключительно своими силами.
Село было занято конницей Будённого. Артиллерийские батареи заняли позиции и открыли огонь шрапнелью и гранатами. С подъехавших тачанок и саней слезала и разворачивалась в цепи пехота. Но ещё не успела построиться она, как буденовцы, не выдержав обстрела, оставили село.
– Вояки! – самодовольно хмыкнул капитан Ромашов.
– Не спешите говорить «гоп», Виктор Аверьянович, – покачал головой Арсентьев. Не понравилось ему это слишком быстрое отступление, сразу не понравилось. Не Восемнадцатый на дворе стоял, не кое-как обученные банды были с той стороны, а вполне регулярная армия. И не щенки были будёновцы, а серьёзная сила. И вдруг бежали без боя?..
А части дивизии, между тем, втягивались в село. На подъёме задерживались: лошади скользили и падали на обледенелой дороге и не могли вытянуть пулемётные двуколки. Но где лошади не справляются, там люди вытянут. Тянули, толкали тяжеленные орудия.
Намаялся Арсентьев со своей батареей. Сам-то он по инвалидности в седле сидел, командовал, а батарейцы – из сил выбивались, вытаскивая из грязи двуколки, орудия, подводы с патронами. И это всё – под огнём пулемётным! Красные засели в домах и шпарили оттуда. Да с такой интенсивностью, что из пехоты, пытавшейся вперёд пробиться, на шестьдесят человек двадцать выбывших из строя приходилось. Срочно нужна была пехоте артиллерийская поддержка! Наконец, вытянули орудия все, свои пулемёты установили, стали воду в их кожухах разогревать.
Уже вся дивизия к тому времени в село втянулась. Да ещё ж и, как водится, обгоняли обозы боевые части – спешили лучшие дома занять! Путаницу в ряды вносили… Развеселились все победе лёгкой, предвкушали отдых в тепле.
Но напрасно мечталось. Не победа то была, а мышеловка. И стоило втянуться всем частям, как захлопнулась она, и на возвышенностях, с трёх сторон от лежавшего в низине села возникли лавы Будённого. И понеслись в атаку! Обозные повозки рванулись в разные стороны, сбивая пехоту. Вот, уже красные были в селе и рубили, рубили направо и налево смятую пехоту и орудийную прислугу. Попались! Как вороны в суп попались! Среди первых изрублен был первый батальон. Выделялась в общей круговерти высокая фигура командира его капитана Папкова, сыпались страшные удары шашек на его белую маньчжурскую папаху…
Батарея Арсентьева находилась в момент атаки на площади. Завидев несущуюся тучу красной конницы, Ростислав Андреевич крикнул:
– Орудие к бою!
Таки успели одно орудие поставить!
– Пли!
Грохнули, когда лава уже в самой близи была. Знатно грохнули! Распушилась лава, кинулись перепуганные кони в разные стороны. Да уже с других сторон летели новые! Окружали! Шашки наголо – чуть-чуть и изрубят батарею в куски! На все стороны света отбиваться от конницы одной батарее с некоторым числом пехотинцев – виданное ли дело! Но завещал же незабвенный Шеф не числом, а умением воевать: «И с малыми силами можно большие дела делать!» – сколько раз повторял. Лишь бы не допустить смятения!
Необычайный душевный подъём чувствовал в себе Арсентьев. Словно все силы мобилизовались разом. И те, о которых не подозревал. Резервные. Соскочил с коня, скомандовал:
– Строиться в каре! Пулемёты на изготовку! Стрелять только по моей команде!
Построились во мгновение ока. Пулемёты «Льюиса» ручные (незаменимая вещь!) прицелили. Ждали приказа. А Ростислав Андреевич выжидал. Нужно было наверняка действовать, а для этого подпустить лавы как можно ближе. Вот, уже из-за плетней хорошо видны они были. Шестьсот шагов, пятьсот, двести…
– Пли! – и из револьвера в воздух выстрелил.
И тотчас залаяли пулемёты во все стороны. С колена стреляли Марковцы. Били в упор. И откатились потрепанные будёновцы.
Подмоги ждать было неоткуда. Воспользовавшись минутой, бросились к лощине. Плохо было безлошадному Арсеньеву с его параличной ногой, ковылял кое-как, стараясь не отстать от остальных. А красные наседали со всех сторон на маленькое каре. Где-то рядом совсем отчаянный крик раздался. Бежала по улице сестра милосердия, а за ней – два буденовца. Гнали её, насмехаясь. Капитан Ромашов из рядов каре выскочил, бросился на выручку. Подумалось – пропадёт Виктор Аверьянович! Но ловок и удачлив был этот красавец-капитан! И силён – в бою пятерых стоил. Жахнул по буденовцам из «Льюиса», уложил и отбросил пулемёт – больше патронов не было. А на него уже третий нёсся. И ведь умудрился же герой извернуться так, что сам, пеший, того, конного, шашкой на ходу проткнул! Ухватил сестру за руку, помчались бегом к лощине. Следом ещё один конник – этого из каре кто-то сбил метким выстрелом.
До лощины и сорока человек не добралось. Скатывались спешно в овраг, отстреливаясь. Иных, чуть замешкавшихся рубили здесь.
– Офицер! Руби офицера! – это услышал Ростислав Андреевич над собой, оглянулся и увидел занесённую шашку. Бах! И откинулся назад будёновец с пулей во лбу. Это Тонина пуля была. И уже ухватила она полковника за рукав, и вместе скатились они в грязный овраг.
В лощине вскоре вся дивизия очутилась. И даже сюда подводы набились и забаррикадировали ход! Пробирались между ними, морозя ноги в ручье, тёкшем по дну. А наверху с обеих сторон были красные. Подскакивали, кричали, глумясь:
– Сдавайтесь, чернопогонники!
Отстреливались от них направо и налево, но и сами тяжелейшие потери несли.
– А вы правы были, Ростислав Андреевич! – тяжело дыша, сказал Ромашов.
– О чём вы, Виктор Аверьяныч?
– Рано мы «гоп» сказали! Как куры в ощип вляпались, язвить твою в душу!
– Эй, чернопогонники, не сыро ли вам там? – послышалось сверху. – Вылезайте! Мы вас тут обогреем! – и гогот заливистый.
– Сейчас я тебя, мать твою, сам обогрею! – рявкнул Ромашов и сшиб конника выстрелом из пистолета.
– Виктор Аверьяныч, осторожней!
Поздно крикнул… Уже падал капитан, сражённый пулемётной очередью, раскинув могучие руки. Рухнул на дно оврага, брызги грязи взметнулись, заляпали красивое, ещё только что румяное лицо и чёрный мундир…
Торили путь дальше, устилая дно проклятой лощины телами убитых и раненых, страшную братскую могилу оставляя позади себя. Могилу Марковской дивизии.
Из одной лощины выбрались в другую, более широкую, по ней вырвались из села. Из двухтысячного состава дивизии уцелело лишь пятьсот человек, из сорока пушек и гаубиц – лишь четыре орудия, из двухсот пулемётов – сорок… Эта была катастрофа, не сравнимая ни с чем. Лишь ободряющие слова генерала Кутепова, переданные Марковцам полковником Блейшем, отчасти воскресили дух. «На Марковскую дивизию всегда ложились тяжёлые и ответственные задачи и особенно во время отступления. В Донбассе от неё зависело – пройдёт ли армия на Дон. Ей дана была задача, требовавшая полного самопожертвования, и она её выполнила, хотя и дорогой ценой. День её поражения был днём, когда ударные силы Красной армии вынуждены были вести жестокий бой и были ею задержаны на день и ослабили своё наступление на следующий. Более суток задержки, в создавшемся для армии положении, большой срок», – так сказал Александр Павлович.
И всё-таки дивизия потеряла сердце. О ком бы ни вспоминалось, ни наводились справки, выяснялось горькое: убит, зарублен, застрелился… И ещё одна весть догнала, будто обухом огрела:
– Скончался генерал Тимановский!
О том, что «железному Степанычу» нездоровится, просачивался слух. Арсентьев знал об этом со слов одного из командиров, бывших у генерала незадолго до катастрофы. Он рассказывал, что командующий пал духом, сражённый неудачами, осунулся, перестал интересоваться окружающим, стал пить чистый спирт. Тревожились за его рассудок. А потом поднялась температура. И в Алексееве-Леонове распоряжался уже не он, а начальник штаба полковник Битенбиндер. Самого Тимановского, совершенно больного, эвакуировали в тыл. Об этом, впрочем, знали лишь немногие, и им строго-настрого было запрещено говорить ещё кому-либо. А теперь открылось… Генерал Тимановский, верный сподвижник генерала Маркова, умер от тифа в день разгрома своей дивизии, с которой составлял единой целое, поражения которой не мог пережить…
Николай Степанович начал свой военный путь, как большинство офицеров, на Русско-Японской войне. С той только разницей, что ему в ту пору было лишь пятнадцать лет. Он ушёл на фронт гимназистом шестого класса. Мальчишка, он воевал так, что мог дать фору многим старым воинам, так, что получил целых два Георгиевских креста… И тяжёлое ранение, от которого лечился в Петербурге. Посетивший лазарет Государь спросил юного героя:
– Когда поправишься, что намерен делать?
– Служить Вашему Величеству! – не задумываясь, ответил Тимановский.
В Великую войну Николай Степанович прошёл путь от поручика до полковника. Был несколько раз тяжело ранен и удостоен всех боевых наград… Он служил своему Государю, своей Родине и своему народу, отдав этому служению без остатка всю жизнь, всего себя. И, вот, теперь ушёл в самый трагический момент для своей дивизии.
По генералу Тимановскому, по полковнику Морозову, командиру второго полка, также унесённому тифом, по всем погибшим героям была отслужена панихида. На этой панихиде не было ни одного гроба. Павшие Марковцы навсегда остались лежать в проклятой алексеево-леоновской лощине, генералу Тимановскому и полковнику Морозову суждено было обрести последний приют в склепе Войскового собора Екатеринодара рядом с генералом Алексеевым, легендарным полковником Миончинским, полковником Гейдеманом…
Дивизии больше не существовало. Наличных сил с трудом хватало на полк. И практически не было артиллерии. Каменело сердце! Себя ни в чём не мог упрекнуть Арсентьев – он сделал всё, что мог, и даже более, но точил стыд за тех, кто растерялся и бежал, и за то, что оставили своих раненых на расправу красным.
– Ростислав Андреевич, в том, что произошло, ведь нет нашей вины, – словно угадывая его мысли, говорила Тоня. – Мы сражались до конца, хотя положение было безнадёжным.
– Да, Тоня, нашей вины нет. Но положение не было бы безнадёжным, если бы разгадали маневр противника! Не соблазнились лёгкостью победы! Конечно, мы выдержали столько, что однажды могли и сорваться, но от этого не легче. Меня убивает бездарность того, что случилось! Перед Екатеринодаром катастрофа была не меньшей. Но бездарности не было. А здесь… Поймали нас, обложили, как волков… Стыдно!
А отступление продолжалось. Последний крупный бой Марковцы вели в середине февраля под станицей Ольгинской, откуда когда-то начинался Ледяной поход. Ждали поддержки Донцов, но те запоздали, и пришлось отступить и с этой позиции. Одна за другой закрывались все страницы славной борьбы. Позади оставался только Новороссийск. Море. И Крым.
В Новороссийске батарея Арсентьева оказалась раньше остального полка. Ей было приказано защищать подступы к городу от «зелёных». В эту пору Верховный казачий круг окончательно оформил зревшее в его недрах предательство, объявив об отказе от всех бывших соглашений и обязательств к Главнокомандующему. И некоторые члены Рады дальше пошли: ходатайствовали о замирении с большевиками. До чего же беспредельна бывает человеческая глупость!
Накануне отправки на «зелёный фронт» Ростислав Андреевич наведался в штаб военного губернатора Черноморской области, где успел повидаться с поручиком Котягиным, с которым знакомы были со времён Ледяного, а теперь служившим адъютантом при губернаторе генерале Лукомском. Приёмная была переполнена людьми, искавшими записаться на эвакуацию. Беженцев отправляли в Египет, Лемнос, Кипр, Стамбул, Болгарию, Сербию, Грецию. Их принимали на борт английские суда. Среди толпящегося народа Арсентьев увидел скромно одетую женщину с маленьким сыном. Её лицо показалось полковнику как будто знакомым, но он не мог вспомнить, где видел его. Женщина подошла к поручику Котягину:
– Простите, не могу ли я просить генерала принять меня? Я готова ждать.
– Как доложить о вас?
Женщина слегка наклонила голову, спросила неожиданно:
– Какого вы полка, поручик?
– Марковского, сударыня.
– Я – вдова вашего Шефа, генерала Маркова.
И сразу вспомнил Арсентьев, где это лицо видел. На похоронах Сергея Леонидовича. И позабыл постыдно! Шаркнул каблуком, отдавая честь жене генерала. Она же, указав на сына, спросила:
– Не узнаёте? – и, заметив растерянность поручика, пояснила: – Разве не узнаёте на сыне Сергея Леонидовича его знаменитой куртки? Я не имела возможности купить материал на пальто сыну, и пришлось перешить ему куртку мужа…
От этих слов ком подкатил к горлу. И вспомнилась куртка. И не менее знаменитая белая папаха…
В это время из кабинета генерала вышел бывший у него генерал Шиллинг, и Котягин прошёл доложить Лукомскому о посетительнице. Ростислав Андреевич откланялся, сказал не без волнения, рождённого растревоженной памятью:
– Я служил под началом вашего мужа. Он был великий человек!
– Спасибо, полковник, – устало, но сердечно прозвучал ответ.
Вечером того же дня Арсентьев отбыл на «зелёный фронт». В этих-то последних боях и получила первое в жизни тяжёлое ранение Тоня. Одна из пуль, выпущенных вражеским пулемётом, попала в правую сторону груди. Не смертельной была рана, но велика кровопотеря. Да и уход же какой среди всеобщего разгрома?! Тяжко было верного друга лишиться. Болела душа. А от мысли, что будет, когда госпиталя окажутся в руках красных, в глазах чернело. И – от бессилия своего.
В Новороссийске взрывались, полыхали склады. К небу взметались алые языки пламени, в воздухе пахло гарью, витал и оседал на грязных улицах пепел. Со складов тащили вещи. Ещё перед тем, как поджечь их, пустили, чтоб не пропадать добру, желающих на поживу. Целые толпы военных деловито занялись разбором имущества: разбивали ящики, раздевались и примеряли новую одежду, тут же вскрывали и поглощали консервы. Какое бесчисленное множество добра, оказывается, было на этих складах! Военное обмундирование всех видов, тёплое бельё, кожаные куртки, шерстяные носки, медикаменты, медицинское оборудование, шоколад, сгущённое молоко, консервы…Всё, чего так не хватало и под Орлом, и на Донбассе, и на Маныче! Всё это время мёрзли войска в тонких, изношенных шинелишках, отмораживали руки и ноги, не имели лекарств для больных… Вспомнился Арсентьеву Ростов. Придя туда после разгрома, Марковцы надеялись, что интендантство хоть чем-то пособит. Но не тут-то было. Ростовские склады принадлежали Донской армии. Только и удалось несколько ящиков с винтовками старого образца выбить, да командир одной из батарей раздобыл кусок бязи для шитья белья собственными средствами. И здесь, под Новороссийском, не хватало продуктов. А склады стояли набитые битком! И не успели эвакуировать их! И теперь бесценное это добро должно было сгореть в огне… Ростислав Андреевич побывал на одном из складов по пути в госпиталь. Взял лишь шоколад и сгущённое молоко для Тони, а в остальной «ярмарке» участвовать не стал. Больно противно было смотреть на одуревшие от жадности лица. Так пообносились и изголодались, что теперь при виде этого богатства массовый психоз одолел всех. Тащили целые мешки ботинок, потом выбрасывали часть и набирали какого-либо иного «товара». Разбегались глаза, не знали, что лучше ухватить и в каком количестве. А к чему было нахватывать много? Отплывающим и узла не прихватить с собой по невероятной перегрузке судов. Остающимся не сохранить ничего – всё отберут красные. Но об этом не раздумывали и тащили, тащили. Не город, а муравейник. Спешили куда-то люди по забитым брошенными повозками улицам, многие горожане волокли набитые на складах мешки, столь огромные и тяжёлые, что их насилу можно было унести.
Но больше всего изумлялся Арсентьев, встречая сотни молодцев, одетых в новую форму, но безоружных. Они шли к сочинской дороге, по которой уходила в сторону Сочи кавалерия. Но зачем шли? Без оружия – зачем? Без оружия можно лишь сдаваться… На что рассчитывали они? Неужели на то, что кто-то спасёт их? Чужими спинами прикрыться надеются? Сотни здоровых бойцов, не желающих сражаться в то время, когда агонизирующий Новороссийск прикрывала теперь лишь потрёпанная конница Барбовича – о каждого бы из этих трусов и болванов Ростислав Андреевич с великим удовольствием изломал свою массивную трость! Эти дезертиры уже давно были в Новороссийске. Занимались тем, что устраивали безобразные митинги по образцу солдатских Семнадцатого года. Произносили высокопарные слова, создавали «военные общества» и преследовали единственную цель – захватить в случае нужды суда, которых явного грозило не хватить на всех. До того распоясалась эта публика, что генерал Деникин вынужден был вызвать с фронта добровольческие части, дабы они способствовали закрытию самозваных «обществ» и борьбе с их дезертирами-активистами. Антон Иванович предупредил в своём приказе, что таковые лица не будут эвакуированы. Вот, и уходили они теперь по сочинской дороге. И ненавидящим взором провожал их Арсентьев.
Он ковылял по улицам гудящего, как пчелиный улей, города. От едкого дыма скребло в горле, и щипало в глазах. Среди людского потока мыкались рассёдланные лошади, оставленные своими хозяевами. Голодные, измождённые животные искали пищи, смотрели пугливо и понуро. Иных уводили к себе местные жители, видимо, ещё не утратив надежды сохранить своё достояние при большевиках.
На залитой закатным светом пристани глазам Ростислава Андреевича предстала картина судного дня. Слишком быстрым было отступление армии, и слишком медленной – подготовка к эвакуации Новороссийска. Англичане прислали свои суда, но их было мало. И собравшиеся у берега люди отчётливо понимали, что им не хватит мест. И за эти места разворачивалась борьба. Люди метались, метались и кони, которых тут же рассёдлывали и, поцеловав на прощанье в умные морды, покидали навсегда. Иногда раздавались выстрелы. Это некоторые казаки стреляли в своих лошадей, чтобы не ходили верные друзья под сёдлами врагов. Многие горько плакали при этом. И, казалось, что плачут сами кони… Самыми невозмутимыми в этой суматохе выглядели калмыки. Почти весь калмыцкий народ уходил от большевиков вместе с разгромленной армии. Теперь эти бедные люди сидели на корточках, уныло глядя на идущую погрузку и понимая, что им не хватит мест на немногочисленных кораблях, на которых не могут разместиться даже добровольческие части. Они сидели, маленькие, жёлтые, похожие на изваяния Будды, и без всякой надежды ждали конца.
При такой бездарной организации эвакуации Новороссийск имел все шансы повторить печальную судьбу Одессы. Большевики захватили её ещё двадцать пятого января. Они расстреливали из пулемётов отступавшие к молу части, а английский флот сохранял нейтралитет! Люди проваливались под лёд, пытаясь спастись по нему. Другие кончали жизнь самоубийством. Многие несчастные стояли на коленях и тянули к уходящим кораблям руки, и плакали, моля спасти их. Лишь часть людей попали на английские суда, остальные или погибли, или прорвались с боями через город – к Днестру. К Днестру пробились войска генерала Бредова, но их и бывших с ними беженцев – детей и женщин – встретили пулемётным огнём румыны. Уцелевшие свернули на север, где соединились с поляками, разоружившими их и принявшими временно на своей территории до возвращения на территорию армии Деникина.
Долгий пеший путь порядком вымотал Арсентьева. На молу он углядел брошенный ящик из-под консервов, перевернул его, сел, по-калмыцки невозмутимо созерцая агонию. Папирос в кармане не оказалось, и осталось лишь мерно перебирать в пальцах мелкие чётки.
– Ростислав Андреевич, неужто вы?
Капитан Вигель собственной персоной! Тоже в мундире новёхоньком, но во всеоружии. Привелось-таки встретиться!
– Рад видеть вас, Николай Петрович, живым и невредимым! Признаться, отчаянно надоело, справляясь о ком-либо, получать печальные вести.
– Да, потрепало нас…
Усталым и больным смотрел капитан. Видать, тоже успел в тифозных объятиях побывать. Лицо в копоти, небрито, волосы, прежде на лоб спадавшие, теперь острижены.
– Что ваши близкие? Есть ли какие-нибудь новости?
– Отец и Наталья Фёдоровна уже в Крыму. Слава Богу, успели эвакуироваться до всего этого, – Вигель закурил. – Отец всё же имел некоторое положение… Для себя бы он, конечно, им не воспользовался, не стал бы ходить и просить и, пожалуй, дождался бы конца. Но для Натальи Фёдоровны притушил гордость. Она бы не вынесла этого кошмара.
– Вы теперь тоже в Крым?
– Как и весь мой полк. А вы не в Крым разве?
– Нет, Николай Петрович. Я остаюсь здесь.
Вигель недоумённо воззрился на Арсентьева:
– Остаётесь? Зачем? Это же чистой воды самоубийство!
– Во-первых, здесь в лазарете остаётся мой друг…
– Вы ему ничем не поможете! – Николай Петрович казался заметно раздражён. Лицо его стало нервным. – Скажите прямо, полковник, что вы просто устали от борьбы! Разочаровались в перспективе её! Опустили руки!
– Рук я не опускал, капитан, иначе бы уже не был жив. А всё прочее… Николай Петрович, в какую перспективу верите вы? Я верю в перспективу Белой идеи, но вопрос, что мы понимаем под ней. Если борьбу военную, то она проиграна, и отрицать это бессмысленно.
– Пока есть хоть пядь русской земли…
– Ответьте честно, вы верите в возможность военной победы?
Вигель бросил взгляд в сторону стоящих у пристани судов, охраняемых караулом от напирающей толпы, вздохнул:
– Умом – нет… Сила русская потопла – это факт. Вопрос, почему так произошло. Знаете ли, Ростислав Андреевич, я извёл себя этим вопросом. Я думал об этом, когда лежал, оправляясь от сыпняка, думал бессонными ночами во время привалов.
– И поняли? Когда-то мы с вами уже говорили об этом, капитан. В самом начале, помните? Мы должны были донести до людских сердец идеалы добра и правды и сами стать их образчиками. А у нас не получилось. Замарали наши ризы разные Шкуры и Покровские.
– Идеалы… – Вигель поморщился. – Идеалов мало. Нужна была твёрдость и сильная власть в противовес диктатуре большевиков. А что было у нас? Там была сплочённость и решительность, а у нас вечные споры да откладывание всех насущных вопросов до Учредительного собрания. Россия ждала Диктатора, а получила Особое совещание. У семи нянек дитё без глаза… Мы не смогли понять казачества. Казачеству была чужда наша «единая и неделимая». Они сражались за свои станицы, свой Дон, свою Кубань, а Москву воспринимали, как гнёт, против которого надо бороться за свои вольности. Разве Добровольческая армия была для казачества носительницей государственного начала? Они смотрели на неё, как на вооружённую силу, которая может быть весьма полезна для отражения большевиков, но и опасна для вольностей казачьих при чрезмерном усилении. У нас не было ни единых целей, ни духа. Мы шли сами по себе. Мы не пошли на соединение с Колчаком, а распылили свои силы в движении на Москву. Не сосредоточили кавалерии против Будённого. Наконец, вместо того, чтобы отступать на Крым и Новороссийск, спасая армию и опираясь на русские силы, мы пошли на Ростов и погубили армию.
– Николай Петрович, то, что вы говорите, во многом справедливо. Но если бы мы стали отступать на Крым, то отдали бы Донцов на разгром большевикам, и нас обвиняли бы в предательстве казаков.
– Это было бы лучше, чем гибнуть самим от их предательства! – вспыхнул Вигель.
– Уцелела бы армия при ином маршруте отступления, знает один Бог. Но я считаю, что мы поступили правильно, идя на Ростов.
– Поражаюсь, как вы можете так судить, когда это стоило жизни почти всей вашей дивизии.
– Жизни – да. Но не чести. Никто не посмеет бросить нам упрёка в том, что мы нарушили свои обязательства, изменили своему слову, предали боевых товарищей. Много всего можно говорить и лгать на нас, но предательством не запятнаны наши ризы. А те, кто изменил нам, ещё заплатят за это страшную цену и будут каяться в своей слепоте.
– Только нам не будет от их покаяния ни холодно, ни жарко. Всё это, простите, эмоции, идеализм! А нужен здравый взгляд на вещи. Дела наши из рук вон плохи, но я верю, что белое движение ещё способно выдвинуть вождя, рождённого быть диктатором. И он приведёт нас к победе!
– Ваш диктатор, капитан, теперь в Константинополе…
– Он вернётся, я уверен, – убеждённо заявил Вигель.
О ком говорит Николай Петрович, было понятно без произнесения вслух имени. Лишь одно имя и произносилось теперь в рядах Добровольцев, как имя нового вождя. Врангель! Столь велика была популярность этого человека, что её не могли простить ему в Ставке, и Главнокомандующий потребовал, чтоб генерал покинул пределы ВСЮР, дабы не осложнять ситуацию своим присутствием, которое вдохновляет недовольных. Глупый был шаг, на удивление даже. В тяжёлый момент отстранить от всех дел, а потом просто выдворить из страны талантливого и популярного военачальника. Лишь раздражило это многих офицеров. Пускали слухи, будто Врангель и его приближенные хотят свергнуть Главнокомандующего. Ещё одна глупость непростительная. Человек, вынашивающий подобные планы, имеющий такую поддержку, просто не подчинился бы оскорбительному приказу. Как не подчинялись отдельные казачьи командиры. Врангель приказу подчинился и отбыл в Константинополь.
– Мой отец был у Петра Николаевича незадолго до его отъезда, – продолжал Вигель. – Убеждал остаться. К генералу в те дни была целая очередь посетителей с той же просьбой. Но он сказал, что не желает создавать затруднений Главнокомандующему, – после непродолжительного молчания он добавил: – Если бы вместо этого Главнокомандующий сам отплыл в том же направлении много раньше, мы бы с вами не оказались сейчас под угрозой быть утопленными в море, как слепые кутята.
– Стало быть, вы, капитан, верите в диктатора. В конкретного человека. Что ж, дай Бог, чтобы ваша вера оправдалась.
– А вы, Ростислав Андреевич, во что верите? Зачем вы остаётесь здесь? Ведь здесь уже ничего нельзя сделать!
– Мне трудно вам объяснить. Да и много времени займёт. Белая борьба будет долгой, Николай Петрович. Не военная, не на поле брани, а в душах. Она будет идти годы. Может быть, десятилетия. Я верю, что она окончится победой. И со своей стороны я сделаю для этого всё, если только Богу угодно будет сохранить мне жизнь. Человек гибнет не от болезней, не от пули врага, а от того, что выполнил то, что ему было назначено. Мне кажется, что я и сотой доли этого не сделал. А сделать должен. И не на поле брани. Ему я сполна отдал всё. Никто не посмеет упрекнуть меня в трусости. Я мог с комфортом осесть в тылу, моя инвалидность давала мне на это право, а я ушёл на фронт. Дважды ушёл, капитан! И не прятался за чужими спинами, и ни в чём не польготил себе. Но теперь я считаю свой воинский долг исчерпанным. Я не вижу, какую большую пользу мог бы принести, находясь в армии. А оставшись здесь, имею надежду кое-что сделать ещё.
– Воля ваша, Ростислав Андреевич. Я не знаю, какие соображения заставляют вас остаться. Но, зная вас, верю, что они не имеют ничего общего с соображениями трусов и дураков, которые надеются на милость большевиков. По-видимому, вами движут некие высокие и идеалистические мотивы… Желаю, чтобы вам удались ваши намерения. Я всегда уважал вас, полковник, несмотря на то, что мы во многом с вами расходились. Примите же мои искренние заверения в дружбе к вам! – Вигель протянул руку.
Арсентьев ответил крепким пожатием:
– Благодарю вас, капитан. Примите не менее искренние заверения в уважении моём к вам. Дай Бог вам благополучно добраться до Крыма. Передавайте мой поклон Наталье Фёдоровне. Прощайте.
– Честь имею!
Нет, не мог Ростислав Андреевич объяснить Вигелю своих чувств и мыслей. У самого они ещё всмятку были, перепутаны. То, что воинский путь его исчерпан, Арсентьев понял в день гибели дивизии. Дело было не только в тяжёлом чувстве от разгрома её, от смерти товарищей и генерала Тимановского, а явилось чёткое сознание того, что на поприще боевом сделал он всё, что был мог и должен. Но если так, то почему же не настигла его пуля или сабельный удар? Почему в лощине, ставшей могилой для трёх четвертей дивизии, не оказалось места ему? Почему из этой бойни вышел он без единой царапины? Значит, не всё исполнено ещё? А что же осталось? Ростислав Андреевич всё чаще вспоминал свой обет: если Бог сохранит жизнь, уйти от мира, принять монашество. Не пора ли?.. Как определить? Ведь борьба не окончена? По крайней мере, формально? Но ведь любое событие происходит раньше, нежели обретает фактическую форму. Происходит в момент, когда оказывается пройдена точка невозврата. То, что считается самим событием, является лишь внешним проявлением того, что уже произошло, но не было замечено. В сопротивлении Юга были пройдены уже все такие точки. Фактический конец вооружённой борьбы мог произойти через неделю, месяц, год – но он был уже предопределён. И не мог решить Арсентьев, продолжать ли идти по инерции до формального конца, не имея при том душевных сил для новых боёв, или всё-таки принять за конец гибель дивизии и исполнить обет? Смутно было на душе.
В ту ночь остатки дивизии угодили в метель. До того разъярилась она, что на расстоянии вытянутой руки ни зги не разобрать было. Пытались жечь огонь – да задувало его. А фонари неисправны оказались. Мыкались кругами по степи, рискуя замёрзнуть насмерть. Гудело кругом, ревело так, словно все ведьмы мира собрались на свой шабаш и перетряхивали свои перины. Всё-таки доплутали до какого-то села. Село было обычным. И приём в нём тоже обыденным негостеприимством отличался. У одной из хат мялись батарейцы. Окликнул их Арсентьев, подъезжая:
– Что тут у вас?
– Да вот хозяин говорит, что мы только через его труп войдём.
– Так перешагните через его труп! – взорвался. До того зол был в ту ночь, что сам бы изрубил такого хозяина. А тот не дурак оказался: как услышал начальственное распоряжение, так и схлынул от греха, разместились батарейцы в тепле.
Самому Ростиславу Андреевичу повезло заночевать в хате местного священника. Был он крупен, дороден, но в меру, и при завидном росте лишь мощи ему его дородность придавала – этакий богатырь Микула Селянинович! Лицо широкое, доброе, окладистая серебристая борода, длинные, густые волосы, почти белые, хоть и не очень стар ещё был отец Иоанн. Но при видимой силе не укрывалось, что хворал батюшка. Выдавали гложущую его болезнь крупные мешки под глазами, и опухшие руки, и затруднённое дыхание.
Оказалось, прежде был отец Иоанн офицер-кавалерист, участвовал в Балканской кампании, а затем принял сан, участвовал в двух последующих войнах – всегда на передовой, но без оружия. Солдаты привязались к нему, называли «батей». А после революции возвратился «батя» в родные края, схоронил жену и жил отшельником, проводя время в молитвах и бдениях. Более подходящего собеседника не могло сыскаться для мятущейся души Арсентьева в ту пору! Не иначе как сам Бог привёл в это село!
ЧуднО встретил отец Иоанн полковника. Поклонился ему в пояс:
– Исполать тебе, отче!
Оробел Ростислав Андреевич, не знал, что сказать. А священник уже в горницу вёл его и, как почётного гостя, под иконы сажал. Сам напротив уселся, не предлагал ни чаю, ни еды. И молчал.
– Что это вы меня, батюшка, так величали странно? – спросил, наконец, Арсентьев сам.
– Знаю, что говорю, коль величаю. Господь, Господь зовёт, а ты зова боишься. Ясны пути, а очи пеплом и прахом запорошены, и не зрят их, а оттого смущение и скорбь. Но то, что сам ты ещё не видишь, то я вижу.
– И что вы видите?
– Долгий путь. Тяжёлый путь. Высоко поднимешься, но гоним будешь, преследуем, ввергаем в темницы. Но и спасёшь многих.
– Батюшка, я стою на распутье. Раньше всё мне было ясно: идёт война, и я, как офицер своей Родины, должен сражаться с её врагами. А сейчас всё спуталось. Война проиграна, все мои родные в могиле, моей Родины больше нет, и я не знаю, куда мне идти.
– Знаешь, – твёрдо сказал отец Иоанн. – Ты всё знаешь. Ты уже идёшь. Отечество земное есть преддверье Отечества небесного. Борьба за Отечество небесное идёт всегда. Борьба за земное Отечество – лишь часть её. Кончается война огня и мечей, но брань духовная лишь начинается. Судный день не за горами. И судьба нашей матери-России зависит теперь не от силы, а от того сохранятся ли в ней верные сыны Отечества небесного, верные ратники воинства Христова. Смутное время будет долгим. Смутное время – это время, когда власть находится в руках преступников и безбожников, а правда народная вытеснена кличем «Грабь награбленное!», за которым идёт потерявшее пастыря стадо. Многие погибнут в этой брани, но не страшно это, потому что павшие за дело Христово живы вечно и станут светочами для возрождающейся России. Но многие соблазнятся, и это страшнее всего. Они прикроются именем Христовым и пропоют хвалу царю Ироду, они смешают Божие и кесарево, они будут оправдывать своё падение заботой о пастве и поведут её в ад следом за собой. Всюду проникнет ложь, всё извратится, всё будет предано. Поставленные блюсти дело Христово предадут его, как предали его поставленные блюсти Завет фарисеи, и многих соблазнят, вовлекут в ложь, прикрытую Божием именем. И чтобы ложь и тьма не восторжествовали окончательно, нужно, чтобы сохранились верные. Те, кто не предаст, не отступится и не соблазнится. Грядущие по Христе. Лампады неугасимые. Это и есть брань, которая только теперь начинается. Великая и страшная. И в ней ждёт тебя твой подвиг. Гряди по Христе и не ошибёшься в выборе пути.
Ростислав Андреевич поражённо внимал прозорливому священнику. Не всё понимал он в его речи, но ловил всякое слово. С такой напряжённой силой, такой пламенной верой говорил отец Иоанн! И чудилось Арсентьеву, что читал он в его душе, что все вопросы его и терзания знал прежде, чем поднялся полковник на порог. Нет, не могло быть слепого случая здесь. Указывал Бог путь, и нельзя было уклониться.
– Батюшка, исповедайте меня. На мне кровь людская…
Никогда в жизни Арсентьев не раскрывал души на исповеди так истово, как в эту ночь. Бывало, ещё живя в усадьбе, приходил на исповедь к местному батюшке, перечислял грехи свои – но без сердца, просто исполняя заведённый обычай. И даже в войну как-то глуха оставалась душа. Перечень грехов и только. Сухо, пресно. А после гибели семьи так и вовсе ни разу не исповедовался. Что-то мешало, не пускало. Несколько раз собирался – и срывалось. А теперь во мраке ночи, слабо огнём лампады да свечой затепленной освещённой, всё, накопившееся в измученной душе, изливал со слезами отцу Иоанну. И в том, как в числе охотников расстреливал пленных, каялся (никогда не думал, что приведётся!). Ни одного лица не помнил он. Все слились в одно перед ненавидящим взглядом. Но много, много было этих лиц… Не помнил сколько. А были, должно быть, среди них и невинные, попавшие под разбор…
Священник слушал, не перебивая, и открытое лицо его дышало миром, тёплым участием. Отпустил грехи, причастил, благословил на дальнейший путь. В ту ночь и решил Арсентьев, что не станет отступать дальше Новороссийска. Доведёт свою батарею до последнего этого рубежа, а дальше – что Бог даст. Если не расстреляют «товарищи», то исполнить данный обет…
Так задумался Ростислав Андреевич, что будто вновь перенёсся в тёмную хату отца Иоанна, озарённую светом лампады, возжённой перед древним образом. Но возвратило на грешную землю нечто необычное, происходившее на мостках, ведущих к отходящему кораблю. Отхлынул вдруг поток людей, замер. Пригляделся Арсентьев. На мостках, прислонясь к перилам, стояли трое в офицерских френчах без погон, окружённые конвойными с винтовками. По-видимому, это были приговоренные к расстрелу грабители. И точно: конвой отступил на несколько шагов от них, и во внезапно наступившей тишине звякнула команда:
– Шеренга, по приговорённым – пли!
Громыхнул залп, и через несколько мгновений люди, грузившиеся на корабль, уже снова шли по мосткам – мимо распластанных трупов.
Корабли отходили один за другим, и собравшаяся на пристани толпа всё больше волновалась. Бродившие по пристани кони громко ржали, иные кидались в море, плыли за судами, уносившими прочь их хозяев. Подъезжали всадники, соскакивали на землю, обнимали напоследок боевых друзей и спешили к кораблям. Офицеры, солдаты и казаки спешно сбрасывали с мола пулемёты, ящики и сёдла. И – орудия! Орудия, спасённые с таким трудом! Артиллерийское сердце Арсентьева обливалось кровью. Честь артиллерийского офицера обязывала его защищать до конца своё орудие. Как знамя, которое позорно отдать неприятелю. А теперь столько «знамён» этих огнедышащих бросалось! Всё, решительно всё покидалось в Новороссийске. Бронепоезда (много взорванных видел Ростислав Андреевич по пути в город), танки, бронеавтомобили, боеприпасы, кони… И – люди! Их – тысячи собралось на берегу. Метались женщины, потерявшие в суматохе детей и мужей, плакали дети, ища родителей. Промаршировала к своему судну рота Корниловцев. Лежавший на брошенной повозке раненый в отчаянии протянул к ним руки:
– Братцы, не дайте пропасть! Спасите, братцы!
Не проняло. Слишком много было таких – куда уж спасти всех! Но несчастный не унимался, моля каждого прохожего помочь, подобно тому, как слепой взывал раз за разом ко Христу, возвышая голос: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя!»
– Сестрица, спасите хоть вы меня!
Краснокрестная сестра милосердия, женщина лет сорока с выбившимися из под косынки пшеничными волосами, соскочила с подводы побежала к Корниловцам, уже собиравшимся грузиться на корабль, заговорила горячо и убеждённо. Командир роты отнекивался. Долетал до Арсентьева его резковатый голос:
– Анна Кирилловна, да вы посмотрите, что делается! Мы и так передавим друг друга, как селёдки в бочке! Куда ещё?..
Но сестра оказалась настойчивой и в итоге убедила командира помочь. Рота построилась, сложила штыки так, что получились импровизированные носилки, уложили на них раненого и подняли его на судно. «Генерал Корнилов» отчалил от берега, растворился постепенно в рассветной дымке…
А Анна Кирилловна уже бежала ещё куда-то. К кому-то…
Следя за ней, Арсентьев заметил в толпе знакомое лицо. Подлинно всем уцелевшим суждено было встретиться на этой пристани! Окликнул, но потонул голос за шумом, вскочил, тяжело оседая на трость, побежал, как мог быстро, боясь потерять затираемую от него толпой фигуру. Нагнал всё же:
– Ксения Анатольевна!
Вечность целую не виделись! Прервалась их переписка столь же быстро и резко, как началась. Отступление разрушило почтовое сообщение. Да и не задержались Родионовы в оставляемом Курске. Нарочно, проходя через него, заглянул Арсентьев в их дом, ещё недавно полный тепла и радушия. И никого не нашёл там. Как тысячи и тысячи других, бежали Родионовы вместе с отступающей армией, и вот выбросила их беженская волна на новороссийский причал.
Перепугана была Ксения, трепетали ресницы, орошённые капельками слёз. При виде полковника искренней радостью засветилась:
– Ростислав Андреевич, вы! Слава Богу! Слава Богу! – заплакала, уронила голову ему на плечо, разом ослабев.
– Ксения Анатольевна, умоляю вас, успокойтесь. Почему вы одна? Где все ваши?
Ксения утёрла слёзы:
– Не знаю, Ростислав Андреевич! Растерялись мы среди всего этого… – провела рукой вокруг. – Мы должны были отплыть на одном из кораблей. Корабля этого уже нет в гавани. Только я не знаю, уплыли ли на нём мои или остались из-за меня, чтобы меня искать! Хоть бы уплыли!.. А я уже несколько часов мечусь по пристани, ищу их, спрашиваю всех, не видели ли. И ничего! Никого! Господи, мне так страшно было! Никогда не было так страшно…
Арсентьев осторожно взял дрожащую от волнения девушку под руку, отвёл её в сторону, заговорил, глядя в глаза:
– Успокойтесь, дорогая Ксения Анатольевна. Давайте рассуждать логически?
Ксения смотрела на него с детской доверчивостью, постепенно успокаиваясь.
– Если вы не смогли найти своих на пристани, и никто их не видел, то, скорее всего, они всё же уплыли на том корабле. Здесь, конечно, полнейший вертеп, но, если бы они остались и искали вас, то кто-нибудь бы их видел, я убеждён.
– Должно быть вы правы, – Ксения пригладила растрепавшиеся волосы. – У нас Варенька очень была больна. Они бы побоялись остаться. Ростислав Андреевич, как же я рада, что вы живы! Я ведь вам писала несколько раз после того, как Лёничку убили. А потом поняла, что мои письма к вам не доходят. Не было дня, чтобы я о вас не вспоминала, не молилась.
– Бог с вами, Ксения Анатольевна, за что мне такое внимание? Я не сделал для вас ровным счётом ничего. Даже не смог уберечь вашего брата…
– Вы хороший, Ростислав Андреевич, – просто отозвалась Ксения. – Я знаю, я вижу, что вам тяжело, вы пережили многое. Но вы очень хороший человек. Я это сразу поняла, когда вас увидела. И Лёничка так же говорил о вас.
За всю жизнь не приходилось Арсентьеву столько добрых слов слышать в свой адрес. Разве от Али только… А тут за один день две совершенно разные женщины объявили хорошим человеком. Почему бы вдруг? Часто вспоминал Ростислав Андреевич эту хрупкую девушку, её несколько странную манеру говорить, её печальные глаза. Ксеньиных писем не сохранил он – канули они с немногим другим имуществом в сумятице безумных дней. Сохранился лишь цветок, ею подаренный, засушенный между страниц карманного Евангелия, с которым Арсентьев не расставался. Некогда белая и свежая, та хризантема теперь пожелтела и стала лёгкой, хрупкой, как прах: дунь, нажми – и нет её. И вся жизнь, всё движение белое не та же ли участь постигла?
– Мы все теперь в какую-то тёмную бездну летим… – рассеянно говорила Ксения, покачивая головой. – Летим и при этом ещё ругаемся друг на друга, сердимся, норовим оттолкнуть. Корабли штурмом берут. Рвутся на борта их по сходням. Тех, кто слабее, в воду сталкивают. Я видела это… Так и столкнули друг друга, и тонем все. Ростислав Андреевич, разве так можно? Я сейчас металась по пристани, а вокруг ни одного лица отзывчивого, участливого. Ты утонешь, а никто не поможет, а только порадуются – не займёт нашего места. Безумие!
– Что же вы хотите, Ксения Анатольевна? Все заняты спасением самих себя!
– Спасающий себя никогда не спасётся. Вот, вы, Ростислав Андреевич, почему не рвётесь по сходням вверх, отпихивая в воду более слабых?
– Боюсь, что окажусь с моей ногой в числе слабых, – пошутил Арсентьев. – А если честно, то не хочу занимать чужого места. Я не собираюсь оставлять Новороссийск.
Не удивилась ни капельки. Словно так и должно было быть. Улыбнулась краешками губ:
– И вы ещё спрашиваете, чем заслужили такое отношение? – вздохнула. – Я все-все ваши письма сохранила…
– Не все, – Арсентьев достал из внутреннего кармана три запечатанных письма без адреса. – Эти я не отправил, потому что не знал, куда. Возьмите их. Прочтёте когда-нибудь. Мне было очень жаль, что они не дошли до адресата…
Ксения спрятала письма под пальто, вздохнула вновь:
– Спасибо. Только смогу ли ответить вам… – заговорила, волнуясь: – Господи, что теперь с Варенькой? Мы так боялись за неё! Да, наверное, они уплыли… Только что же мне теперь делать? Как же я без них? Куда же? Ростислав Андреевич, посоветуйте! Я же ничегошеньки не знаю, не понимаю…
– Куда вы должны были отплыть?
– В Крым.
Лишь два судна ещё стояли в бухте в этот час: «Екатеринодар» и «Капитан Сакен».
Арсентьев накинул на плечи озябшей девушки свою шинель и, взяв её под руку, стал протискиваться сквозь толпу. «Екатеринодар» был отведён для погрузки Дроздовцев. Они пришли в Новороссийск последними, задержавшись для выполнения священного долга: особый офицерский отряд ворвался в захваченную красными кубанскую столицу и освободил гробы своих погребённых в тамошнем соборе героев Дроздовского и Туцевича. Гробы эти должны были плыть в Крым вместе с дивизией. «Екатеринодар» уже осел на бок и не мог приять людей.
– Я не пойду! – в отчаянии кричал с кормы капитан.
– Тогда мы пойдём без вас! – в рупор отвечал ему командир Дроздовцев полковник Туркул.
Запасной батальон грузили лебёдкой, могучий кран поднимал гроздья солдат и офицеров, опускал их на палубу – на головы и плечи погрузившихся ранее товарищей. Но, вот, подошли новые части, третий полк, прикрывавший отход остальных частей, и их уже негде было размещать…
Толпа напирала на миноносец «Капитан Сакен». В глазах людей смешивался смертельный страх и мольба. Но звучало с палубы удручающее:
– Миноносец берёт только вооружённые команды…
Взял, сколько мог, и отвалился от берега грузно. В сумеречно-рассветных тонах и люди, и кони казались призраками. Некоторые отчаявшиеся прыгали в воду, гребли к стоящим в отдалении судам, крича, чтобы их спасли. Иные доплывали, и их поднимали на палубу. Другие шли ко дну…
А с окраин города уже нарастала стрельба. Большевики входили в Новороссийск.
Ксения боязливо жалась к плечу Арсентьева, боясь в суматохе потерять ещё и его, а Ростислав Андреевич бесплодно искал выход: как посадить бедную девушку хоть на какое-нибудь судно.
Внезапно на кораблях, стоящих на внешнем рейде, прозвучал боевой сигнал, и вослед ухнули орудия английского броненосца «Император Индии», ударяя по городу, чтобы не подпустить к пристани большевиков. Под его прикрытием, сотрясаясь от выстрелов собственных орудий, к берегу нёсся миноносец «Пылкий», на борту которого выделялась подтянутая фигура генерала Кутепова.
«Пылкий» шёл на выручку Дроздовцам. Рухнули сходни, и по ним устремились бойцы третьего полка. Всё глубже и глубже оседал миноносец в воду, и очевидно было, что не сможет принять всех. А вокруг гудела толпа:
– А мы? А мы как же? А нам что – пропадать?
Слышались истеричные крики женщин, молившие командира Добровольцев о спасении.
«Пылкий» подавал отчаянные сигналы, на которые, наконец, откликнулся французский броненосец, выразивший готовность принять на борт людей и выславший за ними катер. Этим катером были перевезены на французское судно оставшиеся Дроздовцы. Их командир вернулся на «Екатеринодар», наконец, отчаливший от берега. Сходни «Пылкого» поднялись, толпа охнула, но тотчас раздался с палубы громкий, ободряющий голос Кутепова:
– Взятых на борт высажу на английский броненосец и сейчас же вернусь за остальными! Всех до одного возьму!
Орудия продолжали грохотать, не подпуская близко напиравшие красные части. И снова летел по волнам «Пылкий» на выручку оставшимся. Обезумевшая толпа бросилась к нему.
– Не напирать! Не напирать! Грузиться в полном порядке, вещи бросать в воду! – командовал Кутепов. – Брать в первую очередь раненых и сестёр милосердия!
Он возвратился ещё и в третий раз, когда большевики уже показались на берегу, и их пули ударялись о корму миноносца. И в этот третий раз Арсентьев прорвался к сходням и втолкнул на них Ксению, крикнул старому товарищу с берега:
– Александр Павлович, прими пассажирку!
Сощурил генерал тёмные, блестящие глаза:
– Федора Ивановна! – развёл руками. – Арсентьев! Ростислав! Какого чёрта ты ещё на берегу? Поднимайся живо!
– Благодарю, но я отдаю своё место сестре моего боевого друга. Пригляди за ней, очень прошу!
– Да ты, чёрт тебя возьми!.. – но уже высыпали на берег красные, и скомандовал Кутепов. – Поднять сходни! Отходим!
Ещё увидел Арсентьев отдающего распоряжения Александра Павловича, теребящего жёсткий ус. И видел Ксеньину фигуру-тростиночку рядом с ним. И расслышал крикнутое ею:
– Спаси вас Господь, Ростислав Андреевич!
И белый платок взмахнул…
– Прощайте, светлый сон мой, Ксения Анатольевна…
Исчез «Пылкий» в тумане, отодвинулись с дальнего рейда последние громады кораблей, прекратился обстрел. Солнце вставало, чтобы озарить последний акт трагедии Новороссийска.
Из прилегающих улиц хлынули, затопляя пристань, красные. Люди в ужасе бежали в разные стороны, и лишь калмыки продолжали сидеть неподвижно, примирившись с любой уготованный им участью. Арсентьев бросил в воду шашку – последнее оружие, оставшееся у него, перекрестился и обернулся от моря лицом к новым хозяевам города. Он стоял, опираясь на трость, откинув назад голову, ожидая, что будет. Прямо к нему подскочил на взмыленном жеребце буденовец, замахнулся шашкой, чтобы изрубить полковника. Арсентьев видел его молодое, распалённое борьбой лицо, видел блеснувший в солнечных лучах клинок, но не вздрогнул, не отступил. Так и стоял, безоружный, глядя прямо в лицо коннику. И отчего-то замешкался тот, и шашку занесённую опустил медленно, так и не раскроив ею «чернопогонника»…
Глава 19. Живые
Начало апреля 1920 года. Чита
– Чёрт!
Из рассечённой опасной бритвой щеки засочилась кровь, и Пётр Сергеевич приложил к царапине платок. Всё, решительно всё валилось из рук в последние дни! Даже бритва… Убрал её и, убедившись, что кровь приостановилась, надел свежевычищенный китель. Бросил взгляд в тусклое зеркало, поморщился. Старик, как есть старик! Седой, измождённый старец… Хоть на икону списывай. А кругом молодые генералы командуют, и всё чужее чувствовал себя среди них Тягаев. И не только среди них, но и просто в жизни, в которой не осталось у него никого и ничего. Так распорядилась беспощадная судьба, что до этой гавани, именуемой Чита, он добрался – один. Без единой близкой души рядом. Даже лучший друг оставил… Ушёл за своим адмиралом чёрной февральской ночью…
Не мог Тягаев простить себе, что тогда, в Иннокентьевском, не сумел предотвратить несчастья. Хорош друг! Ведь сидел же рядом, ведь в глаза смотрел, ведь слышал… И ничегошеньки не понял! А ведь всё у Бориса на лице было написано, и всё выговорено им было. До чего же замёрзло сердце, что не почувствовало этого! Окажись рядом Дунечка, поняла бы тотчас, и нашла бы достаточно тепла, нужных слов, чтобы отвратить Кромина от его рокового решения. Она бы сумела! Живым бальзамом по ранам растекаясь, целебной повязкой ложась на них. А Пётр Сергеевич, занятый своими мыслями и хлопотами, не смог. Привычно спорил с другом, вёл себя так, словно ничего не произошло. Жестоко… А если бы понять! Если бы найти нужные слова! Да были ли такие? И нашёл бы их? Никогда у Тягаева к словам таланта не было… Да чёрт бы со словами! Просто не оставил бы Бориса одного, укараулил бы! И револьвер его отнял. А вместо этого оставил одного, ушёл на совещание. Догадаться бы хоть Панкрата оставить при нём! Если хочет наказать Бог, то не разума, а сердца лишает…
Прощаясь с Кроминым в тот проклятый вечер, Пётр Сергеевич и не подумал, что видит друга живым последний раз. Правда, что-то неуловимо кольнуло, когда уже отошёл порядочно. Но не возвращаться же было! Приказано было на совещание явиться, а приказы полковник Тягаев не нарушал никогда. С совещания возвращался уже с окрепшим дурным предчувствием. А когда увидел суету у избы, в которой оставил Бориса, то упало сердце, разом догадавшись обо всём. Подбежал стремительно:
– Что случилось?!
– Да тут офицер застрелился…
Пётр Сергеевич тяжело вошёл в дом и увидел неподвижно сидящего у стола Кромина. Рядом он заметил свёрнутый вчетверо листок бумаги. Это была предсмертная записка каперанга.
«Дорогой мой друг, Пётр Сергеевич! Прости, что оставляю тебя в такое время, но я не могу и не хочу идти дальше. Мой долг был следовать за адмиралом, его я и исполню. Если выберешься из этого ада, передай Эмилии, что я до конца исполнил свой долг. А, впрочем… Не стоит! Ей до этого всё равно нет никакого дела… Скажи лишь, что я желаю ей счастья. Желаю устроить свою судьбу. Может быть, ей встретится более достойный человек, нежели я. Я не знаю, как осудит меня Бог, но сам себя я уже осудил, и поэтому ухожу. Не осуждай меня за это. Мы часто спорили с тобой и редко соглашались, но я всегда знал, что, что бы ни случилось, я могу рассчитывать на тебя. Надеюсь, и ты знал то же обо мне. За сим честь имею! Навсегда твой верный друг, Борис Кромин».
Сколько ссор вспыхивало между ними, как разны были взгляды, но воистину никогда не сомневался Пётр Сергеевич в честности и верности Кромина, доверяя ему абсолютно. Это был искренний, преданный и любящий друг, на которого всегда и во всём можно было положиться, и никакие расхождения не могли разрушить дружеских уз. И, вот, не стало его…
Тело Бориса Васильевича Тягаев решил везти до Байкала, до которого оставалось два перехода.
Нелегко дались эти последние полтора суток пути. Целую ночь продирались сквозь непроглядную тайгу, и ещё день и ночь шли дикими горными тропами, заметаемые снегом, целые тучи которого выбрасывал из горных ущелий воющий в них порывистый ветер. Но, вот, зарозовело на востоке холодное небо, прыснули ослепительные искры по снегу, и глазам усталых, шедших уже исключительно по инерции путников предстала завораживающая своим великолепием картина. Как ни подавлен, как ни вымотан был Пётр Сергеевич, а замер на несколько мгновений, созерцая это невиданное диво. Вокруг нависали, наседая друг на друга, величественные горы, белоснежные вершины которых были залиты сиреневато-розовым светом зари. Мимо стремительно бежала, звонкая, как девица-хохотушка, незамерзающая даже в лютый мороз, прозрачная настолько, что на дне легко различался всякий камешек, и видны были пугливые стайки форели – Ангара! Голубоватой, широкой лентой спешила она, рокоча с весёлой бодростью, словно напевала какую-то песню пробуждающимся утёсам. А впереди расстилалось до самого горизонта ослепительное зерцало прославленного озера-моря.
На берегу Байкала располагалось богатое село Лиственичное, имевшее не только несколько мельниц, но фабрику, судостроительные доки и пароходство. Гостей здесь встречали радушно, но не без горечи. Люди надеялись, что Каппелевцы займут Иркутск, соединятся с Забайкальем, и тогда не надо будет бояться большевиков. Не оправдались надежды…
В Лиственичном Тягаев простился с Кроминым, предав его тело воде. Почти всю жизнь служил Борис Васильевич на Черноморском флоте, не ведая холодов, а смерть свою нашёл на другом краю России, среди леденящих морозов, а последнее пристанище не в бурных морских волнах, а в недрах великого Байкала. Чёрная полынья сомкнула воды над его головой, и каперанг Кромин ушёл в своё последнее плавание.
Мрачнее тучи возвращался Пётр Сергеевич в село, а там ещё одно несчастье поджидало. Нагнал его рослый, молодцеватый Ижевец по фамилии, как ещё раньше запомнилось, Артуганов, доложил:
– Господин полковник, капитан Юшин тяжело заболел.
– Что такое, тиф?
– Доктор сказал – двусторонняя пневмония.
Этого и не доставало только!
– Отведите меня к нему.
Артуганов отвёл. Алексея Тягаев нашёл лежащим без памяти. Вокруг него хлопотала пожилая хозяйка, не пожалевшая для больного офицера постели. Вокруг расположились кое-кто из Ижевцев. Завтракали, толковали о чём-то с хозяином, оттирали замёрзшие руки и ноги, пошучивали с молоденькой крепкой девчушкой, разносившей горячую похлёбку.
– Красавица, как звать тебя? – игриво обратился к ней Артуганов, принимая из пухлых рук миску.
– Груней.
– Грунечка, а не хочешь ли махнуть со мной в Читу? Хочешь, женюсь на тебе?
Девушка отмахнулась, ответила весело:
– Не хочу!
– Почему, Грунечка? Неужто я тебе так не понравился?
– Зачем я с тобой поеду? Коли убьют тебя красные, что я делать стану? – ответила Груня и ушла.
Захохотали кругом.
– Не везёт вам, капитан!
– Ба! Так юна и уже так мыслит! – рассмеялся и Артуганов. – Хозяин, твоя, что ль, дочь?
– Не моя, соседей. Крестница. Ты, сынок, её лучше не трожь. Она девка норовистая.
– Да уж понял, отец, понял.
Покуда бойцы наполняли утробы горячей пищей и вполголоса обсуждали грунины прелести, Тягаев разговаривал с хозяйкой. Алексей метался по постели в жару, норовя сорвать с себя одеяла и одежду, хрипя:
– Задыхаюсь я! Душно… Воздуха дайте, воздуха!
– Доктор сказал, что нельзя его дальше везти, – сообщила хозяйка. – Лёгкие у него плохи совсем. Ещё чуть замёрзнет, и уже не поднимется.
Только руками развёл Пётр Сергеевич:
– Так что же делать? Красным его оставить?
– Он, батюшка, что, сын тебе? – участливо спросила женщина. Тягаев заметил, что у неё было хорошее русское лицо, доброе, немного грустное.
– Зять…
– А дочка где ж?
– Дочка у большевиков… – тяжело вздохнул Пётр Сергеевич, садясь на край постели. – В Красноярске.
– Экая беда, – покачала головой хозяйка. – А детки есть у них?
– Сын, недавно родился.
– Беда… Настрадались-то, сердечные! Ну, ты, батюшка, не горюй, не горюй, – женщина тронула Тягаева за плечо. – Чай, не звери же они. Не тронут твою кровинушку. Даст Господь, отыщется.
Хорошая она была, эта добрая, участливая хозяйка по имени Марфа Андреевна. Так и лилась из неё теплота. И казалась она большой птицей, готовой своими крыльями всех укрыть от невзгод. Спросил её устало:
– С ним-то что мне делать?
– Оставь его у нас, батюшка, – просто ответила женщина. – А уж я его, голубчика, выхожу, не беспокойся.
– Так ведь за нами красные придут. Что с ним сделают? И с вами?
– Ничего они нам не сделают! – решительно сказала Марфа Андреевна. – Мы скажем, что он сынок наш. Рыбак. В полынью угодил и застудился… – голос её дрогнул. – Наш-то Егорушка в прошлом годе так и сгинул… – утёрла быстро глаза кончиком светлого платка, покрывавшего голову.
– А и в самом деле, господин полковник, – подошёл Артуганов. – Везти его – не довезём. Доктор уверенно сказал. А так – хоть какой-то шанс. Из двух зол выбирают меньшее.
Ничего не оставалось, как согласиться.
– Спасибо вам, – сказал Пётр Сергеевич хозяйке, протянул ей деньги. – Вот, возьмите. Правда, это сибирские, но что-то и они ещё стоят…
– Да побойся ты Бога, батюшка! – обиделась Марфа Андреевна. – Я ведь от души, а ты мне деньги суёшь!
– Так и я от души. Возьмите, пожалуйста. А не захотите на себя истратить, так ему отдадите, когда поправится. Он, должно быть, в Читу не пойдёт. Будет жену искать. Или в деревню свою подастся…
Этот довод сердобольную женщину убедил.
– Что же, деревенский он? Откудова будет?
– Барнаульский.
– Я сразу поняла, что он из нашинских, – с материнской нежностью сказала хозяйка. – Из деревенских. По тебе-то, батюшка, сразу видно, что ты князь какой-нибудь.
Тягаев усмехнулся:
– Нет, я не князь. Хоть и из дворян.
– Так всё из благородных, – пожала плечами Марфа Андреевна. – Сам-то откудова?
– Из Москвы.
– Из Москвы! – протянула хозяйка. – Эко тебя, родимый, занесло. Эх, горемычные… Слёз не хватает на вас смотреть. Ты, вот, посиди покуда у нас, не уходи. Ушицы горяченькой похлебай на дорожку.
Отведав хозяйской ушицы и ещё раз поблагодарив за доброту, Тягаев отправился в штаб, где в это время решали, как перебраться на другую сторону Байкала. Из Мысовска, находившегося на противоположном берегу, сведения были смутные. Вроде бы ещё несколько дней назад был он в руках японцев, но что-то сталось за эти дни? А к тому большую опасность представлял сам Байкал, чьи бунтующие волны с грохотом, похожим на взрывы, взламывали ледяную поверхность, образуя продолжительные трещины. Проводники отказывались идти через озеро-море, на разведку льда не было времени. Все надежды были обращены теперь на генерала Молчанова.
Викторин Михайлович ещё десять лет назад молодым офицером получил задание сделать инструментальную съёмку острова Ольхон, расположенного на Байкале и служившего местом ссылки прокажённых. Молчанов не только сделал съёмку, но и подробнейшим образом ознакомился с особенностями озера-моря и окружающей природы. Он, как никто другой, знал, какие препятствия можно встретить при переходе озера в зимнее время.
– Прежде всего, – рассказывал Викторин Михайлович на совещании, – гладкая поверхность льда станет пагубной для лошадей, поэтому необходимо как можно скорее перековать их, навинтить новые шипы на подковы. Вторая опасность – трещины, которые могут встретиться на пути или неожиданно разверзаться под ногами идущих. При этом раздаётся грохот, похожий на пушечную стрельбу. Не стоит бояться этого. Трещины образуются от перепадов температуры и от притоков в Байкал воды из впадающих в него ручьёв и речек. Трещина расходится медленно, ширина её может достигать до двух-трёх аршин, длина – нескольких вёрст. Потом лёд начинает сходиться, края трещин сталкиваются, и из обломков образуются барьёры до двух аршин и выше. Для перекрытия трещин нам необходимо запастись досками, для устройства проходов в барьерах – лопаты, топоры и другие подходящие инструменты. И последнее. Если лошадь соскользнёт в воду, местные крестьяне прибегают к такому средству: они накидывают ей под шею уздечку и начинают её душить. Задыхаясь, лошадь набирает воздух и легче плавает. Улучив момент, двое сильных людей, взявшись за гриву и хвост, вытаскивают лошадь на лёд.
По итогам совещания, решено было выступать в Мысовск наутро из находившегося неподалёку селения Голоустного, что делало путь более безопасным. Задача прокладывать путь легла на плечи Ижевцев, которым пришлось определять направление по компасу и внешним ориентирам, указанным местными жителями.
Ледяная гладь Байкала была отполирована снежной крупой и огненно сияла в лучах морозного, невысокого солнца, поднявшегося из-за горизонта ненадолго и спешившего скорее укрыться на западе. Кое-где в похожих на раны трещинах чернела вода, громоздились синие всхолмья самоцветных кристаллов, образованные столкнувшимися льдинами. Ветер поднимал снежную пыль, кружил её, бросал в лицо путникам, слепя глаза.
– Пётр Сергеич, – прошептал Панкрат, – я теперь понимаю, почему об этом Святом Море столько легенд ходят, и им верят все местные. Никогда не видел такого! Словно мы в какой-то заколдованный, сказочный край попали!
– Только сказка страшноватая, – отозвался Тягаев, склоняясь всё ниже от измывающегося над измученными людьми ветра. Ветер был такой силы, что уносил прочь даже гружёные сани, не говоря уже о людях и плохо подкованных лошадях. Они падали на лёд, и их несло по его глади, и не было сил подняться у них самих, и не было мочи удержать и поднять их у шедших в колонне. Всё спасение было – в колонне. В ней шли, связавшись верёвками, взявшись за руки, плечо к плечу. Оторвёшься от колонны – и конец! Унесёт ветер по сияющему зерцалу в закатное пламя. Чтобы спасти обоз, сани тоже связали верёвками, но многих лошадей спасти не удалось. Гибли и люди, оторвавшиеся от колонны. Они скользили и падали, ползли, поднимались, шли опять, но стихия оказывалась сильнее, и обречённые оставались лежать на льду, не имея сил бороться. Ветер обжигал лицо, и невыносимо тяжело становилось дышать.
Гулко грохотали таинственные и неукротимые силы подо льдом Святого Моря. Иногда казалось, что где-то совсем рядом идёт артиллерийский бой, и от этого чувства ещё больше напрягались натянутые в струну нервы. Иногда льды с грохотом расступались, образуя зловещие трещины. Вздрагивал Панкрат:
– Ну как оно под нами пасть разинет да и пожрёт?..
Волновались и другие. Но проносились мимо сани с генералом Молчановым, и слышался его ровный, повелительный голос:
– Спокойствие! Толщина льда может выдержать даже тяжёлую полевую артиллерию!
Больше других страдали конники. От лютого мороза застывали руки и ноги, и люди бросали лошадей, моля взять их в сани. Снежный буран, бесясь и радуясь поживе, уносил ослабевших животных, и по всей озёрной глади чернели их окоченевшие трупы. Некоторых спасли местные крестьяне, которым разрешено было подбирать брошенных лошадей.
– Пётр Сергеич, смотрите! – Панкрат испуганно простёр руку в сторону сияющего голубоватого нагромождения на середине озера. Тягаев присмотрелся и вздрогнул сам. Из ледяной глыбы торчала голова коня. Разошедшиеся льды поглотили чьи-то сани, а затем, сомкнувшись, создали этот пугающий памятник погибшим…
Наконец, шестидесятивёрстный путь был преодолён. Вдали смутно забрезжили очертания берега, заблестел приветливыми огнями Мысовск, обещая отдых и тепло. Выбираясь на берег, люди бессильно падали на землю. Некоторые плакали. Навстречу армии вышли японские дозорные. Маленькие жёлтолицые воины, они не ведали русского языка и спрашивали только:
– Каппель? Каппель?
– Да, – отвечали им, – мы – Каппелевцы!
– Каппелевцы! – расплывались белозубые радушные улыбки в ответ, щурились щёлки глаз. – Каппель – холосо! Холосо!
Так окончился Сибирский Ледяной поход. Последним аккордом его стали похороны генерала Каппеля. Что-то невероятное творилось в то весеннее утро в забайкальской столице! Народ запрудил все улицы, прилегавшие к собору, так что нелегко было протиснуться. Оркестры играли похоронный марш, и под него стройно шагали воинские части, из рядов которых доносились рыдания. Владимир Оскарович до конца остался со своими войсками, тело Главнокомандующего было довезено до Читы, и здесь обрело последний приют. До этого времени многие Каппелевцы не верили в смерть своего любимого вождя, ходили слухи, что он едет в одном из эшелонов, и вернётся, как только оправится от болезни. Но теперь посреди запруженного людьми храма стоял гроб, а в нём лежал он, доблестный мученик за Россию, и каждый мог подойти и проститься с ним. Некоторые бойцы спрашивали растерянно:
– Как же его нет? Что же теперь будет с нами?
Не всем удалось попасть в тот день в собор. Большая группа Каппелевцев опустилась на колени прямо посреди улицы, заслышав пение «Вечной Памяти».
Пётр Сергеевич побывал в церкви, земно поклонился покойному, с трудом сдерживая набегающие слёзы. Словно живой лежал генерал в гробу. Словно не прошло многих дней со дня его кончины. Как будто тление вовсе не властно было над этим человеком… С Каппелем прощались все: от простого читинца до генерала сибирской армии, от солдата до правителя Забайкалья атамана Семёнова, приклонившего колена у гроба.
Но, вот, прощание завершилось, и прах героя был предан земле, провожаемый громкими рыданиями. Это рыдали не женщины, не чувствительные интеллигенты, а воины, прошедшие ад войны, изведавшие ужас отступления сквозь тайгу, по Кану и Енисею, через ледяную пустыню Байкала. Эти-то мужественные, ожесточённые, всё повидавшие люди плакали теперь, как дети, о своём вожде.
– Тише! Тише, господа! – раздался высокий голос. Это был поднявшийся на возвышении поэт Александр Котомкин-Савинский, заметно взволнованный и сжимающий в руке листок бумаги.
Притихли послушно, и в гробовой тишине зазвучал вдохновенный голос поэта, читавшего свои стихи:
– Тише!.. С молитвой склоните колени:
Пред нами героя родимого прах.
С безмолвной улыбкой на мертвых устах
Он полон нездешних святых сновидений…
Ты умер… Нет, верю я верой поэта -
Ты жив!.. Пусть застывшие смолкли уста
И нам не ответят улыбкой привета,
И пусть неподвижна могучая грудь,
Но подвигов славных жива красота,
Нам символ бессмертный – твой жизненный путь.
За Родину! В бой! – ты не кликнешь призыва,
Орлов-добровольцев к себе не сзовешь…
Но эхом ответят Уральские горы,
Откликнется Волга… Тайга загудит…
И песню про Каппеля сложит народ,
И Каппеля имя, и подвиг без меры
Средь славных героев вовек не умрет…
Склони же колени пред Символом веры
И встань за Отчизну, родимый народ!
Чита встретила Каппелевцев со всем возможным радушием. Не было дома, где бы не отвели места для квартерьеров, не старались бы обогреть и получше угостить их. Маленькому деревянному городу пришлось принять на своё попечение двадцать пять тысяч человек, уцелевших из тех ста, которые выступили в Сибирский поход. Одиннадцать тысяч приходилось на больных и раненых. Для размещения прибывших реквизировалось буквально всё: театры, кафе, гостиницы, частные квартиры, сараи и конюшни. На всех стенах были расклеены объявления:
«Граждане Забайкалья! В Читу в скором времени прибывают отряды, предводительствуемые генералами Войцеховским и Сахаровым. Велик и труден был переход славных полков зимой, при невероятно тяжёлых условиях, в беспрерывных боях, на нескольких фронтах. В движении на Восток им пришлось брать с бою каждый шаг своего пути.
Но всё преодолели мощные ряды стойких борцов. Сейчас они в Забайкалье, готовые после кратковременного отдыха к дальнейшей борьбе. Измученные, голодные, но не павшие духом, славные сибирские полки несут нам с собой безопасность. Они будят в нас надежду на успех правого дела и родят уверенность в скором избавлении Родины от насильников. Будем же достойными согражданами этих мужественных бойцов.
Их жертвы неизмеримы и неоплатны. Так постараемся же все до единого, сколько в наших силах, скрасить их пребывание среди нас. Собирайте пожертвования, несите каждый, что может – чай, сахар, табак, тёплое бельё, платье и обувь, то есть всё то, чего давно уже были лишены в боях наши дорогие гости. Помните, что если мы ещё не всё потеряли, если наши семьи пользуются благополучием и безопасностью, то всем этим мы обязаны едущим теперь к нам борцам.
Не забывайте, что им, нашим защитникам, предстоит новая борьба за общее благо Родины и за наше личное благополучие. Они сделали так много. Нам остаётся сделать так мало: радушно встретить тех, перед кем мы в неоплатном долгу.
Так не будем же терять времени и станем уже сейчас готовиться к достойному приёму приходящих полков. Они общие наши гости, в одинаковой мере всем нам дорогие, и поэтому во встрече их должно принять участие всё население. Покажем им, что Забайкалье умеет быть и радушным, и благодарным.
Земной поклон Вам, славные герои! Мы ждём Вас, дорогие гости!»
Такой отзывчивости населения трудно было ожидать. Оно встречало входившие в город полки со слезами на глазах. Да и было, признаться, от чего прослезиться. Полураздетые, оборванные хуже последних нищих, голодные и одичавшие, отвыкшие от человеческой теплоты, от обычных человеческих навыков, как, например, пользование вилкой и ложкой, смотрящие недоверчиво, сомневаясь, что всё происходящие вокруг не бред, не галлюцинация и не сон – такими предстали читинцам пришедшие из Сибири герои. Сердобольные жители старались помочь, чем могли. У гроба Каппеля выросла целая куча денег: люди просто бросали свои пожертвования – кто сколько мог.
И всё же, несмотря на радушный, истинно братский приём, далеки от безоблачности были отношения забайкальцев и Каппелевцев. Каппелевцам не по душе были нравы, царившие в семёновской вольнице, семёновцы обижались на обособленность пришельцев. Традиции двух войск были слишком разны, чтобы они могли слиться воедино. К тому же раскол, как обычно, шёл сверху. Семёнов, ставший после гибели Колчака приказом последнего Верховным правителем Сибири, не желал делиться властью в своей вотчине, требуя подчинения себе. Сибирские командиры в свою очередь не желали совершенно подчиняться власти человека, репутация которого, по их представлениям, оставляла желать лучшего. Генерал Войцеховский занял в отношении Семёнова позицию независимого сотрудника, осторожного, приглядывающегося и готового при необходимости на разрыв. Сразу по прибытии в Забайкалье Сергей Николаевич провёл совещание, целью которого было выяснить отношение старших начальников к фигуре атамана. Генерал считал необходимым полное объединение двух армий, но исключал такую возможность в случае, если Семёнов не пойдёт навстречу Капелевцам и коренным образом не переменит окружающую обстановку. Мириться с бандитскими методами, бытующими в забайкальской вольнице, для армии было немыслимо. Одни только бесчинства, чинимые при попустительстве Читы бароном Унгерном, вызывали возмущение. А сколько было ещё всевозможных отрядов и разведок! Тщетно пытался бороться с ними покойный адмирал, но без успеха. А ведь именно их действия толкали население на поддержку красных партизан, на вступление в ряды последних.
После переговоров с хозяином Забайкалья удалось достигнуть положения, при котором Семёнов оставался Главнокомандующим, но командование армией оказывалось в руках Войцеховского. Этого, однако же, было недостаточно. Дальней целью Сергея Николаевича было добиться такого положения, при котором бы власть Верховного была лишь формальной, а руки командующего армией были бы полностью развязаны. Очень скоро среди семёновцев поползли слухи, что командование Каппелевцев вынашивает план арестовать их атамана. Каппелевцы, в свою очередь, не могли забыть, что забайкальская вольница пребывала в сытости и обеспеченности всем необходимым и свыше того, но при этом ничего не делала и, выступив было к Иркутску, быстро поворотила назад, когда они погибали от мороза и голода в сибирских лесах. Стали возникать стычки, ссоры. Их гасили офицеры и сам Семёнов, обладавший большим талантом влиять на людей и очаровывать их. Но чувствовалось, что раскол, нарочито усугубляемый невидимыми силами, преодолеть не удастся.
Пётр Сергеевич наблюдал за всем происходящим сторонне. Он ни секунды не верил в возможность успешной борьбы в Забайкалье. Безопасность этого края обеспечивалась присутствием в нём японцев. Японцы – хорошие солдаты и честные союзники, но явно преследуют свою выгоду, и доколе же будут они поддерживать власть Семёнова? Рано или поздно уйдут, и тогда ничто не спасёт семёновского «царства». Потому что бандитские ватаги, каковыми Тягаев считал подчинённых атамана, не смогут оказать порядочного сопротивления красным. Каппелевцы – смогут. Но стоит ли? Какая польза сгубить уцелевших? Сибири не вернуть. России – тем более. Проливать кровь за «удельное княжество» атамана Семёнова? К чёрту! Не стоит оно таких жертв. Могло бы стоить, если бы удалось привлечь на свою сторону массы населения, но это не удастся, потому что отряды головорезов, которым покровительствовал атаман, сделали всё, чтобы отвратить людей, чтобы сделать их красными. И ведь никак невозможно было выступить против Семёнова открыто! Здесь была его территория, и Каппелевцы были на ней гостями, пользующимися благами, которые она давала. Иными словами, невозможно выступить против тех, чей хлеб волей-неволей приходится есть.
Это положение тяготило Петра Сергеевича. Мало радовали дела и в армии. Снова собирались вездесущие эсеры, проникали везде. И совершенно не понимал Тягаев, для чего это допускает Войцеховский? Где эсеры, там смута и измена – сколько раз научены этому! И опять на те же грабли? Пепеляев, чья проэссеринная насквозь армия во дни отступления повела себя позорным образом и едва не арестовала его самого, формировал теперь новые части, полные того же, гнилого духа.
Крепко подумывал Тягаев об отъезде из Забайкалья. Но куда? И зачем? За границу? Противно. И стыдно, пока ещё хоть на одном клочке русской земли длилась борьба. Во Владивосток, где обосновался генерал Дитерихс? Быть может, но и там не виделось перспективы. Наконец, можно было податься на юг. Но на юге Деникин уже потерпел разгром, и какой смысл ехать теперь туда? Чтобы испить ещё одну чашу позора? Позор! Любое поражение – позор! И невыносимо тяжко его сознание! На юге как будто бы находился теперь отчим и сводный брат Николаша, но не так уж близки были, чтобы спешить к ним. Здесь, в Сибири, оставалась дочь. И только Бог ведал, что с ней стало. Решительно, никакого пути не видел себе Тягаев. Прежде во всех решениях им руководил Долг, но теперь и он молчал, и Пётр Сергеевич день за днём проводил в томительном бездействии, один на один со своими чёрными, разрывающими разум и сердце мыслями, растравляя безжалостно все многочисленные раны, не находя выхода из тупика, которым оказалась для него Чита.
Комната, которая досталась ему, стала для Тягаева сродни тюремной камере. Голые стены, металлическая кровать, тумбочка, стул… На окнах вместо занавесок «простыни» газет. Пётр Сергеевич мерил маленькое пространство своего обиталища крупными шагами, временами ложился на кровать, вперив невидящий взгляд в потолок. Его снова стала терзать бессонница, прерываемая ещё более мучительными кошмарами. Временами Тягаеву казалось, что он сходит с ума. Чтобы хоть немного отвлечься, выходил на улицу, вдыхал весенний воздух, бродил по запруженным людьми читинским улочкам, утомлявшим своим шумом и суетой.
Этим апрельским утром Пётр Сергеевич отправился в госпиталь, где лежал поправлявшийся после тифа, который таки свалил его уже на пути в Читу, Панкрат. Тот рад был видеть командира, но покачал головой:
– Вы сами-то здоровы, ваше благородие? Прямо лица на вас нет. Хуже, чем в походе.
Оно и верно, хуже. В походе была цель, смысл, долг, и силы мобилизовывались, и не оставалось времени на рассуждения. А теперь в тихой гавани лишь угасали они.
– А помните, Пётр Сергеич, как мы на Волге?.. Кажется, целая жизнь прошла. Из нашего отряда только мы с вами и уцелели, живые остались.
– Да… Только, может, остальные счастливее нас.
– Это вы зря, Пётр Сергеич. Если мы живые остались, значит, для чего-то ещё нужны, значит, что-то ещё впереди есть у нас, – Панкрат приподнялся. – Может, я ещё внукам своим о Байкале рассказывать буду. И они не поверят, подумают, что сказка…
– Для них вся прежняя Россия покажется сказкой, – вздохнул Тягаев.
Мимо прошла сестра милосердия. Пётр Сергеевич не обратил на неё внимания, но из коридора вдруг окликнули её:
– Сестра Колокольцева!
Тягаев вздрогнул, резко поднялся, нагнал сестру:
– Постойте!
Оглянулась с лёгким удивлением. Женщина лет за тридцать, увядшие губы с залёгшими в уголках скорбными морщинами, спокойные карие глаза за стёклами очков, немного съезжающих с утиного носа.
– Простите, ваша фамилия Колокольцева?
– Да…
– Вы из Иркутска?
– Откуда вы…
– У вас есть младший брат по имени Александр?
– Вы знаете что-то о Саше? – как рукой совлекло спокойствие с лица. – Говорите, ради Бога, всё! Он жив?
Этого-то и не знал как раз Тягаев. Но рассказал подробно всё, что ему было известно. Колокольцева слушала, затаив дыхание, не прерывая, лишь мучительной судорогой исказилось лицо, когда Пётр Сергеевич упомянул об искалеченных руках её брата. Когда Тягаев умолк, сестра всплакнула:
– Господи, я на каждом вокзале писала ему, я искала его всё это время. В обозах во время похода, здесь – в лазаретах… Я почти перестала верить, что он жив! Одна безумная надежда осталась! У меня ведь, кроме него, никого на свете нет. Спасибо вам!
– За что, помилуйте?
– За то, что не оставили его. И за то, что рассказали! – Колокольцева крепко пожала полковнику руку.
Пётр Сергеевич поклонился и вернулся к Панкрату.
– Вот же я дурень! – воскликнул тот. – Ваше благородие, я ж, чурбан, и не додумал! Знал же фамилию, а не смекнул! А вы, как и прежде, орёл! Чуть услышали, и вмиг поняли!
– Полно, Панкрат, – отмахнулся Тягаев.
– А вы знаете, Пётр Сергеич, какой она человек? Редкий она человек, вот что. Такая хорошая женщина, я бы всё сделал, чтобы она опять улыбалась, чтобы была счастлива.
– О, братец ты мой! Да ты, часом, не влюбился ли?
– Чёрт его знает, ваше благородие… Прежде как-то не приходилось, а сейчас не разберу. Хотя какая уж любовь! Лежу тут лешак лешаком – взглянуть срамно. Половины зубов, вон, нет от цинги. Просто хороший человек рядом, понимаете?
– Понимаю, – чуть улыбнулся Тягаев. Он был рад явному выздоровлению старого соратника, рад тому, что смог дать слабый луч света сестре Колокольцевой. Можно было считать, что день не прошёл зря.
На обратном пути Пётр Сергеевич завернул в небольшой ресторанчик, заказал штофик водки и скромный обед. Неожиданно к нему подсел молодой офицер, в котором, несмотря на отсутствие бороды и посвежевший вид, Тягаев без труда узнал капитана Артуганова.
– Разрешите, господин полковник?
– Сделайте одолжение. Вы уже обедали, капитан?
– Только что закончил. Господин полковник, вы газеты сегодняшние читали?
– Нет, – пожал плечами Пётр Сергеевич. – Я, вообще, редко их читаю…
– А я и вовсе не читаю, – улыбнулся Артуганов. – А сегодня стоило бы. На юге важные события произошли. Деникин сложил с себя командование. Там теперь барон Врангель, – поделившись этой новостью, капитан отдал честь и покинул заведение под руку с симпатичной спутницей.
Оставив обед, Тягаев огляделся и, заметив в руках одного из посетителей газету, спросил взглянуть её. Новость, сообщённая Артугановым, оказалась сущей правдой. В газете было опубликовано официальное сообщение о принятии командования над силами Юга России, сосредоточившимися теперь в Крыму, генералом бароном Врангелем.
В большом волнении Пётр Сергеевич покончил с обедом и возвратился в свою «камеру». Резко менялся расклад с этой вестью! Теперь переезд на Юг уже не казался Тягаеву таким бессмысленным. Конечно, борьба обречена, но позора уже не будет. Позора Врангель не допустит. А, должно быть, ни один человек не был бы теперь лишним для него. К тому же, если этот человек – старый друг и опытный офицер. Быстро-быстро расхаживал Пётр Сергеевич по комнате, взвешивая все «за» и «против», куря папиросу за папиросой. Надымил так, что в маленьком помещении повис смог, но на это не обращалось внимания. Всё чётче становилось решение. К чёрту атаманщину! К чёрту эсеров! Где-где, а у Врангеля, во всяком случае, ни того, ни другого не будет. Да и, по совести говоря, хотелось повидаться. И почему только теперь оказалось командование в нужных руках? Как же запоздало всё! Уверен был Тягаев, что окажись Пётр Николаевич у руля изначально, и вывел бы изломанное российское судно из бури, вывел бы к победе.
Ехать в Крым! С этой вполне утвердившейся мыслью, Пётр Сергеевич лег на кровать. Нервное напряжение утомило его, и разболелась голова. Сон, впрочем, не спешил дать облегчения кипящему мозгу. Вместо него наваливалась тяжёлая дремота, в которой явь была перемешена с рождаемыми измученным сознанием бредовыми видениями, сливающимися в сумбур.
Внезапно из сумбура проступила женская фигура. Она, по-видимому, вошла в дверь. Некоторое время стояла неподвижно, затем приблизилась, села на придвинутый к кровати стул, провела рукой по волосам Петра Сергеевича.
– Милый, милый… – донёсся до слуха шёпот.
Какое счастливое видение! Пожалелось, что растает через миг и сменится какой-нибудь мерзостью. Удержать бы её хоть ненадолго! Но она и не спешила исчезать. Она взяла его руку в свои, коснулась щекой, губами, произнесла сквозь слёзы:
– Я так боялась, что больше не увижу тебя…
Тягаев сел, ещё не веря в реальность видения, разогнал рукой смог, нащупал на тумбочке очки и надел их. Нет, это не сон был! Не бред! Перед ним сидела Евдокия Осиповна. Похудевшая, с остриженной после тифа головой, стыдливо скрываемой платком, но живая и всё такая же прекрасная! Слёзы беззвучно текли по тонкому лицу, и скользил по нему золотистый луч заходящего солнца, ворвавшийся в комнату сквозь прореху в старой, пыльной газете.
– Зачем же вы, мой самый родной, мой дорогой человек, отдали меня чужим людям? Ведь я так просила, чтобы вы не покидали меня! Мне было так страшно, когда я пришла в себя, и поняла, что вас нет рядом. Ничего страшнее не могло быть!
– Я боялся, что вы не вынесете похода… Я бы не смог жить, если бы вы погибли. Да ещё и по моей вине. Если бы вы знали, как тяжело мне было разлучиться с вами! Отдать вас чехам… Словно последний обломок души вырвали! Евдокия Осиповна! – Тягаев порывисто сжал её нежную руку. – Неужели это вы? – коснулся её щеки, желая убедиться в том, что не болен, и видит любимый образ не в бреду.
– Я стала искать вас, как только болезнь отступила. Майор Маринек оказался благородным человеком и не препятствовал мне. Когда я узнала, что остатки армии добрались до Читы, я немедленно поехала сюда. Я должна была найти вас, узнать, что вы живы, увидеть. А иначе невозможно! Жить! Петь! Дышать! Милый мой, пожалуйста, чтобы ни случилось впредь, никогда не оставляйте меня, не исчезайте! Я сильная, я выдержу всё, но только не разлуку с вами!
– Я клянусь вам в этом, Евдокия Осиповна! Так же, как и в моей любви к вам! – мгновение, и Пётр Сергеевич уже сжимал Дунечку в объятиях, покрывая поцелуями заплаканное лицо. Кроткий солнечный луч скользнул по ним, словно радуясь их встрече и благословляя их, и погас, уступая место ясной весенней ночи.
Глава 20. Побег из ада
Апрель 1920 года. Район Новониколаевска
Ещё недавно эти города процветали, были центрами Сибири, а теперь больше всего походили на гигантские погосты. Кто не нашёл смерти в подвалах ЧеКи, тот погибал от тифа, кто не замёрз насмерть во время Похода, тот умирал от голода в концентрационных лагерях, опоясавших прежде цветущие города – Томск, Новониколаевск, Красноярск – теперь носящие имя чёрных. Большевики отменили смертную казнь, но позаботились о том, чтобы их уцелевшие враги не остались живы. Каждый день сотни людей умирали в лагерях, и этот способ убийства был надёжнее и выгоднее гильотины.
Их было шестеро, готовых рискнуть последними крупицами угасающей жизни во имя глотка воли, шестеро, не желавших смиренно ждать конца в лагерном аду, где мёртвые не отделялись от живых: старый шарабанщик Захарьин, татарин Калымов, «кулак» Балашов, бывший уездный врач Любич, капитан Юшин и он, Никита Слепнёв. Уже две недели они тайно разрабатывали план побега. В главе дела стояли офицеры – хромоногий Захарьин и харкающий кровью Юшин. Эти два человека постановили бежать, во что бы то ни стало. Они не теряли времени, подмечая всё, делая выводы, ища лазейку, в которую можно было бы утечь шестерым. Даже время работы шло у них в дело. Захарьин полагал, что именно с работ, а не из лагеря бежать проще. Юшин сомневался, ему более надёжным представлялся другой вариант. Оба этих плана обсуждались всеми беглецами, но ни один ещё не был разработан до конца и, следовательно, утверждён, как лучший.
Утром поднялись чуть свет.
– Шагай, шагай, сволочь колчаковская! – удары прикладами в спину.
Плёлся Слепнёв, стараясь ускорить шаг, но не было сил. От практически полного отсутствия пищи его который день изводила дизентерия, бил озноб. Если бы можно было хотя бы на работах что-то есть! Хоть траву! На каких-то, может, и можно было бы. Но не на этих… Заключённых гнали на расчистку железнодорожных путей и их окрестностей от трупов, которыми буквально завален был страшный путь отступавшей армии. Сколько дней уж таскали мертвецов, а до конца далече было. Что за утончённая пытка! Полумёртвых снаряжать хоронить уже умерших… Словно хотели сказать: глядите, завтра то же будет и с вами. И ни травинки не сорвать – вся земля здесь ядом пропиталась.
Сегодня предписано было «разгружать» какой-то полустанок и близлежащую территорию. Подогнали грузовики, на которые мертвецов сваливать надо было, раздали кое-какой инвентарь.
– Никогда не думал, что придётся стать могильщиком, – пробормотал Захарьин, пытаясь заслонить рукавом рваной и перепачканной шинели нос. – Юшин, приглядывайтесь к месту. Здесь очень удобный лес рядом.
– Что проку в вашем лесу? – хрипло отозвался капитан. – Завтра нас перебросят на другую точку. Ваш план был бы хорош, если бы мы подолгу задерживались на одном участке.
– Надо торопиться, а не то нас тоже кто-нибудь подденет крюком, швырнёт в кузов и свалит в общую могилу.
– Ждите! У нас в лагере мертвецов не меньше, чем здесь, но их не спешат выносить!
– Они хотят, чтобы мы постоянно были в их компании. И поскорее присоединились к ней.
– Послушайте, Захарьин, а что если укокошить хотя бы несколько этих выродков?
– Комиссара Михельсона?
– Его в первую голову!
– Пристрелят.
– И очень хорошо!
– Обождём. Если не найдём пути побега, то весьма возможно…
– Шевелись, мразь! – грозный окрик караульного заставил отложить разговор и сосредоточиться на работе.
Слепнёву было плохо. От зловонного смрада, которым был отравлен воздух, от зрелища человеческих останков, от воя и плача, стоявшего кругом. Вокруг мест «очистки» повсеместно собирались люди, потерявшие своих родных и в отчаянии ищущих их среди мертвецов. Караул сдерживал их, но не особо старательно. Караул, большей частью, состоял из насильно мобилизованных, так как добровольцев найти на такую работу было невозможно. Захарьин сразу отметил это, считая, что в караульной цепи может найтись слабое звено. Юшин сомневался, возражая, что страх не позволит мобилизованным помогать «контре».
Почему только время «очистки» выпало на апрель? Почему не зимой? Зимой было бы не так тяжело. Никита утёр рукавом крупные капли пота, покосился на проникших сквозь цепь людей, бродящих среди мертвецов, вглядываясь в них, по особым приметам надеясь узнать своих. В основном, это были женщины. Молодые и старые, крестьянки соседних деревень и городские интеллигентные дамы и барышни. Чёрные, с заплаканными, полоумными от горя глазами.
– Никита Игнатьич, не зевай! Моя без твоей не справляется, – зажалобился Калымов рядом.
– Иду! – отозвался Слепнёв, сделал несколько нетвёрдых шагов и споткнулся об одно из тел. Голова отлетела, покатилась по земле – прямо к ногам пожилой вдовицы. Та не отшатнулась, не вскрикнула, а наклонилась, подняла голову, засмеялась безумно-счастливо, кривя дрожащие губы, глядя страшными, как у всех умалишённых, глазами: – Нашла, нашла! Наконец-то я тебя нашла!
Никита отвернулся. Его рвало. Сильный удар под скулу опрокинул его на землю:
– Работай, сволочь! – и ещё сапогом в поясницу, и ещё…
– Оставь его! – послышался хриплый голос Юшина. Худой, косматый, в рванине с чужого плеча, он надвигался на начальника караула Павлова, подрагивая от ненависти и рвущегося из груди надсадного кашля.
Павлов был из той породы нелюдей, которым доставляет удовольствие унижать и причинять боль. Попытки выступить против его власти приводили его в бешенство. Бросив Никиту, он обернулся к капитану:
– Ты что, падаль колчаковская, забыл кто ты теперь? И кто я? Так я тебе напомню! – миг, и Юшин корчился на земле от удара дубинкой, с которой Павлов был неразлучен, в живот. – Плохо тебя учили исполнению команд в твоей армии! Ну ничего, я это исправлю. Будешь у меня любую команду, как пёс выполнять! Иначе сгною! – сплюнув, костолом ушёл.
Никита приблизился к капитану, помог ему подняться:
– Как вы?
– Хорошо, – прохрипел Юшин в ответ. – Ночью обсудим план. Я придумал, как уйти…
– Шевелись, падаль! Шевелись! – слышались гневные окрики Павлова. Этого нелюдя даже царившая кругом атмосфера, видимо, вовсе не выводила из равновесия. Боясь получить ещё один удар начальственной дубинки и сапога, Слепнёв, превозмогая слабость, принялся за работу, со страхом и надеждой думая о плане, который придумал капитан Юшин. Если бы только удалось бежать! Куда только? Больше всего хотелось Никите домой, к матери, если она ещё жива, но доберись ещё туда! И там – непременно схватят… Узнают и схватят…
О доме особенно светло вспоминалось теперь. А раньше не ценил совсем! Да и что особо ценить было? Тёмный пятистенок, ребятишек четверо (всего мать восьмерых отцу спородила, но только половина до возраста дожили), мать, изнемогающая от хозяйственных хлопот, вечно пьяный отец… Могли бы жить, как люди, чай с сахаром пить да мясом разговляться в праздники, но откуда чему взяться в дому, если хозяин пьёт? То вроде брался за ум, а то начинал сызнова – и на месяца, и до чертей, до того, что мать с детьми несколько раз к родителям в соседнюю деревню уезжала. И додурил: возвращался раз хмельной с очередной попойки зимой и замёрз насмерть. Совсем худо было бы жить, если бы барыня участия не проявила, взяв мать кухаркой в дом. Барыня была женщина сердобольная, и барин хороший человек был, хотя по хозяйству и не смыслил. Глеб Тимофеевич был самым настоящим барином. Холёным, с ленцой, но души доброй и щедрой. Он искренне сопереживал крестьянским нуждам, знал всех крестьян своего имения поимённо, на праздники непременно одаривал их деньгами, помогал в случае беды. Больше всего барин любил сидеть на крыльце и читать газеты, либо толстые книги. Ирина Александровна была деловитее, это её хлопотами открыты были в деревне школа и больница, за которыми сама она следила, особенно заботясь о том, чтобы снизить смертность среди детей. Мать и барина, и барыню почитала и любила. И дочку их, барышню Алину Глебовну, тоже любила. Алина ещё в детстве отличалась большой красотой, независимостью нрава и смелостью. Никита, бывший пятью годами младше, робел перед нею, терялся, краснел и боялся сказать хоть слово. Друзья потешались, замечая это. Алина, впрочем, не обращала на него внимания. Она росла гордой, сознающей и красоту свою, и ум. У барышни не было близких подруг, обществу она предпочитала одиночество. Часто ездила одна верхом, несмотря на запреты отца, купалась в реке до самой осени. Однажды Никита случайно увидел её купающейся. Когда Алина вышла из воды, он нечаянно оступился, барышня обернулась, и Никита припустился бежать. На другой день, встретив его, она лукаво прищурилась:
– Что, маленький шпион, раскраснелся? Стыдно?
– Русалка! – бросил в ответ ей и убежал.
Алина долго и заливисто смеялась вслед. Смех её был звонок и чист, и она была особенно хороша, когда смеялась. Никита злился на себя, но не мог не любоваться ею. Тому, как она расчёсывает свои густые, до самых колен, волосы, тому, как ездит верхом, стройная, лёгкая, с вдохновенным лицом и развивающимися по ветру золотистыми прядями. Было что-то невероятно притягательное, колдовское в этой гордой красавице. Скоро, однако, Никита лишился возможности видеть её. Умерла Ирина Александровна, и барин, глубоко переживавший её уход, решил перебраться в город, оставив имение, где всё напоминало о любимой жене. Алина, само собой, уехала с отцом.
Наступили трудные дни. Из-за того, что мать лишилась места, снова бедовали. Через год нужды старший брат Василёк надумал тоже подаваться в город, устраиваться на завод. Увязался с ним и Никита с закадычным дружком Исайкой.
Весной тринадцатого года обосновались в Астрахани. Астрахань была настоящим рабочим городом, где трудились десятки тысяч рабочих. Особенно многочисленны были здесь металлические заводы. Устроились трудиться на «Вулкан». Всё потрясало воображение Никиты сперва в этой гигантской кузнице! Кипящая сталь, пламя, печной жар – словно подземное царство, о котором бабаня рассказывала в детстве. Работать приходилось много, но зато нужды не ведали. Богата была Астрахань и хлебом, и рыбой, а платили рабочим вполне сносно. Василёк, правда, ворчал, что мало, но много разве бывает когда? Зато через полгода оделись с иголочки, даже рубахи красные купили – шик! И сапоги! И матери с меньшими сёстрами отправляли деньжонку. Чего б ещё надо?
На Святках, по окончании рождественского поста Василёк женился. И сразу почужел как-то. И Никите тосковалось. В Астрахани снова видел он свою русалку. Она ещё больше похорошела за это время. Тьма поклонников увивалась вокруг неё, и никому она не выразила благосклонности. Словно потешалась исподтишка – непреступная.
А деньки золотые кончались. Трудились-трудились на земле и заводах – думали мирную и хорошую жизнь зачинали, а зачали войну. С металлических заводов призыва не было, поскольку так велико было их оборонное значение, что работа на них к службе на фронте приравнивалась. Только Исайка – неспокойная душа – подался зачем-то во флот. Наскучили заводы дружку, захотелось чего-то нового.
А через три года революция приключилась. И так радостно было! Ликовали все! Христосовались, как на Пасху! Царя сбросили, строй старый сбросили! Теперь новая жизнь начнётся! Теперь всё совсем по-новому завертится!
И завертелось… Особенно с начала восемнадцатого. Началось с того, что объявили большевики хлебную монополию. Для Астрахани, привозным хлебом жившей, большой это удар был. Но обтерпелись, рыба оставалась – ею, вон, Волга полным-полнёшенька была, десятки миллионов пудов ежегодно вылавливали. Но тут объявили о социализации рыбных промыслов и немедленно расстреляли многих рыболовов. И пропала рыба… Даже сельдей, которыми запрещено было торговать под страхом ареста и продавца, и покупателей, не достать стало!
В восемнадцатом выручали ещё кое-как матросы волжского флота, но с приходом зимы и эта «лавочка» закрылась. Кругом Астрахани и на железной дороге, и по проселкам стояли реквизиционные отряды. Продовольствие отбиралось, продавцы и покупатели расстреливались. Астрахань, окруженная хлебом и рыбой, умирала с голода.
В деревне не лучше было, но мать умудрялась кое-какие запасы сберечь. Гостевал у неё Никита с неделю, а, когда засобирался назад, дала ему мать с собой разных припасов, строго-настрого наказав снести их барину:
– Они нам в своё время пособили. Кабы не барыня-покойница, мне бы вас не поднять. Долг платежом красен!
Так впервые за эти годы Никита побывал в доме у бывшего барина. Глеб Тимофеевич сильно состарился, но ещё казался крепким. Алина успела выйти замуж и овдоветь, потеряв мужа на войне, и цвела, как раньше. Только похудела чуть, но это нисколько не портило её красоты. За барышней и теперь множество ухажёров увивалось, слетались, как на мёд. И в основном – комиссары! А Алина Глебовна оставалась верна себе, не удостаивая никого своей благосклонностью. Никиту и она, и барин встретили приветливо, усадили пить чай, вернее то, что им теперь считалось. Уговаривали оставить продукты себе и семье Василька, но Никита был непреклонен:
– Я мамке слово дал вам снести, и сам от этой снеди ни кусмана не возьму.
Барин даже прослезился, благодаря мать, вспоминая, какой замечательной она была кухаркой, и как любила её покойница Ирина Александровна. Целый вечер просидел Никита у них. И как-то приятно было, что, наконец, он больше не «маленький шпион», не кухаркин сын, а как будто бы старый друг. Просили заходить ещё, и несколько раз воспользовался Никита этим предложением, каждый раз норовя принести что-нибудь для поддержания сил своей голодающей русалки.
С января девятнадцатого года продовольственное положение стало сулить рабочим Астрахани настоящий голод. От них приказом по заводам требовали максимума производства. А какое производство, если после тяжёлого рабочего дня нужно ещё стоять в «хвостах» у пекарен за восьмушкой хлебного пайка? Стали возмущаться уже вслух, не стесняясь в выражениях. Брат Василёк чернее ночи ходил, ему своих двоих мальчишек кормить нечем было. Власть, между тем, назначила особые патрули, которые должны были разгонять импровизированные митинги. Наиболее активные рабочие были арестованы. После этого, наконец, заговорили о забастовке. И давно бы пора! Натвори такое царь, так уже давно бы на дыбы встали! На специальном собрании представитель матросов волжского флота заявил, что матросы в случае забастовки выступать против бастующих не будут. Это сподвигло к принятию окончательного решения.
Во вторую годовщину февральской революции рабочие вышли на митинг. Накануне жена уговаривала Василька остаться дома, предчувствуя чулым сердцем худое, но тот весь кипел и был одним из наиболее активных сторонников забастовки. И на митинг вышел Василёк в первых рядах. Всего до десятка тысяч рабочих собралось на эту бузу. Обсуждали создавшееся положение и свои требования. И не сразу заметили, как оказались оцеплены пулеметчиками, матросами и гранатчиками.
– Товарищи, именем рабоче-крестьянской власти, мы приказываем вам немедленно прекратить митинг и разойтись по своим рабочим местам! В противном случае мы вынуждены будем прибегнуть к силе!
– Куда разойтись?!
– У нас дети с голодухи пухнут!
– Никуда не пойдём, покуда вы наших требований не выполните!
Закричали, загомонили возмущённо. Трах! Не сразу сообразили, что это за звук странный. Примолкли. И только, когда увидели падающих, догадались. А уже со всех сторон пулемёты затрещали, загрохотали ручные гранаты оглушительно. И за грохотом этим ни стона, ни крика разобрать было нельзя. Заметались, ища спасения. Иные на землю падали, накрывая руками головы в страхе.
– Куда?! За мной! – взревел Василёк. И вместе с ним толпа ринулась на оцепление и стремительным натиском прорвала его. Кинулись бежать по улицам – в разные стороны. В спины строчили мгновенно развёрнутые пулемёты. И уже вся улица телами завалена была. Мимо корчившихся в предсмертной агонии, сметая друг друга, затаптывая упавших, люди в панике бежали, и только слышны были отчаянные крики:
– Стреляют, стреляют!
Добежали до церкви, остановились, обступили Василька. Он, малорослый, жилистый, смуглолицый, весь дышал энергией. К нему обратились все взгляды:
– Василий Кирьянович, что делать будем?
– Бежать из города!
– Бежать! Бежать! – повторили многие вокруг.
– Да куда ж бежать? Одно бездорожье кругом! Волга вскрылась!
– Хлеба нет ни куска.
– Хоть к белым. Здесь расстреляют!
– А жена, а дети? Братцы, как же?
Затуманилось Васильково лицо. Тряхнул куделями тёмными:
– Все равно погибать. Хоть здесь, хоть там!
– Правильно! Бежать, бежать!
В это время прогудел далекий орудийный выстрел. Странно задребезжало в воздухе, зажужжало и бухнуло, и… купол церкви с грохотом обрушился. Это уже серьёзная артиллерия в бой пошла! Против безоружных! Эк испугалась рабочая власть рабочих! Грохнул ещё один взрыв, третий, четвёртый… Толпа в отчаянии хлынула в разные стороны. И кто-то умелый координировал стрельбу – метко попадали в бегущих. Никита увидел, как вздрогнул, схватившись за шею, Василёк. Повалился на мостовую рядом с другими убитыми. Кинулся к нему:
– Вася, ты что?!
Пуля угодила брату в шею. Другая, ещё раньше, пробила руку.
– Беги, беги… – прошептал Василёк. – К белым беги… Здесь убьют…
С этим заветом и помер брат, а Никита не успел утечь – тут его и схватили, как ещё до двух тысяч рабочих.
Часть пленных была размещена по шести комендатурам, по баржам и пароходам. К ночи началось кровавое безумие. Расстрелы шли во дворах и в подвалах, с палуб «бунтовщиков» сбрасывали прямо в Волгу, связывая руки и ноги или привязывая камни на шею. Ту страшную ночь Никита провёл в трюме парохода «Гоголь». С ним были там ещё человек двести, из которых кое-кого он знал лично. Сгрудились, как сельди в бочке. Ни вздохнуть, ни повернуться. Забился Никита за одну из машин, благо подстать брату мал был и жилист, ждал, как все прочие, участи, не сомневаясь в ней. Вскоре пришли матросы, стали уводить приговорённых наверх. Опустел трюм…
– Грошев, глянь, не притаилась ли какая…!
Молодой матрос быстро сошёл в трюм, стал проворно шарить по углам и, вот, остановился напротив Никиты, побледнел, узнав. И Никита дружка закадычного узнал, смотрел на Исайку умоляюще.
– Никого нет здесь! – ушёл поспешно.
Захлопнулась дверь, а наверху уже расправа шла. Крики, брань, удары, редкие хлопки выстрелов. Никита пытался зажать руками уши, чтобы не слышать, как убивают его друзей, но бесполезно. В котором часу бойня завершилась, он не знал. А с рассветом в трюм сбежал белый, как полотно, и взволнованный Исайка, всучил какой-то узел:
– Пошли быстро! Здесь жратва. Выведу тебя, шагай на все четыре стороны. Постарайся убраться из города – может, уцелеешь!
– Ты зачем с ними? Ты зачем?.. – спросил Никита, вставая. – Они Василька убили, они таких же, как ты… А ты!..
– Шагай! – вскрикнул Исайка, дрожа от волнения и толкая прежнего друга вперёд себя.
В рассветный час город показался Никите сплошным кладбищем. Убитых было так много, что их не трудились свозить на погосты, оставляя лежать во дворах и на улицах. И, словно тени, в слабых лучах брезжащего утра бесшумно бродили меж них живые, разыскивая родных. А на всех заборах и витринах уже красовалось правительственное сообщение: «10 марта сего 1919 года, в десять часов утра, рабочие заводов «Вулкан», «Этна», «Кавказ и Меркурий» по тревожному гудку прекратили работы и начали митингование. На требование представителей власти разойтись рабочие ответили отказом и продолжали митинговать. Тогда мы исполнили свой революционный долг и применили оружие…» Подпись: член Всероссийского Ц.И.К. Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, Член Революционно-Военного Совета Республики, председатель Кавказско-Каспийского фронта К. Мехоношин… Гореть тебе в аду, как в расплавленной стали, товарищ!
Наведаться к семье Василька Никита не рискнул. Выбравшись из города, он скрывался некоторое время по лесам, а затем добрался до матери, укрывшей его в подполе, так как по всем окрестностям вёлся отлов беглых рабочих. Месяц спустя из Астрахани приехала Василькова вдовица, Груша, с детьми, рассказала о том, что было в городе в эти дни. После расстрела рабочих принялись за «буржуев»: брали каждого домовладельца, рыбопромышленника, владельца мелкой торговли, заведения и расстреливали без суда и следствия. Не осталось ни единого дома, где не оплакивали бы кого-то из родных. Сначала власти говорили о двух тысячах расстрелянных. Потом о трёх. Затем стали публиковать сотнями списки расстрелянных «буржуев». Бежавших рабочих настигла красная конница, их вернули, многих расстреляли, других страхом заставили вернуться на заводы. И обязали к тому явиться на похороны «жертв восставших»! Время явки уже истекло, а рабочих набралось всего лишь несколько десятков. Тогда стали сгонять уклонявшихся со всех улиц, вытаскивать из квартир и с дворов. Конники из инородцев рыскали по городу, жестоко пороли нагайками обнаружённых рабочих. И согнали-таки! И тянулось по городу похоронное шествие, воя «Вы жертвою пали…». Хоронили нескольких палачей, оплакивая тысячи убитых товарищей. Ораторы голосили о пролетарской мести, о революционном долге, о раздавивших восстание героях. Слушая эти торжественные выкрики Груша упала в обморок. Тело своего Василька она так и не нашла…
От Груши узналось и ещё страшное. Убили барышню… Пришли и увели, несмотря на мольбы отца. А когда он на другой день пришёл справиться о её судьбе, выдали ему обнажённое тело. Так разрешили комиссары свой спор о непреступной красавице. Барин после этого стал заговариваться и, как показалось Груше, стал не совсем в уме. Узнав об этом, мать тотчас собралась и поехала в город, чтобы позаботиться о Глебе Тимофеевиче.
Путь же Никиты лежал в другую сторону. Астрахань после кровавого марта практически вымерла. Несмотря на разрешение власти ловить рыбу и покупать хлеб (какой страшной ценой заплатили за это право!), рабочие повально бежали из города. Заводы замолчали, больше не дымились их трубы, не кипела сталь. Делать в этом городе больше было нечего. Да и не было сил вернуться после всего. Никита решил исполнить завет брата – пробиваться к белым.
В ряды Белой армии Слепнёв вступил летом девятнадцатого в разгар её побед. Но победы эти быстро сменились поражениями, отступлением и, наконец, пленом, в который угодил Никита. Вот, уже которую неделю он существовал в грязном, смрадном бараке, забитом истощёнными людьми, половина из которых бредили в тифу, а иные уже умерли. Еды практически не было, никакой нужды не было у большевиков кормить пленных. Жадно поедали всякую травинку, но и травинки нельзя было отыскать в оцепленном колючей проволокой лагере! Всё, что годилось в нём в пищу, уже было съедено. Зубы шатались, дёсны сочились кровью, Никита чувствовал у себя явные признаки цинги, которую подтвердил и доктор Любич, добрейший человек, пытавшийся в этом аду хоть чем-то помочь людям, исполняя свой врачебный долг. А людей тысячи были. На смену умершим пригоняли «пополнения». Здесь были офицеры и рядовые солдаты, крестьяне, арестованные за «недоимки», казаки, городская интеллигенция. Все они ввергались в огромную машину смерти, именуемую концентрационным лагерем.
Прежде других, Никита сошёлся с подполковником Захарьиным. Волжанин, бравый вояка, за плечами которого было две войны, он не унывал даже здесь. Насвистывал мотив «Шарабана», весёлой французской песенки, которая была отчего-то популярна среди белых частей на Волге в начале борьбы, и вынашивал план побега. Его тайным помощником уже тогда был Любич. Позднее к их образовавшейся троице примкнули Балашов, Калымов и Юшин. Капитан, едва оправившийся от воспаления лёгких, пробирался от Байкала в родную древнюю, разыскивая жену и сына. И угодил в плен. И теперь рвался из него, чтобы продолжить розыски, а сам задыхался от кашля, который внушал самые серьёзные опасения Любичу.
Был ещё один человек, знающий о побеге. Санитар Гриша, помогавший доктору в его хлопотах о больных. Любич ручался за него. К тому же Гриша был очень силён физически, что могло быть кстати при побеге. Захарьин, однако, не склонен был слишком доверять ему. В деталях планы побега обсуждались лишь в кругу четверых: его самого, Юшина, доктора и Никиты. Остальным доверялось лишь кое-что по необходимости.
Слепнёву казалось, что план вынашивается слишком долго. Он и сам не мог придумать ничего толкового, а потому не роптал на товарищей. Но с каждым днём росла тревога. Никита чувствовал, как силы оставляют его. А для побега сколько их понадобится! Он понимал, что пройдёт ещё совсем мало времени, и он не то что бежать, но даже подняться на ноги не сможет. Но, вот, вроде бы обнадёжил Юшин, сам едва дышащий, что есть план. Лишь бы Захарьин одобрил!
Насилу дождался Слепнёв окончания «работ». Закинули с Калымовым последнего мертвеца в кузов грузовика, где уже горой высился страшный груз, утёрли пот со лба: Боже, дай больше никогда этих братских могил не видеть! Словно сам насквозь пропитался смрадом, и уже готовый покойник был. Заурчали грузовики, отъезжая, и стали отходить чёрные зыбкие тени, так и не отыскавшие своих…
Пленники возвращались в лагерь. Захарьин, как всегда, бравый: руки заложил за спину, голова гордо поднята, на лице, заросшем и пересечённом белым, длинным шрамом, ни тени тоски, насвистывает «Шарабан» – невольно залюбуешься этой спокойной отваге!
Наконец, захлопнулись за спиной «врата адовы». На дворе стразу привлекла внимание сутуловатая фигура комиссара Мехельсона. И Павлов тут как тут был, прислуживался. Построились пригнанные с «работ» пленные, мечтая лишь об одном: похлебать какой ни на есть горячей бурды и забыться сном.
– Захарьин! Юшин! Слепнёв! Калымов! Балашов! Выйти из строя!
Что ещё такое? Раскрыты? А где же Любич?.. Оставался в лагере, пользуясь положением врача… Неужели?..
– Что, падаль, утечь надумали? Бежать? – кривились издевательской усмешкой губы Павлова, щурились пустые, как у нежити, глаза. – Я вам устрою побег! В ад!
– Ничего у тебя не получится, – прохрипел Юшин, поднимая посеревшее лицо с почти исчезнувшими в чёрных провалах глазами, и присовокупил тяжёлое словечко, адресованное Павлову. Тот подошёл вплотную к капитану, навис над ним:
– Отчего же не получится?
– Нельзя сбежать туда, где мы уже находимся. Отсюда только в рай утечь можно, – глубочайшее презрение к палачу звучало в тоне капитана. Он словно нарочно провоцировал его. Пробежала усмешка по чёрным от запекшейся крови губам: – А тебе, дураку и мяснику, это невдомёк.
– Больше ты у меня не гавкнешь, собака! – Павлов со всей силой ударил Юшина своей дубинкой. – Сгною! – добивал ногами, вымещая всю злобу, потом велел караульным: – Увести их!
Увели, куда и ожидалось. В маленькую сараюшку, где уже стояли впритык друг к другу два десятка человек. Втиснули, вдавили и закрыли дверь. Здесь смертники должны были провести свои последние часы.
– Ироды! – мотнул головой Балашов. – Почему сразу не расстреляли?
– Сразу – слишком легко. А им надо, чтоб мы ещё помучались в ожидании смерти, – откликнулся Никита, вспоминая ночь в трюме «Гоголя».
– Это их благодеяние, – прошептал Юшин, стоявший лишь потому, что был плотно стиснут людьми, заполнявшими маленькое помещение до такой тесноты, что нельзя было даже присесть. – Они дали нам часы для покаяния и молитвы.
– Господа! Господа, вы меня слышите? – из дальнего угла послышался голос Любича.
– Доктор, и вы здесь? – Захарьин приподнялся на мыски. – А, вижу вас, сударь!
– А вы уже, должно быть, успели обо мне подумать?
– И о вас, и о вашем шкуре-санитаре. Где он, кстати?
– Это он донёс на нас!
– Неужели? А ведь я остерегал вас, Любич, доверять ему! Могли бы вы и поверить мне! Чёрт возьми, не такой я дурак – столько лет в контрразведке служил!
– Простите, Виктор Григорьевич, но я не мог не верить Грише, мы с ним не один фунт соли вместе съели.
– Что ж, теперь это уже неважно. Об одном жалею, что не успею на этом свете, придавить этого сукиного сына.
– Двенадцать вас избрал я, но один из вас был дьявол, – Юшин закашлялся. – Не беспокойтесь, господин подполковник. Он удавится сам.
Всё было кончено, надежд не осталось. Через несколько часов их должны были расстрелять. Но Никита чувствовал такое изнеможение, что даже на страх не осталось сил. Узники переговаривались между собой, Захарьин насвистывал любимый мотив. Но, вот, всё стало затихать, и затихло совсем. Каждый уединился со своим сердцем, своей памятью. Прошло около получаса, и тишину нарушил слабый, хриплый голос, читавший отходную, словно бы отпевали в церкви новопреставленных. Никита вспомнил, как Юшин рассказывал, что был некогда семинаристом, готовился в священники. Оказывается, до сих пор помнил капитан наизусть тексты служб, псалтирь. Он произносил положенные слова с видимым трудом, задыхаясь, закрыв глаза, но скоро несколько голосов стали вторить ему. Обречённые смерти отпевали самих себя. Так продолжалось до рассвета, пока дверь не распахнулась, и грубый голос не пролаял столько раз слышанное в отношении других и ожидаемое:
– В расход!
Глава 21. Око за око
Май 1920 года. Окрестности Барнаула
Из Красноярска Бог вывел. Чудом просеялись через решето, чудом из смертельного капкана целы и невредимы спаслись. И до родного дома добрались тоже чудом. А только жить там нельзя оказалось. Круто заворачивали большевики! Только держись! Шли на Сибирь с лозунгом: «Все в Сибирь за хлебом!» Голытьба проклятая, воровайки! И пришли, и отняли весь хлеб до последнего зёрнышка. Более тридцати видов развёрстки ввели: на зерно и овощи, на мясо и яйцо, на кожи и шерсть… И не только прибрать к рукам запасы им надо было, но сломать мужика! Вместо того, чтобы наладить товарообмен на основе свободной торговли, просто отбирали продукты у крестьян безвозмездно! Поясняли, что такие меры необходимы из-за голода в Европейской России! А будто бы не они, разбойники, довели её до голода этой же самой продразвёрсткой! Теперь и Сибирь до такого же бедствия довести надо было. Для грабежа мужиков снарядили сюда в помощь местным негодяям целую армию: шесть тысяч продотрядчиков, девять – продармейцев и двадцать – рабочих! Эти-то мОлодцы и выгребли весь хлеб – до шестнадцати миллионов пудов. А никого не накормили! Не только центр, но даже свои сибирские гарнизоны и города снабдить не смогли. И что же сделали? Издали декрет! «Губпродкомиссару предоставляется право в порядке боевого приказа возлагать личную ответственность за своевременную ссыпку на председателей волревкомов и волиспокомов, подвергая не выполнявших заключению в концентрационный лагерь. Тому же подвергаются кулаки, не ссыпающие хлеб и подстрекающие к невыполнению развёрстки». И заварилась каша! Стали повсеместно хватать мужиков «за недоимки»! А какие недоимки, когда повыгребли всё, даже семенного фонда для посевной не оставив? И ещё допекли! В родной Алтайской губернии сообразили устроить махинации с солью. Создали искусственный дефицит и спекулировали: давай нам, мужик, пуд масла, а мы тебе, так и быть, фунт соли отцедим!
Сатанел Антон, на это глядя. Из собственного дома ноги уносить пришлось. А не то угодил бы прямиком в концентрационный лагерь! Уж всё бы припомнили! И отца-«кулака», и тестя-богатея, и собственное прошлое. Не вмещалось в сознании… Всю жизнь Антон не ведал праздности, всю жизнь работал на совесть. И также работали отец и тесть. И, вот, теперь всё прахом пошло! Ничего от кровью и потом заработанного не осталось! Но – дали бы хоть заново строить! Ещё в силах был Антон, ещё на многое годен. Дали бы рачительно и с умом отцово хозяйство поднимать и вести – и ушёл бы всей душой в этот труд. Прежних богатств не вернуть, но хоть средний достаток обеспечить, чтобы дети не голодовали. Нет, и этого не давали! Просто трудиться на земле не давали! Не успел вернуться в родную деревню, как затаскали по проверкам, и вовремя понял, что житья не дадут, не простят. Не стал дожидаться ареста, подался прочь. А куда было идти? Ответ быстро нашёлся.
Неповоротлив и тяжёл на подъём был сибирский мужик, но, если сильно измордовать его, так любого на вилы поднять становился готов. Вначале приняли большевиков спокойно (лишь бы война прикончилась! – дурачьё наивное), а как развёрстку ввели, так и встали на дыбы. Чужой-то шкуры не жаль, а свою тронут – сразу дойдёт, что к чему! Заполыхали восстания по всем уездам. Под Барнаулом собирали силы, объединяя разрозненные отряды, бывшие красные партизаны Новосёлов и Рогов (тоже быстро нахлебались алканой каши голубчики!). К одному из таких отрядов и примкнул Антон. В отряде было полсотни человек – жителей окрестных деревень. Командовал ими бывший унтер-офицер Семён Кругляков. Не привык Антон к такой жизни. О войне только слышал он, а никогда не видел вблизи, не участвовал. Стал при Круглякове чем-то вроде казначея вкупе с делопроизводителем. Большевики Семёну давно виселицей грозили, охотились за его отрядом, «банда Круглякова» окрест везде наслуху была. И нет-нет, а подумывалось Антону: не банда ли это, в самом деле? Конечно, банда – большевики. Банда многотысячная, банда властная. И все меры борьбы с ней хороши! Но кругляковская ватага не банда ли тоже? Кругляков декларировал, что воюет он против продотрядов, большевиков и жидов. Дело ясное, а только вчера ещё Новосёлов и Рогов, в формальном подчинении которым находился бывший унтер, сражались за них. И сколько поубивали белых за пору своего «заблуждения»? Но выбирать не из кого было, и тушил Антон свои сомнения. Вместе с кругляковцами он участвовал в их вылазках. Громили продотряды, не беря пленных, без пощады уничтожая всякого попавшегося большевика, поджигали сельсоветы, отлавливали партийцев по деревням, руководствуясь наводками приходивших в отряд мужиков. Всё правильно и справедливо было, а на душе такая муторность стояла, что хоть в омут головой. Да уж и бросился в омут, и теперь засасывало…
Раз пробрался, таясь под покровом ночи, в родной дом. Одолевала тоска по нему. По Мане и детям. А встретились безрадостно. Ещё и Демид расстроил окончательно. С Демидом у Антона никогда дружбы не было. Да и встречались редко. Кажется, в ту ночь впервые и поговорили по душам. По взгляду деверя угадал Антон, что тот камень за пазухой держит, корит.
– Ну, – спросил его, – что смотришь на меня, словно я тебе денег задолжал? Говори уж прямо!
– Не дело вы делаете с твоим Кругляковым, – отозвался Демид, качнув головой.
– Это почему же? Разве плохо продразвёрстчиков бить, которые нас обобрали?
– Вы не только их бьёте. Давеча ваши сельсовет в Михайловке пожгли? Молчишь? Ваши! А от того пожара всё село занялось, слыхал ли? Скольких вы людей без крова оставили?
– Лес рубят – щепки летят! – озлился Антон.
– Вот! И большевики так рассуждают!
– Ты нас с большевиками не ровняй, Демид! Это не мы в их амбары пришли, не мы их отцов и братьев по лагерям попрятали! Мы только защищаем своё!
– Кто защищает своё? Мужики, ясное дело, своё. А твой Кругляков? А подручный его, Кондратьев? Он же в Барнауле следователем был при царе. Потом к эсерам примкнул, воду мутил, а теперь мужицкий заступник? Брось, Антон! А Рогов с Новосёловым? Ты серьёзно веришь, что они о мужицком счастье хлопочут? Да чихать они хотели на мужика! Бога у них нет в душе. А есть только злоба. Для них не цель важна! Для них смута – самая лучшая среда, и век бы чтоб она длилась, потому что вне её они не существуют. Они получают удовлетворение своих страстей от того, что они вожаки. Что они могут распоряжаться чужими жизнями. От борьбы с кем бы то ни было. Наконец, от насилия! Скажешь, я не прав? Были белые – они воевали с ними. Пришли красные – восстали на них. Они не хотят, чтобы установилась какая-либо власть.
– Мне, Демид, нет дела до мотивов вожаков. Иных у нас нет, а они своё дело знают. Зато с нами не одна сотня мужиков, и они знают, за что сражаются. Надо, чтобы по всей Сибири мужики на большевиков попёрли, и тогда они не удержатся. А как мы придавим их, так наши войска из Забайкалья возвратятся, и ещё поглядим тогда, кто кого! Мы им каждого убитого вспомним!
– Око за око?
– А ты бы предпочёл всепрощение?
– Вы не сокрушите большевиков, Антон. Они пришли надолго. Это бич Божий, и его надо принять. Иначе будет лишь хуже. Ваши действия лишь усугубляют положение. Месть – дрянной фундамент. А другого у вас нет. Вы говорите, что боретесь с большевиками, а горят деревни. Вдовы и сироты остаются без крова. Это большой грех! Вы против Бога и людей идёте! Нельзя наносить удары, не отделяя агнцев от козлищ. Вы убиваете одного комиссара, а за него расстреливают десятки мужиков и баб. Ради чего? Наши деревни обезлюдели за эту войну. Столько крови пролито, что вся земля ей напитана! Для чего ещё умножать её? Для чего умножать страдания? Пора остановиться, иначе перебьём друг друга, и останется земля сиротствовать.
– Предлагаешь большевикам поклониться? Примириться с ними? А что дальше? Ты что думаешь, мне охота мыкаться по лесам? Я ненавижу войну и насилие! Но если я сложу оружие и вернусь домой, то назавтра меня арестуют. Если бы я не ушёл в леса, арестовали бы уже. И расстреляли бы! За тестево богатство! У меня, Демид, выбора нет. И у всех наших тоже. И молиться за врагов своих я не могу и не хочу. У меня нет для них прощения, а только самые чёрные проклятья. А ты, если можешь, молись! За всех нас молись! Авось, что и вымолишь…
– А я всякую ночь молюсь. И за вас, и за них.
Зря молился кроткий Демид. Не прошло и недели с того разговора, как вывели его из церкви, отшвырнув ползающую по земле Анфиску, молившую пощадить мужа, и расстреляли на глазах всей деревни. Анфиска после этого ребёнка выкинула, занемогла серьёзно. На Демида донёс бывший псаломщик, резко обольшевичившийся с утверждением советской власти. Псаломщик был женат, но имел зазнобу в соседнем селе. Повадился с издёвкой требовать у Демида: «Батюшка, теперь свобода провозглашена! Венчай меня с моей Матрёной! Совдеп разрешил!» Демид же отказал: «Пускай тебя совдеп и венчает!» Псаломщик обозлился и донёс, куда следует, что Демид контрреволюционер и прячет у себя партизан. Последнее было правдой. Как не корил деверь партизанщину, а не мог отказать в приюте раненым и больным, нуждавшимся в помощи, прятал их у себя. Немало среди них было односёлов, которых разыскивали красные. То ли прознал о том псаломщик, то ли со зла сочинил, но Демид заплатил за это жизнью, оставив Анфиску с сиротами на руках.
Всё это узнал Антон от племяша Матвейки и своего Дениски, которые, зная где искать кругляковцев, добрались к ним, чтобы примкнуть к отряду. Они были одногодками, но богатырь Матвейка, по-мужицки суровый, казался много старше щуплого, привыкшего к городской жизни Дениски. И решение идти в партизаны было племяша, горевшего желанием отомстить за отца, а Денис просто увязался за братом. Не порадовало Антона это пополнение, пытался образумить мальчишек:
– Что ж вы баб-то одних оставили? Кто хозяйство тянуть станет?
– Какое теперь хозяйство, дядька Антон? Все сволочи красные разорили. Я Гурку-псаломщика лично удавлю, – Матвей сжал могучие кулаки, и можно было не сомневаться, что своё намерение он исполнит. – И покаяться не успеет, иуда.
– Тятька твой тебя бы не одобрил, – заметил Антон.
– Тятька с ними, как с людьми, пытался, а так нельзя! Вона как отплатили! Нет, дядька, я их прощать не буду. Мамка пластом лежит, стонет, тятька в гробу. И всё из-за них! Они меня помнить будут!
Бесполезно было отговаривать Матвейку, а без него и сына не отправить восвояси. А ему куда – в партизаны? Мальчонка совсем! И к войне хуже отца не годен. Не к тому воспитывал его, не к тому…
Между тем, восстание ширилось. К маю под началом Рогова и Новосёлова сосредоточились силы до двух тысяч человек. Кругляков, побывав на общем совещании, созвал свой «штаб» и объявил:
– Итак, братцы, на первое назначено общее выступление. Распушим большевичков! Коль не одолеем, так уж заставим их помнить нас!
На карте разобрали стратегию выступления: чей отряд где действовать будет, и какую цель преследовать. Тщательным образом разобрали свой участок «фронта». Предполагалось очистить от большевиков близлежащие селения, включая родную Антонову деревню. Днём начала боевых действий было объявлено первое мая, выступать решено было ночью, чтоб напасть ещё затемно, застав красных врасплох.
Едва ли не больше других радовался грядущему выступлению Матвейка. Своё «операционное направление» он знал заранее, не проходило дня, чтобы он не представлял себе его, не представлял, как поквитается за отца. Вечером растолкал задремавшего Дениса:
– Слушай! Покуда они деревню нашу освобождать будут, мы с тобой свернём в Мурашёво, понял? – с братом Матвей не миндальничал. Говорил, как рубил, не ожидая и не принимая возражений. Что знал Денис в жизни? Гимназии? Книжки? Французский язык? Велика невидаль! А Матвей с трёх лет деду и отцу помощником в хозяйстве был. И теперь любое ремесло навычно ему было, любая работа горела в сильных, ловких руках.
– Зачем в Мурашёво? – не понял Денис, протирая глаза.
– Там тварь живёт, – коротко объяснил Матвей. – А он у неё ночует.
– Демидыч, а как же мы с ним?.. Он же здоровый…
– Я тоже десятка не слабого! Али ты перетрусил? – Матвей резко поднялся. – Так и скажи, а не мямли!
– Нет, что ты… Я пойду.
– Не робей, братишка. Тебе делать не придётся ничего. Я сам…
Дядьке о своих планах Матвей не сказал ни слова, запретил и Денису болтать. Ночью, когда добрались до родных мест, они двое незаметно отделились от отряда и поскакали к Мурашёво. В этом селе жили, преимущественно, новосёлы, а потому богатых домов было не сыскать. Совсем небогатой была и избёнка, возле которой спешились и привязали коней. Залилась визгливым лаем выскочившая из конуры собака. Не обращая на неё внимания, Матвей перемахнул через невысокий забор, притаился у самого крыльца. Собака в бешенстве каталась по земле, и, наконец, из дома вышел хозяин. Дебелый, румяный, нажрал пузо вислое и рожу – до дрожи ненавидел его Матвей. Бывший псаломщик прикрикнул на собаку, зевнул, спустился на одну ступеньку. И тотчас упёр ему Матвей двустволку в голую спину:
– Иди вперёд, гад!
Псаломщик мелко задрожал, залепетал:
– У меня ничего нет… Не убивайте!
– Иди в амбар, а то убью!
Пошёл покорно, как телок на закланье. А в амбаре уже Дениска ждал. Примотал верёвку с петлёй на конце к потолочной перекладине, чурбан поставил внизу. Увидев эту картину, псаломщик обернулся, рухнул на колени, заверещал:
– Пощадите! Не убивайте! Я всё отдам! Всё скажу!
– Отдашь, и скажешь, – Матвей надвинулся на него из темноты. – Как тятьку моего продал, скажешь!
Узнав сына отца Диомида, псаломщик смертельно побледнел, попятился назад:
– Демидыч, ты… Всё не так! Я не предавал твоего тятьку! Я не… Это не я!
– Замолчи! – Матвей наставил двустволку на доносчика, в глазах которого застыл смертный ужас, процедил: – Если не хочешь умирать долго и тяжело, то сейчас сделаешь всё сам. Становись на чурбан.
– Я не стану… Я не могу…
– Тогда ты будешь корчиться в муках, истекая кровью, прежде чем умрёшь! Ну!
Псаломщик поднялся, дрожа всем телом, влез на приготовленную чурку.
– Одевай петлю! Ну!
Дрожащие руки натянули петлю на шею.
– А теперь отбрось чурбан.
– Нет! Нет! – вскрикнул доносчик. Опомнившись, он хотел сорвать петлю с шеи, но Матвей опередил его, выбив чурбан из-под ног. Когда тело перестало биться в предсмертных конвульсиях, он достал приготовленную заранее доску и повесил её на грудь повешенному. На ней углём было жирно выведено одно слово: «Иуда».
– Пошли, – кивнул бледному и испуганному Денису.
– Демидыч, а если бы он не стал сам? – с содроганием спросил тот. – Ты бы, в самом деле, стал его пытать?..
– Не знаю, – Матвей досадливо мотнул головой. – Я когда эту гадину увидел, на меня такая ярость нашла, что сам не знаю, что бы сделать мог. Хорошо, что он оказался ещё большим трусом, чем я думал.
В родную деревню они приехали засветло. Бой здесь уже закончился, и царила какая-то мёртвая, нехорошая тишина. Такую же тишину застали братья и в своём доме. На оклик никто не отозвался, но вышла, тяжело ступая, разом состарившаяся мать, поддерживаемая сестрой, и бабка. Матвей бросился к матери, обнял её, плачущую, благодаря Бога, что она жива, что поправляется.
– А где мама? – спросил Денис, озираясь.
И уж совсем недобрым было молчание, повисшее в ответ. Мать заплакала ещё сильнее, захлёбываясь, и не мог Матвей с сестрой её успокоить. А бабка погладила Дениса по светлым, размётанным ветром волосам и глухо, со всхлипом сказала:
– Нет мамы, внучек… Убили…
Давным-давно говорила старуха-бабка, от хворобы не поднимавшаяся с печи, резвой и несмышлёной ещё Марфуше:
– Долгая жизнь – Божья кара за грехи. Чтобы за все здесь, на земле, расплатиться, и тогда легче уходить.
Не понимала Марфуша, а, вот, до бабкиных лет дожив, поняла. Саму покарал Господь долгой жизнью! И куда страшнее, чем бабку. Бабка страдала одна, страдала своим недугом, приковавшим её, такую деятельную и весёлую, к постели, скрючившим её и терзавшим несколько лет. Но она не видела страданий своих детей. А Марфе Игнатьевне досталось видеть. Не думала, не гадала под старость лет таких ужасов натерпеться. За что? Чем так прогневили Бога? Хорошо, хоть Евграфьюшка не дожил, не увидел. Хоть его помиловал Господь. Он бы не вынес… Всё уничтожилось, чем жили всю жизнь. Осиротел дом. Даже мужиков не осталось в нём. А какое хозяйствование без них? А иначе взглянуть, на кой теперь хозяйствовать, если всё одно отнимут взращенное? А коли так, так как жить? Внучат полна изба, худеют и бледнеют от недоедания. Господи, им-то за что?!
Тянули рушащееся хозяйство на своих плечах бабы. Больше других – Анфиска, покуда не слегла. Да и барышня Алешина не такой уж белоручкой оказалась, как думала о ней Марфа Игнатьевна. Добрая дочка оказалась, работящая. Многого не умела, но училась быстро, и уж вскоре первой помощницей в доме стала. Даже удивительно было, как она, хрупкая и изнеженная, и по воду ходить смогла, и на земле трудиться, не разгибая спины. И ни слова поперёк не скажет, не пожалится. Оценила Марфа Игнатьевна невестку и полюбила её, как родную. Евграфьюшка-то сразу к ней по-доброму отнёсся, он, родимый, людей чувствовал…
Одна беда семь других приводит. А поглядишь, так и не семь, а семижды семь. И куда склонить от них бедную старую голову? Несколькими днями назад налетел на деревню отряд карателей. Выгнали всех из домов на площадь: и стариков, и баб, и деток малых. Объявили: знаем, де, что мужики ваши по лесам у партизан хоронятся, ежели не выдадите нам, где они скрываются, и не укажите их пособников, то в каждом доме по человеку в распыл пустим. Так и охолонули, заозирались друг на друга. А и сказать нечего. Никто толком не знал, где партизан искать. А если и знал кто, так неужто своих отцов, сыновей, мужей и братьев на расправу выдавать? Какая ж баба на это пойдёт? Её на части рви – не скажет.
А они слов на ветер не бросали. Стали хватать, кто под руку подворачивался – от каждого дома по живой душе в жертву. И среди прочих ухватили Антошину Маню. Поволокли её, бедную, за космы. Бросилась Марфа Игнатьевна следом:
– Куда вы её, Ироды?! У ней дети малые! Возьмите меня вместо неё!
– Пошла прочь, старая!
До самой околицы, куда сгоняли схваченных, бежала за ними, рыдала, ползала по грязи на коленях, обхватывала их ноги, сапоги целовала:
– Сынки, да что же вы творите?! Или у вас сердца нет?! Меня убейте! Я жизнь прожила, а она ж молодая! За что ж вы её?!
– Пошла прочь, а то и тебя пристрелим! – отпихнули «сынки» со злостью.
– Мама, уходите! О сиротах моих позаботьтесь! – Маня провыла отчаянно. Она ещё пыталась отбиться, но её волоком тащили по земле, не обращая внимания на мольбы.
За околицей выстроили: в основном, бабы, да старики, да подростки. Вспомнилось о Матвейке с Дениской. Вовремя ушли, а то бы и их… Всю деревню согнали на расправу смотреть – в назидание. Такой крик стоял, что должны были бы небеса содрогнуться. И не одна Марфа Игнатьевна в ногах у карателей ползала, но и сколько ещё старух и баб помоложе. И не проняли, не умолили…
Как всё случилось, она не видела. Лежала на земле ничком не в силах подняться. Только слышала, как хрустнуло несколько залпов, и охнула, содрогнувшись, толпа. Младшие дети страсти этой не видели, успела их Анфиса, едва с постели встающая, спрятать. А старшие две девочки, Анфисина и Антошина, видели. Кланюша после того два дня как неживая была. Только когда уложили Маню в гроб и стали в могилку опускать, очнулась, закричала отчаянно, насилу успокоили. Втолковала Марфа Игнатьевна внучке:
– Ты теперь при младших за большуху становишься. Заместо матери им. Ты ревёшь, и они ревут, ты руки опускаешь, и они, что потерянные. Ты для них сильной быть должна.
Трудно было с ней, с Кланюшей. Девка молодая, норовистая, к труду не приученная. Избаловали её в той богатой жизни. Маня-покойница ею тоже избалована была, но что-то помнилось ещё из того, чем в детстве жила, что-то вспомнилось, когда нужда допекла. А Кланюша ещё до сих пор не свыклась с тем, что не будет больше ни весёлой городской жизни, ни пансиона, ни «общества». Боялась за неё Марфа Игнатьевна. Не наломала бы валежнику! А ещё и беда – в самый возраст вошла. Девка видная, заглядывались на неё. Да кто посватает? Из победителей кто, разбойников? Из убийц матери?.. Господи, за что ж не накараешься? Старуху, свой век пережившую, немощную, не прибираешь, а бабу молодую от деток отнял. Что бы Демид сказал на это? И его нет… И он лежит рядом с Манюшкой, и его отнял Господь, осиротил детей. Кто их теперь поднимет? Анфиса с Надей? Кабы Антон с Алёшей вернулись, Матвеюшка с Денисом…
– Бабаня, где мамку схоронили? – спросил Дениска, с трудом сдерживая слёзы.
– Рядом с дедом. Ты поди, поди туда. Отец с Кланей только что ушли.
Понурил голову, побрёл потерянно к погосту. Скоро всяк человек туда переберётся от этой войны…
Как ни тяжко было, а в честь гостей дорогих надо было что-то на стол собрать. Надя с Глашей стряпать взялись. Анфиса рядом сидела, доглядывала, чтоб не напортили. За обедом почти не говорили. Антоша чернее тучи сидел, не ел почти, смотрел куда-то хмурым взглядом. Похудел сынок, постарел. Волосы седина побила, бороду отпустил. Очень чем-то на отца стал похож. Да и на кого б ещё? Всегда отцов сын был. Хотелось приласкать его, поплакать, а не решалась. Не любил этого Антоша, даже в детстве на материнские нежности серчал. Деловитый был! Серьёзный! Евграфьюшка гордился им. Всё-таки не удержалась, спросила жалобно:
– Антоша, что же это будет теперь?
– То же что и было, мать, – сухо отозвался Антон. – Война. И в ней или мы победим, или, что вернее, нас победят. Третьего не дано. Вместе нам не ужиться на этой земле, – лицо его передёрнуло, злостью наполнились глаза. – Демид меня корил, что я с «бичом Божиим» примиряться не хочу. Теперь нет Демида. И моей Мани нет. И никогда я не примирюсь! – хватил кулаком о стол, словно всё ещё продолжал спорить с покойником. – Я не знал раньше, что такое ненависть. Теперь меня научили! Я раньше содрогался, когда наши партизаны давали волю жестокости, а теперь я стану первым среди них! И пощады от меня ни одна красная гадина не увидит! На куски рвать буду, на куски… – Антон бессильно уронил голову на руки и заплакал.
– Тятя, тятенька… – заскулили Кланя, обнимая его. – Куда ж мы теперь? Без мамки? Без тебя? Ведь пропадём, пропадём…
Матвей поднялся, шумно отодвинув стул:
– Пойду… Вздохну… Душно здесь.
Поднялась и Анфиса, посмотрела на брата:
– Ты их на куски рвать будешь, а они нас. Неужели ты не понимаешь? Если бы не ваша партизанщина… – всхлипнула. – Если б Демид их не прятал, его бы не убили! Если бы мужики наши в леса не подались, то карателей бы не было! Неужели ты не понимаешь?!
– Замолчи! – крикнул Антон. – Ты дура! Ты ни черта не понимаешь! Не лезь, куда тебя не спрашивают!
– Хватит! – Марфа Игнатьевна с отчаянием посмотрела на детей. – Да что же это такое, а? Бога побойтесь! Столько горя вокруг, а вы ещё и друг с другом так!
– Прости, – Антон взял себя в руки. – Я сгоряча… Разум мутится…
В это время возвратился Матвей, крикнул с порога:
– Красные стягивают против нас войска! Кругляков приказал всем срочно собраться. Выступаем!
– Куда? – подавленно спросил Антон.
– Почём я знаю? – Матвей пожал плечами, проворно отламывая и пряча за пазуху кусок каравая. – Кругляков сказал, надо встретить «товарищей». Распушим сукиных сынов!
– Гляди, сынок, как бы они вас не распушили, – тихо сказала Анфиса, целуя подошедшего к ней сына.
– Пусть только попробуют! – гордо бросил Матвей.
Смотрела Марфа Игнатьевна на внука и удивлялась. В кого он такой вырос? Откуда в нём такая сила, уверенность, такая холодная не по годам выдержка, какой, вон, и у Антоши нет?
Антон поднялся, препоясался кожаным ремнём, снятым на время обеда. А Денис продолжал сидеть, опустив голову и вертя в руках ложку. Сказал внезапно:
– А я никуда не поеду.
– Это как это? – нахмурился Матвей.
– Я здесь должен… Помогать…
– Дурак! Тебя ж первый отряд красных шлёпнет, как бандита-кругляковца!
– Я повинную принесу, я…
– Повинную? – протянул Матвей, недобро глядя на брата. – Хочешь жизнь себе выторговать у чертей? Может, нас им выдашь? Без доноса им твоя повинная без нужды будет! Смотри, Дениска! Иуда кончил плохо, ты знаешь!
Денис вздрогнул, поднял глаза на отца, посмотрел на сестру, на бабку, ища у них поддержки.
– Поезжай, родимый, – вымолвила Марфа Игнатьевна. – Матвей прав, здесь тебе оставаться нельзя. А мы уж как-нибудь перетерпим… Поезжай! – поцеловала его в чистый мальчишеский лоб, перекрестила.
Не успели свидеться, а уже прощаться время пришло. Марфа Игнатьевна по очереди благословила сына и внуков, и они ушли… Отвязали коней, которых даже расседлать не успели, вскочили, помчались рысцой к околице – только клубы пыли позади. Марфа Игнатьевна стояла у забора, тяжело облокотясь на него, смотрела на стремительно удаляющиеся родные фигуры. Сказала стоявшей рядом Наде:
– Опять мы одни, дочка. Что за время настало… Только и доля нам осталась, что мужиков наших на войну провожать и ждать. Мне что… Я жизнь прожила счастливо. Мой Евграфий всегда рядом был. Жили себе… Трудились, ребятишек рожали. А вам за что мука такая? Неужели мы и наши отцы-деды так нагрешили, что вам за всех нас расплачиваться? Знаешь, дочка, как мы раньше жили здесь? Деревня полным-полнёшенька была! И все мы ладком жили, сосед соседу что родня был. На праздники собирались вместе, песни пели. Молодёжь наша на реке хороводы водила. Девки венки бросали – гадали, которой замуж в этом годе выходить. А теперь все, как волки. Ни песен, ни хороводов… Только провожаем наших сердешных. Всё спешат они… На войну… Всё дерутся. За что? И никак остановиться не могут. Убивать не могут остановиться, братнюю кровь проливать… А мы провожаем и ждём, провожаем и ждём… Дочка, дождёмся ли?
– Дождёмся, матушка! – светло смотрели Надины ясные, как июньское небо, глаза. Ни увёртливости не было в ней, ни гордыни. Хорошую жену нашёл себя Алёша – смотришь на неё, и сердце радуется!
Надя склонила голову на плечо Марфы Игнатьевны, обняв её:
– Дождёмся, обязательно дождёмся! И Антона с Денисом. И Матвея. Они обязательно вернутся, матушка, – и помолчав мгновение, добавила твёрдо: – И Алёша вернётся.
Глава 22. Накануне
3 июня 1920 года, Севастополь
Ах, каким ослепительно солнечным выдался тот апрельский день! Какая торжественность была в нём! И в том, как плескались знамена, и в том, как блестела наточенная сталь штыков и шашек построившихся вдоль Екатерининской улицы и вокруг площади войск, и в том, как пели колокола севастопольских храмов, и в том, как взирал на всё это действо адмирал Нахимов, словно бы завещая защищать этот великий город с той же стойкостью, с какой некогда защищал он. И в том, как по окончании обедни, хлынули на площадь крестные ходы из окрестных церквей. И в том, в честь кого совершался этот молебен, перетекающий в парад.
– В этот грозный час с честью вывести армию и население из настоящего беспримерно трудного положения и отстоять оплот русской государственности на Крымском полуострове может только крепкая вера в неё и сильная воля любимого войсками вождя. Проникнутая беззаветной любовью к Родине, решимостью не знавшего поражений и заслужившего всеобщее доверие генерала Врангеля принять на себя великий подвиг предводительства вооружёнными силами, борющимися с врагами Веры и Отечества, обязывает всех истинных сынов России сплотиться вокруг него в служении святому делу спасения Родины, – этот указ Правительствующего сената зачитал, поднявшись на установленный возле памятника Нахимову аналой, епископ Вениамин Севастопольский.
– Слушайте, русские люди! – заговорил он, покончив с оглашением указа, звенящим, вдохновенным голосом. – Слушайте, русские воины! Слушайте вы, представители наших союзников! – мгновенный оборот к стоявшим неподалёку представителям союзных миссий. – Слушайте вы, те большевики, которые находятся здесь, среди толпы! – взмах руки в сторону толпы, будто бы указывающих на скрывающихся в ней агентов. – Тяжкие страдания ниспосланы нашей несчастной Родине Господом за грехи всех слоёв русского народа. Но среди развала и позора осталось место высокому подвигу, который совершают те, кто несёт чистым родное русское знамя, кто тяжёлым крестным путём идёт уже несколько лет во искупление общих грехов и во спасение России. Путь сей тернист, но он не кончен. Мы только что перенесли тяжёлые испытания, ближайшее будущее, быть может, готовит нам новые. Но вера творит чудеса! Кто верит, кто честно и мужественно идёт указанным ему совестью путём, тот победит. Верою спасётся Россия! Месяц тому назад русская армия, прижатая к морю у Новороссийска, умирала. Быть может, через два месяца она воскреснет и одолеет врага!
С такой силой и верой была сказана эта проповедь, что каждое сердце отозвалось словам Владыки учащённым биением. И крепла вера, что ещё не сказано последнее слово, ещё не всё потеряно, ещё возможна борьба. И олицетворением этой веры стремительно поднялся к памятнику высокий генерал в серой черкеске. И во всей фигуре его, в каждом движении, в слове, в голосе чувствовалась сила и энергия подлинного вождя, которого ждали так долго и, вот, дождались под самый занавес драмы. Или всё же не под занавес ещё?..
– Я верю, что Господь не допустит гибели правого дела, что Он даст мне ум и силы вывести армию из тяжёлого положения. Зная безмерную доблесть войск, я непоколебимо верю, что они помогут мне выполнить мой долг перед Родиной и верю, что мы дождёмся светлого дня воскресения России!
А затем грянул марш, и разгромленная, но ещё живая армия, чеканя шаг, прошла строем, приветствуя своего вождя. Стоптанные сапоги, вылинявшие мундиры, обожженные солнцем усталые лица, сияние золотых погон, сияние глаз, исполненных верой. Нет, это был не парад побеждённых, ещё не угас дух в белом воинстве, и, укреплённое явлением нового вождя, оно готово было сражаться вновь.
Так чувствовал в те дни каждый воин. Так чувствовал и Вигель, почти потерявший сердце после позорной эвакуации Новороссийска. Весть о передачи власти Деникиным Врангелю Николай встретил сдержанно. Положение запечатанной в Крыму, как в бутылке, разгромленной, деморализованной армии, казалось совершенно безнадёжно. Но болящий, как известно, до смерти верит в выздоровление, и Вигель не был исключением. Имя Врангеля стало синонимом надежды, от него ждали чуда, каждый шаг его, каждое слово сопровождалось неусыпным, жадным вниманием. С таким вниманием читали и перечитывали первое интервью Главнокомандующего. Всё дышало в нём новизной, жизненностью, необычайной ясностью: «Мы в осаждённой крепости, и лишь единая твёрдая власть может спасти положение. Надо побить врага – это прежде всего, сейчас не место партийной борьбе.
Когда опасный для всех призрак большевизма исчезнет, тогда народная мудрость найдёт ту политическую равнодействующую, которая удовлетворит все круги населения. Пока же борьба не окончена, все партии должны объединиться в одну, делая внепартийную деловую работу. Значительно упрощённый аппарат управления мною строится не из людей какой-либо партии, а из людей дела. Для меня нет ни монархистов, ни республиканцев, а есть лишь люди знания и труда.
На такой же точке зрения я стою в отношении вопроса о так называемой «ориентации». «С кем хочешь, но за Россию!» – вот мой лозунг.
Не триумфальным шествием из Крыма к Москве можно освободить Россию, а созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа».
– Эх, чёрт возьми, этак бы полгода назад! Сейчас бы, Николай Петрович, в вашей Москве чаёк-с попивали да на Кремль любовались, – заметил Роменский, дочитав газету, и закурив папиросу. – Однако, этот человек мёртвых оживить способен. Посмотрите на наших. Все, как один, оживились, подтянулись, ни следа уныния на лицах! А после Новороссийска какими были?
Причудливо плела свои узоры судьба. Больше года назад едва не расстрелял Вигель пленного большевика, бывшего поручика Роменского. А он, перейдя в белую армию, сражался на совесть и вполне искупил прежний грех. И вот, поди ж ты, оказался теперь в батарее Вигеля, ещё и заместителем его. Не очень это радовало Николая. Конечно, Роменский неоднократно доказал свою верность, был храбрым и честным офицером, но не забывалось, не могло забыться, что у большевиков служил. Всё же надо было притираться, срабатываться.
– А, помните, Виктор Кондратьевич, я ведь чуть не пристрелил вас тогда…
– «Чуть» не считается, господин капитан. Я-то ведь по вам стрелял не чуть, – Роменский вздохнул. – Пусть и не по вам лично, но это дело не меняет. Признайтесь, что вам не по нутру такой заместитель?
– Почему бы нет? У нас отдельные части целиком из пленных сформированы, и что ж с того?
– И всё-таки вам это неприятно. Вы на меня до сих пор смотрите, как на большевика.
– Простите, я не хотел вас обидеть.
– Я понимаю.
Так и осталась отчуждённость, непреодолимый барьер.
Армия приходила в себя после пережитого краха. Энергичными и жёсткими действиями Врангелю быстро удалось пресечь злоупотребления, очистить войска от вредных элементов, возвратить им боевой дух и боевой облик. Грабежи в армии почти исчезли, ушло в подполье зелёное движение. Всюду чувствовалась сильная, решительная рука, всюду наступал порядок.
Всё это не могло не радовать, но навевала тоску местность, где временно обосновались части первого корпуса генерала Кутепова. Армянский базар! Унылейший городишко неподалёку от перекопского вала. Среди мёртвой солончаковой степи скучились на перешейке, налезая друг на друга бедные домишки. Вокруг – ни деревца, ни кустарника. В разморенном воздухе чувствовался запах тления, гудели чёрными тучами мухи. С перекопского вала каждый день прибывали телеги со скорбным грузом, и дребезжащим звоном встречала павших маленькая церквушка. У вала шли бои, и из города виден был дым от разрывов гранат и шрапнели. Позади Армянска тянулись пустынные и неприветливые Джанскойские степи. Весна, впрочем, несколько оживила их, обрядив цветастым ковром. В трепещущем на ветру разнотравье шныряли суслики, а в небесах разливались звонкими песнями весёлые жаворонки, перекликались перепела.
– Эх, капитан и занёс же нас чёрт в эту дыру! – морщился Роменский. – Унылей, пожалуй, было только еврейское местечко в районе Бердичева, где в войну какое-то время стоял мой полк.
Скоро, однако, Армянск перестал казаться таким уж унылым. Сидение на перекопских позициях сделали поездку в город редким и желанным развлечением. Перекопский вал, иначе называемый Татарским, был сооружён ещё татарами для обороны от русских войск и запорожцев. Растянувшись на восемь вёрст, он упирался в Сивашский залив на востоке и в Перекопский – на западе. Более высокая восточная половина вала, искромсанная балками и рукавами Сиваша, имела наиболее важное значение, так как здесь угроза противника была более велика, чем на западе. Этот участок и заняли части первого корпуса: Корниловцы, Марковцы, Дроздовцы, Алексеевцы. Шли работы по укреплению позиций. Тем же были заняты и большевики. Ими были вырыты две линии окопов с проволочными заграждениями, увеличено число батарей. Представляя условия будущих боёв, Вигель с горечью думал, что и проволочные заграждения, и другие укрепления большевиков войскам придётся брать своими телами. При изобилии снарядов их можно было бы расстрелять, но изобилия не было, и не приходилось особо надеяться, что положение изменится. Снаряды, как всегда, оставались дороже людей.
Шла скучная позиционная война, самая скучная из всех видов войн. Около вала, где расположилась батарея, Николай приказал вырыть землянку. В ней спали по ночам, кутаясь в одеяла. Устройство этого лежбища было похоже на археологические раскопки. Земля Перекопа таила в себе бесчисленное множество предметов быта доисторических времён, а также человеческие черепа той же поры.
– Когда-нибудь, лет через тысячу, кто-нибудь откопает наши, – мрачно пошутил Роменский, разглядывая почерневший череп, только что извлечённый из земли.
– Бросьте вы этого «бедного Ёрика», поручик.
– Да нет уж, лучше прикопать. Как-никак человек был…
Условия жизни на Перекопском валу оставляли желать много лучшего. Еда – камса с какими-то приправами, скверная вода. Из-за этого множились желудочные заболевания, проявлялась цинга. Меж земляных расщелин извивались чёрными лентами гадюки. Армянск стал казаться отсюда вполне приличным городом, и при первом же случае спешили туда, чтобы спокойно посидеть в турецких кофейнях и узнать последние новости. Нечастым развлечением были привозимые фильмы со знаменитыми Руничем, Полонским, Холодной и концерты приезжих трупп и исполнителей. Самым модным мотивом этой весны стала ария «Помнишь ли ты…» из оперетты «Сильва». Вигель не любил её, так как она неводила на него хандру, пробуждая мучительные воспоминания, которые он больше всего хотел предать забвенью. Истинным же праздником был приезд на позиции Надежды Плевицкой. Для неё во рву была сооружена эстрада, украшенная гирляндами полевых цветов, из Армянска привезли пианино. В ту ночь над всем перекопским валом разливалось щемящее:
– Замело тебя снегом, Россия,
Закружило седой пеленой,
И слепая, жестокая сила
Панихиду поёт над тобой…
Когда же грянул залихватский «Ухарь-купец», то подхватили его и во вражеском стане. Проняло и их, по другую сторону вала! Откликнулось русское чувство в сердцах, но скоро подавлено было, и вместо аплодисментов загремели орудия, и концерт был срочно прекращён.
Так прошло полтора месяца, но в середине мая наметилось явное оживление. В Корниловский полк приехал Главнокомандующий. Его ожидали с воодушевлением. Его появление вдохновляло само по себе. Высокий, на голову выше всех присутствующих, затянутый в чёрную черкеску, он следил за парадом своими светящимися, серо-зелёными глазами. Голова чуть откинута назад, рука на рукояти кинжала – характерная поза его. Энергия, спокойная, уверенная в себе сила, вера – всё это по невидимым проводникам передавалось от него войскам, заряжая их.
– Кланяюсь вам, Русские орлы! – прогремел немного охрипший от частых речей властный голос, и все замерли, слушая его. Врангель говорил коротко, но горячо. – У нас остаётся одна надежда – на свои собственные силы. Держитесь, орлы, держитесь! Нужно верить в победу, так как только Верою спасётся Россия. Вера творит чудеса. С верою, вперёд!
«Верою спасётся Россия» было написано на ордене Святого Николая, учреждённом Главнокомандующим для награждения отличившихся в боях солдат и офицеров. Этот девиз стал лейтмотивом всей работы проводимой в Крыму. Обходя позиции, Врангель обронил, что армии скоро предстоит двинуться вперёд. И немедленно разнеслось в частях: «Наступление! Наступление!» Всё наполнилось взволнованным и нетерпеливым ожиданием его.
– Скорее бы! – радостно говорил Роменский. – Сколько можно любоваться на эти унылые пейзажи? Победим или нет, а всё лучше, чем позиционная война! Помирать – так с музыкой!
Рад был и Вигель возобновлению активных действий, но мутилось на душе от того, что осталось дело, которое непременно следовало сделать до выступления, которое могло стоить ему, как и всем другим, жизни. Он уже отложил однажды венчание «до победы», и горький этот опыт не хотелось повторять. В Севастополе его ждала Наташа. Он дал себе слово жениться на этой женщине ещё зимой, когда умирал от тифа. И, вот, затянул опять! Но теперь откладывать нельзя было. К тому же была ещё одна причина съездить в Севастополь. Туда каким-то чудом добралась мачеха и сводный брат Пётр. Они прибыли в Крым с разных концов земли, морем, независимо друг от друга с разницей в одну неделю. Николай узнал об этом из письма отца. Почти вся семья была в сборе, и старик был очень счастлив. Хотелось хоть раз собраться вместе прежде, чем начнётся новый акт бойни. Кто знает, может, в последний раз? Не раздумывая, Вигель подал рапорт с просьбой предоставить ему отпуск на несколько дней, честно указав основания для этого. Клятвенно обещал возвратиться не позднее, чем за день до начала боевых действий. Отпуск был дан, и Николай поспешил в Севастополь.
Крымская столица потрясала воображение. Особенно, после полуторамесячного сидения под Перекопом. Залитая солнцем гавань, улицы, тонущие в тени благоухающих садов, прекрасные дамы в весенних туалетах… Офицеров, между тем, стало меньше, чем в марте. Врангель делал всё возможное, чтобы не позволить трусам укрываться в тылу, разгружал раздутые учреждения, ставшие укрытием для подобного рода вояк, и отправлял их самих на фронт.
Первое, что увидел Вигель, прибыв в Севастополь, это новое воззвание Главнокомандующего, лишь утром увидевшее свет. Кажется, никто и никогда прежде за всю историю белой борьбы не обращался к людям с такой искренностью и такой силой:
«Слушайте, русские люди, за что мы боремся:
За поруганную веру и оскорблённые её святыни.
За освобождение русского народа от ига коммунистов, бродяг и каторжников, вконец разоривших Святую Русь.
За прекращение междоусобной брани.
За то, чтобы крестьянин, приобретая в собственность обрабатываемую им землю, занялся мирным трудом.
За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси.
За то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе Хозяина.
Помогите мне, русские люди, спасти Родину».
Прав был Роменский, когда бы этак полгода назад… Но, может, и теперь не поздно? Ведь только теперь и обретало белое воинство тот первоначальный идеал, который успел изрядно замутиться. По мере того, как растягивался фронт, завоёвывались новые территории, растягивался, размывался и костяк белого воинства, растворялся большим количеством ненадёжных, слабых элементов, растлевающих его. Ядро, носящее идеал, терялось в массе. Идеал сиял ярко в дни Ледяного похода, когда было лишь ядро, горсточка верных, готовых сражаться до последней капли крови за Россию. Идеал вновь воссиял теперь, когда очищенное от наносного, вновь осталось только ядро, остались лишь наиболее верные и сильные духом. Всё вернулось на круги своя. Сил было мало, но крепок оставался дух. И, может быть, если начать заново, и не повторять прежних ошибок, то и удастся одолеть врага?.. Хотелось поговорить об этом с отцом и братом, но не время было. Перво-наперво Наташа, ради неё ведь и сорвался с позиций в канун наступления. И только три дня в запасе было на всё.
Они обвенчались на другой день. Отец заранее договорился со священником, и тот ждал их. На церемонии были только родные, и прошла она скромно, тихо и быстро. Наташа была одета в простое платье цвета шампанского, украшенное длинным шифоновым шарфом, прозрачным облаком обвивающим плечи и приколотым к вороту платья красивой старинной брошью. Её густые, шоколадного цвета волосы, были аккуратно подобраны сзади, старательно уложены, что позволяло любоваться стройной шеей и открытым лицом, которое, вероятно, не смог бы изобразить даже самый великий художник, поскольку невозможно передать совершенства. Даже лучшая фотография Наташи не передавала вполне её неповторимого образа.
И, вот, теперь она лежала рядом, то заплетая в косы, то расплетая пряди своих густых волос. Ночь уже уступала место утру, и сквозь тонкие занавески просвечивала розоватая заря, красавицей-купальщицей, лениво поднимающейся из волн влюблённого в неё моря.
– Скажи, ты, в самом деле, любишь меня? – спросила Наташа, приподнявшись на локте и глядя в лицо Николаю.
Он ласково провёл ладонью по её шелковистым волосам:
– Тебя нельзя не любить. Теперь ты моя венчанная жена, и я очень счастлив этому, – сказал и тотчас уловил неприятное сомнение в душе. Она была его венчанной женой, он обладал этой женщиной, но в то же время его не покидало чувство, что она продолжает жить памятью о другом, принадлежать другому. И ведь даже по имени не назовёт никогда. Как-то дальше жить получится? Трудно представить… Вдали от Наташи Вигель отчаянно тосковал по ней, но, оказавшись рядом, вскоре испытывал острейшее желание бежать. Мог бы спросить её сейчас в ответ, любит ли его она, но не спросил.
– Счастлив? – голос Наташи звучал задумчиво и растерянно.
– А ты разве нет?
– Я не могу понять… – она резко села, и пробуждающаяся заря порозовила её нежную, матовую кожу. – Завтра ты уедешь, оставишь меня, и я снова буду одна…
Николай приподнялся, взял её руку и ответил, целуя тонкие, мягкие пальцы:
– Отчего же одна? Здесь же теперь почти вся наша семья!
– Твоя семья…
– Наша! Ты моя жена, и семья у нас одна.
– Ты уедешь, а я опять должна буду ждать и бояться. Вечно! Вечно! Я не хочу…
Вечно… Целая семейная жизнь впереди, и всегда так будет? То, что тихой усадьбы с благотворно влияющим на расстроенные нервы климатом не видать, как своих ушей, ясно как день. Значит, новые тяготы, борьба за существование. Она не вынесет этого…
– Я боюсь, – тихо призналась Наташа. – Себя боюсь. Боюсь, что измучаю и себя, и тебя, и твоих родных. Пётр Андреевич уже намучился со мной. И ты тоже. Я не хочу так! Не хочу!
– Ангел мой, успокойся, – Вигель обнял жену, целуя её шею и плечи. – Скажи мне, чего ты хочешь? Что нужно, чтобы ты была счастливой?
– Ребёнка! – неожиданно прозвучал ответ.
Николай вздрогнул. Наташа смотрела на него прояснившимися, широко распахнутыми глазами. Повторила твёрдо:
– Я хочу ребёнка. Своего. Твоего. Нашего!
– Наташа, это неразумно сейчас… Кругом война, разруха…
– Ну и что? – никогда она не говорила так решительно. И не больной была эта решимость её, а осознанной. – Сколько лет уже война, разруха… А время идёт! Скоро я стану старухой, полоумной, страшной, никому не нужной… Сколько можно ждать? Я твоя венчанная жена, и я хочу, чтобы у нас была семья. Иначе какой смысл?
Никак не ожидал Николай такой настойчивости. Как-то и не думалось в этих вечных боях о детях. А ведь права Наташа: время летит. Совсем не подумал о ней, о том, что она годами его старше, хоть и не сказать этого по не знающей увядания красоте. И странно было: у неё, на мраморную Афродиту похожей, у неземного создания – вдруг это самое простое, самое жизненное, самое бабье желание. Родить ребёнка. А, может, в самом деле? Как-то привязал бы он её, дал бы опору, смысл в жизни. Или наоборот? Куда ещё ребёнка с её-то расстроенными нервами? И сам Николай уедет завтра на фронт, и Бог один знает, вернётся ли. Кто позаботится тогда о них? Старик-отец? Брат? Да в этакой разрухе… Или наоборот? Обидно сгинуть, не оставив на земле своего продолжения. Что же, если такая круговерть, то детям не появляться на свет? И всякой жизни угаснуть? Смотрел на Наташу. Размётанные волосы по плечам, стройное тело, любой девице семнадцатилетней на зависть, упругая грудь, ещё не знавшая материнства, отрытое лицо, в эту минуту словно помолодевшее, дышащее решимостью, а в глазах – мольба…
Он не успел завершить свои сухие рассудочные построения, а уже обвились вокруг трепетные руки, и губы приникли к губам, и разлилось горячим пламенем блаженство по телу, и хмельным восторгом задрожало сердце. Где-то за окном солнце уже входило в силу, и город пробуждался к трудам, но в маленькой комнате, отделённой от мира тонкой занавеской ещё царила чаровница-ночь, которую никто не спешил отпускать.
Этот день начался для Николая поздно. Лишь к обеду они с Наташей вышли из спальной. Ольга Романовна неспешно накрывала на стол. Она мало изменилась за время разлуки. Та же безупречная осанка, та же гордая посадка головы, та же размеренность и спокойствие в движениях, в манере говорить. Отец следил за ней с нежным вниманием, даже не отвлекаясь на кипу газет, лежавшую рядом. Столько трепета было в его отношениях с мачехой, столько любви, не притупляемой годами! Часто задумывался Николай, смог бы он так же преданно любить единственную женщину всю жизнь, и не находил ответа.
В обеденных хлопотах Ольге Романовне помогала приехавшая с Петром известная певица Криницына. Их отношения с братом не оставляли сомнений, но дома ни слова не говорилось об этом. Евдокия Осиповна вошла в него, как член семьи, и это принималось всеми. Николай не имел времени близко познакомиться с новой родственницей, но она заранее нравилась ему своей простотой, легкостью, скромностью. Можно было только порадоваться за Петра. Последний сильно постарел за прошедшие годы. Стал совершенно седым и своей сухой фигурой, всем обликом очень походил на благородного идальго Дон-Кихота, каким принято изображать его. Едва прибыв в Крым, брат поступил на службу и теперь работал в штабе Врангеля. Работа там кипела с раннего утра, а потому Петра ещё не было. Ждали его. Ольга Романовна сообщила, что сын обещал быть к обеду. Наконец, он появился, сияя золотом генеральских погон (чин генерал-майора был получен им буквально на днях), тепло поздоровался со всеми, обронил, пожимая руку Николаю:
– Завидую тебе! Ты завтра на фронт отправишься, а меня командующий решил при штабе держать. А какой из меня штабист?
– Не навоюешься никак, – покачала головой Ольга Романовна. – Садись уж, Петруша. Обед простынет. Только тебя ждали.
Пётр сел за стол, расстегнув верхние пуговицы кителя, скосил единственный глаз на Николая:
– Наступление начнётся двадцать пятого числа в ночь. Нам, во что бы то ни стало, нужно вырваться из нашей бутылки. Крым не имеет ресурсов, а Таврия плодородна, и она должна быть нашей.
– Если бы господа «союзники» прислали достаточно оружия, нам было бы куда легче выполнить задачу. Разумеется, мы выполним её и так. Настроение в войсках отличное. Но при наших истощённых людских ресурсах просто бросаться на колючую проволоку без достаточной артиллерийской подготовки – верх расточительства!
– У вас будут танки, а это, согласись, неплохое подспорье.
– Не думаю, что у большевиков их не будет.
– У большевиков нет таких воинов, – Пётр нервными движениями длинных пальцев комкал салфетку.
– Это правда. Зато у них есть масса, давящая всё.
– Масса их пока оттягивается на польский фронт. Хорошо бы поляки продержались подольше! Совместные наши усилия могли бы сокрушить красных.
– Сокрушить красных могло бы народное ополчение, восстание. А народ устал от войны, и предпочитает занимать сторону сильного. Мы одни в нашей Вандее.
– Пожалуй…
Пётр Андреевич слушал сыновей, не вмешиваясь в их разговор, думая о своём. Неправилен стал ход времени. События происходили запоздало, словно роком каким-то обречены были все здоровые силы, все необходимые меры – запаздывать. Запаздывать пожертвовать малым, чтобы потом отдать всё. Эта пагубная традиция когда ж повелась? При последнем Государе. Так было с Японией, когда не поспешили заключить мир и сохранить хоть что-то, а послали в бойню балтийскую эскадру, получили Цусиму, и потеряли всё. Так было с первой революцией, когда до последнего упирались в небольших уступках, в необходимых действительно преобразованиях, а потом нежданно-негаданно дали конституцию, вреднейший парламент, вместо тактических уступок – бастион самодержавной власти сдан оказался. И кончилось всё – тем же. До последнего противлением ответственному министерству, а в итоге – отречением. Так и повелось: упрямство в малом, чтобы потом одним махом отдать великое… И отчаянно запаздывало то, что могло стать спасением в нужный момент.
Вот и теперь так. Сбылось чаянное, да слишком поздно. Чтобы вернуть утраченное, имея за собой лишь бедный полуостров, нужно быть… Богом! И надо было большое мужество иметь, чтобы встать у руля безнадежного дела и работать так, словно оно, на самом деле, имело перспективу, так, что, глядя на кипящую эту деятельность, просыпались сомнения в обречённости даже у законченных скептиков. В самый короткий срок генералу Врангелю удалось навести порядок в армии и тылу и положить начало многим реформам, которые необходимы были ещё давно. Передача земли крестьянам, мелким собственникам, за которыми по мнению Петра Николаевича было будущее, возрождение земских институтов, разрешение рабочего вопроса – всем этим, не откладывая, занялся Главнокомандующий со своим правительством. Его правительство стало первым за всю историю белого движения, в котором оказались собраны люди дела и знаний. И какие это было люди! Из Парижа по просьбе Врангеля прибыл и возглавил кабинет Кривошеин. Уже пожилой и больной, он не смог не откликнуться на этот призыв, потому что именно так поступил бы на его месте Столыпин, потому что именно реформы последнего предстояло воплощать на последнем клочке русской земли. Внешней политикой занялся Струве, прибывший вслед за Врангелем из Константинополя. Даже уголовный розыск обрёл начальника, лучше которого просто нельзя было найти. Им стал бывший начальник московской полиции, творивший подлинные чудеса в Первопрестольный, которую за годы своей работы он практически очистил от преступного элемента, знаменитый Александр Францевич Кошко. С такой командой можно было вершить невозможное, но как же мала была территория, как ничтожны силы и ресурсы!
Не осталась без внимания и пропаганда. С Освагом покончили, и решено было поставить эту нужнейшую отрасль на новые рельсы. Впрочем, кажется, никакой пропагандистский листок не мог сравниться по силе с воззваниями самого Врангеля. Давно вынашивая проекты организации пропаганды, Пётр Андреевич кратко изложил их на бумаге и передал Главнокомандующему, посетив его вскоре после вступления в должность. К работе в этой сфере генерал привлёк князя Долгорукова.
Павел Дмитриевич, едва прибыв в Крым, с головой ушёл в общественную деятельность. Ни крах фронта, ни полный разгром в тылу не заставляли его сложить руки. Князь продолжал свою работу вне зависимости от условий. В Севастополе его однопартийцы были заняты внутренней грызнёй, разделившись на правых и левых. Только удивляться приходилось такой слепоте, но Павел Дмитриевич приложил усилия, чтобы собрать группу единомышленников и вскоре создать под своим председательством надпартийное объединение взамен Национального центра, который прекратил своё существование в Новороссийске. Новая организация стояла на национально-надпартийной платформе и всемерно поддерживала Добровольческую армию, носящую с приходом Врангеля наименование Русской. На собраниях нового Объединения, на которых всегда присутствовало много публики, часто бывали министры и сам Врангель. Всякое собрание князь завершал призывом к обществу поддерживать армию и работать над упорядочением тыла.
О Главнокомандующем Долгоруков отзывался исключительно в превосходных тонах:
– Этот человек совершил чудо! Я не мог представить себе, что тот военный сброд, который я застал в Феодосии, можно в столь краткий срок преобразовать в регулярные части, способные сражаться.
– Я полагал, князь, что вы будете сожалеть о Деникине.
– Антон Иванович был крепкий солдат, честно выполнявший свой патриотический подвиг. Но он не был диктатором.
При этих словах Пётр Андреевич не смог удержаться от улыбки:
– Вас ли я слышу, князь? Вы, кадет, ратуете за диктатуру?
– Да! – Павел Дмитриевич развёл руками. – Я, прогрессист, кадет и пацифист, всецело поддерживаю Врангеля, потому что нам именно диктатор и нужен сейчас, а иначе анархия и разгром! К тому же, Врангель не только боевой генерал. Он закончил Горный институт. Как человек всесторонне образованный и развитой, он быстро ориентируется в политической обстановке. Хотя, как политику, ему пока явно не хватает опыта…
Последнее грустное замечание было вызвано неладицей с делом пропаганды. Пётр Николаевич привлёк князя к устройству лекций о политическом положении на фронте и в тылу. Но нашлись люди, посчитавшие, что лекции в прифронтовой полосе не нужны, так как армия должна быть вне политики. Врангель прислушался к этому мнению.
– Всё это дурная политика «правых рук», – вздыхал Павел Дмитриевич. – От молодого генерала нельзя требовать, чтобы он хорошо разбирался в вопросах политической тактики, и мне жаль, что ему приходится отвлекаться от фронта на эти чуждые ему дела. Но ведь это ерунда какая-то! Наша борьба носит характер идеологический! Как же не объяснять, в таком случае, людям сути большевизма и того, что мы ему противопоставляем? Ведь большевики этим занимаются! Когда Врангель привлекал меня к этой работе, ему это было очевидно, но сбили его «правые руки». Жаль… В Севастополе и крупных городах мы ведём работу, но этого мало!
Несмотря на неудачу с организацией лекций, Долгоруков продолжал самоотверженно трудиться в ведомстве печати. Пётр Андреевич однажды наведался туда и был поражён теми условиями, в которых он работал. Пожилой, седовласый князь, одетый в единственный костюм из мешковины, сидел на краю подоконника и что-то писал карандашом, положив бумагу на колено. В том же положении он принимал посетителей.
– Павел Дмитрич, что же они вам стола выделить не могут? – возмутился Вигель, косясь на множество более молодых сотрудников, имевших свои места.
– Какой там стол! – князь показал огрызок карандаша. – Любой карандаш с бою брать приходится!
– Да отчего же так?
– Спросите начальника печати Немировича-Данченко.
– Это не родственник ли?..
– Дальний. Придерживается крайне правых убеждений. И я ему моим кадетством не нравлюсь, – Павел Дмитриевич рассмеялся. – Что тут поделать!
– Если бы Главнокомандующий узнал…
– Не хватало ещё отвлекать его моими личными неудобствами! – князь махнул рукой. – Ничего, буду работать так. Правда, мои партийные товарищи за меня переживают. Говорят, что такое положение не соответствует моему достоинству, и советуют уйти.
– А вы?
– А я, как видите. Дорогой Пётр Андреевич, разве время сейчас думать о каком-то своём достоинстве? О партийных разногласиях? О деле нужно думать и только о деле! Нам не дали работать в прифронтовой полосе, но есть Севастополь, пригородные слободы, портовые рабочие! Мы читаем курсы не только о политическом положении, но ещё и по истории, политической экономии, естествознанию. Это большая и важная работа. Вдобавок я не теряю надежду, что для нас отменят ограничения и в прифронтовой полосе. И что же, я должен бросить всё это из-за личных амбиций, из-за того, что не сошёлся с начальником? Между прочим, – князь тонко улыбнулся, – он по сей день не соизволил включить меня в штат, так что приходится перебиваться сущими грошами.
– Не могу не восхищаться вашей самоотверженностью, князь, – искренне сказал Вигель, думая, как поступил бы сам в такой ситуации. А ведь, скорее всего, ушёл бы, не смог смирить гордость. И так поступило бы абсолютное большинство, слишком понимающих своё достоинство. А старый князь из древнейшего рода забывал о нём во имя общего дела, с безунывной лёгкостью пропуская личные обиды, и в этом самоотречении являлась высшая мера истинного человеческого достоинства.
Пётр Андреевич внутренне порадовался, что не впрягся сам в эту мороку. Он, конечно, время от времени выступал с лекциями по разным вопросам, но сугубо на добровольных началах, не попадая в зависимость от какого-нибудь начальственного держиморды. Да и без этого вряд ли стоило в семьдесят лет браться за дело, которым никогда всерьёз не занимался на практике. Наиболее активно Вигель сотрудничал в печати в столыпинские годы, публикуясь, большей частью, в «Московских новостях», редактором которых с лёгкой руки премьера стал Лев Тихомиров. Из всех русских мыслителей и публицистов Пётр Андреевич выделял его особо. Только он умел так кропотливо, вдумчиво и всесторонне разбирать каждый вопрос, ни о чём не судя поверхностно. Он первым создал идейно-обоснованную базу монархического учения, до того лишённого оной, подробно разобрав все аспекты его. И тем огорчительней было, что громадный потенциал этого незаурядного мыслителя был так недостаточно востребован. За публикациями Тихомирова Вигель следил с того момента, как бывший народоволец, прощённый Царём, вернулся в Россию. Тогда Пётр Андреевич жил аккурат напротив редакции «Московских новостей» и нередко видел Льва Александровича. И трудно было вообразить, что через какое-то десятилетие он станет редактором этой газеты, а бывший следователь, правовед Вигель её постоянным сотрудником. Проживи Достоевский чудь дольше, и, возможно, написал бы о раскаявшемся народнике, ставшим идеологом самодержавия, роман. Может быть, такова бы была эволюция Шатова, сохрани ему автор жизнь. Последнее царствование не радовало Тихомирова. Он всем своим существом предчувствовал надвигающуюся трагедию и страдал от того, что не может предотвратить её, поскольку никто не слышит его голоса. Вечно хмурый, изнервлённый, никогда не улыбающийся человек, он весь обращался в ожидание конца, и казалось, что его вечно всклокоченные волосы стоят дыбом от созерцания пропасти, в которую неудержимо катилась Россия. Пока был жив Столыпин, надежда ещё теплилась, и Лев Александрович ещё старался донести свои идеи, ещё сражался. Но вот, не стало того, на ком всё держалось, и он замолчал, уже не веря в благополучный исход. Однажды московские монархисты решились составить коллективное письмо Государю с просьбой удалить от себя Распутина. Тихомиров, ненавидевший «старца» и лишившийся расположения царской семьи за обличительные статьи о нём, сказал безнадёжно:
– Не делайте этого, господа. Бог закрыл Государю очи, и революция неизбежна. Своим письмом вы лишь ускорите её.
Так и не отправили письма… Относительно Государя Тихомиров, преклонявшийся перед его отцом, не питал ни малейших надежд. Вигелю запомнились полные отчаяния слова Льва Александровича, сказанные им в их последнюю встречу, в самый разгар войны:
– Какой-то, право, мученик. Искупитальная жертва за грехи поколений… За какое дело не возьмётся, загубит любое. По-человечески безумно жаль его. Но ещё жальче Россию. Кара Господня, что в такое невероятно тяжёлое время мы получили интеллигента на троне. Теперь ещё эта война… Чем бы она не кончилась, для нас итогом будет падение монархии. Её уже не спасти.
Тяжело было слышать эти полные муки слова от человека, положившего полжизни на укрепление монархии, на служение монархической идее. Мрачное предсказание Тихомирова исполнилось, но после этого Вигелю так и не случилось повидать Льва Александровича и узнать, как пережил он крах идеи, которой самозабвенно служил, крах России, которую так страдальчески любил.
Теперь, на последнем клочке русской земли, Пётр Андреевич часто вспоминал печатные взывания Тихомирова к разуму общества и власти, его полемику со Столыпиным относительно парламента. Лев Александрович считал, что его сохранение приведёт к революции, Столыпин – что революцию спровоцирует его упразднение. Так и не сошлись два выдающихся ума, два выдающихся русских патриота, глубоко уважавших друг друга, на этом пункте. Бог ведает, что случилось бы, если б план Тихомирова был принят. Бог ведает, кто был прав в том споре. Но, вот, пришла революция, и не стало Великой России, и день за днём пожирал страшный молох её лучших сынов и дочерей. Привелось же дожить…
Нежданно приехавшая в Севастополь Олюшка рассказала обо всём пережитом в Москве. Сердце кровью обливалось. Как она, при её-то хрупкости и слабом здоровье, пережила всё это? Даже представить себе трудно и страшно было! О смерти Илюши лишь несколько слов сказала, а больше не смогла, расплакалась. Потерю любимого внука ничем нельзя было восполнить, эта боль никуда не могла уйти. Горько было узнать о судьбе бедного Юрия Сергеевича. Олюшка уже отписала его жене и дочерям в Париж, а в ответ получила довольно сдержанное письмо. Первые дни Пётр Андреевич с трудом верил, что жена снова рядом с ним. За долгие месяцы разлуки не было ни дня, когда он не думал бы о ней, не страшился, что не приведётся больше увидеться. А она не стала ждать призрачной и недоступной победы, приехала сама. Одна. По морю. Привезла тёплое письмо от Володи и Нади Олицких (слава Богу, хоть они благополучны были). И несколько дней подряд не могли наговориться, наглядеться друг на друга. Из оставленного дома Олюшка вывезла несколько самых дорогих вещей, книг, фотографии, но практически всё имущество кануло безвозвратно. И библиотека… Но не о том болела душа. Не то было горько, что на старости лет остались без крова, без средств к существованию, а то, что вместе со всеми этими пусть даже и дорогими вещами, канула безвозвратно Россия, и эта потеря, равно как и потери дорогих людей, была единственной, какую стоило оплакивать, о которой скорбело безутешно сердце. Перед этой великой утратой несущественным прахом казались все личные потери: дом, картины, книги… А ведь прежде ценным всё это казалось! Не дай Боже потерять! Ведь пережить будет нельзя! Ведь в этом вся жизнь! А оказалось, что мелочи всё это, оказалось, что есть утраты и скорби гораздо более страшные. Слава Богу, что Олюшка решилась покинуть Москву. Близкие люди – вот, последняя ценность, которая осталась в разбитой жизни. И послал Господь счастье, на несколько дней соединив семью после долгой, как смерть, разлуки.
Следом за Олюшкой добрался в Крым Пётр. То-то была радость её исстрадавшемуся сердцу! После всех утрат живого сына обнять! А по нему видно было, сколько пережить пришлось. Волосы, как снег, тонкое, исхудалое лицо, глубокими морщинами изрубцованое, дышащее нервной силой, движения и речь резче прежнего. Но, в общем, всё тот же был. Воин, готовый во всякую секунду броситься в единоборство с любым врагом. Но одна перемена значимая была. Впервые видел Вигель, чтобы лицо Петра по временам освещалось такой любовью, чтобы таким полным благоговения взглядом смотрел он на женщину. Эта женщина, приехавшая с ним, безусловно, заслуживала такой любви, но думалось о Елизавете. Что же будет с ней? И по отношению к ней ведь дурно выходит… Но слишком знал Пётр Андреевич, что человек не властен над своим чувством. Ведь жил он и сам с первой женой, не переставая любить Олюшку. Так жизнь сложилась… Правда, ладком-рядком жили, ничем никогда не обидел её, а всё-таки, всё-таки. Кто виноват, если две половинки слишком поздно встретились? Да ещё среди этого ада? Кто посмеет судить? Одна Лиза на это право имела. Отчасти Надюша. О них обеих ничего неизвестно было, и эта неизвестность занозила всем сердца. Олюшка особенно переживала за внучку. Но что сделать можно было? Только молиться и ждать.
Наконец, на три дня примчался с фронта Николаша. Вперёд письмо прислал с просьбой подготовить всё к венчанию. Решился-таки! Не знал Петр Андреевич, радоваться за сына или нет. Хоть бы рад был он сам, тогда можно и порадоваться было, несмотря на собственные сомнения. Но и сам Николаша не светился радостью. То ли дело было, когда пришёл он ещё в Москве со своей невестой Таней! Как они светились оба, и видно было: вот они – две половинки. А с Натальей Фёдоровной стояли у алтаря не то, чтобы печальные, но затуманенные словно. Не по любви сходились, от безысходности, не счастье сводило, а горе. И выйти ли счастью из этого?
Только и радостно было – на Олюшку смотреть. Как радовалась она и свадьбе, тому, какими красивыми были и жених, и невеста, как любовалась сыном-генералом, на которого не могла надышаться. Оживала голубка, светилась. И теперь за столом ухаживала за всеми. Смотрел Пётр Андреевич на жену и видел её всё такую же молодую, какой она была лет сорок назад. Как давно, подумать только, всё было! Воскресала в памяти Москва, каждая улочка, каждая вывеска, церковка, лица людей…
– Это было давно… Белый снег, купола…
Звонкий лёд под коньком серебристым…
Ты такою прекрасной и юной была,
И такой удивительно чистой!
В юности Вигель грешил стихотворчеством и неплохо рисовал. С годами он всё реже обращался к этим занятиям, но нахлынувшие в связи с приездом Олюшки чувства были столь сильны, что вырвались на бумагу, и теперь, глядя на неё, он читал ей написанное, а сидевшие за столом притихли, слушая, как и она, вспоминая, как и она, давнее.
– Белый снег… Звонкий лёд… Золотая Москва!
Промельк троек и звон колокольный!
И свечой в поднебесье взметённый «Иван»,
И народ у церквей богомольный.
По Никитской, Ордынке, Волхонке, Тверской,
По Пречистенке и по Арбату
Мы гуляли, мой ангел, когда-то с тобой,
С Воробьёвых дивились закатам.
Это было… Когда? Очень-очень давно!
Бал в Собранье… Князья да княгини…
Жизнь искрилась, кружа, как Шампани вино.
И куда-то исчезло всё ныне?
Это быль или небыль? Разбито всё вдрызг.
Белый снег, небосвод синий-синий…
Что там было? Всего лишь обычная жизнь.
И всего лишь… Всего лишь Россия.
На Садовом кольце мы любили гулять.
Где теперь ты, о друг мой сердечный?
Не смогли, не успели блаженства понять.
Век в чахотке сгорел скоротечной.
Было там… Что же там? Только свет… Только свет…
И опять мы идём по бульварам.
Это явь! Это явь! А всё прочее – бред!
Бред, рождённый горячечным жаром.
Это было давно… Это было со мной?
В иорданях вода чуть дымилась.
И друг другу как будто бы всякий – родной.
Это было иль только приснилось?
Белый снег… Купола… Твои руки – в моих.
Это было давно. Но нестрашно, неважно!
Ты со мною, друг верный, опять в этот миг.
Значит, всё возвратиться однажды!
По растроганному лицу Олюшки катились слёзы.
– Спасибо! – сказала она, целуя Петра Андреевича в щёку и сжимая его руку. – Я тоже верю, что всё возвратится. Злоба не может править вечно, и настанет время, когда люди снова будут собирать то, что бездумно растратили и разорили теперь.
– Только когда эта благословенная эра настанет? – вздохнул Николай. – Для того, чтобы она настала, мы должны победить. Белая идея должна победить. А из нас вряд ли кто-то верит, что мы ещё в силах одолеть большевиков. Мы идём в бой больше ради чести, нежели ради победы.
– Ты путаешь понятия, – покачал головой Пётр, раскуривая трубку. – Я не верю в военную победу, потому что есть объективная реальность, которая состоит в простом соотношении физических сил. Но идеи, Николай, побеждают не на поле боя, а в душах. И в эту победу я верю. Ты сказал сейчас, по сути, что мы, идя в бой, ищем не победы, а спасения от бесчестья. Но в этом-то и ошибка! Ошибка общая! Нам легче умереть за Россию, нежели жить для неё, работать для неё. Да, сегодня мы спасаем, прежде всего, свою честь, а не Россию. Наша борьба проиграна, но её необходимо закончить на высокой ноте. И не только потому, что помирать, как говорят, надо с музыкой, а потому что борьба наша важна для будущей России, России, которая возродиться из наших костей и крови, которая будет воссоздана нашим духом, очищена нашей жертвой. Я не знаю, когда придёт это время, но я верю, что оно настанет. И наши потомки должны будут иметь перед собой пример борьбы. Поэтому спасая нашу честь, мы спасаем Россию будущую, оставляя ей нашей кровью написанный завет, наш белый идеал, который мы должны свято сберечь. И в этом будет наша победа, за которую мы будем бороться до последнего вздоха всюду, куда бы ни забросила нас судьба. И за эту победу я хотел бы поднять бокал!
Звякнули шесть бокалов, наполненные белым вином.
– Да воскреснет Россия! – прибавил Пётр Андреевич взволнованно.
– Евдокия Осиповна, может быть, вы исполните что-нибудь? – попросил Николай. – Мы на позициях совсем одичали. Не откажите!
Зазвенели переливисто гитарные струны, и хрустальный, удивительной чистоты голос запел старинный романс, в сладостных звуках которого ненадолго растворились тревоги и волнения. Иллюзия давно забытой мирной жизни окутала небольшую комнату, и так хотелось, чтобы она задержалась. Но уже садилось солнце, напоследок докрасна раскалив небо, заканчивался мирный день, а утром Николаю предстояло вернуться в армию, замершую, изготовившись к решительному броску на перекопские укрепления.
Глава 23. Последние дни
Первая половина 1920 года. Сергиев Посад – Москва
Так и не попустила бессонница сомкнуть глаз в эту ночь, а истревоженное сознание упрямо бежало от молитвы. А к утру снова были припадки в глазах. И даже в обоих. Они ещё несколько лет назад начались, и тогда предупредили врачи, что нужно избегать всякого волнения. И в ту пору уже издёвкой звучало, а теперь – подавно. Двух вещей боялся Лев Александрович: слепоты и безумия. А, впрочем, не многим лучше и паралич, какой случился с бедным Розановым. Хоть никогда в дружбе не были, а по-христиански жаль человека. После удара так изнемог, что дочь носила его на руках… Не дай Господи!
Нужно было вставать. Лев Александрович прошёл в кухню, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить расхворавшуюся жену и всю ночь дежурившую возле неё Надю. Верочки уже неделю не было. Уехала наниматься на работу, чтобы спасти семью от голодной смерти, призрак которой маячил всё отчётливее. Вкус хлеба уже забываться начал, приходилось удовольствоваться водянистым овсяным киселём и любой малосъедобной дрянью, о которой ещё недавно нельзя было подумать, что её можно есть. И от себя никак нельзя было ожидать такой выносливости. Никак не думал Лев Александрович, что с его от детских лет слабым здоровьем, с больным кишечником и плохими сосудами, приведётся просуществовать скоро семь десятков лет. Да ещё в голоде и холоде. Неисповедимы пути Твои, Господи!
Болела душа за Верочку. Куда-то поехала? К каким людям наймётся? Как бы худого не вышло. Столько люда лихого развелось окрест. Особенно в районе Александровской слободы – вечного разбойничьего гнезда. Каких только ужасов не рассказывали! И ведь не всё же сплошь врали? Так не хотелось дочь отпускать, а делать нечего… Думал ещё лет пять назад, что, наконец, после стольких мытарств и нищеты, получил возможность остаток дней прожить в покое и без нужды. И от этой мечты камня на камне не осталось… Сневолила судьба с нуждою – не развяжешься.
Не без боли и о сыновьях думалось. Особенно – об отце Тихоне. При нынешних гонениях на церковь уцелеть ли?..
Обогревшись кипятком, Лев Александрович надел долгополый, похожий на мантию, старый сюртук и, захватив длинную палку, напоминающую посох, вышел из дома. Он медленно шёл по разбитой и грязной мостовой, с силой ударяя о неё тростью, не глядя по сторонам. Но, вот, раздалось из-за угла озорное:
– Карл Маркс идёт!
Передёрнуло… До чего дожил, подойдя к семидесятилетнему рубежу! Для того, чтобы не сдохнуть с голоду, вынужден был наняться делопроизводителем в школу имени, тошно сказать, Горького, некогда бывшую Сергиево-Посадской мужской гимназией, и к тому ещё выслушивать насмешки зубоскалов-мальчишек. Так Господь смиряет гордыню…
В свете пробившихся сквозь лёгкую дымку облаков лучей блеснул ещё не сверженный крест колокольни. Лев Александрович перекрестился, и от горького воспоминания захолонуло сердце. Как гром, прогремела несколько месяцев назад весть о том, что большевистская власть готовит очередное кощунство – вскрытие мощей Преподобного. Поутру к Лавре стал стекаться народ, возглавляемый духовенством. Ворота святыни были заперты, из бойниц глядели пулемёты, готовые в любой миг обрушиться свинцом на богомольцев. Духовенство поочерёдно служило молебны, в промежутках пели «Да воскреснет Бог», многие рыдали, простирая руки к небу. Только под вечер ворота отворились, и возникший на пороге еврей бросил презрительно:
– Идите смотрите, чему вы поклонялись – тряпкам и костям!
Богомольцы бросились в Троицкий собор. Там с приплясыванием и мерзкими песнями уже орудовали комсомольцы из союза безбожников, старавшиеся заглушить рыдания верующих. Среди разгрома над раскрытым гробом Преподобного, кости которого были разбросаны, как попало, стоял и читал старик-монах. Катя, Верочка и Надя горько плакали, видя это страшное зрелище. Да и самому трудно было удержаться от слёз. Даже теперь подступали…
А ведь именно здесь, в этом святом месте, начался тот душевный переворот, который вернул безбожного народовольца на стезю благую. Это было почти сорок лет назад. Тогда, после убийства Государя Александра Второго, Тихомиров инстинктивно бросился сначала в храм, помянуть убитого Императора, а затем сюда – в Лавру. Своим объяснил боязнью слежки, но на самом деле что-то совсем иного рода влекло. Он не принимал участие в злодеянии ни делом, ни словом, выйдя из членов Административного Комитета, решавшего все вопросы в партии, ещё ранее, и когда оно обсуждалось прежде выступал против, настаивая на прекращении покушений, но знал о нём. И, стало быть, всё-таки соучаствовал. Молчанием.
Мысль о «терроре», о цареубийстве, о заговоре приходила в голову людям в разных концах России, в совершенно различных положениях, различных национальностей, всем рассеянным «гражданам революционной идеи». Это было начало восстания, которое не удалось, не разгорелось, потому что желающий восстания слой был очень слаб. Тут была логика революционной идеи, а не чья-либо таинственная рука. Разве, пожалуй, можно говорить о таинственной руке дьявола…
Цареубийство потрясло Льва Александровича. Сколько было уже покушений на Государя, и все они срывались, и, вот, когда сгибли уже самые страшные силы заговора, Михайлов, Желябов и другие, то, что не удалось им, удалось мальчишкам, организованным бабой… Почему? Ведь случись Государю спастись и в тот раз, и покушения прекратились бы. Но он сам пошёл навстречу своей смерти, Гриневицкому, который не мог бросить своей бомбы, стоя в отдалении, не мог приблизиться сам. Зачем? Государь погиб в ту минуту, когда были истощены все средства преступления, когда враги его уже не могли ему повредить. Высшая рука была видна в этом. Человек гибнет не от случайности, а лишь тогда, когда отслужит, исполнит на этой земле нечто неведомое. И в этом прав был Толстой.
Обдумать всё произошедшее, осмыслить свою роль в этом в тот момент, сразу после преступления, у Тихомирова не было времени. Нужно было срочно уезжать из России во избежание ареста. Прежде отправил за границу беременную Катю, а за ней поехал и сам, оставив двух дочерей на попечение родных.
Первое чувство за границей было какое-то невероятное счастье. Счастье от того, что не надо больше прятаться, что никто больше не идёт по следу, не ловит. Только бежавший пленный мог бы понять упоённость осознания себя вольным человеком. Думалось, что удастся устроиться и подумать о пережитом. Но не так-то просто было уйти от политики и революции, занимая в ней такое положение. Против воли водоворот прежних связей, обязательств, инерции затягивал. И всё же кое-что высветлялось среди этой суеты.
Заграница оказалась совсем не такой, какой представлялась. Революционеры мнили себя представителями Европы в России, а Европа нежданно оказалась «реакционной». Лучшие журналы были в ней консервативные, лучшие учёные – консерваторы. А эмигранты, «свои люди» оказались в отчуждении, на положении евреев в «гетто». Лев Александрович начинал понимать, что все его старые идеалы, интересы, вся жизнь вертелись около чего-то фантастического, выдуманного, вздорного. Личная практика заговорщика и наглядное знакомство с действительностью французской политики, теоретическое, но накапливающееся знание социальных явлений – всё убеждало его, что либеральные, радикальные, социалистические идеалы есть величайшее умопомрачение, страшная ложь и притом ложь глупая.
Революционная идея всегда составляет у людей самообман, стремление к тому, что невозможно, и такими путями, которые нецелесообразны. Если в результатах так называемых «революций» нередко бывают свои частички пользы, то лишь постольку, поскольку под флагом фантастического стремления, нашло себе место стремление реальное, в действительности принадлежащее к содержанию эволюционного процесса.
Из всех революционеров для России самую большую опасность представляли социалисты. Далеко не все понимали это, но Тихомиров угадал и предсказал, что если кто и придёт в России на смену монархии, то это будут социалисты, их беспощадная классовая диктатура. Потому-то так много писал о них по собственном прозрении, развенчая их ложь. Социалисты сулят миру «свободу, равенство и братство». Обещают, что очень хорошо устроят нынче своё пастбище, так что каждому достанется вдоволь травы. Это они и считают своим великим идеалом. Для того, чтобы этого достигнуть, они хотят изменить всё, чем до сих пор жили люди, уничтожить существующее общество и устроить заново коммунистическое общество, где ни у кого не будет ничего своего, где и умный и глупый, и ленивый и прилежный будут одинаково продовольствоваться на общественный счёт. Нет в социалистическом идеале и равенства. Те, кто порасхватят места управляющих и надзирателей, будут своего рода новою аристократией. Да и в остальном: разве можно назвать равенством, когда человек, трудящийся добросовестно, получает столько же, сколько злостный лентяй? Такой порядок составляет не равенство, а узаконенную эксплуатацию добросовестного человека в пользу недобросовестных. И братства в их идеале тоже нет. Братство состоит в любви, в добровольной помощи одного человека другому; при такой добровольной любви тот, кто оказывает помощь, действительно заботится о пользе ближнего и старается, чтоб его помощь принесла пользу. Насильственного же братства быть не может. Если у человека силой отнимают плоды его труда и отдают другому – от этого является только зависть, недоброжелательство и ненависть.
Россия, как виделось издали, была здорова и оживленна. И несомненно становилось, что отныне нужно ждать всего лишь от России, русского народа, почти ничего не ожидая от революционеров, по крайней мере, на долгое, неопределённое время.
Пересматривая свои взгляды, Тихомиров вспоминал, что ещё издавна подмечал какой-то глубокий разлад между собой и своими товарищами. Они искренно, конечно, полагали, что авторитет их «тигрича» велик для них, но, в сущности, не понимали его: ни его «национализма» в виде стремления поставить свою деятельность в соответствие с желаниями самой России, ни его убеждения в необходимости твёрдой власти, его независимого отношения к европейским фракциям революционного социализма. Да и в собственной душе давным-давно царил разлад. Ещё в России ощущалось, что все революционеры, воображая делать всё по-своему, действовали однако словно пешки, двигаемые чьей-то рукой, ввиду достижения цели не своей, а какой-то им неизвестной.
И являлась мысль, как же так вышло, что оказался среди них? Зачем? Семья Тихомирова всегда была чужда революции. Несколько поколений его предков были священниками, отец – врачом. Дома все были далеки от политики, но, кроме дома, была ведь ещё и школа. А что сказать о ней? О политике просвещения? В так называемой «образованной» части общества давно возобладала идея чисто варварская, которая, не сознавая смысла просвещения, видит его лишь во внешних формах. Строили школы, размножали их и воображали, будто бы этим можно приобрести знания, хотя бы и учителя были невежды, и воспитанники ничего не делали. Это вместо того, чтобы поставить во главу угла принцип качества труда, достижения знания. Была бы вывеска, были бы цифры, значилось бы только, что у нас «всеобщее обучение» и десятки университетов. С таким пониманием образовательных задач можно было распространить только невежество, что и происходило сплошь и рядом. Выходили из школ самоуверенные полузнайки, не годившиеся ни для разумного социального строя, ни для умной государственной политики, ни для технического труда – ни для чего, кроме смут и революций.
Никогда, учась в гимназии, не слышал Тихомиров ни единого слова в защиту монархии. Но наоборот: в истории учили только, что времена монархии есть время «реакций», времена республики – эпоха «прогресса». То же было и в книгах. И уже в третьем классе зачитывался Лев Александрович «Русским словом», которое находил у родного дяди, монархиста и поклонника Каткова, преклонялся перед Писаревым, и к шестому классу стяжал вполне республиканские убеждения. Когда раздался выстрел Каракозова, это ни в ком не вызвало содрогания, кроме одного-единственного учителя, который заплакал, и над которым всё молодое шарлатанство, не знавшее сотой доли того, что знал он, постоянно подсмеивалось. И о слезах его ученики передавали друг другу с хохотом. Гимназисты развивались под влиянием Чернышевского и Добролюбова, свято веря, что мир развивается революциями, забывали детскую религиозность и приходили к материализму, который доходил подчас до полного кощунства, когда один из школьных товарищей, например, потихоньку выплёвывал причастие. Тихомиров хотел верить в Бога, но уже знал от кого-то, что Бог якобы не прочен, и десяти лет рассуждал, кто же прав: Циммерман или Моисей, Бог или оказавшийся впоследствии вором «передовой» Караяни. В голове воцарялся хаос…
Отчего превращалась школа в рассадник революции? Много было недостатков в образовании и раньше, начиная с петровских времён. Но тогда хотя ошибались, а потом уже не ошибались, а просто ни во что не верили. Какое же тут могло быть воспитание?
России был и остаётся нужен образованный человек, нужен был, нужен и теперь подвижник правды. Но это ничуть не значит, чтобы ей нужен был «интеллигент» со всеми его претензиями на господство в дезорганизованной им же стране.
Но таковых она и получала…
Юноша, слабо развитый духовно и умственно, в таких условиях мог бы избежать революционной стези, погрузившись в скуку быта, но Лев Александрович с детства отличался большим развитием и восприимчивостью. И как-то само собой вышло, что в институте сомкнулся с революционерами, вступив в кружок Чайковского. И оказался с ними на скамье подсудимых на «процессе ста девяноста трёх» вместе с Желябовым, Перовской и другими будущими народовольцами. В тюрьме Тихомиров провёл четыре года, а после этого был отправлен в административную ссылку под надзор с тем, чтобы в случае проявления неблагонадёжности, оказаться и вовсе в Сибири. Понимая, что в ссылке невозможно даже найти сколько-нибудь порядочного занятия, чтобы зарабатывать на хлеб, Лев Александрович бежал из-под надзора, и с той поры началась его нелегальная жизнь, в которой было всё: слежки, конспирация, идеологическая работа, роман с Перовской, к счастью, не увенчавшийся свадьбой, встреча с Катей, одна из ведущих ролей в руководстве партии… И, вот, изгнание. Во имя чего?..
Чтобы понять цену вещей, понять истину, человеку необходимо дойти до края, заглянуть в бездну и остановиться. Что такое край Тихомиров понял у одра умиравшего от менингита сына. Месяц за месяцем ждали с Катей его смерти, видя, как несчастный ребёнок бился в конвульсиях, кричал, как в пытке, от страшных болей в голове. «Папочка, головка болит…» – от этих слов потом всю жизнь бросало в дрожь. И не было человеческой власти помочь! Врачи не давали надежды. Катя убегала в свою комнату, и всё лечение падало на Льва Александровича. И доныне жутко было вспоминать, как изо дня в день ежедневно сдирал и сдирал не сходившие мушки при криках мальчика, спрашивая себя, стоит ли так терзать его, если он всё равно умрёт, силой разжимая челюсти мученику и вливая горькие снадобья. Десять раз легче умереть самому, чем быть средневековым палачом маленького существа, которое любишь больше всего на свете…
Саша выжил наперекор уверенности научных светил, считавших произошедшее чудом. Маленький страдалец медленно воскресал, а с ним вместе воскресала душа его отца. Как многому научил его сын, без слов, без понятий, одним настроением, в которое он погружал своими страданиями, любовью, которая разгоралась к нему, наконец, запросами своей развивающейся души. Гладя, как оживающий ребёнок играет на поляне, Тихомиров чувствовал, как в нём растёт что-то новое, чего значения ещё не понималось, из чего не виделось выводов, но что-то сильное, которого правда ощущалась с осязательностью, не допускавшей никаких сомнений. Саша привёл его к Богу. Тяжко было идти, но этот путь привёл к такому свету, что затем все мучения меркли перед ним.
Лев Александрович никогда не отрекался от Бога. Разве однажды обронил фразу, которую вспоминал потом, как нечто дурное. Но молитвы давно изгладились из памяти, и даже Символ Веры не вспоминался целиком. Чувствуя в годы подполья позывы молиться он гасил их, считая, что молиться из-под палки, когда плохо, есть малодушие и подлость, если в хорошее часы о Боге не вспоминается. Но болезнь сына переменила всё. И у одра мученика из души рвалась отчаянная, жгучая не молитва даже, а вопль: «Если ты есть, помилуй, помоги!» Милосердный вопль услышал, и впервые за долгие годы Тихомиров обратился к Евангелию, которое было подарено некогда сестрой, а потому хранилось вместе с материнским благословением – образком Святителя Митрофана, чудом уцелевшим даже во время обысков и четырёхлетнего заключения. Он словно вёл по нему разговор с кем-то неведомым. Вера начиналась с разума. С сознания. Сознанием Лев Александрович проверял всё, не доверяя чувству. И в Бога он уверовал вначале умом, но душа ещё молчала, и немало времени прошло, прежде чем молитвенные слова хоть иногда стали звучать в ней вполне искренне. То была полоса фантастическая, сверхъестественная, сумасшедшая. До того дошло, что доктор, не зная, что происходит, констатировал истощение и посоветовал: «Вам не следует так углубляться в себя. Это, наконец, опасно. У вас весь организм расстроен, очевидно, от этого».
Здоровье, в самом деле, становилось всё хуже. И всё тот же доктор заявил, наконец, что тронуты лёгкие. Шабаш! Не при такой жизни выжить! Денег не было ни гроша, существовали в кромешной нищете, в долгах, набранных у тех, с кем разводила теперь судьба по разные стороны. И отчаяние находило. Времени что-либо создать почти не оставалось. Ещё немного – и конец, а ничего ещё не сделано! И сгинуть в бессмысленном изгнании, когда чувствуешь себя так глубоко русским, когда ценишь Россию даже в её слабостях, когда видишь, что её слабости вовсе не унизительны, а сила так величественна… Нестерпимо думать было! Россия вспоминалась каждой чёрточкой своей, как любимейшее существо, вставала перед взором, как прекрасный сон, но он исчезал, и вместо него возникало всё чужое, опостылевшее…
Вся жизнь, как оказалось, была сплошная ложь, хотя и бессознательная. Но до чего же дикое положение! Быть верующим и отлучённым от церкви, быть русским до глубины сердца, влюблённым в свою страну и жить в изгнании, быть монархистом и иметь за душой сплошную борьбу против Самодержавия, любить семью, а при том жить с женой во грехе, так как венчался по подложному документу, а детей поставив в положение отчаянное… Что за судьба! И как вырваться было из этого замкнутого круга?
Ответ дало Писание. Раз за разом открывалось оно на словах: «И избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благословение царя египетского фараона…» И Катя, душа чистая, угадала: да не о русском ли Царе это? И это был единственный выход – просить Государя о прощении. Лев Александрович написал три обращения: к Плеве, Дурново и самому Императору. Писал со всей откровенностью: «Я разрушил всё в этой жизни. Я имел некоторые способности и употребил их на дело, которое мне тяжело даже охарактеризовать. Я имею отечество, которое любил: оно считает меня преступником и врагом. Я имел отца и мать и покинул их; отец так и умер, не увидев меня больше, мать до сих пор оплакивает меня как живого покойника. Я имею детей и поставил их в такое положение, что они меня помянут со временем лишь самым горьким и заслуженным упрёком. А между тем я всегда и по чувству, и по правилам был добрым сыном и хотел быть честным отцом». И молил позволения исправить все прежние ошибки. И Государь простил!.. И позволил возвратиться в Россию!..
Тогда впервые удалось сводить сына в русскую церковь при посольстве, куда прежде боялся ходить. Когда раздалось пение, Льву Александровичу показалось, что сердце вот-вот разорвётся. Он не плакал и не умел плакать, с детства презирая плач и не веря ему, но в тот миг спазмы охватили горло, и хотелось упасть на колени и рыдать от горя и счастья одновременно. А после службы Саша сказал: «Папа, мы больше не будем ходить в католическую церковь… Тут лучше, у нас гораздо лучше». Одно из счастливейших мгновений было в жизни! Не загубил, не загубил всё-таки детской души! Сколько ни нагрешил сам, но мальчика своего привёл к правде!
В Россию уехали ненавидимые бывшими друзьями, но это мало волновало. Дома однако далеко не сразу устроиться вышло. Вначале из-за запрета жить в столицах пришлось поселиться у матери. Работы не было никакой, и складывалось дикое положение – приехал сын и со всей семьёй сел на шею старухе матери. Вот, плоды, натуральные плоды неестественной, изуродованной жизни. Неудачная жизнь, неудачный человек! Мечтал основать семью – чистую, крепкую и больше ничего не хотел. Хотел денег, но немного, только для обеспечения, только для независимости семьи. И вот, хоть перервись, – ничего не было. Пришлось опять молить о снисхождении, жалуясь на беспомощную жизнь отца, не имеющего возможности питать своих детей, постоянно подрываемого в своём влиянии на них… человека убеждённого, не имеющего возможности действовать, человека русского и православного, находящегося под надзором, человека почти сорока лет, и который не обеспечил на грош своих детей и ничего не сделал для своих убеждений…
И вновь услышан был! И – как благодарить? Из какой ямы вытащил Господь глупого, и неумелого, и до сих пор ничем не заслужившего его милосердия!
Только с переездом в Москву и началась хоть какая-то работа. А каковы планы были тогда! Сколько благих стремлений и идей для укрепления монархии и России. С революцией преимущественно боролись силой, но этого явно не доставало. Против идеи и практики разрушения можно и должно выдвигать идеи и практику созидания, усовершенствования. И в этом направлении Лев Александрович взялся работать. Изучая и ближе наблюдая общественные и правящие круги и администрацию, он всё более убеждался в их политической малосознательности, отчего происходила своеобразность буффонального патриотизма – у одних, и отсутствие его – у большинства, хотя и мыслящих себя монархистами… Правящие круги и все вообще застряли на начатках своей политической веры. Спросить самого правоверного монархиста: почему он монархист и в чём его политическая вера? Кроме стереотипных славянских лозунгов «за Самодержавие, Православие и русскую народность», он ничего другого не умел сказать, определить и доказать.
Нужно было, наконец, превратить Монархическую идею из абстракции в науку, нужно было дать ей форму, основанную на истории и социологии. Лев Александрович стал первым человеком, сумевшим справиться с такой задачей, написав обширный труд «Монархическая государственность». В этой книге Тихомиров, апеллируя множеством фактов всемирной и отечественной истории, опираясь на знание социальных явлений, доказывал, что: Из различных форм власти выше та, которая с наибольшим вниманием относится к личности, испытывает наибольшее ее влияние, дает ей наибольший простор творчества. Способность государства к великому развитию в основе своей зависит от его отношения к личности, к допущению ее свободного творчества, особенно в сфере социальной, на которой держится государство;
что: Политика в деле установки Верховной власти сливается с национальной психологией. В той или иной форме Верховной власти выражается дух народа, его верования и идеалы, то, что он внутренне сознает как высший принцип, достойный подчинения ему всей национальной жизни. Как наивысший, этот принцип становится неограниченным, самодержавным. Верховная власть, им создаваемая, ограничивается лишь содержанием своего собственного идеала;
что: Монархическое начало власти по существу есть господство нравственного начала. Оно есть выражение того нравственного начала, которому народное миросозерцание присваивает значение верховной силы. Только оставаясь этим выражением, единоличная власть может получить значение верховной и создать монархию;
что: Царь есть представитель идеалов народа. Царь поставлен Богом не где-то в отвлечении, а на конкретном деле известного определенного народа, а следовательно, для исполнения задач его истории, его потребностей, его исторического труда. Если монарх вместо того, чтобы исполнять свой долг правит в духе и направлении этих национальных идеалов, начинает поступать, как ему лично нравится, нарушая ту национальную работу, для ведения которой получил свою власть, он нравственно теряет право на власть;
что, наконец: Монархия возникает с (высшим) содержанием народного духа и кончается с его уничтожением. Первая задача ее состоит, стало быть, в том, чтобы помочь нации сохранять и развивать это духовное содержание. Это составляет первую задачу и обязанность как в отношении нации, так и в отношении самой монархии, ибо свое нравственное содержание Верховная власть почерпает из нации. Когда оно есть в нации, оно передается неизбежно Верховной власти; иссякая в нации, столь же неизбежно иссякает и в Верховной власти.
В этой книге он разоблачил вредоносность парламентаризма, указав, что: Парламентские депутаты выражают не волю или желания народа, а желания политиканствующего сословия. Парламентское представительство не объединяет государство с нацией, а разъединяет их как никакое другое устройство. И подробно изложил, какое народное представительно необходимо России: народное представительство, которое должно иметь, во-первых, обязанность представлять Верховной власти нужды и пожелания народа, а во-вторых, в законодательстве исполнять ту работу, которую ей указывает Верховная власть. Народное представительство должно, сверх того, быть устроено так, чтобы, во-первых, Русский народ оставался господином в устроенной им Империи, а не превращался в раба инородцев, и, во-вторых, чтобы он в лице депутатов имел действительно своих представителей, верных слуг своего интереса, а не каких-то новых господ над собой. Для этого нужно, чтобы депутаты были избираемы не случайной толпой, как полагается по «конституционным» теориям, а определёнными организованными группами населения, так, чтобы каждая группа знала своего депутата, и он, в свою очередь, знал своих доверителей и не мог бы безнаказанно изменять им и своим обязательствам. Сильная власть в форме Самодержавия наверху и развитый институт земства, советных людей внизу – вот, была формула власти, которую вывел Тихомиров.
…Итак, задача народного представительства для монархии состоит в том, чтобы сохранить единство основных элементов государства. Царя и нации – сохранить свободную волю государства (в лице царя) и вооружить ее всей творческой силой национального гения; нацию же в ее отдельных слоях и в совокупности приблизить к Верховной власти и таким образом обеспечить государственное осуществление мысли, потребностей и желаний народа.
Такая система представительства требует, чтобы нация была организована в своих классах, сословиях, вообще в реальных коллективностях, из которых она состоит и в среде которых живут и действуют ее отдельные граждане. Чем лучше нация организована в своих социальных группах, тем проще и легче исполнима монархическая система национального представительства. Чем более нация дезорганизована, тем труднее создавать ее. При дезорганизованности нации – ее творческие силы не видны. Их трудно вызвать, если этого пожелает Верховная власть, ибо неизвестно, где они находятся. Их трудно выбрать даже народу, ибо он также их не всегда видит. При дезорганизованности нации приходится прибегать к системе выборов по большинству голосов, то есть к системе слепых выборов, к системе опроса не высших, а низших элементов социальной жизни.
Но когда нация организована, когда закон предоставил гласное существование тем социальным группам, из коих нация состоит, то представительство их одинаково легко и в общественном управлении, и в государственном. Каждая группа – территориальная или промышленная, или выражающая какую-либо отрасль умственной деятельности – хорошо знает своих выдающихся людей и без труда их выдвинет. Будучи организованной, каждая группа может также и усмотреть за деятельностью своих представителей и понять – верно ли они выражают ее интересы и мысли или изменяют ей, и в потребных случаях может обличить или сменить (…).
При этом должно соблюдаться очень важное правило, проистекающее из самой цели национального представительства – все представители должны принадлежать к тому классу, к той социальной группе, которые их посылают выражать свои интересы и мысли перед Верховной властью, и в задачах государственного управления. Нужно чтобы они лично и непосредственно принадлежали тому делу, которое представляют, лично и непосредственно были связаны именно с тем социальным слоем, которого мысль выражают. Без этого представительство станет фальшивым и перейдет в руки политиканских партий, которые вместо национального представительства дадут государству профессионалов политики.
Такая система представительства, поддерживая прямую связь Верховной власти с живым народом, с его социальными слоями и группами, есть единственное средство для охранения свободы Верховной власти и нации от узурпации служебных сил. Сверх того, эта система представительства вливает в работу государства все творчество нации – в задачах экономических, умственных и нравственных. Государство при этом делается не просто техническим управительным аппаратом, но становится органом, компетентно чувствующим потребности реальной жизни нации в беспрерывных изменениях и усложнениях ее эволюции.
Казалось бы, этот труд должен был стать библией для монархистов, однако большинство предпочло удовольствоваться не самой монографией, а конспектом, изготовленным на её основе священником Востоковым. Обидно было, что «Монархическая государственность» не читалась, и вместе с тем очевидно, что время придёт, конечно, но тогда пожалуй нужно будет строить монархию заново, а это трудно.
Ещё едва только возвратившись в Россию, Лев Александрович был убеждён, что кроме разнообразных писаний, которые мало кто читает, нужна устная проповедь, миссионерство. Нужно заставить слушать, заставить читать. Нужно идти с проповедью в те самые слои, откуда вербуются революционеры. Он и кандидата на роль проповедника легко определил. Кому же, как не Леонтьеву? Писал ему, убеждая: «С вами, под вашим влиянием или руководством пойдёт, не обижаясь каждый, так как каждый найдёт естественным, что первая роль принадлежит именно вам, а не ему». Но – не судьба! Константин Николаевич вскоре умер, и это был громадный удар. За всю жизнь у Тихомирова не умирало человека, так близкого ему не внешне, а по его привязанности к нему. Судьба! Должно быть одиноким, по-видимому. А ведь так ещё нужен бы Леонтьев! Ещё за год до кончины писал, что по каким-то «суеверным признакам» должен умереть в 1891 году. Лев Александрович ответил: «Не умирайте, вы мне ещё нужны». Смерть Леонтьева угнетала его, и так хотелось написать ему: «Константин Николаевич, неужели вы серьёзно-таки умерли?» И возникло чувство, не раз прежде и затем являвшееся, что злой рок тяготеет: только вздумаешь голову поднять, сейчас же что-нибудь по башке пришибёт: лежи, не двигайся. Леонтьеву полагалось только душу спасать. Самому – семью растить. И дальше, – ни шагу! Какая утончённая порка самолюбию!
А рок тяготел уже и над всей страной. Сколько было светлых и бодрых надежд, зародившихся в царствование Императора Александра Третьего, когда, казалось, воскресала русская духовная сила и ежегодно быстро возрастала русская мощь.
Александр Третий объединил элементы жизни России и этим повысил жизненность нации. Но после него наверху стали объединять элементы разложения, и в 20 лет жизненные элементы заглохли и иссякли. Что они действительно иссякли – это ясно каждому. Почему произошла эта перемена? Потому что тогда старались в стране дать силу и влияние умнейшим, сильнейшим, а после Александра силу и влияние стали получать элементы толпы, конечно, «интеллигентной», но от этого ещё более зловредной в смысле разложения страны.
Всё держалось личностью Царя. Умер Царь, и оказалась в стране гнилая пустышка…
Бог покарал Россию, отняв у неё Царя. Процарствуй он ещё лет десять, и составил бы эпоху, и никакой революции не было бы. Но за такой короткий срок слишком многое не успелось. Что можно было вырастить за пять-шесть лет после тридцатилетия революционного шатания? Бедная Россия! В самый переломный, судьбоносный момент у неё было отнято всё, что было крепкого и подававшего надежды: Катков, Дмитрий Толстой, Пазухин, Леонтьев, Астафьев… Ничего кругом ни осталось: ни талантов, ни вожаков, ни единой личности, о которой бы можно было сказать себе: вот центр сплочения. А остатки прошлого, либерально-революционного, пережили тринадцать лет, тихо и без успехов, но в строжайшей замкнутости и дисциплине сохранили все позиции, сохранили даже людей, знамёна, у которых хоть завтра могли сплотиться целые армии. Всё зависело в ту пору от нового Царя. Лев Александрович увидел его впервые во время похоронной процессии. Жалко было смотреть на его мрачное горе. Небольшого роста, он однако был плотен и очень строен. Лицо симпатичное и умное. Но смотрел просто убитым. Шёл ровно, твёрдо, навытяжку, за гробом, всё время пешком. Ни на кого и ни на что не смотрел, словно около него не было ничего, кроме этого гроба. Лицо – самоуглублённое, худое и как будто потемневшее. Так и хотелось сказать ему: «Государь, не горюйте так, Бог поможет!»
Новый Император оказался не тем человеком, который необходим был России в роковой момент её истории. На престол взошёл русский интеллигент… прекраснодушного типа, абсолютно не понимающего действительных законов жизни. При этом его абсолютно съела бюрократия. Эта беспрерывно и бесконечно возрастающая административно бюрократическая опека, превзошедшая все примеры, бывшие дотоле, приводит общественные силы к расслаблению. Они почти отрицаются, если не в теории, то на факте. Все за всех должен делать чиновник и подлежащая власть. Таким путем правительственные учреждения разрастаются более и более. Силы национальные не только не развивают и не укрепляют своей организованности, но постоянно расслабляются бесконечной опекой, указкой, воспрещением и приказом.
Нация приучается все меньше делать что-либо собственными силами и удовлетворения всякой своей потребности ждет от «начальства». Это истинное политическое развращение взрослых людей, превращаемых в детей, сопровождается отсутствием возможности их контроля за действиями опекателей – чиновников, порождая в общественном мнении вместо разумного обсуждения действий администрации царство сплетни, в которой уже и разумному человеку невозможно отличить фантастических или злостных выдумок от действительных злоупотреблений.
Само собой, что так воспитываемая нация не может не терять постепенно политического смысла и должна превращаться все более в «толпу».
В России слой административный подмял под себя всё. Лев Александрович в ужасе записывал в дневнике: «Нет ничего гнуснее нынешнего начальства – решительно везде. В администрации, в церкви, в университетах. И глупы, и подло трусливы, и ни искры чувства долга. Я уверен, что большинство этой сволочи раболепно служило бы и туркам, и японцам, если бы они завоевали Россию».
Церковь разлагалась от слабости веры и обилия умствований, монархия теряла авторитет, революция набирала силу. Что-то совершенно невероятное, бессмысленное творилось в России.
Вредное действие хоть отрицательно научит. Полный застой, по крайней мере, даёт отдохновение. Мы же всё находимся в самом истощающем напряжении сил, а в тоже время в общей сложности делаем хуже, чем ничего. Одной рукой мы прививаем народу социалистические идеи, другой поддерживаем его православие. Одной рукой воскрешаем дворянство, другой стараемся превратить дворян в разночинцев чуть не еврейского типа. Одной рукой сдерживаем политиканство, ведущее к парламентаризму, другой размножаем целые мириады людей, которым в жизни нет места, кроме политиканства. В национально воспитательном смысле это, выходит, самый вредный хаос, в котором масса общества и народа теряет возможность вырабатывать какое бы то ни было определённое мировоззрение. Современная печать уже представляет самое тревожное выражение этого хаоса. Положительно никогда ещё в ней не было такого количества органов чисто «сумбурных», представляющих смесь самых несовместимых принципов. Никогда не было и такого безмерного количества публицистов без всякого ясного мировоззрения, а между тем смело берущихся решать все вопросы, поучать всех, начиная от мужика и кончая министрами. Это и совершенно естественно, потому что в современном хаосе понятий люди разучаются отличать умное от глупого, знание от незнания, опыт от фантазии.
Несчастная война с Японией обнажила все язвы русского общества в полном их безобразии. Дело было не в гибели флота… но ведь и вообще всё гибло. Невероятно жаль становилось этого несчастного Царя! А того больше Россию, которая не могла не желать жить, а ей грозила гибель, она прямо находилась в гибели, а Царь бессилен был её спасти, бессилен делать то, что могло бы спасти Россию! Что ни делал, губил и её, и себя самого. И что мог сделать простой русский человек? Ничего ровно. Сиди и жди, пока погибнешь.
И гибли… И первым камнем в будущую могилу России стал учреждённый парламент. Какой парламент мог быть в стране обезумевшей, стране, себя саму забывшей и не знающей? Недостаток сознательности, самопонимания был свойственен России всегда, он бросался в глаза уже в «стихийности» её истории, которая отмечалась всеми историками, а иными даже считалась чем-то очень сильным. На самом деле то была весьма печальная сторона русского политического существования. Без сомнения, сила инстинкта в русском народе очень велика, и это само по себе ценно, ибо инстинкт есть голос внутреннего чувства. Прочность чувства, создающего идеалы нравственной жизни, как основы политического существования, качество драгоценное. Но им одним нельзя же устраивать государственных отношений! Для сильного, прочного и систематического действия политическая идея должна сознать себя как политическая. Она должна иметь свою политическую философию и систему права. Этого не было никогда. И не имея государственной политической философии, внятной идеи, что же сделали? Открыли дорогу всем прочим! И превратилась русская жизнь в вавилонское столпотворение. Все разбились, везде партии, везде фракции, везде разделение и вражда. Независимости мнения и действия не только не понимают сами, но и не позволяют другим, и если находится человек или орган печати, стоящий на почве не партийной, а общей, национальной пользы, то против него поднимутся все партии, все фракции, и в этом общем стремлении съесть того, кто осмеливается быть внепартийным, проявляется ныне единственно возможное «объединение» их.
Кто не знал ещё недавно, что Российское государство есть государство Русское – не польское, не финское, не татарское, тем паче не еврейское, а именно Русское, созданное Русским народом, поддерживаемое Русским народом и не способное прожить полустолетия, если в нём окажется подорвана гегемония Русского народа? Теперь эту азбучную истину забыли чуть не все. И более всего озаботилась общественность правами «бедных» инородцев, прежде всего, евреев, удивительным образом, подмявшим под себя всю печать и финансы, несмотря на пресловутую черту осёдлости. Да время ли было думать об этом при тогдашней слабости русских? Заботиться в ту пору о том, чтобы евреям не было от русских какого-нибудь притеснения, – это очень походило на размышления овцы о том, как ей не обидеть чем-нибудь бедного волка.
Хороши были и правые со своими криками о масонах. Тема важна была, но так ли следовало к ней подходить? Страх – плохой советник. Злую и вредную силу нужно прежде всего знать. Все, которые обнаруживали такой страх пред масонством и еврейством, прежде всего должны были бы озаботиться тем, чтобы в собственных русских действиях по устроению государства не было вопиющих промахов и чтобы сами при этом не подрывали, не приводили к нулю здоровые силы собственного строя, а давали им ход и рост, и тогда разные «внешние» злые влияния, вроде масонства, перестали бы быть роковыми и легко были бы парализованы. К несчастью, именно в этом отношении и делалось меньше всего. Позабыли простую истину, что успехи вредных сил зависят всегда от внутренней деморализации сил добра.
А куда только делись эти силы? Поражения и гибель собственной страны отмечали, как праздник, патриотизм клеймили… Если оскудевшая душа человека или его подорванный разум не находят уже благословения даже для Отечества – то это значит, что такой человек не способен ничего любить горячей, самоотверженной любовью. Россия переживала тяжкое, болезненное время, когда чувство любви к Отечеству подрывалось множеством деморализующих влияний. Ничто однако не потеряно у людей, если они сберегут чувство любви к Отечеству. Всё можно исправить и воскресить, если у нас сохраняется любовь к Отечеству. Но всё погибло, если допустили ей рухнуть в сердце своём. А казалось, что это и допустили. Несчастно общество, забывшее Бога и Отечество, попавшее в руки политиканов и журналистов! Нет класса, живущего более вне народа, чем нынешние политиканы.
По части искусства одурачивать толпу, льстить ей, угрожать, увлекать её – по части этого гибельного, ядовитого искусства агитации люди дела всегда будут побиты теми, кто специально посвятил себя политиканству.
Патрициев, дворян, служилых массы иногда ненавидели, но уважали и боялись. Современных политиков – просто презирают повсюду, где демократический строй сколько-нибудь укрепился.
Тогда, в пятом году, Лев Александрович вполне увидел, что его России пришёл конец, а новой он не умеет служить, потому что не согласен с планами её самоуничтожения.
Однако всё изменилось с приходом к власти Столыпина. Пётр Аркадьевич ознакомился с докладом Тихомирова «О недостатках нашей конституции», был восхищён, немедленно вызвал Льва Александровича телеграммой в столицу и предложил поступить к нему на службу. Трудно было отказаться от такого предложения. Открывалась заманчивая перспектива – влиять, наконец, на государственную политику, быть может, убедить даже премьера в необходимости роспуска Думы и пересмотре основных законов. Влиять, однако, не очень вышло, и вскоре Столыпин предложил Тихомирову иное поприще – возглавить «Московские ведомости». Смешно было вспомнить: когда покидал заграницу, в среде бывших друзей ходили слухи, будто бы «старик» получает в свои руки редакцию «Московских ведомостей». Диким это казалось в ту пору. Да и потом, когда уже работал в этой газете при Гринмуте. А сбылось «пророчество»!
Соглашаясь на эту работу, Лев Александрович оговорил сторону финансовую, касавшуюся правительственных субсидий, предупредил, что уклонять мнения своего не станет. Газета должна была стать рупором не правительства, но всех здоровых национальных сил, объединить их вокруг себя. Это была заветная мечта Тихомирова. Но с нашими ли силами объединяться? Какая была наивная надежда! С первых дней свои же и косились, и доносили, и пускали слухи. Иные от глупости, другие от огорчения, что не им газета досталась. А всё-таки началось дело, и на страницах «Московских ведомостей» Лев Александрович озвучил основные идеи возрождения России.
…Только вечное бодрствование силы предохраняет общество от гибели. Мы сейчас упомянули о невинных или даже добрых побуждениях к нарушению правил совместной жизни. Но в обществе всегда есть множество людей злых, эгоистичных, безнравственных, готовых для эксплуатации других воспользоваться всякой представившейся фактической возможностью. Только сила сдерживает все это множество людей в добропорядочности. Сила должна быть разумна и благожелательна, но прежде всего, необходимее всего единая сила. Даже господство одного эксплуататора, тирана, позволяющего себе все беззакония, но силой своей не допускающего других до тех же беззаконий, все-таки лучше для общества, чем анархия, беззаконие всех мелких сил, которые неожиданно, на всяком месте готовы обидеть и уничтожить человека. Посему-то общество не уничтожается и способно существовать даже при самой страшной тирании, обладающей силой, но погибает при благодушном бессилии.
…Добродетель и нравственная красота состоит не в бессилии, не в слабонервности, не в апатичности, а в том, чтобы человек, имея силу и нервы всё разрушить, – в то же время, по любви к добру, не разрушал, а сохранял и созидал жизнь. Такими сильными и самоотверженными людьми живёт мир и держится добро. Такую личность должно уважать, ставить примером для себя и для других как идеальную и героическую.
…Человек, для того, чтобы быть деятелем правды в обществе, – непременно должен понимать сложный характер борьбы, на нём лежащей. Общество со своей стороны должно понимать, что именно такие люди ему и нужны: люди крепкие, способные и готовые постоять за правду всеми силами, какие им дал Бог: головой, где нужно, сердцем, где его место, но также и руками, если это неизбежно, и отдать за правду не одни нервы свои, но и кровь. Когда такое понимание исчезает в народе, – правда в нём теряет защиту.
…Бывает, что народ, особенно под влиянием ошибок руководящей образованной части своей, не только забывает те руководящие идеи, которые вытекают из его природы, но даже начинает воображать себя совсем иным, что он есть по природе. Это – моменты смут и расстройств, которые могут быть даже роковыми. В эти моменты сознательный гражданин и государственный человек должны ещё внимательнее вдумываться в те руководящие национальные идеи, которые хотя и покинуты в данную минуту народом, но единственно способны вывести его на торный путь развития. Эти исторические руководящие идеи нужно особенно старательно напоминать народу в моменты заблуждений его сознания.
…Голос мудрости гласит человеку: «Познай самого себя». Тот же голос говорит гражданину: познай свой народ, устраивай его жизнь сообразно его свойствам. Тогда народ будет силён, здоров, крепок, и все его отношения внутренние могут слагаться сильно и крепко, – тогда он сделается могучей силой и в отношении других племён и государств, получит притягательную силу для других, более слабых племён, получит силу и для занятия достойного места в международной жизни.
…Покидая же следование историческим руководящим идеям, политика становится безыдейной, слабой, расстраивает жизнь народа и превращает его в жалкую игрушку внутренних соперничеств и в лёгкую добычу врагов и соперников внешних.
…Наше время допустило в себе упадок этого великого, всеоплодотворяющего духа любви к родине и сознания её мирового величия. От этого бесплодие и охватывает теперь так много сторон нашей жизни и просвещения. Для человека нет творчества вне связи с родной землёй, родным народом и его историей, как и для самого народа источники творчества остаются свежи и могучи только в связи с делами прадедов, и иссякновение исторической преемственности всегда знаменует собой не появление чего-либо нового, а конец жизни народа. У нас нынче много толкуют о чём-то «новом», но для нового дела годятся только новые же народы… Да и какое «новое» выше того, что кроется в нашей истории? Насколько хватает горизонта современной науки – нет в человечестве ничего более высокого, чем богатства русского духа, лишь слегка раскрытые до сих пор его жизнью и творчеством.
…Восстановление потрясённой гегемонии Русского народа в Империи, его историческими усилиями созданной, составляет теперь жгучую потребность времени. Но для этого нужно прежде всего быть достойным высокой ответственной роли, нужно быть духовно сильным и хотеть своего права. Без этого бумажные права не помогут. Между тем кто не вспомнит с горечью, до какой позорной степени у нас способно было в это время падать даже простое самолюбие и элементарнейшее чувство любви к отечеству? Не восставши из такого праха, не воспрянув душой, – что может значить, что может сделать какой бы то ни был народ?
…Таким образом, перед всеми нами развёртывается обширная область трудов и усилий по пробуждению национального сознания, достоинства и силы. Воскресение родины и успешное служение своим идеалам требует непрерывного созидания и поддержания всего того, что необходимо для их реального существования. Без разумной подготовки почвы не вырастет никакой злак и не принесёт пышного плода.
…В этой области открывается ряд существеннейших задач. Наука, просвещение, культура составляют такие условия, без которых невозможно ни сознательное развитие государственных учреждений, ни служение Церкви в сложных обстоятельствах современности, воздвигающих против неё борьбу; невозможно без этого и правильное социальное устроение. Наука, просвещение и культура должны быть носителями знамени русских идеалов…
…Политика должна быть национальной (не «националистической», а «национальной»), иметь своим объектом целостную историческую жизнь нации.
…Все, что политика делает для развития народного благосостояния, умственного развития, нравственной крепости, усиления социального строя, правильных государственных учреждений, свободы и права личности и т. д., – все это связано не только с потребностями текущего дня, но и с историческими судьбами нации. Истинно полезным для настоящего дня может быть только то, что полезно для исторических судеб нации и, наоборот, все полезное для исторических судеб нации непременно так или иначе полезно для текущего дня. Иногда в интересах будущего какому-либо поколению приходится приносить в настоящем большие жертвы… Но если это составляет для него жертву в смысле материальном, то в нравственном это не жертва, а приобретение, ибо на этой жертве народ развивает силу духа.
…Бывает политика, которой представители говорят: «Наша задача – благополучно провести государство через заботы настоящего момента. Завтрашний день принадлежит тем, кто будет жить завтра. Пусть они сами позаботятся о своем дне, как мы заботимся о своем». Это политика ничтожная, не заслуживающая названия политики. Она и нечестна, и неразумна. Те исторические моменты, когда она появляется, суть предвестники гибели правительства или государства, или даже нации. Люди, не способные в задачах дня помнить задачи будущего, не имеют права быть у кормила правления, ибо для государства и нации будущее не менее важно, чем настоящее, иногда даже более важно. То настоящее, которое поддерживает себя ценой подрыва будущего, совершает убийство нации.
…Национализм есть принцип, согласно которому мы должны жить сообразно этим своим национальным чертам, ибо, только создавая жизнь, с ними сообразную, мы можем руководить ею и жить счастливо, можем работать энергично и производительно, возвышая свою нацию и в её работе давая кое-что полезное для человечества вообще. Для тех, кто понимает это содержание принципа национализма, совершенно ясно, что мы можем быть националистами лишь постольку, поскольку проникнуты знанием и духом своего исторического бытия, знанием и духом своего народа в его прошлом и настоящем, знанием и духом своих вековых учреждений и всего, что нашей нацией вырабатывалось. Вот только будучи таким образом русскими по духу и содержанию, мы способны национально создавать своё настоящее и будущее.
…Нам важен русский вопрос, который состоит в том, чтобы мы снова стали самосознательной нацией, понимающей саму себя и живущей сообразно со своими сильными, идеальными сторонами. (…) Самая мысль о русских идеалах доселе объявляется «реакционной» теми владеющими нами людьми, которые об руку с евреями превратили нашу некогда прекрасную страну в какой-то табор не помнящих родства.
…Быть русским, жить и думать по-русски – это значит пребывать в том типе жизни, в том строе мысли, которые национальны для России, то есть выражают вековую и тысячелетнюю мысль и жизнь нации. Русская нация в вековой жизни своей работала, устраивалась, верила и мыслила, и вот внутренняя принадлежность к этой мысли и жизни, соответствие с ней определяет, по-русски ли живёт и мыслит такой-то человек и даже такая-то партия.
…У нас нынче среди правых иногда проявляется такая узкая идея русского интереса, такой национальный эгоизм, которые приличествуют разве какой-нибудь бискайской «национальности». Но это в высшей степени антирусская черта. Нет ни единого крупного деятеля русской мысли и государственности, который бы не свидетельствовал и в самом себе, и в своём слове о том, что русская национальность есть мировая национальность, никогда не замыкавшаяся в круге племенных интересов, но всегда несшая идеалы общечеловеческой жизни, всегда умевшая дать место в своём деле и в своей жизни множеству разнообразных племён. Именно эта черта и делает Русский народ великим мировым народом и, в частности, даёт право русскому патриоту требовать гегемонии для своего племени.
…России нужна совсем не реакция, а возрождение жизненности национальных исторических основ; нужно, чтоб они стали в практическом действии такими же, какими являются в принципиальном своём содержании. Конечно, это – задача, требующая великого напряжения творческих сил. Но только "сим победиши" и ничем больше не победишь врагов наших исторических основ. А этими врагами духовного содержания русской наци одинаково являются и революционеры и реакционеры. Искажение национальных начал убивает духовные илы народа так же, как убивает их и революция. Для того, кто предан русскому народу в его потенциальном идеальном содержании, – нечему учиться ни у революции, ни у реакции. Это для него два лагеря, одинаково чуждые, и он может лишь стараться делать своё, особое дело помимо революции и помимо реакции.
…России какими бы то ни было способами нужно быстрое воскресение её нравственных и материальных сил. Нация какими бы то ни было способами и воздействиями должна быть двинута на упорный, всесторонний труд – экономический, умственный, организаторский. Страна опустилась нравственно: её должно поднять духом. В отношении знаний она последние годы растеривает и те крохи, которые было успела накопить: необходимо возбудить усиленную умственно-образовательную работу. Наша техника отстала: её нужно быстро поднять. Страна обеднела в годы смут: нужно оживить труд земледельческий, промышленный, торговый. Нужно всеобщее национальное усилие, какое спасло Россию во времена Петра. Вот, конечно, сущность задачи, нам предстоящей. Сами по себе учреждения, как бы они ни были хороши теоретически, не имели бы никакого значения, если бы не явились орудием возбуждения и концентрации всенародного усилия к возрождению.
…Но достаточно окинуть общим взглядом всю широту предстоящего нам национального труда для того, чтобы понять немыслимость его совершения без помощи таких государственно-общественных учреждений, которые были бы сообразны с целями нации и давали бы помощь национальной работе, а не задерживали её. Действительно, что нам нужно сделать? Нужна поистине всеобъемлющая программа действий.
…Прежде всего бросается в глаза экономическая сторона программы. В материальном отношении требуется прочное закрепление за Русским народом территории Империи путём заселения огромных окраинных пространств, теперь своей пустынностью обречённых стать лёгкой добычей военного и экономического захвата чужеземцев. Обдуманное и быстрое переселение целых масс народа потребно для такого обеспечения за нами обладания нашей землёй…
…Находясь по самой середине держав, наиболее волнуемых вожделениями колониальной политики, мы не можем теперь ни на минуту забывать, что опасности захватов угрожают нам со всех сторон. В существовании такого положения винить некого. Но когда мы приводим Россию в состояние, не сообразное с опасностями её современного международного положения, мы оказываемся кругом виноватыми, ибо усугубляем опасность и ослабляем свои средства к их отражению.
…Первая обязанность страны, находящейся в нашем нынешнем положении, есть обязанность и быть, и казаться сильной, и быть, и казаться крепкой внутренним единением. Но наши современные деятели и всё наше общество виноваты перед судьбами России тем, что в обоих отношения делают, наоборот, всё возможное для обострения и без того опасного положения.
…Для того, чтобы благополучно и достойно совершать свое жизненное течение, создавая для себя и для человечества все, что заключено потенциально в ее типе, нация должна уметь развить всю доступную ей духовную и материальную силу. Основу и движущую силу развития в нации, как и в человеке, составляет при этом ее духовная сила.
…Подобно тому, как в самом искусном сочетании управительньк учреждений одно из важнейших условий их действия составляет сила власти, так и в единении разноплеменного государства важнейшее условие составляет сила основного племени, его создавшего. Никогда, никакими благодеяниями подчиненным народностям, никакими средствами культурного единения, как бы они ни были искусно развиваемы, нельзя обеспечить единства государства, если ослабевает сила основного племени. Поддержание ее должно составлять главнейший предмет заботливости разумной политики.
Это правило обычно склонны забывать абсолютистские правительства, которые даже стараются купить благосклонность наиболее враждебных государству племен всевозможными им благодеяниями насчет того племени, которым создалось и держится государство (В этом отношении справедливые упреки возбуждает и русская политика). Это – политика саморазрушения.
…Обязанность развития производительных сил нации лежит на государстве более всего по отношению к племени или племенам, его создавшим. Как бы ни было данное государство полно общечеловеческого духа, как бы ни было проникнуто идеей мирового блага, и даже чем больше оно ей проникнуто, тем более твердо оно должно памятовать, что для осуществления этих целей необходима сила, а ее дает государству та нация, которая своим духом создала и поддерживает его Верховную власть. Остальные племена, пришедшие в государственный состав по историческим случайностям и даже иногда против воли, уважают правительство данного государства только по уважению к силе основной национальности, и если почувствуют ее захиревшей, не могут не получить стремления создать себе иное правительство, более сродное их духу.
…Укажем на необходимость выработать, наконец, разумное отношение к печати. В настоящее время принцип свободы слова у нас превращается в принцип пассивности перед развратом и преступлением. Если закон о печатном слове не изменится, не заменится разумным уважением к свободе мысли, а не к невежеству, глупости и развращённости, то никаким способом мы не достигнем благоустройства национальной жизни. Стоит вспомнить, что беспринципность нашей «свободы слова» приводит к тому, что печать в сущности живёт вне закона и обуздывается совершенно произвольно, мерами исключительного положения. Свобода разврата и преступления приводит к тому, что в действительности не оказывается и самой свободы слова.
…У нас во всех органических слоях народа жив христианский идеал, идеал не разрушения, а устроения, не вражды, а союза. Живущий в душах десятков миллионов, он теперь не может заметно проявляться в общем устроении России, потому что этим последним заведует фактически "интеллигенция", отрешённая от духа нации. Но чем больше будет нарождаться интеллигенции народной и чем больше будет возвращаться к народу нынешняя интеллигенция, тем скорее Россия может зажить, наконец, своею жизнью, своим идеалом, и сказать миру своё социально-политическое слово.
…И вот среди хаоса мнений, среди вавилонского смешения идей и языков современной России для всех, ещё надеющихся на возрождение родины, главнейшим делом должно быть теперь охранение нашего «града Божия». Что бы ни случилось с Россией, он не исчезнет, как не исчез при крушении Древнего Рима. Но страшна судьба страны, когда обитатели «града Божия», как некогда блаженный Августин, принуждены сказать себе, что всё вокруг развёртывающееся есть уже не родина их, а «град диавола», с которым их связывают разве только условия материальной жизни и холодные узы юридического строя. Пусть не постигнет нас это бедствие, ибо в нём – смерть государства.
…Повторяя слова великого трибуна французской революции, мы теперь можем сказать: Россия кажется такой ничтожной только потому, что стоит на коленях перед эпигонами искусственно навязанной ей смуты. Пусть только встанет на ноги Россия, и она увидит, что слабы и ничтожны не она, а её раздробители, и что не только они, а и силы всего мира не одолеют великого объединения Русского народа.
Многие ли услышали эти призывы? Многие ли обдумали? Пожалуй, столько же, сколько ознакомились с «Монархической государственностью». Общество оставалось слепо и глухо. Но ещё хуже, что начали расходиться со Столыпиным. Не желал Пётр Аркадьевич понять, что Дума – гибель для России. Что, если не распустить её, не упразднить, то революция, гением его остановленная, случится неминуемо. Столыпин считал наоборот: что роспуск Думы спровоцирует революцию. Как об стену колотился Лев Александрович! Кроме блага Отечества, нестерпимо больно и жалко было смотреть, как этот выдающийся человек, посланный России Богом, своей исключительной волей и талантом сумевший вести разрушенный, потерявший управление корабль по бурным волнам, вынужден был тратить свои драгоценные, столь нужные русскому делу силы на пустые прения с думскими политиканами. Да зачем же?! Да если б время это, силы эти только лишь на дело положить, да чтоб палки в колёса не вставляли шарлатаны, сколько б больше мог сделать этот титан! Так и не убедил его… И явилось некоторое охлаждение. А потом и у Государя в немилость впал за публикации о Распутине. Этот зловещий Распутин – прямо гибель Царского Дома. Какое непостижимое колдовство оковало разумное на высотах власти? Столыпин, ненавидевший «старца» не меньше Льва Александровича, заметил в последнюю встречу, объясняя нежелание Государя видеть Тихомирова:
– Да неужто же вы не знаете, что Государь разгневан на вас за статьи о Распутине? Это был с вашей стороны подвиг, но он очень дорого вам обошёлся.
Подвиги всегда стоят дорого… Столыпину его подвиг стоил жизни. Он шёл на это осознанно, всецело вверив свою жизнь Богу. Льву Александровичу врезались в память слова премьера, сказанные им в одну из встреч: «Я верю, что на то, что мне должно сделать, Господь даст мне времени и сил. Но то, что не должен, я не сделаю, как бы ни ухищрялся». Эта святая вера вызывала преклонение. Из всех государственных деятелей, несмотря на расхождения взглядов, не знал Тихомиров никого, кто хоть отдалённо мог сравниться со Столыпиным. Он только и мог ещё удержать Россию от краха. Но и его, как стольких прежде, отнял Бог…
С уходом Петра Аркадьевича деятельность на посту редактора становилась бессмысленной. Срок правительственной поддержки вскоре истёк, издание было убыточным. Это Суворин со своим талантом мог сделаться от своей газеты миллионером, Льву Александровичу такого спасительного умения не досталось. У Государя он был в опале, «свои», московские монархисты вкупе с «врагами», либералами и социалистами, спешили сводить счёты с ним, лишившимся со смертью премьера всякой поддержки. Либеральные издания опасались усиления его влияния и возможного осуществления его идеи о политическом перевороте, обвиняли в провокации министров, намекая на закулисные связи «старого Льва» с революционерами. Крайне правые клеймили за «пресмыкание» перед ненавистным им Столыпиным, обвиняли в непоследовательности и высокомерном отношении к союзникам по охранительному лагерю. Черносотенная печать верещала, что «в «Московские ведомости» прокрались предатели и изменники». На собрании Главного совета «Союза Русского Народа» отрекомендовали «опаснейшим тайным врагом самодержавия». Даже когда-то близкий «Гражданин» упражнялся в издёвках, удивляясь, как это правительство решилось «раскаявшегося преступника вознести и поставить превыше миллионов людей… дав ему преемство М. Каткова».
Остервенелая компания самой разнородной партийности с ликованием кидающихся на брошенную кость псов, вела свою отчаянную травлю, и травля эта ранила пребольно. Называли цареубийцей и негодяем, набивающим карманы, требовали отнять казенные субсидии. Вот, оно чаянное «объединение»! Насилу дотерпел до Тринадцатого года, когда закончились правительственные льготы изданию. Никаких надежд на то, что у трона явится сильная личность, не осталось, всё летело в тартарары при полной убеждённости сытого общества в полном благоденствии. Никаких надежд влиять не осталось также. Все чаяния оказались пустыми иллюзиями… Покидая газету, Лев Александрович опубликовал в ней прощальное послание, уже без надежды пытаясь докричаться до не слышавших его: «В противоположность пяти предшествующим годам, периоду надежды, который вызвал П. Столыпин, в сегодняшнем настроении людей присутствует пугающая инертность. Может быть, мы живем более спокойно. Но это спокойствие безжизненности. Россия давно не имеет идеала или великой национальной цели и то, что кажется материальным прогрессом или экономическим ростом есть не более, чем проявление процесса мирового завоевания России иностранным капиталом».
А после всего этого был ещё поганый суд, о котором и теперь вспоминать – лишь бередить рану. Интересно бы знать: сознавали ли все эти господа Томошевские и Ко, что они разрушили всю жизнь человеку, невиновному ни в чём? А за что? Ведь они не могли не понимать, что никакая клевета не имела места быть. При отношении к себе суда, которое испытал Лев Александрович, он решил не выступать более в печати ни с чем публицистическим.
Всё летело в тартарары… Недаром Столыпина убили. Он хотя и конституционалист был, но человек «прусского образца» и по энергии характера не дал бы Монарха в обиду. А на смену пришли – люди!… и, вероятно, куча прямых предателей. В народе даже и для Вандеи не оказалось уголка. Не Курская же губерния со своими правыми! И никакой надежды на спасение не оставлял Царь… Ругали Столыпина, а что же устроили без него? Едва ли Россия была в таком страшном положении даже в Смутное время. Самое страшное состояло в том, что Государь, видимо, не умел окружить себя людьми благонадёжными и любящими Россию. Лев Александрович часто ломал голову над вопросом, чем можно спасти монархию. И не видел средств. Самое главное было в том, что Государь не мог, конечно, переродиться и изменить своего характера. С громадным характером, с твёрдым преследованием одного плана, одной линии поведения, вообще говоря, можно спасать всё, выходить из самых отчаянных положений. Но ведь именно этого у него не могло быть. Он мог только вечно колебаться и постоянно переходить от плана к плану. Ну а при этом – в столь запутанном положении – можно было только рухнуть… И что делать? Смотреть на всё это, ругаться, поверять дневнику отчаянные мысли, становящиеся пророчествами: «Я был слеп. Я не видел страшной внутренней гнилости России. И она – и теперь – не воспрянет в покаянии, как было в 1612 году, а ещё дальше уйдёт от Бога».
Как из кулька да в рогожку проходила жизнь. Всё, происходящее с ним, представлялось Льву Александровичу чем-то без смысла и без цели. Может быть, и есть какой-нибудь смысл, но неизвестный. Весь век жил, имея цели, и ставя их себе, и думая, будто бы для чего-то нужен на свете… Не мог себе представить иного конца как смерть на каком-то деле, на «своём посту»… И вот эти «дела» и «посты» исчезли, как мыльные пузыри… Курьёзно. Прежде даже воображал, будто что-то «сделал», написал… Оказывается, что это всё нуль, иллюзия, нечто ни на что не нужное и даже никому неизвестное… Конечно, таков же результат жизни сотен миллионов людей. Но разве к ним относил себя? Нет, к «избранным». Вот так и «избранность»! Весьма курьёзно столько лет прожить с такой странной иллюзией.
А сколько ещё пропадало людей зазря. Взять хотя бы Соковнину. Талантливая. Прекрасный человек, всей душой любит Россию, до мозга костей православная. Её повести и рассказы двадцать пять лет производили влияние, очищающее сердца. И вот – больная и старая – живёт на девятнадцать с половиной рублей в месяц, а работы нет, никто не берёт, такие не нужны. Обидно. Россия даёт десятки тысяч в год гаерам и шарлатанам печати, а порядочное обрекает на голодную смерть. Это участь лучших людей старой России. Горе побеждённым!
Живя попеременно то в Посаде, то в Москве, Тихомиров продолжал работать, изучал еврейский вопрос. Но не грела работа эта… Очень трудно работать не по требованию общества. Холодное непонимание, безразличие – страшно сковывает всякую энергию. Легко работать самую очевидную пустяковину, если люди вокруг желают её, требуют, возражают, интересуются, это затягивает, и чувствуешь себя в каком-то реальном созидании. Но когда работаешь один, работаешь то, потребности чего никто не чувствует и не сознаёт – это ужасно. И это положение – судьба!
Дела в России шли распутски скверно. Чем дальше, чем хуже. Весьма часто нет такого ума, кроме Божьего, который бы способен был решить, на чьей стороне высшая справедливость в международных спорах. Всякое же правительство должно в этих случаях помнить свой долг перед собственной нацией. Нации создают себе Верховную власть не для других, а для себя. Эта Верховная власть и ее государство, обязаны заботиться об интересах своей нации и о поддержании этих интересов в мире среди других народов. Отдавать же судьбу интересов своего народа в чужие руки, подчинять его решению чужих держав правительство не имеет права. Это идея не государственная, а вотчинная, чуждая сознанию обязанности перед нацией и государством. Но такое правительство не может долго существовать, так как сомкнувшаяся в государство нация не допустит столь произвольного распоряжения своими судьбами.
Умный человек, Столыпин, боялся сближения с Англией и старался не отталкивать Германию. Это ли не было проявлением здравого смысла? Но сближения пошли иным путём. И врезались безумно в распроклятую войну.
Было два умных человека: Александр Третий и Бисмарк. Бисмарк завещал – не воевать с Россией. Александр Третий завещал – не связываться ни с Германией, ни с Англией. И немцы, и русские забыли слова умных людей, и вот теперь пришло время расплачиваться за это.
Близкий друг Алексей Александрович Нейдгардт, приходившийся дядей жене Столыпина, признавался: «Россию ждёт какая-то страшная катастрофа, я её чувствую так ясно, что мне кажется, как будто она уже наступила». Такое же чувство угнетало душу Льва Александровича. Он всё более расходился с людьми. Многие умирали, с другими портились отношения. Вокруг образовывалась пустыня. Почти нет живых, почти все умерли, и… почти всё умерло, что любил, чем дорожил, чем жил. А сам – ни на что и никому не нужен! Редко можно встретить такого человека. А ведь не ленив, не без знаний, говорят, не дурак… И – ни к чему. Невольно роптал на покойника Петра Аркадьевича, что принудил запрячься в эти проклятые «Московские ведомости», и через это оставить службу. Вертел бы иначе какое-нибудь колесо общего механизма, и уж конечно, не хуже других, а главное – не стоял бы вне рядов общей службы России.
Война затягивалась, и всё новые и новые земли отходили к немцам. Тяжело было думать о положении Государя с такими тысячепудовыми тягостями на плечах. И жалко до боли этого мученика. Как правитель, как Царь – его авторитет исчез. В шестьсот двенадцатом году тяжкая война привела к воскресению Монархии; здесь, война должна была привести к падению Самодержавия. Эта перспектива была очевидна для Тихомирова уже на второй год войны. И ничто не обещало лучшего. Оставалось лишь сидеть и ждать гибели – России и своей…
В Шестнадцатом уже возникли перебои с продовольствием. Под Москвой все были охвачены тревогой – не придёт ли немец. Думалось даже перебраться куда-нибудь от греха из Посада. Народ уже обезумел, был нервно пьян. Даже в карету обожаемой дотоле в Москве Великой Княгини Елизаветы полетели камни. А правительство делало всё, чтобы накалить атмосферу. Соединение бессовестности личной и анархии правительственной влекло самые грозные последствия. Всех обуяла спекуляция и дух живодёрства. Тяжка стала жизнь в России. Какая-то сатанинская тьма заполонила и умы, и совести. И бессмысленно было думать и рассуждать о правительственных планах и действиях. Что толку думать и рассуждать, когда нет людей с крупной организующей мыслью. Чепуху делали в государственном строении, чепуху в экономике, чепуху в стратегии. Ведь ум стратегии – это ум государственного человека. Там где иссяк государственный ум – не может быть и стратегов. Величайшей язвой России в эти роковые годы стала деятельность власти со всеми этими регламентациями, воспрещениями, регулировками и прочим. Ни одной умной меры, одна глупее другой. В применении они оказывались ещё глупее. Между тем, в речах представителей союзных государств уже можно было слушать, как англичане будут устраивать российскую промышленность. Конечно будут, как устраивают в Индии! Злополучная страна… Загубила её эта никуда не годная «интеллигенция», ничего не знающая, кроме «прав человека и гражданина», да жалованья на партийной, общественной или казённой службе. Кто учил труду? Кто учил развитию сил, кто учил вырабатывать мозг страны! Всё это – «реакционно». И в завершение двадцать три года руководительства слабого, полного не идеями, а какими-то мечтами «прекраснодушия»…
Гибла, прямо гибла Россия. И не видно было ни одной светлой головы, которая вывела бы её из заколдованного круга фатальной глупости. И отчего на одно что-нибудь умное приходится сто идиотов?..
Не жизнь, а мука мученическая настала. И как жить, не зная, как будет жить Россия, если не мог никогда жить иначе, как с ней, и так и осталось это столь же невозможно?
Революция не потрясла Льва Александровича. Он уже свыкся с её неизбежностью, с тем, что невозможно спасти трон и Россию, с гибелью. Он предсказал эту гибель заранее и заранее пережил её в своём сердце, а потому лишь наблюдал за развитием того, против чего так упорно боролся, и что крестом перечёркивало всю его жизнь.
В первые дни в дом пришли какие-то молодчики, искали арестовать, кто-то сказал им, что Тихомиров – редактор «Московских ведомостей» и реакционер. Сказали напуганной Кате: «Всё равно не уйдёт от нас!» Пришлось идти в Градоначальство, к новой власти и давать расписку в признании Временного правительства. Подписал бесчувственно – тем и кончилась история.
Кончилась история… Кончилась монархия… Кончилась Россия… Лишь Бог остался незыблем. Лишь ему и оставалось служить теперь. Давно уже брезжил замысел одного сочинения, но охватывал страх, в котором лишь дневнику признался: «Я – какой-то могильщик. Написал «Монархическую государственность», в которой, право, как никто до меня на свете, изложил её философию. И это явилось в дни смерти монархического принципа. Какая-то эпитафия или надгробное слово на могиле некогда великого покойника. Теперь, пожалуй, напишу такую надгробную речь над человеческой борьбой за Царствие Божие в такой момент, когда уже люди прекращают борьбу за него, и когда оно явится только с пришествием Христа. Зачем тогда нужны мои сочинения? Разве для того, чтобы представить их Судии мира в доказательство, что каков я ни есть недостойный Царствия Божия, но в своей работе ума и чувства всё же думал – и в политике, и в религии – не о чём ином, как о Царствии Единого Истинного Бога. Но зачем Ему эти «оправдательные документы»? Он и без них знает, о чём я думал, знает лучше, чем мой ум и сердце, и что если скажет: «Это всё словесные формулы, а вспомни-ка, о чём действительно заботился твой ум и твоё сердечное чувство. О Моём ли Царствии или о своей собственной славе и доказательствах честности своей жизни?» Что отвечу я? Что могу сказать, кроме: «Господи, не оправдается перед Тобой никакая плоть. Брось в огонь все мои сочинения и сотвори со мной по милости Твоей, а не по моему достоинству, которого не имел и не имею, и не в силах иметь, если Ты Сам не облечёшь меня в одежду брачную»».
Всё же отважился подъять неподъёмное. И располагало же время к сочинению об Апокалипсисе. Кругом только и твердили все, что – вот он, настал. Но Лев Александрович был убеждён в обратном. Для перехода к активному отступлению нужно, чтобы материализм сменился какой-нибудь формой нового мистицизма, при котором только и возможно появление «нового бога», «иного бога». И он явится. Явится, когда мир будет лежать в разрухе. С того и начал свою повесть: «Последние десятилетия перед началом нашего повествования представляли в социально-политическом отношении господство социализма, стремившегося отлиться в рамки строгого коммунизма. Но удержаться на этой почве нигде не могло прочно, потому что в строгом коммунизме нет места свободе. Стремления к свободе постоянно прорывались в виде анархического беспорядка, который разрушал все построения коммунизма. Производительные экономические силы таким образом подрывались со всех сторон. Коммунизм подавлял свободную инициативу, анархизм разрушал обязательный труд. Народы погружались в бедность и необеспеченность, беспрерывно переходя от полукрепостного состояния к состоянию дикого произвола…» На таком-то фоне и явится Антихрист, и наведёт видимый порядок, и за это поклонится ему слабое человечество, предпочтя Христу Спасителю Люцифера Благодетеля. И даже Церковь отступится, приняв власть «иного бога». «"Ты носишь имя, будто живо, но уж мертво". Богословная наука развивалась, давая наружный вид религиозного процветания, но самая сущность веры – жизнь со Христом – забрасывалась. Сам Христос начал представляться не как Бог, живущий в людях и ведущий их в Царство Небесное, а как мудрый учитель добрых условий земной жизни. Мистическое побледнело, таинство превратилось в обряд, вера в философию. Но люди более горячие религиозно стали сближаться между собой на почве духовной жизни, и возникло то, что по апокалиптическому термину назвали – "Филадельфийской церковью"». Тогда-то и наступит финал. Борьба между силами тьмы и филадельфийцами. «С каждым днём труднее и безотраднее становилась жизнь христиан по всем странам и была бы совершенно невыносима, если бы освещалась надеждой на близкий конец. Гонимые, из глубины своих тюрем, из тиши тайников, из разодранных шатров пустыни – чуть не прислушивались, не гремит ли, наконец, труба Архангела, не предвещает ли конца их мучениям и гибели мучителя при светлом явлении Спасителя? Но не зазвучала ещё труба, и мучитель, хотя уже сочтены были его дни в небесах, на земле становился всё более яростен и неумолим».
Долго готовился к этой работе, а одолел в два месяца. Получилась повесть. Первая в жизни, прежде никогда в художественном жанре не работал, не считая сатирических сказок, писанных в юности. А по прошествии времени хотелось теперь, чтобы кто-то ещё прочёл её. А и поделиться не с кем было! Все вымерли, а с молодыми, с новаторами вроде Флоренского не знался. Одно оставалось: ехать в Москву, к Фуделям, самым близким друзьям и прежде, а теперь и вовсе единственным.
Страшной стала езда по железной дороге в революционные годы. Поезда шли забитые до отказа, люди буквально гроздьями свисали с них. Ездили по губерниям, продавая собственные вещи, покупая за безумные деньги пищу: все – с корзинами, с мешками. Такое подчас столпотворение случалось, что и насмерть затаптывали. И жутковато было к вокзалу подходить. Но – обошлось с Божией помощью. Добрался до Москвы в целости. Давненько не бывал в ней! А и бывать-то мерзостно – до того исказили лик её господа большевики. Вспомнился Семнадцатый год. Вышли с племянником, Юрием Терапиано, из Храма Христа Спасителя, а мимо митинг дефилировал. Крестный ход наизнанку… Анархисты чёрный гроб везли, развивались чёрные знамёна вместо светлых икон и хоругвей. Много было расхлябанных солдат, пьяниц, распущенных девиц – вся накипь, вся муть революции! Орали свои поганые лозунги… И никак не кончалось это шествие. И казалось, не выдержит сердце этого зрелища, созерцания торжествующей над Россией погани, гибели всего любимого, дорогого и святого. И проносилось перед мысленным взором всё прошлое, все мучения, все сражения… Господи, во имя чего?.. Чёрное отчаяние накатывало.
И теперь от вида потускневшей и грязной Москвы подступало оно, а потому Лев Александрович старался не смотреть по сторонам. В прежнее время взял бы от вокзала извозчика, но не при нынешних средствах такая роскошь! Ещё несколько лет назад предположить не мог, что способен пройти пешком такое расстояние. Да при столь скудном питании. Воистину, не ведает человек возможностей собственного организма, глубинных сил, дремлющих в нём.
И, вот, наконец, знакомый дом, родные лица, гостиная, в которой столько часов было проведено. Несладко приходилось и этому дому. Скудел и он. Еды практически не было. Похудевшая и постаревшая Маруся подала к столу малосъедобные лепёшки и суррогатный чай без сахара. Вместо него Лев Александрович положил в чашку соль, чем вызвал недоумение на лицах присутствующих. Не откладывая в долгий ящик дела, за которым приехал, он принялся читать свою повесть. Когда стемнело, отец Иосиф зажёг за неимением керосина две маленькие самодельные коптилки, света которых хватало лишь на то, чтобы осветить рукопись. В этом полумраке, в полной тишине, борясь с болью и точками в усталых глазах, Лев Александрович дочитывал прерывистым голосом, стараясь не задыхаться:
– И мчались отовсюду толпы за толпами бывших живых, бывших мёртвых, сравнявшихся в общем преображении, одни светлые, другие мрачные, одни – в радости сбывшегося упования, другие – в изумлённом недоумении, третьи – в безысходном отчаянии. Куда девалась земля, в которую они врастали всей душой, и земные дела, о которых они только думали, не веря в единое на потребу? Куда скрылись сокровища земные, которые они так жадно собирали, яростно вырывая друг у друга? К чему послужили их страсти, из-за которых они плодили столько зла? Куда привело их слепое самоутверждение, для которого они презрели Волю Бога, стремясь жить по самовластному хотению? Роем тёмных призраков окружало их, проснувшись, воспоминание греха, пополнявшего их жизнь, и сознание неминуемого возмездия… И мчались толпы за толпами на общий суд. Среди них одни радостно оглядывались на спускающийся свыше Новый Иерусалим, сверкающий небесною красотой, на светлые райские селения, уже готовые принять достойных, на золотистые облака, готовые вознести их ко Христу. Они сами ускоряли свой полёт, воспевая хвалу Создателю. Но не могли остановиться и трепетные, искажённые ужасом тени других, увлекаемые невидимой силой туда, где клокотала и бурлила огненная река, уже готовая поглотить осуждённых. Совершилось! Воцарился Господь Вседержитель.
– Когда же это будет? – послышался из темноты печальный голос Маруси.
– Сроки един Бог знает, – откликнулся отец Иосиф.
– Сроков не положено, – сказал Лев Александрович, снимая очки и зажмуривая терзаемые сильнейшей резью глаза. – Они зависят от нас, людей, от свободной наклонности к добру или злу, к Богу или Сатане.
Глава 24. Братья
3 июля 1920 года, Северная Таврия
Третьи петухи пропели, и нерушимая тишина спящего селения стала оживляться редкими звуками, отрадными слуху и сердцу. Серебристо заструилась нежная песня пастушьей свирели, и радостное мычание было ей ответом. Заскрипели ворота, застучали калитки. Тучные стада, и белокудрые отары потянулись по озарённой первым багряным лучом дороге к пастбищу, мимо утопающих в зелени садов. Но внезапно громовый раскат сотряс небо, другой, третий, нарастая, приближаясь, унося без следа утреннюю негу. Заволновалось стадо, заметалось, повысыпали люди из домов, боязливо поглядывая в сторону начинающегося боя. Грохот нарастал и, когда солнце вошло в силу, был уже непрерывным.
– Жлоба пошёл в атаку на Донцов, – коротко сказал Вигель. – Пора выдвигаться и нам.
– Врежем товарищу Жлобе по первое число! – добавил Роменский.
– Жаль, что это не буденовцы. Мы им кое-что задолжали в Нахичевани.
Конный корпус товарища Жлобы, насчитывающий восемь тысяч шашек, был переброшен на фронт Русской армии с Кавказа и, поддерживаемый кавалерийскими и пехотными частями тринадцатой Красной армии, начал теснить Донцов, норовя проникнуть в глубь расположения белых сил. Генерал Врангель лично разработал план предстоящей операции, и накануне вечером была получена его директива, согласно которой корпусу Кутепова предстояло нанести главный удар противнику. «Успех операции зависит от скрытности, внезапности и согласованности удара», – подчёркивалось в приказе. Пехоте предстояло разгромить кавалерию, и в срочном порядке Корниловская дивизия, отправленная было на отдых в Мелитополь, была переброшена на фронт. Непростая стояла задача, но не привыкать к этому. Шли с воодушевлением, не покидавшим армию после прорыва из Перекопа. Прорыв этот не менее труден был, чем встреча со Жлобой и его конницей! Большевики стягивали для борьбы с Русской армией своих верных «ландскнехтов» – мадьяр, китайцев, и, главным образом, латышей. Латышская дивизия целиком была брошена на Перекоп.
Ночь накануне наступления врезалась в память поручика Роменского. Кажется, никто не сомкнул глаз в полные томительного ожидания часы. До самой темноты к валу подтягивались резервы, пушки, танки, раздавались патроны и ручные гранаты. А затем полковые священники служили молебны о даровании победы… И все, верующие и неверующие, стояли с сосредоточенными лицами, кто шёпотом, кто просто про себя вторя молитвенным словам. Вторил им и Виктор Кондратьевич, пропитываясь общим чувством. Он редко молился сам, Бог всегда казался ему далёким и чужим, непонятным и, быть может, даже не существующим. Так повелось ещё с детства, так установилось в семье. Отец, правда, всегда соблюдал посты, говел, посещал службы, но его пример мало действовал на детей, поскольку отец, известный географ и путешественник, всё больше бывал в разъездах и не имел времени заниматься их воспитанием. В семье же матери религиозность была не в почёте, считалась каким-то атавизмом. Другое дело – прогресс, наука, революция! Вот, слова, которые произносились в семье матери с придыханием. С детства дома собирались разные люди, толковавшие о революции, политических доктринах, споривших с пеной у рта. Бывали и такие, что скрывались от полиции, и мать считала своим долгом, долгом всякого интеллигентного человека давать им убежище. Наконец, отец завершил свои скитания и, осев дома, приступил к воспитанию детей. Но воспринять это воспитание могла разве что младшая Аничка, старшие же дети уже чувствовали себя обретшими право на свои взгляды. Впрочем, открыто спорить с отцом не пытался никто. Его любили и не хотели огорчать, а потому посещали вместе с ним службы, исполняли все заведённые обряды. И не догадывался Кондратий Григорьевич, что старшая дочь Зиночка читает во время литургии не молитвослов, а запрещённые сочинения, вставленные ею в обложку молитвослова. В отличие от сестры Виктор был далёк от политики. Отцу не удалось привить ему религиозности, но, бесконечно уважая его, Виктор хотел непременно пойти по его стопам, грезил о путешествиях, собирался посвятить жизнь науке. Но иначе распорядилась судьба, и, вот, слушал поручик Роменский негромкий голос полкового батюшки, вглядывался в исполненные молитвенного чувства лица товарищей, вспоминал слова Вождя – «верою спасётся Россия!» – и в который раз ощущал ещё смутное, но всё крепнущее желание обрести веру.
Перед рассветом заурчали и поползли на вражеские укрепления танки. Эти незаменимые машины врезались в проволочные заграждения несравненным тараном, а за ними шла в атаку пехота. Содрогалась поливаемая огнём степь, гудели орудия. Уже при свете дня достигли второй линии укреплений, бросились на них, на колючую проволоку, под огнём – и прорвались, и окружили латышей, и разгромили наголову гордость Красной армии. Дорогой ценой далась эта победа, но велики были и трофеи: восемь тысяч пленных, тридцать орудий, два бронепоезда и огромные склады боеприпасов. Красные побросали буквально всё. Среди всевозможных находок особое впечатление произвело богатство красного артиллерийского снабжения. Это были последние достижения технической мысли, произведённые в Англии и Франции. С Белой армией «союзная» сволочь не спешила поделиться столь дорогими и нужными образцами техники. Но велика была радость победы, и такие мелкие уколы не омрачали её. Пробка, закупорившая крымскую бутылку, была выбита, и Русская армия ступила на плодородную равнину Таврии. После вынужденного «говения» что за пиршество было здесь! Свежий хлеб с белым, ароматным украинским салом после опротивевшей камсы – настоящий праздник!
В те же дни Главнокомандующий обратился с воззванием к офицерам Красной армии: «Русское офицерство искони верой и правдой служило Родине и беззаветно умирало за её счастье. Оно жило дружной семьёй. Три года тому назад, забыв долг, русская армия открыла фронт врагу, и обезумевший народ стал жечь и грабить родную землю.
Ныне разорённая, опозоренная и окровавленная братской кровью лежит перед нами Мать-Россия.
Три ужасных года оставшиеся верными старым заветам офицеры шли тяжёлым крестным путём, спасая честь и счастье Родины, осквернённой собственными сынами. Этих сынов, тёмных и безответных, вели вы, бывшие офицеры Русской армии.
Что привело вас на этот позорный путь? Что заставило вас поднять руку на старых соратников и однополчан?
Я говорил со многими из вас, добровольно оставившими ряды Красной армии. Все вы говорили, что смертельный ужас, голод и страх за близких толкнули вас на службу красной нечисти. Мало сильных людей, способных на величие духа и на самоотречение… Многие говорили мне, что в глубине души осознали ужас своего падения, но тот же страх перед наказанием удерживал их от возвращения к нам.
Я хочу верить, что среди вас, красные офицеры, есть ещё честные люди, что любовь к Родине ещё не угасла в ваших сердцах.
Я зову вас идти к нам, чтобы вы смыли с себя пятно позора, чтобы вы стали вновь в ряды Русской, настоящей армии.
Я, генерал Врангель, ныне стоящий во главе её, как старый офицер, отдавший Родине лучшие годы жизни, обещаю вам забвение прошлого и представляю возможность искупить свой грех».
У Роменского наворачивались слёзы при чтении этого обращения. Он был из тех самых раскаявшихся офицеров, и тот грех до сих пор тяготил его. И верилось, что многие русские офицеры, волею судьбы оказавшиеся на другой стороне, должны откликнуться на этот призыв. К тому же Врангель отменил все наказания и ограничения по службе, прежде налагавшиеся на офицеров, служивших большевикам и переходивших на сторону белых, что отвращало многих из них от этого шага, заставляло оставаться в рядах красных.
Но ошиблись, ошиблись штабные стратеги и сам Главнокомандующий, когда понадеялись разбудить в красном офицере офицера русского. Скорее можно было склонить на свою сторону рядовых красноармейцев, которые шли в бой из-под палки, но не офицеров. Последние имели или убеждения, или положение и паёк, который не собирались менять на туманное будущее Русской армии. Из пленных офицеров и курсантов советских военных училищ, практически никто не соглашался перейти на сторону белых. Особенным упрямством отличались курсанты. Едва оперившиеся юнцы, брошенные на фронт, они заявляли, что не могут нарушить присяги, они не боялись смерти, они отличались твёрдостью и убеждённостью, вызывавшими одновременно уважение к отважным и скорбь о том, что эти честные, мужественные, хорошие сердца оказались глубоко отравлены ложью Интернационала. Простые русские мальчишки, ещё почти не вкусившие жизни, они готовы были умирать за этот проклятый призрак с такой же самоотверженностью, с какой их сверстники юнкера гибли за Белую Идею, за Россию…
А вскоре произошло событие, ставшее для Роменского большим ударом. Это случилось как раз накануне встречи со жлобинской конницей. Корниловцы расположились на ночёвку в одной из немецких колоний. Виктору Кондратьевичу не спалось, и он вышел на воздух, любуясь усыпанным звёздами бархатным южным небом с набирающим полноту месяцем, слушая посвист соловья, вдыхая освежённый росой аромат садов. Ещё не все спали в этот час. Отдавались последние распоряжения наутро, устраивались на ночлег, кое-где слышались негромкие разговоры. Тогда-то и уловил слух знакомый голос. Даже вздрогнул, заслышав. Подумал было, что почудилось, но нет, голос совсем рядом слышался. Разговаривали двое пехотинцев, куривших у амбара. Разговор их ничем не примечателен был, но голос! Роменский приблизился, стараясь остаться незамеченным, всмотрелся в говорившего, и оборвалось сердце – не почудилось, не обознался. Стоял в образе рядового корниловца бывший поручик Императорской армии, а теперь, чёрт знает, какой чин в армии Красной, Роман Газаров…
Когда-то они были лучшими друзьями. Роман приходился Виктору Кондратьевичу кузеном, будучи сыном младшей сестры матери, Марины. Её муж был, можно сказать, потомственный революционер. За его плечами были две ссылки и несколько лет эмиграции. Это он, дядюшка Александр Евгеньевич, приносил в дом целые стопки запрещённых книг, приводил своих беглых товарищей. Отец недолюбливал свояка, будучи убеждённым консерватором и противником революции, поэтому во время его пребывания дома, дядька старался не появляться. Зато Александра Евгеньевича обожали мать, сестра и прочие родственники. Дядя в их глазах был страдальцем за правое дело, героем, отдающим все силы борьбе. Он хорошо знал Горького и многих вождей революции. Он был начитан, артистичен, весел, прекрасно говорил, а, ко всему прочему, был красив и обладал большим обаянием. Нравился дядя и Виктору. С ним было интересно, легко. Александр Евгеньевич не походил на своих погружённых в борьбу товарищей, озлённых, суровых. Можно было предположить, что для него эта борьба была чем-то вроде игры, приключения, заставляющего бурлить кровь. Дядя казался слишком лёгким и благополучным человеком, чтобы заподозрить в нём готового на всё, убеждённого революционера. Пожалуй, убеждённости больше было у тёти Марины. Но её убеждённость была убеждённостью довольно не умной, но очень упрямой женщины.
Роман был похож на отца. Он был лишь годом старше Виктора, но всегда и в детских играх, и позже был заводилой. Роман легко очаровывал людей, быстро сходился со всеми, всегда умел добиться своего. Никто из друзей не пытался оспаривать его лидерства, оно не вызывало сомнения. Рано увлечённый революционными идеями, Роман внушал их и своему лучшему другу. Делал он это с отцовской тонкостью, не давя, не навязывая, и тем успешнее достигал цели.
На протяжении всех детских и юношеских лет они были вместе. И не было у Роменского человека более близкого, чем Роман. Он не всегда соглашался с его идеями, но тот и не настаивал на своём. Они вместе окончили гимназию, вместе поступили в Университет. Их дружбу не смогла разрушить даже любовь к одной юной особе, вспыхнувшая разом в обоих. Впрочем, предмет мечтаний в итоге достался другому счастливцу, и вопрос первенства разрешился без ущерба для самолюбия друзей.
Вместе они решили идти на фронт в Четырнадцатом, сорвавшись со студенческих скамей. Дядюшка с тётушкой были в ужасе от того, что их сын попал под влияние милитаризма, но все их увещевания не имели результата. Решившись на что-то, Роман никогда не отступал от этого. Революция революцией, но, когда Родина в опасности, когда друзья идут на фронт, отсиживаться в тылу было для него делом невозможным. Роман рвался в бой, рвался испытать себя. Виктору тоже пришлось пережить неприятное объяснение с матерью, зато отец был доволен его поступком и благословил честно и верно служить России. То была последняя встреча с ним, через полгода отец скончался ударом, и прощальный завет его оказался последней волей.
На фронте друзья снова были неразлучны. Но первый задор, жажда подвига вскоре сменилась унынием. Армия медленно отступала, оставляя город за городом, губя несчётное число жизней.
– Дураки проклятые! – ругался Роман. – Зачем эта бойня?! Эти позиционные бои?! Хвастаемся разгромом австрийцев, а какая радость, кода эти трусы сами сдаются в плен? А немцы нас бьют! И мы отползаем назад! Нет, отец был прав! Нам нужно поражение! Тогда вся эта гниль, что теперь наверху, уничтожится, и мы отстроим Россию заново без кровавых царей и их тупых холуёв! И они заплатят за всю кровь, которую пролили! В том числе, на этой идиотской войне, которую мы заранее проиграли из-за их глупости!
Роман Газаров был хорошим офицером, он в совершенстве познал военную науку, превзойдя в ней Виктора. Он и Георгия получил, а Виктору так и не случилось. И в чин поручика произведён был первым. Но война приобрела теперь для него совсем другой смысл. Он ждал не победы, а революции. При этом продолжал честно выполнять свои обязанности, считая своим долгом, как офицера, заботиться о подчинённых.
И, вот, грянула чаемая, пришла зовомая. И два юных поручика обнимались, поздравляли друг друга и радовались, как дети. И легко расстались с погонами, и с готовностью пожимали солдатам руки, а Роман вскоре вошёл в комитет, и присутствие его в нём оказалось весьма полезным для сохранения дисциплины.
Первые сомнения в том, что революция так хороша, как её малюют, у Виктора Кондратьевича явились, когда он узнал о гибели старого приятеля, служившего на Балфлоте: лейтенант Владимир Розен был растерзан матросами. За немецкую фамилию. И за офицерский чин. И мелькнула мысль: а окажись в те дни на улицах Петрограда, так и то же быть могло…
А фронт, между тем, трещал по швам. И «временщики» не вызывали ничего кроме презрения и ненависти. Осенью Роман вступил в партию большевиков, поведал радостно:
– Скоро наши к власти придут. Уж они-то наведут порядок! России нужна сильная власть, а сила есть только у большевиков. А мы, брат, должны будем помочь им.
Романова убеждённость передалась и Виктору, уговорил друг вступить следом за ним в партию. Вроде и не хотелось, а уважительной причины отказаться не нашёл. Служба в Красной армии впервые разделила их. Приходилось на разных фронтах сражаться. И чем дальше, тем чернее делалось на душе у Роменского. Куда занесло его? С кем и против кого пошёл? С чужими против своих! Против России, которой отец завещал честно и верно служить. За Интернационал, при звуках которого хотелось плеваться. Так тошно сделалось, что впервые попробовал к Богу воззвать, как к последней инстанции: вынеси, Господи, отсюда хоть как, укажи путь! Так ли совпало, или молитва дошла, а через месяц угодил Виктор Кондратьевич в плен. Угодил аккурат на Рождество. И не расстреляли, простили в честь светлого Праздника, и приняли в свои ряды. И с той поры сражался в них Роменский, не щадя живота, стараясь искупить прежний грех, служить честно, убеждаясь всё больше в правоте белого дела и в пагубе большевизма.
О судьбе друга он ничего не знал с той поры, и, вот, привелось встретиться.
– Ромаша! – окликнул негромко, когда тот остался один.
Роман замер, вгляделся в темноту. Виктор Кондратьевич приблизился.
– Витюша? Так ты жив, оказывается? А мы тебя оплакали, как расстрелянного в плену.
– Вы и сына генерала Брусилова поспешили объявить таковым, а он честно сражался в наших рядах, пока не пропал без вести. Ромаша, что ты делаешь здесь?
– То же, что и ты, брат. Служу, – по тонким губам Романа скользнула улыбка.
– Кому?
– А ты как думаешь?
– Ты агент большевиков? Пробрался к нам по заданию контрразведки?
Роман докурил папиросу, отозвался спокойно:
– Да, господин поручик, можете доложить обо мне вашему командованию. Получите благодарность за разоблачение вражеского агента.
– Дурак! – вспыхнул Роменский, стукнув кулаком в стену амбара.
– Тише, нас могут услышать. А нам, я думаю, есть, о чём поговорить? А, Витюша? Давай отойдём.
Виктор Кондратьевич последовал за Романом, на всякий случай нащупав в кармане револьвер. Это не укрылось от Газарова. Присев на невысокий плетень под пологом раскидистых плодовых деревьев, он заметил:
– Ты стал очень подозрителен, брат. Думаешь, я сейчас убью тебя и сбегу?
– Не знаю… Мы давно не виделись и оба, я думаю, изменились.
– Несомненно. Так что, Витюша, ты собираешься делать со мной? – голос Романа звучал почти насмешливо. – Предашь военно-полевому суду?
– Это был бы мой долг.
– Само собой. Так в чём же дело?
– Когда-то ты спас мне жизнь.
– Ах, вот, ты о чём! Ну-с, тогда мы, друг мой Виктор, были по одну сторону баррикад. Чего вспоминать?
– Так, окажись я на твоём месте, ты бы выдал меня?
– Не знаю, – хмуро отозвался Роман. Весёлость его пропала, и из груди вырвался вздох. – Когда бы оказался, тогда бы и думал. А теперь ты голову ломай.
– Ромаша, скажи мне, зачем тебе всё это? – спросил Роменский, разъедаемый самыми противоречивыми чувствами.
– Что именно?
– Зачем ты с ними? Разве ты не видишь, что они несут только разорение, зло, страдания? Неужели ты можешь оправдывать реки крови, которые они проливают? Террор?
– Я не собираюсь обсуждать это, Витя. С ними я потому, что присягал им, а метаться из лагеря в лагерь я не привык.
– Ты и Царю присягал, и Временному.
– Это другое. Они пали, и присягнул новому правительству. И оно не пало, а только набирает силу. Я, может, и не был бы с ними, будь им альтернатива. Но с кем ты предлагаешь мне быть, Витя? С вами? А что вы можете? Да ничего! Вы разгромлены, вас завтра сбросят в море! Что вы будете делать тогда? Просить подаяния на улицах Стамбула и Парижа? Ты это мне предлагаешь?! Старая Россия погибла, Витя. Потому что во главе неё стояли глупцы, не имевшие воли удержать власть, ни к чему неспособные, кроме как мечтать и ныть! А мы построим новую Россию, Витя. Сильную, могучую. Государство, какого ещё не было в истории.
– Сколько невинных голов вы положите в его фундамент?
– Не всё ли равно? Цель оправдывает средства.
– Цель никогда не оправдывает средства.
– Это интеллигентская риторика. Мой отец тоже недоволен нашими методами. Говорит, что мы загубили ими идею. Так же считают Плеханов и разные там меньшевики.
– А как считаешь ты?
– Знаешь, Витя, что в народе говорят? Ничего нет хуже безвластия. Путь будет какая угодно власть, но единая и твёрдая. Так что вы напрасно рассчитываете на поддержку народа. Народ, может, и посочувствует вам, но не поддержит. Потому что он знает, что за вами нет силы. А за нами – есть! Поэтому народ будет с нами.
– Ваша сила в терроре, в насилии, в…
– Но это сила, Витя! К тому же все эти меры временны и вынуждены, поскольку вы никак не хотите прекратить сопротивление. Когда же мы с вами покончим, нужда в них постепенно отпадёт. Мы наведём порядок и приступим к строительству государства. Новой России. И ты бы мог участвовать в этом, если б не сбился с пути. А так Россия будет строиться без тебя, а ты будешь угасать где-нибудь в нищете вдали от неё. Пойми, Витя, я не испытываю ни к тебе, ни ко всем вам никакой особой ненависти. Но вы своим сопротивлением мешаете нам приступить к восстановлению мирной жизни. Уже понятно, что у вас нет шансов победить, вы только затягиваете усобное кровопролитие. И чтобы прекратить его, наконец, мы должны покончить с вами. И мы это сделаем очень скоро.
– Может быть, вы и построите какое-то государство, но это будет Совдеп, а не Россия. Хотя сомневаюсь, что рождённые разрушать смогут что-то построить.
– Не сомневайся, смогут. А Россия, Витя, она всё равно Россия. И я служу ей.
– А я думал, Интернационалу.
– Одно не мешает другому.
Роменский чувствовал, что не может достойно парировать убеждённые доводы Романа. И красноречия не было никогда, и полемической закалки, и политической грамотности. А, главное, мешало волнение. Никак не мог решить, Виктор Кондратьевич, кто же перед ним: враг, которого немедленно надо передать в руки контрразведки, или лучший друг, брат, с которым всю жизнь были неразлучны, которому, наконец, обязан жизнью?
– Ромаша, что с нами случилось? Ведь мы же были с тобой, как братья. Даже ближе. А теперь словно на разных языках говорим… Это же какое-то безумие! Я должен расстрелять тебя, своего брата, как вражеского агента!
– Оставь, – поморщился Роман. – К чему эти пустые разглагольствования?
– Скажи, что там наши? Мать? Сёстры? Ты знаешь о них что-нибудь?
– Знаю, естественно. Шурочка в Москве. Она там на хорошем счету. Мать живёт у неё. С Анютой они в контрах. Она с мужем и детьми живёт где-то во Владимирской области. С родными не знается. Им наша власть не по нутру, видишь ли! Мои тоже живы здоровы. Отец, правда, перебрался за границу. Поправлять здоровье… – Газаров недобро прищурился. – Он всегда был теоретиком и болтуном. А как до дела дошло, так и испугался. Делом-то занимаясь, можно испачкаться. А они все чистенькими остаться хотят!
– А тётя Марина?
– Мамаша с ним не поехала. Они с братишкой тоже в Москве теперь. Он, кстати, служит в ЧК.
Роменского передёрнуло. ЧК! Кузен Борис подался в чекисты… Орёл! Ничего не скажешь, почётная служба. А дядя таки сбежал от них. Верно, стало быть, чувствовал всегда Виктор, что увлечение революцией для него лишь романтизм. Нельзя было представить, чтобы этот весёлый, обаятельный человек оказался в рядах правоверных большевиков. А Роман при всём сходстве с отцом унаследовал-таки упрямство матери. И теперь мать брала в нём верх. Даже внешне уже не так стал схож он с родителем, утратив прежнюю лёгкость, искристость. Что-то чужое появилось в нём, неприятное. И всё-таки это был Роман, любимый друг. И как предать его на смерть?
– Послушай, если я отпущу тебя, ты пойдёшь к своим и доложишь им обо всём, что успел узнать у нас?
– Разумеется.
– Не делай это! – Роменский схватил друга за плечо. – Если ты поклянёшься, что ничего не станешь докладывать, я отпущу тебя на все четыре стороны!
– Оставь, я тебе сказал! – в голосе Газарова зазвучало раздражение. Он резко поднялся. – Выполняй свой долг, Витя. Я бы его выполнил, так что можешь успокоить свою совесть.
– Дурак! Большевик проклятый! – со злостью вскрикнул Роменский. – Я не стану тебя выдавать! Но я буду следить за тобой! И если ты попытаешься… Я сам тебя убью!
– Твоё дело, я смерти не боюсь, – холодно отозвался Роман, перекинул длинные ноги через плетень и исчез в темноте сада.
Виктор Кондратьевич с досадой пнул лежавший у дороги камень. Хотелось поговорить с кем-то, поделиться мучительным раздраем в душе, посоветоваться, а решительно не с кем было. Что ж наделал? Накануне боя вражеского шпиона отпустил! А если он устроит диверсию? А если переберётся к своим? А если?.. Чёрт дёрнул выйти в эту ночь из дому! Не встретил бы Романа и был бы спокоен.
До самого утра Роменский не мог найти места, терзаясь внутренней борьбой, а поутру поздно было что-либо предпринимать. Корниловцы быстрым маршем выступили на юг, откуда доносились артиллерийские залпы, и остановились около колонии Лихтфельд. Виктор Кондратьевич провёл рукой по холодной стали ещё не раскалённой от залпов пушки:
– Хоть бы мне сегодня башку раскроили, что ли… – вздохнул едва слышно.
– Что вы там говорите, поручик? – послышался рядом голос Вигеля.
– Ничего, Николай Петрович.
– Посмотрите-ка лучше туда, – подполковник кивнул направо и подал Роменскому бинокль.
– Ба! – только и мог воскликнуть Виктор Кондратьевич, взглянув в него.
В глубокой лощине стояли построенные «ящиками» полки красной конницы.
– Занять позиции! – раздалась в этот момент команда, и шестёрки коней карьером вылетели вперёд.
– Орудия с передков!
В считанные минуты артиллерия была готова к бою, и, окинув быстрым взглядом позиции, подполковник Вигель поднял руку:
– Батарея! По кавалерии! Беглый огонь!
И запрыгали пушки, раскаляясь и изрыгая смертоносное пламя. И немедленно выкатились из укрытия броневики и врезались в конницу. Одновременно пешая колонна второго Корниловского полка в сомкнутом строю двинулась навстречу неприятелю. Жлобинцы быстро пришли в себя от неожиданности и под прикрытием своей артиллерии стали строиться к атаке. Блеснули на солнце несколько сотен обнажённых шашек, и густые лавы кавалерии понеслись на Корниловцев. Впереди всех мчались кубанцы. Надвинув кубанки на глаза, с пиками наперевес, сохраняя равнение в сотнях, пригнувшись и яростно погоняя коней, они приближались стремительной, готовой раздавить всё на своём пути силой.
– Сволочи… – процедил сквозь зубы Вигель, не отнимая от глаз бинокля. – Вот они, наши недавние союзники! Вся Кубань пропитана нашей кровью, сколько лучших жизней было отдано за её освобождение, и такова благодарность.
Ещё недавно плечом к плечу сражались кубанцы с Добровольцами против большевиков. И в этой несущейся лаве несомненно немало было тех, кто служил в рядах белых, с кем ещё вчера разделяли победы и поражения, а теперь предстояло сойтись с ними в смертельном поединке, истребительным огнём покрыть вчерашних «своих», поднявших оружие на братьев, позабывших славные и горькие страницы совместной борьбы.
Пехота продолжала спокойно двигаться вперёд, на расстоянии ружейного выстрела она рассыпалась в цепь и развёрнутым фронтом размеренно, беззвучно ринулась навстречу свирепой коннице, рвущейся вперёд с победными криками. Уже почти всё поле было закрыто этой страшной массой, лавиной, готовящейся стереть противника с лица земли.
– Батарея! По кавалерии! Пли!
И огненный дождь выкосил первые ряды красной кавалерии. Словно внезапно столкнувшийся с плотиной потоп, вздыбилась конница, опрокинулась, заметались испуганные лошади, смолкли победные крики, жлобинцы стали беспорядочно отступать.
В это время артиллерия Донцов, спутав ориентиры, ударила по позициям Корниловцев.
– Роменский, дайте залп по этим идиотам! Заставьте их замолчать! – крикнул Вигель. – Они же испортят всё дело!
Под перекрёстным огнём пехота продолжала наступать. Растрёпанная кавалерия сумела собраться и снова ринулась в атаку. Между гикающими всадниками летели тройки с пулемётными тачанками. Но с тем же ледяным спокойствием шагали по полю цепи Корниловцев, и когда лавы приблизились, хлестнули по ним из ручных пулемётов. Действия пехоты привели жлобинцев в ужас, не доскакав до неё, они бросились назад, шарахаясь в разные стороны. Взмыленные лошади метались по жнивью и пахоте, всадники спрыгивали на землю, надеясь укрыться в высокой траве.
Часть жлобинцев галопом устремилась на северо-восток, но там была встречена Корниловским офицерским батальоном. Конницей овладела паника. Мечась из стороны в сторону, она верно втягивалась в приготовленный для неё узкий мешок. Охваченная с трёх сторон корниловским треугольником, кавалерия не могла найти лазейки, чтобы вырваться из западни. На разных участках её встречали Дроздовцы, бронепоезда, Самурский полк и Донцы. План командования был выполнен блестяще. К вечеру двадцатого июня хвалёная конница товарища Жлобы перестала существовать. Она потеряла все орудия и обоз. Были захвачены тысячи коней и пленных. Самому Жлобе удалось уйти. Для полного уничтожения остатков его частей не хватило кавалерии.
В войсках царило победное ликование, и лишь Роменский по-прежнему не находил себе места. Надежда получить хороший сабельный удар не оправдалась, даже царапины не получил, только слегка ожёг ладони о раскалённое орудие, а нужна была хорошая рана, чтобы забыться в бреду.
Немецкая колония светилась радужными огнями. Хозяйки стряпали, бойцы отдыхали после тяжёлого дня. Обсуждали минувший бой, вознаграждали себя сытным ужином, кое-где слышались песни. Бродя по улицам селения, Виктор Кондратьевич напряжённо всматривался в лица солдат, надеясь отыскать Романа. Накануне он не узнал даже имени, под которым бывший поручик Газаров числился в рядах Корниловцев. Наконец, нервы не выдержали, и Роменский отправился к командиру батареи.
Вигель был один. Он сидел за столом, небрежно повесив китель на спинку стула, и листал какую-то потрёпанную книгу на немецком языке. Завидев вошедшего, кивнул ему:
– А, это вы, поручик. Куда вы запропастились? Вот, – показал книгу, – одолжил у хозяина. Представьте, когда-то вполне прилично знал немецкий, а теперь что-то половину слов вспомнить не могу, – бросил её на стол, тряхнул светло-русыми волосами. – Виктор Кондратьевич, что у вас с лицом? У вас что-то случилось?
– Да, господин подполковник, – выдавил Роменский осипшим голосом. – Я прошу предать меня военно-полевому суду. Вчера я совершил преступление.
Николай Петрович опёрся локтями о стол, скрыв лицо в сложенных ладонях. Лишь глаза оценивающе смотрели исподлобья.
– Я не пьян и не контужен, я прошу меня судить, я преступник, – нервно повторил Виктор Кондратьевич.
– В таком случае, закройте дверь и потрудитесь прежде объяснить мне, что произошло, – сказал Вигель и, протянув руку, захлопнул створку окна.
– Вчера я позволил уйти вражескому лазутчику, маскировавшегося под одного из наших солдат.
– Что?! – подполковник резко поднялся. – Да чёрт вас дери, поручик! Каким же это образом?!
– Это был мой брат. Двоюродный. Мой лучший друг, – Роменский опустил голову. – Господин подполковник, я знаю, что совершил преступление, но я не мог иначе. На войне он спас мне жизнь, рискуя собой. Я не мог предать его нашей контрразведке, понимаете?
Вигель несколько раз обошёл комнату. Лицо его было сосредоточено и мрачно.
– Стало быть, вы узнали его?
– Да, господин подполковник.
– И говорили с ним?
– Говорил.
– И что же он вам сказал?
– Что мои родные живы и здоровы…
– Отрадная новость.
– Господин подполковник, вы что думаете, что я с ним заодно? – Виктор Кондратьевич почувствовал, как кровь прилила к его лицу, и на лбу выступили крупицы пота. – Конечно, вы так думаете… Ведь вы всегда меня подозревали… Что ж, как вам угодно. Но я не предатель! Клянусь! И… не надо суда. Я сам… – он шагнул к двери преисполненный решимости очиститься от всех подозрений. Действительно, на кой чёрт было требовать суда, когда куда проще и надёжнее способ есть? Всего один выстрел, и никто не бросит камня в поручика Роменского, не обвинит в измене. Мёртвые сраму не имут. Не пособили жлобинцы, так на что револьвер в кармане лежит? Чиркнуть записку и шабаш. Довольно этих подозрений, этой проклятой борьбы с собой, этого братоубийства, где свои убивают своих…
– Поручик, я приказываю вам остаться, – звякнул голос Вигеля, и его сильная рука опустилась Виктору Кондратьевичу на плечо. – Чёрт побери, ведите себя достойно. Вы же не барышня, чтобы впадать в истерику! – Николай Петрович раздражённо чиркнул спичкой и закурил. – Хотите папиросу?
– Нет, благодарю вас.
– Как угодно, – подполковник опустился на край стола. – Вот что, поручик, я вас ни в чём не подозреваю. Умерьте вашу мнительность. Она удел женщин и юнцов, а вы офицер. К тому же на командной должности. Того, что вы сделали, уже не исправить. Под суд отдавать я вас не буду. И сам судить не могу, потому что не знаю, как поступил бы на вашем месте. За сим считаю инцидент исчерпанным. Идите, Виктор Кондратьевич, и, очень вас прошу, не делайте глупостей.
– Спасибо вам, господин подполковник! – выдохнул Роменский, чувствуя, как невыносимая тяжесть свалилась с души. – Честь имею!
От командира батареи он вышел ободрённый, словно оправданный судом чести. Если уж Николай Петрович не был уверен, что поступил бы иначе, то… Хотя странно, что так легко отпустил. Неужели, зная, что в полку враг, не предпримет ничего? Уже не первый раз в частях выявлялись большевистские агенты. Контрразведка работала на совесть, и глаз у самих офицеров был намётан. Должно быть, и Роману недолго удастся скрываться. Но это пусть, пусть… Без участия и помощи Роменского. Кровь брата и друга не ляжет на его душу.
С такими мыслями Виктор Кондратьевич отправился к лазарету, дабы справиться о здоровье раненого в бою со Жлобой батарейца. Раненых и убитых ещё продолжали свозить на покрытых рогожей телегах. Живых под руководством сестёр заносили в дом, мёртвых до времени складывали снаружи. Роменский уже занёс ногу на первую ступень крыльца, как вдруг разглядел свесившуюся с одной из телег руку. Ничего не было примечательного в ней, кроме одного – отсутствия мизинца. Эту руку Виктор Кондратьевич хорошо знал. И эту травму, полученную не в бою, а на учениях как было не помнить. Шагнув к телеге, Роменский откинул полог рогожи, которым были покрыты лежавшие на ней тела. Лунный свет озарил бледное, неподвижное лицо, на этот раз не искажённое недобрым чувством, не усмехающееся презрительно. Виктор Кондратьевич с тоской вглядывался в родные черты. Всё-таки удивительно похож был Роман на отца. Та же южная красота, тот же горбоносый профиль, смуглота, смоляные волосы, спадающие на высокий лоб, длинные подстать женским ресницы, теперь навсегда сомкнутые… Пронеслись перед глазами беспечные годы детства, гимназия, весёлая студенческая пора. Заразительный ромашин смех, задорный прищур его умных глаз… Вот, как встретиться привелось! Господи, почему?..
– Никак вы знаете его, господин поручик? – спросил, подойдя, хромоногий унтер.
– Знал… – отрывисто отозвался Роменский. – Давно… Случайно увидел… Как это случилось?
– Дак по глупости! По разгильдяйству! Донцы-то, драть их мать, как стали по нам бить, так и вышло! Побили кое-кого у нас на участке. Одно бы и ладно, когда б жлобинцы, а то свои ж стервы! Обидно…
– Обидно, – согласился Виктор Кондратьевич. Он поцеловал друга в холодный лоб: – Прощай, брат Ромаша! – прошептал неслышно и, накинув рогожу обратно, побрёл прочь.
Такой исход был наилучшим из возможных, разом разрешающим все терзания совести, но горькими слезами плакало сердце об убитом, и щипало в глазах. Роменский взглянул на залитое лунным светом небо. Где-то там теперь искала пристанища беспокойная душа Романа. Где? Найдёт ли? Виктору Кондратьевичу вдруг захотелось помолиться о погибшем друге, но ни одной молитвы не сохранила память, все они изгладились из неё.
– Господи! Если Ты есть, прими душу раба Твоего Романа и прости ему все грехи, вольные и невольные, и упокой с миром! – прошептал он со слезами, не сводя глаз с луны, и перекрестился трижды…
Глава 25. На перевале
3 августа 1920 года. Севастополь
Море играло волнами и переливалось радужными красками, и догорающий на горизонте закат бросал последние лучи на остывающий, затихающий и погружающийся в сумрак город, спешащий зажечь первые огни. Тишина вечера и прекрасный вид, открывающийся с террасы Большого дворца, всегда располагали к неспешным, дружеским беседам. Говорили, впрочем, чаще о делах, ревниво храня в себе сомнения и муки, щадя друг друга по молчаливому согласию в тяжёлые дни. Иногда всё же прорывались в разговорах личные переживания. А этот вечер своей безмятежностью, своей тихой красотой располагал к задушевным беседам. Тем более что после четырёх месяцев борьбы явились первые проблески меж чёрными тучами, и уже можно было подвести кое-какие промежуточные итоги, оглядеться.
– Мы сами не отдаём себе отчёта в том чуде, которого мы свидетели и участники, – задумчиво произнёс Шатилов. – Ведь всего четыре месяца назад мы прибыли сюда. Ты считал, что твой долг ехать к армии, я – что мой долг не оставлять тебя в эти дни. Не знаю, верил ли ты в возможность успеха. Что касается меня, то я считал дело проигранным окончательно. С тех пор прошло всего три месяца… – он умолк, словно остановившись, чтобы обозреть сделанное за этот срок.
– Да, огромная работа сделана за это время, – согласился Пётр Николаевич, – и сделана недаром: что бы ни случилось в дальнейшем, честь национального знамени, поверженного в прах в Новороссийске, восстановлена, и героическая борьба, если ей суждено закончиться, закончится красиво.
– Нет, о конце борьбы речи теперь быть не может! – в голосе друга звучала уверенность и воодушевление. – Насколько четыре месяца назад я был уверен, что эта борьба проиграна, настолько теперь я уверен в успехе. Армия воскресла, она мала числом, но дух её никогда не был так силён. В исходе Кубанской операции я не сомневаюсь. Там, на Кубани и на Дону, армия возрастёт и численно. Население сейчас с нами, оно верит новой власти, оно понимает, что эта власть идёт освобождать, а не карать Россию. Поняла и Европа, что мы боремся не только за своё, русское, но и за её европейское дело. Нет, о конце борьбы сейчас думать не приходится.
Да, совсем иначе был настроен Шатилов совсем недавно. Тогда армия потерпела сокрушительное поражение, и генерал Деникин решил, наконец, отказаться от власти, и в связи с этим обстоятельством Врангель, изгнанный перед этим на чужбину и находившийся в Константинополе, приглашался на военный совет в Севастополь, на котором должно было избрать нового вождя. Кому будет отведена эта труднейшая в создавшихся условиях роль, сомневаться не приходилось. История повторялась, только на этот раз ещё более трагично. Уже не в первый раз, доведя положение до крайности, спасать его звали Врангеля. Так было несколько месяцев назад, когда сбылись все прогнозы Петра Николаевича, и начался откат Добровольческой армии. Уже пали Орёл, Курск и Киев, и красные нависли над Харьковым, и Ставка обратилась к нему с просьбой возглавить гибнущую армию. Всё это предвидел Врангель, предупреждал, что ошибочность стратегии неминуемо приведёт к таким результатам, но его не слышали, а теперь просили спасти положение. Не удержался от замечания:
– Теперь, когда время упущено, все мои прежние предложения уже не имеют смысла. Харьков удержать невозможно.
– Я знаю, что Харьков придётся сдать, – перебил Деникин. – Но это ни в коей мере не повредит вашей репутации.
Передёрнуло от этих слов, как от давнишнего «первым хотите в Москву войти».
– Я беспокоюсь не о своей репутации. Мне не нужны гарантии, но я не могу брать на себя ответственность за то, что невозможно выполнить.
– Пётр Николаевич, принять Добровольческую армию – это ваш моральный долг перед Россией, – вступил в разговор Романовский. – Генерал Май-Маевский не в состоянии справиться с ситуацией!
– А о чём вы думали раньше? Всем давно известно, что он не способен командовать армией. Я всегда в вашем распоряжении. Но пока дела шли хорошо, Ставка не нуждалась в моих советах! Помните, весной я настаивал на нанесении упреждающего удара по Царицыну, чтобы не дать противнику сконцентрировать силы? Вы об этом и слышать не хотели, а теперь, когда мой прогноз, увы, сбылся, вы просите меня спасти ситуацию…
Тем не менее, командование Пётр Николаевич принял. Как принимал всякий вызов судьбы. И, вот, всё повторилось. И в Константинополе привелось принять ещё один. Англичане проявили честность и предупредили Петра Николаевича, что поддержки Белому делу больше не окажут, показав соответственную ноту. Положение выглядело вполне безнадёжным, но отказаться от выпавшего жребия Врангель не мог. Оставить армию, не попытавшись сделать хоть что-то, не испробовав всех возможных и невозможных средств для спасения положения, было бы трусостью и бесчестьем. Пётр Николаевич принимал вызовы судьбы, и судьба никогда не изменяла ему. Так было, когда в начале войны с Японией он, инженер, оставив мирное поприще, немедленно возвратился в армию и отправился на передовую. Так было при Каушене, где в сражениях погиб весь цвет Конного полка. Тогда при атаке вражеских позиций сплошным огнём были выбиты почти все офицеры его эскадрона, под ним самим пала лошадь, а он не получил ни царапины и сражался до победы у неприятельских окопов, отбивая удары, сидя верхом на немецкой пушке. Так было в дни революции, когда во имя её ничем не поступился Пётр Николаевич, и по улицам разнузданного Петрограда, где охотились за офицерами, ходил открыто, не снимая вензелей Цесаревича и не позорясь красным бантом. Так было бесчисленное множество раз, в десятках боёв, в которых невидимая рука хранила его. Хранила его, но не пощадила братьев, которых похитила смерть нежданно: одного в малолетстве, другого – в расцвете лет и сил… Никогда не уклонялся Врангель от бросаемых ему вызовов. И в Константинополе принял его без колебаний, ответив английскому посланнику:
– Если у меня могли быть ещё сомнения, то после того, как я узнал содержание этой ноты, у меня их более быть не может. Армия в безвыходном положении. Если выбор моих старых соратников падёт на меня, я не имею права от него уклониться.
Узнав об этом решении, Шатилов пришёл в ужас. Верный друг исчерпал все аргументы, каких было огромное множество, чтобы отговорить Петра Николаевича от «безумного» шага:
– Ты знаешь, что дальнейшая борьба невозможна! Армия или погибнет, или вынуждена будет капитулировать, и ты покроешь себя позором. Ведь у тебя ничего, кроме незапятнанного имени не осталось. Ехать теперь – безумие!
Но никакие уговоры не могли подействовать, и, в итоге, Шатилов сдался, вздохнул обречённо:
– В таком случае, я тебя не оставлю и поеду с тобой.
Вдвоём и прибыли в Севастополь, где царило глубокое отчаяние. В том, что совещание остановит свой выбор на нём, Врангель не сомневался. Он готов был принять это бремя, но не считал себя вправе давать невыполнимых обещаний, а потому в своём слове перед собравшимся под председательством генерала Драгомирова советом старших начальников был предельно откровенен:
– Господа, в настоящих условиях я не вижу возможности рассчитывать на успешное продолжение борьбы. Ультиматум англичан отнимает последние надежды. Нам предстоит испить горькую чашу до дна. В этих условиях генерал Деникин не имеет права оставить армию. Если же генерал Деникин всё же оставит её, и на одного из нас выпадет тяжкий крест, то, прежде чем принять этот крест, тот кто его будет нести, должен знать, чего от него ожидают те, кто ему этот крест вверил. Повторяю, я лично не представляю себе возможным для нового Главнокомандующего обещать победоносный выход из положения. Самое большее, что можно от него требовать, – это сохранить честь вверенного армии русского знамени. Конечно, общая обстановка мне менее знакома, чем всем присутствующим, а потому я, быть может, преувеличиваю безвыходность нашего положения. Я считаю совершенно необходимым ныне же выяснить этот вопрос.
Долгое молчание было ответом на этот монолог. Его прервал начальник штаба Главнокомандующего генерал Махров:
– Каким бы безвыходным ни казалось положение, борьбу следует продолжать. Пока у нас есть хоть один шанс из ста, мы не можем сложить оружие.
– Да, Пётр Семёнович, это так, – мрачно отозвался Шатилов. – Если бы этот шанс был. Но, по-моему, у противника не девяносто девять шансов, а девяносто девять и девять в периоде.
Никто не возразил на это замечание. Жребий бы брошен, и дальнейшее уже не зависело от Петра Николаевича. Сославшись на нездоровье, он покинул совещание.
На душе было невыносимо тяжело, хотелось побыть одному, разобраться с мыслями. Выйдя из дворца, Врангель долго бродил по городу, по пустынным аллеям Исторического бульвара.
Уже дважды приходилось ему покидать Крым, и оба раза не по своей воле. Первый раз в Восемнадцатом, когда, выйдя в отставку, поселился с семьёй в доме тёщи, в Ялте. Захватившие в Севастополе власть большевики, развернули настоящую охоту за представителями прежних властей. Однажды Пётр Николаевич услышал, как садовник оскорбляет его жену, и, схватив его за шиворот, вышвырнул вон. Тот тотчас донёс, куда следует, и в ту же ночь в дом ворвались красные матросы и под дулом револьвера вытащили «царского генерала» прямо из постели. Садовник убеждал расстрелять его, как врага трудового народа.
Вместе с шурином Врангеля связали и посадили в автомобиль. Когда он уже трогался, из дома выбежала жена и, вцепившись в дверцу, потребовала, чтобы взяли и её. В этом вся она была! Везде старалась следовать за ним, ничего не боясь, никогда не теряя мужества, при этом не пытаясь влиять на его дела. Умолял её остаться, но куда там! Поехала: погибать – так вместе.
В те дни узников со всего города свозили в гавань, наводнённую жаждущими расправы толпами. На пристани лежали расчленённые тела. Опьянённая видом крови толпа матросов и оборванцев, завидев новых жертв, завопила:
– Кровопийцы! В воду их!
Многих несчастных, как выяснилось, столкнули в воду с волнолома, привязав к ногам груз…
– Здесь ты мне помочь не можешь, – убеждал Пётр Николаевич жену. – А там ты можешь найти свидетелей и привести их, чтобы удостоверили моё неучастие в борьбе, – и, протянув ей часы, добавил: – Возьми это с собой, спрячь. Ты знаешь, как я ими дорожу, а здесь их могут отобрать…
Она как будто бы решилась, но вернулась через несколько минут, увидев как толпа четвертовала офицера.
– Я поняла, всё кончено. Я остаюсь с тобой.
Их вместе с другими пленниками, среди которых оказались представители самых разных слоёв населения, разместили в погружённом во мрак здании таможни. Страдая от сердечных спазмов, вызванных старой контузией, Пётр Николаевич напряжённо думал, что делать теперь. Шансов на спасение почти не было, но не погибать же даром! Сказал шурину:
– Когда они поведут нас на расстрел, мы не будем вести себя как бараны, которых гонят на убой; постараемся отнять винтовку у одного из них и будем отстреливаться, пока не погибнем сами. По крайней мере, умрём сражаясь!
Между тем, тёща, женщина такого же, как и дочь мужества и мудрости, собрала делегацию соседей, чтобы с их помощью попытаться освободить родных. По счастью, её прачка имела близкие отношения с матросом, председателем революционного трибунала. Тёща решительно направилась к нему и потребовала освободить арестованных, угрожая в противном случае положить конец его отношениям с прачкой.
Сутки спустя этот матрос и ещё несколько человек пришли в тюрьму.
– За что вас арестовали? – спросил он.
– Видно, за то, что я русский генерал, другой вины за собой не знаю, – ответил Врангель.
– Почему же вы не носите мундир, в котором красовались вчера? – матрос повернулся к Ольге: – А вас за что?
– Я не арестована, я здесь по собственной воле.
– Тогда почему же вы здесь?
– Я люблю своего мужа и хочу остаться с ним до конца.
– Не каждый день встречаются такие женщины! Вы обязаны своей жизнью вашей жене – вы свободны! – театрально объявил «краса и гордость».
Это освобождение было воистину Божьим чудом. В ту же ночь большинство арестованных были расстреляны. Их тела сбрасывали в воду, и позже, после занятия Крыма немцами, трупы были обнаружены стоящими на дне из-за привязанных к ногам грузов.
Второй раз Крым пришлось оставить считанные недели назад по требованию Деникина…
Отношения с Антоном Ивановичем стали разлаживаться давно, ещё с Царицынских дней, но окончательно разладились в последние месяцы борьбы. Изучив положение Добровольческой армии и придя к неутешительным выводам, Врангель подготовил рапорт, в котором в очередной раз заострил внимание на пороках сложившейся системы, и изложил необходимые для спасения ситуации меры, среди которых: эвакуация Ростова и Таганрога, создание в тылу укреплённых баз, сокращение Генерального штаба и отправка на фронт всех «лишних и бесполезных», обеспечение достойных условий жизни семьям офицеров и служащих, принятие жёстких мер для борьбы со злоупотреблениями всякого рода и т.д. В случае невведения этих мер в действие, Пётр Николаевич просил освободить себя от командования. Также предлагал, дабы спасти Добровольческую армию, отходить не к Ростову на соединение с Донской армией (тогда бы враг имел возможность постоянно наносить удары по флангам добровольцев), а в Крым, где ещё оставались войска.
Но Деникин это предложение не поддержал, считая себя не вправе бросить на произвол судьбы казаков… Это решение стало фатальным для Добровольческой армии, которая была почти полностью уничтожена.
– Они потеряли головы и больше ни на что не способны! – подытожил тогда Шатилов.
Несмотря на это, Врангель счёл должным написать Деникину полное уважения и верности письмо, дабы поддержать Главнокомандующего в тяжёлый момент: «Ваше превосходительство, в этот час, когда удача отвернулась от нас, и на корабль, который Вы ведёте среди рифов и бурь, обрушились яростные красные волны, я считаю своим долгом сказать Вам, что понимаю Ваши чувства. В этот критический момент, когда тяжёлая ноша легла на Ваши плечи, знайте, что Вы не одиноки, и я, который следовал за Вами почти с самого начала, буду и впредь делить с Вами радость и горе и сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Вам».
Ответ Деникина был двояким. Петру Николаевичу он направил благодарственное письмо, а среди высших офицеров распространил циркуляр, в котором говорилось: «…Некоторые генералы позволяют себе в неприемлемой форме высказывать в рапортах своё мнение, угрожая оставить службу, если их рекоменлации не будут приняты. Вследствие этого главнокомандующий требует подчинения и в будущем запрещает выставление каких бы то ни было условий».
Добиваясь координации действий, Врангель провёл встречу с командующими Кавказской и Донской армий. Ставка тотчас объявила, что «не может допустить прямых переговоров командующих» без участия главкома и «запрещает им покидать армии без его разрешения».
После соединения Добровольческой армии с Донской обе они были объединены под командованием генерала Сидорина. Врангель остался не у дел. Красные подходили к Новороссийску. Пётр Николаевич попросил направить его туда, чтобы приступить к сооружению укреплений для защиты армии и подготовке эвакуации. Деникин вначале ответил отказом, мотивируя, что подобные приготовления вызовут панику среди населения, но потом всё же приказал Врангелю отправляться. Но, когда Пётр Николаевич прибыл на место, приказ был отменён…
После этого только и оставалась что подать рапорт об отставке. Так и сделали вместе с Шатиловым. А Ставке того и надо было, удовлетворила с облегчением…
Ряд офицеров предлагали сместить Деникина с поста главкома, но получали категорический отказ. Такая отставка могла принести пользу, лишь будучи добровольной. С таким же предложением к Врангелю обратился депутат английского парламента Маккайндер. Пётр Николаевич ответил, что, несмотря ни на какие разногласия, он, как подчинённый Деникина, никогда не выступит против него. Рапорт об этой беседе отправил Антону Ивановичу.
Вскоре командующий английским флотом адмирал Сеймур передал Врангелю требование главкома покинуть Россию. Это уже переходило всякие границы! Такого не мог ожидать Пётр Николаевич. Обескураженный, он написал Деникину своё последнее письмо, где прямо и резко высказал ему всё накипевшее на сердце за последнее время, замечая, скольких бед можно было избежать, если бы Ставка с большим вниманием относилась к его предупреждениям. Всё, всё, что болело, что усилием воли и чувством долга приходилось сдерживать, излил Врангель в этом письме. Но закончил заверением: «Если моё пребывание на Родине может хоть сколько-нибудь повредить Вам защищать её и спасти тех, кто Вам доверился, я, ни минуты не колеблясь, оставлю Россию». С тем и покинул Крым, полагая, что навсегда. А в Константинополе настиг деникинский ответ:
«Милостивый государь Пётр Николаевич!
Ваше письмо пришло как раз вовремя – в наиболее тяжкий момент, когда мне приходится напрягать все духовные силы, чтобы предотвратить падение фронта. Вы должны быть вполне удовлетворены…
Если у меня и было маленькое сомнение в Вашей роли в борьбе за власть, то письмо Ваше рассеяло его окончательно. В нём нет ни слова правды. Для подрыва власти и развала вы делаете всё, что можете…
Когда-то во время тяжкой болезни, постигшей Вас, Вы говорили Юзефовичу, что Бог карает Вас за непомерное честолюбие…
Пусть Он и теперь простит Вас за сделанное Вами русскому делу зло».
Теперь, доведя дело до полного коллапса, этот человек слагал с себя власть, предоставляя другим допивать чашу позора. Его отставка таки стала добровольной, но уже мало что могла спасти, слишком запоздав… И, значит, придётся оставлять Крым в третий раз. При каких-то обстоятельствах?..
Пётр Николаевич долго бродил по улицам, но тяжёлое, гнетущее чувство не проходило. Необходимо было поговорить с кем-то, поделиться всем, что мучило душу. И в Севастополе был такой человек. Он был одним из последних, с кем привелось говорить, покидая родную землю, и та беседа, тёплая и полная искренней задушевности, помогла облегчить душу. Врангель отправился к епископу Вениамину. Владыка встретил его обрадовано и, видимо, ожидая этого визита. Проводив в комнату, заговорил горячо:
– Вы хорошо сделали, что приехали сюда. Господь надоумил вас. Это был ваш долг. Я знаю, как тяжело вам, какой крест вы на себя берёте. Но вы не имеете права от этого креста отказываться. Вы должны принести жертву родной вам армии и России. На вас указал промысел Божий устами тех людей, которые верят в вас и готовы вручить вам свою участь. Ещё до вашего приезда, как только генерал Драгомиров собрал совет, к нему обратились, указывая на вас, многие русские люди, духовенство православное, католическое и магометанское, целый ряд общественных организаций. Вот у меня копии двух таких обращений.
Порывшись в лежавших на столе бумагах владыка подал Петру Николаевичу две из них и, оставив его читать, вышел в соседнюю комнату. Оттуда он возвратился, держа в руках икону Божьей Матери, старинного письма в золотой оправе с ризой, расшитой жемчугами, и сказал:
– Этой старинной иконой я решил благословить вас, когда вы прибудете сюда на ваш новый подвиг.
Пётр Николаевич преклонил колено, и владыка благословил его. Это благословение разом разрешило сердце от всех сомнений, и на душе просветлело. Успокоенный и снова обретший уверенность, Врангель возвратился во дворец. Тем же вечером он был объявлен новым Главнокомандующим вооружённых сил Юга России. Это случилось двадцать второго марта, ровно четыре месяца назад. Тогда Пётр Николаевич не тешил себя иллюзиями. Минимум, который было необходимо выполнить состоял в единственной формуле: если уж кончать, то, по крайней мере, без позора. Позор – вот, что куда хуже и постыднее всякого поражения. А все последние дни Юга обратились в сплошной позор. Нужно было, во что бы то ни стало, остановить это позорище, это безобразие которое происходило, прекратить кабак. Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью… И спасти, наконец, то, что можно.
Необъятное поле деятельности развёртывалось перед глазами. Но необъятность эта уже не угнетала, а мобилизовала, бодрила. Нужно было правильно наметить цели и приложить все силы к их реализации. Прежде всего, нужно было сделать всё, чтобы не повторилось новороссийского кошмара, подготовить эвакуацию. Флот в это время пребывал в положении аховом. Адмирал Герасимов с грустью констатировал:
– Вы не поверите, но нам нечем развести пары на буксирах, чтобы вывести суда на рейд. Если, не дай Бог, случится несчастье на фронте, никто не выйдет.
Для организации эвакуации нужны были две вещи: снабжение и время. Снабжение необходимо было вытрясти из «союзников», должных, в конце концов, выполнить хоть какие-то свои обязательства. Время могло дать только удержание фронта. Армия. Армия же находилось в состоянии плачевном. Казачьи части, оставленные в Новороссийске, вынуждены были отступать в горы, отнимать последнее у населения, питаться прошлогодней кукурузой и кониной. Превосходя численно конницу Будённого, они не способны были к бою.
– Неужели при таком превосходстве наших сил нет возможности рассчитывать хотя бы на частичный успех – вновь овладеть Новороссийском и тем обеспечить снабжение, а там, отдохнув и оправившись, постараться вырвать инициативу у противника? – недоумевал Врангель.
– Какое там! – последовал на это безнадёжный взмах руки генерала Улагая. – Казаки драться не будут. Полки совсем потеряли дух.
Дух потеряли не только казаки, но и их командиры. И Добровольцы потеряли дух тоже. Хуже того, само имя Добровольческой армии было дискредитировано многочисленными злоупотреблениями. Решено было дать новое имя объединённой армии. Она получила имя Русской. И как бы ещё называться ей, будучи именно таковой? Не просто Белая. Не Царская. А Русская. Борющаяся не за какие-то классовые интересы и пустые догмы. Но за общее Русское дело. А в этом деле помощник един – Господь Бог. Больше не на кого рассчитывать. Верою спасётся Россия! Этот девиз приказал Врангель выгравировать на учреждённом ордене Святого Николая. Бойцы должны были получать награды за свои подвиги, но награждать Георгиевскими крестами за победы в войне междоусобной было сомнительно с моральной точки зрения.
Дух войск был подорван. Многие опустились, разложение дало глубокие корни. Для возрождения армии перво-наперво нужно было пресечь злоупотребления в отношении населения. Для этого ничего не предпринял Деникин, мирившийся с бесчинствами многих старших начальников. Запомнился Врангелю усталый ответ на рекомендацию, данную генералу Улагаю:
– По крайней мере, он не позволит Покровскому ободрать армию, как липку…
Малейшие попущения рождают крупные злоупотребления. А потому Пётр Николаевич принялся железной рукой наводить порядок, не давая спуску никому, не считаясь с чинами и заслугами, не проявляя снисходительности даже к мелким проступкам. Грабители и дезертиры предавались смертной казни без лишних разбирательств. Такая жёсткость вызвала протест либеральной общественности, ещё недавно вопиявшей о бесчинствах добровольцев, а теперь выступившей против смертной казни. Симферопольский глава Усов прибыл с жалобой на методы генерала Кутепова. Врангель принял его и, не подавая руки, кратко расставил все точки над “i”:
– Я знаю о неладах ваших с генералом Кутеповым, являющимся исполнителем моих приказаний. Я не хочу разбираться, кто прав – я ли, дающий эти приказания, или вы. На мне лежит ответственность перед армией и населением, и я действую так, как мой ум и моя совесть мне повелевают. Вы на моём месте действовали бы, конечно, иначе. Однако во главе русского дела судьба поставила не вас, а меня, и я поступаю так, как понимаю свой долг. Для выполнения этого долга я не остановлюсь ни перед чем и без колебания устраню всякое лицо, которое мне в выполнении этого долга будет мешать. Вы протестуете против того, что генерал Кутепов повесил несколько десятков вредных армии и нашему делу лиц. Предупреждаю вас, что я не задумаюсь увеличить число повешенных ещё одним, хотя бы этим лицом оказались вы.
На этом вопрос был исчерпан.
Общественность, впрочем, продолжала предаваться привычному занятию: спорам о вещах, не имеющих никакого значения в сложившихся условиях. Среди прочего весьма «ко времени» требовали отмены цензуры и свободы печати. Решительно, не о чем было больше беспокоиться людям, стоящим на самом краю пропасти! Однако же пришлось заниматься и этим. Встречаться за чаем с представителями крупнейших изданий, вежливо объяснять им прописные истины:
– Уважая чужие мнения, я не намерен стеснять печать независимо от её направления; конечно, при условии, что это направление не будет дружественно по отношению к нашим врагам. Вместе с тем я должен указать вам, что мы находимся в положении исключительном. Мы в осаждённой крепости: противник не только угрожает нам с севера, но мы вынуждены нести охрану всего побережья, где можно ожидать высадок его отрядов. В этих условиях мы не можем обойтись без цензуры. В самых либеральных государствах на театре военных действий, а тем более в осаждённых врагом крепостях, самая строгая цензура неизбежна. Эта цензура не может исключительно распространяться на военные вопросы, ибо во время войны, а тем более войны гражданской, где орудием борьбы являются не только пушки и ружья, но и идеи, отделить военную цензуру от общей невозможно.
Выразив уверенность в их патриотизме, предложил им два варианта решения вопроса: сохранение существующего порядка при упорядочении цензуры, либо принятие редакторами ответственности на себя, в случае чего при появлении статей, наносящих вред Русскому делу, они будут отвечать а это по законам военного времени. Редактора либеральной и умеренной газет тотчас вошли в трудное положение и согласились с несвоевременностью отмены цензуры, и лишь издатель монархического листка заявил, что готов взять на себя всю ответственность. Таким образом, вопрос о цензуре был благополучно снят с повестки дня.
Между тем, открыто враждебную позицию занял «Донской вестник». Эта газета издавалась при ближайшем участии командира Донского корпуса Сидорина и его начштаба Кельчевского. Моральный облик этих двух деятелей давно не вызывал сомнений, но кампания развёрнутая ими в своём печатном органе превосходила все возможные ожидания. Казаков натравливали на «добровольцев», на «генералов и сановников», требовалось отделение казачества от России. Приходилось удивляться подлости донских вожаков, но ещё больше – той наглости, с которой они действовали. Врангель немедленно отрешил обоих донских начальников от должностей и предал их суду, установившему их полную виновность. Суд под председательством генерала Драгомирова приговорил подлецов к каторжным работам, но, учитывая боевые заслуги Донской армии, Пётр Николаевич заменил их полным увольнением от службы с лишением мундира. Этим был положен конец интригам донского командования. Сидорин и Кельчевский отбыли за границу, за ними последовали другие запятнавшие свою репутацию командиры: Покровский, Боровский и Ростовский. Воздух стал чище. Донской корпус находился теперь в надёжных руках генералов Старикова и Абрамова, и за него можно было отныне не беспокоиться. В то же время разрешён был и конфликт с кубанским атаманом Букретовым. Соглашение с казаками являлось большим успехом, так как отношения с ними были совершенно испорчены при Деникине. Ещё будучи командующим Кавказской армией Врангелю пришлось улаживать конфликт между Ставкой и Кубанской радой, дошедший до угрозы возникновения внутреннего фронта. При Деникине стратегия была принесена в жертву политике, а политика никуда не годилась. Вместо того, чтобы объединить все силы, поставившие своей целью борьбу с большевизмом и коммуной, и проводить одну политику, «русскую», вне всяких партий, проводилась политика «добровольческая», то есть какая-то частная политика, руководители которой видели во всех тех, кто не носил на себе печать «добровольцев», врагов России. Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией и Азербайджаном, и лишь немного не хватало, чтобы начать драться с казаками. Провозгласив единую, великую и неделимую Россию, пришли к тому, что разделили всю Россию на целый ряд враждующих между собой образований. Теперь, наконец, с казаками была достигнута договорённость, удовлетворяющая обе стороны: казачьим областям гарантировалась полная самостоятельность во внутреннем самоуправлении, а их вооружённые силы полностью переходили в подчинение Главнокомандующего.
Для успешных действий армии необходим был также порядок в тылу, развал которого, в конечном итоге, и привёл к краху. Нужны были законы, реформы. Нужно было добиться, чтобы в Крыму, чтобы хоть на этом клочке сделать жизнь возможной, показать остальной России: вот у вас там коммунизм, то есть голод и чрезвычайка, а здесь идёт земельная реформа, вводится волостное земство, заводится порядок и возможная свобода…
Для этого требовались – люди. Но где же их найти, честных и толковых работников? В правительстве Деникина таковых практически не было. Люди в большинстве случаев слов, а не дела, принадлежащие, главным образом, к тому классу русской интеллигенции, которому даже и в политической борьбе был чужд действительный порыв, они были неспособны к творческой работе, не обладали ни необходимыми знаниями, ни достаточным опытом. Зато личные и партийные амбиции мало кто готов был отодвинуть ради общего дела. А что стоят все слова, все партийные догмы, если нет дела? Для воплощения всех замыслов Врангелю нужны были именно люди дела, люди знания и труда. К какому бы лагерю они не принадлежали, лишь бы честно работали на благо России.
Первые такие люди прибыли в Крым следом за Петром Николаевичем из Константинополя по собственной воле. Это были Струве, с которым близко сошлись во время краткого изгнания, и бывший секретарь Кривошеина Котляревский.
– Узнав о вашем отъезде в Крым, я поспешил приехать, полагая, что вам будут нужны желающие работать, преданные делу люди, – объяснил Пётр Бернгардович.
Человек такого огромного ума и эрудиции, политик и учёный, известный в Европе, был полезен исключительно. Вскоре на его плечи легла внешнеполитическая работа.
Создаваемому правительству нужен был глава. Предстоящая огромная работа была по плечу лишь государственному деятелю, обладающему исключительными данными. И Врангель не мгновения не сомневался, что есть один единственный человек, который справится с ней. Кривошеин. Они давно были знакомы лично. Александр Васильевич отличался не только выдающимся умом и знаниями, но и исключительной работоспособностью, талантом администратора, всегда удачно выбирающего людей, широтой кругозора. Он сочетал в себе многолетний опыт государственной работы и умение принять новые условия работы, требующей необыкновенного импульса и не терпящей шаблона. Редкий деятель пользовался таким уважением в самых разных общественных кругах.
Кривошеин недавно перебрался в Париж. Снова возвратиться в Россию и взвалить на себя такую ношу для него, человека немолодого и нездорового, было немалой жертвой. Но, зная его пламенную любовь к Россию и чувство долга, Врангель надеялся, что Александр Васильевич жертву эту принесёт, и отправил к нему Котляревского с личным письмом. Вскоре Кривошеин уже был в Крыму. Он приехал по первому зову. Работа закипела.
Главной составляющей проводимых в Крыму преобразований стала земельная реформа и реформа местного самоуправления, те самые реформы, которые осуществлял Столыпин, считая их самыми насущными, призванными спасти Россию и принести ей процветание. Согласно реформе, предполагалось поднять, поставить на ноги трудовое, крепкое на земле крестьянство, сорганизовать, сплотить и привлечь его к охране порядка и государственности путём укрепления права бессословной частно-земельной собственности. Захваченные крестьянами земли оставались в их собственности (кроме земель церковных и монастырских, казачьих хуторов, особо ценных хозяйств, земель промышленных предприятий). Население должно было избирать земельные советы в волостях и уездах. Крестьяне могли вносить плату за землю из полученного урожая в течение двадцати пяти лет. Из этих средств государство должно было произвести расчёт с бывшими владельцами. Большую помощь в проведении реформы оказывал Крестьянский союз России, некогда созданный эсерами.
Некоторые помещики пытались возражать, но Пётр Николаевич пресёк их было поднявшийся ропот:
– Я сам помещик, и у меня первого придётся делить землю.
Реформа самоуправления состояла во введении волостного земства. К трудной и ответственной работе по восстановлению разрушенной земской жизни необходимо было привлечь новый многочисленный класс мелких земельных собственников из числа трудящегося на земле населения. Кому земля, тому и распоряжение земским делом, на том и ответ за это дело и за порядок его ведения. Только построенное на этом начале земское самоуправление могло стать в настоящее время прочной опорой дальнейшего государственного строительства.
– Будущее зависит от того, – говорил Кривошеин, – как покажет себя с точки зрения государственности и национальной культуры, класс мелких собственников и привлекаемое к деятельному участию в земстве крестьянство. Справятся ли эти элементы с тяжёлой задачей? Как обеспечена будет церковь? Какова будет новая школа, больница, суд? От этого будет зависеть весь дальнейший ход намеченных реформ. Вместе с покойным Столыпиным я работал над поднятием экономического благополучия русской деревни. Я глубоко верил в её здравый государственный смысл. Верю и теперь. Сейчас мы делаем необходимую смелую попытку устроения будущего земского и государственного порядка. Верим, что она приведёт к оживлению национального культурного строительства.
Нельзя было оставить без внимания и рабочий вопрос. Чтобы предотвратить забастовки рабочих, Пётр Николаевич встретился с ними лично и предложил ряд мер для улучшения их положения:
1. Постепенное повышение зарплаты до уровня зарплаты служащих (минимальные размеры должны быть одинаковыми).
2. Продажа рабочим продуктов с армейских складов, по цене их приобретения.
3. Снабжение рабочих одеждой с армейских складов с отсрочкой платежей на 12 месяцев.
4. Создание корпоративных магазинов по продаже рабочим продуктов и одежды по низким ценам, не более 10% от месячного заработка.
Введение этих мер обеспечило лояльность рабочих и их невосприимчивость к большевистской пропаганде.
Не было такого вопроса, такого дела за эти четыре месяца, в которое Врангель не постарался бы вникнуть сам. Судебная власть, сыскное дело, контрразведка – всё приходилось срочным порядком воссоздавать из руин. И следить не только за проникающими большевистскими агитаторами, которых успешно отлавливал генерал Климович, но и за не в меру ретивыми монархистами образца отца Востокова, своими неистовыми проповедями провоцировавшего еврейские погромы. Подобная агитация являлась сущим государственным бедствием. Не могли уразуметь неистовые витии, что любой погром разлагает армию и народ. Что, начав утром громить евреев, к вечеру те же погромщики пойдут громить остальное мирное население.
Шли «ночи безумные, ночи бессонные», летели дни, полные неусыпной, непрерывной работы. И ещё надо же было донести до помрачённых суть борьбы, объяснить, достучаться.
– Мы боремся за свободу… По ту сторону нашего фронта, на севере, царит произвол, угнетение, рабство. Можно придерживаться самых разнообразных взглядов на желательность того или иного государственного строя, можно быть крайним республиканцем, социалистом, даже марксистом, и всё-таки признавать так называемую советскую республику образцом самого небывалого, зловещего деспотизма, под гнётом которого погибает и Россия, и даже новый её, якобы господствующий класс – пролетариат, придавленный к земле, как и всё остальное население. Я всей душой жажду прекращения гражданской войны. Каждая капля пролитой русской крови отзывается болью в моём сердце. Но борьба неизбежна, пока сознание не прояснилось, пока люди не поймут, что они борются против себя, против своих прав на самоопределение, что они совершают над собой бессмысленный акт политического самоубийства. История когда-нибудь оценит самоотречение и труды горсти русских людей в Крыму, которые в полном одиночестве на последнем клочке русской земли, боролись за устои счастья человеческого, за отдалённые очаги европейской культуры. Дело русской армии в Крыму – великое освободительное движение. Это священная война за свободу и право.
Но что понимали в этой борьбе там, в гибнущей под красным игом России? За что воевали те, что стояли по другую сторону фронта? Это всё время пытался понять Врангель, не раз разговаривая с пленными. Совсем недавно, объезжая фронт, Пётр Николаевич встретил партию пленных красноармейцев. Обычные русские люди, такие же усталые, пропитанные грязью и обношенные, как собственные солдаты. Приказал остановить автомобиль, подошёл к ним, спросил, вложив в голос участие:
– За что вы воюете? За что?!
Молчали угрюмо, не поднимая понурых голов.
– Не робейте, подходите ближе… Скажите мне вы, русские люди, за что вы воюете?
И снова тишина в ответ.
Пётр Николаевич подошёл к одному из пленных, ещё совсем молодому парню:
– Вас гонят сражаться коммунисты? Ты коммунист? – вглядывался в лицо его, ища ответа.
– Нет… – обронил парень, поникнув головой.
– Ты – крестьянин?
– Да…
– Так знайте, что мы идём за веру православную и за то, чтобы каждый крестьянин мог спокойно работать на своей земле, чтобы безбедно жил и работал каждый рабочий и чтобы каждый русский человек жил спокойно и счастливо.
Ожили люди, в глазах огонёк мелькнул. Уже не смотрели в землю, потупившись, а слушали, прямо смотрели на стоявшего перед ними генерала.
– Не обижали у нас?
– Нет…
– Я знаю русский народ, и злобы у меня нет на вас… Идите отдохните, и пойдём вместе с нами освобождать русскую землю и бить коммунистов. Пойдём?!
– Пойдём! – решительно грянули в ответ.
И даже «ура» раздалось. Вот они, коммунисты… Смотрел им, уходящим, вслед с волнением. Вот, поговоришь с ними запросто, по душам – свои, русские. А сколько таких в Красной армии! И как достучаться до них? Один способ: выиграть время, чтобы слава пошла: что в Крыму можно жить. Что в Крыму вдосталь хлеба, когда по всей Совдепии голод стоит, что в Крыму нет ЧК, а есть свобода и право. Когда пойдёт такая слава, то и сами потянутся. Тогда можно будет двигаться вперёд… Не так, как шли при Деникине, а медленно, закрепляя за собой захваченное. Отнятые у большевиков губернии будут источником силы, а не слабости, как было раньше. Втягивать их надо в борьбу по существу, чтобы они тоже боролись, чтобы им было за что бороться. Тогда, каких чудес в жизни не бывает, может, и до Москвы дойти удастся! А там выберет себе русский народ хозяина, и начнётся возрождение России.
Огромная работа была проделана за четыре месяца. Ещё недавно, прижатая к морю, на последнем клочке родной земли умирала армия. Русский народ отверг её. В ней видел он не освободителей, а насильников. Европа отвернулась, готовая видеть во власти захватчиков России власть, представляющую русский народ. Казалось, конец неизбежен. Теперь войска победоносно шли вперёд. Воскресшие духом, очистившись в страданиях, русские полки идут, неся с собой порядок и законность. Новая власть пользуется доверием народа. Её лицо для него открыто. Но как ничтожен маленький клочок свободной от красного ига русской земли по сравнению с необъятными пространствами залитой красной нечистью России. Как бедна Русская армия по сравнению с теми, кто ограбил несметные богатства России. Какое неравенство пространства, сил и средств обеих сторон. Редеют ежедневно ряды, раненые заполняют тыл. Лучшие и опытные офицеры выбывают из строя, их заменить некем. Изнашивается оружие, иссякают огнеприпасы, приходят в негодность технические средства борьбы. Без них армия бессильна. Приобрести всё это нет средств. Экономическое положение становится всё более тяжёлым. Хватит ли сил дождаться помощи, придёт ли эта помощь, и не потребуют ли за неё те, кто её даст, слишком дорогую плату? На бескорыстную помощь рассчитывать нельзя, ибо в политике Европы тщетно было бы искать высшие моральные побуждения. Этой политикой руководит исключительно нажива. Европа обещала помощь, но тайком вела бесстыдную торговлю с красными. Об этом было известно доподлинно. Что порукой тому, что «союзники» не оставят в решительную минуту Русскую армию? Успеет ли белый анклав достаточно крепнуть дотоле, чтобы собственными силами продолжать борьбу?
Погасло солнце, над Севастополем воцарилась тёплая южная ночь, освещённая звёздами и огнями города. Пётр Николаевич задумчиво смотрел вдаль, размышляя о том, что сделано уже, и что ещё предстоит. Будущее казалось ему не менее тёмным, чем эта ночь, и не хотелось вглядываться в него. Судьба не давала выбора, и нужно было продолжать борьбу, пока остались силы. И даст Бог, настанет время, когда Русская армия, сильная духом своих офицеров и солдат, возрастая, как снежный ком, покатится по родной земле, освобождая её от извергов, не знающих Бога и Отечества, и будущая Россия будет создана армией и флотом, одухотворёнными одной мыслью: «Родина – это всё».
Глава 26. Родя Марлинский
Конец сентября 1920 года. На Днепре
Костёр развели быстро, весёлое пламя заплясало во мраке, разбрасывая искры и потрескивая. Печёная картошка «в мундире» обжигала пальцы и губы. Но дождаться, покуда она остынет, не было сил. Фома Барабаш вынул из своего всегда туго набитого вещмешка шматок белого, ароматного сала, и, со смаком втянув широкими ноздрями обещающий голодным солдатам разговины запах, аккуратно разрезал сало на три части: себе и двум товарищам.
– Фомка, а, Фомка, а чем ещё богат твой самобраный мешок? – белозубо осклабился в темноте Стёпка Коваль, отправляя в рот целую картофелину. – Кажи, чего ещё есть!
– Есть-то есть, да не про твою честь, – отозвался Фома с достоинством, завязывая мешок.
– И почему тебя так хозяйки любят? Вечно, куда ни пойдёшь, что на колядки! И колбаски кинут, и яичек, и сальца, и галушек… Не жизнь коту, а масленица! Хоть бы мне когда чего кроме сухарей кинули!
– Ты, Стёпчик, худ, как смерть, и хозяйки не могут заподозрить, что в тебя столько всего может влезть. И, вообще, не вызываешь ты у них доверия!
– А ты вызываешь?
– Выходит, вызываю, – весело откликнулся Фома, дородный, круглолицый парень, действительно, чем-то похожий на домашнего, сытого кота.
– А Родька почему не вызывает?
– А антиллигенция у народа вообще доверия не вызывает! – Барабаш прищурился. – А такие, как Родька, особенно!
– Это почему? – нахмурился Родион, отрываясь от своих мыслей.
– А потому, вольноопределяющийся Марлинский, что встрескался ты, понимаешь, и нюни распустил. Ну тебя!
– Вольноопределяющийся Барабаш, выражения выбирай. А то ведь и по шее можно.
– Это ты-то мне по шее? Да я ж тебя зараз одной левой! – загорячился Фома.
– Всё, всё! – Коваль поднял руки. – Ещё подеритесь, черти драповые! Командира накличете – он вас обоих одной левой… Чего ты, Фомка, пристал к человеку? Он же тебя не трогает.
– Ладно, – махнул рукой Барабаш. – Пущай сохнет, коль охота. Да ведь просто за друга обидно! Чтобы я когда-нибудь из-за девки… – он округлил небольшие глаза и развёл руками.
– Фома! – Степан укоризненно покачал головой.
– Да ладно… Рубайте, братцы, покуда нас в бой не послали, а то потом не успеем.
– Говорят, перед боем есть вредно.
– Дураки говорят, – фыркнул Фома. – Этак и с голодухи подохнуть недолго с нашей-то боевой обстановкой!
– Тоже верно…
Родион вполуха слушал болтовню друзей, жуя картошку и не чувствуя её вкуса. Всем своим существом был он далеко от этого костра, от днепровских берегов, от этой ночи. Ему виделась небольшая деревушка Северной Таврии, стоящая на берегу шумливой речки, окружённая со всех сторон золотыми полями, радующими глаз своими налитыми колосьями. Не видал Родя края более сказочного! Ослепительно ярко сияло там южное солнце, на бахчах лежали тёмно-зелёные шары-кавуны, золотисто-жёлтые, медово-ароматные дыни, а рядом высоко вздымалась кукуруза с пожелтевшими початками. Райский сад – не больше, не меньше. Жить бы в таком и горя не знавать.
Первый раз в Перфильевку Родион попал проездом. Командир послал его и Стёпку с донесением в другую часть, стоявшую неподалёку. Заплутали малёхонько, остановились посреди необъятного поля, озираясь. Глядь, девчушка идёт откуда-то. Ноги босые, на голове платок белый, в руке узелок. Окликнули её. Всполошилась, кинулась удирать. В золото полевое, как в море, нырнула – и давай Бог ноги! Даже как-то оскорбился Родя. За что ж так боятся? Ведь ничем не обижали мирное население! Соскочил с коня, бросил повод Стёпке и кинулся вдогонку за беглянкой. Бегал Родион всегда быстро, и, хоть немало запыхавшись, настиг её у разбитого молнией дерева, одиноко вздымавшегося над равниной. Ухватил за руку:
– Ты чего побежала, заполошная? Мы ж не большевики какие-нибудь!
– А почём я знаю, кто вы и чего вам надо? – девушка смотрела испуганно и гневливо. Ей было лет пятнадцать, на смуглом лице ярко светились глаза-васильки, из-под косынки разметались тёмные волосы. И несколько прядей выбились на лоб, совсем как, бывало, у матери.
– Да мы только дорогу спросить хотели. Не бойся!
– И вовсе я вас не боюсь! – синеглазая выдернула руку, поправила косынку. – Что вы там спросить хотели? Говори живее.
Ответил Родя, что заплутали, сказал, какую ищут деревню. Девушка тотчас коротко объяснила, куда ехать. Оказалось, что и не заплутали вовсе, а просто не доехали ещё двух вёрст.
– Тебя как звать-то, дикарка? – спросил Родя на прощание.
– Феоктиста, – отозвалась она и чуть улыбнулась сквозь напускную суровость.
Так они и познакомились. А две недели спустя все, незанятые на фронте части, были приказом Главнокомандующего брошены на подмогу населению в сборе урожая. И оказался вольноопределяющийся Марлинский с товарищами в Перфильевке. В первый день постучал в первую попавшуюся хату спросить напиться воды, а дверь Феоктиста открыла. Посмотрела как будто и сурово, и губки поджала строго, а глаза озёрные радость выдали. И Родион нежданно почувствовал, что и он страшно рад её видеть. И неловко было, и не знал, что сказать…
– Вот, нас отрядили в сборе урожая помогать… – промямлил, чувствуя, как кончики ушей горят. – Если какая помощь нужна будет, ты скажи… Я всегда рад буду…
– У нас в амбаре крыша прохудилась. Сможешь починить?
Никогда ещё не приходилось Родиону чинить крыш. Но нельзя же было ударить перед этой девушкой с удивительным именем лицом в грязь!
– Конечно, смогу!
Оказалось, что Феоктиста в свои неполные шестнадцать лет была главой семьи. Отец её погиб ещё в войну, мать померла от тифа год назад. И осталась Фексиста одна с меньшими братьями да сестрёнками на руках. Было их пять душ. Меньшому брату три года, сестрице старшей десять лет. Помогали сиротам бездетная тётка с мужем, но, в основном, всё хозяйство легло на феоктистины плечи: без устали трудилась она в поле, на огороде и дома. И держалось хозяйство. И амбар не был пуст, и скотина не валилась с голода. Всё было в феоктистином хозяйстве, кроме лошади. Её одалживала она у соседей, ездила верхом, как мальчишка, без седла и стремян, босыми пятками в бока кобылки тыча. Дивился Родя такой силе и воле и чувствовал себя рядом с синеглазой красавицей сущим разгильдяем. И не замедлил расписаться в этом, забравшись чинить крышу её амбара. Крыши, разумеется, не починил, зато знатно свалился с неё, посадив большую шишку и ушибив руку. Феоктиста, стиравшая неподалёку бельё, закатилась звонким смехом. Она прикрывала рот уголком снятой с головы косынки и никак не могла остановиться. Глядя на неё, рассмеялся и Родион. Отсмеявшись, Феоктиста оставила стирку, поманила смуглой ладонью в дом:
– Иди сюда, горе, лечить тебя буду.
А потом она перевязывала его руку, качая головой:
– Эх ты, солдат ещё! Всё что мой братушка. Он тоже вечно в шишках да ссадинах ходит.
– Прости, – краснел Родя. – Я просто как-то…
– Ничего! – Феоктиста улыбнулась. – Я так уже года полтора, должно, не смеялась. Так что спасибо тебе.
– Ты не думай, я крышу починю.
– Куда ещё! На крышу я тебя не пущу больше. Чего доброго шею сломаешь, а мне твоё командование скажет: сгиб из-за тебя солдатик наш, отвечай! Ты, чай, из городских?
– Точно. Я всю жизнь в Киеве прожил…
– Киев… – Феоктиста закатила и вновь опустила глаза. – Бабка моя в Киев хаживала. В Лавру. Паломницей. Сказывала, дюже красивая она, Лавра. Много сказывала. Обещала, что вместе сходим туда. И не успела… – девушка умолкла и после паузы поставила на стол кувшин молока. – Накось, вот, попей.
– Не заслужил я, Ксюша, молока-то.
– Заслужил, не заслужил… Пей уж!
Крышу Феоктисте всё-таки починили. Стёпка Коваль управился с этой работой за час, и Феоктиста тепло благодарила его и тоже поила молоком. А Родя ревниво косился на них, ругая себя последними словами за свою безрукость. Стёпка с виду казался настоящим доходягой, но в работе никто не мог с ним сравниться. Зол был до работы Стёпка. Сам из семьи малороссийских крестьян, он хорошо знал всякое хозяйственное дело и мечтал однажды зажить на собственном хуторе, быть хозяином себе самому. Правда, девушки не заглядывались на некрасивого Стёпку, и он не дарил их своим вниманием, нередко бывая нарочито грубоватым. Но с Феоктистой был Коваль на редкость вежлив, и Родя угадал, что не оставила она и его равнодушным. Вечером спросил Стёпку прямо об этом. Коваль поскрёб щербатый лоб:
– Что ж, я бы на ней женился, честно скажу. О такой хозяйке можно только мечтать. Ты, гляжу, глаз на неё положил?
– Не мели!
– Положил, я ж вижу. Зря.
– Это почему ещё?
– А потому. Ну, на кой ляд ты ей? Ей хозяин в доме нужён. Понимаешь аль нет? Кто бы помог, поддержал, освободил её от её хлопот. А ты?
– Чего – я?
– Чего-чего… Барчук ты.
Родион насупился. Стёпка успехнулся:
– Не дуйся, Родька. Я ж не со зла. И кралю твою соблазнять не собираюсь. Не моё это дело. Шашни крутить не хочу, а для другого ноне не время. Неровён час, прикончат завтра, и останется молодая вдова убиваться. На кой ляд?
Прямодушен был Стёпка, и Родя не рассердился на него. К тому же, прав он был, не поспоришь. И не время, и не пара… Решил Родион больше общества Феоктисты не искать, но его и искать не надо было: куда денешься друг от друга в маленькой деревушке? То на улице встретишься, то в поле. А от каждой встречи вспыхивало сердце, словно кто-то масленый фитиль зажигал. Заговаривала она, и краска лицо заливала, как у дурня последнего. И не укрылось это от товарищей. Зубоскалили и втихаря, и открыто. Вся часть – молодёжь была. Из юнкеров и кадетов недоучившихся. Самых младших, правда, приказом Врангеля возвратили назад в училища, а оставшиеся мнили себя почти «стариками», а всё-таки – мальчишки. И чувств серьёзных никто почти не испытал ещё, и не воспринимал всерьёз. Ещё недавно и Родя был таким. И, вот, всё переменилось, и насмешки товарищей больно язвили его.
Однажды ушёл от них под вечер в поле, где уже ни души не было в этот час, зарылся в стог свежего, сладко пахнущего сена. Лёгкий ветер доносил прохладу с реки, изредка жужжали последние пчёлы. Родион открыл потрёпанный том Жюля Верна и погрузился в чтение, словно возвращаясь в радостные времена своего беспечного детства. Прошёл час или больше, и Родя почувствовал, что-то кто-то пристально смотрит на него. Он поднял голову и вздрогнул от неожиданности: сбоку, у самого стога стояла Феоктиста и с любопытством смотрела на него. Родя поднялся, спросил немного сердито:
– Подглядываешь?
– Нет, просто гляжу, – девушка улыбнулась. Она была в обычной своей белой рубашке и тёмно-синей юбке, из-под которой видны были крепкие, мускулистые лодыжки. Тёмные волосы были заплетены в косу, порядком, однако, растрепавшуюся, а косынка накинута на плечи.
– Смотрит она… Ты откуда здесь взялась в такое время?
– К тётке в соседнюю деревню ходила, обратно иду. А тут ты, – Феоктиста склонила голову на бок. – А что ты читал?
– Жюль Верн. Это такой писатель французский. В детстве я зачитывался его книгами.
– А сейчас?
– А сейчас читать некогда стало.
– О чём же пишет твой писатель?
– О путешествиях, о далёких странах… А ещё о том, чего пока нет, но обязательно будет!
– И что же будет?
– Люди станут ходить по дну океана на подводных кораблях и подниматься в заоблачные выси, и полетят на луну…
Феоктиста прыснула и залилась таким же звонким смехом, как тогда, когда Родя так постыдно свалился с крыши.
– На луну! Умора! Как же можно полететь на луну? Сказкам веришь, как мой братушка, а ещё солдат! Болтун ты!
– Да что ты смеёшься? – обиделся Родион. – Ты бы прочла сначала!
– Вот ещё! Делать мне нечего! – фыркнула Феоктиста. – К тому же я неграмотная. Батя сгибнул, не успел научить.
– Так давай я научу, – предложил Родя.
В этот момент в небе раздалось странное гудение, и на горизонте показался низко летящий аэроплан. Родион напрягся. С аэропланов красные часто разбрасывали листовки. Среди прочих – обращение, подписанное генералом Брусиловым, читая которое Родя готов был плакать от гнева и негодования. А в недавнем бою три красных аэроплана пронеслись прямо над его головой, строча из пулемётов. Несколько солдат было тогда убито. Родя же упал в траву, закрыв руками голову, и остался невредим. Теперь же он молниеносно схватил Феоксисту и, повалив в траву, накрыл её собой, готовясь принять в себя все очереди вражеского орудия.
Но аэроплан пролетел мимо, а Феоктиста с силой оттолкнула его, вскочила, шумнула, пылая гневом, очень красящим её лицо:
– Ты что ж делаешь?! Думаешь, раз я сиротка, так и руки распускать можно?!
– Так ведь я подумал, что это красные…
– Сам ты красный! – фыркнула Феоктиста.
– Дура! – рассердился Родион. – Из такого вот аэроплана моих друзей расстреливали! А когда б тебя?! Я же за тебя испугался!
Васильковые глаза прояснели, стали ласковыми.
– Ладно уж, горе, идём. Аэроплан твой, кажись, у нашей деревни сел. Айда поглядим! – в голосе девушке послышался задор.
Хотелось и Роде посмотреть на чудо техники. Свои, белые аэропланы он видел лишь раз. И только в воздухе, когда громили они красных. А теперь представился случай вблизи посмотреть.
– Айда наперегонки!
Каким ещё ребёнком была эта дикарка-красавица, заставленная жизнью рано повзрослеть и заменить мать своим братишкам и сёстрам, но ещё искавшая случая поиграть, повеселиться, как веселились её сверстники. Побежала через поле скошенное резво, только пятки сверкали из-под развивавшегося подола. Бросился и Родион за ней, поддаваясь молодому озорству. Багровый шар солнца ещё не покинул неба, но уже экономил свои лучи, догорал головёшкой, а на смену ему проступал на небесной глади едва заметным контуром голубоватый месяц.
В деревне было шумно, все сбежались посмотреть на чудо-машину, каких в этом краю ещё не доводилось видеть. Дети норовили забраться на аэроплан, висли на крыльях, на лицах их был написан восторг. Сам пилот сидел неподалёку, пил воду из ковша, смотрел, посмеиваясь, на возню возле своего «коня», толковал о чём-то с подошедшими офицерами. Ему было не больше тридцати. Крепкого сложения, широкоскулый капитан с коротко стрижеными волосами и щёткой усов и небольшими весёлыми глазами, он объяснил собравшимся, что в аэроплане забарахлил мотор, и этим вызвана его нежданная посадка.
– Думал, братцы, не дотяну, разобьюсь вместе с моей железной птицей.
– А как же дальше вы? – спросил один из офицеров. – Здесь исправить поломку вряд ли удастся.
– А что бы вы сделали, если бы у вас сломался автомобиль?
– Впряг бы лошадей, чтобы они дотащили его, куда следует. Но вашу «птицу» лошади не утянут.
– А моя «птица» и сама ещё бегает, – пилот улыбнулся. – Видели вы, небось, птиц с перебитыми крыльями? Взлететь невозможно, а ехать тихонько по дороге – чего бы нет? Так что управимся. С утра и тронусь в путь.
Родиону очень хотелось подойти к аэроплану ближе, рассмотреть его. А ещё лучше подняться в кабину. Но было бы это мальчишеством, несолидно было бы. И стоял Родя в стороне, с завистью наблюдая за снующими вокруг аэроплана детьми, среди которых были и меньшие Феоктисты.
Ночью он долго смотрел на железную «птицу» и представлял себя на месте пилота. Его вдруг озарило, кем бы хотелось ему стать в этой жизни. Не стрелком, не кавалеристом, а бесстрашным авиатором, бороздящим небесную гладь. Лететь в облаках, и чтобы вся земля, как на ладони… Утром поделился мыслью с Феоктистой:
– Вот, прикончится война, и пойду в авиаторы. Буду летать!
– Неужто на луну собрался? – съязвила синеглазая.
– И на луну тоже, – в тон ей отозвался Родион, садясь на ступеньку крыльца. – И тебя с собой возьму! – крикнул ей, оглянувшись.
– А я с тобой, горе, не полечу.
– Это почему ещё?
– А мне пока на земле есть, чем заняться. А с неба больно падать высоко. Боюсь, шишками не отделаться.
– Трусиха!
– Балабол!
В это время загудел мотор, и вся деревня высыпала провожать железную «птицу». «Раненый» аэроплан тяжело полз по дороге, то набирая скорость, то почти останавливаясь.
– Долго же ему ехать придётся, – покачала головой Феоктиста, выйдя на крыльцо.
– Зато потом полетит! – ответил Родя.
– Тебе, горе, только с братушкой моим балакать. Иди лучше в хату, кавун есть будем.
За всю жизнь не ел Родион таких сочных, сладчайших кавунов. Феоктиста смеялась, глядя на него, а он краснел, но смеялся следом. Иногда на лицо её набегала грусть, и Родя не решался спросить о её причине. Мало ли было этих причин у неё! Вспоминала ли усопших родных или беспокоилась о будущем младших, или думала о том, что война всё идёт, унося жизни, разоряя землю, и могут прийти большевики, и тогда не жди добра… Грустил и Родион, понимая, что, в сущности, ничем не может помочь ей. Феоктиста больше не дичилась его, и он заходил к ней каждый день, учил её читать по книжке Жюля Верна. А иногда они вместе ходили по вечерам на луг, и это были самые счастливые часы.
А в последний вечер всё вышло как-то не так, как должно было, и горьким осадком легло воспоминание о нём на душу Роди. Он пришёл на их место загодя и стал ждать её. Солнце садилось, и ветер едва колебал шелковистую, сочную траву, рядом звенела, переливаясь, речушка. Наконец, она появилась, шла, словно скользила босыми ногами, по травинистому ковру. Родион вскочил и протянул ей букет полевых цветов.
– Спасибо, – Феоктиста чуть улыбнулась и села, обхватив натруженными руками колени.
Молчали. Родя мучительно искал нужных слов, но они не давались. Он уже знал, что их части недолго осталось стоять в Перфильевке. Обстановка на фронте усложнялась. Потерпел неудачу десант, посланный на Кубань, в то же время красные, переправившись через Днепр, захватили Каховской плацдарм. Укрепившись на нём, большевики получили возможность выйти в тыл белым войскам и отрезать их от Перекопа. Каховка стала ахиллесовой пятой Крыма, важнейшим стратегическим узлом, который необходимо было вернуть. Все попытки взять его в лоб, предпринимавшиеся ещё в августе, терпели неудачу и стоили страшных потерь. В Ставке была разработана операция по переброске крупных сил на вражеский берег с тем, чтобы взять Каховку с тыла. К Днепру стягивались всё новые части, и Родион слышал, что скоро и их перебросят в район боевых действий. Совсем недавно Родя был бы счастлив этому. Ведь сколько времени, вступив в ряды белых войск, он искал себе настоящего дела! И, вот, наконец… Но нестерпимо жаль было покидать ставшую родной Перфильевку, и нестерпимо трудно расстаться с Феоктистой, не видеть её глаз-васильков, не слышать задорного смеха…
– Ксюша, мы, наверное, уйдём скоро.
– Да, я слыхала… Ничего, уборочная к концу близится, управимся.
Как хворостиной по лицу хлестнула. Словно бы не понимала, о чём он пытается говорить с ней.
– Мы, может быть, больше не вернёмся сюда.
– Возвращайтесь. Если вас здесь не будет, то большевики придут, и нам всем будет плохо.
Родя не выдержал и, схватив девушку за плечи, тряхнул с силой:
– Ты что? Ты ничего не видишь? Не понимаешь?!
– Отпусти меня! – голос прозвучал строго, но в васильковых глазах промелькнул испуг.
– Не отпущу! Я же люблю тебя, Ксюша! – Родион притянул Феоктисту к себе и поцеловал её.
Сладок был поцелуй, зато горька последовавшая оплеуха. Тяжела ручка оказалась у красавицы-дикарки. Опять пылало лицо её гневом. Она стояла перед ним, полная негодования, заговорила, волнуясь:
– Не надо этого! Ты, горе, хороший. Я это сразу поняла. Ты как ребёнок… Барчук… А у меня пятеро меньших на шее. За ними ходить! Да ещё эта ваша война! – слёзы хлынули из глаз Феоктисты. – А ты… Уезжай, оставь меня! Оставь и не приходи больше! Не надо! – содрогаясь от рыданий, она побежала прочь, и на этот раз Родя не бросился ей вдогонку, а остался сидеть неподвижно, словно окаменев. Рядом осталась лежать белая косынка, он протянул руку, взял её, поднёс к лицу, вдыхая запах феоктистиных волос, спрятал в карман.
Родион просидел у реки всю ночь, ещё надеясь в глубине души, что Феоктиста вернётся, но она не вернулась. На рассвете Родя возвратился в деревню и застал там большое оживление. Навстречу ему попался вечно хмурый Стёпка:
– А, Родя, наконец-то! Мы уж собирались тебя искать.
– А что такое?
– Получен приказ о выступлении. Выступаем в полдень.
– Ты Ксюшу не видел?
– Нет, не видел, – Стёпка пожал плечами. – Я по ночам сплю, а не караулю чужих зазноб. Кстати, и тебе советую поспать оставшиеся часы, а то будешь в походе носом клевать.
– Спасибо за совет!
Рад бы был Родя последовать ему, но разве до сна было? Он должен был проститься с Феоктистой. Извиниться, увидеть её в последний раз. Не на такой же ноте горькой расставаться! Умывшись, приведя себя в порядок и сложив немногочисленные вещи, Родион поспешил к дому Феоктисты. Там стояла тишина, и дверь была закрыта. Трижды обошёл вокруг, надеясь, что она выйдет сама, наконец, отворил калитку и поднялся на крыльцо. Долго мялся перед дверью, не решаясь постучать, боясь услышать гневную отповедь, но всё-таки отважился. Дверь открыл её брат Проша, посмотрел вопросительно такими же, как у сестры, васильковыми глазами.
– Ксюшу позови-ка, – попросил Родион.
– Сеструхи нету.
– Скажи, что я на минуту, что мы сегодня уходим. Я только попрощаться.
– Дак нет её.
– Как нет? А где же она?
– Не знаю, – Проша пожал плечами. – Она вчерась вечером ушла и ещё не приходила.
– Как же так? – Родя заволновался. – А где же она может быть? Не случилось ли чего? Может, её искать надо?
– Не надо её искать, – из комнаты выглянула старшая из сестёр Зина. – Она, небось, к тётке пошла, там и заночевала. Может, ей передать что?
– Я записку напишу.
– Пиши, – Зина пожала плечами.
Родион вошёл в дом, сел за стол и, достав из-за пазухи том Жюля Верна, написал на заглавной странице: «Дорогая Ксюша! Прости, если я тебя нечаянно обидел. Я не успеваю проститься с тобой и оставляю тебе эту книгу на память. Твою косынку я украл, и она теперь всегда будет со мной. Прощай и не поминай лихом своё горе!» Подумал и приписал постскриптум: «До встречи на луне!»
– Передайте сестре, – просил Зину и Прошу.
– Возьми в дорогу, – Зина протянула небольшой кулёк. – Здесь галушки с салом. Сеструха вчерась сготовила.
– Спасибо! – Родя принял кулёк и, чмокнув детей в макушки, покинул ставший дорогим дом.
Он ещё надеялся, что до полудня Феоктиста вернётся, но она так и не пришла. Ровно в полдень, когда раскалённое солнце было в зените, выступили в поход. Фома Барабаш, первый запевала, затянул недавно появившуюся в Крыму песню:
– Пусть свищут пули, льётся кровь,
Пусть смерть несут гранаты,
Мы смело двинемся вперёд,
Мы русские солдаты!
Бодро шагали по знакомой дороге, широкой лентой протянувшейся через бескрайнее поле. Внезапно вдалеке Родя увидел знакомую фигуру. Она шла по жнивью, ветер колыхал синий подол, развивал тёмные кудри. Точно нарочно дожидалась у тётки до последнего часа… Смертельно хотелось побежать к ней, или хоть крикнуть что-нибудь. Но было совестно перед товарищами. А она вдруг остановилась, приставила ладонь к газам, всматриваясь в тянущуюся по дороге колонну, а потом подняла руку и помахала вслед… Так и простились, так и скрылась, исчезла в мареве полуденного зноя девушка со странным именем.
Весь поход ни о ком больше не мог думать Родион. Даже о матери, как и прежде, работавшей в госпитале Красного Креста, но теперь уже в Севастополе, вспоминал редко. Наконец, достигли цели. Достигли Днепра…
Позиции красных на этом участке были более выгодными. Их берег был выше, и давал возможность их артиллерии расстреливать наступавшие части. И могучий Днепр не был рекой, удобной для переправы. Весь он был окружён многочисленными плавнями, преодолеть которые было труднее, чем его самого. Для того, чтобы найти лучшее место для переправы требовался проводник, и его незамедлительно нашли. Сперва предстояло пересечь один из рукавов Днепра, добраться до острова Хортица, а оттуда форсировать реку.
Ужин был доеден, костёр почти угас. Фома зевнул:
– Подбагрим сегодня речку.
– Типун тебе на язык, – поморщился Стёпка.
– А что, наше дело солдатское. Сказано же тебе, что редкая птица долетит до середины Днепра.
– Птица, может, и не долетит, а мы доплывём.
– Эх, картишки потерял где-то. Теперь бы в подкидного сыграть!
– Нашёл время!
– Скучно, братцы.
– Ничего, скоро весело будет. До полуночи полчаса осталось.
Ровно в полночь назначено выло выступление. Погрузились в добытые лодки и пошли к темнеющему впереди большому острову.
– Там иногда бывает большевистская застава, – предупредил проводник. – Так что сторожко надо.
Однако опасения оказались напрасными. В эту ночь заставы на Хортице не было. В полном мраке батальоны выгружались на берег. Остров оказался покрыт дремучим лесом, и сквозь него лежал путь к Днепру. Двигались бесшумно, так, что слышен был только шелест травы под ногами. И, вот, впереди блеснул посеребрённый лунным светом Днепр. Остановились, переводя дух. Первые партии стали грузится в лодки, направляющиеся к вражескому берегу, на котором нельзя было различить ничего, кроме тёмной полосы леса.
– Красота! – вздохнул Фома, плюхнувшись на землю возле векового дерева, взрывшего могучими корнями землю вокруг. – Что-то необычайное чувствуется в этом месте, какая-то сила. Вы не чувствуете, братцы?
– Это сила истории, – откликнулся Родион, вглядываясь вдаль. – На этом месте давным-давно располагалась Запорожская Сечь. Отсюда наши предки ходили бить ляхов и татар. Здесь расцветала казацкая вольность.
– Откуда ты всё знаешь?
– Мой отец был профессором истории, – коротко пояснил Родя.
В этот момент отец воскрес перед его глазами, как живой. Сухопарый, энергичный, всегда увлеченный своей работой… Вспомнились его долгие, поэтические рассказы про Сечь, про страницы казацкой славы. Как извлекал отец из ножен древнюю саблю, оставшуюся ему в наследство от пращура, здесь, на Сечи, в походах и войнах покрывшего себя славой. Эту саблю мать вывезла из Киева, как самую дорогую фамильную реликвию.
Неторопливо и величаво было течение Днепра. Луна купалась в нём, разливалась тревожащим и завораживающим сиянием, и это серебро бороздили лодки, в полной тишине устремившиеся к противоположному берегу.
– По древней легенде, отсюда началась Россия… – сказал Родион, вспоминая рассказа отца. – В водах Днепра жила русалка Рось, и её полюбил Даждьбог, но никак не мог долететь до неё, пересечь днепровскую ширь. Он обратился птицей, но и тогда не смог долететь дальше чем до середины…
– А что было потом?
– Я не помню, – пожал плечами Родя, удивившись и сам своему беспамятству. – Надо же, всё забыл…
Ночь подходила к концу, и первые лучи зари позолотили волны великой реки, когда лодка, в которой сидел Родион и его друзья, бесшумно скользнула по водяной глади. С противоположного берега не раздалось ни единого выстрела.
– Проспали нас красные, – довольно потёр руки Фома. – Сейчас устроим им побудку!
– Не говори «гоп», – усмехнулся Стёпка.
Родион смотрел на реку, но уже не видел её, уносясь взором дальше. Где-то за много-много вёрст отсюда, на высоком берегу Днепра, такого же широкого и прекрасного, высился великий город Киев, город-дом, город-любовь. Если бы дал Бог снова вернуться туда! Снова жить там. Как наяву виделась Лавра, и родной дом. И снова – отец. Сидящий в своём любимом кресле, или за столом, заваленным множеством книг. Или стоящий у окна и декламирующий вдохновенно что-нибудь гоголевское, пушкинское. Родя был убеждён, что редкий актёр мог читать так талантливо, как это делал отец. С его голоса узнавал он впервые произведения русских писателей, страницы русской истории. И, как наяву, слышался этот чуть хрипловатый дорогой голос, читающий знаменитые гоголевские строки о Днепре. Родион почувствовал, как по щекам его потекли слёзы.
Глава 27. У последней черты
8 ноября 1920 года. Севастополь
– Боже, зачем я согласился нести этот крест! – вырвалось у адмирала Кедрова, когда, вызвав его с заседания правительства, Врангель известил его о надвигающемся на фронте несчастье.
Взвалил же ношу на себя… А ведь мог и отказаться? Хотя какое там! Другой и мог бы, но только не Михаил Кедров. Раз отдав жизнь служению Родине, нужно идти по этому пути до конца, даже если Родина захвачена негодяями, разорена и опозорена. Чуть больше двадцати лет назад здесь, в Крыму, он начал этот путь, первым в своём выпуске окончив Морской Корпус, с которым было связано бесчисленное множество светлых воспоминаний. В Великую войну Михаил Александрович командовал морскими силами Рижского залива, а после революции внезапно был назначен помощником морского министра, а после и начальником Морского генштаба. Впрочем, взлёт этот был недолог, и закончился с занятием поста морского министра фигляром Керенским. В то время Кедров получил предложение адмирала Колчака служить под его началом на Чёрном море. Но Александр Васильевич вскоре сам был вынужден покинуть флот и Россию. Последовал его примеру и Кедров, отбыв за границу для объединения военно-морских агентов Лондона и Парижа. Оттуда по просьбе Колчака Михаил Александрович организовывал заграничный транспорт для снабжения белых армий. И ничто не предвещало возвращения на Родину. Но, как известно, человек предполагает, а Господь располагает.
В сентябре Кедров получил приглашение Кривошеина срочно прибыть в Крым. В те дни там от тяжёлой болезни умирал командующий Черноморским флотом адмирал Саблин. Этот знающий, деятельный, преданный флоту и России человек несколько месяцев, борясь с невообразимой разрухой и страшным недугом, буквально из обломков воссоздавал то, что было некогда черноморской эскадрой. Теперь его положение было безнадёжным, и положение Крыма внушало мало надежд. Флоту необходим был новый командующий. И генерал Врангель остановил свой выбор на Кедрове.
После двух лет, прожитых вне России, адмирал с особым чувством ступил на русскую землю, вдыхая родной воздух, любуясь сияющей белизной залитой солнцем Графской пристани. Его встречали, и первые слова, которые он услышал, стоя у памятника Нахимову, были:
– Ваше превосходительство, посмотрите вокруг себя: вот бухта, в ней громадный порт, мастерские, плавучие доки, дивизионы подводных лодок, эскадренных миноносцев; там выше, на горе Корабельной стороны, экипажи морских команд, морской госпиталь; у берега крейсера и броненосцы, на рейде дредноут. Там, на северной стороне, сухой док Наследника Цесаревича, Инкерман с его боевыми погребами и складами боевого снабжения; там дальше, близ Ушаковой балки, Морская авиация и минная станция; а там на горе колыбель флота – Морской корпус! Всё это будет ваше! Всё это подчинится воле вашей и будет покорно вашему слову! Примите пост Командующего флотом Чёрного моря. Вы здесь человек новый. У вас блестящее прошлое. Ваш авторитет уважаем. Ваше имя имеет вес, оно объединит всё, что не поддалось ещё заразе и растлению, и встряхнёт и ободрит растерявшихся и ослабевших в борьбе. Примите пост Командующего флотом, вы тем самым спасёте флот и поможете армии в её борьбе против красных врагов; а в случае невозможности бороться, спасёте и флот, и её, уведя от врагов и их плена.
Выслушав этот искусительный монолог Михаил Александрович не дал ответа. А на другое утро с тем же призывом, хотя изложенным менее велеречиво, обратился к нему Врангель, без обиняков сформулировавший задачу: спасти флот и армию в случае катастрофы. Отказаться Кедров не мог. Перед глазами был пример умирающего Саблина, отдавшего все силы этой тяжелейшей задаче. Перед глазами было множество других людей, продолжающих борьбу, невзирая ни на что. Страшно было взвалить на себя такую ношу, но позорно уклониться от неё. И адмирал принял предложение. С того дня закипела работа, в которой Главнокомандующий принимал самое активное участие, делясь своей, кажется, неисчерпаемой энергией и верой. День за днём строился из остатков русского флота Ноев ковчег, которому суждено было спасти всех, когда пробьёт роковой час. И, вот, час этот был близок…
Ещё не успел Кедров прийти в себя от оглушительной вести, как твёрдый голос Главнокомандующего спросил, обращая потрясённое сознание к делу:
– Михаил Александрович, каково наше положение?
– Мы располагаем тоннажем на шесть тысяч человек. Дополнительно высланный из Константинополя запас угля только что прибыл. Это даёт возможность использовать дополнительный тоннаж и принять до семидесяти пяти тысяч человек.
– Нужно больше, адмирал, – узкое лицо Главнокомандующего было хмурым и сосредоточенным.
Из зала заседания вышел, опираясь на трость, обеспокоенный Кривошеин. Спросил, скрывая волнение, пытливо обращаясь к Врангелю:
– Пётр Николаевич, что-то произошло? Катастрофа?
– Катастрофы не будет, Александр Васильевич. Нами приняты все необходимые меры. Не так ли, Михаил Александрович?
– Да, мы хорошо подготовились на случай несчастья, – подтвердил Кедров, мучительно соображая, где раздобыть дополнительный тоннаж.
– Александр Васильевич, прошу вас, успокойте членов правительства, – сказал Врангель. – А я отдам кое-какие распоряжения и вернусь.
Кривошеин ушёл, и Главнокомандующий заговорил решительно, сохраняя свою обычную энергичность и напор. В считанные минуты он уже перебрал в голове все возможные действия и теперь перечислял:
– Необходимо принять меры, чтобы все суда, которые могут держаться на воде, были использованы. Срочно вытребуйте из Константинополя возможное количество судов. Все коммерческие суда задержите моим приказом в портах Крыма.
– И иностранные?
– И иностранные! – Врангель повернулся к вышедшему вместе с ним помощнику: – Пётр Сергеевич, отправляйся и ты, проследи за всем. Теперь каждые сутки на счету, каждый час. Мы должны быть готовы вывезти отсюда всех, кто этого пожелает. Никто не должен быть брошен нами на произвол большевиков. Это теперь главное!
Тягаев, молча, кивнул. Ему не нужно было ничего объяснять. Обстановку, как на фронте, так и в тылу, он, в течение нескольких месяцев состоя на службе при Главнокомандующем, знал совершенно.
Понимая всю важность работы в тылу, Пётр Сергеевич всё это время рвался на фронт. Врангель беспощадно сокращал штабных офицеров, отправляя их в боевые части, не делая скидок ни на звания, ни на заслуги. Однажды на перроне станции ему на глаза попался щеголеватый полковник, отрекомендовавшийся офицером связи при генерале Слащёве.
– Павел, разве есть такая должность? – обернулся Пётр Николаевич к Шатилову.
– Определённо нет. Ещё один кандидат для отправки на фронт.
– Я… Я состою также при епископе Вениамине… – запинаясь, начал полковник.
– Что?! – закричал Врангель. – При епископе Вениамине?! Что же вы там делаете, ладаном курите или уклоняетесь от отправки на фронт?! Да как вы смеете!
Полковник был немедленно арестован.
Раз за разом Тягаев подавал старому боевому товарищу рапорты с требованием отправки на фронт, упирая, среди прочего, и на эту борьбу со штабными офицерами.
– Какой из меня штабист? Я боевой офицер, и всё, что я умею, это воевать! – доказывал, стуча кулаком по столу.
– И какую же ты, генерал, должность хочешь получить на фронте?
– Любую! Хоть эскадронного командира! Лишь бы не сидеть в тылу!
Но Пётр Николаевич был непреклонен. Отрубал с не меньшей горячностью:
– Тыл, Пётр, для нас тот же фронт. Явится нужда: сам тебя на фронт отправлю! А теперь ты мне нужен здесь!
А ведь знал же по себе, как на фронт тянет! И сам, Главнокомандующий Русской армии, рвался туда. Ездил с такой частотой, какая только была возможна при его занятости. Не пропуская крупных сражений. В день прорыва из Перекопа не находил себе места, и мелькнула даже мысль:
– А не дёрнуть ли мне сейчас туда на аэроплане?
И так сам понимая всё, и одинако чувствуя, всё же не отпускал на фронт Тягаева. В конце концов, Пётр Сергеевич смирился. Лучше было знать Врангелю, где какие люди ему нужнее, и оспаривать и не стоило, и бессмысленно было. К тому же здешний тыл был не чета сибирскому. Здесь кипела работа, тон которой задавал сам Главнокомандующий. Тягаев в душе искренне восхищался другом. Он и в семнадцатом году уже знал, что этот человек способен наладить любое дело и, быть может, даже спасти Россию, а теперь убеждался в этом воочию. Тяжёлый крест не только не угнетал Врангеля, не омрачал его, но словно наоборот – добавлял сил. В нём чувствовалось спокойное, равномерное напряжение всех сил, и, чем тяжелее было положение, тем бодрее, тем сильнее был он, никому не позволяя падать духом. Трудности не пугали его, а высвобождали запасы громадной энергии, позволявшей ему работать без отдыха, излучая уверенность и спокойствие. Он даже как будто помолодел в этом своём горении. Одно его присутствие пробуждало в сердцах веру. Веру в него. Веру в Россию. Веру в то, что Бог всё-таки не оставит. Власть не была для этого человека тем крестом, каким стала она для иных белых вождей. В отличие от них он был самой природой создан для неё, был органичен в ней. Во власти он чувствовал себя столь же уверенно, как во главе эскадрона, с командования которым начинал свой путь в Великой войне. Его военный талант давно был признан всеми, но в Крыму он творил чудеса, как администратор. Этих двух талантов не сочетал никто, кроме него. И никто не имел такого редкого чутья в выборе людей, как Врангель. И тоска брала, что такое малое пространство осталось для такого громадного потенциала. А окажись он у руля в начале борьбы, и уже смели бы без сомнения всю нечисть, освободили бы Россию…
В конце концов, Тягаев привык к своей новой должности и без остатка отдался работе. Мало было в Крыму дел, исключая хозяйственные, которые не были бы на контроле у Петра Сергеевича. Подготовка эвакуации, в работу над которой были посвящены лишь немногие приближённые Врангеля, вылазки большевиков в Крыму, ряд тыловых забот – во всём этом Тягаев принимал непосредственное участие. И кто бы мог подумать, что благодаря этой, столь чуждой сердцу рутине, приведётся встретиться с человеком, о котором так давно ничего не знал. Ради этой встречи стоило остаться в тылу…
Осенью в Крыму снова напомнили о себе зелёные, и заметно активизировались действия большевистских шпионов. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Керчи, из-за близости к занятому красными Таманскому полуострову бывшей одним из самых уязвимых мест в обороне Крыма. Начальник контрразведки генерал Климович успешно пресекал происки противника, методично вылавливая и ликвидируя советский агентов. Однако Пётр Сергеевич всё же поехал в Керчь, чтобы лучше ознакомиться с обстановкой на месте. Там он провёл неделю, досконально изучив методы деятельности красных лазутчиков и оценив превосходнейшую работу подчинённых Климовича по нейтрализации их. Но не этим оказалась важна та поездка.
В предпоследний день своего пребывания в Керчи, уже покончив с делами, Тягаев прогуливался по городу. Солнце пекло немилосердно, по улицам сновало множество людей, иные прохлаждались в кофейнях, где-то распевали навязшую за это лето в зубах арию из «Сильвы». До того пристал этот мотив, что иной раз Пётр Сергеевич ловил себя на том, что и сам мычит его себе под нос.
На центральной площади наблюдалось небольшое скопление публики, привлечённой каким-то явлением. Тягаев хотел было пройти мимо, но вдруг услышал пронзительный голос, вещавший:
– Православные! Антихристовы рати идут на нас, топчут нашу матушку Святую Русь, но Господь с нами, а кто в таком разе супротив нас? Братья, встанем все, как один человек, на путях сынов погибели! Постоим за дело Христово, за матушку Русь!
Ушам своим поверить нельзя было! Протиснувшись сквозь ряды праздной публики, он увидел стоявшего посреди площади кудесника. Старик стоял, опираясь на костыли, снежные волосы прилипли к вспотевшему лбу, а глаза горели, глядя не на толпящихся вокруг, а поверх них – в синее, местами задёрнутое клочьями облаков небо. Толпа слушала его, но не всерьёз, а забавы ради, принимая за сумасшедшего, некоторые кидали деньги к искалеченным ногам кудесника, но он не замечал этого. Пётр Сергеевич приблизился, окликнул его:
– Отец, узнаёшь меня?..
Дед Лукьян медленно повернул голову, посмотрел спокойным, ясным взором, ласково улыбнулся в усы:
– Что, барин, голова-то не болит?
– Не болит, отец, не болит… – ответил Тягаев, чувствуя, как защипало в глазу от набежавшей слезы.
– То-то же, а ты не верил…
В толпе удивлённо зашушукались, не понимая, что может быть нужно генералу от нищего, безумного старика.
– Отойдём? Поговорить бы… – негромко сказал Пётр Сергеевич.
– Иди, а мы по тебе, – кивнул кудесник. Осенив толпу двоеперстным крестом и поклонившись на все стороны, насколько позволяли костыли, он поковылял за Тягаевым, ожидавшим его неподалёку в тенистом закоулке.
– Ну, здравствуй, отец, – вздохнул Пётр Сергеевич, обнимая старика. – Не думал я, что придётся ещё свидеться!
– Мы же говорили, что придётся, – откликнулся Лукьян Фокич, опускаясь на скамейку. – А ты не верил… Маловерный ты, барин, оттого и горюешь. Оттого и все горюют, и вся наша Русь горемычной поделалась. Постарел ты, Петра Сергеевич. В сыновья нам годишься, а так же бел…
– Ты как в Крыму-то оказался, отец? – спросил Тягаев.
– Раненых из Сибири морем увозили… Хотели на чужбину. А нам на чужбине делать нечего. Мы на своей земле помирать будем, сражаясь за Христово дело. Нужно народ православный поднимать, и идти на рать, вооружившись крестом и молитвой! Нас-то наказал Господь за грехи ногами, не пойти вперёд, как прежде бывало.
– Ты теперь здесь живёшь? В Керчи?
– Приютили братья у себя. Хочешь, пойдём к нам? Поглядишь на наше житие.
– Куда ж идти?
– В Русскую Маму.
– Это что ж такое? – удивился Пётр Сергеевич названию.
– Пойдём, барин, увидишь, – ласковая улыбка снова озарило лицо старика. Он поднялся и, осев на костыли, поковылял вперёд. Тягаев пошёл следом.
Русской Мамой именовался рыбачий посёлок в двадцать дворов, расположенный на стыке Керченского пролива с Азовским морем. Крепкие, добротно построенные дома были разбросаны по побережью залива. Повсюду были развешаны рыбацкие сети, у берега покачивались на волнах лодки. Воздух был пропитан запахом солёной морской воды и вяленой рыбы. В посёлке жили староверы. Пётр Сергеевич сразу угадал их по суровому, былинному облику, по укладу жизни и быту, сохранившему дух минувших столетий.
– Здесь мы и обитаем, – рассказывал кудесник, ковыляя по песку, в котором увязали его костыли, отбрасывая с лица белые пряди, которые рвал налетавший с моря ветер.
– Сколько раз бывал в Крыму, а не знал, что здесь живут староверы.
– Это наши, волжские. Их предки пришли сюда в поисках лучшей доли. Среди них была семья сестры нашего деда…
У одного из домов старик остановился, открыл дверь, ведущую в пристройку к нему:
– Входи, барин, гостем будешь.
Тягаев вошёл. Помещение, в котором он оказался, походило на сарай. Здесь хранились сети и рыболовные снасти. Из мебели была широкая лавка, покрытая дерюгой, стол, чурбан, заменяющий стул. В углу стояла старинная, почерневшая икона, которую Пётр Сергеевич узнал. Эту икону кудесник всегда возил с собой. Лукьян Фокич затеплил коптилку, поставил на стол кувшин с водой и миску с рыбой:
– Не побрезгуй, барин, нашей снедью.
– Спаси Христос, – отозвался Пётр Сергеевич, и уловил мелькнувшее на лице старика довольное выражение. – А что же ты не в доме живёшь?
– В доме и без нас полна горница, – откликнулся дед Лукьян, прихлёбывая воду. – А нам что надо? Нам и здесь хорошо. Поночуем и назад, в город.
– Далеко отсюда до города. Как же ты туда добредаешь?
– С Божией помощью.
Рыба была солёной и жёсткой, но Тягаев старательно жевал её, не желая обидеть старика. Он же почти не притронулся к еде, сидел неподвижно, словно живая икона.
– Последний раз мы с тобой видимся, Петра Сергеевич, – обронил. – Скажи, как жизнь твоя?
– Слава Богу, – отозвался Тягаев, мучаясь желанием закурить. – Только дочь в Сибири пропала, и ничего я о ней не знаю… – вздохнул, разворачивая рану. – Даже жива ли.
– Не кручинься, барин. Она жива.
– И я надеюсь на это…
– Надеешься! – кудесник усмехнулся. – Она жива, мы знаем. А ты маловерствуешь опять.
– Прости, – покаянно сказал Пётр Сергеевич, обнадёженный словом старика. – Я верю тебе.
– Ты не нам, барин, ты Богу верь. Жива твоя дочь, и долго жить станет, но свидеться с ней в этой жизни вам не придётся. Лягут меж вами многие вёрсты, моря-океаны, чужие страны. Не докричишься, не дозовёшься. Но знай всегда одно: жива она. И молись о ней, а она о тебе помолится. Так и вымолите друг друга…
Спустившаяся ночь погрузила обиталище деда Лукьяна в сумрак, рассеянный лишь мутным светом коптилки.
– А что твоя женщина? – спросил старик. – С тобой ли?
– Со мной, – тихо ответил Тягаев, опустив голову. Он ожидал слов осуждения, но их не последовало, и Пётр Сергеевич не стал рассказывать старику ни о том, что оба они пережили, ни о том, что решил жениться на Дунечке. Решение это было твёрдым, но Тягаева неотступно мучила совесть. Совсем недавно из Финляндии от старых знакомых дошло до него печальное известие о смерти Лизы. Столько времени он терзался, думая, как придётся объяснять ей, каяться, просить развода… А она… Словно почувствовала? Ушла, освободила… Но и того хуже стало. Оттого, что нельзя теперь покаяться перед ней, попросить прощения за все перед ней вины.
– Скажи, отец, что мне делать, если я виноват перед человеком, а покаяться перед ним не могу, потому что его нет на свете?
– На этом свете нет, на другом есть, – кудесник пожал плечами. – У Бога все живы, Петра Сергеевич, разве забыл? Покайся перед тем, кого обидел, и он тебя услышит там, и простит.
– Простит ли?
– Простит, – Лукьян Фокич сложил руки крестом на груди. – А лучше оба покайтесь. И перед теми, кого обидели. И перед Богом. Может, простится вам тогда, и будет благословение.
Всё знал этот старик, читал в душе, как в открытой книге. Ни словом не обмолвился ему Тягаев о жене, а он всё угадал, всё почувствовал.
– Я так и сделаю…
– Сделай, барин, сделай. Сними камень с души, иначе раздавит.
Ночью Пётр Сергеевич не спал. Кудесник долго молился, подняв руки к иконе, а затем лёг на свой одр без подушки и одеяла. Тягаев же устроился на полу, думая о словах старика, глядя сквозь небольшое оконце на небо, озарённое рассеянным светом месяца, пойманного в сети мглы. Он пытался мысленно обращаться к Лизе, представить её, как живую, но выходило из рук вон скверно. Даже черты лица её как-то смутно воскресали в памяти. Может, оттого, что разлука была слишком долгой. Или потому, что никогда не вглядывался с пристальным и любящим вниманием в него, вбирая в сердце каждую чёрточку. Пётр Сергеевич не видел её осуждающего взора, но был в Крыму взор, которого он избегал все эти месяцы. Взор свояченицы. Аня служила в госпитале Красного Креста, встреч не искала, но иногда сталкивались случайно. Никаких укоризн не высказывала она, а в глазах читалось… Вот, у неё бы и спросить прощения тоже? Как у Лизы, если бы жива была? Вымолить прощение это, а иначе, прав старик, не будет жизни, заест её вина.
Ещё только-только вздыбилась заря, а посёлок был разбужен монотонными ударами в «било», висевшее перед молельней, расположенной на пригорке посреди деревни. Потянулись с заунывными молитвенными напевами люди из своих домов. Поковылял и Лукьян Фокич со всеми. Священника в посёлке не было, и во время служб один из стариков читал собравшимся Священное Писание. Тем начинался день, тем и завершался он.
Пётр Сергеевич дождался кудесника у дома, не желая смущать молящихся, которые и без того, проходя мимо, с удивлением косились на странного гостя с генеральскими погонами. По окончании службы простились тепло. Дед Лукьян благословил Тягаева своей иконой:
– Прощай, Петра Сергеевич. Авось, в другой жизни ещё свидимся. Тяжёлые дни грядут, не станет тебе часа главы приклонить. А ты молись и веры не теряй. Спаси тебя Христос!
В то утро ещё никто не знал, насколько близка катастрофа. Но для прозорливца это не было тайной. Так и случилось всё, как он сказал. Обстановка на фронте с каждым днём становилась всё более грозной. После неудачи Кубанского десанта, «третьего Кубанского похода», в котором успели полпути до Екатеринодара пройти, последовала новая неудача – сорвалась Заднепровская операция. Эта операция, тщательно разработанная штабом, имела две цели: выбить большевиков с Каховского плацдарма и, двигаясь вглубь Украины, способствуя антибольшевистским восстаниям в ней, соединиться с поляками, успешно воюющими с красными, образовать единый фронт и вести совместные действия при поддержке союзников. Союзники как будто начали верить в успех Русской армии, и Франция приняла решение об официальном признании правительства Врангеля, что явилось крупной дипломатической победой Струве.
Заднепровская операция поначалу развивалась успешно, но гибель генерала Бабиева явилась причиной её срыва. Бабиев был одним из наиболее блестящих кавалерийских начальников, не имевшим равных себе по боевой энергии. Обладая редким чутьём в сочетании с отчаянной храбростью, он всегда сражался в самых опасных местах, имел девятнадцать ранений, правая рука его отнялась, но он и левой рубил врагов так, что внушал им ужас. В армии Бабиева обожали все, Кубанцы же, которыми он командовал, боготворили его и творили под его началом чудеса. Удача неизменно сопутствовала храброму генералу, но в этот раз изменила ему. Бабиев был убит в бою, и Кубанцы, лишившись любимого командира, потеряли сердце и растерялись. Утрата эта тяжело сказалась и на духе всей армии. Таким образом, возникло замешательство, нарушившее весь план, и без того рискованный и, принимая во внимание соотношение сил, рассчитанный на дух войск, быстроту и решительность их действий.
На следующий день после похорон Бабиева из Забайкалья пришла телеграмма атамана Семёнова, объявляющего о своём подчинении Врангелю и выражающего уверенность в близкой победе. Но ни это признание, ни признание Франции уже не могло заставить фортуну вновь обернуться к Русской армии лицом. Фактический приговор Крыму подписала Польша, заключив мир с Советами. Это был удар в спину, нанесённый с исключительным вероломством. Поляки делали вид, что соглашаются с планом Врангеля объединить фронт. В Крыму шли переговоры о совместных действиях, а в это время руководство Польши заключило мир с большевиками, о чём правительство Крыма известили лишь несколько дней спустя.
– Поляки в своём двуличии остались себе верны, – прокомментировал это Пётр Николаевич.
Силы красных были свободны, чтобы всей массой ударить по Крыму. С лозунгом «Все на Врангеля!» они хлынули на белый остров, числом, в семь раз превышающим весь наличный состав Русской армии, давя редеющие белые полки.
Армия отступала, оставляя отвоёванные у большевиков земли Северной Таврии. Красные ударили крупными силами в тыл со стороны Каховки. С польского фронта была переброшена конница Будённого. Тягаев выехал на фронт, дабы лично оценить создавшееся положение и донести о нём Главнокомандующему.
Даже природа изменила в эти дни Русской армии. Ударили жестокие морозы, доходившие до двадцати градусов, завыли метели, заметая дороги. В пути приходилось ориентироваться по телеграфным столбам, леденящий ветер валил с ног, резал снегом лица, слепил глаза. Бойцы не имели тёплой одежды: рваные мундиры, дырявые опорки и валенки, кожаные канадские безрукавки, присланные союзниками, совершенно не согревающие в такую стужу. Покрытые изморозью, с лицами, обмотанными каким-то тряпьём, коченеющие люди согревались крепким болгарским вином, толпились, переминаясь с ноги на ногу, у сложенных из шпал костров, десятки которых освещали мрак степи. Петру Сергеевичу показалось, что он снова вернулся в дни Сибирского Ледяного. Только здесь была степь, а не тайга, и под ногами вместо сугробов хлюпала грязь.
В Мелитополь, где располагался штаб армии, он приехал, когда город доживал последние дни. Спешно эвакуировались все учреждения, семьи офицеров, тянулись нескончаемые вереницы обозов, люди наскоро собирали пожитки и уходили по завьюженной дороге в Крым, под защиту перекопских укреплений, на которые ещё оставались смутные надежды. В Мелитополе Тягаев успел застать генерала Кутепова, обсудили наскоро положение, и Александр Павлович отбыл в расположение Дроздовской дивизии, на фронте которой скапливалась буденовская конница. Там суждено было произойти, вероятно, последнему славному бою белой армии. Подчинённые генерала Туркула задали буденовцам жару, застав хвалёную красную конницу врасплох. Было захвачено пятнадцать орудий, две тысячи пленных, включая собственный конвой усатого вахмистра, который едва не был захвачен сам и спасся, бросив коня и уехав на автомобиле. При большем количестве сил и большей решительности действий, утративших частично прежний напор после последних ударов, конница Будённого могла бы быть уничтожена, подобно жлобинцам. Но на это сил уже не достало.
Мелитополь опустел. Редкие прохожие были молчаливы, во взглядах их читался страх. Тих и печален стоял городской сад, где ещё недавно звучала музыка, и мелькали белые платья барышень. Только из ещё не закрытого кафе на главной улице доносилось протяжное:
– Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось…
И в опустевшем городе, замершем в ожидании врага, вослед уходящим войскам, ещё недавно почти уверовавшим в возможность победы, и беженцам, до последнего надеявшимся, что армия сможет защитить их кров, эта ария звучала тоскливым реквиемом:
– Помнишь ли ты наши мечты…
Под это заунывное пение Тягаев оставил Мелитополь.
Таврия была оставлена, и армия, оставив противнику громадные запасы хлеба, бронепоезда и оружие, откатилась на последний рубеж обороны, откуда начиналось весеннее наступление. Перекопские позиции не удосужились по извечному головотяпству достаточно подготовить для людей, которым предстояло их защищать. Вдобавок никто не ждал таких страшных и долгих морозов. Голод, холод, недостаток обмундирования и оружия – в который раз страдала от этого армия, компенсируя нехватку всего своей кровью, своей выдержкой и отвагой. Но и человеческие ресурсы не беспредельны, и Петру Сергеевичу было очевидно, что Перекоп не продержится долго. С этими неутешительными выводами он возвратился в Севастополь.
Крым ещё жил своей обычной мирной жизнью. В Симферополе открылся съезд представителей городов, в Севастополе готовились к съезду представитель печати. В магазинах и на базарах бойко шла торговля. Правда, при колоссальном падении курса рубля цены становились всё более заоблачными. Как всегда, полным-полны были театры, синематографы, кафе. Люди словно искали забвения от пугающей реальности.
Двенадцатого октября, когда началась битва в Северной Таврии, Врангель издал приказ, обращённый к армии и народу. Этот приказ впервые за всю историю борьбы чётко и ясно сформулировал Белую Идею. С этим приказом в руках вернувшегося с фронта Тягаева встретил Пётр Андреевич. Старик был сильно взволнован.
– Вот! – сказал он, ткнув пальцем в приказ. – Вот, то, что должно было быть сказано три года назад и что мы услышали лишь теперь, когда проиграли всё, – и, надев очки, стал зачитывать, выхватывая фрагменты из текста: – Благо и свобода народа, внесение в русскую жизнь оздоровляющих начал гражданского строя, чуждого классовой и племенной ненависти, объединение всех живых сил России и доведение военной и народной борьбы до желанного часа, когда русский народ властно выразит свою волю, как быть России…
Пётр Сергеевич уже читал этот приказ, но не прерывал старика, вслушиваясь в слова обращения, каждое из которых – словно из собственного сердца исходило.
– Для проведения этой программы мне нужны люди сильные духом, знающие народную жизнь и умеющие её строить. Партийная или политическая окраска для меня безразлична. Были бы преданы Родине и умели бы разбираться в новых условиях. Подбору таких стойких и умелых людей на всех ступенях государственной лестницы я придаю коренное значение. В правительственной работе, как и на фронте, вся суть в людях… Конечно, во всей полноте задача эта будет разрешена не нами, а временем и народом. Но и нам надо не ждать, а действовать… Наша цель – дать населению хлеб и порядок… В заботах материальных не забудем, что не менее хлеба насущного России нужна здоровая жизненная энергия. Будем беречь её источники – религию, культуру, школу. Будем готовить для России деятельную, знающую молодёжь и ревниво оберегать святыню народных надежд – Церковь, – Пётр Андреевич опустился на стул, спросил почти со стоном: – Ну, почему, почему так?! Почему только сейчас?! Боже, какой-то рок опаздывания! Последние годы мы только и делаем, что опаздываем! Во всём! Везде! И, вот, опоздали опять… Врангель – великий человек. Если бы Бог поставил его на его одного достойное место раньше!.. – в голосе старика звучало страдание. – Если бы эти такие простые идеи могли дойти до всех этих тщеславных идиотов, которые не будучи ни к чему способны сами, всю энергию тратили и тратят на то, чтобы мешать другим! Но нет! Они ничего не поймут! Даже катастрофа их ничему не научит! Партии и личные амбиции останутся выше всего! Выше России! И мы будем терпеть поражение за поражением… До тех пор, пока Белая Идея не укоренится в душах…
– У вас открылся дар прорицания? – грустно пошутил Тягаев.
– Это не прорицание. Это жизненный опыт старого человека, привыкшего в силу профессии работать с фактами и на них строить выводы. Это, друг мой, если угодно, мой вердикт в следствии по делу о гибели нашей страны. В ней виноваты, в первую очередь, не большевики, не германский генштаб, не масоны, а те, кто всю свою жизнь был занят не делом, а душепагубной болтовнёй, тешеньем своей гордыни, усобной сварой, порождённой мелочами и частностями при забвении главного и целого, раздранием риз распятой России, – не утратившие яркой синевы глаза старика блеснули. – Это они сгубили её! Те, кто не умели и не желали ничего делать сами, но старательно ставили палки в колёса тем, кто что-то делал. Россию сгубила триада, состоящая из гордыни, глупости и бессовестности. И эта триада процветает! И как ещё расцветёт… Они не примут Белой Идеи, как не приняли Христа. Потому что иной идеи, животворной идеи, опасной для них, нет. И с ней они будут бороться всеми методами. Огнём, мечом… А, главным образом, ложью.
Пётр Андреевич не ошибся. Опасность явленной Белой Идеи сразу поняли большевики. Крыма достигло интервью Ленина, данное им какому-то бельгийскому журналисту. В нём «вождь мирового пролетариата» честно признал, что единственной опасностью для Советской России является белая армия, поскольку русский народ может заразиться теми идеями, которые она несёт.
В эти дни «союзники», наконец, прислали большой транспорт с зимней одеждой для войск, которая немедленно была отправлена на фронт. Но всё это было опоздано, крах неумолимо приближался, и остановить его было вне человеческих возможностей.
Двадцать пятого октября Корниловский союз устраивал благотворительный концерт и вечер. Тягаев приехал на него, сопровождая Главнокомандующего. С фронта поступали самые грозные сведения, и в этой ситуации Врангелю меньше всего хотелось присутствовать на светском мероприятии, но отсутствие его на вечере полка, в списках которого Пётр Николаевич состоял с недавних пор, могло породить лишнюю тревогу и нежелательные объяснения, и ехать пришлось. В ярко освященном зале играла музыка, сменяя друг друга выступали артисты, в числе которых была и Евдокия Осиповна, занявшаяся в Крыму привычным делом – выступлениями перед ранеными в госпиталях и на фронте. Лишь её выступление заставило Тягаева очнуться от тяжёлых дум. Весь остальной вечер он не слышал и не замечал ничего, всем существом перенёсшись на фронт, где на перекопских позициях сражались таящие с каждым часом войска, а среди прочих – брат Николай, которого так и не случилось повидать в последнюю поездку.
Все мысли Петра Николаевича также были обращены к Перекопу. Он сидел на диване, внешне совершенно спокойный, смотрел на эстраду, но этот взгляд не видел происходящего на ней. Пронзая пространство, он был устремлён туда, к промёрзшему до дна Сивашу, предательски открывшему красным дорогу на Крым, к Чонгарскому полуострову, где шли кровопролитные бои, к своей погибающей, но не сдающейся армии. Однако умея прекрасно владеть собой, несмотря на природную импульсивность, Врангель не подавал виду, какие тягостные мысли и чувства мучили его весь этот вечер. Напрягая усилия, он заставлял себя улыбаться своей ободряющей улыбкой, говорить ласковые слова раненым, со всей галантностью оказывать любезности даме-распорядительнице. И всё это выходило не натянуто, и никто не мог догадаться, какая тревога владела сердцем Главнокомандующего.
И, вот, сутки спустя, случилось то, чего ожидал Врангель, сидя накануне в уютном зале, о чём уже знал он, что рвало душу, и чего он усилием воли не позволил понять никому. Фронт был прорван, армия отступала с перекопских позиций. Отдав распоряжения адмиралу Кедрову, Пётр Николаевич произнёс:
– Теперь нужно продержаться хотя бы несколько дней. Задержать эту лавину, чтобы успеть эвакуировать людей. Лишь бы продержаться… – повторил он и, подавив вздох, сохраняя наружное спокойствие поспешил возвратиться в зал, где проходило заседание правительства, которое пришлось покинуть при получении грозной кутеповский телеграммы.
Покинув дворец, Тягаев, прежде чем приступить к выполнению всех безотлагательных служебных дел, заехал домой, чтобы предупредить своих о случившемся. В гостиной он застал мать, Петра Андреевича и, к своему удивлению, Аню.
– Что? – тотчас спросил старик, поднимаясь навстречу. – Катастрофа?
– Да, – коротко ответил Тягаев.
Мать побледнела и поднесла руку к сердцу:
– Что теперь будет?
– Эвакуация. Причин для волнений нет. Мы хорошо подготовились к такому исходу…
– Что с фронтом? – спросил Пётр Андреевич хмуро.
– Фронт прорван, наши части отступают.
– Боже, что теперь с Николашей… – вырвалось у старика. Мать обеими руками сжала его ладонь:
– Я уверена, что с ним всё хорошо, скоро он будет с нами.
Пётр Сергеевич выпил чашку остывшего чая.
– Подожди, я вскипячу ещё, – поднялась было мать.
– Не нужно, я тороплюсь, – мотнул головой Тягаев. – Я лишь заехал предупредить вас. Соберите вещи, подготовьте Наталью Фёдоровну… Кстати, как она?
– Худо ей, – покачала головой мать. – Вот, спасибо Ане, что пришла. Помогла нам. А сейчас Евдокия Осиповна с ней. Вроде бы полегчало…
Час от часу нелегче было. Даже думать не хотелось, как перенесёт эта несчастная женщина эвакуацию. Наталья Фёдоровна была на шестом месяце беременности, которую переносила тяжело. И новые испытания могли привести к самым тяжёлым последствиям.
– Я очень тревожусь за неё, – сказала Аня. – Как бы хорошо ни была подготовлена эвакуация, но корабль есть корабль, а море есть море. Да и вряд ли при таком числе беженцев на судах удастся создать даже элементарные условия…
– Петруша… – мать посмотрела просительно, но ничего не сказала.
– Я сделаю всё, чтобы Наталья Фёдоровна, а, значит, и вся семья оказались на хорошем судне, – пообещал Пётр Сергеевич. Он никогда не просил ничего ни для себя, ни для своих близких, но в этот раз решился. В конце концов, жена героя-корниловца, доблестно сражавшегося в белых войсках с первых дней существования Добровольческой армии, ударника, прошедшего всю Великую войну, имела право на лучшие условия. Конечно, имели право и сотни других… Но, чёрт возьми, как смотреть в глаза брату, если что-то случится с его женой?
– Петруша, это точно?.. – голос матери прозвучал непривычно жалобно. Тягаев понял, что она боится тревожить его просьбами, зная сыновний характер. И одновременно боится, что он всё-таки не станет просить лучшего места, и придётся плыть в ужасных условиях. И боится не только за Наталью Фёдоровну, но и за мужа, за его больное сердце. И даже совестно перед ней стало за свою вечную суровость. Обнял, как мог, ласково:
– Не волнуйся. Я генерал Русской армии, помощник и близкий друг Главнокомандующего. И вам не придётся давиться в трюме какой-нибудь старой посудины. Я обещаю.
Лицо матери просветлело, и она выдохнула радостно, целуя Петра Сергеевича в щёку:
– Спасибо!
– Мне пора идти, – сказала Аня, поднимаясь. – Меня ждут раненые. Перед эвакуацией будет много хлопот. Надо будет разнести по госпиталям советские деньги, чтобы им хоть как-то выжить, когда большевики придут. Юрий Ильич уже обратился к Главнокомандующему, и он обещал выдать деньги… Ольга Романовна, я объяснила Евдокии Осиповне, что делать, если приступ повторится. Она имеет хорошие способности медицинской сестры, так что, думаю справится, и всё будет хорошо.
– Не знаю, как и благодарить тебя, Аня, что ты к нам пришла, – благодарно произнесла мать.
– За что же? – Аня устало улыбнулась. – Разве можно иначе поступить? Когда арестовали моего мужа, княгиня Барятинская пошла с нами к палачам, оставив раненого мужа и детей, а тут… – она махнула рукой. – Если что, зовите. С врачами сейчас трудно. Много раненых. Мы практически не успеваем спать. Но я приду.
– Я провожу, – Пётр Сергеевич вышел следом за свояченицей в прихожую. Аня выглядела очень усталой и осунувшейся, золотистая чёлка, выбивающаяся из-под платка, была продёрнута первыми серебряными нитями. Тягаев подал ей пальто, спросил, не зная, с чего начать разговор, о племяннике, раненом во время Заднепровской операции:
– Как там Родион?
– Уже почти здоров. Его поставили нести караул возле одного из складов. Когда его ранили, я заплакала… и обрадовалась. Ранение было не опасным для жизни, и я вздохнула с облегчением, что мой мальчик теперь хоть какое-то время будет в безопасности, не на фронте.
– Аня, я хотел сказать тебе… – Тягаев замялся.
– Что?
– Прости меня.
Свояченица удивлённо приподняла брови:
– За что?
– Ты знаешь, за что.
– Разве сейчас время об этом говорить?
– А об этом не нужно говорить. Просто скажи, что прощаешь меня. Пожалуйста.
Аня вздохнула, коснулась ладонью плеча Петра Сергеевича и, посмотрев ему в глаза, отозвалась:
– Она хорошая, твоя Евдокия Осиповна. Мы с ней сегодня познакомились. Я сначала не могла неприязни подавить, но, когда увидела, как она вокруг Наташи хлопочет… Светлая она, чистая. Так что я вам желаю счастья, Петруша. Бог простит… – на глаза её навернулись слёзы. – И Лиза тоже…
– Спасибо, Аня, – тихо сказал Тягаев. – Мне было очень важно услышать это.
Свояченица ушла. Пётр Сергеевич ещё на мгновение вернулся с гостиную и, простившись с матерью, поспешил на пристань, где уже шла лихорадочная работа. Фронт, а вместе с ним весь белый Крым доживал последние дни, и за них нужно было успеть ещё очень многое. «Ночи безумные, ночи бессонные…», – вспомнились оброненные Врангелем в одну из бессонных ночей слова…
Глава 28. Мгла
12 ноября 1920 года, Крым, дорога на Севастополь
Перед глазами снова маячила одна и та же страшная картина, не отпускавшая сознание уже третий месяц: бесконечная, куда ни кинь взор, жёлтая, выжженная солнцем степь с невысокими бугорками и балками, сплошь носящая на себе следы бойни: ободранные до красного мяса конские трупы и скелеты, свежие холмики с крестами и без, удушливый запах и целый рой мух. Каховка, громадная братская могила, в которой смешались и белые, и красные. Так и стоял в ушах грохот в неимоверном количестве стянутой туда красной артиллерии, выкашивавшей идущие на штурм белые полки. Полки Корниловцев в этих боях обратились в роты. Там, под Каховкой, Вигель получил контузию, которую не было времени лечить, и которая всё чаще напоминала о себе теперь. Там остались лежать многие его друзья. Каховка не отпускала Николая, и даже адские дни отступления и обороны Перекопа не смогли потеснить её до черноты кровяной тени.
К Перекопу Корниловцы подошли, поредев ещё более после боёв в районе Знаменки. Там красные переправились через Днепр и неожиданно атаковали дивизию. Ждать помощи было неоткуда, Марковцы, которые должны были подоспеть, отчего-то задержались, и тяжелейший удар Корниловцам пришлось встретить в одиночку. Как волны бушующего моря накатывали из-за Днепра полчища красных, они двигались, как мгла, как тьма, их атаки становились всё жёстче, и дивизия истекала кровью. К моменту подхода Марковцев от неё осталось не более трети.
Эта-то треть численностью в восемьсот штыков и добралась до Перекопа, напоследок огрызнувшись вместе с удалыми Дроздовцами и в очередной раз потрепав прорвавшихся с Каховки в тылы будёновцев.
Четвёртого ноября белые части заняли первую линию Сиваш-Перекопских позиций. Сколько говорено было об их неприступности, а на деле совсем иначе вышло. И могли бы быть неприступны эти позиции, если бы тыловые шкуры хоть раз подумали о людях. Что стоило подготовить обшитые, рассчитанные на зимние холода окопы вместо грязных канав, в которых невозможно было находиться в двадцатиградусный мороз?! Ни землянок, ни блиндажей, ни складов, ни дров, ни колодцев. За неимением воды лошадям приходилось есть снег. Для согрева жгли костры, разводя из соломы, заготовленной местными жителями. Солому же подкладывали под одежду за неимением тёплых вещей. Даже провиант приходилось искать самим в окрестных селеньях. Но не только о людях не подумали господа тыловики, но и самих укреплений не удосужились соорудить, как следует. Перекопские укрепления не могли выдержать огня тяжёлых, а во многих случаях и лёгких батарей. И своей артиллерии порядочной не было. Тяжёлых орудий так и не прислали «союзники». Обходились обычными полевыми, а многое ли могли они против прекрасных орудий красных, в которых они не знали недостатка? Только и сделали, что опутали колючей проволокой все холмы, берега озёр – буквально каждый клочок земли…
А ещё и Сиваш предал. Сивашские солёные озёра отделяли Крым от большой земли лучше любых укреплений. Всего три перешейка соединяли его с материком. Перекоп, Чонгарский мост и Арбатская Стрелка. И на оборону их сил могло бы ещё достать, но Сиваш промёрз до самого дна, в разы растянув фронт.
Бои шли и днём, и ночью, слившись в одну нескончаемую сечу, в которой спутались дни, утратился счёт времени. Большевики бросили на Перекоп все силы: пехоту, конницу Будённого, артиллерию. А к тому и махновские банды, ещё недавно при Заднепровской операции бывшие на стороне белых. Красные части сменяли друг друга, но истаявшие полки Русской армии сменить было некому. Из-за страшного холода невозможно было спать дольше двадцати минут, которых хватало, чтобы закоченеть телу, и люди изнемогали до безразличия ко всему.
В эти дни нежданно-негаданно встретил Вигель старого знакомца – Адю Митрофанова. Они не виделись со времён Ледяного, и Николай вряд ли узнал бы теперь своего спасителя, превратившегося из мальчика в крепко сложенного молодого человека, настоящего богатыря. Но тот подбежал сам:
– Здравия желаю, господин подполковник! – и радостью осветилось лицо. – Вы не узнаёте меня? Вольноопределяющийся Митрофанов. Аркадий. Помните, как мы с вами бежали от большевиков в Восемнадцатом? Помните?
– Здорово, здорово! – Вигель с удивлением рассматривал рослого вольнопёра. – Вы как же здесь? А впрочем, всё равно. Рад видеть вас живым и невредимым!
– Николай Петрович, у меня мясо есть, – неожиданно сообщил Адя. – Немного. Хотите? Всё-таки такая встреча!
– Не устаю вам удивляться, Митрофанов! Откуда только у вас такая находчивость?
– Просто мне везёт, – улыбнулся вольнопёр.
– Ну, что ж, в таком случае принимаю ваше щедрое предложение с благодарностью. Отметим нашу встречу!
Пиршество, устроенное стараниями Митрофанова, показалось по истине царским. Мясо пожарили на вертеле и разделили пополам, присыпали сгоревшим порохом валявшихся вокруг гильз за неимением соли. Вспоминали незабвенные дни Ледяного похода, всех, кто был тогда рядом.
– Надо же, – с грустью заметил Адя, – почти никого и не осталось из первопоходцев. Мы с вами из последних уцелевших.
– Надолго ли, вот в чём вопрос, – вздохнул Вигель, прислушиваясь к нарастающему грохоту боя.
– Мне, в общем, всё равно, – Митрофанов отшвырнул в сторону пустую гильзу. – Убьют, так убьют. Всё равно меня оплакивать некому. Мать год как померла, а больше и не было никого. Мне терять нечего.
– Зря вы так, – покачал головой Николай, раскуривая от тлеющего костра папиросу. – Что вы видели в жизни, чтобы так уж не дорожить ею? Вы бывали, к примеру, влюблены?
Адя не ответил, и Вигель продолжал:
– Вы ещё очень молоды. Поверьте, что жизнь не исчерпывается войной, жестокостью и всей этой грязью. Вам есть, что терять. И больше, может быть, чем многим, кого есть кому оплакивать. У вас есть будущее, есть масса неизведанного впереди. И этим стоит дорожить.
– Что же это за будущее без России?.. – тихо спросил Митрофанов.
– Не знаю… – честно признался Николай. – Но уверен, что оно есть.
Он никогда не думал так часто о будущем, как в последние месяцы. Потому что отныне его будущее вдруг получило продолжение, его будущее стало не только его, но будущем ещё не явившегося на свет существа, его сына или дочери. Ребёнка, которому суждено будет возрастать на чужбине, зная о своём Отечестве лишь по рассказам старших. Как сложится его судьба? Вигель то и дело возвращался к этим мыслям. Душу разъедало вдобавок беспокойство за Наташу. В последний раз они виделись два месяца назад. И встреча эта была величайшей неожиданностью.
В начале сентября в немецкую колонию Кронсфельд прибыл для вручения Корниловской дивизии знаменитого знамени Георгиевского батальона Главнокомандующий. Стоял солнечный, тёплый день. Корниловцы выстроились вдоль огромной площади, и Врангель в сопровождении Кривошеина и иностранных представителей обошёл фронт, приветствуя войска. Гремела музыка, неслось волнами бодрое «ура». С речью выступил митрополит Антоний, читавший в ту пору Корниловцам лекции. И как бальзамом по сердцу были слова:
– Я верю, что это славное знамя вскоре увидит золотые маковки московских церквей!
Затем служили молебен, на протяжении которого Главнокомандующий вместе со своими воинами стоял на коленях, а вокруг суетились корреспонденты, торопящиеся запечатлеть эту картину.
– Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, воинам, на поле брани живот свой положившим: болярину Лавру, воину Митрофану и всем корниловцам, и сотвори им вечную память! – при этом скорбном возгласе на колени опустились и представители «союзников». И затем вся коленопреклонённая площадь пропела торжествующее «Многая лета» русскому воинству.
После молебна Врангель выступил вперёд и, оглядев площадь, на которой застыли, сияя штыками, войска, заговорил с каким-то особым надрывом, захлёстывающей силой, заставляющей дрожать и рваться из груди сердца слушавших:
– Орлы ратные, Корниловцы! Сегодня впервые после зачисления в ваши славные ряды довелось мне увидеть вас. Сегодня привёз я вам, достойнейшим из достойных этой чести, знамя бывшего Георгиевского батальона – батальона храбрых, которым оно было вручено самим Корниловым, чьё бессмертное имя носите вы – бессмертные Корниловцы. На этом знамени начертаны слова, которые носил в своём сердце Корнилов, которые носите у себя в сердце вы – «Благо родины превыше всего», – голос генерала звучал немного надорванно, и от этой надорванной мощи ещё сильнее казалось, что этого голос – всей Русской армии, олицетворением которой был Главнокомандующий. – Благо родины, орлы Корниловцы, это то, за что лучшие сыны её три года уже орошают своею кровью её поля. Это то, что заставляет вас пренебрегать холодом, голодом. Это то, ради чего вы несётесь через тучи пуль к победе, не считая врага. Я вручаю вам это знамя храбрейших, на котором изображён орёл, расправивший свои могучие крылья, – ваш прообраз, Корниловцы. На этом знамени георгиевские ленты и георгиевский крест, украшающие груди русских храбрецов. Достойнейшая награда попадает вам, орлы Корниловцы, и я знаю, что вы вполне достойны её. Орлы! Одним криком, криком русского солдата могучее корниловское «ура!» нашей страдалице, матери России!
И всё потонуло в могучем крике многих сотен голосов. А затем начался парад, проведённый полураздетыми и полуразутыми бойцами так, точно это старая гвардия маршировала по Марсову полю…
Вместе с Врангелем приехал в тот день и брат Пётр. Николай сразу заметил его в свите Главнокомандующего. Но покуда длились официальные мероприятия, никак нельзя было поприветствовать друг друга. А после их окончания генерал Тягаев сам поспешил разыскать Вигеля. Спросил перво-наперво, ещё во время построения разглядев замотанную бинтами голову Николая:
– Что это с тобой? Ты ничего не писал нам о ранении.
– Не хотел попусту волновать. Это память о Каховке…
– Я так и подумал, – Пётр поправил очки: всегдашний жест, выдававший его волнение или неловкость.
– Подумал… – не удержался Вигель от гримасы. – Ты прости меня, Пётр, но ни ты, ни весь ваш штаб не имеете понятия, что такое Каховка. Вы не представляете себе те горы трупов, которые мы укладывали при каждой атаке каких-нибудь двух рядов проволоки! И почему?! Только потому что у нас нет достаточного количества снарядов, чтобы позволить себе роскошь просто разнести её к чертовой матери! Я вынужден был считать каждый снаряд, который выпускала моя батарея… Человеческая жизнь не ставится ни во что. Лишь бы лишнего патрона не истратить… А жизнь – пустяк! Жизнями любую брешь заткнуть можно! Телами… А только не хватит их! Столько жертв… И никто не догадывается! И не хочет знать!
– Ты не прав, Николай, – качнул головой брат. – В том, что никто не знает. И не думаешь же ты, что, если бы была возможность, артиллерия не была бы послана. Но у нас нет её! Эти сукины дети, всю войну отсиживавшиеся за нашими спинами, не присылают нам обещанной помощи.
– Зато они присылают её большевикам!
– Я знаю.
– Мерзавцы… Они, как и наши шкурники, чувствуют, где сила. А она не за нами. Ты видел, во что одеты наши части? В отрепья! В то, что удалось достать! Найти подмётку для сапога – уже не решаемая задача! – Вигель распалялся с каждым словом, вся боль, накопленная за время каховской бойни, неудержимо рвалась наружу.
– Кое-кто боится, что это может произвести скверное впечатление на союзников, – по сухим губам Петра скользнула недобрая усмешка. – Как будто бы мы должны краснеть за это. Это они должны были бы стыдиться, если бы у них был стыд. Разве фокус сражаться, когда есть всё? А с голыми руками на рожон попробуй-ка! Но у них нет стыда. Не было в Сибири, нет и здесь. А ведь если бы нам дали просимое, то уже бы и тени большевизма не осталось! – он махнул рукой. – Однако, довольно об этом. Не думай, что мы слепы и глухи, и не понимаем, что приходится переживать войскам. Я сам прошёл через всё это и, поверь, в ещё худших условиях, так что мне не нужно тыкать в лицо всеми ранами армии, я знаю их, как свои собственные. Я приехал сегодня нарочно, чтобы повидать тебя. И приехал не один.
– Вот как? С кем же?
– Идём, увидишь.
Сумасшедшая догадка шевельнулась в душе Николая и, взволнованный, он последовал за братом, крупными шагами направившегося к одному из домов колонии. У самой ограды Вигель остановил Петра:
– Погоди! Ты приехал с Наташей? Она здесь?
– Здесь, – кивнул генерал. – Наталья Фёдоровна настояла, чтобы я взял её с собой. Я не мог ей отказать.
Николай крепко пожал Петру руку и почти бегом бросился к дому. Никак не мог он ожидать от Наташи такой отваги. Проделать такой путь, приехать на фронт! Да ещё в её положении! И тревожно было, не скажется ли худо на её здоровье? И радостно, что привел Бог увидеться.
Она ждала его в просторной, светлой, по-немецки аккуратной комнате, и Вигелю сразу бросилась в глаза непередаваемая перемена в её облике. Её фигура ещё не утеряла стройности, и, если даже были какие-то признаки, то тёмное платье надёжно скрывало их. Но переменилось нечто в лице Наташи, в её взгляде. Что-то было в ней новое, незнакомое. И делающее её ещё прекраснее, несмотря на некоторую бледность и усталость лица. В ней не было прежней метущести, разбросанности, расколотости. Она как будто погрузилась в себя, собралась, и оттого выглядела необычайно спокойной. Увидев мужа, встрепенулась:
– А я уже заждалась тебя! – улыбнулась мягко, но тотчас встревожилась, спросила, коснувшись рукой бинтовой «чалмы»: – Ты ранен? Почему ты не написал?
Вигель перехватил её нежную, золотистую от лёгкого загара руку, пахнущую чем-то душистым, ответил, целуя её:
– Пустая царапина, потому и не писал.
– Знаю я ваши пустые царапины, – чуть улыбнулась Наташа.
Николай коснулся щекой её мягких волос:
– Как ты доехала? Не очень устала?
– Почти совсем не устала. Пётр Сергеевич очень заботился об этом. Я думала, ты рассердишься, что я приехала, будешь ругать меня.
– Конечно, буду, – рассмеялся Вигель. – Ведь это чистое сумасбродство! Но прежде мне следовало бы сердиться на Петра, что он тебя от него не отговорил.
– Он очень старался, правда. И он, и Пётр Андреевич, и Ольга Романовна… Они все меня отговаривали! Только Дотти была на моей стороне.
– Дотти?
– Евдокия Осиповна.
– Так вот, кто повлиял на брата! Теперь всё ясно!
– Всё-таки сердишься?
– Нет, – честно ответил Николай. – Я очень скучал по тебе, и очень рад видеть. И ты настоящая молодец, что приехала.
Лицо Наташи осветилось радостью. Выдохнула с сияющей улыбкой:
– А я не могла не приехать! Даже если бы все-все были против! Я должна была увидеть тебя. И когда Пётр Сергеевич сказал, что едет сюда, я ни секунды не колебалась.
– Ты умница.
Никогда ещё не приходилось Вигелю видеть Наташу такой. Помолодевшей, жизнерадостной. Смотрел и не мог наглядеться. А она говорила. Рассказывала о жизни в Крыму. О семье. Глядя на неё такую, впервые подумалось, что счастье ещё вполне возможно. И так не хотелось расставаться вновь! Выпускать из объятий эту жар-птицу, воскресшую от своей болезненной тоски и озарившей его душу, полную разлада и скорби после Каховки.
А время для встречи было отпущено совсем мало. Правда, Пётр нарочно задержался на день, проводив Главнокомандующего со всей его свитой, но дольше оставаться не мог. Дела звали его в Севастополь. Николай был бесконечно благодарен брату за этот подаренный день счастья, счастья, которого он ещё не знал. Прежде редкие радостные часы, проведённые с Наташей, никогда не были счастливыми вполне, так как их отравляла её глубинная тоска, её нервозность. Прежняя Наташа не была счастлива сама, а, значит, и Вигелю передавалась её несчастливость. Новая Наташа стала его воплощённым счастьем. От неё ему не захотелось бы бежать через несколько дней. И даже через несколько месяцев. И никогда больше. Только теперь она и стала, наконец, его частью, его женой, половиной, без которой нет полноты жизни.
Прощались в этот раз, как никогда долго. Наташа никак не хотела отпускать его, приникнув к нему, не говоря не слова. И ему невмоготу было оторвать от себя это бесконечно дорогое существо. Пётр переминался с ноги на ногу, нервно курил, посматривая на часы, но стеснялся прервать затянувшееся прощание. Наконец, он не выдержал, кашлянул в кулак:
– Прошу прощения, но уже пора…
Брат сел в автомобиль, и Вигель усадил в него жену. Однако, она всё сжимала его руку, в глазах её читалась немая просьба побыть с нею ещё хотя бы немного. Николай сел рядом с женой и проехал немного. Когда Кронфельд остался позади, он крепко обнял её:
– До свиданья, счастье моё! Я люблю тебя больше, чем когда-либо! Береги себя! Слышишь? Обещай мне!
– Обещаю, Николенька.
Первый раз по имени назвала, даже сердце ёкнуло…
– Ты береги себя! Для нас береги! Мы тебя ждать будем! – добавила ещё, целуя.
В этот момент Вигель сделал знак шофёру остановиться и спрыгнул на землю. Напоследок успел пожать ещё руку брату. Сказал ему, словно завещал:
– Береги Наташу! Заботься о ней! И если…
– Не надо, – прервал Пётр, поняв, каково будет продолжение. – Я обещаю.
Автомобиль тронулся, быстро набирая скорость, и клубы поднятой пыли окутали его. Пешком Николай возвратился в Кронфельд, чтобы допить до дна скорбную чашу последних месяцев борьбы.
Дном этим стал Перекоп, на позициях которого Корниловцы сменили части генерала Слащёва. Оборонявшие это время Сиваш Дроздовцы были атакованы красными, обошедшими дивизию с правого фланга по предательскому льду. Пришлось спешно отступать на Юшуньские позиции, последний рубеж обороны Крыма. Вал за валом накатывали красные, контратаки, проводимые белыми частями, уносили бесчисленное количество жизней, но не могли изменить положения, армия захлёбывалась в крови. Красное командование не жалело и своих людей. Сутками напролёт они лезли на укрепления под сплошным огнём, устилали собой землю, падая в серебристый от инея бурьян, висли гроздьями на колючей проволоке. В их лицах читалось безумие, словно они были пьяны, словно не понимали происходящего. Их гнали на смерть, и они шли с остекленевшими глазами и гибли, гибли. И кошмарно было, что при такой массе жертв их полчищам не было конца, и убитых сменяли свежие силы, ни днём, ни ночью не ослабляющие натиска.
При приближении красных Корниловцы выбирались из своих окопов и ложились перед или сзади них. Из окопов было плохо видно противника, вдобавок тяжело вылезать, из-за чего при близком подходе красных можно было просто не успеть выбраться. Силы были истощены до предела. Вигель забыл, когда спал последний раз, оглох от грохота орудий, от которого сутки напролёт дрожала и стонала земля.
Наконец, десятого ноября на смену Корниловцам на Юшуньские позиции пришли Дроздовцы. Эти чудо-богатыри ринулись в свою последнюю атаку. Пошли в полный рост под огонь пулемётов. Винтовки на ремнях, в зубах – потухшие папиросы. Казалось, красные сметут огнём эту горсть отважных, но произошло то, что бывало много раз раньше, ещё во времена знаменитых психических атак генерала Маркова. Дух одержал верх над массой, и красные отступили, бросив полторы тысячи пленных. Однако, развить этот успех возможности не было. Корниловцы уже не имели сил поддержать атаку, конницы не было. Большевики прорвались в тыл, и Дроздовцы вынуждены были отступать под перекрёстным огнём.
Прорвавшихся в тыл красных встретили на своём пути Корниловцы. В темноте не сразу разобрали, завидев идущие цепи, свои они, или вражеские. Лишь сблизившись, узнали друг друга, и жарко пришлось бы, если бы подоспевший бронепоезд «Георгий Победоносец» не расстрелял большевистские полчища из всех своих орудий и пулемётов. Под его прикрытием продолжили отступление.
Остатки дивизии отступали на Севастополь. На другой день по оставлении Юшуни был получен приказ Главнокомандующего, в котором предписывалось всем частям двигаться в направлении портов, назначенных каждой из них для погрузки. Это был конец. Конец борьбы. Конец Русского анклава на Русской земле. Впереди уцелевших ожидала чужбина.
С тягостным чувством шли весь день, отмеряя шагами усталых и замёрзших ног последние вёрсты родной земли. На ночь остановились в одной из деревень. Вигель разместил свою батарею на окраине и, наскоро перекусив, улёгся спать на полу занятой избы, и тяжёлый сон окутал его голову. Третий день Николай был сильно простужен, его душили припадки кашля, тело ломило, и время от времени начинала бить лихорадка. Этой же ночью он томился от жара. Голова горела, мучимая видениями каховских боёв. Внезапно сквозь эту горячечную муть прорвался голос Митрофанова:
– Господин подполковник, проснитесь! Господин подполковник!
Явственно слышался голос, но не было сил открыть глаз, отозваться.
– Господин подполковник! Николай Петрович, проснитесь! Нас оставили, слышите? Дивизия ушла без нас! – Адя уже десять минут тряс Вигеля за плечо, пытаясь разбудить. – Да проснитесь же! – взмолился.
Наконец, подполковник с усилием приподнялся. Лицо его пылало и было покрыто крупицами пота, волосы прилипли ко лбу.
– Что случилось, Митрофанов? – спросил хрипло.
– Дивизия ушла в Севастополь, а нас забыла!
– Как так? – Вигель резко поднялся. – Что значит забыла?
– Дежурного нашего сморило, он не видел, как она ушла. Я проснулся, выхожу, а дивизии нет. Только мы остались…
С уст подполковника сорвалось непечатное слово. Он быстро вышел на улицу, где уже собрались батарейцы во главе с Роменским. Адя последовал за ним.
Всего лишь неделю служил Митрофанов при вигилевской батарее, а в Корниловской дивизии – несколько месяцев. Вечный юнкер, вечный доброволец, вечный вольнопёр, он так и не вышел в офицеры, в очередной раз сорвавшись из училища на фронт. По окончании Ледяного похода Адя, как и другие кадеты-чернецовцы возвратился в родные стены Донского кадетского корпуса. Но в них не оставляло его тягостное чувство. Каждый раз, входя в класс, он словно наяву видел на опустевших местах погибших друзей. Сколько их было! На первом занятии батюшка Тихон Донецкий, уважительно называемый в Новочеркасске Златоустом, обвёл глазами класс и, сев за преподавательский столик, тихо заплакал:
– Бедные мои дети… Ведь здесь ещё недавно сидел Ваня… а там Володя… и Павлик…
Уцелевшие принялись рассказывать ему о судьбе каждого, кого не досчитались за партами. Все они были убиты или ранены в разных партизанских отрядах. Батюшка слушал, не перебивая, и слёзы катились по его щекам, таяли в бороде.
Корпус Митрофанов всё-таки закончил, хотя всё время учёбы единственным его желанием было возвратиться на фронт, сражаться с большевиками. А дела на фронте как будто бы и без него шли отменно. И не без огорчения, как некогда в Германскую, думалось, что война может окончиться раньше, чем он попадёт на неё. По окончании корпуса кадетов ожидало училище, но юнкером Адя пробыл лишь месяц, а затем всё-таки сорвался на фронт, где к тому времени пришла чреда неудач. Его мечтой было служить в Корниловской дивизии. Давно сложил голову на Кубани незабвенный её Шеф, но его образ Митрофанов по-прежнему хранил в сердце, а потому грезил именно о дивизии, носящей его дорогое имя, именно в её рядах чаял сражаться с ненавистным врагом. Эта мечта сбылась в Крыму. Здесь, оправившись после тифа, Адя поступил вольноопределяющимся в ряды Корниловцев, и красная фуражка, наконец, увенчала его голову. Первые победы окрылили. Везде, куда приходили белые, люди встречали их с распростёртыми объятиями, жалуясь на большевиков:
– Уж как они нам опостылели!
И то не было заискиванием перед силой, что подтвердило отступление. Население оставляемых городов и деревень провожало уходящую армию со слезами. Толпились вокруг, просили:
– Возвращайтесь скорее! – и спрашивали тут же: – Вернётесь ли?
– Вернёмся! Поборемся ещё! – отвечали некоторые, и в их числе Митрофанов, другие молчали.
А под занавес, наконец, свела судьба с человеком, которого искал повидать. С подполковником Вигелем, старым Корниловцем, своими глазами видевшим самое начало борьбы, ещё в Могилёве зарождавшейся. Вигель казался Митрофанову живым воплощением духа первых Ударников, из которых мало кто уцелел. Он был той связующей ниточкой, которая вела к покойному Вождю. О нём Николай Петрович рассказывал однажды во время краткой передышки на перекопских позициях, и Адя слушал, ловя каждое слово. Вспомнили после и братьев Рассольниковых, и взгрустнулось Митрофанову в который раз, что нет рядом лучшего друга. Доживи он до этих дней, и воспел бы их в своих стихах. А ничего не успелось… Только одно – погибнуть за Россию.
Отстав от своей почти переставшей существовать части, Адя остался при батарее Вигеля. Накануне был получен приказ об эвакуации, и всего ничего осталось пути до Севастополя, где ждали готовые к отплытию суда, а вот надо же было влопаться на последних верстах! Проспать отход дивизии! И хороши же они! Отчего ушли в такой спешке, что целую батарею потеряли?
Николай Петрович напряжённо вглядывался воспалёнными глазами в ночную мглу:
– Чёрт побери, хоть бы знать, по какой дороге из двух ушли наши… – пробормотал.
– Господин подполковник, какие будут указания? – спросил поручик Роменский.
– Строимся и выступаем немедленно. Не ждать же здесь «товарищей»!
– По какой дороге?
– Рискнём пойти по главной, – пожал плечами Вигель, постукивая зубами от озноба.
Построились, несмотря на усталость, мгновенно. Страх, липкий, как мгла, подступал к сердцам. Во мраке едва можно было разглядеть полотно шоссе, идти приходилось чуть ли ни ощупью. И неизвестно, что делается вокруг. Нет ли рядом красных. И как далеко ушли свои – тоже один Бог знает. Одни, совершенно одни оказались батарейцы среди бескрайней ночи на пустой дороге. Шли спешно, впотьмах натыкаясь друг на друга. При первых проблесках рассвета до чуткого слуха Митрофанова донёсся неясный гул.
– Конница! – вырвалось у него.
– Где? Типун вам на язык, вольноопределяющийся! – нахмурился Роменский.
Адя приподнял руку, вслушиваясь в тишину. Гул стал явственней, и на горизонте показались всадники.
– Проклятье! – воскликнул Вигель, спрыгивая с подводы и глядя в бинокль. – Поздравляю вас, господа, это красные. Орудия с передков! Живо!
Засуетились, снимая и развёртывая по направлению надвигающейся конницы немногочисленные орудия.
– Николай Петрович, снарядов больше нет, – упавшим голосом доложил Роменский.
– А пулемёты? Пулемёты ещё не перевелись?
– Никак нет.
– Значит, ими и встретим голубчиков. Помирать, так с музыкой…– процедил сквозь зубы Вигель.
– Смотрите! Там поезд! – вскрикнул Адя, указывая рукой в другую сторону. Там на самом горизонте завиделся дымок паровоза.
– Это только наш может быть, – сказал Николай Петрович.
– Может быть, вспомнили о нас? – с надеждой спросил Роменский. – Может, это наш «Георгий Победоносец»?
Вигель взглянул на надвигающуюся красную лавину:
– Может быть, поручик, но это неважно, потому что конница будет здесь раньше него, – резко обернувшись, он произнёс решительно – Виктор Кондратьевич, слушайте приказ. Берите людей и бегите к поезду.
– А вы?.. – голос Роменского дрогнул.
– А я прикрою ваш отход.
– Нет, господин подполковник… Я не могу…
– Не рассуждать! – грозно крикнул Вигель. – Исполняйте приказание, поручик! Ну!
Виктор Кондратьевич поник плечами.
– Прощайте, Николай Петрович… – и, взяв себя в руки, воскликнул командно: – Батарея, за мной!
В то мгновение, когда вся батарея ринулась к приближающемуся поезду, Вигель бросился к пулемёту. Конная группа красных была уже совсем близко, и с её стороны раздались первые выстрелы. Ответом ей был лай одинокого пулемёта, который заставил её несколько замяться. Через несколько мгновений громыхнули орудия подошедшего бронепоезда. Вскочив последним на подножку вагона, Адя обернулся, надеясь увидеть догоняющего батарею командира, но увидел его неподвижно лежащим на земле у замолкшего пулемёта.
– Господин поручик! – воскликнул Митрофанов, обращаясь к Роменскому. – Николай Петрович ранен. Разрешите мне пойти и помочь ему!
По бледному лицу Виктора Кондратьевича скользнула страдальческая гримаса. Ему, вероятно, всего больше хотелось, чтобы поезд скорее тронулся, и тем завершилась бесконечная чреда боёв последних недель. Но разрешил:
– Ступайте! Но только быстрее!
Адя соскочил на землю и бегом, пригибаясь от долетавших со стороны маячивших вдалеке, не решаясь приблизиться, красных, выстрелов, бросился в Вигелю. Подполковник лежал ничком, подобрав под себя левую руку. Ею он заслонил рану в груди, кровь из которой залила его мундир. Николай Петрович ещё дышал, и Митрофанов, не медля ни секунды, взвалил его на плечи:
– Ничего, господин подполковник, ничего. Мы ещё поборемся, мы ещё… Я вынесу вас, господин подполковник. Вы слышите меня? Николай Петрович, поезд совсем рядом. Скоро мы будем в Севастополе, и вы поправитесь. Тут недолго, тут совсем чуть-чуть… Уже сейчас… Вы потерпите, господин подполковник… – бормотал он, таща командира к стоявшему под порами бронепоезду, на подножке которого мялся нервный поручик Роменский.
Внезапно Адя почувствовал жгучую боль в спине, как будто бы что-то ужалило, пронзило насквозь. И в тот же миг отказали ноги, и Митрофанов рухнул на землю. На несколько минут он лишился сознания, а когда открыл глаза, то увидел удалявшийся поезд и надвигающихся конников. Ног своих Адя не чувствовал, а от страшной, разрывающей спину боли хотелось заорать благим матом. Вигель лежал рядом, и по мертвенно бледному его лицу трудно было угадать, жив ли он ещё. Совсем близко стучали копыта, уже можно было различить лица приближавшихся большевиков…
Сделав над собой усилие, Митрофанов вытащил из кобуры командира его револьвер, стиснул в руке.
– Ничего, Николай Петрович, обождите… Ещё чуть-чуть, ещё совсем недолго… Мы ещё поборемся, господин подполковник… И отбросим их, слышите? Мы снова освободим Дон… И Кубань… И возьмём Москву. Вашу Москву, Николай Петрович. И вы станете генералом, как ваш брат… Мы победим, господин подполковник. Мы же с вами Первопоходцы, мы же Корниловцы… Мы ещё поборемся… Сейчас…
Громадный конник навис над Адей, и он нажал на курок. Большевик безжизненно свесился с седла. Тотчас подлетело ещё несколько красных с тускло мерцающими в сумрачном рассвете шашками. Ещё трижды успел выстрелить «вечный юнкер» Адя Митрофанов, прежде чем оглушительный удар по голове не погасил навсегда свет в его ещё почти ничего не видевших в жизни глазах…
Глава 29. Слава побеждённым!
14-17 ноября 1920 года. Крым
«Русские люди! Ведя неравную борьбу с угнетателями, Русская Армия защищала последний клочок России, на котором сохранились закон и справедливость. Сознавая свою ответственность, я с самого начала стремился учесть возможное развитие событий. Я приказал произвести эвакуацию всех, кто последует за Русской Армией в её пути на Голгофу: семьи солдат и офицеров, государственных служащих с семьями и каждого, кому угрожает опасность, если он попадёт в руки врага.
Посадка на корабли будет происходить под контролем армии, знающей, что суда для неё готовы и ждут в портах, согласно ранее утверждённому плану. Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы выполнить свой долг перед армией и населением.
Нам неизвестно, что ожидает нас в будущем.
У нас нет иной земли, кроме Крыма. У нас нет дома. Как всегда откровенно, я предупреждаю о том, что вас ожидает.
Господи! Дай нам сил и мудрости преодолеть и пережить это страшное для России время».
Этот приказ Главнокомандующего был подобен грому среди ясного неба. Никто не ждал такой внезапной и скоропостижной катастрофы. Севастополь преобразился в считанные часы. Озабоченные люди заполнили улицы, все спешили на пристань, где началась погрузка. Магазины продолжали торговлю, взвинтив цены до последнего предела. За хлебом выстроились длинные очереди. Многие искали валюту, готовые отдать за неё всё, но валюты не было. Кое-где вспыхнули беспорядки, но их быстро подавили. Только и остался лежать напоминанием убитый на Нахимовском проспекте. Пробегавшие мимо осведомлялись друг у друга, кто это и за что убит, но никто не ведал ответа. На одной из пристаней застрелили офицера, пытавшегося ссаживать уже погрузившихся. На просьбу представителей города о поддержании порядка, Врангель, как рассказывали ответил: «Я прикажу расстрелять ещё сотню, но наведу порядок!»
Порядок вскоре, в самом деле, был восстановлен. Чувствуя твёрдую руку, население немного успокоилось. Успокоилось и море, на котором воцарился штиль, давший возможность использовать большее количество судов. Успокоилась и погода, так свирепствовавшая последние дни. Морозы отступили, и на небе воссияло солнце, словно благословлявшее покидающих Родину в дальний путь.
Утром Родя Марлинский побывал на пристани, где спешно шла погрузка лазаретов. Мельком видел доктора Лодыженского, дни и ночи напролёт хлопотавшего об эвакуации раненых, проведал мать. Мать работала неутомимо, самозабвенно, но стоило прерваться, и тоска отражалась на её посеревшем от усталости лице. Родя знал, что среди сестёр шёл спор, покинуть ли Крым или остаться и, как в Киеве, помогать будущим заключённым большевистских тюрем. Решение матери было категорическим – уезжать.
– Ещё одного Киева я не вынесу, – сказала она.
Оставаться в Крыму считал совершенным безумием и Юрий Ильич, и его мнение, во многом, повлияло на то, что сёстры пришли к согласию и решили эвакуироваться все.
В нагромождении бесчисленных дел, в общей суете трудно было сосредоточиться, вполне осознать трагедию этих последних часов. Родя, недавно оправившийся от ранения, не остался в этот день без дела. Своим приказом главнокомандующий воспретил порчу и уничтожение казённого имущества в случае оставления Крыма, так как оно принадлежит русскому народу. Находившееся на складах имущество необходимо было охранять. Прежде всего, от мародёров. Роде достался пост на Екатерининской улице, на углу Синопской площади, где был расположен военный склад. Что стало с этой прекрасной, чистой улицей! Запруженная вначале беженцами, вскоре она опустела, и только голодные лошади, выискивающие кусок сена и грызущие кору, бродили по покрытой навозом и мусором мостовой, между брошенных телег и сломанных деревьев. Эту мрачную картину дополнила явившаяся вдруг ватага грабителей, среди которых было несколько человек с офицерскими погонами. Без лишних разговоров они оттолкнули Родю и принялись ломать запечатанную дверь.
– Сволочи вы! – вскрикнул он и выстрелил в воздух.
Услышав выстрел, на выручку прибежали несколько юнкеров и офицеров и разогнали мародёров. Вскоре после этого Родя был сменён и оставшиеся часы бродил недалеко от пристани, ожидая погрузки, наблюдая за разворачивающейся драмой. В середине дня на Нахимовскую площадь въехали остатки казачьих гвардейских полков, построились в каре возле памятника адмиралу. Их командир предложил им решить самостоятельно, уезжать или остаться. Большая часть казаков стало рассёдлывать коней, прощаться с ними, строиться в пешие колонны, полтора десятка человек шагом поехали прочь…
Многие прибывавшие офицеры заходили в стоящую вблизи набережной церковь, переполненную коленопреклонёнными людьми, остающиеся со слезами благословляли уходящих. Многие, прежде чем подняться на борт, опускались на колени, крестились и целовали родную землю.
Наконец, на белых ступенях залитой солнцем Графской пристани показалась высокая фигура Главнокомандующего в чёрной черкеске, папахе с мягким проломом и кавалерийских сапогах, на одном из которых Родя не без удивления заметил крупную латку. За ним шли несколько чинов штаба и личный конвой.
– Храни вас Господь, ваше превосходительство! – доносилось из толпы, и многие крестили генерала вслед.
Лицо Врангеля казалось усталым и измученным, но по-прежнему уверенно и ясно смотрели его зеленоватые глаза. На моторном катере он стал объезжать пристани, приветствуя построившиеся части, встречавшими его громовым «ура». Как и в первый день, в этот, последний, все надежды снова были обращены на белого рыцаря, и тысячи полных веры глаз устремлялись на него, внимая каждому его слову.
– Здравствуйте, мои дорогие соратники! – раздавался его голос, перекрывавший любой шум. – Куда вы едете? Знаете ли вы, что ждёт вас на чужбине? Я вам ничего не обещаю, так как сам ничего не знаю. Обещаю только одно, что как бы плохо ни было – вывести вас с честью. Обещаю вам, кто решит окончательно за мной следовать, вывезти вас с родной земли. Распоряжения уже даны, и сейчас должны подойти пароходы и забрать вас всех.
– Ура! Ура! – неслось в ответ этим предельно искренним словам.
– Произошла катастрофа, в которой всегда ищут виновного. Но не я, и тем более, не вы виновники этой катастрофы; виноваты в ней только они, наши союзники. Если бы они вовремя оказали требуемую от них помощь, мы уже освободили бы русскую землю от красной нечисти. Если они не сделали этого теперь, что стоило бы им не очень больших усилий, то в будущем, может быть, все усилия мира не спасут ее от красного ига. Мы же сделали все что было в наших силах в кровавой борьбе за судьбу нашей родины… Теперь с Богом. Прощай, русская земля!
Катер с Главнокомандующим причалил к борту крейсера «Генерал Корнилов», где оркестр грянул встречу. Суда один за другим стали отчаливать от берега. Среди них были крейсера и броненосцы, баржи и шхуны, были такие ветераны, которых прицепляли к ещё способным идти кораблям, и инвалиды, которые шли с креном. Вся эта армада изгнанников родной земли устремилась в море.
Родя разместился на палубе французского миноносца «Вальдек-Руссо», на котором менее года назад вместе с матерью покидал Новороссийск. Одним из последних на борт судна поднялся старый князь Долгоруков, до последнего часа остававшийся в городе. Приветствуя адмирала Дюминеля, Павел Дмитриевич произнёс:
– Во второй раз, к счастью и к несчастью, я очутился на «Вальдек-Руссо». К несчастью, так как я и мы все, вынужденные к этому, лишились Родины. К счастью, потому, что мы попали на гостеприимную плавучую почву Франции. После падения Новороссийска зубами и окровавленными ногтями мы уцепились за последнюю русскую скалу, вдающуюся в море. Теперь мы сброшены с неё в пучину, и вы дружественно подобрали нас. Позвольте от лица всех моих товарищей по несчастью вас приветствовать возгласом, который с прошлого столетия распространён по всей России, стал в ней обычным, – «Viva la France!»
– Viva la Russie! – горячо воскликнули в ответ французы.
– Et elle vivra! – докончил кто-то.
«Вальдек-Руссо», как и другие корабли, был сильно перегружен. Кают хватило далеко не всем. Размещались, где и как придётся. Родя остался на палубе, куда вскоре поднялась и мать. Вместе они неотрывно смотрели на покидаемый Севастополь. Там, далеко за бульварами, горела мельница Родоканаки, где были военные склады, отбрасывая алые блики на Корабельную сторону, стены Лазаревских казарм, офицерские флигеля Черноморского флотского экипажа, ряды «мёртвых кораблей», среди которых выделялись славные имена, занесённые на скрижали истории: «Двенадцать Апостолов», «Ростислав», «Три святителя»… На глаза наворачивались слёзы. На пристани стояли, махая платками, толпы людей. Когда с отходящих судов послышались звуки напутственного молебна, который служили перед тем как покинуть Родину, многие опустились на колени, крестили уходящих, а те в свою очередь кланялись в последний раз родной земле.
Корабли вышли на рейд. «Генерал Корнилов», пройдя вдоль Приморского бульвара, стал на якорь, провожая остальные суда. Погрузка ещё шла во всех крымских портах, и Главнокомандующий лично следил за её ходом.
Донельзя переполненный крейсер стал в эти часы «Большим дворцом» на воде. Из каюты, в которой негде было повернуться, Врангель продолжал руководить всем, вести переговоры с «союзниками», следить за погрузкой, контролировать буквально каждое дело. Он обещал вывезти из Крыма всех, кто этого пожелает, и обещание это должно было быть выполнено любой ценой. А нелёгкая же задача оказалось! До последнего момента тянули господа «союзники» с присылкой судов, и уже исчезла всякая надежда на то. Эти предатели были верны себе и ожидать от них благородства в отношении к побеждённой армии не приходилось. Ещё двумя днями раньше докладывал Шатилов:
– Англичане обещали взять пятьдесят раненых, но ведь это капля в море! Всех всё равно нельзя взять и вывезти…
И слушать не стал далее старого друга, перебил резко:
– Раненые должны быть вывезены, и они будут вывезены!
– Что они должны быть вывезены, я согласен, но невозможного сделать нельзя.
А что вообще было возможным в эти последние месяцы? Тогда, в апреле многим казалось невозможным продержаться хоть сколько-нибудь, прекратить беспорядок, восстановить боеспособность армии… Невозможно! Невозможно не сдержать своего слова. Победы и не обещал Врангель своим войскам, но обещал не допустить позора. А не вывезти раненых – что же это, как не позор? И не бывать тому.
– Пока не будут вывезены раненые, я не уеду.
А многие боялись быть оставленными. Свежа была память Новороссийска! Один офицер, прибывший с фронта, во время смотра не сдержался, подошёл и обратился взволнованно:
– Ваше превосходительство, я старый офицер, несколько раз ранен, не бросайте меня…
– Что вы волнуетесь? Ведь вы видите, я ещё здесь. Стыдитесь, вы же офицер!
Только то и спасало, во многом, от паники, что все знали – Главнокомандующий ещё в городе. И Пётр Николаевич готов был оставаться в пустеющем дворце столько, сколько потребовалось бы для эвакуации всех того желавших. А если эвакуация их «невозможна», то и самому остаться с ними.
Большой дворец пустел. В камине спешно жгли бумаги, карты, телеграммы. В кабинете Врангеля висела огромная рельефная карта, изображавшая Перекоп-Сивашские позиции, с дарственной надписью: «Нашему вождю от защитников Крыма 1920 года». Жаль было расстаться с ней, а ничего не попишешь. Позвал казаков-конвойцев:
– Вот, молодцы, мне когда-то подарили эту карту, взять её с собой я не могу и не хочу, чтобы она досталась этой сволочи, разрубите и сожгите её.
Унесли немедленно, и в ночной тишине долго слышались гулкие удары шашек…
Накануне за завтраком адъютант доложил, что в Севастополь на английском миноносце прибыла из Константинополя жена… Не усидела-таки душа верная, примчалась. Во всех испытаниях она привыкла быть с ним рядом. Но сейчас – как не стоило бы! Среди всей этой бездны хлопот не доставало ещё думать о её безопасности. Распорядился сдержанно:
– Примите все меры, чтобы баронесса ни в коем случае не сошла на берег.
– То есть попросту не пускать?
– Попросту не пускайте.
Эвакуация, несмотря на всю «невозможность», проходила успешно. Адмирал Кедров сумел вывести в море даже самые старые, отжившие век посудины, всё, что хоть как-то могло держаться на воде. Настала пора покидать Большой дворец… В последний раз Петр Николаевич обошёл пустые, холодные залы, где отчего-то говорили теперь шёпотом, словно близ был покойник, остановился у окна, собираясь с силами.
– Господи, как тяжело! – сорвалось с губ еле слышно.
Но не время было думать об этой тяжести, поддаваться эмоциям. Нужно было завершить начатое дело. Покинув дворец, Врангель прошёл по ближайшим улицам, безмолвно прощаясь с городом. Время от времени подходили люди, говорили слова поддержки, благословляли. Представитель городского управления произнёс с чувством:
– Ваше превосходительством, вы можете идти с высоко поднятой головой, в сознании выполненного долга. Позвольте пожелать вам счастливого пути!
Всё это трогало сердце, придавало сил, но и какая же мука была – оставлять не только землю, но и всех этих людей, по разным причинам остававшихся здесь, во власти красной нечисти.
И, вот, наконец, корабль, каюта, последние аккорды прощальной увертюры. Нужно было довести до конца эвакуацию, чтобы ни один человек не был брошен.
– Санитарный инспектор пропал! – взволнованно доложил Шатилов, быстро входя в каюту.
– То есть как?
– Мы думали, что он на судне с ранеными, но там его нет. Мне сказали, что он всех погрузил, а сам остался на берегу.
Пётр Николаевич со всей силой ударил кулаком по столу, так, что стоявшие на нём предметы подпрыгнули, громыхнул, не находя слов от возмущения:
– Это чёрт знает что такое! Оставили человека! Это подлость! Безобразие! Позорище! – приказал стоявшему рядом адъютанту. – Немедленно отправляетесь в город и разыщите его!
Розыски пропавшего инспектора длились полтора часа. Врангель ожидал отправившихся на берег адъютанта и казаков на палубе, отвечая на приветствия проплывавших мимо частей. Вернулись искатели, доложили, тупя глаза, ожидая бури:
– Не нашли… Были у Понтонного моста, ждали там, ходили, но никаких результатов…
– Что в городе?
– Спокойно, ваше превосходительство. Много гуляющих. Кое-кто из гражданских просит взять их с собой.
– Значит, надо взять. Поезжайте обратно, ищите человека. Без него мы не уедем, – приказал Пётр Николаевич и добавил, обращаясь к Шатилову. – Паша, запроси по радио иностранные корабли. Может, он там.
Сердца не хватало на разгильдяйство! Не успели отыскать инспектора, доставленного через полчаса англичанами, как подоспел флаг-офицер с известием:
– Две сотни донцов не успели погрузиться.
– Как прикажете быть, ваше превосходительство? – осведомился Кедров.
– Забирайте, адмирал, этих двести «отцов», и тогда марш на Ялту. Просите американца идти за нами.
Многие суда уже отплыли в Константинополь, когда «Генерал Корнилов» взял курс на Ялту. На утро были там. В ялтинских портах грузились кавалерийские части. На яхте «Кагул» Главнокомандующий объезжал уже закончившие погрузку суда.
– Оставленная всем миром обескровленная армия, боровшаяся не только за наше русское дело, но и за дело всего мира, оставляет родную землю, – говорил он в своей прощальной речи. – Мы идём на чужбину, идём не как нищие с протянутой рукой, а с высоко поднятой головой, в сознании выполненного до конца долга. Мы вправе требовать помощи от тех, за общее дело которых мы принесли столько жертв, от тех, кто своей свободой и самой жизнью обязан этим жертвам.
Выстроившиеся на палубах части внимали ему в скорбном молчании.
– А теперь, орлы, прокричим в последний раз «ура» на русской территории в честь растерзанной и измученной России! – воскликнул Врангель под конец, и, кажется, воздух дрогнул от раздавшегося в ответ дружного возгласа.
В этот момент несколько голосов затянули «Боже, Царя храни…», и другие подхватили следом. Люди гвардии не забыли национального гимна, и его священными словами прощались с родной землёй.
Наблюдавший эту сцену Тягаев, сопровождавший Врангеля, вторил дорогим сердцу словам и время от времени покусывал губы, стараясь сдержать разрывающую грудь муку. Пётр Николаевич был более сдержан, но и его, всегда худое, а в последнее время ещё более исхудалое, бесконечно усталое лицо, было взволнованным. Он стоял, как всегда, прямо, чуть откинув назад гордую голову, его глаза, которые могли и метать молнии, и излучать целительную ласку, теперь светились, и озарённым светом казалось всё лицо, дышавшее, как и в лучшие дни, верой. Во всей фигуре Главнокомандующего не было ничего от побеждённого, но сквозила неизменная победительность, и, как победителя, приветствовала его армия. Он и был победителем. Только его воля и вера сделала невозможное возможным, и Армия уходила из Крыма с честью, не бросив никого, сохранив свой дух и веру в своего Вождя. Это и была настоящая победа.
Из Ялты направились в Феодосию и Керчь. Там внесли некоторое смятение пришедшие из Джанкоя казаки, и порядка было меньше. Но под неусыпным руководством Врангеля все недоразумения были улажены.
Вечером спустился густой туман, молочной пеленой окутавший все вокруг. С берега доносился мерный звон колокола, напоминавший погребальный. Пётр Сергеевич с тоской вглядывался в беспросветную муть, скрывающую от взоров керчинский берег. Где-то там лежала рыбачья деревушка со странным названием Русская мама, и Тягаев мог поклясться, что теперь в бедной сараюшке перед закопчённой иконой молится, воздев руки к небесам старый кудесник. А, может, собрались общиной у холма и читают из Евангелия… Элои! Элои! ламма савахфани? Уныло гудел колокол, словно отпевая всех, сложивших головы в борьбе. Не дошедших до этого берега, а оставшихся лежать где-то в заснеженных степях. И брата Николая среди прочих… Весть о его гибели пришла в последний день. Её сообщил Тягаеву офицер по фамилии Роменский. Рассказал, не скрывая, все обстоятельства. Закончил словами:
– Простите меня, ваше превосходительство, что я не смог спасти Николая Петровича. Я виноват, и себе никогда не прощу этого. Но я выполнял его приказ, спасал людей, которые были им мне поручены. Простите.
Винить этого нервного поручика Тягаев не мог. Но холодело сердце при мысли, что нужно будет об этом несчастье сказать Петру Андреевичу. И без того больное сердце у старика, а как узнает?.. Да ещё в этом эвакуационном кошмаре? И совершенно не было времени обдумать, как сказать. Только с одним человеком и поделился страшной правдой – с Дунечкой. И всё без лишних слов поняла она, взяла на себя. Сказала, поразмыслив, уверенно:
– Правду нельзя говорить. Она убьёт Наташу. А если сказать только Петру Андреевичу и Ольге Романовне, то она всё поймёт по их виду. Значит, нельзя и им говорить.
– Но что-то же надо сказать!
– Скажем им, что при арьергардных боях Николай пропал. Может быть, ранен и оказался в одном из лазаретов. Может, отступал с другими частями и с ними грузится где-нибудь в Ялте или Керчи. Это сохранит надежду, что он жив. А пока есть надежда, не так тяжело. А Наташе пока и того говорить не будем. Не дай Бог сейчас…
– Да, так всего лучше, – согласился Пётр Сергеевич. – Только я не сумею… Соврать… Они по лицу моему всё поймут, ты же знаешь…
– Я сама всё скажу, – сказала Дунечка мягко. – У тебя сейчас довольно забот по службе, занимайся ими. А это я возьму на себя. Не беспокойся.
Только руки было целовать этой золотой женщине, ангелу светлому! Так легко и просто сняла с плеч тягчайший груз. И как-то сумела справиться. Вначале переговорила один на один с матерью, затем уже вдвоём они изложили, сообща обдумав, как лучше сделать это, допустимую дозу правды Петру Андреевичу, и обошлось покуда.
Мысленно крестился Тягаев, вспоминая. Лишь бы не вскрылось ничего. Лишь бы… Невыносимо тяжело было на сердце – хоть головой в море. Как во сне виделась последняя встреча с братом. Его обветренное лицо с замотанным бинтами лбом и выжженными палящим солнцем прядями светло-русых волос. Его фигура, одиноко стоявшая на пыльной дороге, машущая вслед. Его последние слова – завещание беречь Наталью Фёдоровну… Николай прошёл почти всю Великую войну, всю усобицу, и на всех путях Бог хранил его, и, вот, в самый последний день отвернулся. Господи, Господи, за что ты оставил?..
Глубокой ночью с берега вернулся начальник штаба второй армии генерал Кусонский. Вместе отправились в каюту Главнокомандующего.
– Погрузка проходит блестяще, – доложил Кусонский. – Благодаря удивительной энергии командующего армией и неутомимой работе моряков мы погрузили не только донцов, но также пришедших из Феодосии кубанцев. Настроение казаков на редкость бодрое. Ваше превосходительство, я уполномочен командующим армией просить вас не разоружаться в Константинополе. Я верю в настроение казаков!
– Но ведь это невозможно, генерал…
– Всё же, ваше превосходительство. Я вас покорнейше прошу, я вас умоляю! – воскликнул Кусонский. – Вы не можете себе представить, какое бодрое, боевое настроение царит среди донцов. С такими солдатами, с таким настроением мы можем и будем чудеса делать! Я в этом убеждён. Ведь до сегодняшнего утра мы и не думали грузиться. Только сегодня утром мы начали погрузку. И то погружено всё. Все до одного казака. И все вооружены. Ни один казак не оставил оружия. Повторяю, ваше превосходительство, настроение донцов поразительно бодрое!
После продолжительного убеждения в абсурдности его плана огорчённый Кусонский покинул каюту, а из радиорубки принесли перехваченные переговоры красных. Буденный сообщал о взятии Крыма. Из Севастополя в Москву передавали требование срочно выслать ответственных работников, так как в Крыму таковых не осталось.
– Отличная аттестация генералу Климовичу! – воскликнул Врангель и, поднявшись, заходил по каюте, его молодые глаза блестели. – Отлично, превосходно! – возбуждённо говорил он. – Эвакуация проведена блестяще! Нам удалось погрузить полтораста тысяч человек – кто мог ожидать этого? Отлично! Это – полное удовлетворение…
– Да… – согласился Тягаев, устало сидя в кресле. – Только что будет дальше?
– Не знаю, этого не знаю, – Пётр Николаевич покачал головой и вернулся за стол. – Знаю одно: мы в любом случае будем продолжать нашу белую борьбу. И рано или поздно, но мы победим.
– Каким образом?
– Пока и этого не знаю, – пожал плечами Врангель. – Но всё прошлое России говорит за то, что она рано или поздно вернётся к монархическому строю. Только не дай Бог, если этот строй будет навязан силой штыков или белым террором… Наша задача теперь в ином. В кропотливой работе проникновения в психологию масс с чистыми, национальными лозунгами, которая может быть выполнена лишь при сознательном отрешении от узкопартийных, а тем более классовых доктрин и наличии искренности в намерениях построить государство так, чтобы построение удовлетворяло народным чаяниям…
Тягаев с удивлением смотрел на старого друга. Откуда такая невероятная энергия была в нём? После стольких бессонных ночей, после адского напряжения последнего времени, он, смертельно усталый, не имеющий представления, что ждёт изгнанников на чужбине, уже полон был решимости продолжать борьбу, и знал, как, и верил в торжество Белой Идеи.
– В России ли, на чужбине ли, – продолжал Пётр Николаевич, – наши цели остаются неизменны. И миссия Русской Армии не заканчивается с военной неудачей. Ведь Русская Армия, это не только последняя горсть защитников Родины. Это не Корниловцы, Марковцы, не гвардейцы – последний батальон Императорской Гвардии. Это не Донские, Кубанские, Терские казаки. Русская Армия – это всё русское воинство, оставшееся верным знамени, Русская Армия – это всё, что не Совдепия – это Россия… И пока не умерла Армия – она, эта Россия, жива.
Из Керчи «Генерал Корнилов» снова отправился к Севастополю, откуда предстояло взять курс на чужбину. На рассвете пассажиры переполненного до последней возможности крейсера поднялись на палубу, чтобы в последний раз увидеть родной берег. Проходивший мимо «Вальдек-Руссо», сопровождавший «Корнилова» в обходе портов, произвёл двадцать один выстрел, последний раз салютуя русскому флагу в русских водах. Крейсер ответил тем же.
Проведя ещё одну бессонную ночь, Пётр Сергеевич вышел на палубу. Среди множества людей он тотчас разглядел родных. У самого борта, обопрясь на него локтями стоял Пётр Андреевич. Старик смотрел вдаль полным невыразимой скорби взглядом и молчал. Рядом застыла в такой же немой печали хрупкая фигура матери. Неподалёку сидели, обнявшись, как сёстры, Наталья Фёдоровна и Дунечка, заботливо кутавшая её пледом, что-то говорившая ей, заплаканной, видимо, ласковое и успокоительное, как она одна могла говорить. Над палубой неслась заунывная, щемящая душу песня, выводимая офицерами:
– Не плачь о нас, Святая Русь,
Не надо слёз, не надо.
Молись за павших и живых –
Молитва нам отрада.
Не плачьте, матери, отцы,
Не плачьте, жёны, дети,
За благо Родины своей
Забудем всё на свете.
Золотисто-розовое море слегка волнилось, и весёлые стайки дельфинов совершали свои кульбиты вокруг медленно идущих судов. Утро наступало удивительно ясное, тихое, тёплое, ни единого облачка на небе, ни ветерка. Если бы дал Господь такую погоду в дни перекопских боёв!.. Но нет, лишь на прощанье была послана она. Безмятежным и прекрасным виделся вдали Крым, и невозможно было представить себе, что там уже властвуют свирепые полчища, и льётся невинная кровь, и страдальцы принимают муки. Невозможно было представить себе, что на улицах прекраснейшего русского города куражится теперь красная нечисть, крушащая всё на своём пути. Очертания Севастополя ещё смутно угадывались отсюда, и напряжённый взор различал силуэт Балаклавской бухты.
– Прощай, Москва. Прощай, Крым. Прощай, наша Родина… – прошептала мать. – Теперь Россия погибла…
Тягаев приблизился и обнял её, ничего не говоря. Пётр Андреевич повернул голову, произнёс глухо, но твёрдо:
– Никогда не говорите, что Россия погибла. Погибнуть можем мы. Но не Россия. Что бы ни было, она выживет. Сохранится. В заповедных уголках своих, куда не доберётся кровавая длань, в подпольях, в котомках изгнанников. Сохранится дух, сохранятся крупицы, и из них соберётся потом однажды Россия. Россия Великая погибла, эта правда, но Святая Русь жива и будет жить. Мы многим согрешили пред ней, пред Богом. Не будем же теперь согрешать ещё и отчаянием.
Офицеры продолжали тянуть добровольческие песни, воспевавшие гибель за Родину и веру. Гимны побеждённой армии. И всё же это было не поражение. Поражение – позор. А позора не было. Торжественны и священны были эти часы прощания с Родиной. Да и только ли воинской удачей определяется победа? Когда-то русская армия вынуждена была затопить флот, оставить Севастополь, но у кого поворачивался язык назвать это поражением? Страницы обороны Севастополя не менее славны были, чем битвы, окончившиеся видимой победой. Герои Севастополя чтились не менее, чем герои Отечественной войны. Не потому ли, что они так же были победителями, только победа их была духовной? В древности воспет был безымянным автором несчастливый поход князя Игоря, в веке двадцатом – подвиг «Варяга». Внешние неудачи ещё не есть поражение до тех пор, пока жив и побеждает дух.
Так думал про себя Пётр Андреевич, когда на лестнице, ведущей в трюм, показался старый полковой священник. Он остановился, сжимая рукой большой наперсный крест, трижды осенил крестом всех бывших на палубе и заговорил надтреснутым, прерывающимся голосом:
– Белые воины, я ваш духовный пастырь и пришёл облегчить вашу скорбь… Вы сражались за Святую Русь, но пути Господни неисповедимы. Теперь мы плывём в открытое море и даже не знаем, к каким берегам мы пристанем. Мы покинули родную землю… Многие из нас уже никогда не увидят своих милых, близких и родных… Многим из нас не суждено будет ступить на свою родную землю, и неизвестно, где мы сложим свои кости… Мы, как листья, оторванные бурей от родных ветвей и злобно гонимые ветром… Но пусть каждый надеется на милосердие Божие. Пусть каждый своим духовным взором обращается ко Господу, и пусть первая наша молитва будет всегда о нашей Родине… Родине несчастной, Родине измученной, Родине поруганной.
Кто-то заплакал при этих словах, другие крестились. А старый пастырь неподвижно стоял на лестнице, и лёгкий ветер колыхал полы его рясы, размётывал тонкие седые волосы.
– Да восстановит её Господь Бог и да воссияет она светлой правдой! – закончил он свою краткую речь.
– Да воссияет… – повторил Тягаев, не сводя взгляда с тающего в белой дымке берега, и добавил приглушённо: – Слава побеждённым!
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Абрамов Федор Федорович (1870-1963) – генерал-лейтенант Генштаба. Окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус, 3-е военное Александровское училище, Николаевское инженерное училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1898). Участник русско-японской и Первой мировой войн. Из училища вышел в 6-ю Лейб-гвардии Донскую казачью батарею. После окончания академии служил по Генеральному штабу в Варшавском военном округе. В 1902 г. – штаб-офицер для особых поручений при штабе 6-го армейского корпуса. В 1903 г. – штаб-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа, а затем старший адъютант штаба того же округа. В 1904 г. – штаб-офицер для поручений при штабе Маньчжурской армии, а затем в Управлении генерал-квартирмейстера при Главнокомандующем на Дальнем Востоке. В 1905 г. – начальник штаба 4-й Донской казачьей дивизии в Маньчжурской армии. В 1906 г. – полковник. В 1912 г.– командир 1-го Уланского Санкт-Петербургского полка. В 1914 г. – генерал-майор и начальник Тверского кавалерийского училища. 22 января 1915 г. назначен генерал-квартирмейстером штаба 12-й армии. С 9 сентября 1915 г.– командующий 15-й кавалерийской дивизией, а с 1 января 1917 г. – на время войны и. д. начальника войскового штаба Войска Донского. В марте 1917 г. назначен командующим 3-й Донской казачьей дивизией, а в конце года – командиром 1-го Донского казачьего корпуса.
В командование не вступил и прибыл в Новочеркасск в распоряжение Донского атамана генерала Каледина, при котором командовал Донскими партизанскими отрядами до начала февраля 1918 г. После Общедонского восстания в апреле 1918 г. был назначен 10 мая 1918 г. начальником 1-й Донской конной дивизии в постоянной («Молодой») Донской армии генерала Краснова. 26 августа 1918 г. за отличия по службе произведен в генерал-лейтенанты. В феврале 1919 г. успешно отразил на Северном Донце наступление Красной армии на Новочеркасск, командуя группой войск, в состав которой входила 1-я Донская конная дивизия. С ноября 1919 г. по март 1920 г. – инспектор кавалерии Донской армии. В апреле 1920 г. в Крыму Донские части были сведены в Донской корпус, во главе которого генерал Врангель назначил генерала Абрамова, офицера «высокой доблести, неподкупной честности, большой твердости и исключительного такта начальника» 1). Участвовал во главе Донского корпуса во всех боях в Северной Таврии летом-осенью 1920 г., в частности в разгроме конного корпуса Жлобы. 4 ноября 1920 г. эвакуировался во главе Донского корпуса из Керчи и прибыл в лагерь Чаталджа (в районе Константинополя), где находился до 25 марта 1921 г., когда был перевезен вместе с корпусом на остров Лемнос. 8 сентября
1921 г. прибыл с корпусом в Болгарию. 11 октября 1922 г. был выслан болгарскими властями в Королевство СХС, где был назначен помощником Главнокомандующего Русской армией с оставлением в прежней должности – командира Донского корпуса. В 1924 г. вернулся в Болгарию и был назначен начальником всех частей и управлений Русской армии; при создании генералом Врангелем РОВСа был назначен на пост председателя 3-го отдела в Болгарии. После похищения генерала Кутепова (в 1930 г.) был назначен генералом Миллером заместителем председателя РОВСа. После похищения генерала Миллера (в 1937 г.) был назначен его преемником и исполнял должность председателя РОВСа до марта 1938 г., когда на этом посту его заменил генерал Архангельский. Одной из причин отказа генерала Абрамова от должности председателя РОВСа было давление Болгарского правительства. Во время Второй мировой войны генерал Абрамов участвовал в формирования казачьих частей, в деятельности КОНРа и, как его член, подписал Пражский Манифест. После Второй мировой войны переехал в США, где в феврале 1961 г. в Нью-Йорке на торжественном собрании передал генералу И.А. Полякову эмблему атаманской власти. Трагически погиб в автомобильной катастрофе 9 марта 1963 г. в Лейквуде.
Генерал Абрамов выступал в казачьих органах печати в эмиграции, а также участвовал в создании музея Лейб-гвардии Казачьего полка в Курбевуа под Парижем, где в сентябре 1931 г. его чествовали представители казачьих войск. Похоронен на Свято-Владимирском кладбище в Нью-Джерси.
Алексеев Михаил Васильевич (1857 – 1918, Екатеринодар) – военный деятель. Род. в семье армейского офицера. В гимназии А. не показал особых успехов и, не окончив курса, поступил вольноопределяющимся во 2-й гренадерский Ростовский полк, затем в Моск. юнкерское уч-ще, к-рое окончил по первому разряду. Алексеев участвовал в рус.-турецкой войне 1877 – 1878, был награжден боевыми орденами. Как способный офицер был замечен М.Д. Скобелевым и назначен батальонным, а потом полковым адъютантом. В 1890 окончил Академию Генштаба. Алексеев служил в Генштабе и преподавал в Петроградском юнкерском и Николаевском кавалерийском уч-щах, а потом и в Академии. В 1904 Алексеев стал генерал-майором, участвовал в русско-японской войне 1904 – 1905.
С началом первой мировой войны Алексеев – начальник штаба Юго-Зап. фронта. В 1914 стал генералом от инфантерии, в марте 1915 – главнокомандующим армиями Северо-Зап. фронта. В авг. 1915 Алексеев назначен начальником штаба Верховного главнокомандующего и стал фактическим руководителем всей рус. армии.
В феврале 1917 года именно он убедил Николая II отречься от престола. Временное правительство назначило Алексеева Верховным главнокомандующим, но он потребовал у А.Ф. Керенского восстановить деятельность военных судов в армии, т.к. "развал внутренний достиг крайних пределов", и поэтому был смещен со своей должности и назначен военным советником. После провала выступления Л.Г. Корнилова Алексеев арестовал и отправил его под охрану верных солдат, чем спас от расправы. Алексеев участвовал в работе Предпарламента. После Октябрьской революции бежал в Новочеркасск, где создал ядро Добровольческой армии, возглавленной им и Корниловым. Эта армия обещала охранять гражданские свободы, пока свободно избранное Учредительное собрание не выскажет свою волю. Уже в 1918 представителям "фронта Учредительного собрания" в Поволжье Алексеев заявил, что "лозунг Учредительного собрания изжит и народ тоскует по монархии".
Умер от болезни в Екатеринодаре. В начале 1920 г. во время отступления ВСЮР вдова генерала, Анна Николаевна, настояла на том, чтобы прах генерала был перенесен в Сербию. Ныне на Новом кладбище в Белграде стоит скромный памятник генералу Алексееву.
Андогский Александр Иванович (25.07.1876-25.02.1931) Полковник (06.12.1914). Генерал-майор (1918). Окончил гимназию в Вологде и юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1890). Сдал экзамены на офицерский чин при Павловском военном училище (1899). Окончил Николаевскую академию Генштаба (1905). Начал службу подпоручиком в лейб-гвардии Московском полку, с 1909 командир роты этого полка (1905 – 1911). В штабе Санкт-Петербургского ВО (мобилизационный отдел), 1911 – 1914. Участник Первой Мировой войны: офицер в штабе 2-й армии. Начальник штаба 3-й Гвардейской пехотной дивизии; с 07.1915 начальник (командир) 151-го пехотного Пятигорского полка, 08.1914 – 11.1916. Служба в Академии Генштаба, с 07.1917 начальник Академии Генштаба, 11.1916-08.1918. После Революции, перейдя на службу Красной армии, оставался начальником Академии генштаба в Петрограде, а с в эвакуацией 03.1918 Академии – в Казани, 08.1917 – 07.1918. Отказавшись выступить против наступавших на Казань, белых частей и перейдя на сторону Белой армии, во главе и вместе со всем штатом Академии переехал в Екатеринбург, затем в Томск и Омск, 08.1918 – 01.1919. Занимал пост генерал-квартирмейстер штаба Русской армии и Ставки Главнокомандующего адмирала Колчака, 01—07.1919. Начальник штаба Русской армии Колчака (сменил генерала Лебедева), 07 – 10.1919. Передав руководством штаба Русской армии генералу Занкевичу М.И., вернулся в Академию генштаба (начальник), затем убыл во Владивосток в связи с разгромом и отступлением («Великий поход») Русской армии Колчака, 11.1919. Работа в администрации города Владивостока (городской голова), 12.1919—09.1922. Убыл в Японию и после разгрома Белых войск (Земской Рати) генерала Дитерихса и захвата Владивостока Красной армией остался в Токио и был приглашен во дворец как специалист по военным делам к Хирохито, наследнику тогдашнего императора Японии, 11.1922—08.1923. Эмигрировал в Маньчжурию (Китай), жил в Харбине, где и умер (покончив жизнь самоубийством).
Антоний (Алексей Павлович Храповицкий) (1863– 1936) – из дворян, окончил СПб Духовную академию. Считается, что он послужил Ф. М. Достоевскому прообразом Алеши Карамазова. Иеромонах (1885). В 1886 г. – преподаватель Холмской духовной семинарии. Магистр богословия, доцент СПб Духовной академии (1888). Ректор СПб духовной семинарии, затем Московской Духовной академии (1890-1895). В 1895 г. назначен ректором Казанской Духовной академии. Епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии, с сохранением в должности ректора (1897). Епископ Уфимский (1900), Волынский и Житомирский (1902-1914). Один из основателей Волынского отделения Союза русского народа. Архиепископ (1906). Член Госсовета (1906-1907). С 1907 г. – член Госдумы, входил во фракцию крайне правых. С 1909 г. заседал в Св. Синоде. Доктор богословия (1913). В 1912 г. был назначен членом Св. Синода. 14.05.14 г. назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским. 01.05.1917 г. уволен на покой, согласно прошению, с назначением ему местожительства в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре. 16.08.1917 г. вновь назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским. В июне 1917 г. на Всероссийском Поместном Соборе был первым по числу голосов из трех кандидатов на Патриарший престол, избранных Собором. 28.11.1917 г. возведен в сан митрополита Харьковского. Летом 1918 г. на Украинском церковном соборе избран митрополитом Киевским и Галицким. С августа 1919 г. связал свою судьбу с Белым движением. В 1920 г. эмигрировал в Сербию. Возглавил Высшее церковное управление за границей, а после его запрещения патриархом Тихоном – Архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей. В 1927 г. после опубликования Декларации митрополита Сергия окончательно порвал отношения с РПЦ. В 1932 г., комментируя преобразования в СССР, писал: «Под знаменем масонской звезды работают все темные силы, разрушающие национальные христианские государства… Многолетнее наблюдение над разрушением нашей Родины воочию показало всему миру, как ученики подражают своим учителям и как поработители русского народа верны программе масонских лож». Первый митрополит РПЦЗ. Скончался и погребен в Белграде.
Барятинская Мария Сергеевна – праправнучка фельдмаршала Суворова, жена флигель-адъютанта Николая II, Анатолия Барятинского. Входила в ближайшее окружение Царской Семьи. После революции покинула Россию вместе с мужем и дочерью, скончалась в эмиграции.
Богаевский Африкан Петрович (1872-1934) – генерал-лейтенант Генштаба. Донской атаман. Окончил Донской кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1900). Проходил службу в войсках Гвардии и Петербургского военного округа. Участник Первой мировой войны. Выступил на фронт, будучи начальником штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, затем командовал 4-м Гусарским Мариупольским полком и Лейб-гвардии сводно-казачьим полком. С марта 1915 г.– генерал-майор. С октября 1915 до апреля 1917 – начальник штаба Походного атамана всех казачьих войск Великого Князя Бориса Владимировича. С апреля 1917 г.– начальник Забайкальской казачьей дивизии. Георгиевский кавалер. В конце 1917 г. – начальник 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.
В декабре 1917 г. прибыл на Дон. В январе 1918 г. назначен генералом Калединым командующим войсками Ростовского района.
В Добровольческой армии с самого начала. Участник 1-го Кубанского похода. Командир партизанского полка, а затем 2-й бригады. С мая 1918– председатель Донского правительства. Генерал-лейтенант. 6 февраля 1919 г. избран Войсковым атаманом Всевеликого Войска Донского, вместо генерала П. Н. Краснова. Генерал Богаевский оставался Донским атаманом до конца жизни; в январе 1920 г. он был назначен генералом Деникиным председателем Южно-Русского правительства. В марте 1920 г. генерал Богаевский прибыл в Крым и остался при генерале Врангеле до эвакуации в ноябре. Во время пребывания в Константинополе генерал Богаевский создал Объединенный совет Дона, Кубани и Терека. В конце октября 1922 г. генерал Богаевский переехал в Белград, а в 1923 г. – в Париж, где активно сотрудничал с руководством РОВСа. Скончался в Париже 21 октября 1934 г. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.
Оставил воспоминания: «Ледяной поход» (Нью-Йорк: Союз первопоходников, 1963).
Болдырев Василий Георгиевич (05.04.1875-20.08.1933). Выходец из бедной крестьянской семьи. Генерал-майор (26.06.1915). Генерал-лейтенант (1917). Окончил Военно-топографическое училище (1895), Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Первой Мировой войны: командир 45-го артиллерийского корпуса на Рижском фронте (04.1917). Командующий 5-й армией (09.1917). Арестован (10.1917) за неподчинение приказам советского командования, вскоре освобожден. Руководитель «Союза возрождения России» (03.1918). В Белом движении: главком войсками Российской армии Уфимской директории и один из ее руководителей, 23.09—18.11.1918. (Уфимская директория упразднена адмиралом Колчаком 18.11.1918). Выслан 11.1918 в Японию, вернулся с японской армией 01.1920; командующий Вооруженными силами Временного правительства (Приморской областной Земской управы, Владивосток), 01.1920 – 12.1922. Одновременно – управляющий Военно-морским ведомством; подписал
29.04.1920 русско-японское соглашение о «Нейтральной зоне», 04—12.1920. После установления диктатуры Меркулова (17.06.1921 – 11.06.1922) – член президиума и заместитель председателя «Народного собрания» и председатель «Русско-японской согласительной комиссии». После установления Советской власти во Владивостоке (10.1922) арестован (05.11.1922). В заключении 05.11.1922-1926. Освобожден (амнистирован) в 1926 г. после своего заявления о желании служить Советской власти. Работал в различных учреждениях в Сибири. Вторично арестован 23.12.1933 по обвинению в организации контрреволюционного заговора. Расстрелян.
Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926) – генерал от кавалерии (1912), генерал-адъютант (1915). Учился в Пажеском корпусе. Служил в 15-м Тверском драгунском полку. Участник русско-турецкой войны 1877-1878. С 1883 служил в Офицерской кавалерийской школе, помощник ее начальника (1898) и начальник (1902). Командир 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии (1906) и 14-го армейского корпуса (1909), помощник командующего войсками Варшавского военного округа (1912), командир 12– го армейского корпуса (1913). Во время Первой мировой войны командующий 8-й армией Юго-Западного фронта (1914), главнокомандующий Юго-Западным фронтом (1916), верховный главнокомандующий (май-июль 1917), затем – военный советник Временного правительства. С 1919 сотрудничал с Красной Армией.
Вениамин (Федченков Иван Афанасьевич), митрополит Саратовский и Вольский. Родился 12 сентября 1880 года в Тамбовской губернии. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и Спб Духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1917 -1919 года – ректор Таврической духовной семинарии по выборам корпорации. 10 февраля 1919 года хиротонисан во епископа Севастопольского, вик. Таврической епархии, по постановлению Св. Синода Украинской автономной церкви, с согласия Патриарха Тихона. Чин хиротонии совершали: архиепископ Таврический Димитрий (Абашидзе) и архиереи: Гавриил Челябинский, Варлаам (Ряшенцев), б. секретарь при Украинском Синоде, Нестор Камчатский (Анисимов) и другие. 1919 -1920 гг. – епископ армии и флота на юге России. 1919 – 1921 гг. – член Синода В.Ц.У. В 1920 году назначен от Синода в Совет Министров при ген. Врангеле. В 1920 году в ноябре эвакуировался за границу. Жил в Константинополе, Болгарии, Сербии и других Западно-Европейских странах. Был председателем Предсоборного Совещания (или епархиальн. собор.) в Константинополе перед Карловацким Собором. В 1921 году подготовил Карловацкий Собор. Был членом «Русск. Совета» при ген. Врангеле, продолжая быть епископом эмигрировавшей армии, рассеянной по разным странам. С 1923 по 1924 гг. был епископом в Карпатской Руси, в качестве викарного архиерея от архиепископа Савватия (Чешского). 1924 – 1925 гг. возвратился в Сербию и назначен был законоучителем Русского Донского кадетского корпуса с местожительством в Петковицах. 1925 – 1927 гг. был вызван митрополитом Евлогием в Париж в качестве инспектора и преподавателя в Богословском институте во имя Преп. Сергия Радонежского. Вследствие борьбы между иерархами (митр. Антонием и митр. Евлогием) после неудачной попытки выехать на Родину, возвратился в Сербию и был назначен законоучителем русского кадетского корпуса, настоятелем эмигрантской церкви и заведующим Пастырско-Богословскими курсами. 3 декабря 1927 года включен в клир Московской патриархии. В 1945 году был вызван Патриархией на Поместный Собор в Москву для избрания патриарха, получил советское гражданство и был назначен на Рижскую епархию в Латвию. 20 февраля 1958 года уволен на покой с пребыванием в Псково-Печерском монастыре. 4 октября 1961 года скончался в Псково-Печерском монастыре.
Вержбицкий Григорий Афанасьевич (25.01.1875-20.12.1941). Полковник (10.1916). Генерал-майор (20.07.1918). Генерал-лейтенант (05.1919, по другим сведениям – 02.1919). Окончил Одесское пехотное юнкерское училище (1897). Службу в Русской армии начал в 1893 г. вольноопределяющимся в 45-м пехотном Азовском полку, (унтер-офицер с 1894 г.). Участник русско-японской войны 1904 – 1905: командир роты 11-го Семипалатинского полка, 25.11.1904-23.09.1905. (Штабс-капитан с 1905). Участник экспедиции в Монголию: командир отряда охраны коммуникаций, захватил 31.08.1913 китайский город-крепость Шарасуме, 12.07.1913-15.03.1915. Участник Первой Мировой войны: командир батальона в 44-м и 41-м Сибирских и других стрелковых полках, дважды ранен (1914—1916). Командир формируемого 536-го пехотного Ефремовского полка в 134-й пехотной дивизии и с 01.09.1917 командир бригады той же дивизии; 10.01—08.12.1917. За отказ принять командование над 134-м Феодосийским пехотным полком у большевиков (после революции 1917) приговорен к расстрелу; благодаря помощи солдат избежал исполнения приговора. Убыл в Омск (Сибирь). В Белом движении: участник антибольшевистского переворота 06.1918 в Усть-Каменогорске, командир отряда. По вызову военного министра Иванова-Ринова вызван в Омск и 20.06.1918 назначен командиром 1-й Степной Сибирской стрелковой дивизии; 07.1918 разгромил большевиков под Тюменью, 06– 08.1918. Командир Западно-Сибирского отряда, который с 26.08.1918 преобразован в 4-ю Сибирскую стрелковую дивизию, захватил Нижний Тагил. В составе 1-го Сибирского корпуса генерала Пепеляева участвовал в захвате Перми. 21.12.1918 назначен заместителем и с 01.01.1919 – командиром 3-го Западно-Сибирского корпуса. 25.04.1919 3-й Степной (Западный) и 4-й Сибирский корпуса были объединены в Оперативную группу генерала Вержбицкого в составе Сибирской армии генерала Гайды и переброшены с севера на юг, под Кунгур. За захват городов Оса и Сарапула награжден Георгиевским крестом 3-й степени. 10.04.1919 назначен командующим Южной группой (3-й и 4-й Сибирские корпуса) 2-й (Сибирской) армии. После поражений Сибирской и Западной армий адмирала Колчака с осени 1919 прошел весь путь отступления в Великом Сибирском походе, командуя колонной, объединившей Тобольскую группу 1-й армии и Южную группу 2-й армии, и, ведя непрерывные бои с катящейся лавиной наступающих армий Восточного фронта большевиков, дошел до Нижне-Удинска, где влился в Ледяной поход отступающих колчаковско-каппелевских войск Московской группы. 23.01.1920 принял командование остатками 2-й армии. По приходе в Читу (03.1920) – командир 2-го Сибирского стрелкового корпуса (остатки 2-й армии). Приказом атамана Семенова 22.08.1921 назначен командующим Дальневосточной (Белой) армии в составе 1-го, 2-го и 3-го стрелковых корпусов. После разгрома Дальневосточной (Белой) армии в Забайкалье советскими войсками (18.10—19.11.1920) перешел с остатками своих войск китайскую границу в районе станции Маньчжурия. Основная часть 3-го, 2-го и 1-го стрелковых корпусов, используя КВЖД, перешла в Приморье (Ни-кольск-Уссурийский – Раздольное-Гродеково), номинально оставаясь под общим командованием генерал-лейтенанта Вержбицкого (за исключением 1-го Забайкальского корпуса – частей «семеновцев» в Гродеково под командованием генерал-лейтенанта Савельева и прибывшего в южное Приморье атамана, генерала Семенова). С установлением 26.05.1921 во Владивостоке Временного Приамурского правительства (диктатура) Меркулова, 31.05.1921 назначен командующим войсками Временного Приамурского правительства, включая Белоповстанческую армию генерала Молчанова. 12.10.1921 указом Временного Приамурского правительства назначен управляющим Военно-морским ведомством, с правами военного министра Российской империи. После поражения и падения правительства Меркулова сдал командование генерал-лейтенанту Дитерихсу, оставаясь в резерве. В конце октября 1922 г., перейдя с частью белых войск китайскую границу в районе Хунчуня, интернирован и помещен в лагерь в городе Гирине. 05.1923 освобожден и убыл в Харбин (Маньчжурия). В эмиграции в Маньчжурии был заместителем начальника (Дитерихса) отдела РОВ С на Дальнем Востоке до 1931 года. После оккупации Маньчжурии японскими войсками за отказ возглавить формирование русской дивизии для японской армии выслан в 1934 г. властями Японии в Тяньцзинь (Китай). Жил на территории английской концессии. После оккупации Северного Китая японскими войсками в 1937 – 1938 гг. находился под непрерывной угрозой ареста оккупационными властями за отказ участвовать в формировании мобилизованных русских солдат и офицеров в военные части для японской армии. Умер 20.12.1941 (по другим источникам – 20.12.1942) в Тяньцзине.
Войцеховский Сергей Николаевич (1883 – 1951), окончил Николаевскую академию Генерального Штаба в 1912 г. Участник I-й мировой войны. Подполковник в 1917 г. Назначен в 1917 г. в Чехословацкий корпус, начальник штаба его 1-й дивизии по июнь 1918 г. Помимо русского, владел французским, немецким, словацким, чешским языками. Командир 3-го Чехословацкого полка. Присутствовал 20 мая 1918 г. на Съезде делегатов всех частей корпуса в Челябинске, вошел в Военный Совет, созданный для координации действий разрозненных групп корпуса и установления связи с местными антибольшевистскими организациями. Вместе с Сыровым командовал Челябинской группировкой чехословацких войск из 9 тысяч человек, сосредоточенной в районе Челябинск – Златоуст: 2-й и 3-й стрелковые полки, 2 батальона 6-го стрелкового полка, 3-й Запасной полк, 3-я ударная рота, 1-я батарея. Организовал успешное выступление против большевиков в Челябинске 26 мая 1918 г., где разоружил два «интернациональных» пехотных полка из немцев и австрийцев, захватив огромные трофеи. Впоследствии, был награжден за это Георгиевским крестом 4-й степени. Смелым маневром занял железную дорогу Златоуст – Челябинск и разгромил там красных. Назначен словесным приказом командующего Чехословацким корпусом 27 мая 1918 г. командующим чехословацкими войсками Челябинской группы и Уральского фронта. В Омске 10 июня 1918 г. его войска соединились с Сибирской группировкой Чехословацкого корпуса. Постановлением съезда членов Временного Челябинского комитета и Чехословацкого Национального Совета (ЧНС) 11.06.1918 г. произведен в полковники и приказом № 58 назначен временно исполняющим должность начштаба Чехкорпуса с оставлением в должности комполка и комвойск Челябинской группы. Проведя успешные бои против красных у Златоуста, Бердяуша, Усть-Катава, осуществил соединение своих сил 6 июля 1918 г. на станции Миньяр у Златоуста с Пензенской группировкой Чечека. После этого Войцеховский перенес боевые действия на екатеринбургское направление и 28 июля 1918 г. захватил Екатеринбург, отразив яростные контратаки красных, пытавшихся его отбить. Летом 1918 г. – командующий Екатеринбургской группой войск. В это время он лично руководил боями у Верх-Нейвинского завода, возглавив обходную колонну чехословаков и взяв Нижний Тагил. Командующий 1-й Чехословацкой дивизии (июнь – октябрь 1918 г.). Произведен ЧНС в чин генерал-майора 17 октября 1918 г. и назначен командующим Самарской группой войск в Уфе, куда переведен с Екатеринбургского направления (бывшая Поволжская группа войск, сменил генерала Чечека). Здесь он не только остановил наступление красных, но и отбросил их за реку Ик, упрочив положение белых на Самарском фронте. Пользовался среди чехов и словаков большой популярностью. С конца октября по декабрь 1918 г. – командующий Уфимской группой войск, на базе которой в декабре 1918 – январе 1919 гг. была сформирована Западная армия Ханжина. В Уфе был с недоверием встречен русскими войсками, где осенью 1918 г. сложилась тяжелая ситуация из-за наступления красных войск, но быстро завоевал их симпатии. В это время он выходит из-под контроля КОМУЧа. Создал маневренную группу из 7 чехословацких батальонов в районе Белебея при обороне Уфы. Разместил силы Каппеля в центре своих позиций. Разбил этими силами красных на направлениях Уфа-Троицкосавск-Белебей 10 – 18 ноября 1918 г. Выступал противником введения в армии погон. В ноябре – декабре 1918 г. для спасения измотанных частей Каппеля двинул в бой небольшие силы Молчанова, которые потеряли в этих боях и от морозов до 40 % своего состава, но выполнили приказ Войцеховского. В момент переворота 18 ноября 1918 г. и после него запретил эсеровским агитаторам посещать войска, опасаясь из разложения. Отказался признать давление чехов и словаков, требовавших от него действий против распоряжений из Омска. Не получая никаких указаний от главкома чехословацких войск Сырового, перешел в декабре 1918 г. на службу к Колчаку, который подтвердил все полученные им за 1918 г. награды и чины, сложив с себя полномочия офицера Чехословацкой армии. После сдачи Уфы в конце декабря 1918 г. части Самарской группы Войцеховского отошли оттуда и были сменены другими белыми частями. С расформированием Самарской группы, с 1 января до июня 1919 г. – командующий 2-м Уфимским армейским корпусом. Был ранен 8 января 1919 г. Со 2-й половины мая 1919 г. – по сентябрь 1919 г. командующий Уфимской группой войск во 2-й армии генерала Лохвицкого. Непродолжительное время летом 1919 г. находился вне фронта, так как временно вышел из армии в знак протеста против назначения туда Сахарова. Участник Тобольской наступательной операции в сентябре – октябре 1919 г. сил Колчака. Перешел в наступление 1 сентября 1919 г. при тяжелом положении своего правого фланга войск, полностью выполнив задачу ударом во фланг 27-й стрелковой дивизии красных. После этого повернул свои силы почти на север во время сражения и сбил врага на фронте Сибирской армии, чем позволил ей двинуться вперед, хотя раньше ей это в ходе данного контрнаступления не удавалось. За это Войцеховский был награжден 12 сентября 1919 г. Георгиевским крестом 3-й степени. В сентябре 1919 – январе 1920 гг. – командующий 2-й армии (сменил Лохвицкого), генерал-лейтенант. Застрелил 20 ноября 1919 г. генерал-майора Гривина в селе Усть-Татарка за самовольное оставление им фронта, который своим отходом заставил отступить южную группу Войцеховского. Это произошло, когда Войцеховский получил от него повторный отказ вернуться и угрозу нападения с применением шашки. После этого назначил войскам Гривина нового командующего и приказал им вернуться на оставленные позиции. Получил после доклада Каппелю и Сахарову об этом происшествии с их стороны 26 ноября 1919 г. благодарность за наведение в армии порядка. В Ново-Николаевске часть Сибирской армии во главе с полковником Ивакиным подняла против него мятеж, им подавленный. В середине декабря 1919 г. категорически отказался от поста Главнокомандующего белыми силами Восточного фронта. За потворство чехов и словаков в Сибири большевикам во время Великого Сибирского Ледового Похода вызвал их командующего Сырового на дуэль, на которую чешский генерал не явился. Командующий Московской группой войск (с 15 января 1920 г. – Дальневосточная белая армия) в составе 1-го и 2-го корпусов, к которым позднее присоединился 3-й корпус, большая часть которого состояла из семеновцев («Колчаковско-Каппелевская армия»). Успешно вышел из окружения под Красноярском 5 – 6 января 1920 г., приготовленного для отступающих белых войск большевиками и эсерами. Перешел со своими силами к 7 января 1920 г. Енисей, не вступая в Красноярск. После этого отходит на реку Кан, вскоре после этого, из-за болезни Каппеля, распоряжается отходом белогвардейских войск на восток. С 21 января (по другим данным, с 26 января 1920 г.) по 25 апреля 1920 г. – последний командующий сибирскими белыми войсками после передачи ему командования генералом Каппелем. В его подчинении тогда находилась войсковая группировка из 30 тысяч человек: казаки Анненкова, бригада Красильникова, солдаты генерала Волкова, Ижевско-Воткинская дивизия, добровольцы Вержбицкого, части отдельных номерных дивизий. Подошел к Иркутску и 29 января 1920 г. занял пункт Куйтун и повел на Иркутск дальнейшее наступление вдоль железной дороги. Разгромил красные войска Нестерова 30 января 1920 г. у станции Зима при «неожиданном» содействии чехов и словаков. Исход боя решило введение Войцеховским в бой сил 25-го стрелкового полка имени адмирала Колчака. В итоге, были разбиты, по меньшей мере, 3 эшелона красных. Войцеховский занял 1 февраля 1920 г. предместье Иркутска Черемхово. После этого он разбил группу прикрытия красных под Усольем, вплотную подойдя к городу. У самого Иркутска он 5 -6 февраля 1920 г. вел жестокие бои, наиболее тяжелые из которых были под деревнями Суховкой и Олонками. Войцеховский 6 февраля 1920 г. выдвинул ультиматум красным: 1. Отвести их войска к северу. 2. Выдать белым Колчака и золотой запас. 3. Обеспечить белую армию продовольствием, фуражом, теплой одеждой на 50 тысяч человек. По просьбе иркутских красных властей, чехи и словаки начали с ним переговоры об условиях прохода его сил через Иркутск. К этому времени большая часть войск Войцеховского представляла из себя тифозный лазарет. В условиях, когда чехословаки и большевики затянули переговоры, решил прорваться в Забайкалье в обход Иркутска, несмотря на желание Сахарова взять его. Узнав о расстреле Колчака, Войцеховский разделил свою армию на 2 части и обошел ими город: 1-я группа перешла замерзший Байкал и ушла в Забайкалье, 2-я, обойдя Иркутск с юга, ушла в Читу. Решение Войцеховского было обусловлено нежеланием чехов и словаков впустить его силы в Иркутск. Во время перехода 11 – 13 февраля 1920 г. Байкала, издал приказ о производстве офицеров армии до полковников и войсковых старшин включительно без даже поверхностного рассмотрения дел ранее представленных к производству, из-за чего большинство офицеров сразу перескочили через 2-3 чина. Генерал-майор Фельдман обвинял его в том, что таким поступком он окончательно развратил офицерский корпус, дав тем самым армии «54 неграмотных штаб-офицеров и еще больше обер-офицеров». Прибыв в феврале 1920 г. в Забайкалье, расположил свои войска в районе Песчанка и окрестных деревнях, созвал собрание старших начальников своих сил для получения сведений о том, подчиняться им или нет Семенову. Пытался выторговать у Семенова для своих войск особые привилегии. Остался на посту командующего армией, но Семенов становился над ним, несмотря на то, что он был авторитетнее. В Чите снова собирает своих подчиненных для решения вопроса о дальнейших действиях. В это время он стал активно повышать дисциплину в армии суровыми мерами. Войцеховский без энтузиазма встретил пришедшие после него в Забайкалье белые части генерала Сукина и полковника Камбалина. В качестве командующего войсками Российской Восточной Окраины, Войцеховский 23 марта 1920 г. в своем обращении к населению Забайкалья объявил, что крестьяне, казаки и буряты должны выслать своих представителей в Читу на съезд к 6 июня 1920 г. Несмотря на то, что по данным генерала Фельдмана, он слабо укрепил Забайкалье в целом и Читу в частности, возведя оборону лишь на Яблоновом хребте, в апреле, на Пасху, при помощи семеновцев и японцев разбил наступавшую красную бригаду. Поддержал мнение Фельдмана заранее подготовить к эвакуации семьи офицеров, чтобы освободить для армии подвижной состав и пути отхода, создании особого офицерского резерва, который должен был играть роль самого стойкого белого подразделения для подъема боевого духа других. Не дал создать Фельдману, как тот планировал, офицерский батальон за счет отдельных офицеров и упразднения офицерских рот охраны при генералах. В ответ на протест Фельдмана, отправил его на второстепенную должность. Не смог учредить курсы «по повышению боеспособности армии», предложенные Фельдманом. В Чите в мае 1920 г. передал командование Дальневосточной белой армией Лохвицкому и уехал во Владивосток, присоединившись к войскам чехов и словаков. Это было обусловлено его нежеланием содействовать расколу в войсках на «каппелевцев» и «семеновцев». С сентября 1920 по 1930 гг. – в эмиграции в Манчжурии. В Харбине с сентября 1920 г. вместе с Пепеляевым вел яростную критику против Семенова, в том числе – на страницах официальной «Русской армии». Руководитель РОВС на Дальнем Востоке в Мукдене по 1929 г. В 1929 – 1945 гг. – в Праге, занимал ответственные должности в армии Чехословакии. Здесь стал отличным летчиком и автомобилистом, слыл знатоком Польши, Кавказа, Сибири, Подкарпатской Руси. Генерал армии с 30 декабря 1929 г. Имел иностранные награды. В 1919 г. награжден Чехословацким военным крестом, позже – Чехословацкой революционной медалью, чехословацкой медалью Победы, Французским орденом Почетного легиона 4-й степени (1926 г.), Французским орденом Почетного легиона 3-й степени (1929 г.), Югославским орденом святого Саввы 2-й степени (1929 г.), Югославским орденом святого Саввы 1-й степени (1930 г.), Югославским орденом Короны 1-й степени (1937 г.), Румынским орденом Звезды 1-й степени. Командующий 1-й армией Чехословакии с 25 сентября по 14 октября 1938 г. Один из высших чехословацких генералов Л. Крейчи так его охарактеризовал в это время: «Командующий армией очень хороший. Во время политического кризиса проявил неровный характер и личные амбиции. Для высшего командования непригоден». Войцеховский выступал за оказание сопротивления немцам, что не было поддержано руководством Чехословакии. Арестован СМЕРШем в 1945 г. Репрессирован, умер в лагере около Тайшета.
ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич (15.08.1878-25.04.1928). Полковник (12.12.1914). Генерал-майор (13.01.1917). Генерал-лейтенант (22.11.1918). Окончил Горный институт (1901), Николаевскую академию Генерального штаба (1910) и курс Офицерской кавалерийской школы (1911). Участник русско-японской войны 1904—1905: во 2-м Верхнеудинском и 2-м Аргунском казачьих полках. Участник Первой Мировой войны: командир эскадрона лейб-гвардии Конного полка, 05.1912 – 09.1914; начальник штаба сводно-кавалерийской дивизии, 09—12.1914; в свите (адъютант) императора Николая II, 12.1914 – 10.1915; командир 1-го Нерчинского полка, 10.1915—12.1916; командир 2-й бригады Уссурийской конной дивизий, 12.1916—01.1917; командир 7-й кавалерийской дивизии, 01 – 07.1917; с 10.07.1917 командир Сводного конного корпуса, 07 – 09.1917. Отказался от командования 3-м конным корпусом, 09.1917; убыл в Крым (вне армии), 10.1917 – 07.1918. В Белом движении: с 28.08.1918 командир бригады 1-й конной дивизии и с 31.08.1918 – командир 1-й конной дивизии; 08– 11.1918; командир 1-го конного корпуса, 11.1918 – 01.1919. По договоренности между генералами Деникиным и Красновым 26.12.1918 образовано единое командование Вооруженными силами Юга России (ВСЮР), в состав которого вошли и Добровольческая армия и Донская армия под общим Главнокомандованием генерала Деникина. Одновременно генерал Врангель был назначен командующим Добровольческой (Кавказской) армией, заменив генерала Деникина на этом посту, 01—08.05.1919. Болел тифом 02—03.1919. Командующий Кавказской армией ВСЮР, 08.05—04.12.1919. Командующий Добровольческой армией, 4.12.1919-02.01.1920. По поручению Деникина откомандирован на Кубань для формирования новых дивизий, 22—29.12.1919. Убыл в Константинополь (Турция) из Крыма 14.01.1920. В эмиграции (Турция) вследствие разногласий с Деникиным 28.02 – 20.03.1920. Вступил 23.03.1920 в командование Вооруженными силами Юга России (ВСЮР), сменив Деникина по решению (голосованием) созванного для разрешения этого вопроса Военного Совета в Крыму. Командующий ВСЮР, 23.03-11.05.1920. Переформировал 28.04.1920 прежние Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) в Русскую армию. Командующий Русской армией (Крым, Новороссия, Северная Таврия), 28.04 – 17.11.1920. Эвакуирован из Крыма 17.11.1920. В эмиграции: с 11.1920 – Турция, с 1922 г. -Югославия и с 09.1927 – Бельгия. 01.09.1924 создал Русский Общевоинский Союз – РОВС, объединивший бывших русских военных всех родов войск Белой и Русской армий. Умер 25.04.1928 в Брюсселе (Бельгия), похоронен в Белграде, Сербия.
По одной из версий, поддерживаемой дочерью (1992), генерал Врангель умерщвлен (отравлен палочкой Коха) его бывшим денщиком – агентом НКВД, который за 10 дней до смерти Врангеля посетил его. После этого посещения Врангель неожиданно заболел туберкулезом сильнейшей и острейшей формы, которым он никогда ранее не болел (дочь предполагает, что бывшему денщику удалось подкинуть Врангелю в пищу искусственных смертельных ядовитых бактерий, созданных в спецлабораториях НКВД).
Гайда Радола (настоящее имя и фамилия – Рудольф Гейдель) (1892-1948), чехословацкий контрреволюционный военный деятель. В Первую мировую войну унтер-офицер (присвоил себе затем звание младшего офицера) австро-венгерской армии. В 1915 году перешел на сторону черногорских войск, затем бежал в Россию. С весны 1918 года командир 7-го полка Чехословацкого армейского корпуса. Один из инициаторов и руководителей Чехословацкого корпуса мятежа 1918 года. С сентября 1918 года генерал-майор, командующий 2-й чехословацкой дивизией, с октября – Екатеринбургской группы. С января 1919 года генерал-лейтенант, командующий Сибирской армией; в июле (после провала наступления колчаковских войск) смещён Колчаком с поста и «вычеркнут из списков русской армии». В ноябре во Владивостоке возглавил выступление оппозиционных Колчаку право-эсеровских и буржуазно-либеральных группировок (см. Гайды путч 1919), затем выехал на родину. Был одним из руководителей чешской фашистской организаций. В 1945 году арестован и осужден народным судом.
Герасимов Александр Михайлович (11.11.1861-02.03.1930). Капитан 1 ранга (1907). Контр-адмирал (1911). Вице-адмирал (1913). Окончил Морской корпус (1882). Участник русско-японской войны 1904—1905: старший офицер броненосца «Победа» в Порт-Артуре; после сдачи Порт-Артура – в японском плену. Участник Первой Мировой войны: комендант морской крепости Петр Великий в Ревеле. В Белом движении: помощник, а затем – начальник Морского управления при Главнокомандующем генерале Деникине, 02.1920. Командующий Черноморским флотом, 17.02 – 19.04.1920. Отстранен от командования флотом генералом Врангелем, переведен в резерв; 04.1920. Ушел из Крыма с Черноморским флотом в Бизерту (Тунис), 11.1920. Директор морского корпуса в Бизерте (12.1920—03.1930). Умер в Бизерте (по другим источникам – умер в Ферривиле в 1931 г.).
Гинс Георгий Константинович родился в Новогеоргиевске (сейчас Модлин, Польша) 27 апреля 1887 г. Он изучал право в Санкт-Петербургском университете под руководством выдающегося юриста и специалиста по философии права Л. И. Петражицкого. Окончив университет в 1909 г., он начал государственную службу в переселенческом управлении Министерства земледелия, а в свободное время продолжал исследования в области права. Завершив написание диссертации о водном праве в Средней Азии и получив в 1915 г. ученую степень, Г. К. Гинс остался преподавать в Санкт-Петербургском университете.
В 1917 г. Гинс получил повышение по государственной службе и был назначен на должность главного юрисконсульта Министерства снабжения. В конце 1917 г. он уехал в Омск, где был привлечен на службу Белым правительством, созданным там летом 1918 г. По окончании Гражданской войны он оказался в Харбине, где до 1926 г. работал в управлении КВЖД, сначала в должности начальника канцелярии, затем главным контролером. В то же время он был редактором издававшегося в Пекине журнала "Русское обозрение", для которого писал статьи, и участвовал в создании Харбинского юридического факультета, эмигрантского учебного заведения, готовившего юристов в Китае. Он продолжал преподавать на факультете почти до самого отъезда в США, который состоялся в 1941 г. в результате нажима японских властей, которые не могли примириться с его независимым положением в политической жизни Харбина. В этот период он достиг вершин своей научной карьеры в области философии права, опубликовав следующие труды, ставшие теперь библиографической редкостью: "Новые идеи в праве и основные проблемы современности" (Харбин, 1931-1932), "Учение о праве и политическая экономия" (Харбин, 1933), "Очерки социальной философии" (Харбин, 1936).
Приехав в США, Г. К. Гинс поселился в районе Сан-Франциского залива, и некоторое время редактировал русскую эмигрантскую газету "Русская жизнь" и читал лекции в Университете Калифорнии в Беркли и в Армейской школе иностранных языков в Монтерее. Не найдя применения своей специальности в области философии права, он стал читать курсы по русской и советской цивилизации, истории и праву и опубликовал множество статей и две книги о положении в СССР: "Советское право и советское общество" (Гаага, 1954) и "Упадок коммунизма" (Нью-Йорк, 1956). Даже уйдя на пенсию с преподавательской должности, он продолжал читать лекции, публиковаться и работал консультантом для "Голоса Америки" до 1964 г. Г. К. Гинс скончался в сентябре 1971 г.
Деникин Антон Иванович (4.12.1872, Влоцлавек Варшавской губернии – 8.7.1947, Детройт, США), рус. генерал-лейтенант (1916). Сын отставного майора, происходившего из крепостных. Образование получил на военно-училищных курсах Киевского пех. юнкерского училища (1892) и Николаевской академии Генштаба (1899). Выпущен во 2-ю арт. бригаду. С 23.7.1902 старший адъютант штаба 2-й пех. дивизии, с 17.3.1903 – 2-го кав. корпуса. Участник рус.-японской войны 1904-05: с 28.3.1904 состоял в должности штаб-офицера для особых поручений при штабе IX, с 3 Ьент. – VIII АК; сначала Д. исполнял обязанности начальника штаба бригады Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи, затем начальника штаба Забайкальской каз. дивизии ген. П.К. Ренненкампфа и Урало-Забайкальской каз. дивизии. Участник рейда в тыл противника (май 1905), в ходе которого были нарушены коммуникации японской армии, уничтожены склады и др. С 12.1.1906 штаб-офицер для особых .поручений при штабе 2-го кав. корпуса, с 30.12.1906 штаб-офицер при управлении 57-й пех. резервной бригады, с 29.6.1910 командир 17-го пех. Архангелогородского полка. В начале 1914 назначен и.д. генерала для поручений при командующем войсками Киевского ВО. С началом мировой войны 19.7.1914 назначен генерал-квартирмейстером штаба 8-й армии. С 19 сент. – начальник 4-й стрелковой бригады (во время рус.-турецкой войны 1877-1878 получила название «Железная бригада»), которая в авг. 1915 развернута в дивизию. За бои 2-11.10.1914 у Самбора Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (приказ 24.4.1915). В боях 18янв. – 2 февр. 1915 под Лутовской части Д. выбили противника из окопов и отбросили его за Сан на участке Смольник-Журавлин, за эти действия Д. был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени (3.11.1915). За бои 26-30 авг. 1915 у деревни Гродека Д. получил Георгиевское оружие (10.11.1915), а за отличия под Луцком (май 1916), когда дивизия взяла большое число пленных и провела успешный штурм неприятельских позиций, – Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами (приказ 22.9.1916). 10(23) сент. 1915 взял Луцк, однако уже через два дня был вынужден его оставить. В сент. дивизия вошла в состав новообразованного из стрелковых частей XL АК ген. Н.А. Кашталинского. 5(18) окт. дивизия Д. взяла Чарторыйск, в плен попало св. 6 тыс. чел., 9 орудий и 40 пулеметов. Принял участие в наступлении Юго-Западного фронта в 1916, действуя на Луцком направлении. Прорвал 6 линий неприятельских позиций, а затем 25 мая (7 июня) взял Луцк. С 9.9,1916 командир VIII АК, который в дек. 1916в составе 9-й армии переброшен на Румынский фронт. В течение нескольких месяцев во время боев у населенных пунктов Бузео, Рымник и Фокшаны, в подчинении Д. также находились 2 румынских корпуса. После Февральской революции, когда ген. М.В. Алексеев был назначен Верховным главнокомандующим, Д. по требованию Временного правительства 28 марта был назначен его начальником штаба. Принимал участие в разработке оперативных планов (в т.ч. будущего Июньского наступления 1917); выступил против «революционных» преобразований и «демократизации» армии; пытался ограничить функции солдатских комитетов только хозяйственными проблемами. После замены Алексеева ген. А.А. Брусиловым Д. 31 мая перемещен на должность главнокомандующего армиями Западного фронта. Перед началом Июньского наступления в состав фронта (при начальнике штаба генерал-лейтенанте С.Л. Маркове) входили 3-я (ген. М.Ф. Квецинский), 10-я (ген. Н.М. Киселевский) и 2-я (ген. А.А. Веселовский) армии, в резерве фронта находился XLVIII АК (включавший в себя тяжелую артиллерию особого назначения). По плану командования армии фронта в помощь наносившему главный удар Юго-Западному фронту должны были нанести вспомогательный удар на Сморгонь – Крево. Армии фронта приняли участие в наступлении летом 1917, нанося главный удар в направлении на Вильно. После успешной арт. подготовки силы 10-й армии фронта перешли 9(22) июля в наступление, заняли 2 линии окопов противника и затем вернулись на свои позиции. Из-за начавшегося разложения армии наступление потерпело полную неудачу. 10(23) июля Д. отказался возобновить наступление. Вовремя совещания 16(29) июля в Ставке в присутствии министра-председателя А.Ф. Керенского и министра иностранных дел М.И. Терещенко Д. выступил с чрезвычайно резкой речью с обвинением Временного правительства в разрушении армии. Огласив свою программу спасения армии и страны, Д. в т.ч. потребовал «прекратить всякое военное» законотворчество, «изъять политику из армии… упразднить комиссаров и комитеты… ввести смертную казнь в тылу» и др. После назначения ген. Л.Г. Корнилова Верховным главнокомандующим Д. 2 авг. получил должность главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 4 авг. своим приказом ограничил деятельность комитетов в армиях фронта. При выступлении Корнилова Д. 27.8.1917 открыто выразил ему свою полную поддержку, за что 29 авг. «отчислен от должности с преданием суду за мятеж», арестован в Бердичеве (вместе со своим начальником штаба ген. Марковым, генерал-квартирмейстером генерал-майором М.И. Орловым) и отправлен в тюрьму в Быхов, где уже находился Корнилов и др. Оттуда, по приказу ген. Н.Н. Духонина, он в числе др. был освобожден 19 нояб. и через три дня прибыл по железной дороге в Новочеркасск. Ближайший помощник ген. Алексеева и Корнилова в формировании Добровольческой армии, старался сгладить их постоянные столкновения. Первоначально Д. был назначен начальником Добровольческой дивизии, но после реорганизации переведен на должность помощника командующего. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. После ги-. бели Корнилова 13 апр. при штурме Екатеринодара Д. принял пост командующего армией и отвел ее обратно на Дон. С 31 авг. он одновременно был 1 -м заместителем председателя Особого совещания. После смерти ген. Алексеева Д. 8 окт. стал главнокомандующим Добровольческой армией, объединив в своих руках военную и гражданскую власть. С 8.1.1919 главнокомандующий ВСЮР. При Д. было создано Особое совещание под председательством ген. А..М.Драгомирова, выполнявшее функции правительства. 30.12.1919 Д. упразднил Особое совещание и создал правительство при главнокомандующем. 4.1.1920 А.В. Колчак объявил Д. Верховным правителем России. В марте 1920 Д. создал Южнорусское правительство. Военные действия Д. против большевиков, несмотря на одержанные вначале успехи, окончились тяжелым поражением белых армий, и 4.4.1920 Д. был вынужден передать пост главнокомандующего ген. П.Н. Врангелю. После этого он выехал в Константинополь. В апр. 1920 прибыл в Лондон (Великобритания), в авг. 1920 переехал в Бельгию, где жил в окрестностях Брюсселя. С июня 1922 жил в Будапеште (Венгрия). В середине 1925 переехал в Бельгию, а весной 1926 – во Францию (в пригород Парижа). Активного участия в политической деятельности в эмиграции не принимал. Когда в 1940 во Францию вошли герм. войска, Д. с семьей выехал на юг, в Мимизан, где провел всю оккупацию. Во время 2-й мировой войны выступал против сотрудничества с немцами и в поддержку советской армии. В нояб. 1945 выехал в США. Автор мемуаров «Очерки рус. смуты» (тт. 1-5, 1921-26) и др.
Денисов Святослав Варламович (10.09.1878-29.04.1957). Полковник (06.12.1916). Генерал-майор (04.1918). Генерал-лейтенант (06.1918). Окончил Донской кадетский корпус (1896), Михайловское артиллерийское училище (1898) и Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Участник Первой Мировой войны: в штабе Уральской казачьей дивизии, 1914—1915. С 16.08.1915 начальник штаба 2-й сводной Донской казачьей дивизии генерала Краснова, 08.1915—04.1917. Командир 2-го Донского казачьего полка, 04-08.1917; начальник штаба 3-го конного корпуса при генерале Краснове, 08 – 11.1917. В Белом движении: командир отряда восставших казаков, 02 – 04.1918; начальник штаба и командующий Южной группой Донской армии при генерале Полякове К.С., 04.04—18. 05.1918. Командующий Донской армией, 18.05.1918—02.02.1919. После ухода немецких войск и оставления без защиты левого фланга Донской армии, активизации большевиков на Дону, а также вследствие неудач в боях Донской армии генерал Денисов был вынужден покинуть пост командующего Донской армией. В эмиграции с 02.1918: Турция (Константинополь); Германия (1921); США (с 1923 г.). Активный деятель и создатель Казачьего союза США, его председатель. Умер в Страдфорде (США).
Дитерихс Михаил Константинович (5.4.1874 -8.10.1937, Шанхай, Китай), генерал-лейтенант (1919). Образование получил в Пажеском корпусе (1894) и Николаевской академии Генштаба (1900). С 2.4.1910 старший адъютант штаба Киевского ВО, с 30.6.1913 начальник отделения ГУГШ. При мобилизации 23.8.1914 назначен и.д. генерала для делопроизводства и поручений при Верховном главнокомандующем, занимался разработкой различных аспектов операций рус. армии. С 30.9.1914 и.д. генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии, во время боев под Краковом исполнял обязанности начальника штаба. 1.4.1915 назначен генерал-квартирмейстером штаба армий Юго-Западного фронта. Один из ближайших помощников ген. А.А. Брусилова, сыграл большую роль в подготовке наступления Юго-Западного фронта (Брусиловского прорыва). 11.4.1915 награжден Георгиевским оружием. 28.5.1916 назначен командиром 2-й особой пех. бригады (3-й и 4-й особые пех. полки), предназначенной для отправки на Салоникский фронт. В июле 1917 отозвано Россию и зачислен в резерв чинов при штабе Петроградского ВО. 10.9.1917 назначен генерал-квартирмейстером при Верховном главнокомандующем. 8.11.1917 бежал на Украину, где вскоре занял пост начальника штаба Чехословацкого корпуса (до янв. 1919). 17.1.1919 по поручению А.В. Колчака возглавлял следственную комиссию по делу об убийстве на Урале членов царской семьи и др. членов дома Романовых. С янв. 1919 начальник штаба Западного фронта. 11-22.7.1919 командующий Сибирской отдельной армией. С 22. июля по 4 нояб. 1919 командующий Восточным фронтом; одновременно с 10 авг. по окт. 1919 начальник штаба Верховного правителя, а 10-27 авг. – военный министр. После поражения войск Колчака, не принявшего план Д. об отводе войск с линии Иртыша, направился в Харбин, где жил до 1922. 1.6.1922 после свержения правительства Меркулова принял власть как командующий войсками Временного Приамурского правительства. 8.8:1922 ему передана Собором власть как воеводе Земской рати и правителю Приморского края. В сент.-окт.1922 его войска были разбиты частями Красной армии, после чего Д. эмигрировал в Китай. 19.6.1930 сменил ген. Ханжина на посту начальника Дальневосточного отдела РОВС; был почетным членом Офицерского собрания в Шанхае. Автор книги «Убийство Царской семьи и членов Дома Романовых на Урале» (М., 1991).
Долгоруков Павел Дмитриевич (1866-1927) – один из организаторов кружка «Беседа», «Союза земцев-конституционалистов», «Союза освобождения», один из основателей Конституционно-демократической партии. На 1-м съезде избран в ЦК, на 2-м – председателем ЦК. Депутат 2-й Государственной думы . Во время гражданской войны организатор движения в поддержку Добровольческой армии. Осенью 1920 г. эвакуирован в Константинополь. Профессор русской литературы в Сорбонне. Сторонник вооруженной борьбы с большевиками. Работал по заданию генерала П.Н. Врангеля в Софии, Праге, Белграде. При тайном посещении СССР был арестован и расстрелян в ответ на убийство советского посла в Польше Войкова.
Драгомиров Абрам Михайлович (1868 – 1955) – генерал от кавалерии. Окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генштаба (1893). С 1910 по 1912 гг. – командир 9-го Гусарского Киевского полка. В начале I-й мировой войны принял командование сводной кавалерийской дивизией, с ноября 1914 г. – сводным кавалерийским корпусом. За бои во время Галицийской битвы награжден орденами Святого Георгия 4-й и 3-й степени. В 1915 г. – командир 9-го армейского корпуса, в 1916 г. назначен командующим 5-й армией. В 1917 г., до июня того же года – главнокомандующий армиями Северного фронта. С августа 1918 г. – помощник Главнокомандующего Добровольческой армией, с сентября 1918 г. – председатель Особого совещания при Главнокомандующем (возглавлял гражданское управление). Член Политического Совещания в Париже до сентября 1919 г. В Вооруженных Силах Юга России – главноначальствующий Киевской области и командующий группой войск киевского направления. В марте 1920 г. – председатель Военного совета, собранного по приказу Деникина в Севастополе для того, чтобы избрать его преемника. В Русской армии Врангеля – генерал для поручений, один из ближайших помощников Главнокомандующего. В эмиграции проживал сначала в Сербии, затем – в Париже. Активный участник РОВС – генерал для поручений при председателе РОВС Миллере. Скончался 9 декабря 1955 г. в Ганьи под Парижем. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа.
Дроздовский Михаил Гордеевич (1881-1919) – генерал-майор Генштаба. Окончил Киевский кадетский корпус, Павловское военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Из училища вышел в Лейб-гвардии Волынский полк. Участник русско-японской (в рядах 34-го Восточно-Сибирского стрелкового полка) и Первой мировой войн. В начале войны 1914 г.– в оперативном отделе Управления генерал-квартирмейстера Северо-Западного фронта. В 1915 г. – и. д. начальника штаба 60-й пехотной дивизии. Полковник. В начале 1917 г.—и. д. начальника штаба 15-й пехотной дивизии. В апреле 1917 г.– командир 60-го Замосцкого полка. Георгиевский кавалер. В конце войны назначен командиром 14-й пехотной дивизии.
В конце декабря 1917 г. в Яссах, на Румынском фронте, по его инициативе началось формирование 1-й отдельной бригады русских добровольцев. Вопреки приказу штаба Румынского фронта о прекращении подобных формирований, отряд русских добровольцев Румынского фронта в составе около 1-й тысячи человек (в основном офицеры) под командованием полковника Дроздовского выступил 26 февраля 1918 г. из Ясс на Дон для соединения с Добровольческой армией генерала Корнилова. Пройдя походным порядком из Румынии до Ростова, Дроздовский 21 апреля занял Ростов после упорного боя с отрядами Красной армии. Выйдя из Ростова, отряд Дроздовского помог казакам, восставшим против красных, удержать Новочеркасск. После отдыха в Новочеркасске отряд полковника Дроздовского в составе уже свыше 2-х тысяч добровольцев выступил на соединение с Добровольческой армией и прибыл 27 мая 1918 г. в станицу Мечетенскую, где был назначен парад, который принимали Верховный руководитель Добровольческой армии генерал М. В. Алексеев и ее Главнокомандующий генерал А. И. Деникин. При переформировании Добровольческой армии отряд полковника Дроздовского был переименован в 3-ю пехотную дивизию и участвовал во всех боях 2-го Кубанского похода, в результате которого Кубань и весь Северный Кавказ были освобождены от красных. 31 октября 1918 г. под Ставрополем генерал Дроздовский был ранен в ногу ружейной пулей. Уже в госпитале 8 ноября 1918 г. был произведен генералом Деникиным в генерал-майоры. Скончался от заражения крови 1 января 1919 г. в Ростове. Погребен в Екатеринодарском соборе. Гроб с прахом генерала Дроздовского был вывезен командованием Дроздовской дивизии из Екатеринодара при отступлении в марте 1920 г. и перевезен вместе с дивизией из Новороссийска в Севастополь. Снова тайно погребен в Севастополе. Место погребения знали только шесть человек.
Дутов Александр Ильич (05.08.1879-07.03.1921). Полковник (09.1917). Атаман Оренбургского казачества (05.09.1917). Генерал-майор (08.1918). Генерал-лейтенант (21.09.1919). Окончил Оренбургский Николаевский кадетский корпус (1896), Николаевское кавалерийское училище (1898) и Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Участник Первой Мировой войны: в Оренбургском казачьем училище (1914—1915); помощник командира казачьего полка. Избран (03.1917) председателем Всероссийского союза казачьего войска. 04.1917 возглавил съезд казаков России в Петрограде. 09.1917 избран атаманом Оренбургского казачества и главой – председателем войскового правительства. 17.11.1917 поднял в Оренбурге антибольшевистский мятеж. Присоединился (05.1918) к мятежу Чехословацкого корпуса. Кроме Оренбурга, отряды Дутова (около 7000) захватили Челябинск, Троицк, Верхнеуральск. Отряды Красной армии (Блюхер, Ермаков и другие) вновь овладели 18.01.1918 Оренбургом, разбив главные силы атамана Дутова. Дутов бежал в Верхнеуральск, где сумел набрать достаточно сильный отряд. 02.1918 белоказаки Дутова снова подошли к Оренбургу. Однако 04.1918 отряды Блюхера повторно разгромили белоказаков Дутова, остатки которых бежали в Тургайские степи. Вскоре присоединились к восставшему против большевиков Чехословацкому корпусу. Части Дутова 03.07.1918 вновь захватили Оренбург и 11.1918 вошли в состав Русской армии адмирала Колчака. 09.1919 Оренбургская армия Дутова вновь, еще раз, была разбита Красной армией под Актюбинском (тогда эта армия находилась в составе Южной армии генерал-майора Белова). 21.09.1919 атаман Дутов повторно был назначен командующим новой Оренбургской армией, которая снова была разбита в районе Актюбинска. Остатки ушли в Семиречье, где влились в Семиреченскую армию атамана Анненкова. Этот поход остатков войск Оребургской армии генерала Дутова от Актюбинска на юго-запад к Семипалатинску, далее на юг к Сергиополю, и затем на Копал – еще одна страница трагических «Ледяных походов» Белой армии. Однако из-за отсутствия продовольствия его называют еще и «Голодным походом». По приходу в Семиречье назначен атаманом Анненковым генерал-губернатором Се-миреченской области, 10.1919—04.1920. 27.05.1920 перешел в Китай вместе с Семиреченской армией атамана Анненкова. С 05.1920 в эмиграции: город Сайдун, провинция Син-Цзян, Китай. 07.03.1921 убит агентами НКВД (убийцы – Мукай и Хаджимьяров из отряда разведчиков Чанышева) в Сайдуне (застрелен в упор в своем кабинете). Похоронен в Суйдине (Зап. Китай).
Духонин Николай Николаевич (1.12.1876 -20.11.1917, станция Могилёв), рус. генерал-лейтенант (4.8.1917). Образование получил в 3-м Александровском училище (1895) и Николаевской академии Генштаба (1902). Выпущен в лейб-гвардии Литовский полк. С нояб. 1904 старший адъютант штаба 42-й пех. дивизии, Со 2.1.1906 помощник старшего адъютанта штаба Киевского ВО, с 8.1.1907 штаб-офицер для поручений при штабе Киевского ВО. 2.9.1908 прикомандирован к Киевскому военному училищу для преподавания военных наук, с 24.9.1912 старший адъютант штаба Киевского ВО. При мобилизации назначен старшим адъютантом отдела генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии, курировал вопросы разведки. За проведение рекогносцировки в сент. 1914 у крепости Перемышль награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (11.4.1915). Сянв. 1915 командир 165-го пех. Луцкого полка. Успешно действовал, прикрывая 19-22 апр. 1915 отход 42-й пех. дивизии у Вялы и в боях у Мокры 25-27 апр., за что был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. С 8.9.1915 и.д. генерала для поручений при главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта. С 22.12.1915 помощник, с 5.6.1915 генерал-кватирмейстер, с 29.5.1916 начальник штаба армий Юго-Западного фронта. С4.8.1917 начальник штаба армий Западного фронта. В сент. 1917, когда ген. М.В. Алексеев, ликвидировав выступления ген. Л.Г. Корнилова, отказался от должности начальника штаба Верховного главнокомандующего, на его место был назначен Д. (утвержден в должности 10.10.1917). После бегства А.Ф. Керенского по время октябрьских событий в Петрограде, Д. 1 нояб. принял на себя исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего. Когда В.И. Ленин вместе с И.В. Сталиным и Н.В. Крыленко по прямому проводу из Петрограда потребовали от Д. немедленно прекратить боевые действия и начать с немцами переговоры о мире, категорически отказался исполнить это приказание и был в тот же день смещен и заменен прапорщиком Крыленко. Под свою личную ответственность Д. приказал освободить содержавшихся в тюрьме в Быхове будущих вождей Белого движения ген. Корнилова и др., которые 19 нояб. выехали разными путями на Дон. 20 нояб. Д. арестован в Ставке Могилёвским советом и передан прибывшему красному командованию. При конвоировании на вокзал убит толпой солдат и матросов у вагона Крыленко.
Ещин Леонид Евсеевич (1897-1930) родился в 1897 году в Нижнем Новгороде. Учился в Московском университете. В гражданской войне в звании прапорщик участвовал в Добровольческой армии в отряде генерала Перхурова. Был участником восстания Бориса Савинкова в Ярославле. В чине капитана служил адъютантом у генерала Викторина Михайловича Молчанова, оперативные сводки составлял в стихах. Во Владивостоке, там же В 1921 году в газете «Руль» во Владивостоке Ещин публиковал свои статьи, там же во Владивостоке вышел и его сборник «Стихи таежного похода».
Эмигрировал в Китай в Харбин. Тосковал по России, пил горькую. Ещина под именем Евсеева вывела в своём романе "Возвращение" Наталья Ильина. Вот фрагмент из стихотворения поэта Арсения Несмелова "Леонид Ещин":
Был ты голым, и был ты нищим,
Никогда не берег себя,
И о самое жизни днище
Колотила тобой судьба.
В 1930 году в Харбине Леонид Ещин покончил жизнь самоубийством в возрасте 33 лет.
Казанович Борис Ильич ( 1871 -1943) – генерал-лейтенант Генштаба. Окончил Могилевскую классическую гимназию, Московское юнкерское училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1899). Из училища вышел в 5-й Туркестанский линейный батальон. Участник русско-японской войны. С 1902 по май 1905 – обер-офицер для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса. С мая по ноябрь 1905 г. – в распоряжении командующего войсками Приамурского военного округа. С ноября 1905 г. по март 1909 г.—.штаб-офицер для поручений при штабе Туркестанского военного округа. Полковник. В 1912 г. – начальник штаба 11-й пехотной дивизии. С декабря 1914 г. – командир 127-го Путильского полка. Награжден Георгиевским оружием. С 6 декабря 1916 г.– генерал-майор, начальник штаба 6-й Сибирской стрелковой дивизии. В 1917 г.– командующий этой дивизией.
В Добровольческой армии с самого начала (близкий друг генерала Корнилова со времени службы в Туркестанском военном округе). В 1-й Кубанский поход пошел рядовым, участвовал во всех атаках Партизанского полка. Вскоре после соединения с Кубанским отрядом принял полк, ибо командир Партизанского полка генерал Богаевский был назначен командиром 2-й бригады. Участвовал с полком в штурме Екатеринодара в конце марта 1918 г. и с частью полка ворвался в центр города. Тяжело ранен во время штурма. С мая 1918 г. до конца июня – в секретной миссии в Москве по поручению генералов Алексеева и Деникина. После возвращения из Москвы назначен начальником 1-й пехотной дивизии, с которой участвовал во всех боях во время 2-го Кубанского похода. В ВСЮР – командир армейского корпуса. Генерал-лейтенант. В ноябре 1919 назначен генералом Деникиным командующим войсками Закаспийской области («Туркестанской армии») на место генерала Савицкого. После сражения при Казанджике 3 декабря 1919 г. отвел войска с боями к Красноводску, где погрузил их на корабли. Вновь получил ранение. В Русской армии генерала Врангеля – начальник Сводно-Кубанской дивизии, принимавшей участие в десанте генерала Улагая на Кубань. После эвакуации из Крыма и пребывания в Галлиполи проживал в Королевстве СХС, первоначально в Мурско Собота, а затем в Белграде. Председатель Главного правления Союза участников 1-го Кубанского похода, которым оставался до конца жизни. Одновременно был председателем Общества офицеров Генерального штаба в Югославии, а в 1931 г. был избран председателем основанного тогда же Общества изучения гражданской войны. Скончался в русской больнице города Панчево под Белградом 2 июня 1943 г. Похоронен на Новом кладбище.
Отрывок из воспоминаний «Поездка из Добровольческой армии в Красную Москву» опубликован в «Архиве Русской Революции» (Т. VII. Берлин, 1922. С. 184-202).
Кедров Михаил Александрович (13.09.1877-29.10.1945) Контр-адмирал (17.11.1916). Вице-адмирал (04.11.1920). Окончил 4-й Московский кадетский корпус, Морской кадетский корпус (1899), Михайловскую артиллерийскую (военную) академию (1907). Участник русско-японской войны 1904—1905: офицер в штабе Тихоокеанской эскадры, участник обороны Порт-Артура и Цусимского морского сражения. Командир посыльного судна «Воевода», 1909 – 1910. Флагманский артиллерийский офицер флота Балтийского моря, 1910—1912. Командир эсминца «Пограничник», 1911 – 1913. Командир учебного судна «Петр Великий», 1913—1914. Офицер в штабе 2-й бригады линкоров, 06—11.1914. Представитель флота России в Великобритании, 11.1914 —1915. Командир линкора «Ган-гут», 1915 – 1916. Командир минной дивизии Балтийского флота, 01.02—05.04.1917. Помощник морского министра, 05.04—01.06.1917. Командир бригады линейных кораблей Черноморского флота (адмирала Колчака), 06—11.1917. В Белом движении: уполномоченный Верховным Правителем России адмиралом Колчаком по делам военно-морских агентов (атташе) в Европе, 01.1919 – 10.1920. Командующий Черноморским флотом (заменил умершего 17.10.1920 адмирала Саблина); 17.10.1920-01.01.1921. Обеспечил уход из Крыма кораблей Черноморского флота и эвакуацию в Турцию около 150 000 солдат и офицеров Русской армии Врангеля, которые прибыли в Галлиполи (Турция) 21.11.1920. Переименованный 21.11.1920 в Русскую эскадру Черноморский флот под командованием Кедрова вышел из Константинополя (Турция) 08.12.1920, прибыв в Бизерту (Тунис), 21 – 23.12.1920. Вице-адмирал Кедров 31.12.1920 передал командование Русской эскадрой в Бизерте контр-адмиралу Бернсу. Убыл в Париж, где принял пост главы Русского морского офицерского корпуса 1). После похищения генерала Миллера 09.1937 агентами НКВД в Париже временно возглавил РОВС, став его председателем, 24.09.1937-19.04.1938. Умер в Париже, в 1945.
Климович Евгений Константинович (1871 – 1932) – окончил Полоцкий кадетский корпус, Павловское военное училище. В 1898 г. – адъютант Волынского ГЖУ; с 1901 г. – пом. начальника Петроковского ГЖУ; в 1905 г. прикомандирован к штабу ОКЖ с назначением в распоряжение виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора; с июля 1905 г. по январь 1906 г. исполнял обязанности виленского полицмейстера; с января 1906 г. – и.д. нач. Московского охранного отделения; с апреля 1907 г. – пом. московского градоначальника; с ноября 1907 г. – московский градоначальник; с 1908 г. – зав. Особым отделом ДП; с 1909 г. – керчь-еникальский градоначальник; с 1915 г. – ростовский градоначальник; с 1916 г. – директор ДП; с сентября 1916 г. – сенатор. В годы гражданской войны в Крыму при Врангеле – начальник контрразведки.
Краснов Петр Николаевич (1869, Петербург – 1947, Москва) – военный деятель, писатель. Род. в семье генерал-лейтенанта. Образование получил в гимназии, кадетском корпусе и в 1-м военном Павловском училище, которое Краснов окончил в 1888 по первому разряду с занесением на мраморную доску за блестящие успехи. Был выпущен хорунжим и служил в Атаманском полку. Попытка Краснова окончить Николаевскую академию Генштаба не увенчалась успехом. С 1891 Краснов стал печататься в Петербургских журналах и газетах, выступая в качестве беллетриста и военного теоретика. Его монархические убеждения, рассуждения об офицерстве как особой благородной касте, не были приняты демократической общественностью. В 1897 Краснов был назначен начальником конвоя первой рус. дипломатической миссии в Абиссинию (Эфиопию). Поразив негуса Менелика II искусной джигитовкой, а Петербургские власти стремительным возвращением с секретными бумагами, Краснов был награжден эфиопским, русским и французским орденами. В 1901 спецкором газ. «Русский инвалид» отправился на театр военных действий в Китай, в 1904 писал корреспонденции с русско-японской войны. Краснов много путешествовал и еще больше писал. В 1908 Краснов окончил Офицерскую кавалерийскую школу. В 1910 Краснов за выдающиеся заслуги был «вне правил» (минуя очередность чинов) произведен в полковники. Во время первой мировой войны проявил исключительную храбрость, получив такие награды, как Георгиевское оружие и орден св. Георгия 4-й степени. Узнав о Февральской рев., Краснов надеялся на установление конституционной монархии. Презирая А.Ф. Керенского, Краснов участвовал в мятеже Л.Г. Корнилова, а после его подавления, оставаясь командиром 3-го конного корпуса, разработал план разгрома рев. сил в Петрограде. Во время Октябрьского переворота поддержал Д.Ф. Керенского, полагая, что «хоть с чертом, но против большевиков». Попытка Краснова и Керенского взять Петроград потерпела поражение. Керенский бежал, а Краснов был арестован, но, дав честное слово не вести борьбу с большевиками, был отпущен. Краснов уехал на Дон, где в 1918, опираясь на Германию и не подчиняясь А.И. Деникину, во главе казачьей армии неудачно наступал на Царицын – Камышин. В чине генерала от кавалерии вынужден был уйти в отставку и эмигрировал в Германию. Написал множество романов, историко-публицистических произведений, мемуары «На внутреннем фронте». Убежденный противник Сов. власти, во время Великой Отечественной войны Краснов сотрудничал с фашистами, возглавив Главное казачье управление, занимавшееся формированием казачьих частей для борьбы с СССР. В мае 1945 сдался в плен англичанам и был ими выдан советской военной администрации. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был повешен. Примечательно, что одним их обвинений, выдвеннутых против него, была его литературная деятельность.
Кривошеин Александр Васильевич (1857 – 1921). Из дворян. Окончил юридический факультет Петербургского университета, юрисконсультант частной Северо-Донецкой железной дороги. С 1884 служил в Министерстве юстиции, с 1887 – в земском отделе МВД. В 1889–1891 – комиссар по крестьянским делам в Царстве Польском. С 1902 начальник Переселенческого управления МВД. С 1905 товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием. С 1906 член Государственного совета и товарищ министра финансов. Гофмейстер (1909), статс-секретарь (1910). В 1908–1915 Главноуправляющий землеустройством и земледелием, один из соратников П. А. Столыпина в проведении аграрной реформы, сторонник ликвидации общинного землевладения и развития хуторского хозяйства. С 1916 член комиссии по делам сельского хозяйства Государственного совета. После Октябрьской революции один из организаторов «правого центра». В 1918 в Киеве организовал монархический «Совет государственного объединения России» (был товарищем его председателя). В годы гражданской войны был председателем «Правительства Юга России» П. Н. Врангеля. С 1920 в эмиграции.
Крымов Александр Михайлович (23.10.1871-31.08.1917) Генерал-майор (06.12.1914). Генерал-лейтенант (1917). Участник русско-японской войны 1904 – 1905. Участник Первой Мировой войны: офицер в штабе 2-й армии генерала Самсонова; 08.1914—04.1915. Командир Уссурийской казачьей бригады, 1915 – 1916. Командир 3-го Конного корпуса (сменил генерала Келлера); 04—28.08.1917. Командующий Особой Петроградской армией, созданной для подавления революционных волнений, участник мятежа генерала Корнилова; 24—31.08.1917. После провала мятежа Корнилова (и его ареста) под угрозой предания суду за поддержку Корнилова и предстоящего заключения в тюрьму (после разговора с Керенским) покончил с собой (застрелился) 31.08.1917.
Крюков Федор Дмитриевич (2[14].02.1870—4.03.1920), писатель, общественный деятель. Родился в станице Глазуновская, ныне Волгоградской обл. в семье станичного атамана. В 1892 окончил петербургский Историко-филологический институт. В 1893—1905 был учителем. В 1906 избран депутатом I Государственной думы от Области Войска Донского. В 1906—1907 выступал в Думе и в печати против использования донских полков для подавления революционных выступлений. Начал печататься в 1892 («Гулебщики. Очерк из быта стародавнего казачества»). В рассказах («Пособие»», «В родных местах», «Клад», «Казачка» и др.) рисовал колоритный быт донского казачества, изображал также жизнь русского учительства, духовенства, чиновников, военных.
Кумов Роман Петрович (21.11[3.12].1883—20.02[5.03]. 1919), писатель. Родился в станице Казанская Области Войска Донского. В 1910 окончил юридический факультет Московского университета. В дальнейшем жил преимущественно в станице Усть-Медведицкой. В студенческие годы печатал рассказы и очерки в журналах. Между 1907 и 1916 в Петербурге и Москве вышло несколько сборников его рассказов и очерков. Критика сочувственно отзывалась о сборнике «В Татьянину ночь». Драма «Конец рода Коростомысловых» (1916) поставлена в 1917 в Петрограде и Москве.
Кутепов Александр Павлович (16.09.1882-06.05.1930) Полковник (09.1916). Генерал-майор (11.1918). Генерал-лейтенант (06.1919). Генерал от инфантерии (12.1920; произведен генералом Врангелем после эвакуации из Крыма в Галлиполи, Турция). Один из самых заслуженных генералов Белой Гвардии. Окончил Архангельскую классическую гимназию и Петербургское пехотное юнкерское училище (1904). Участник русско-японской войны 1904 – 1905: офицер в рядах 85-го Выборгского пехотного полка. С 1907 – офицер лейб-гвардии Преображенского полка. Участник Первой Мировой войны: капитан, командир роты и батальона лейб-гвардии Преображенского полка, 08.1914—1917; командир лейб-гвардии Преображенского полка (1917). В конце 1917 пытался разоружить солдат Лейб-гвардии Волынского и Литовского полков, перешедших на сторону большевиков. За время войны, 1914—1917, трижды ранен. В Белом движении: командир роты и батальона Корниловского полка; Начальник гарнизона Таганрога. Участник 1-го Кубанского Ледяного поход; 12.1917 – 03.1918. Помощник командира 1-го Офицерского полка, 15.03 – 30.03.1918. Командир 1-го генерала Корнилова полка; 30.03—12.06.1918. Командир 1-й бригады в 1-й пехотной дивизии, 02.07—13.08.1918. Черноморский генерал-губернатор после захвата 13.08.1918 Новороссийска, 13.08—24.12.1918. Командир 1-го армейского корпуса, 26.01.1919 – 04.1920. Командир 1-го армейского корпуса в Русской армии генерала Врангеля, 04 – 09.1920. Командующий 1-й армией; 04.09-16.11.1920. Эвакуирован из Крыма (11.1920) в Галлиполи (Турция). В эмиграции с 11.1920: Турция, Болгария (с 1921 г.), Сербия (с 1923 г.), Франция (с 1924 г.).
Руководитель Русского Обще-Воинского Союза (РОВСа) после смерти генерала Врангеля; 1928-1930. Исчез 26.04.1930 в Париже. (Выкраден агентами НКВД совместно с французскими резидентами (включая агентов бывшего царского, а позже советского военного атташе в Париже генерала графа А.А. Игантьева, за что Игнатьев по возвращении в СССР в 1937 г. получил награды от Сталина и позже произведен в генерал-лейтенанты Красной армии). По одной из версий, на стоявшем в Гавре в тот момент пароходе «Нефтесиндикат» привезен в Ленинград 03.05.1930 в бессознательном состоянии после чрезмерных доз уколов для парализации возможного сопротивления. Доставлен 05.05.1930 в Москву; умер, не приходя в сознание).
Лебедев Дмитрий Антонович (1883-1921?, 1928) Полковник (1917). Генерал-майор (11.1918). Окончил Сибирский кадетский корпус (1900), Михайловское артиллерийское училище (1903) и Николаевскую академию Генерального штаба (1911). Участник русско-японской войны 1904—1905. Участник Первой Мировой войны: служил в аппарате Генерального штаба. Член Главного комитета монархического Союза офицеров армии и флота, 1917. Участник мятежа генерала Корнилова, 05—09.1917. В Белом движении: в Добровольческой армии, начальник штаба отряда, 12.1917 – 02.1918. Послан генералом Корниловым в Сибирь как представитель Добровольческой армии; с небольшим отрядом 03.1918 перешел через Волгу в Сибирь. В подпольных военных отрядах и войсках Сибирской армии; 03-11.1918. Участник переворота в Омске 18.11.1918. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего адмирала Колчака, 21.12.1918-09.08.1919. Снят с поста начальника штаба Верховного Главнокомандующего за поражения у Златоуста и под Челябинском, которые послужили началом полного разгрома Русской армии адмирала Колчака. Командующий армейской Степной группой, 09.08– 16.11.1919. С 16.11.1919 – командующий Уральской группой войск, сформированной на базе Степной группы. Участник Великого Сибирского Ледяного похода, в Тобольской колонне генерала Редько, в которую влилась Уральская группа генерала Лебедева, 12.1919—03.1920. Придя в Читу, в Забайкалье, занимал должность дежурного генерала в штабе Дальневосточной армии; 04—11.1920. После разгрома Дальневосточной армии атамана Семенова в Забайкалье и перехода войск этой армии в Приморье находился в составе войск района и гарнизона Владивостока. Убит в 1921 г. на Дальнем Востоке, обстоятельства смерти остаются неизвестными. По другим источникам, командовал войсками Земской Рати генерала Дитерихса в районе Владивостока, 1922. Эмигрировал в Китай вместе с войсками Земской Рати (подробнее смотри – «Земская Рать»); умер в Шанхае, 1928 г.
Лодыженский Юрий Ильич (1888-1977) – из дворян. В годы Первой мировой войны он служил полковым врачом, затем начальником госпиталя Красного Креста в Киеве, где через его руки прошло около 12 тысяч раненых. За этим последовали ужасы революционного красного террора и спасение осужденных из застенков ЧК, работа по заданию генерала П. Н. Врангеля в Российском отделении Красного Креста в Женеве. В 1924 году, после знаменитого Лозаннского процесса по делу Конради и Полунина, автор и женевский адвокат Т. Обер организовали в Женеве Международное соглашение по борьбе с III Интернационалом и затем в течение 27 лет вели непрерывную пропагандистскую работу в Швейцарии и других странах.
Лукомский Александр Сергеевич (1868-1939) – генерал-лейтенант Генштаба. Окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус, 1-е Павловское военное училище, Николаевское инженерное училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1897). Из училища был выпущен во 2-й саперный батальон. После окончания академии с января 1898 г. служил в Киевском военном округе старшим адъютантом штаба 12-й пехотной дивизии. С 1902 г. по 1907 г. – старший адъютант штаба Киевского военного округа. В 1907 г. – полковник и начальник штаба 42-й пехотной дивизии. В 1909 г. —и.д. начальника мобилизационного отдела Главного штаба. В 1910 г. – генерал-майор и начальник мобилизационного отдела Главного управления Генерального штаба. В 1914 г. подготовил и провел общую мобилизацию, за что был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени на Георгиевской ленте. С 1915 г.– помощник военного министра. В апреле 1916 г. произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником 32-й пехотной дивизии на Юго-Западном фронте. В конце того же года назначен генерал-квартирмейстером Ставки и заместителем председателя Особого совещания по обороне государства. В 1917 г.– начальник штаба Верховного Главнокомандующего при генерале Корнилове. В начале сентября 1917 г. вместе с генералом Корниловым был арестован Временным правительством и заключен в Быховскую тюрьму.
Бежал из Быхова на Дон и участвовал в организации Добровольческой армии. В декабре 1917 г. был назначен генералом Корниловым начальником штаба армии. С начала февраля 1918 г. недолгое время был представителем Добровольческой армии при Донском атамане. 9 февраля 1918 г., накануне выхода Добровольческой армии в 1-й Кубанский поход, генерал Лукомский был тайно послан генералом Корниловым в Екатеринодар в качестве его представителя при Кубанском правительстве. Через несколько дней был задержан большевиками. Чудом спасся и вынужден был выехать в Царицын, а затем в Киев и Одессу, где устанавливал связь с офицерскими организациями. Генералу Лукомскому удалось возвратиться в штаб Добровольческой армии лишь в июле 1918 г. Он был назначен заместителем председателя Особого совещания при Верховном руководителе Добровольческой армии генерале Алексееве. В октябре 1918 г. генерал Лукомский становится начальником Военного управления и помощником Главнокомандующего. С 12 октября 1919 г. по декабрь того же года – председатель Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР. 17 декабря 1919 г., в связи с ликвидацией Особого совещания, был назначен генералом Деникиным председателем правительства при Главнокомандующем ВСЮР. 8 февраля 1920 г. приказом генерала Деникина по Генеральному штабу вместе с генералами Врангелем, Шатиловым и адмиралами Ненюковым и Бубновым был «уволен от службы» за поддержку кандидатуры генерала Врангеля на место командовавшего в Крыму генерала Шиллинга. В конце марта 1920 г. генерал Врангель назначил генерала Лукомского представителем Главнокомандующего при союзном командовании в Константинополе. После эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма в ноябре 1920 г. генерал Лукомский состоял в распоряжении Главнокомандующего. В начале 1920-х гг., во время пребывания Великого Князя Николая Николаевича в Антибе, на юге Франции, генерал Лукомский проживал в Ницце. Он пользовался расположением Великого Князя и считался ^го советником. В 1924—1925 гг. выполнял секретные поручения Великого Князя. По желанию Великого Князя, 31 июля 1926 г. генерал Врангель назначил генерала Лукомского начальником всех воинских организаций, связанных с РОВСом в Америке и на Дальнем Востоке. После 1928 г. – в распоряжении председателя РОВСа. Генерал Лукомский скончался в Париже 25 февраля 1939 г. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.
Май-Маевский Владимир Зенонович (15.09.1867-30.11.1920) Полковник (12.1904). Генерал-майор (28.08.1914). Генерал-лейтенант (07.1917). Окончил 1-й кадетский корпус (1885), Николаевское инженерное училище (1888) и Николаевскую академию Генерального штаба (1896). Участник русско-японской войны 1904—1905: начальник штаба 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Участник Первой Мировой войны: командир 44-го Камчатского пехотного полка, 1910—08.1914; начальник штаба 11-й пехотной дивизии, 08.1914—12.1915; офицер в штабе 11-й армии, 12.1915 – 10.1916. Командир 35-й пехотной дивизии, 10.1916—07.1917 Командир 1-го гвардейского корпуса, 07.1917-01.1918. В Белом движении: с 03.1918 в Добровольческой армии. Командир 3-й пехотной (Дроздовской) дивизии, 19.11.1918-02.1919. С 15.02.1919 командующий Азовской группой войск (2-й армейский корпус), 02 – 05.1919. Командующий Добровольческой армией, 23.05– 27.11.1919. Одновременно после захвата Харькова 25.06.1919 Главнокомандующий войсками Харьковской области. Выведен в резерв 27.11.1919, снят и отстранен от командования за отход от Тулы и Орла, а также за моральное разложение (пьянство) и дальнейшие поражения Добровольческой армии. В резерве без должности в ВСЮР генералов Деникина и Врангеля, 26.11.1919—30.10.1920. Умер в Севастополе при посадке на пароход от инфаркта в возрасте 53 лет, 11.1920.
Михайлов Павел Яковлевич (? – декабрь 1919) – лидер томских эсеров, член Учредительного Собрания. Уполномоченный правительства Дербера с февраля по май 1918 г. в Сибири. В конце января 1918 г. приехал вместе с Линдбергом из Петрограда после разгона большевиками Учредительного Собрания в Томск, где встретился с Дербером и Моравским, назначившими их уполномоченными их правительства. Получил вместе с Линдбергом от них задачу организовать Комитет для объединения антибольшевистской борьбы в Сибири в одних руках. Организатор свержения Советской власти в Томске и Новониколаевске. Являлся первым организатором антисоветских органов власти в Западной Сибири после свержения большевиков в июне 1918 г. – «отделов управления». Считался в буржуазных кругах «политическим младенцем» и был там неавторитетен. Товарищ министра внутренних дел во Временном Сибирском правительстве. Под давлением правых кругов был вынужден уйти в отставку. Один из лидеров Сибирской Областной Думы. В оппозиции колчаковскому режиму. Арестован контрразведкой 21 декабря 1919 г. за подготовку эсеровского восстания в Иркутске. Утоплен семеновцами в Байкале в конце декабря 1919 или в январе 1920 гг. Его гибель ставилась в вину Колчаку как следственной комиссией Политцентра, так и советскими историками.
Молчанов Викторин Михайлович (23.01.1886-10.01.1975). Полковник (10.1918). Генерал-майор (03.1919). Окончил Елабугское реальное, Московское пехотное юнкерское и Московское Алексеевское военное (1906) училища. Основную службу провел в Сибирских саперных батальонах. Участник Первой Мировой войны: командир саперной роты в 7-м Сибирском саперном батальоне; командир 3-й Отдельной инженерной роты в 3-м Сибирском стрелковом полку; 1914 – 1917. Конец войны застал Молчанова на Рижском фронте в чине подполковника на должности инженера корпуса.
06.1915 на позициях у реки Бзуре немцы произвели газовую атаку, результате которой погибло около 10 000 русских солдат и в том числе 3 взвода из роты штабс-капитана Молчанова, который в тот момент находился с 4-м взводом своей роты на участке 53-го Сибирского стрелкового полка. Получив доклад, что со стороны противника идут облака газа и пехотинцы падают от удушья, приказал своим 40 солдатам-саперам немедленно намочить тряпки и только через них дышать и одновременно занять позиции вместо погибших от удушья или ползущих в тыл и бегущих русских солдат-стрелков. Попытка немцев захватить позиции русских войск после атаки их газами окончились неудачей. Встретив плотный пулеметно-ружейный огонь солдат-саперов, ошеломленный противник обратился в бегство. Однако сам штабс-капитан Молчанов, отдавая команды и управляя стрельбой из пулемета, получил отравление, надышавшись газами при периодически
сваливавшейся со рта и носа намоченной водой тряпки. Был эвакуирован в тыл и после недолгого лечения вернулся в свою роту. Конец. войны застал Молчанова на Рижском фронте в чине подполковника. 20.02.1918, находясь в штабе Инженерного корпуса на станции Вольмар, подполковник Молчанов был неожиданно атакован группой немецких солдат. Заняв оборону в здании вокзала, подполковник и его небольшое окружение (десяток саперов) оказали сопротивление нападавшим. Но брошенной в окно гранатой Молчанов был ранен в обе ноги и получил еще 8 ран от стекол разбитого окна. Раненый подполковник в конце концов попал в германский плен. 04.1918 бежал из плена. Вернулся в Елабугу. В Белом движении: в Прикамье возглавил отряд крестьян «самообороны», сопротивлявшийся продотрядам большевиков по реализации продразверстки.
Провел несколько карательных операций против творивших произвол наиболее ретивых красных отрядов, проводивших продразвеврстку; возглавил восстание в Елабугском уезде; 04—08.1918. В связи с наступлением красных армий, отряд (около 4000) подполковника Молчанова получил 09.1918 приказ отступить за Уфу, где вскоре был переформирован в 32-й Прикамский стрелковый полк. За успехи в боях против советских войск в конце 1918 подполковник Молчанов был произведен в полковники. В это время, прорвав фронт, туда же отошла армия Ижевских рабочих (Ижевская Народная армия), которая здесь встретилась с войсками Поволжской Народной армии Уфимской директории. Остатки Ижевской Народной Армии 03.01.1919 были преобразованы в Ижевскую бригаду, которая вошла в состав 2-го Уфимского армейского корпуса. Командиром Ижевской бригады был назначен полковник Молчанов, сменив на этом посту полковника Федичкина. За успешные боевые операции 03– 05.1919 в весеннем наступлении Западной армии, в состав которой входил 2-й Уфимский корпус и его Ижевская бригада, полковник Молчанов был произведен в генерал-майоры.
Командир Ижевской бригады и дивизии, 03.1919—03.1920. Ведя арьергардные бои, находясь в конце колонн отступающей 3-й армии, остатки Ижевской бригады сдерживали «рвение» Красной армии окончательно развеять части колчаковско-каппелевских войск. Подойдя к Красноярску с большой надеждой на прочную оборону совместно с войсками гарнизона, остатки 3-й и 2-й армий генерала Каппеля с горечью обнаруживают, что гарнизон во главе с командующим 1-м Средне-Сибирским корпусом генералом Зиневичем Б.М. 04.01.1920 перешел на сторону большевиков, и Красноярск оказывается трагической ловушкой для истерзанных голодом и холодом остатков Сибирских армий адмирала Колчака. Командующий войсками генерала Каппель издает 01.1920 приказ, по которому все желающие солдаты и офицеры могут сдаться по своему усмотрению войскам Красной армии – отныне в войсках генерала Каппеля должны остаться только добровольцы! Достаточно многие командиры, офицеры и массы солдат сдаются в плен советским войскам. Оставшиеся добровольцы в ожесточенных боях, обходя Красноярск, прорываются и продолжают движение в Забайкалье, надеясь на защиту стоявших там японских войск и частей атамана Семенова. Части генерала Молчанова и остатки 3-й армии прорываются на северо-восток к деревне Подпорожье на реке Кан, притоке Ирыша, где соединяются с основной массой остатков 2-й армии, руководимых железной волей и рукой генерала Каппеля, который, отморозив ноги и заболев воспалением легких, умер 25.01.1920. В командование вступает генерал Войцеховский. Теперь, в направлении к Байкалу и форсировав его по льду, части генерала Молчанова идут впереди каппелевских войск, под общим командованием генерала Войцеховского.
После прихода отступивших колчаковско-каппелевских войск в Читу, Забайкалье, генерал Молчанов получил пост заместителя командующих Дальневосточной армией генералов Лохвицкого и Вержбицкого в Чите и одновременно с 22.02.1920 – командир 3-го Сибирского корпуса Дальневосточной армии (так в Забайкалье стала именоваться часть войск Московской группы генерала Каппеля), 02—12.1920. После разгрома Дальневосточной армии (генералы Вержбицкий и атаман Семенов) вместе с остатками 3-го корпуса генерал Молчанов перешел границу с Китаем у станции Маньчжурия. И далее по КВЖД со своим корпусом прибыл на территорию Приморья (под защиту японских оккупационных войск). Привел 3-й корпус в боевую готовность. Снял с себя чин генерал-лейтенанта, присвоенный ему атаманом Семеновым. Объединил
11.12.1921 силы 2-го (генерал Смолин), 1-го Сводного казачьего (генерал Бородин) и своего 3-го (генерал Молчанов) корпусов, фактически возглавил командование армией Приамурского Временного правительства Меркулова, которая стала именоваться Повстанческой Белой армией. Начав наступление, нанес ряд значительных поражений Дальневосточной армии большевиков. 22.12.1921 захватил Хабаровск и в течение 05—12.1921 освободил почти все Приамурье и Приморье. Потерпел поражение 12.02.1922 под Волочаевкой от превосходящих сил Красной армии и вынужден был вернуться (со своей Белоповстанческой армией) в Приморье, на исходные позиции. После перехода власти во Владивостоке от Меркулова к генерал-лейтенанту Дитерихсу, генерал Молчанов 08.1922 принял командование Поволжской группой войск (бывшая Белоповстанческая армия), войдя в состав Земской Рати (командующий – Дитерихс), 02 – 10.1922. В последних боях (у Спасска) на Дальнем Востоке потерпел окончательное поражение в период 08 – 09.09.1922 (Владивосток взят большевиками 25.10.1922). Эвакуировался из залива Посьет на кораблях контр-адмирала Старка (вместе с Дитерихсом и его штабом). В эмиграции: Корея (с 11.1922), затем Маньчжурия, позже – США, умер в 1975.
Непенин Адриан Иванович (21.10.1871 – 4.3.1917, Свеаборг), русский вице-адмирал (28.6.1916). Образование получил в Морском корпусе (1892). Служил на Балтийском море и в Сибирской флотилии. В должности ревизора канонерской лодки «Маньчжур» участвовал в плавании в Охотском и Беринговом морях. Участник Китайской кампании 1900-1901 и русско-японской войны 1904-1905. В 1904 «Маньчжур», стоявший в Шанхае, был разоружен. Участник обороны крепости Порт-Артур, где некоторое время командовал миноносцем «Сторожевой». В ночь на 2.12.1904, командуя миноносцем «Сторожевой», успешно действовал при отражении атаки японских миноносцев на эскадренный броненосец «Севастополь» и канонерскую лодку «Отважный». За боевые отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (1905). После войны в 1906-07 служил старшим офицером крейсера «Адмирал Корнилов». В 1907-08 командир миноносца «Прозорливый», в 1908-1909 – 2-го дивизиона миноносцев Балтийского моря. В 1909-11 командир канонерской лодки «Храбрый». С 1911 начальник службы связи штаба действующего флота Балтийского моря. В 1911-1914 начальник службы связи штаба командующего морскими силами Балтийского моря. С 17.7.1914 начальник службы связи Балтийского моря. Организовал службу наблюдения и связи с использованием радиотехнических средств, один из организаторов авиационной разведки; благодаря действиям Непенина она стала высокоэффективной (чего не было на др. флотах). В 1914-15 одновременно командовал морской обороной Приморского фронта. С 6.9.1916 командующий Балтийским флотом, который под руководством Непенина продолжал успешно оборонять подступы с Финскому и Рижскому заливам. Пытался жесткими мерами поднять дисциплину во флоте. Во время Февральской революции телеграммой в Ставку настаивал на необходимости пойти навстречу Государственной думе. После Февральской революции заявил о своей поддержке Временного правительства. 4.3.1917 телеграфировал М.В. Родзянко: «Балтийский флот как боевая сила сейчас не существует. Бунт почти на всех судах». Несмотря на свои действия заподозрен матросами в монархических симпатиях, арестован на борту флагмана «Кречет». Убит в порту выстрелом в спину человеком в матросской форме.
Несмелов (Митропольский) Арсений Иванович, 1889-1945гг. Родился в Москве, в семье статского советника. Окончил Нижегородский кадетский корпус. Первые публикации стихов – журнал «Нива», 1912г. С августа 1914 года воевал на австрийском фронте, поручик, имел четыре награды. В 1915 году вышла первая книжка стихов и очерков «Военные странички». 1 апреля 1917 года отчислен в резерв по ранению. Участник восстания юнкеров в Москве против большевистской власти. С 1918 года – офицер армии адмирала Колчака. Одно время был адьютантом коменданта г.Омска. Участник Сибирского Ледяного похода. С 1920 по 1924 годы жил во Владивостоке. Там же издан сборник стихов. Скрываясь от ареста и расстрела ушёл в Китай с помощью карты, данной ему В.Арсеньевым. С тех пор жил в Харбине, где издавались все его книги. Стал известнейшим во всей эмиграции поэтом. Вёл переписку с М.Цветаевой. На Родине был известен очень узкому кругу поэтов, среди которых – Пастернак. В сентябре 1945 года арестован и вскоре погиб в тюрьме под Владивостоком.
Пепеляев Анатолий Николаевич [3(15).8.1891, Томск – 14.1.1938], белогвардейский генерал. Из семьи офицера. Окончил Павловское военное училище (1910). В 1-ю мировую войну полковник. В мае 1918 возглавил антисоветский мятеж в Томске, поддержанный белочехами. С августа 1918 командовал Средне-сибирским корпусом, действовавшим на Пермском направлении. В 1919 назначен А.Колчаком командующим 1-й Сибирской армией, получив звание генерал-лейтенанта. В декабре 1919, сблизившись с эсерами, предпринял попытки вооруженных антиколчаковских выступлений (в гг.Томск, Новониколаевск, Красноярск). После разгрома Колчака боролся против Советской власти на Дальнем Востоке, в 1921 эмигрировал в Харбин (Китай). В 1922 вернулся во Владивосток и в составе «Сибирской добровольческой дружины» отплыл в Аян для поддержки якутского антисоветского восстания. В июне 1923 в порту Аян с остатками отряда капитулировал перед советскими войсками. Приговорен судом к расстрелу, замененному ВЦИК 10-летним заключением.
Петлюра Симон Васильевич (1879-1926), один из лидеров Украинской социал-демократической рабочей партии. В 1917 г. был в числе организаторов Центральной рады (1917) и Директории (1918), ее глава с февраля 1919 г. В советско-польской войне выступил на стороне Польши. В 1920 г. эмигрировал, в 1926 г. был убит в Париже С. Шварцбартом из мести за еврейские погромы на Украине.
Плющик-Плющевский Юрий Николаевич (1877—1926) – генерал-майор Генштаба. Окончил Александровский кадетский корпус, Константиновское артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1905). Из училища вышел в 1898 г. в Лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. Вовремя прохождения курса в академии Генерального штаба был по собственному желанию отправлен на фронт русско-японской войны. После окончания академии в декабре 1905 г. был прикомандирован к Лейб-гвардии Семеновскому полку и, будучи командиром роты, принял участие в подавлении Декабрьского вооруженного восстания в Москве. По Генеральному штабу начал служить в 1907 г. старшим адъютантом штаба 16-й пехотной дивизии. С 1909 г. – обер-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа. С 1910 г. служил помощником отделения в мобилизационном отделе Главного управления Генерального штаба. В декабре 1913 г.– полковник и с 17 декабря 1915 г.– командир 22-го пехотного Горийского полка. В 1917 г.—и. д. генерала для поручений в Управлении дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем, а затем – и. д. 2-го генерал-квартирмейстера штаба Верховного Главнокомандующего. Генерал-майор.
В Добровольческой армии с самого начала. В ВСЮРс начала 1919 г. по февраль 1920 г. – генерал-квартирмейстер штаба Главнокомандующего. Оставил свою должность по болезни. В эмиграции жил сначала в Петровардейне (Сербия), а затем в Париже, где и скончался. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.
Покровский Виктор Леонидович (1889-1922) – генерал-лейтенант. Окончил Павловское военное училище и Севастопольскую авиационную школу. Участник Первой мировой войны, военный летчик. Георгиевский кавалер. В 1917 г.– штабс-капитан и командир 12-го армейского авиационного отряда в Риге. После Октябрьского переворота сформировал на Кубани 2-й Добровольческий отряд. После первоначальных успехов был вынужден оставить Екатеринодар 1 марта 1918 г. Назначен Кубанской радой командующим войсками Кубанской области и произведен в полковники, а затем в генерал-майоры. Командовал Кубанской армией, ушедшей в Ледовый поход, до ее соединения с Добровольческой армией в ауле Шенджий. В Добровольческой армии – командир конной бригады и дивизии. В ВСЮР – командир 1-го Кубанского казачьего корпуса в составе Кавказской армии генерала Врангеля. За взятие Камышина генералом Деникиным был произведен в генерал-лейтенанты. С ноября 1919 по февраль 1920 г. – командующий Кавказской армией (после генерала Врангеля). В Русской армии генерала Врангеля не получил назначения на командную должность и эмигрировал в апреле 1920 г. Генерал В. Л. Покровский был убит террористами 9 ноября 1922 г. в Кюстендиле (Болгария).
Риттих Александр Александрович (21 сентября 1868 – 15 июня 1930). Из дворян Харьковской губ. Воспитанник Александровского лицея. Службу начал в 1888 в Земском отделе Министерства внутренних дел. С 1901 чиновник особых поручений Переселенческого управления. С 1903 – в Министерстве финансов (чиновник особых поручений); подготовил ряд обзорных работ для Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, в том числе «Крестьянское землепользование», «Крестьянское дело», «Крестьянский правопорядок». С 27 июня 1905 директор Департамента государственных земельных имущеетв, с 25 марта 1912 товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием. Действительный статский советник (1906). В 1907 назначен в должность, а в 1913 пожалован в гофмейстеры Двора, 16 ноября 1916 возглавил Министерство земледелия и Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу. Сенатор (с оставлением в должности, 1916). После Октябрьской революции в эмиграции, умер в Лондоне.
Романовский Иван Павлович (16.04.1877-05.04.1920). Полковник (03.1912). Генерал-майор (12.1916). Генерал-лейтенант (1919). Окончил 2-й Московский кадетский корпус (1897), Константиновское артиллерийское училище (1899) и Николаевскую академию Генерального штаба (1903). Участник русско-японской войны 1904—1905: в штабе 18-го армейского корпуса. Участник Первой Мировой войны: начальник штаба 25-й пехотной дивизии, 1914—1915. Командир 206-го Сальянского пехотного полка, 08.1915—1916. Начальник штаба 13-го армейского кор-пуса,06—10.1916. Генерал-квартирмейстер штаба 10-й армии, 10.1916—03.1917. Начальник штаба 8-й армии, 03– 07.1917. Генерал-квартирмейстер Ставки – штаба Верховного Главнокомандующего, 07—08.1917. Арестован Временным правительством 09.1917 за участие в Корниловском мятеже. Заключен в Быховскую тюрьму. Бежал 11.1917 на Дон вместе с генералами Корниловым, Деникиным и другими, 11—12.1917. В Белом движении: в штабе Добровольческой армии генерала Деникина, 12.1917– 02.1918. Начальник штаба Добровольческой армии, 02– 26.12.1918. Начальник штаба Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) генерала Деникина, 26.12.1918-16.03.1920. Сдал пост генералу Махрову. Эмигрировал 22.03.1920 из Феодосии (Крым) вместе с генералом Деникиным в Контантинополь (Турция). Убит 05.04.1920 в Константинополе поручиком Хорузиным М. А.
Рузский Николай Владимирович, 1854-1918, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член государственного и Военного советов. Во время войны командующий 3-й армией, а затем главнокомандующий армиями Северо-Западного и Северного фронтов. Активный масон, участник заговора против Царя, изменник. В ставке Рузского (Псков) Царь подписал акт отречения. Убит большевиками в качестве заложника.
Саблин Михаил Павлович (17.7.1869 – 17.10.1920, Ялта), русский вице-адмирал (1916). Образование получил в Морском корпусе и Минных классах (1890). Участник Китайского похода и русско-японской войны 1904-05. В 1905-06 старший офицер учебного судна «Хабаровск». В 1906-07 командир миноносца «Завидный», в 1907-09 – канонерской лодки «Донец». В 1909-11 начальник 5-го резервного дивизиона миноносцев Черного моря, в1911-12– 3-го дивизиона Черноморской минной дивизии. 6.9.1912 назначен командиром линейного корабля «Ростислав», а в 1914 зачислен в состав Черноморского флотского экипажа. С 21.7.1916 начальник 2-й бригады линейных крейсеров и и.д. начальника дивизии линейных крейсеров Черного моря. 31.10.1916 назначен состоять по Морскому министерству с зачислением во 2-й Балтийский экипаж. После Октябрьской революции поступил на службу к большевикам. 12(25).12.1917-4(17).6.1918 командующий Черноморским флотом. В июне 1918 получил приказ затопить эскадру. Чтобы спасти корабли, отправился в Москву, где был арестован. С помощью моряков бежал в Великобританию, откуда прибыл на Юг России. С начала 1919 главный командир судов и портов Черного моря. 25.3-20.8.1919 командующий Черноморским флотом ВСЮР. 8.2.1920 вновь возглавил Черноморский флот, но уже 17 февраля сдал командование адмиралу Герасимову. 19.4.1920 назначен командующим Черноморским флотом и начальником Морского управления Русской армии. В середине 1920 тяжело заболел раком печении был 12.10.1920 заменен адмиралом М.А. Кедровым.
Савин Иван Иванович (наст. фамилия Саволайнен, в эмиграции он изменил ее на Саволаин) (29.08[11.09].1899—12.07.1927), поэт-монархист. Отец его был финн, мать – гречанка, в роду которой были также русские и молдаване. Детство и юность Савина прошли в городке Зеньков Полтавской губ. Окончив гимназию, он пошел добровольцем в кавалерию армии генерала Деникина и в 1919—21 воевал в рядах белгородских улан на Дону, Кубани и в Крыму. Четыре его брата-белогвардейца погибли во время гражданской войны: двое были убиты в боях, двое расстреляны в Крыму. Их смерть Савин отметил глубоко лирическими стихами. После поражения Добровольческой армии больной тифом Савин не смог эвакуироваться из крымских портов с войсками генерала Врангеля. В джанкойском железнодорожном лазарете его взяли в плен красные. После 2-летнего пребывания в плену ему удалось бежать в Петроград и благодаря финскому происхождению получить разрешение на выезд в Финляндию. В Гельсингфорсе ему пришлось заниматься физическим трудом. Свободное время Савин посвящал литературе; писал стихи, прозу, статьи, печатался в эмигрантской периодике. В эмиграции сразу же приняли Савина, оценив его талант и его твердые политические убеждения, не допускавшие сомнений в том, что исход русской революции для России трагичен. Творческое наследие «поэта Белой мечты» (так называли Савина критики) невелико, оно отражает только 5-летний зарубежный период его жизни: 1922—27. В 1926 вышел единственный поэтический сборник Савина «Ладанка». 2-е, дополненное издание «Ладанки» вышло в США в 1958, а к 60-летию со дня смерти вдова С. Л. Сулимовская-Савина издала книгу «Только одна жизнь. 1922—1927» (1988), включившую стихи и прозу, перепечатанную из эмигрантской периодики 1920-х.
Савина считают одним из самых любимых авторов первой эмиграции. Поэзия и проза Савина автобиографичны и объединены темой любви к дореволюционной России: битва за нее, потеря ее и тоска по ней на чужбине. Для творчества Савина характерны черты романтизма, а в любовной лирике встречаются импрессионистские строки с блоковским и настроением и символикой (глаза, кольца, вино). В основном критики писали о гражданственности Савина и о его трагической жизни и ранней смерти. Ни в поэзии, ни в прозе Савин не открывал новых путей, но он сумел с предельной искренностью выразить чувства верности и долга, а пафос героики роднит его с Гумилевым. В некрологе о Савине «Наш поэт» И. Бунин писал, что «лик Белого Воина будет и богом и Россией сопричастен к лику святых».
Савинков Борис Викторович (1879–1925) (псевд. В. Ропшин) – один из лидеров партии эсеров, литератор. Вступил в партию социалистов-революционеров в 1903 г. и вошел в ее Боевую организацию, организатор и участник многих террористических актов. После февральской революции комиссар при ставке верховного главнокомандующего; товарищ военного министра Временного правительства. В сентябре 1917 г. исключен из партии эсеров. В 1918 г. возглавил Союз защиты родины и свободы, позднее представитель А.В. Колчака в Париже. В 1920 г. жил в Париже. В августе 1924 г. арестован после нелегального перехода советско-польской границы, организованной агентами ОГПУ. Приговорен к 10 годам тюремного заключения. По официальной версии, покончил с собой в тюрьме, по другим данным, убит чекистами.
Сахаров Константин Вячеславович (18.03.1881-23.02.1941). Полковник (1917). Генерал-майор (15.11.1918). Генерал-лейтенант (10.1919). Окончил Кадетский корпус, Николаевское инженерное училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Участник Первой Мировой войны. Участник мятежа генерала Корнилова 08.1917. В 1918 вел борьбу с советскими властями, арестовывался большевиками, 08.1918 бежал из тюрьмы в Астрахани; 01—08.1918. В Белом движении: с 08.1918 начальник гарнизона острова Русского во Владивостоке. Представитель генерала Деникина в Ставке адмирала Колчака, 01– 03.1919. Генерал для поручений в штабе Ставки, 04– 05.1919. Начальник штаба Западной армии, 22.05– 21.06.1919. Командующий 3-й армией, 22.07-10.10.1919. Командующий Московской группой войск, 10.10– 04.11.1919. Командующий Восточным фронтом, 06.11.1919—09.12.1919.
Снят за сдачу Омска и поражения Русской армии адмирала Колчака, арестован генералом Пепеляевым на станции Тайга. Освобожден от ареста 23.01.1920 генералом Каппелем и назначен командующим отступающими в Забайкалье остатками (колонной) 3-й армии. После прихода в Читу 03.1920 – в эмиграции; с 10.1920 – Германия. Умер в Берлине, 02.1941.
Семенов Григорий Михайлович (1890, пос. Куранжа Дурулгиевской станицы Забайкальской обл. – 1946) – военный деятель. Род. в казацкой семье. Получив домашнее образование, в 1911 окончил Оренбургское военное училище. Во время первой мировой войны был награжден орденом св. Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием за отчаянную храбрость и удачливость. В конце 1916, как человек, свободно владевший бурятский, монгольским, калмыцким языками, Семенов был отправлен в Забайкалье для формирования монгольских и бурятских полков. После прихода к власти Временного правительства Семенов был назначен комиссаром, продолжая заниматься той же деятельностью. После Октябрьской рев. 1917 Семенова поднял мятеж на ст. Березовка, положив начало гражданской войне в Забайкалье. Обращение Семенов к съезду сельских жителей Забайкалья с призывом к «беспощадной борьбе с большевизмом» не нашло поддержки, и Семенов был вынужден уйти в Маньчжурию. В 1918, использовав мятеж Чехословацкого корпуса и помощь японских войск, Семенову удалось утвердиться в Забайкалье, установив режим военной диктатуры, террор и расстрелы населения. Проводил насильственную мобилизацию в армию, вернул национализированные предприятия владельцам и т.д., вызвав против себя мощное партизанское движение. После образования Дальневосточной республики в апр. 1920 Семенов получил власть на Дальнем Востоке, которую поддерживал с помощью японских интервентов. В 1921 под напором армии и партизан был вынужден эмигрировать. Живя в Корее, Сев. Китае, Японии, Семенов не прекращал борьбы с сов. режимом. Написал мемуары «О себе. Воспоминания, мысли и выводы» (Б.м., 1938). В сент. 1945 был захвачен сов. войсками в Маньчжурии и по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР повешен.
Скоблин Николай Владимирович (1885-10.1937). Прапорщик (1914). Штабс-капитан (1917). Полковник (11.1918). Генерал-майор (26.03.1920). Окончил Чугуевское военное училище (1914). Участник Первой Мировой войны: в 126-м Рыльском пехотном полку, 1914—1917; в 1-м ударном Корниловском полку 8-й армии, командир 2-го батальона; 05—11.1917. В Белом движении: командир взвода, роты, батальона в Добровольческой армии, 12.1917—11.1918. Командир Корниловского полка, 11.1918-09.1919. Командир 2-й бригады, 09-10.1919. Командир Корниловской дивизии, 16.10.1919– 25.10.1920. В резерве 11.1920. Эвакуирован из Крыма в Галлиполи (Турция). В эмиграции с 11.1920: Турция, Болгария, Франция. Под давлением своей жены, известной певицы Надежды Плевицкой, агента НКВД со времени Гражданской войны, завербован советской разведкой.
По его заданию сфабрикованы фальшивые документы совместно с немецкой службой безопасности во главе с Гейдрихом о «заговоре» в Красной армии (во главе с Тухачевским). Организовал похищение 22.09.1937 председателя Русского Общевоинского Союза генерала Миллера в Париже, которого с помощью участников похищения – агентов советских спецслужб – на советском пароходе «Мария Ульянова» доставили в Москву. Генерал Скоблин с помощью и при поддержке других агентов советской разведки, включая генерала Кусонского (смотри «Кусонский П.А.») и других, бежал в Испанию, где (по одной из версий) уничтожен агентами НКВД. (Жена Скоблина – певица Надежда Плевицкая, участвовавшая в подготовке похищения генерала Миллера, была арестована 11.1937 парижской полицией и осуждена французским судом на 20 лет тюремного заключения. Отбывала заключение в эльзасской тюрьме и после оккупации Эльзаса немецкими войсками в 1940 году. Умерла 05.10.1941 при невыясненных полностью обстоятельствах в тюрьме Эльзаса.).
Струве Петр Бернгардович (1870-1944) – русский политический деятель, публицист, философ, экономист. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1895). В 90-е годы редактировал журналы «Новое слово» и «Начало». Теоретик «легального марксизма», участник Лондонского конгресса II Интернационала (1896), автор манифеста I съезда РСДРП (1898). Позже перешел на либеральные позиции. Редактировал нелегальный либеральный журнал «Освобождение» (1902-1905). Член «Союза освобождения», затем член ЦК кадетской партии (1905– 1916). Издатель журнала «Полярная звезда» (1905-1906). Депутат II Государственной думы (1907). Редактор журнала «Русская мысль». В годы гражданской войны являлся членом «Особого совещания» при генерале А. И. Деникине, входил в состав правительства генерала П. Н. Врангеля. После краха белогвардейского движения покинул Россию. В эмиграции издавал монархический журнал «Возрождение». Автор многочисленных работ, среди которых: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (1894), «Владимир Соловьев» («Мир Божий», 1900, N 9), «На разные темы» (1902), «Марксовская теория социального развития» (1905), «Размышления о русской революции» (1921), «Статьи о Л. Толстом» (1921), «Пророк русского духовного возрождения» («Русская мысль», 1921, N 10-12).
Терапиано Юрий (21.10. 1892, Керчь – 3.07.1980, Ганьи, Франция)– поэт, критик. Получил юридическое образование в Киеве (1916). Участвовал в Гражданской войне в Рядах Белой армии. Эмигрировал в Париж, здесь стал одним из основателей и председателем «Союза молодых поэтов и писателей» (1925). Член поэтической группы «Перекресток». Первый поэтический сборник – «Лучший звук» (Мюнхен, 1926). Пользовался признанием как поэт, но особую известность приобрел как литературный критик. Печатался в 1945 – 1955 в газете «Новое русское слово», затем – в газете «Русская мысль». Автор книг воспоминаний: «Встречи» (Нью-Йорк, 1953), «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» (Париж, 1986). Поэтические сборники: «Бессонница» (Берлин, 1935); «На ветру» (Париж, 1938); «Путешествие в неизвестный край» (Париж, 1946); «Странствие земное» (Париж, 1951); «Паруса» (Вашингтон, 1965); «Избранные стихи» (Вашингтон, 1963). Автор вступительной статьи и составитель антологии эмигрантской поэзии «Муза диаспоры» (Франкфурт-на-Майне, 1960).
Толль Эдуард Васильевич (2(14) марта 1858, Ревель, – 1902), русский геолог, арктический исследователь.
Из дворянского рода остзейских немцев, имел титул барона. Родился в г. Ревель (ныне Таллин). Там же окончил школу. Семья после смерти отца в 1872 году перебралась в г. Дерпт (Тарту), где Эдуард поступил в университет на естественно-исторический факультет. Изучал минералогию, геологию, ботанику, зоологию, медицину.
Первая экспедиция проходила у берегов Северной Африки. В Алжире и на Балеарских островах он изучал фауну, флору, геологию. Вернувшись в Дерпт, защитил кандидатскую диссертацию по зоологии, был оставлен при университете.
Труды Толля привлекли внимание знаменитого учёного-полярника А. А. Бунге. Он пригласил Толля в экспедицию на Новосибирские острова. В марте – апреле 1885 года, проделав по реке Яна около 400 километров, Толль прибыл в Верхоянск. Собрав много ценных материалов, вернулся в с. Казачье и через пролив Лаптева перебрался на Новосибирские острова.
Оказавшись на севере Котельного острова, километрах в 150—200 он увидел (или ему показалось, что увидел) неизвестную землю. Толль был уверен, что это – легендарная земля Санникова. Экспедиция заверишлась в декабре 1886 года.
28 января 1887 года путешественники прибыли в Петербург. Было составлено геологическое описание Новосибирских островов, собраны обширные коллекции ископаемых животных и растений – две с половиной тысячи экспонатов.
В 1889 году он женился на Эммелине Вилькон, вышла в свет его книга, в Вене на IX Международной географической конференции он познакомился и подружился с Фритьофом Нансеном.
Яхта «Заря»В 1893 году, Толль возглавил новую экспедицию. На берегу Восточно-Сибирского моря в районе мыса Святой Нос производил раскопки мамонта, на Восточно-Сибирских островах, выполняя просьбу Нансена, устраивал продовольственные склады на случай гибели готовившегося к трёхлетнему плаванию нансеновского «Фрама». На севере Сибири описывал Хараулахский, Чекановского и Прончищева хребты, нанёс на карту Анабарскую губу, изучил Хатангинскую губу и низовья реки Анабар. Производя маршрутные съёмки, исправлял и уточнял географические карты того времени. Основной же задачей экспедиции было найти останки мамонтов на реке Анабар, произвести там геологическое исследование.
В 1899 Толль пригласил А. В. Колчака гидрологом в экспедицию на шхуне «Заря», целью которой было изучение морских течений в Карском и Восточно-Сибирском морях Северного Ледовитого океана, а также исследование уже известных и поиск новых островов в этой части Арктики, а в случае удачи – открытие «большого материка» («Арктиды», Земли Санникова), в существование которого Толль свято верил.
21 июня 1900 года моторно-парусная «Заря» вышла из Петербурга. В этой экспедиции Колчак провёл два года и две тяжёлые зимовки. Весной 1902 года, когда Толль отправился дальше на север, Колчак был командирован в Петербург с тем, чтобы доставить в столицу уже собранные исследователями материалы. На следующий год Колчаку пришлось возглавить новую экспедицию, снаряжённую для поисков пропавшего во льдах Толля и его спутников. Колчаку удалось обнаружить место последней стоянки Толля, его дневники и другие материалы пропавшей экспедиции.
Дневник Толля, согласно его завещанию, был передан его жене (вдове). Эммелина Толль издала дневник мужа в 1909 году в Берлине. В СССР в сильно урезанном виде он вышел в переводе с немецкого в 1959 году.
Топорков Сергей Михайлович (1880 – 1931) – генерал-лейтенант. Участник Мировой и Гражданских войн, окончив последнюю командиром сводного корпуса в Крыму. Умер в Белграде.
Туркул Антон Васильевич (1892-1957) – генерал-майор. Первую мировую войну начал вольноопределяющимся 75-го пехотного Севастопольского полка. Заслужил два солдатских Георгиевских креста и был произведен в офицеры. Штабс-капитан – в конце войны. Фельдфебель в офицерской роте – в первом походе от Ясс до Новочеркасска генерала Дроздовского в 1918 г.
В 1919 г.– командир 1-го и 2-го офицерского генерала Дроздовского полка в Добровольческой армии и в ВСЮР. В Русской армии генерала Врангеля произведен в генерал-майоры и назначен начальником Дроздовской дивизии. После эвакуации Крыма назначен генералом Врангелем командиром сводного Дроздовского полка. В эмиграции в 1935 г. основал Национальный союз участников войны и встал во главе него. В годы Второй мировой войны участвовал в формировании Российской Освободительной армии (РОА). Скончался 20 августа 1957 г. в Мюнхене. Похоронен 14 сентября 1957 г. на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа под Парижем.
Автор книги: Дроздовцы в огне / Лит. обр. И. Лукаша. Явь и Быль: Мюнхен, 1948.
УЛАГАЙ Сергей Георгиевич (31.10.1875-20.03.1947) Полковник (1917). Генерал-майор (12.11.1918). Генерал-лейтенант (1919). Окончил Воронежский кадетский корпус (1895) и Николаевское кавалерийское училище (1897). Участник русско-японской войны 1904—1905. Участник Первой Мировой войны: командир 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска, 1917. Поддержал Корниловский мятеж, арестован, бежал на Кубань; 08—11.1917. В Белом движении: офицер в Кубанском казачьем войске, 11.1917 – 01.1918. Участник 1-го Кубанского похода. Начальник кавалерии в Кубанском добровольческом отряде полковника Лисевицкого, 02 – 03.1918. Командир Черкесского полка, 03 – 05.1918. Командир Кубанского пластунского батальона, 05—07.1918. Тяжело ранен 07.1918. С 22.07.1918 командир 2-й Кубанской казачьей дивизии 2-го армейского корпуса генерала Ляхова; 07.1918-02.1919. С 27.02.1919 командир 2-го Кубанского конного корпуса, разбит в боях под Ростовом; 03—06.1919. Командующий конной группой Кавказской армии у Царицына, 06—08.1919. В отпуске (по болезни); 09 – 10.1919. Командующий Сводной конной группой донских и кубанских казаков Добровольческой армии; разбит в боях в Донбассе и у Ростова; 11 – 12.1918. Болен тифом, 01.1920. Командующий Кубанской армией на Северном Кавказе, преемник генерала Шкуро на этом посту; 14.02 – 12.03.1920. Эвакуирован в Крым; в резерве Русской армии, исполняя обязанности войскового атамана Кубанского казачьего войска и подготавливая план и формирования для высадки десанта на Таманском полуострове Кубани; 05 – 07.1920. Командующий группой Кубанских казачьих войск, десантировавшихся на Таманский полуостров Кубани через Керченский пролив; 14.08-07.09.1920. Десантная группа (около 14 000) в составе 2-й Кубанской (генерал Шифнер-Маркевич), 3-й Кубанской (генерал Бабиев) и Сводной (генерала Казанович) казачьих дивизий, а также Отдельного десантного отряда генерала Черепова (11 500). Высаженная на Таманский полуостров Кубани десантная группа генерала Улагая была разбита превосходящими силами Красной армии и эвакуирована обратно в Крым; 07 – 09.1920. Генерал Улагай был уволен 09.1920 из Русской армии и эвакуирован из Крыма 10.1920. В эмиграции с 10.1920: Албания (1920-1944), Югославия (1944-1945), Франция (05.1945). (Находясь в Албании, во главе казачьего отряда участвовал в государственном перевороте и захвате власти Зогу в Тиране; служил в албанской армии. В 1941 – 1945 гг. сотрудничал с немцами и генералом Красновым. Участвовал в борьбе с партизанами Тито в Югославии и Хорватии.) Получив гражданство Албании, не был выдан англичанами вместе с казачьими генералами Красновым, Шкуро и другими СССР. Умер 20.03.1947 в Марселе (Франция).
Филимонов Александр Петрович (1867-1948) – генерал-лейтенант, атаман Кубанского казачьего войска. Окончил Киевский кадетский корпус, Александровское военное училище в Москве, Военно-юридическую академию и одновременно прошел курс Императорского Археологического института. Долгое время служил атаманом Лабинского отдела Кубанского казачьего войска. Полковник. В 1917 г. был избран председателем Кубанского краевого правительства, а в октябре 1917 г. – Кубанским Войсковым атаманом. Генерал. В 1918 г. – участник Ледового похода Кубанской армии, ушедшей на соединение с Добровольческой армией (соединение произошло в ауле Шенджий). 17 марта 1918 г. в станице Ново-Димитриевской подписал протокол, согласно которому войска Кубанского правительства перешли в полное подчинение Командующему Добровольческой армией генералу Корнилову. Занимал умеренную позицию в отношении сепаратистов и не одобрял строгих мер, применяемых к ним Главнокомандующим ВСЮР. 10 ноября 1919 г. сложил свои полномочия как атаман Кубанского казачьего войска. В эмиграции проживал в Югославии. После кончины генерала Казановича одно время был председателем Союза участников 1-го Кубанского похода. Скончался в городе Осек 4 августа 1948 г.
Фудель (Иосиф Иванович) – писатель, священник в Москве, родился в 1864 г.; образование получил в Московском университете по юридическому факультету. В 1887 г. Ф. издал «Письма о современной молодежи и направлениях общественной мысли». Позднее: «Наше дело в Северо-Западном крае» (Москва, 1893); «Основы церковно-приходской жизни» (2-е изд., Москва, 1894); «К реформе приходских попечительств» (2 изд.); «Народное образование и школа» (Москва, 1897). Кроме того, Ф. поместил много статей в «Русском Деле», «Благовесте», «Русском Слове», «Московских Ведомостях», «Русском Вестнике», «Миссионерском Обозрении» и «Русском Обозрении». В последнем журнале Ф. вел отдел «Вопросы церковной жизни».
Шатилов Павел Николаевич (1881-1962) – генерал от кавалерии. Окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Из Пажеского корпуса был выпущен хорунжим в Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк. С началом русско-японской войны переведен по собственному желанию в 4-й Сибирский казачий полк. Ранен и награжден орденами Св. Станислава 4-й, 3-й и 2-й степени с мечами и Св. Анны 4-й, 3-й и 2-й степени. По Генеральному штабу служил в Кавказском военном округе. С ноября 1910 – помощник старшего адъютанта (в разведывательном отделе) штаба округа. 6 декабря 1915 г. – полковник. С 16 декабря 1916 г. – командир Черноморского казачьего полка во 2-й Кавказской казачьей дивизии. Георгиевский кавалер. Последняя должность в Кавказской армии в конце 1917 г. – генерал-квартирмейстер штаба армии. Генерал-майор.
В Добровольческой армии с конца 1918 г. Начальник 1-й конной дивизии в конном корпусе генерала Врангеля, а затем командир 4-го конного корпуса. Произведен генералом Деникиным в генерал-лейтенанты за успешные бои под Великокняжеской в мае 1919 г. С июня – начальник штаба Кавказской армии у командующего генерала Врангеля. С декабря 1919 г. по начало января 1920 г. – начальник штаба Добровольческой армии в период командования ею генералом Врангелем: В начале 1920 г., как и генерал Врангель, отчислен «в распоряжение Главнокомандующего» после того, как Добровольческая армия была сведена в корпус и общее командование принял командующий Донской армией генерал Сидорин. Приказом генерала Деникина от 8 февраля 1920 г. генерал Шатилов, как и генерал Врангель, был уволен от службы и вскоре по требованию Главнокомандующего покинул Россию и выехал в Константинополь. Секретным приказом Главнокомандующего от 18 марта 1920 г. генерал Шатилов и генерал Врангель были вызваны в Севастополь на заседание Военного совета, собранного для избрания преемника Главнокомандующего ВСЮР генерала Деникина. После избрания генерала Врангеля Главнокомандующим и назначения его таковым 22 марта 1920 г. генерал Шатилов был назначен помощником Главнокомандующего. 21 июня 1920 г., в связи с назначением начальника штаба Русской армии генерала П. С. Махрова на должность будущего командующего 3-й Русской армии в Польше, генерал Шатилов был назначен начальником штаба Русской армии генерала Врангеля и оставался на этой должности до 1922 г., когда начальником штаба был назначен генерал Е. К. Миллер. Произведен в генералы от кавалерии генералом Врангелем – за успешную эвакуацию из Крыма в ноябре 1920 г. С 1922 г. по 1924 г. – в распоряжении Главнокомандующего. С 1924 г. по 1934 г. – начальник 1-го отдела РОВСа во Франции. После похищения генерала Миллера в 1937 г. отошел от активной деятельности. Оставил обширные воспоминания, переданные им в Колумбийский университет, США, без права публикации до начала следующего века. Скончался под Парижем, в Аньере, 5 мая 1962 г. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.
Шкуро Андрей Григорьевич (1887-1947) – генерал-лейтенант. Окончил 3-й Московский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище (1907).
Участник Первой мировой войны. В 1915 г. сформировал Кубанский конный отряд особого назначения для действий в тылу на Германском фронте.
В 1917 г. командир отряда в конном корпусе генерала H.H. Баратова в Персии. Полковник.
Весной 1918 г. организовал партизанский отряд в районе Кисловодска. В июне 1918 г. сформировал на Кубани партизанскую дивизию, которая соединилась с Добровольческой армией. В Добровольческой армии командовал дивизией, 3-м Кубанским казачьим корпусом и в начале 1920 г. Кубанской армией. Генерал-лейтенант.
Во время отступления к Новороссийску уступил командование Кубанской армией генералу Улагаю и остался на Черноморском побережье с остатками этой армии.
Генералом Врангелем был уволен из армии и выехал из Крыма в 1920 г.
В эмиграции жил в Париже; работал наездником в цирке.
В годы Второй мировой войны принимал участие в формировании антисоветских казачьих частей, подчиненных германскому командованию.
В мае 1945 г. выдан английскими оккупационными властями советскому командованию. По приговору военной коллегии казнен в Москве 16 января 1947 г.
В 1961 г. в Буэнос-Айресе вышли его воспоминания «Записки белого партизана».
Эльснер Евгений Феликсович (1867-1930) – генерал-лейтенант Генштаба. Окончил Тифлисский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба (1895). Из училища вышел в 18-ю конно-артиллерийскую батарею; После окончания академии – старший адъютант штаба Кавказского военного округа. В 1904 г. – полковник и начальник штаба 6-го округа отдельного корпуса пограничной стражи. В 1906 г., после недолгого пребывания на должности ставропольского губернатора, переведен в Главное управление Генерального штаба, где служил в Азиатском отделе. В 1911 г. – генерал-майор и помощник начальника отдела по устройству и службе войск Главного управления Генерального штаба. Во время мобилизации в июле 1914 г. назначен помощником Главного начальника снабжения Юго-Западного фронта. В 1916 г. – генерал-лейтенант и главный начальник снабжения армий Юго-Западного фронта. Во время выступления генерала Корнилова в августе 1917 г. открыто присоединился к нему, послав Временному правительству телеграмму о своей солидарности с генералами Корниловым и Деникиным. Был арестован и заключен в тюрьму в Быхове, где разделил заключение со всеми сторонниками генерала Корнилова.
В декабре 1917 г. бежал из Быхова на Дон и стал одним из основателей Добровольческой армии. В январе 1918 г. – назначен начальником снабжения Добровольческой армии. В этом качестве выступил в 1-й Кубанский («Ледяной») поход, во время которого был также начальником обоза с боеприпасами и санитарного транспорта с ранеными. С июня 1918 г. по февраль 1919 г.– полномочный представитель Добровольческой армии при Донском атамане генерале Краснове. После избрания на пост Донского атамана генерала Богаевского вернулся в отдел снабжения штаба ВСЮР. Тяжело заболел и в марте 1920 г. эвакуировался в Сербию. Проживал в Белой Церкви, где и скончался 5 июля 1930 г. Похоронен на местном кладбище.
Эрдели Иван Георгиевич (15.10.1870 – 3.7.1939, Париж, Франция), рус. генерал от кавалерии (18.6.1917). Из дворян Херсонской губернии, женат на племяннице жены графа Л.Н. Толстого. Образование получил в Николаевском кав. училище (1890) и Николаевской академии Генштаба (1897). С нояб. 1899 штаб-офицер для поручений при штабе Кавказского ВО. С 12.9.1900 старший адъютант штаба генерал-инспектора кавалерии великого князя Николая Николаевича. С 22.6.1905 старший делопроизводитель канцелярии Совета государственной обороны. С 9.6.1907 командир 8-го драгунского Астраханского полка, с 15.5.1910 -лейб-гвардии Драгунского полка. С 6.11.1912 генерал-квартирмейстер штаба войск Гвардии и Петербургского ВО. С началом войны 19.7.1914 назначен генерал-квартирмейстером штаба 6-й армии. 9.8.1914 переведен на ту же должность в 9-ю армию ген. П.А.Лечицкого. С 18.10.1914 командующий 14-й кав., с 13.5.1915 – 2-й гвардейской кав. дивизией. 9.3.1915 награжден Георгиевским оружием. C23.ll.1916 начальник 64-й.пех. дивизии, с 6.4.1917 командир XVIIIАК. С 30.5.1917 командующий 11-й армией (фактически 4.6-9.7.1917). К началу Июньского наступления армия развертывалась в районе Дубно-Броды и включала в себя VI, XVII, XXXII, XLIX, V Сибирский и I Туркестанский АК, а также VII конный корпус. 18 июня (1 июля) атаковал противника левым флангом и силами VI АК (4-я, 16-я, 151-я, 155-я пех. и 2-я Финляндская стрелковая дивизии) прорвал фронт XXV австро-венгерского корпуса на стыке 2-й австро-венгерской и Южной герм, армий у Конюхов. 19 июня (2 июля) XLX АК ген. В. И. Селивачева имел успех у Зборова. 20 июня (3 июля) наступление остановилось. 22 июня (5 июля) вновь предпринял атаку силами XVII и XLIX АК, но успеха не добился. Всего в Зборовском сражении (18-22 июня) армия взяла ок. 19 тыс. пленных и 31 орудие. 6(19) июля Зло-чевская герм, группа ген. А. фон Винклера нанесла удар у Перепельников по XXV АК, разложившиеся войска 6-й гренадерской дивизии оставили позиции и бежали. За этим корпусом начали неорганизованный отход остальные корпуса армии. 9(22) июля вышел на Серет, но закрепиться не смог. Подошедший на подкрепление XLV АК после долгих митингов начал хаотичное отступление. С 12 июля командовал Особой армией, поменявшись местами с ген. П.С. Балуевым. Принял активное участие в выступлении ген. Л.Г. Корнилова.
29 авг. отстранен от командования, арестован и перевезен в Быховскую тюрьму. В нояб. бежал вместе с др. из Быхова и уехал на Дон, где с первых дней участвовал в формировании Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. В янв. -марте 1918 – представитель Добровольческой армии при Кубанском краевом правительстве. В марте-апр. 1918 командовал отдельной Конной бригадой Добровольческой армии, с мая до конца авг. 1918 – 1-й конной дивизией. В янв. 1919 командирован в Закавказье для установления связи с представителями англ. командования. С апр. 1919 главноначальствующий и командующий войсками Северного Кавказа, 25.4.1920 переведен в резерв чинов при Военном управлении ВСЮР. В 1920 эмигрировал во Францию, работал аккомпаниатором, шофером. Активно участвовал в деятельности РОВС, член правления Общества взаимопомощи бывших юнкеров Николаевского кав. училища. 21.3.1930-29.6.1934 председатель Союза офицеров – участников Великой войны. С 29.6.1934 начальник 1-го отдела РОВС, объединявшего его чинов на территории Франции, и председатель франц. отделения Союза участников 1-го Кубанского похода; однако вскоре оставил эти посты. 5.10.1937 назначен председателем Комиссии по расследованию дела агента НКВД генерал-майора Н.В. Скоб-лина. Комиссия продолжала свою деятельность до конца февр. 1938.
Эссен Николай Оттович фон (11.12.1869, Петербург -7.5.1915, Ревель), рус. адмирал (14.4.1913). Сын статс-секретаря, действительного тайного советника. Образование получил в Морском училище (1880) и на механическом отделении Николаевской морской академии (1886). В 1892 участвовал в дальнем плавании на крейсере «Адмирал Корнилов», затем служил на Тихом океане, на крейсере «Владимир Мономах». В 1897-98 командир миноносца № 120 на Балтике, в 1901-02 – парохода «Славянка». Одновременно преподавал в Морском корпусе, опубликовал ряд статей в «Морском сборнике». В 1902-04 командир крейсера 2-го ранга «Новик». Участник рус.-японской войны 1904-05, флаг-капитан 1-й Тихоокеанской эскадры. Отличился в бою 27.1.1904 под Порт-Артуром и по ходатайству адмирала С;О. Макарова назначен командиром эскадренного броненосца «Севастополь». За отличия награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и золотым оружием. В 1905 заведующий строительной частью военно-морского учебного отделения Главного морского штаба. В 1906 командир крейсера 1-го ранга «Рюрик», отряда минных крейсеров, в 1906-08 -дивизии эскадренных миноносцев. С 1908 начальник соединенного отряда Балтийского моря на правах начальника морских сил. В 1909 назначен и.д. начальника действующего флота Балтийского моря. С 1911 командующий морскими силами Балтийского моря. Под руководством Э. флот был приведен в боевую готовность, им разработан план операций флота в начале войны – в т.ч. предусматривавший создание минно-арт. позиций в Финском заливе и др. Усилена береговая артиллерия одной из главных баз флота -Ревеля. Летом 1913 утвержден план создания пунктов базирования легких сил и подводных лодок в Моонзундском и Або-Аландском морских районах. Главной базой флота являлся Гельсингфорс. Бригада крейсеров стояла в Ревеле. Переводные базы – Либава и Виндава. Пункты базирования легких сил – Балтийский порт, Рогокюль, Усть-Двинск. В Кронштадте находились корабли резерва, он же служил главной ремонтной базой флота. Балтийский флот включал 4 линейных корабля, 3 броненосных крейсера, 7 крейсеров, 49 эскадренных миноносцев и 21 миноносец, 6 заградителей, 11 подводных и 6 канонерских лодок. В состав флота входили: бригада линейных кораблей (вице-адмирал В.Н. Фер-зен) – «Слава», «Цесаревич», «Император Павел», «Андрей Первозванный», броненосный крейсер «Рюрик» (флагман Э.); бригада крейсеров (контр-адмирал Н.Н. Коломейцов) – броненосный крейсер «Громобой», крейсера «Адмирал Макаров», «Баян»; 1-я (контр-адмирал И.А. Шторре) и 2-я (контр-адмирал А. П. Курош) минные дивизии; бригада подводных лодок (контр-адмирал П.П. Левицкий); отряд заградителей (контр-адмирал В.А. Канин) и др. С началом мировой войны 17.7.1914 назначен командующим флотом Балтийского моря. С объявлением мобилизации заградители под прикрытием линейных кораблей приступили 18(31) июля к установке главного минного заграждения на центральной позиции. В течение дня выставлено св. 2000 мин. В начале войны флот подчинен командующему 6-й армией ген. К.П. Фан-дер-Флиту. Основные силы флота развернуты в устье Финского залива. После гибели легкого крейсера «Магдебург» у острова Оденсхольм 13(26) авг герм, флот временно прекратил активные действия на Балтике. Рус. флот активно продолжал установку минных заграждений, которые заставили герм, командование отказаться от планируемых операций. В 1914-15 герм. ВМФ на минных заграждениях потерял броненосный крейсер «Фридрих-Карл», 4 тральщика, 2 сторожевых корабля и 14 пароходов. Кроме того, в результате взрыва получили повреждения крейсера «Аугсбург» и «Газелле» и др. Флот Э. в 1914 потерял легкий крейсер «Паллада», 2 миноносца, 3 тральщика. В начале 1915 флот пополнился новыми линейными кораблями («Севастополь», «Гангут», «Полтава», «Петропавловск»), 2 эскадренными миноносцами и 5 подводными лодками. Были сформированы оперативные объединения: эскадра и Минная оборона. В эскадру вошли 2 бригады линейных кораблей и 2 бригады крейсеров; а в Минную оборону – минная дивизия Балтийского моря. В результате проведенной Э. работы силы герм. флота были скованы в 1914-1916.
Юденич Николай Николаевич (1862, Москва – 1933, Канны, Италия) – военный деятель. Род. в дворянской семье коллежского советника. В 1881 окончил Александровское военное уч-ще в Москве. После службы в войсках и производства в поручики гвардии Юденич поступил в Академию Генштаба, окончив ее по 1-му разряду в 1887. Служил в Варшавском и Туркестанском военных округах на ответственных штабных должностях; командовал бригадой, полком. Во время рус.-японской войны 1904 – 1905 за отличие в сражении под Мукденом Юденич был награжден Золотым оружием с гравировкой «За храбрость». Получил ранение, после лечения в 1907 продолжил службу. В 1913 в Тифлисе возглавил штаб Кавказского военного округа, произведен в генерал-лейтенанты. Принимал участие в военно-дипломатических миссиях по улаживанию отношений с Ираном, Турцией. В начале первой мировой войны 1914 – 1918 служил нач. штаба, с 1915 командовал Кавказской армией. В 1916 успешно провел Эрзурумскую (пленив более 13 тыс. турецких солдат и офицеров, захватив всю крепостную и часть полевой артиллерии) и Трапезундскую операции, был награжден Георгиевским орденом 2-й степени. В мае 1917 Юденич был отстранен от командования как «сопротивляющийся указаниям Временного правительства» и был вынужден уйти в отставку. В 1918 эмигрировал в Финляндию. Встреча со знакомым со времен академии генералом Маннергеймом привела Юденича к мысли организовать за границей борьбу против Сов. власти. В 1919 Юденич был назначен А.В. Колчаком главнокомандующим Сев.-Зап. армией, сформированной рус. эмигрантами в Эстонии, и вошел в состав Сев.-Зап. правительства, к-рое должно было заключить союз с прибалтийскими гос-вами. В сент. 1919 армия Юденича прорвала сов. фронт и подошла к Петрограду, но, выступая с лозунгом «Единой великой России», А.В. Колчак и Юденич не получили поддержки от Финляндии и Эстонии и были отброшены. Юденич эмигрировал в Англию, отказавшись от политической деятельности.
Юзефович Яков Давидович (12.03.1872-1929) Из литовских татар, мусульманин. Полковник (12.1908). Генерал-майор (15.02.1915). Генерал-лейтенант (08.1917). Окончил Полоцкий кадетский корпус (1890), Михайловское артиллерийское училище (1893) и Николаевскую академию Генерального штаба (1899). Участник русско-японской войны 1904 – 1905: офицер в штабе 3-й Маньчжурской армии. Участник Первой Мировой войны: начальник штаба Туземной («Дикой») дивизии, 08.1914– 02.1915. С 22.02.1916 начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса, 02.1916—03.1917. Командир 26-го армейского корпуса, 03 – 05.1917. Генерал-квартирмейстер штаба Главковерха, 05—09.1917. Командующий 12-й армией, 09 – 11.1917. В Белом движении: в штабе Добровольческой армии, 06.1918—01.1919. Начальник штаба Кавказской армии генерала Врангеля, 01—05.1919. Командир 3-го конного корпуса, 07 – 08.1919. Командир 5-го конного корпуса; разбит Красной армии под Орлом; 08—11.1919. Руководитель строительства укреплений в Северной Таврии и на Перекопе; 01 —06.1920. Инспектор кавалерии Русской армии генерала Врангеля; 06 – 11.1920. В эмиграции с 11.1920: Турция (Галлиполи), с 1920 г. – Франция и Германия; с 1921 г. – Эстония. Командирован Врангелем в Париж 17.12.1920 с целью продолжить в Польше (при согласии Франции) формирование 3-й Русской армии и возглавить ее, заменив генерала Махрова (смотри также «Перми-кии Б.С»). После подписания Польшей мирного договора с Россией эмигрировал во Францию, затем в Эстонию. Умер в Тарту (ранее Дерпт и Юрьев), Эстония, 1929.
При составлении справочной информации использованы материалы следующих изданий:
Залесский К.А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники Германии. Москва, 2003
Николай Рутыч. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. Материалы к истории Белого движения М., 2002
Валерий Клавинг. Гражданская война в России: Белые армии. Военно-историческая библиотека. М., 2003.
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.
Политические деятели России 1917. биографический словарь. Москва, 1993.
Большая энциклопедия русского народа



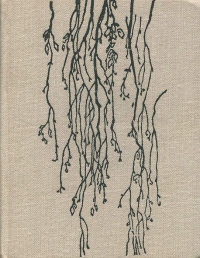

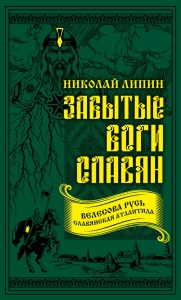
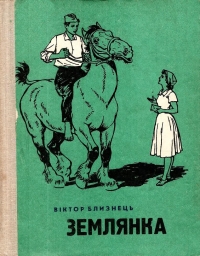
Комментарии к книге «Вершины и пропасти», Елена Владимировна Семёнова
Всего 0 комментариев