Заговор
Пролог
Карету в очередной раз подкинуло на ухабе, и граф Неманич до крови прокусил губу, еле сдержав крик от пронзительной боли. Нет, не думал он, бросаясь в путь очертя голову вопреки советам врачей, что эта проклятая рана, казавшаяся ему сущей царапиной, в считанные дни доведет его до состояния, прямо скажем, угрожаемого. Дергающая, разрывающая плечо и грудь боль становилась все нестерпимей, а от жара туманилось в голове, и граф то и дело впадал в насыщенное кошмарами полузабытье. Очнувшись от очередного легкого обморока, он заметил, что карета стоит на месте и, пересилив звон в ушах, расслышал, что кучер с кем-то разговаривает. Второй голос определенно принадлежал женщине.
– Флор, что там случилось? – слабо окликнул кучера граф.
– Да, вот, барин, барышня здесь, – прогудел в ответ Флор. – Сказывает, будто ехала в город, да коляска поломалась, и ей пришлось идти пешком. Подвезти просит.
– Так что же, она одна? – удивился Неманич.
– Одна, сударь, – в окне показалось усталое лицо молодой женщины, частично скрытое капюшоном. Она была одета в простое темное платье и плащ и держала в руках небольшой саквояж.
– Что ж, садитесь, – согласился граф, пытаясь разгадать, что может делать молодая женщина в поздний час одна на безлюдной дороге. – Мы как раз едем в город. Только уж не взыщите: быть галантным кавалером я в настоящей момент не могу.
– Благодарю вас, сударь, – незнакомка тотчас устроилась в карете напротив него и откинула капюшон. Несмотря на сумрак, граф смог рассмотреть ее. Его нежданная спутница была уже не юной девицей и вряд ли могла назваться красавицей: слишком волевой для женщины подбородок, высокий лоб, густые, жесткие волосы, характерные для народов востока, матово бледная кожа, тонкие губы и прямой нос… И все же что-то необычайно притягательное было в ней – в черных, почти немигающих глазах, таивших в себе скрытую силу.
– Позвольте представиться, граф Платон Константинович Неманич.
– Княжна Евгения Дмитриевна Сокольская.
– Как вам случилось оказаться одной в такой час на дороге? – осведомился граф, превозмогая боль.
– Это долгая история, но когда-нибудь я непременно расскажу ее вам, – пообещала незнакомка. – Когда ваша рана не будет так мучить вас, и долгие рассказы вас не утомят.
– Моя рана… – Неманич поморщился. – Надеюсь, в этом несчастном городишке найдется хоть один порядочный эскулап. На прежних остановках мне приходилось встречать одних коновалов.
– Они не коновалы, – ответила женщина. – Они обычные доктора, занимающиеся лечением плоти и не вспоминающие о том, что болезнь тела во многом лишь следствие болезни души. Ваша телесная рана могла бы остаться всего лишь царапиной, если бы всякую секунду ее не раздражала иная – более глубокая и страшная. Это она доводит вас теперь до горячки и бреда, – она говорила размеренно, не сводя взгляда с графа, и тот вздрогнул:
– Помилуй Бог, да не бред ли вы сами?
– Не больший, чем все, что нас окружает. Телесная рана не заставила бы вас покинуть постель и мчаться по этим убийственным для вас дорогам. Это сделала рана души. Она гонит вас и доводит до изнеможения.
– Что вы знаете обо мне? – настороженно спросил Неманич. – Разве мы встречались прежде?
– Нет, не встречались. Но я всегда знаю, когда люди страдают. Будь то телесные раны или душевные. Не беспокойтесь. Ваша рана плоха сейчас, но она поправится, потому что когда мы достигнем города, я займусь ею сама – и даю вам слово, уже утром вам станет легче.
– Что же, вы полагаете себя искуснее врачей? – недоверчиво спросил граф, утирая капли пота с пылающего лба.
– Я полагаю, что сумею помочь вам, – отозвалась княжна. – Если утром вы не почувствуете себя легче, то предайтесь в руки коновалов. Но, верьте, я знаю, что говорю. А теперь давайте помолчим. Разговор утомляет вас, а это вредит делу. К тому же у нас будет довольно времени для бесед после.
Неманич хотел возразить, но силы оставили его, и он вновь провалился в забытье, впрочем, на сей раз не терзавшее его кошмарами.
В город они прибыли глубокой ночью. Граф смутно помнил, как его внесли в гостиницу и уложили в постель. Один из гостиничных служек при этом неосторожно задел его плечо, и от очередного взрыва адской боли он окончательно лишился чувств.
Неманич очнулся поздним утром, когда солнце уже вовсю полыхало за окном, пробиваясь сквозь занавески в комнату. Он с удивлением почувствовал, что жар заметно утих, как и боль, не дававшая ему спать несколько ночей кряду. Осталась лишь сильная слабость и странное жжение у самой раны. Граф попытался подняться, но повелительный голос удержал его:
– А, вот, вставать вам еще рано. Теперь вы не продолжите путь, сколь бы важен он ни был, пока рана ваша не перестанет вызывать опасения.
Она сидела в старом кресле с высокой спинкой и массивными подлокотниками – только теперь он заметил ее и невольно смутился:
– Вы были здесь всю ночь?
– Разумеется. Ведь я дала вам слово, что утром вам будет легче. А я весьма серьезно отношусь к своим словам.
– Должен признать, мне действительно много легче. Благодарю вас. Но как вам это удалось?
– Есть средства, которые врачи презирают, но старые люди помнят их, хранят и передают тем, кто верит их науке.
– Знахарство? – бледно улыбнулся граф.
– Что-то в этом роде, – кивнула княжна. – Вы, я думаю, голодны? Я распоряжусь, чтобы подали легкий завтрак.
Неманич не возражал – впервые за долгие дни он, действительно, чувствовал голод.
За завтраком, который загадочная знахарка разделила с ним, он спросил:
– Вы провели рядом со мной всю ночь. Не станут ли вас искать? Ведь вы, должно быть, ехали в этот город к кому-то.
– Я не ехала в этот город, – ответила она, невозмутимо намазывая хлеб маслом.
– То есть как?
– Я шла куда глядят глаза, но пешие прогулки бывают утомительны, и, встретив карету, я решила, что было бы весьма недурно проделать часть пути более удобным образом.
– Простите…– граф поморщился, – но я решительно отказываюсь что-нибудь понимать. Куда же все-таки вы теперь направляетесь?
– Полагаю, что в вашей карете довольно места, стало быть, пока что нам по пути. По крайней мере, до границы…
– Как вы узнали, что я направляюсь заграницу?
– Ваш кучер сказал мне это.
Неманич помолчал несколько секунд, пытаясь собраться с мыслями. Между тем, княжна продолжала уплетать завтрак с прежней невозмутимостью.
– Я думаю, Евгения Дмитриевна, нам надо объясниться, – начал граф, не без труда подбирая слова. – Я вам глубоко признателен за вашу помощь и готов отвезти вас, куда вы прикажете, но…
– Но? – немигающий взгляд снова остановился на нем.
– Но я хотел бы, чтобы между нами сразу была ясность… Как бы это точнее определить… Дело в том, что я…
– Связана? – полуутвердительно уточнила княжна. – Постойте, не продолжайте… Вы не женаты, нет.
– Не женат…
– Но узы, которые связывают вас, страшнее брачных. И это, – она легко коснулась раненого плеча графа, – и есть ваша рана…
– У вас есть дар видеть больше, чем обычные люди, – заметил Неманич, внезапно заинтересовавшись. – В таком случае добавлю к этому еще одно. Я не граф Неманич.
Это признание, кажется, ничуть не удивило странную женщину.
– Что ж, – пожала она плечами, – в таком случае, мы с вами квиты. Я тоже не княжна Сокольская. И я также связаны серьезными узами, которые не допускают меня к тому, о чем вы подумали, – заметив волнение лже-графа, она добавила почти весело. – Не беспокойтесь. Тот, кому обручена я, не станет искать меня и не станет защищать мою и свою честь клинком или пистолетом.
Неманича осенило:
– Черт возьми, монахиня!
«Княжна» звонко расхохоталась:
– Мне кажется, сударь, мы с вами поймем друг друга. Я обещала вам рассказать мою историю. Думаю, настала пора сделать это. Мои родители – помещики Полтавской губернии. Они очень хорошие люди и, поверьте, я искренне люблю их, равно как и моих братьев и сестер. Беда в том, что они… рабы общепринятых порядков. Дурных и хороших, разумных и глупых. До семи лет меня, главным образом, воспитывал дед. Это был человек удивительных знаний. Настоящий энциклопедист. Он-то и разбудил во мне ту ненасытную жажду знаний, которая помноженная на природные способности, сделала меня почти изгоем в собственной семье. Меня любили, конечно, заботились. Но все мои интересы, моя любовь к книгам и наукам не только огорчала, но и пугала родителей, искренне считавших уделом всякой девицы – домашнее хозяйство, шитье, немного танцев, музыки, французского языка для выезда на губернские балы, кои я, по правде, терпеть не могла, предпочитая им книгу, занятие рисованием, изучение медицины и философии… Не удивляйтесь. У деда была превосходная библиотека и, умирая, он наказал, чтобы мне никогда не препятствовали в ее изучении. У меня хорошие способности к языкам, поэтому я без труда выучила не только французский, английский, немецкий и итальянский, но и греческий, а также до некоторой степени иврит. Я много путешествовала по монастырям, там мне удавалось говорить с учеными монахами. Вопросы религиозные также немало занимали меня. Природа допустила ошибку, дав мне тело женщины, хотя говорить так и грешно. Единственным человеком, понимавшим меня, был мой старший брат Дмитрий. Он погиб при Аустерлице… И мое одиночество стало полным. Вы не можете себе представить, как это тяжело – изо дня в день терпеть молчаливый гнет родных людей, которые смотрят на тебя одновременно с недоверием, жалостью и обидой. А в чем я провинилась перед ними? Лишь в том, что не была похожа на своих сестер, смотревших на меня с презрением… Матушка время от времени устраивала мне шумные сцены, после чего демонстративно болела по несколько дней. Словно бы я делала что-то неприличное! Наконец, терпение мое иссякло, и я решилась на единственное средство, которое казалось мне тогда допустимым – я поехала в Полтаву, где моя тетушка была настоятельницей в монастыре. Там я приняла постриг… Мне было двадцать два года, и прочитанные книги не могли заменить мне жизненного опыта, знание наук – знания самой себя. Монастырь стал для меня новой темницей. Впрочем, таковой он был для большинства сестер… Среди них были некоторые, которые имели талант к служению Богу, ибо это ведь тоже талант, и превеликий. Они преображались, стоя на молитве! Души их возносились туда, куда для большинства из нас двери пока оставались закрыты. Они принимали своего Небесного Жениха сердцем и любили его. А мы… Мы исполняли обеты и тяготились ими. Через три года я поняла, что совершила самою большую ошибку в жизни, и что больше не могу оставаться в этих стенах.
– И вы не побоялись нарушить обет?
– Я решила, что нарушу его лишь в том, что не стану жить в монастыре, но это не означает, что я собираюсь вести светскую жизнь, выходить замуж и предаваться удовольствиям. Это большой грех, я понимаю. Но если бы я осталась там, то совершила бы худший – потеряла веру в Бога.
– Стало быть, вы сбежали из монастыря?
– Да.
– И что же вы собирались делать дальше?
– У меня были некоторые ценные вещи, я продала их. На эти деньги, а при нужде работая (я ведь могу быть гувернанткой в приличном семействе – не хуже каких-нибудь мамзелей и мисс), я рассчитывала добраться до Европы.
– А там?
– А там – как Бог управит.
– Однако, это весьма неосторожно путешествовать одной. Вы еще достаточно молоды, можно с легкостью попасть в историю.
– Волков бояться – в лес не ходить.
– Вы храбрая женщина, – чуть улыбнулся «граф», откинувшись на подушки. – Думаю, вы правы, мы с вами можем пригодиться друг другу. Свою историю я расскажу вам как-нибудь позже. На данный момент будет достаточно следующего. Зовут меня Виктором Илларионовичем. Я дворянин и офицер, но в настоящий момент из-за козней моих врагов – беглый преступник, скрывающийся под чужими именами. Вы можете верить моему слову, что никакого проступка я не совершил, и честь моя не запятнана. Рано или поздно, это будет признано всеми. Я еду заграницу на неопределенный срок с целью укрепить свое положение так, чтобы, вернувшись на Родину, восстановить справедливость. Я не знаю, что ждет меня. Соответственно, не знаю, что ждет вас, если вы решитесь остаться со мной. Возможно, нам придется преступать закон, но в одном могу вас уверить – я никогда не допущу, чтобы что-либо запятнало моей и вашей чести.
– Для начала мне этого довольно, – кивнула бывшая монахиня.
– В таком случае, вам нужны будут документы. И лучше если они будут на мою фамилию, дабы мы могли путешествовать, как брат и сестра. Кстати, как ваше настоящее имя?
– Евгения Дмитриевна – мое настоящее имя. Я лишь присвоила себе княжеский титул. Можете звать меня Эжени.
– Очень хорошо. Между прочим, это хорошо, что вы владеете многими языками. Я не столь талантлив, поэтому мне весьма пригодятся ваши уроки.
– Я в вашем распоряжении, сударь, – отозвалась Эжени, чуть наклонив голову.
Глядя на нее, Виктор подумал, что с этой бывшей черничкой следует держать ухо востро. Он не сомневался, что проявленные и заявленные ею таланты – это еще далеко не предел ее исключительных способностей. Кто знает, как решит она воспользоваться ими? Женщина, у которой в одних только глазах сосредоточено столько неведомой силы, может быть способна на многое. И вовсе неважно, что говорит при этом ее глубокий, бархатный голос, который, черт побери, так приятно слушать…
Глава 1.
Осень 1825 года выдалась теплой и сырой. В такую погоду было приятно распроститься с промозглой петровской столицей и вдохнуть неизменно здоровый воздух Москвы. Впрочем, отнюдь не от промозглости климата бежал полковник Стратонов, но от промозглости собственной жизни, которая вне военных действий становилась для него сущей каторгой.
Судьба не баловала Юрия с первых лет его жизни. Сперва родами скончалась мать, а несколькими годами позже не стало и отца. Отец всю жизнь провел в походах, сражаясь под началом великого Суворова, имя которого озаряло все детство Юрия. Бывая дома, отец любил, пропустив стаканчик вина и расположившись у печи в старом кресле, курить трубку и рассказывать замершему у его ног сыну об Измаиле и Очакове, об Италийском походе – последнем чуде великого полководца. Юрий слушал, широко раскрыв глаза и затаив дыхание. Он уже тогда старательно подражал своему кумиру, укрепляя от природы не богатырское тело закаливанием. После смерти матери кончина Суворова стала для него самым большим горем – ведь он так хотел успеть сразиться с неприятелем под его началом и, проявив героизм, удостоиться его похвалы. Увы, тому не суждено было сбыться…
Отец скончался от ран, полученных при Шенграбене, когда генерал Багратион совершил чудо подстать Суворову, умудрившись вырваться с немногочисленным отрядом из окружения, в котором он оказался, прикрывая отход основных сил Русской армии. Никто не верил, что при столь многократном превосходстве французского корпуса Мюрата Багратиону удастся вырваться. Его и его людей оставляли на верную гибель во имя спасения армии. А он спасся, прорвавшись с кровопролитными боями и не потеряв ни одного знамени, и нагнал основные силы, отошедшие на безопасные позиции.
Увы, старый полковник Стратонов получил слишком тяжкие раны. Он сумел добраться до дома и прожил еще несколько месяцев, а затем отошел ко Господу, благословив двух осиротевших сыновей, оставшихся без единой родной души и безо всяких средств к существованию. Незадолго до смерти отец написал письмо своему командиру и другу князю Багратиону, в котором просил не оставить попечением своих сыновей, особливо старшего, Юру, уже теперь жаждавшего служить Царю и Отечеству, не щадя живота.
Петр Иванович был не из тех людей, кто оставлял без внимания последние просьбы боевых товарищей, а потому прибыл к одру умирающего сам и пообещал, если на то будет Божья воля, сделать отроков Стратоновых образцовыми офицерами, достойными своего отца.
В тот горестный день Юрий впервые увидел этого человека, с которым позже оказалась крепко связана его судьба. Его сухопарая, энергичная фигура, смуглое, живое лицо, простая и в то же время сердечная речь – все это, помноженное на многочисленные рассказы о нем отца, не могло не расположить сердце мальчика к прославленному генералу.
Впоследствии Юрий узнал, что князь и сам рано остался сиротой и, не имея за душой ничего, не мог даже получить подобающего образования, и оттого с отроческих лет всю мудрость военного дела постигал на полях сражений. Это сходство судеб и память о покойном друге ответно расположило генерала к вверенному его попечению мальчику.
Князь Багратион не имел своего дома. Большую часть жизни он проводил на бивуаках, а в редкие перерывы между военными действиями останавливался у кого-нибудь из знакомых. Чаще всего, в доме бывшей фаворитки Императора Павла княгини Гагариной на Дворцовой набережной, где он снимал квартиру. Здесь Юрий несколько раз навещал его во время обучения в кадетском корпусе, и всегда был принимаем с исключительным радушием. Петр Иванович, за свою долгую службу нисколько не поправивший своего бедственного состояния и ведший аскетический образ жизни, бывал неизменно щедр к своим друзьям и просто подчиненным. Позже Денис Давыдов сказал о нем: «У него было все – для других, и ничего для себя».
По окончании корпуса Юрий поступил в распоряжение Багратиона, став младшим адъютантом генерала. Надо ли говорить, что к тому времени юноша боготворил князя Петра Ивановича, готов был следовать за ним всюду, а в случае нужды с радостью отдал бы за него жизнь.
В ту пору князя постигла опала. Поговаривали, будто недовольство Государя было вызвано симпатией, которую питала к герою его любимая сестра Екатерина Павловна, женщина глубокого ума и горячего темперамента, возглавлявшая при дворе «русскую» партию и резко выступавшая против неумеренного западничества, поразившего тогда все высшее общество. Командуя некоторое время Царскосельским гарнизоном, Петр Иванович находился в большой дружбе как с Великой Княжной, так и с ее Августейшей матушкой. Видимо, эти отношения и не понравились Императору, поспешившему отослать генерала в Молдавию с требованием в считанные месяцы разгромить турок и завершить годами тлеющую войну.
Задача была не из легких. Для решающего разгрома природа просто не отпустила русским войскам времени, зима вынудила армию отойти назад за Дунай под угрозой гибели от холода, голода и болезней. Землянки, вырытые в глинистой почве, не спасали от мороза и сырости, а доставка провизии по размытым дождями путям сделалась практически невозможной. Лошади и люди массово гибли.
Есть полководцы, для которых имеет важность лишь победа, собственная слава и то, как выглядят они в глазах Государя. Во имя этого они не думают о жертвах, зная наперед, что Император простит любые жертвы, лишь бы его повеление было исполнено. Князь Багратион также знал это. И отнюдь не был лишен честолюбия, даже наоборот. Вслед за Суворовым он проповедовал тактику наступления, но вслед за ним же – любил и жалел солдата. И даже тех несчастных лошадей, что гибли, пытаясь доставить армии провиант. Эта забота о живой силе заставила его пойти против воли Государя и добиться разрешения вернуться за Дунай, чтобы после зимовки открыть новую кампанию.
Армия вернулась на зимние квартиры, но какой ценой далось это Петру Ивановичу! В столичных гостиных со слов проезжего француза его обвиняли чуть ли ни в трусости. Это не могло не приводить в бешенство вспыльчивого князя. Все же, стерпев оскорбления, он навел порядок в тылу и разработал план управления краем, проявив недюжинные административные таланты, коих мало кто мог ожидать от генерала, которого даже друзья склонны были упрекать в недостатке учености. Разработан был также и детальный план новой кампании, которая неминуемо должна была окончиться викторией.
Но Государь не позволил строптивому полководцу умножить свою славу и накануне открытия кампании отстранил его от должности, заменив молодым генералом Каменским, который не ставил подчиненных ему людей ни во что, зато свято исполнял монаршую волю…
Тогда же был отвергнут и еще один разработанный Багратионом план – войны с Наполеоном. Князь Петр Иванович совершенно точно предугадал действия французов и определил, как всего успешнее противостоять им. Однако, его доклад был оставлен безо всякого внимания. Вспомнили о нем год спустя, когда Бонапарт вторгся в Россию ровно так, как предсказывал Багратион?.. Навряд ли, ибо и в дальнейшем ни одно из его предложений не было услышано.
И, вот, месяц за месяцем откатывалась армия к древней столице. Накануне Бородинского сражения Петр Иванович, как всегда, внимательно изучал позиции, разговаривал с солдатами, ободряя их. Увидев в штабе уснувшего после тяжелого дня адъютанта, он шепотом сказал офицерам:
– Тише, господа, не разбудите его. Ему нужно отдохнуть.
Кажется, лишь самому ему не нужен был отдых. Той ночью Юрий долго оставался при нем, когда прочие офицеры разошлись.
– Знаете, Стратонов, – сказал князь, – вы очень напоминаете мне самого себя лет тридцать назад. Уверен, вас ждет большое будущее, и вы не раз прославите матушку-Россию на полях сражений. Ваш отец гордился бы вами. А я гордился бы, имея такого сына.
Это неожиданное признание поразило Юрия. Он вдруг впервые понял, сколь одинок этот всеми чествуемый герой. Он был обожаем солдатами, окружен людьми, почитавшими его, но были ли у него близкие друзья? Он был женат, но жена давно оставила его и жила за границей. Ни семьи, ни дома, ни клочка земли – у него не было абсолютно ничего. И свои последние дни суждено ему было провести в чужом доме в окружении неуклюжих эскулапов, сумевших пустяшную рану запустить так, что через два месяца мук она свела в могилу лучшего полководца России. Никто не вспомнил о нем, не проявил участия. Государь не наградил его за Бородинское сражение, а лишь послал денег на лечение, однако, узнав о кончине генерала, приказал вернуть их назад… Свой последний приют князь Багратион обрел также в чужом склепе. После него осталось лишь четыре небольших портрета, которые всегда он возил с собой: Суворова, императрицы Марии Павловны, великой княжны Екатерины Павловны и жены…
Мог ли подумать в тот последний вечер Юрий Стратонов, что его собственная судьба с каждым годом будет все более схожа с судьбой его благодетеля, утрата которого стала для него сильнейшим ударом, чем смерть родного отца…
Кампания 1812-го года и Заграничный поход вывели Юрия в число наиболее перспективных молодых офицеров. Он бодро поднимался по служебной лестнице, отличился во многих боях, в том числе, в самом кровопролитном Лейпцигском сражении, был неоднократно награжден командованием и овеян славой в кругу товарищей. Ему подчас и самому не верилось, что в одном из жарких дел сумел в одиночку защищать позицию от напиравших французов. То был узкий мост над рекой, и именно узость его обеспечила Стратонову выигрышное положение – неприятель не мог атаковать его разом, французы нападали по двое-трое, и получали сокрушительные удары стратоновской сабли. Эта беспримерная сеча продолжалась добрый час – Юрий давал возможность двум своим товарищам добраться до штаба и предупредить о надвигающихся силах французов, замеченных во время очередного разъезда. Разъезд был замечен французским патрулем, и с ним-то сошелся Стратонов в отчаянной схватке. К приходу подмоги он был жестоко изранен, но враг так и не прорвался через мост.
По окончании войны рассказы об этом и других лихих делах привлекли к молодому офицеру внимание в обеих столицах. Особенно среди дам, которые бросали на статного героя, мужественное лицо которого не уродовал, а лишь украшал небольшой шрам на левой щеке, весьма заинтересованные взгляды. Из них лишь один роковым образом попал в его доселе не знавшее страсти сердце…
Ей было восемнадцать лет. Она была невероятно хороша собой. Какой-нибудь французский писатель непременно сумел бы с достойной пространностью и поэтичностью распространиться и о жемчужной белизне ее плеч, и о лебединой стройности шеи, и о кораллах губ, и о золоте волос, и о бирюзе чарующих глаз… Но простой солдат, каким в душе был Стратонов, не ведал французской литературы и был весьма далек от поэзии, поэтому, если бы он и пожелал выразить в словах впечатление, произведенное на него юной мадемуазель Апраксиной, у него ничего не вышло бы. Впрочем, в тот первый раз ни губ, ни волос, ни шеи он и не заметил. В вихре бала его как две стрелы пронзили – глаза.
Никогда в жизни не робел он так, как в тот миг, когда отважился пригласить ее на мазурку, которую танцевал гораздо хуже, нежели владел саблей. Ее звали Екатерина… Катрин… Катюша… Именно так, по-русски, ему хотелось звать ее, но простонародное обращение раздражало девушку.
Она происходила из побочной ветви знатного рода, окончила Смольный институт и была принята в число фрейлин молодой Императрицы. Ее окружало множество поклонников, но ни один не сделал самой прекрасной женщине Петербурга предложения, ибо у нее был один серьезный недостаток – Катрин была бесприданницей.
Ее трудное положение глубоко тронуло Стратонова, и он решился на атаку, ничуть не смущаясь дружескими предупреждениями товарищей, утверждавших, что под ангельской личиной кроется бездушная кокетка, не стоящая любви благородного человека. Юрий не мог верить подобным наветам, он был влюблен, а влюбленность глуха к голосу рассудка…
Сперва они встречались в Царскосельском саду, куда на лето перебирался Двор, и во время этих прогулок Катрин много рассказывала ему о себе, а он молчал, боясь сказать что-нибудь не то. Доселе ему никогда не приходилось вести бесед с дамами. Тем более, такими… Он не ведал книг, о которых она говорила, не мог потешить ее слуха если не своим, то хоть чужим стихом. Он чувствовал себя подле нее грубым и неотесанным солдафоном, которого невозможно полюбить такой женщине. Она, впрочем, выказывала ему явную приязнь, и однажды Юрий решился:
– Мадемуазель Катрин, я давно хотел сказать вам… Если бы я имел громкий титул, две тысячи душ, дом, выезд, ложу в театре… Если бы я мог все это бросить к вашим ногам, Катрин, я осмелился бы вам сказать, что люблю вас!..
Он не успел докончить, так как она поднесла палец к его губам с легкой улыбкой:
– Разве для того, чтобы говорить о любви, нужно так много?
Стратонов пылко сжал ее ладони:
– Катрин, умоляю, не мучьте меня дольше! Вы знаете все! Сейчас я ничего не могу дать вам, но когда-нибудь все изменится. Клянусь вам, что сделаю для вас все! Скажите лишь, могу ли я надеяться? А если нет, то я завтра же буду ходатайствовать о переводе меня на Кавказ.
– Вы хотите, чтобы я стала вашей женой? – последовал тихий вопрос.
– Больше, чем всех викторий на свете!
– В таком случае, вам не нужно уезжать на Кавказ.
– Значит ли это, что вы согласны? Умоляю, Катрин, не шутите!
Он не мог надеяться, что она согласится, и был едва ли не безумен от счастья. Это счастье продолжалась ровно год, пока он, как мальчишка, с ненасытной жадностью упивался этой женщиной, не замечая ничего вокруг. Теперь и вспомнить было стыдно о своей тогдашней наивности.
У них появился дом. Вернее, большая квартира, занимавшая целый этаж. Катрин обставила ее с большим вкусом. Ничто так не радовало ее, как новое платье, украшение, поездки в театр и балы. А ведь все это стоило немалых денег! Кроме того, мадам Стратонова стала собирать у себя многочисленных друзей. Вокруг нее постоянно вертелись молодые и не очень господа, расточавшие ей любезности, что вызывало в душе новоиспеченного мужа жгучую ревность. Через год Юрий, никогда дотоле не одалживавшийся, имел такое количество долгов, что вынужден был вернуться к действительности от затянувшихся грез и объясниться с женой:
– Катрин, я понимаю, что это огорчит вас, но мы не можем больше позволить себе так жить. Мы должны сократить все наши расходы и перейти к строгой экономии.
– Вот как? – вскинула подбородок Катрин. – А не вы ли, сударь, обещали сделать для меня все?
– Я так же честно признавался вам, что в настоящий момент ничего не могу дать вам. Совесть моя чиста – я ни в чем не обманул вас.
– Что же вы предлагаете? – холодно осведомилась жена. – Я придворная дама, и должна жить достойно. Я не могу носить старых платьев и жить в каком-нибудь… чулане!
– Значит, мадам, вам придется отказаться от обязанностей придворной дамы.
– Что?!
– Они, безусловно, важны. Но у вас есть и другие обязанности – моей жены.
– Вы осмелитесь утверждать, что я плохо их исполняю?
В тоне Катрин послышался вызов, и Юрий смутился.
– Мне кажется, что всего лучше было бы, если бы у нас появился ребенок. Вы бы поехали с ним в вашу Клюквинку… Я бы испросил отпуск и на время присоединился к вам, чтобы навести в ней порядок. Я знаю, это имение весьма невелико, но при рачительном ведении хозяйства оно могло бы приносить кое-какой доход.
Катрин слушала его со смесью изумления и возмущения:
– А вы не забыли, сударь, что Клюквинка принадлежит моему брату?
– Насколько я помню, она принадлежит вам обоим, и ваш брат там не появляется.
– Стало быть, вы хотите услать меня в деревню? – недобро усмехнулась Катрин.
– Я не хочу, чтобы мы были разорены, только и всего.
– Тогда потрудитесь найти для этого иной способ! – зло бросила жена. – А не делать меня жертвой ваших неудач! Или я сама устрою свои дела – без вашей помощи!
Он слишком поздно понял, для чего она согласилась на брак с ним. Всего лишь, чтобы обеспечить себе положение. Незамужняя девица обречена на прозябание, любая неосторожность с ее стороны влечет осуждение и презрение к ней. Женщина, защищенная таинством брака, куда более свободна в своих поступках… Более того, ее скорее осудят за единственный, невольный проступок, за случай, но примирятся с беспрерывно длящимся преступлением, если оно прикрыто вуалью соблюдения светских приличий, и если преступница умеет завоевать к себе расположение.
Довольно вспомнить историю графини Потоцкой и ее дочерей. Когда-то секретарь польского посольства Боскамп приметил в одном из константинопольских трактиров служанку-гречанку лет тринадцати и взял ее к себе. Через несколько месяцев он уступил своему коллеге Деболи, с которым распустившаяся роза приехала в Варшаву, где изумила всех своей красотой. Красавица стала жить свободно, ее счастливым, щедрым обожателям не было числа. Наконец, один из них – пожилой генерал граф Витт женился на ней. Вскоре после этого графиню Софью Витт встретил князь Потемкин, который мужа назначил обер-комендантом в Херсон, а жену увез с собой в Яссы. Своей любовницей этот великий человек, не лишенный больших слабостей, щеголял, как великолепным трофеем и даже повез ее напоказ в Петербург, где возил ее с собою в открытом кабриолете по улицам и гуляньям.
Через несколько лет после смерти Потемкина в жену графа Витта влюбились польский коронный гетман, граф Станислав-Феликс Потоцкий и его старший сын от первого брака Феликс. По условию с сыном, Софья предпочла отца и, выйдя за него, предалась в объятья сына. От этого кровосмешения родилось три сына и две дочери. Наконец, старик-гетман узнал правду. Вскоре затем внезапно скончался Феликс, а вслед за ним и сам граф Станислав.
Возникли слухи об отравлении, и пасынки и падчерицы графини Потоцкой повели против нее процесс, оспаривая законность ее брака и законное рождение ее детей, ибо Витт был еще жив и не разведен с нею, когда она вступила во второй брак. Софья отправилась в столицу, вооружившись лестью, золотом и… младшей красавицей-дочерью Ольгой. Сия последняя произвела неизгладимое впечатление на графа Милорадовича. Она нередко посещала его, просиживала с ним наедине по часу в его кабинете и принимала от него великолепные подарки…
Естественно, дело кончилось в пользу преступной графини. Ее старшая дочь Софья вышла замуж за начальника штаба второй армии, Павла Киселева, а младшая Ольга за двоюродного брата графа Воронцова Льва Нарышкина. Еще прежде своего замужества Ольга, приехав погостить к сестре, быстро соблазнила ее мужа – этот скандал наделал большой шум в главной квартире…
Да что Потоцкие! Жена князя Багратиона, живя заграницей, имела самые тесные отношения с Меттернихом, от которого родила дочь, а после победы над Наполеоном посетить ее салон не побрезговал даже сам Государь, очаровавшийся красавицей-вдовой…
Порок всегда найдет себе защиту и покровительство скорее, нежели добродетель. Вскоре салон г-жи Стратоновой приобрел большую популярность в Петербурге. В нем нередко бывал губернатор Милорадович и иные высокопоставленные лица. Нужные связи обеспечили Катрин неограниченный кредит…
Всего гнуснее в создавшемся положении было то, что Юрий, имевший все основания подозревать жену в супружеской неверности, не имел сколь-либо серьезных улик против кого бы то ни было, и это лишало его возможности прибегнуть к единственному достойному выходу – дуэли. Катрин вела себя исключительно осторожно и хитро, как все бестии, руководимые не страстью, которая в некоторых случаях, по крайности, может вызывать сочувствие, а корыстью, холодным и жестоким расчетом.
Другой болью был сын, с младенчества обреченный жить в беспутной среде, отравляясь ее ядом. Сын… Никому на свете не признался бы Юрий в том, что всякий раз, когда видел он этого прекрасного, как херувимчик, ребенка, душа его горько страдала от самых мучительных подозрений – да его ли это сын? С болезненной внимательностью вглядывался Стратонов в младенческие черты в надежде отыскать в них сходство с собой. Напрасно! Сережинька был копией красавицы-матери… Отравленный подозрениями и в то же время стыдившийся их, Юрий старался как можно реже видеть сына.
Это было несложно, ибо, не желая терпеть позор, он разъехался с женой, сняв крохотную квартирку на окраине города. Скромный образ жизни позволил ему постепенно рассчитаться с долгами, но легче от этого не стало. Юрий жаждал новой войны – где бы и с кем бы ни случилась она, но после наполеоновских баталий народы как назло устали, и воцарился мир. Правда, греки восстали было против турецкого владычества, и многие надеялись, что русский Самодержец поможет единоверцам в праведной борьбе, следуя заветам своей великой бабки. Все оживилось в ожидании грядущей кампании! Но, увы, Государь не счел за благо вмешиваться. Тем более, что данные разведки, предоставленные полковником Пестелем, не сулили успеха восстанию.
При этом армия едва не была послана на дело куда более сомнительное – на подавление пьемонтского восстания. Это предприятие, впрочем, не прельщало Стратонова, решительно не понимавшего, почему пьемонтцы должны быть покорны чуждому для них австрийскому владычеству, и почему Россия должна помогать никогда не бывшей дружественной к ней империи в подавлении захваченного ею народа. На оное Государь собирался послать генерала Ермолова, но тот, прознав об этом, укрылся в Варшаве у Великого Князя Константина Павловича, с которым был в дружбе. По счастью, с Пьемонтом разобрались без участия Русской армии.
Стратонов не раз подавал рапорт с просьбой отправить его на Кавказ, но оный оставался без удовлетворения… И, вот, теперь, взяв двухмесячный отпуск «для поправки здоровья», уставший и опустошенный, он въезжал в Москву.
Москва! Даже после пожара не утратила она своей радушной, странноприимной распахнутости навстречу каждому, своей теплоты и сердечности. Что был Петербург? Затянутый в мундир чиновник, следующий заведенному порядку – живая табель о рангах. Беспечная Москва, хотя и перенимала европейские веяния, но оставалась неизменно русской.
Вот, замаячила впереди церковь Вознесения Господня, в которой был крещен Юрий. Велев кучеру остановиться, он зашел внутрь и поставил свечку к образу великомученика Георгия. В эту церковь его некогда водила мать, женщина кроткая и богомольная. Кто знает, если бы не вера, которую успела она вложить в его детскую душу, был бы жив Стратонов теперь? Навряд ли… Не раз за эти промозглые годы падал взгляд на пистолет, как самое простое разрешение всех затруднений. Но словно обжигал грудь образок, повешенный на шею матерью.
Посещение родительских могил Юрий отложил до следующего дня и оправился прямиком на Большую Никитскую, где в уютном двухэтажном доме жило дружное семейство Никольских.
Никольские приходились дальней родней матери Стратонова, и именно в их доме прошли его детские годы. Здесь скончались мать и отец, сюда заезжал князь Петр Иванович, здесь до определения в корпус рос младший брат Костя… Дом Никольских славился страннопримностью и хлебосольством. В нем, по старинному московскому обычаю, живало до дюжины девиц-бесприданниц, коим старая барыня подыскивала достойные партии. Между московскими барынями то было своего рода состязание: какая из них лучше пристроит своих протеже. Засидевшиеся в девках бесприданницы оставались доживать свой век в приютивших их домах на правах бедных родственниц. Основными их занятиями были рукоделие и богомолье. С утра кочевали они из церкви в церковь, из монастыря в монастырь, и знали всех батюшек, матушек и юродивых белокаменной…
С уходом в мир иной старшего поколения Никольских обычай ничуть не изменился. Никита Васильевич Никольский, друг детских лет Стратонова, служил в московском архиве и серьезно занимался науками, ничуть, по-видимому, не стремясь к карьерному росту. Между тем его сочинения, посвященные экономике, образованию и иным предметам, имели хождение и большой успех среди людей просвещенных. Благодаря им, Никольский стал запросто вхож в дом Карамзиных. Старый историк, почитаемый Никитой своим заочным учителем, принимал его, как родного сына.
Повезло Никольскому и с женой. Он женился двадцати восьми лет по взаимной любви на девушке из неименитой, но достойной фамилии. Варвара Григорьевна была весьма хороша собой. То была подлинно русская красота, которой, по мнению иных, недоставало аристократизма в его европейском понимании. Слишком пышущая здоровьем, румяная, дебелая, улыбающаяся не натянуто, потому что так положено, а от избытка природной сердечности и веселости – в этой замечательной женщине было столько жизни и любви, столько простоты и в то же время чувства собственного достоинства, что можно было лишь завидовать мужу, отыскавшего такую цельную, здоровую натуру.
В их семье подрастало уже трое детей, и все в этом доме дышало гармонией. Именно поэтому так рвался сюда Стратонов, ища видом чужого счастья хоть немного утешить собственное горе.
Никита в видавшем виды стеганом шлафроке нараспашку выскочил на крыльцо. Невысокий, чуть полноватый, с вьющимися волосами, вечно поправляющий съезжающие с пуговицы-носа очки, он выглядел в этот момент довольно комично.
– Юрка, дружище! – огласил улицу радостный крик. – Наконец-то вижу тебя, душа моя!
Юрий улыбнулся и церемонно поклонился показавшейся позади хозяйке.
– А мы уж вас ждали-ждали, Юрий Александрович! – мелодично пропела она, озаряя гостя ласковой улыбкой.
– Ждали, ждали! – рассмеялся Никита, обнимая его. – Признаться, уже думал сам к тебе прокатиться. Ну, идем, герой – комната твоя убрана и тебя дожидается. Ужин также. Ей-Богу, душа моя, явись ты позже, и я бы не удержался – аппетит у меня волчий разыгрывается, когда чего-то жду.
За ужином говорили мало. Варвара Григорьевна представила Стратонову младших членов их множившейся фамилии, настоятельно потребовав, чтобы он был крестным их следующему чаду. Всегда чуткая и тактичная, она, едва с трапезой было покончено, удалилась к себе, дав мужчинам возможность поговорить без церемоний.
Пригласив друга в гостиную, Никольский раскурил трубку и, внимательно взглянув на него, осторожно спросил:
– Я не справлялся в письмах, а ты не писал… Что Екатерина Афанасьевна? Все так же?
Стратонов, расположившийся в кресле у печи, повел плечом:
– Как же еще она может быть.
– Однако же…
– Прошу тебя, не будем обсуждать Катрин! Черт побери, если бы десять лет назад мне, герою Бородина и Лейпцига, какая-нибудь образцовая каналья посмела предсказать, что я буду влачить подобное существование, я бы тотчас потребовал сатисфакции и пристрелил бы подлеца! Если бы только я мог добиться перевода на Кавказ – подальше от Петербурга!.. Так и в этом отказано мне! Хоть впору уходить в отставку… Да куда? Что у меня есть, кроме этого мундира? Когда бы у меня было хоть самое чахлое имение, иное дело. Я бы поселился там, стал бы попивать настойку, латать чулки и браниться с крестьянами…
– Полно, – прервал Никита. – Ты, друг мой, не создан для подобной жизни. Ты бы погиб в подобном положении.
– А что я делаю сейчас?
– Отчего Государь не удовлетворит твоего ходатайства?
– Государь меня не любит. Как не любит всех тех, в ком видит излишек самостоятельности, кто в ины лета, быть может, слишком громко выражал неудовольствие его распоряжениями по армии. Вон и Денис Васильичу хода не дают – а уж воин, каких поискать!
– Денис Васильичу его виршей Государь забыть не может, тут дело ясное. В сущности, все это мелочность недостойная вождя великого государства, Царя русского. Впрочем, в том-то и беда, что Царь наш – не русский в существе своем. Также и все окружающие его. Великая ошибка матушки Екатерины, из немок душой переродившейся в русскую, отдать внуков на воспитание иностранцам. Так и повелось. Сначала Лагарп, потом того хуже – Штейн! Так и пошло-поехало! Либеральщина и устремление в хвост Европе… Когда бы наш Государь больше заботился о делах внутренних, а не пленялся мнимой славой благоустроителя Европы, разъезжая по конгрессам вместо того, чтобы познавать собственную страну!.. Увы, он всегда стремился быть большим европейцем, чем они сами. И сам воспитал плеяду наших вольнодумцев, столь раздраженных теперь супротив него. Годами он разжигал их вожделения, суля конституцию, парламент и прочую чепуху. Вместо этого дал нам аракчеевщину. Теперь они разочарованы, и это понятно. В сущности, наш Государь вел себя, как беспечная кокотка, обещавшаяся многим, а затем показавшая всем от ворот поворот с самым невинным видом.
– Ты, Никита, антиправительственные речи говоришь, – усмехнулся Стратонов. – Не знай я твоей приверженности самодержавию, остерегся бы.
– Чего?
– В столице вирши ходят, будто бы бывшим поручиком Рылеевым писанные: «Царь наш – немец русский…»
– Слыхал такие. Настроения этакие мне тревогу внушают, но того больнее, что ведь крыть-то наших смутьянов в этих статьях нечем оказывается! Правительство наше лишено русского чувства. Оно не понимает России и русского народа. И не хочет понимать! Мало того, лица, призванные к тому или иному делу, вовсе дела оного не знают – словно нарочно назначают их так, чтобы хуже все запутывать. А в итоге что? Подрыв авторитета власти, институтов ее, тасуемых по произволу невежами кой год! А всякой смуте того вперед и надобно! Тут-то и почва благодатная для ее созревания! Уже измышлять смутьянам не надобно ничего – а лишь раздуть посильнее то, что есть, да маленько идеями вздорными приправить, да подбить темную массу звонкими криками. От такой путаницы революция французская родилась. Путаница – отличная повитуха для смут… И, знаешь, Юра, что мне иной раз кажется? Что есть направляющая сила, которая обе стороны, противоположные друг другу как будто, толкает к единой цели. И от того тревожно у меня на душе.
Стратонов был не силен в политике, поэтому неясные тревоги друга казались ему отчасти плодом воображения последнего. Впрочем, в том, что касалось безоглядного следования Государя европейским веяниям, он был совершенно согласен. Чего только стоило засилье немцев и прочих иностранцев на высших армейских должностях! Чего стоил участник убийства Императора Павла Беннигсен, сколотивший, как говорили, состояние на русской службе, но так и не принявший русского подданства. Для этого человека русский солдат всегда ни во что не ценился. И еще отец, пылая гневом, рассказывал, как бездарно было погублено много тысяч русских жизней при Прейсиш-Эйлау из-за неумелого руководства главнокомандующего Беннигсена. В той злосчастной кампании честь русского оружия спасена была князем Багратионом, который со своей армией вновь прикрывал отход основных сил, демонстрируя чудеса выдержки, военного искусства и отваги. То, что сделал арьергард в той кровавой каше, было, по признанию многих, выше человеческих сил…
На судьбе Беннигсена эта несчастная кампания, впрочем, никак не отразилась. При Бородине он был начальником штаба Кутузова и умудрился так наметить линию обороны Второй армии, что одна из позиций ее – Шевардинский редут – образовал изрядный выступ, который был обречен немедленному уничтожению при первой же атаке неприятеля. Князь Петр Иванович заметил эту ошибку и добился разрешения перенести позиции назад – там расположились легендарные флеши. Но Кутузов, не чуждый царедворской хитрости, не стал чинить обиду царскому любимцу, и позицию, намеченную Беннигсеном, оставил также. Все бывшие на ней солдаты и офицеры – семь тысяч человек – были безо всякой пользы уничтожены при первой же атаке…
Европейский же поход и вовсе до сих пор занозил душу Стратонова. По смерти Кутузова и минованию опасности иностранцы снова стали играть первые роли в русской армии. Хуже того, армия-победительница пренебрегла своим именем, влившись в объединенное союзническое войско. Войско это было разделено на четыре армии – Богемскую (Главную) фельдмаршала Шварценберга, Силезскую прусского генерала Блюхера, Северную шведского кронпринца Карла-Юхана (Бернадота) и Польскую (резервную) Беннигсена. Русская армия как будто перестала существовать вовсе в то время как все «иностранные» армии комплектовались, в основном, русскими солдатами.
А как не вспомнить щедрый жест Императора, пославшего два миллиона жителям Ватерлоо на восстановление их разоренных жилищ. Бородинским и многим другим русским крестьянам из казны не было отпущено ни гроша. Ведь миру не было дела до русских крестьян, и никто бы не заметил царского к ним благодеяния, то ли дело Ватерлоо…
Русский крестьянин, вообще был немало обижен по окончании войны. Конечно, никто не обещал ему свободу официально, но неофициально сулили – вот, отобьем француза, и в благодарность освободит вас Царь-батюшка от зависимости. И, по совести, кто бы, совести этой не лишенный, сказал бы, что это несправедливо? Но, вот, отгремела война, и вышел Государев манифест: мол, Господь вознаградит русский народ. Бог подаст… А щедроты царские пролились на крестьян литовских, на вечно двоедушных и враждебных нам поляков.
Сокрушенно перебирая в памяти все эти огорчения, Стратонов в душе соглашался с каждым продиктованным болью за Отечество словом Никольского, но все-таки заметил сдержанно, словно собственное ретивое осаживая:
– Как офицер, присягавший на верность Его Величеству, я не должен судить его…
– Ты прав. Правда, многие твои приятели относятся к своей присяге более… вольно, в духе времени, скажем так. Ты Михайлу Орлова давно видел?
– Весьма давно. Он ведь на юге…
– А мне пришлось. И видеть, и слышать. Вот уж, брат, готовый тебе Лафайет или что похуже!
– Помилуй Бог! Ты слишком всерьез воспринимаешь Орлова. Он хороший офицер, но записной демагог.
– Так с демагогии, мой дорогой друг, все и начинается. Попомни мое слово! Демагоги расшатывают основы, а затем приходят люди действия, обращающие слова в дело – причем так, как понимают их они, лишенные кругозора демагогов-философов – трибуналом и гильотиной.
Стратонов слушал Никольского несколько рассеянно. Долгая дорога утомила его, да и от выпитого вина разлилось по намерзшемуся телу приятное тепло. Не хотелось вовсе вести теперь мудреных, солдатскому уму не во всем ясных разговоров. А Никита разгорячился, заходил по комнате:
– Мало, мало у нас людей, понимающих серьезность положения России, корень ее неустройств, меры, ее оздоровлению действительно насущно потребные! Одни костенеют в убеждении, что все должно стоять незыблемо, и даже самое мерзкое устройство, самая возмутительная глупость. Другим вскружил головы призрак конституции! И какие головы! Не самые отнюдь скверные! Все это обольщение так называемой свободой – ничто иное, как раздражение нервов, горячка сердец, которые разум оказывается неспособен охладить и уравновесить. Разум помрачен возбуждением чувств – вот что. А из такого состояния ничего кроме беды выйти не может: будь то дела амурные, будь то политика.
Наконец, Никольский заметил, что друг с усталости слушает его невнимательно, и остановился:
– Что-то разошелся я. Прости, дружище. Тебе с дороги давно пора отдыхать, а я мучаю тебя своими бреднями, – он рассмеялся. – Идем. Варвара Григорьевна сама нынче следила, чтоб твою комнату и постелю, как должно, убрали. Небось, все подушки сосчитала, чтоб не обделили невзначай дорогого гостя!
Это умение мгновенно перевоплощаться из озабоченного, серьезного мыслителя в веселого, добродушного балагура всегда удивляло Стратонова и нравилось ему.
Уже взяв свечу, чтобы проводить гостя, Никита вновь посерьезнел:
– Еще два слова. Обещаю больше не спрашивать тебя о неприятном тебе предмете, но прошу вот, о чем: когда вернешься в столицу, нанеси оному предмету визит и передай, что мы с Варварой Григорьевной приглашаем в гости моего любимого крестника Петю.
Юрий хотел ответить, но Никольский поднял руку и докончил:
– Мой дорогой друг, ребенку нужно воспитание, нужно внимание. Ты не можешь воспитывать сына, а его мать, мне думается, не слишком желает обременять себя этим. У нас же растут свои ребятишки, да и многочисленные племянники и крестники гощевают постоянно. Ты сам и твой брат выросли в нашем доме, и прекрасно знаешь, что здесь ребенок всегда будет окружен заботой. Мы наймем хороших учителей, а не проходимцев и шаромыжников, как это любит делать наша фанфаронствующая знать. А когда твой сын подрастет, то в соответствии с его наклонностями можно будет определить его в корпус по твоим стопам, либо продолжить домашнее образование для последующего поступления в университет. Нынешним пансионам я, признаться, не доверяю. Мне кажется, это хорошая идея!
Стратонов был глубоко тронут заботой друга и, обняв его, поблагодарил:
– Ты, Никита, лучший человек из всех, кого я знаю, говорю тебе это от души.
– Так ты согласен?
– Согласен и обязан тебе по гроб жизни. Только лучше тебе самому написать Катрин.
– Почему?
– Потому что все, что исходит от меня, будет принято ею в штыки. А мне бы не хотелось, чтобы добрая идея пропала лишь из-за неудачного посредничества.
– Тогда ей напишет Варвара Григорьевна, – решил Никита. – Она женщина и прирожденный дипломат, так что уж непременно найдет нужные слова.
– Спасибо вам обоим за все! – с чувством сказал Стратонов, вновь прижимая друга к груди.
– Полно, раздавишь! – рассмеялся Никольский. – Идем! Постель тебя заждалась.
Проводив друга в его комнату, Никита снова спустился в гостиную и, расположившись у массивного бюро, извлек из ящика папку с исписанными небрежным почерком листами. Это были наброски его докладной записки на Высочайшее имя, над которой он корпел уже не первый месяц, но с каждым днем с отчаянием убеждался, что труд его напрасен. Он писал в нем о том, какие преобразования необходимы России, о просвещении, бывшем любимым коньком его, о необходимости развиваться из собственных истоков. Все это было прекрасно и правильно, но – кому он писал все это? Монарху, органически не способному воспринять этих идей, монарху, на котором сам он, Никольский, не без сокрушения поставил крест?
Никита помнил, какое ликование сопровождало весть о смерти Павла Петровича, успевшего восстановить против себя едва ли не все поголовно общество, и восшествие на престол «прекрасного юноши». На страстной седмице, когда всякой православной душе надлежало предаваться скорби и покаянию, православный народ, от дворянина до извозчика, веселился и поздравлял друг друга… Никольский помнил, что только в его доме перебывало в тот день до дюжины визитеров – счастливых, точно Светлый день уже настал.
Сам Никита не склонен был предаваться подобной бурной радости. Светлый лик юного Царя не обольщал его – с лика этого ведь не воду пить, а куда важней, что под ним. В душе, в голове что.
Любимый внук своей великой бабки, он обещал возвращение ее славных времен, обещал преобразования в просвещенном духе, обещал… Да что перечислять! Несколько лет зачарованно слушали эти обещания, пленяясь обаянием венценосца, пока влюбленность в него не стала сменяться разочарованием и иронией, которой разочарованные влюбленные зачастую мстят объектам своего обожания.
Мог ли быть иным этот человек? Швейцарец Лагарп воспитывал его в идеалах европейского прогрессизма, утверждая свободу величайшим благом для людей, восхваляя Англию с ее конституцией и парламентом. Александр был весьма привязан к своему учителю и продолжал с ним переписку даже после того, как тот покинул Россию. Его идеи, почерпнутые у энциклопедистов, завладели умом юного Великого Князя. Мудрость его бабки могла отвергнуть их для России, когда сердце пленялось их велеречивой красотой. Она вела переписку с Вольтером и Дидеротом, зачитывалась Монтескье, но никогда не переносила их рецептов на русскую почву. Но то была Екатерина. Внук не имел ни широты ее ума, ни опыта, ни мудрых советников.
С самого первого дня на троне его окружили убийцы отца, тяжкую связь с которыми он не в силах был разорвать, и такие же неопытные, лишенные почвы, влюбленные в Англию юнцы, как он сам.
Двадцатидевятилетний Павел Строганов, единственный сын известного мецената, ребенком воспитывавшийся в Париже якобинцем Жильбером Роммом, застал кровавую революцию и… был восхищен ею. Перебравшись в Лондон, он встретил не менее восхитительную картину – парламент и декларируемые права и свободы. Юный Павел видел себя одним из прекрасных английский лордов и, надо сказать, лицом и манерами вполне мог сойти за оного. Это единственное достоинство дало ему должность товарища министра внутренних дел, чин тайного советника и звание сенатора в тридцать лет.
Его дальний родственник Николай Новосильцев, старший его годами и наделенный большим умом, имел, однако ту же страсть. Он был совершенно покорен Англией и ее-то ощущал своим подлинным отечеством. Как и Строганов, он стал ближайшим к Государю человеком и членом т.н. «негласного комитета», целью которого было помогать «фактической работе над реформою бесформенного здания управления империей».
Кроме этих двоих «помогали» также князь Кочубей и заядлый враг России Адам Чарторыжский. Мать последнего за фанатичный патриотизм заслужила от поляков название «матки ойчизны». Сын ее от связи с польским наместником князем Репниным, будучи адъютантом Великого Князя Александра, умел искусно угодить ему. Молодой Царь искренне считал этого иуду своим другом и назначил его, ненавистника России, товарищем министра иностранных дел…
Таким-то «мужам разума и силы» предстояло реформировать все государственные институты. Коллегии перетасовывали в министерства, министерства сливали в департаменты. Отдельные должности заводили лишь для того, чтобы определить на них снимаемого с того или иного места сановника. Тех же, кому не досталось министерских портфелей, отправляли в Сенат.
Мозгом этой высокопоставленной, но бесталанной группы англоманов стал сын сельского священника, бывший студент духовной академии, несостоявшийся священник, лишенный как веры в Бога, так и какой-либо морали – Михаил Сперанский, коего представил Императору главный убийца его отца граф Пален.
Александр сделал молодого честолюбца своим статс-секретарем. Обладавший изощренным умом, Сперанский сразу нашел, чем расположить к себе монарха – предложил жаждущему реформ правителю разделить дела тогдашнего императорского совета на экспедиции и взял одну из них в свое управление.
Сперанский прекрасно понял, что имеет дело с людьми весьма пустыми и недалекими. Теша их самолюбие, он делал вид, что лишь облекает своим пером их идеи в достойную форму, а на деле составлял все проекты самостоятельно. В сущности, нужно было весьма мало, чтобы прослыть мудрецом в глазах его патронов. Так, учреждая министерства, он всего-навсего списал их проект с французского времен директории. И этого достало для того, чтобы стяжать себе славу преобразователя.
«Серый кардинал» «негласного комитета», Сперанский глубоко презирал вельмож, до которых невозможно ему было дотянуться титулом и которых так многократно превосходил он умом. Будь сей ум обращен к благой цели, он мог бы принести немало пользы. Но какова могла быть цель человека, не любящего своего отечества, своей веры, своего народа? Не говоря уже об аристократии и самодержавии. В лучшем случае, он служил лишь своему тщеславию. В худшем – разрушению того, что так претило ему…
В чем Сперанский следовал своим патронам, так это поклонению Англии. Он старательно придерживался английского образа жизни, женился на англичанке, дочери гувернантки в доме Шуваловых… Парадокс: если женитьба на русской простолюдинке считалась для всякого человека с положением бесчестьем, то женитьба на иностранных «мисс» и «мамзелях» позором не считалась, ибо все иностранное уже было освещено даже в отсутствии титула…
Дословное перенесение иностранных учреждений на русскую почву не ограничилось министерствами. Государь возымел желание довести до конца дело, начатое еще Алексеем Михайловичем – составлением полного собрания российских законов – для чего учредил новую Комиссию. Результат этого благого, как все прочие, начинания довольно язвительно разобрал в своей знаменитой «Записке о старой и новой России» Карамзин: «…набрали многих секретарей, редакторов, помощников, не сыскали только одного и самого необходимейшего человека, способного быть ее душою, изобрести лучший план, лучшие средства и привести оные в исполнение наилучшим образом. Более года мы ничего не слыхали о трудах сей Комиссии. Наконец, государь спросил у председателя и получил в ответ, что медленность необходима, – что Россия имела дотоле одни указы, а не законы, что велено переводить Кодекс Фридриха Великого. Сей ответ не давал большой надежды. Успех вещи зависит от ясного, истинного о ней понятия. Как? У нас нет законов, но только указы? Разве указы (edicta) не законы?.. И Россия не Пруссия: к чему послужит нам перевод Фридрихова Кодекса? Не худо знать его, но менее ли нужно знать и Юстинианов или датский единственно для общих соображений, а не для путеводительства в нашем особенном законодательстве! Мы ждали года два. Начальник переменился, выходит целый том работы предварительной, – смотрим и протираем себе глаза, ослепленные школьною пылью. Множество ученых слов и фраз, почерпнутых в книгах, ни одной мысли, почерпнутой в созерцании особенного гражданского характера России… Добрые соотечественники наши не могли ничего понять, кроме того, что голова авторов в Луне, а не в Земле Русской, – и желали, чтобы сии умозрители или спустились к нам или не писали для нас законов. Опять новая декорация: видим законодательство в другой руке! Обещают скорый конец плаванию и верную пристань. Уже в Манифесте объявлено, что первая часть законов готова, что немедленно готовы будут и следующие. В самом деле, издаются две книжки под именем проекта Уложения. Что ж находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса!
Какое изумление для россиян! Какая пища для злословия! Благодаря Всевышнего, мы еще не подпали железному скипетру сего завоевателя, – у нас еще не Вестфалия, не Итальянское Королевство, не Варшавское Герцогство, где Кодекс Наполеонов, со слезами переведенный, служит Уставом гражданским. Для того ли существует Россия, как сильное государство, около тысячи лет? Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного Уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6-ю или 7-ю экс-адвокатами и экс-якобинцами? Петр Великий любил иностранное, однако же не велел, без всяких дальних околичностей, взять, например, шведские законы и назвать их русскими, ибо ведал, что законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств. Мы имели бы уже 9 Уложений, если бы надлежало только переводить. Правда, благоразумные авторы сего проекта иногда чувствуют невозможность писать для россиян то, что писано во французском подлиннике, и, дошедши в переводе до главы о супружестве, о разводе, обращаются от Наполеона к Кормчей книге; но везде видно, что они шьют нам кафтан по чужой мерке. Кстати ли начинать, например, русское Уложение главою о правах гражданских, коих, в истинном смысле, не бывало и нет в России?
Я слышал мнение людей неглупых: они думают, что в сих двух изданных книжках предполагается только содержание будущего Кодекса, с означением некоторых мыслей. Я не хотел выводить их из заблуждения и доказывать, что это – самый Кодекс: они не скоро бы мне поверили. Так сия наполеоновская форма законов чужда для понятия русских. Есть даже вещи смешные в проекте, например: «Младенец, рожденный мертвым, не наследует». Если законодатель будет говорить подобные истины, то наполнит оными сто, тысячу книг.
Оставляя все другое, спросим: время ли теперь предлагать россиянам законы французские, хотя бы оные и могли быть удобно применены к нашему гражданственному состоянию? Мы все, все любящие Россию, государя, ее славу, благоденствие, так ненавидим сей народ, обагренный кровью Европы, осыпанный прахом столь многих держав разрушенных, и, в то время, когда имя Наполеона приводит сердца в содрогание, мы положим его Кодекс на святой алтарь Отечества?»
Увы, ничего иного не могли создать люди, души которых принадлежали чужим отечествам. С петровских времен пагубное преклонение перед всем иностранным во времена александровы достигло своего апогея. Любой заезжий проходимец считался в родовитых русских фамилиях достойным стать воспитателем их чад. Выходило из подобного воспитания зачастую сущее бедствие. Всякий мелкий иностранный дворянчик мог претендовать на прекрасную партию, ибо в глазах русских вельмож его титул имел значение, равное старинным русским родам. Иностранцы, принимаемые на службу, имели подчас исключительные привилегии. Чего стоила хотя бы история знаменитого Бетанкура!
Этот человек был искусным механиком и в родной Испании проложил множество дорог, построил мосты, вырыл канавы… Когда Наполеон стал прибирать его родину под свою тяжелую руку, Бетанкур по приглашении русского посла Муравьева-Апостола прибыл в Петербург. Ему было назначено жалование в двадцать четыре тысячи рублей ассигнациями – огромная сумма. Однако видя неустойчивость курса бумажных денег, испанец добился, чтобы жалование ему повысили до шестидесяти тысяч рублей. Этого было мало, и он потребовал себе русский чин и сделался генерал-майором. Мало оказалось и этого: Бетанкур считал, что, имея в своем отечестве должность, равную министерской, имеет право на такую же и в России. Его произвели в генерал-лейтенанты. Пожалованную ему Аннинскую ленту строптивый иностранец отослал назад, заявив, что ему, кавалеру св. Иакова Компостельского, неприлично принять орден ниже его. Государь прислал ему Александровскую ленту.
Дабы впредь иметь своих инженеров, учрежден был институт инженеров путей сообщения. Бетанкур сделался его главным начальником, а место директора потребовал предоставить своему другу французу Сенноверу. Этот человек, будучи родовитым дворянином и капитаном королевской армии, изменил долгу, перейдя на сторону якобинцев. Он был ближайшим другом Марата и после убийства последнего, опасаясь нараставшей волны террора, бежал из Франции. Россия, разумеется, не отказала в приюте сему «благородному человеку», как не отказала и брату все того же Марата, доверив ему воспитание своего юношества в Царскосельском лицее. Сенновер несколько лет зарабатывал на жизнь торговлей французским табаком. Чтобы сделать его директором института, русское правительство пожаловало ему чин генерал-майора.
Бетанкур познакомился с Сенновером в доме армянина Маничарова, в котором первый поселился с семейством. Маничаров в ту пору переживал нелегкий период, растратив оставленное ему отцом состояние. Француз и испанец позаботились о своем друге. По их требованию сей деятель, никогда ничем не занимавшийся и не имевший никакого чина, был принят в институт экономом в чине инженер-капитана…
Первыми четырьмя профессорами институту помог Наполеон, приславший лучших учеников Политехнической школы: Базена, Потье, Фабра и Дестрема. В 1812 году эти господа объявили, что не могут служить правительству, которое находится в войне с их отечеством, и потребовали, чтобы их отпустили на родину. Вместо Франции их отправили в Сибирь, где они сохраняли чины и жалования и откуда возвратились после заключения мира к своим должностям.
Долгое время самого Государя и его приближенных наставлял некто барон Штейн, масон, посланный в Россию немецкими тайными обществами с целью убедить русского императора встать на защиту Германии и всего мира от Бонапарта. Сладкое слово «свобода» не сходило с уст сего посланца, и именно он вложил в душу молодого царя грезу о себе, как спасителе и освободителе Европы.
Влияние Штейна, во многом, определило русскую внешнюю политику, плодами которой стали три бесславных кампании, Аустерлиц, Фринланд, Тильзит – слова, которые и годы спустя стыдно и больно было слышать русскому сердцу. Военные кампании, ведшиеся за чужие земли и интересы, стоившие России тысячи жизней, немало отразились и на ее казне. Положение ее решено было поправить самыми тривиальным способом – повышением налогов. И вновь сокрушался Карамзин бездарностью меры: «Умножать государственные доходы новыми налогами есть способ весьма ненадежный и только временный. Государственное хозяйство не есть частное: я могу сделаться богатее от прибавки оброка на крестьян моих, а правительство не может, ибо налоги его суть общие и всегда производят дороговизну. Казна богатеет только двумя способами: размножением вещей или уменьшением расходов, промышленностью или бережливостью. Если год от года будет у нас более хлеба, сукон, кож, холста, то содержание армий должно стоить менее, а тщательная экономия богатее золотых рудников. Миллион, сохраненный в казне за расходами, обращается в два; миллион, налогом приобретенный, уменьшается ныне вполовину, завтра будет нулем. Искренно хваля правительство за желание способствовать в России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли за бережливость? Где она? В уменьшении дворцовых расходов? Но бережливость государя не есть государственная! Александра называют даже скупым; но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5 мест жалованье; всякому – столовые деньги; множество пенсий излишних; дают взаймы без отдачи и кому? – богатейшим людям! Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну… Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами; все требуют от императора домов – и покупают оные двойною ценою из сумм государственных, будто бы для общей, а в самом деле для частной выгоды, и проч., и проч. Одним словом, от начала России не бывало государя, столь умеренного в своих особенных расходах, как Александр, – и царствования, столь расточительного, как его! В числе таких несообразностей заметим, что мы, предписывая дворянству бережливость в указах, видим гусарских армейских офицеров в мундирах, облитых серебром и золотом! Сколько жалованья сим людям? И чего стоит мундир? Полки красятся не одеждою, а делами. Мало остановить некоторые казенные строения и работы, мало сберечь тем 20 миллионов – не надобно тешить бесстыдного корыстолюбия многих знатных людей, надобно бояться всяких новых штатов, уменьшить число тунеядцев на жалованье, отказывать невеждам, требующим денег для мнимого успеха наук, и, где можно, ограничить роскошь самых частных людей, которая в нынешнем состоянии Европы и России вреднее прежнего для государства».
Эту записку с подробным изложением действительного положения дел в государстве Николай Михайлович Карамзин составил по просьбе великой княгини Екатерины Павловны для ее Августейшего брата. «Одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу империи, и коих благотворность остается доселе сомнительной», – констатировал светлейший ум России. Государь сей доклад прочел, был весьма недоволен и запретил его к распространению. Однако, Никита Васильевич был в числе весьма немногих лиц, кому довелось ознакомиться с этим сочинением историографа. И как скрижаль перечитывалось простое и неоспоримое: «Главная ошибка законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм государственной деятельности: от того – изобретение различных министерств, учреждение Совета и проч. Дела не лучше производятся – только в местах и чиновниками другого названия. Последуем иному правилу и скажем, что не формы, а люди важны. Пусть министерства и Совет существуют: они будут полезны, если в министерстве и в Совете увидим только мужей, знаменитых разумом и честью. Итак, первое наше доброе желание есть, да способствует Бог Александру в счастливом избрании людей! Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям. Всемогущая рука единовластителя одного ведет, другого мчит на высоту; медленная постепенность есть закон для множества, а не для всех. Кто имеет ум министра, не должен поседеть в столоначальниках или секретарях. Чины унижаются не скорым их приобретением, но глупостью или бесчестием сановников; возбуждается зависть, но скоро умолкает пред лицом достойного. Вы не образуете полезного министерства сочинением Наказа, – тогда образуете, когда приготовите хороших министров. Совет рассматривает их предложение, но уверены ли вы в мудрости его членов? Общая мудрость рождается только от частной. Одним словом, теперь всего нужнее люди!»
Люди… Уже давно канул в лето «негласный комитет», но подлинные мужи силы и разума так и не заняли подобающих им мест. Так, министром народного просвещения сделался человек вовсе невежественный, бывший воспитанник Пажеского корпуса, дотоле занимавший должность обер-прокурора Святейшего Синода и главноуправляющего духовных дел иностранных исповеданий князь Александр Николаевич Голицын, с годами ударившийся в мистицизм. Министерство иностранных исповеданий было соединено с министерством просвещения, образовав министерство духовных дел и народного просвещения, разделенное на два департамента. Директором первого назначен был Александр Тургенев, а второго – Василий Попов, слепое орудие «Библейского общества», которое откровенно заявляло своей целью рассеять тьму нелепостей и суеверий, называемых греко-кафолическим восточным исповеданием. Усердствуя соединению вер, Попов и Голицын сделались их гонителями и покровителями всех сект, размножившихся в невероятном количестве.
Якобинцы и сектанты получали должности, воспитывали детей благородных фамилий, подросшие воспитанники, напичканные ядовитыми идеями, развивали их, не слишком таясь. И карающая десница не падала на головы ни тех, ни других. Зато упала на голову юноши Пушкина, дивно одаренного поэта, каких еще не являлось меж русскими стихотворцами – за пустейшие вирши, которым ни автор, ни его друзья не придавали ни малейшего значения.
Зато не позволили Вольному обществу любителей российской словесности осуществить благое начинание: издать «Полную Российскою энциклопедию», «Жизнеописания многих великих людей Отечества», иллюстрированную историю живописи, рисунка и гравюры… Министр просвещения усмотрел в сем проекте неуместное состязание с Академией наук, которой одной пристали подобные труды. Несмысленные! Какой вред был кому, если бы люди, в основном молодые и не лишенные дарований, полные благих стремлений, обратили оные и кипучую энергию свою на благое предприятие – прославление великих людей русских, рассказ русским о России, кою они фатально не ведали? Нет, связали руки, и не нашедшая доброго выхода энергия куда же обратилась? Не к тому ли, чтобы избавиться от все более ненавистного ярма? О, люди могут простить власти прямое тиранство, но тотальной глупости и бездарности, становящейся помехой всему живому – не простят никогда.
Но правящие Россией временщики не могли постичь этого и охотились на мух, слонов не примечая…
Этим ли людям и монарху, их поставившему, стоило писать доклад о несчастном положении русского образования, о верной организации оного, о необходимости просвещения, в котором единственно заключено противоядие всевозможным вредоносным учениям, заключено само будущее России? Разве не возвышал свой голос Карамзин, имевший возможность напрямую, с глазу на глаз говорить Государю горькие истины? Все впустую…
Никольский печально перелистал свои наброски и, бережно сложив обратно в папку, убрал ее в ящик. Он решил все же показать написанное наудачу приехавшему Стратонову – пусть и малосведущий человек в этой области, а все же интересно его мнение знать. А к тому донести до друга старого мысли свои, не дающие покоя ночами, объяснить ему, в рутине военной службы погрязшему, что происходит в Отечестве их, такими жертвами от порабощения спасенного и теперь в мирные дни к бедствию толкаемому.
Глава 2.
Мужчины в белых балахонах и колпаках стучали себя кулаками по коленям, издавая странные звуки, женщины в таких же одеяниях кружились по зале все быстрее и быстрее, подобно юлам. Доведя себя до исступления, отдельные из них начинали выделывать самые невозможные движения и что-то истерично кричать.
– Дух сошел, – сказала наблюдавшую эту сцену из окна дома напротив дама и отошла вглубь комнаты.
– Дух известного происхождения, – заметил стоявший рядом мужчина. – Отвратительное зрелище – ощущение, словно наблюдаешь за жизнью сумасшедшего дома.
– Дамы, имеющие несчастье соседствовать с г-жой Татариновой, не находят слов, чтобы выразить свой ужас. Они собираются съезжать с квартиры, чтобы не стать добычей сатаны.
– Неужели глава департамента просвещения, в самом деле, посещает это беснование?
– Регулярно. Сам министр также бывает здесь. Кажется, у них весьма оригинальные взгляды на христианство…
– Черт побери! Несчастна страна, в которой духовными делами заправляет сектант! Судя по всему, милая Эжени, матушка-Россия за время нашего отсутствия изменилась не в лучшую сторону. Как это может быть, чтобы в стране, населенной деловитым и способным народом, в стране, изобилующей умами и талантами, кадровая политика сводилась за редким исключением к замене одного дурака другим, еще большим дураком?
– Причем здесь народ, Виктор? Народ – стихия, едва ли сообщающаяся с правящей кастой. А в этой касте, по крупному счету, вообще, склонны подозревать таланты и ум лишь в представителях иных стран.
– Их не излечила от этого лакейского состояния даже война, вы правы, Эжени. Но Бог с ними, с дураками вообще и Поповым с Голицыным в частности. В сущности, мне нет дела, ходят ли они на сектантские сборища, в кабак или в дом терпимости. Что Борецкая?
– О, она не пропускает ни одного собрания! – живо откликнулась Эжени.
– Старуха явно тронулась умом… Что ж, это нам на руку. Вы должны вступить в их общество, моя дорогая спутница.
Эжени вопросительно приподняла густую, смолистую бровь:
– Вы хотите, чтобы я участвовала в этом балагане и губила свою душу?
– Давайте не будем говорить о душе? Вы же не будете всерьез уподобляться этим помешанным, а лишь войдете к ним в доверие. С вашими способностями вам это не составит труда. Стоит вам продемонстрировать несколько ваших чудес, и это сборище падет к вашим ногам и возведет вас в свои пророчицы.
– Сомнительную славу вы мне предлагаете. Но у них уже есть пророк.
– Вот как? Что же он?
– Какое-то косматое чудовище. По-видимому, простолюдин. Юродивый или хороший актер.
– Юрода мы оттесним, а актера купим, – решил Виктор.
– Мы?
– Оттесните вы, дорогая, – целуя руку даме, улыбнулся бывший граф Неманич, ныне поселившийся в столице под скромной фамилией Курский. – А куплю я.
– Что ж, я обещала помогать вам, и сделаю то, о чем вы просите. Но вы помните, я никогда не делаю шаг, не зная, каков будет следующий.
– Не волнуйтесь, ничего крамольного. Я лишь хочу, чтобы вы вошли в доверие к старухе, стали бывать у нее дома, а, если надо, и поселились бы у нее, дабы знать все о жизни этого почтенного семейства.
– Мой друг, юрод, о котором я говорила, живет как раз у Борецкой. Они зовут его Гаврюшей.
– Это вам рассказали те две несчастные старые девы, которым не повезло с беспокойными соседями?
– Именно.
– Гаврюша… Что ж, если он актер, а не юрод, то может быть нам более чем полезен. Вам необходимо приглядеться к нему, Эжени. А тогда и решим, как действовать дальше.
Этот разговор происходил тремя неделями прежде. Эжени достало столь незначительного срока, чтобы выполнить инструкции Курского. Теперь она, укутавшись в теплую шубу, сидела подле него в крытой коляске и наблюдала за домом Борецкой. Ей достало одной встречи с юродом Гаврюшей, чтобы распознать в нем обычного актера, умело обирающего старую барыню и дурачащего ее знакомых. Не откладывая дела в долгий ящик, Виктор решил лично пообщаться с мошенником и теперь дожидался, когда тот выйдет из дома.
Ждать пришлось недолго – Эжени успела заметить, что юрод во время дневного почивания барыни уходит якобы «в церкву», а на деле спешит в находившееся в нескольких кварталах от дома Борецких злачное место. Каким порокам предавался он там, ей, разумеется, было неведомо.
Едва Гаврюша показался на улице, как Курский прихлопнул себя по колену:
– Тесен мир! Нужно быть действительно выдающимся актером, чтобы играть блаженного с такой физиономией!
– Вы знаете его?
– Еще бы мне не знать этого разбойника! Помните ли вы, милая Эжени, мой побег из кишеневской тюрьмы?
Разумеется, она помнила. Виктор ожидал там своей не сулящей ничего доброго участи в компании отпетых злодеев, среди которых были три разбойника недавно разгромленной шайки, наводившей ужас на путешественников, особенно, купцов. Все они были малороссами, бежавшими из крепостной зависимости и зажившими вольной казачьей жизнью. Их атаман чем-то походил на Стеньку Разина. В его внешности не было ничего, чтобы выдавало в нем лихого разбойничьего атамана. В тюрьме он был смирен, тужил о своей грешной жизни и тосковал по тому безоблачному времени, когда был он простым крестьянином, имел пригожую невесту и не помышлял о грабежах и иных злодействах. Его подельник Гиря, здоровенный горбун с непропорционально длинными руками и смуглым, злым лицом, смотрел на атамана с презрением. Сам он не испытывал никакого сокрушения о совершенном, а печалился лишь собственной участью. Каким-то образом этому негодяю удалось украсть ключи у надзирателя и отомкнуть свои оковы. О друзьях по несчастью не имел он и мысли, желая спасти от кнута лишь собственную спину, но не тут-то было. Виктор успел мертвой хваткой вцепиться в его ногу. Гиря попытался ударить его кулаком в голову, но молодой офицер ловко увернулся и, вскочив, повис уже на шее разбойника.
– Пусти, ваше благородие, а не то не жить тебе!
– Тогда и тебе не жить! Один громкий звук, и твои же друзья поднимут шум, чтобы не лишаться твоего общества!
– Чего тебе надо?
– Либо уходим вместе, либо вместе остаемся здесь.
Выбора у Гири не было, и так Виктор обрел свободу. Дальнейшие их пути лежали порознь, но разбойник-горбун был слишком примечательной фигурой, чтобы его забыть…
– Поезжайте домой, – сказал Курский Эжени, спрыгивая на мостовую. – А я провожу своего старого приятеля и побеседую с ним.
– Будьте осторожны, Виктор! – откликнулась она, пожимая его руку.
Курский, стройный и по-юношески гибкий, быстро последовал за Гаврюшей-Гирей. Эжени некоторое время смотрела ему вслед. Этим человеком, сочетавшим в себе глубокий и находчивый ум, мужество, ловкость, природное благородство души, скрываемое под маской холодного, беспощадно ироничного циника, она восхищалась и ни единого мгновенья не жалела о том, что когда-то соединила с ним свою странную судьбу. Они оба остались верны своим обетам, но в то же время их жизнь давно сделалась единым целым. Настолько, что, если Виктору грозила беда, Эжени всегда чувствовала это – даже если он находился на другом конце света.
Теперь она была спокойна и, тронув кучера за плечо, сделала ему знак ехать домой.
Курский же благополучно проследовал до трактира «У Евпла», где обрел Гаврюшу, мирно вкушавшего беленькую и нетерпеливо мявшего могучей лапой льнувшую к нему девку. Виктор бесцеремонно уселся напротив них и поприветствовал подавшегося в юроды разбойника:
– Ну, здравствуй, Гиря.
Гаврюша вздрогнул и, медленно подняв косматую голову, вперил в Курского тяжелый, застывший взор. Его лапа сползла с оголенного плеча девки, и та, поняв, что стала лишней, тотчас ускользнула. Он осушил уже наполненную стопку, и, наконец, заговорил:
– Вы, господин хороший, верно, обознались.
– В Кишеневе генерал есть. Он точно не обознается. Ты, Гиря, человек приметный. Да и клеймо у тебя на правом предплечье приметное. По нему тебя сразу вспомнят. Думаю, твой атаман, коли жив, рад будет встретить тебя на каторге, куда ты уж наверное попадешь, потому что горбуны, как говорят, более выносливы к ударам кнута, чем обычные люди.
– Помер атаман, – холодно сказал Гиря. – На третий день после кнута преставился, – водрузив на стол массивные, поросшие рыжеватым волосом кулаки, он заметил: – Где-то видел я тебя, барин, нутром чувствую, что видел, а глаз твоих вспомнить не могу. Верил бы я в черта, так подумал бы, что ты он самый есть.
– Я не против, если ты будешь считать меня чертом. В сущности, нечто общее у меня с этим малоприятным господином есть.
– Ну, сказывай, барин, почто тебе моя душа занадобилась.
– А хотел я твоей душе предложение сделать – заработать недурно, – Курский положил на стол несколько ассигнаций. – Это задаток. Если станешь делать, что скажу, то будешь получать подобное вспомоществование регулярно.
Глаза Гири жадно загорелись:
– Весь к услугам вашего превосходительства!
– Даже не спросив, что от тебя потребуется? – усмехнулся Виктор.
– Какое мне дело? Если вашему превосходительству нужно прибить кого, так это мы завсегда со всем нашим удовольствием.
– Если мне понадобиться кого-нибудь прибить, то я справлюсь с этой задачей сам, – холодно отозвался Курский. – Ты давно живешь в доме Борецких?
– Три года у них кормлюсь.
– И хорошо знаешь, что происходит в этом почтенном семействе?
– Кому ж лучше знать? – самодовольно ухмыльнулся Гиря. – Старуха мне чаще, чем попу, исповедуется. А за остальными я доглядываю для собственной потехи.
– Отлично. Вот, и меня заодно потешишь. Я должен знать все о жизни этой семьи. Их материальное положение, их страсти, их…
– Преступления? – услужливо уточнил бывший разбойник.
– Все. Карточные долги, любовницы… В общем, ты понял.
– Чего уж не понять. Знать, насолили вам эти господа. Хотите их на угольках изжарить?
– Это уже не твое дело.
– Очень даже мое, – возразил Гиря. – Ну как вы эту семейку под монастырь подведете, а при ком же я буду харчеваться? На большую дорогу идти опять прикажете?
– Тебя возьмет к себе другая старая дура.
– А если не возьмет?
– А если не возьмет, даю слово, что на улице ты не останешься. И не задавай больше лишних вопросов, иначе, даю слово, я сделаю так, что следующую ночь ты проведешь в холодной.
Бывший разбойник зло усмехнулся и спрятал в карман деньги:
– Как прикажете доносить вам? Грамотой я не владею, отлучаться надолго также затруднен.
– Каждую среду в это же время здесь буду ждать тебя либо я сам, либо мой человек. От него вопросов не жди. Просто говори все, о чем имеешь сказать. Будешь получать одну и ту же сумму всякий раз. Если же твое сообщение окажется особенно ценным, будут премиальные. Только учти: попробуешь соврать – пеняй на себя. Я об этом узнаю, будь уверен.
С этими словами Курский оставил своего нового агента. Вечером его ожидала не менее важная встреча. И к ней нужно было успеть основательно подготовиться.
Глава 3.
В дом 14 по улице Мойке стекались гости. Еще с 18-го века часть его принадлежала адмиралу Петру Пущину, ныне здесь проживал его внук Иван, сменивший мундир поручика Конной артиллерии на ничтожную должность сверхштатного члена Петербургской палаты уголовного суда, дабы показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унизительной. На этом поприще познакомился он с другим отставным поручиком, решившим защищать права простого человека в уголовном суде – Кондратием Рылеевым. Пущин увидел в Рылееве двигатель, способный дать ход делу, которому сам он и его друзья решили посвятить себя. И не ошибся. Кондратий Федорович скоро сделался неформальным вождем Северного общества, его душой, огнем, воспламеняющим сердца.
Константин Стратонов вступил в ряды общества вслед за своим другом и однополчанином Сашей Одоевским, юношей-поэтом с высокими помыслами и мечтательным выражением благообразного лица. Саша восхищался Кондратием, всем чистым сердцем своим верил в идеалы свободы, восприятые им от своих детских наставников Шопена и Арсеньева. С их легкой руки мальчик проникся идеями Руссо и Монтескье, уже в отроческие годы наизусть знал Вольтера. Его романтическая настроенность подчас казалась Константину излишней: такая инфантильность – престала ли серьезному человеку? Но Одоевский был поэт, и все воспринимал сердцем, поддаваясь пылкому воображению.
Константин, имевший куда более суровую школу жизни, был не столь прекраснодушен. Выросший в чужом семействе, не помнивший матери и почти не помнивший отца, корнет Стратонов получил образование в самом лучшем военном учебном заведении – «рыцарской академии», Первом кадетском корпусе. Здесь же, несколькими годами раньше, учился и Кондратий Рылеев.
В то время уже осталась в прошлом легендарная эпоха корпуса, когда возглавлял его Федор Евстафьевич Ангальт, заботившийся о просвещении кадетов. При нем в числе преподавателей были Княжнин и Железников, актер Плавильщиков декламировал в классах Ломоносова и Хераскова. Юноши читали сочинения знаменитых историков и философов, получали выписываемые из-за границы журналы и газеты, а кроме того работали на маленьких участках разбитой в саду сельской фермы. Увы, Ангальт впал в немилость после французской революции, как почитатель Руссо и Вольтера, и «рыцарская академия» сделалась вполне обычным заведением такого рода.
В бытность там Константина корпус возглавлял знаменитый немецкий писатель, вдохновитель периода «Бури и натиска», получившего название по его трагедии, друг Гете и Шиллера, Фридрих Клингер. Сын прачки и дровосека, борец за национальное единство Германии, он в итоге вступил в Русскую армию, женился на русской и в чине генерала возглавил «рыцарскую академию». Сын его погиб под Бородином. Романы Клингера были большей частью запрещены в России и, в конце концов, сам он попал в число «вольномыслящих» в глазах правительства.
Стратонов всегда с благодарностью вспоминал и его, и преподавателей корпуса, и суровых барынь, присматривавших за младшим отделением, и своих товарищей. Рылеев, будучи старше, не был в их числе. Между тем, в те поры еще вспоминалась в корпусе его озорная шутка над добрейшим экономом Бобровом, всегда отечески относившимся к кадетам, утешавшим их и с большим трудом вынуждавшим себя бывать суровым, когда того требовала необходимость. Этого милейшего человека любили все. Даже старый хромой пес, вечно бродивший за ним. Однажды Бобров явился к Клингеру с обычным утренним рапортом, вложенным в треуголку. Развернув лист, директор немало удивился, обнаружив в нем шуточные вирши. То была первая поэма Кондратия «Кулакияда». В тот же день он повинился перед обиженным до слез экономом за свою шалость и получил от добряка прощение…
В годы войны лучших кадет из старших классов досрочно выпускали в офицеры. Среди них был и Рылеев, успевший пусть и под конец принять участие в битве народов. Младшие товарищи страшно завидовали старшим. По сей день Стратонов горько сожалел, что ему не привелось наравне с братом бить ненавистного супостата.
Война обошлась без него, и Константин с горечью сознавал, что лучшие годы проходят в трясине аракчеевщины, затянувшей всю армию. После войны Государь имел желание сохранить большую армию, но ее содержание требовало средств. Тут-то и выступил вперед временщик с проектом создания военных поселений. Издавна таковые поселения располагались на границах России, родившись из живой необходимости, создаваясь самими поселенцами – казаками. Но в отличие от казаков Аракчеев превратил поселения в форменную каторгу. Все в них было заведено на немецкий манер. Измученный полевою работой поселянин должен был вытягиваться во фронт и маршировать. Возвратясь домой, обязан мыть и чистить избу и мести улицу. Ему надлежало объявлять о каждом яйце, которое принесет его курица. Его жена не имела права просто родить дома, но должна была, чувствуя приближение родов, являться в штаб. Этот ужасный порядок завели в Белоруссии, на Буге, в Харьковской губернии, в Чугуеве… Даже самих казаков не обошло это лихо. Часть из них решено было обратить в «поселенную кавалерию». Особенно пагубно сказалось это на славном Чугуевском казачестве. Еще недавно чугуевское население выставляло десятиэскадронный уланский полк, который отличался красотой людей и лошадей, равно как преданностью и мужеством. Но это воинственное племя было переформировано в военные поселения, изменившие вид этого небольшого, но богатого края и превратившие его в пространную казарму. Новая система нарушала все права собственности и водворила везде и всюду горькую тоску. Много казаков, поседевших под ружьем и покрытых славными ранами, было переселено из родного края и вынуждено умирать в местах для них чуждых, частью даже в Сибири…
Разумеется, доведенные до отчаяния люди восставали – восстания беспощадно подавлялись. Счастье, что устройство поселений оказалось слишком дорогой для казны «забавой», и это начинание не получило предполагаемого изначально распространения.
Жизнь офицера в невоенное время, если он не принадлежит к богатому семейству, весьма трудна. Особенно в столице. Для того, чтобы поддерживать свое положение хоть сколько-нибудь вровень с товарищами, нужно иметь деньги. Офицерское же жалование было столь ничтожно, что даже пошить себе новый мундир оказывалось неподъемной задачей. Начинались долги… Избавить офицера от уплаты долгов по закону могла только война, но ее не было. Константин восхищался аскетизмом старшего брата, пренебрегавшего неформальными «правилами» и оттого обходившегося скромным достатком. Но Юрий уже стяжал себе славу на полях великой войны, стяжал уважение товарищей по оружию. И этот фундамент был незыблем, его не нужно было укреплять соблюдением ложных «правил». У Константина же не было ничего. И он жестоко страдал от своего бесславного и нищенского существования, из которого не находил выхода.
Тяготило душу и то видимое небрежение, если не сказать больше, с которым правительство относилось зачастую к лучшим сынам Отечества. Лишь два героя минувшей войны удостоились памятников, кои были воздвигнуты в столице – Кутузов и Барклай. И это было справедливо, но Константин разделял негодование брата, что не нашлось места памятнику третьему – Багратиону, чей прах так и не был перезахоронен, и чье имя было как будто вовсе позабыто.
А чего стоила история величайшего вослед Ушакову флотоводца Сенявина? Этот человек, получивший в командование все русские морские и сухопутные силы Средиземноморья, сделался грозой турок и французов. Он не допустил захвата Ионических островов французами, разгромив турецкий флот в Дарданелльском и Афонском сражениях 1807-го года, и тем самым обеспечил господство русского флота в Архипелаге.
Увы, по Тильзитскому миру Сенявин вынужден был передать Франции и Ионические острова, и бухту Каттаро на Адриатическом море, и отплыть на родину. До России, однако, его корабли добрались нескоро. В Лиссабоне их блокировал британский флот по случаю объявления Россией войны Англии. После долгих переговоров адмирал заключил с англичанами соглашение об интернировании эскадры в британских портах на время войны. Целый год он находился с кораблями на Портсмутском рейде. Так как содержание, выделяемое пленным было ничтожно, а Россия ничем не помогала попавшим в беду морякам, то Дмитрий Николаевич, дабы спасти подчиненных от голода, взял содержание их на себя. Он истратил все имевшееся у него состояние до гроша, занимал у собственных офицеров и в итоге возвратился на Родину совершенно нищим. Какова же была награда герою, спасшему эскадру от затопления и приведшего ее в целости к родным берегам, заплатив за это такую цену? Немилость Государя, посчитавшего лиссабонские договоры с англичанами самовольством. В 1812 году Сенявин, командовавший фактически бездействовавший Ревельской эскадрой, просил военного министра перевести его туда, где мог бы и он послужить Отечеству делом в суровую годину. Ему не отвечали, а в 1813-м вовсе уволили со службы, назначив лишь половинную пенсию, ввергнув тем самым адмирала и его семейство в совершенную нищету.
Подобные примеры переполняли душу Константина возмущением. Толчком к приведению в действие копившегося недовольства стала для него печальная и постыдная история восстания Семеновского полка.
Шефом Семеновцев был сам Государь, и полк считался образцовым. Командовал им генерал-адъютант Яков Алексеевич Потемкин, храбрый офицер в сражениях и франт в гостиных. Офицеры обожали своего командира, бывшего всегда вежливым и менее взыскательным перед фронтом, чем начальники в других полках. Дисциплина Семеновцев была образцовой. Офицерами в нем состояли молодые люди из лучших фамилий. Строго соблюдая законы чести, в товарище не терпели они и малейшего пятна на ней. Они не курили табаку, не выражались скверными словами, были воспитаны и обходительны со всеми. Нижние чины тянулись за офицерами, были всегда учтивы и исполнены сознания своего достоинства, как телохранителей государевых. Таким солдатам не требовалось телесных наказаний, и они ушли из жизни полка. Казалось бы, что могло быть лучше?
Увы, мнимое пренебрежение к фронту вызвало неудовольствие еще совсем молодого и горячего великого князя Михаила, командовавшего бригадой, в которую входил Семеновский полк. Он-то и предложил в целях исправления положения заменить Потемкина полковником Шварцем. Человек грубый и черствый, Шварц из всех воспитательных мер признавал одну – палку.
И, вот, палочные удары посыпались на спины забывших оные семеновских солдат, не исключая и тех заслуженных фронтовиков, которые самим уставом были избавлены от телесных наказаний. Оскорбления и унижения, коим подвергались они за мельчайшую провинность, вызывали чувство гнева во всяком честном человеке. Гвардия пришла в уныние – если так поступили с «телохранителями», то что ждать другим?..
Тогда-то и запели тишком по углам гостиных в офицерских группах переведенную отставным полковником Катениным песню французской революции:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода
Ты царствуй отныне над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами:
Вот клятва каждого из нас.
Семеновский бунт был подготовлен офицерами. В частности, братьями Муравьевыми-Апостолами, сыновьями русского посла в Мадриде. «Vivere in sperando, morire in cacando!» – жарко говорили они, считая, что не должно дожидаться приезда Императора с очередного всеевропейского конгресса в Троппау и его возможной милости.
На рассвете промозглого осеннего дня все нижние чины в одно мгновение высыпали из казарм и построились на площади, отвечая допрашивающим их батальонным и ротным командирам, что не хотят более находиться под начальством полковника Шварца и что, за исключением этого, готовы исполнять все, что им прикажут. Бунтарей увещевали корпусный начальник генерал Васильчиков и сам великий князь, но напрасно. На другой день все три тысячи человек признали себя арестантами и беспрекословно отправились в крепость.
Через несколько дней из Троппау пришел приказ Государя – полк было велено кассировать: нижние чины разослать по линейным полкам, офицеров, коих виновность осталась не доказана перевести также в армию, только с повышением двумя чинами. Таковых было большинство, так как солдаты не выдали никого из своих командиров. Лишь несколько из них все же попали под суд и были разжалованы в рядовые. Шварца судили за жестокое обращение с солдатами и отставили от службы. Полк же был набран сызнова.
Вскоре после этого Константин близко сошелся с вольномыслящими и решительно настроенными молодыми офицерами и, наконец, вошел в Северное общество. Брату он ни словом не обмолвился о том, зная, что тот, несмотря ни на что, никогда не поддержит какое-либо движение против существующего строя, против Государя. К тому же Юрию не могло понравиться, что одним из мест собраний «вольнодумцев» стал салон его собственной жены…
Нынешнее заседание общества имело особое значение – для координации совместных действий в Петербург прибыл глава общества Южного полковник Павел Пестель, «Русская правда» которого стала вторым проектом устройства России после муравьевской Конституции северян. Пестель прибыл в город на несколько дней в сопровождении майора Рунича. И, вот, наконец, предстояло первое общее совещание.
Константин никогда прежде не видел Пестеля и теперь с любопытством разглядывал его невысокую плотную фигуру, полное, надменное лицо. Герой Бородинского сражения, отличный офицер, жалованный самим Государем за образцовый порядок, наведенный им в Вятском пехотном полку, он отличался решительностью, амбициозностью и властностью и чем-то напоминал Наполеона. Как гостю, ему было предоставлено первое слово, и он сразу завладел вниманием аудитории. Павел Иванович говорил энергично и убежденно. Он не рассуждал, не убеждал, а утверждал и требовал, чтобы именно его «Русская Правда» была признана основой российского законодательства после революции.
– Революция, господа, не терпит мягкости и нерешительности! – говорил он. – Наш противник силен, а потому действовать надлежит твердо и жестко, иначе дело будет проиграно! Никаких компромиссов и полумер! Самодержавие должно быть уничтожено без возможности восстановления когда-либо. А на его месте да будет республика!
– Признаю, еще недавно я уверенно поддержал бы вас, – вымолвил Рылеев задумчиво. – Но по размышлении должен заметить, что весьма сомневаюсь в том, что народ русский готов к столь радикальной смене государственного строя. Мы можем оттолкнуть его от себя чрезмерной крутизной поворота, а потому, полагаю, что на первых порах наиболее разумный проект – областное правление Северо-Американской республики при Императоре, власть которого будет ограничена Конституцией и не превосходить власти президента Штатов.
– Народ, Кондратий Федорович, примет тот строй, который сможет устоять, – холодно ответил Пестель. – Тотчас по уничтожении Царствующего дома мы создадим правительство Провидения, которое направит всех по пути добродетели.
– И каким же образом? – подал голос поляк Кавалерович, странноватый господин с пышными усами и в синеватых очках.
– Вы не читали «Русской Правды»?
– Читать, Павел Иванович, совсем не то, что слышать. Впрочем, я припоминаю, что у вас там предусмотрены некие… приказы благочиния, которые будут следить за свободными гражданами.
Никто, казалось, не заметил иронии в словах остроносого поляка. И Пестель спокойно ответил:
– Вы правы. Над оным приказом будет существовать также Высшее благочиние, которое будет охранять правительство. Оно будет следить за разными течениями мысли в обществе, противодействовать враждебным учениям, бороться с заговорами и предотвращать бунты. Любые общества мы запретим: как открытые, так и тайные, потому что первые бесполезны, а вторые вредны.
– Но ведь это диктатура! – воскликнул князь Трубецкой.
– Разумеется, – охотно согласился Пестель. – Но диктатура неизбежна на первых порах, иначе мы ввергнем страну в анархию.
– Я не могу согласиться с необходимостью диктатуры временного правительства, – сказал Рылеев. – Только всесословное Учредительное собрание, Народный собор должен иметь право учреждать новые законы. Никак иначе! В противном случае это будет… просто узурпация власти и нарушение прав народа.
Лицо Павла Ивановича осталось непроницаемым:
– Я совершенно согласен с необходимостью созыва Учредительного собрания, но согласитесь, Кондратий Федорович, мы не сможем сделать это на другой день по свержении монархии. В любом случае, будет промежуточный период, в который нам придется управляться самим.
– Но этот период не продлиться дольше года или двух! – заметил автор северной «Конституции» Никита Муравьев.
– О нет! – возразил Пестель. – Десять лет, господа! Как минимум десять лет! Столько понадобится диктатору, чтобы подготовить почву для созыва собрания и переходу к демократическому устройству.
– Это ужасно – то, что вы говорите! – вмешался князь Трубецкой. – Вы хотите на десять лет погрузить страну во мрак диктатуры с каким-то приказом благочиния, похожим на средневековую опричнину! Ведь это же – шпионство!
– Да, шпионство, – спокойно подтвердил Павел Иванович. – Быть может, вы полагаете, что сторонники монархии смирятся с переворотом и не будут пытаться поворотить все вспять? Не будьте наивными, господа. Мы собираемся начать войну. А на войне шпионство – суть… не только позволительное и законное, но даже надежнейшее и почти, можно сказать, единственное средство, коим Высшее благочиние поставляется в возможность охранять государство.
– А по мне, так самые надежные шпионы – это собственные глаза и уши, – заметил Кавалерович.
– Увы, пары глаз и пары ушей не достанет на всю империю!
– Как знать! – тонко улыбнулся поляк и не без ехидства осведомился, осторожно переместив левой рукой со стола на колено сухую правую. – И какое же число «благочинных» вы намерены призвать в надсмотрщики над свободными гражданами?
– 112 900, – мгновенно ответил Пестель.
– Прекрасно, – улыбнулся поляк. – Знаете, я не менее вас люблю цифры, и восхищен вашей заботой о гражданах. На каждые четыре сотни человек по «благочинному» – с такой опекой эра всеобщего благоденствия не замедлит настать!
– Какое-то безумие! – развел руками бледный Трубецкой.
– Это несбыточно, невозможно и противно нравственности, – поддержал его Муравьев. – Неужели вы думаете, что народ станет терпеть вашу армию доносчиков и соглядатаев?
– Думаю, что станет. Впрочем, чтобы избежать лишнего ропота, можно занять умы людей внешней войной – скажем, восстановлением древних республик в Греции. Помощь братьям по вере народ воспримет, как дело богоугодное.
– Этого говорит человек, считающий духовенство чиновными особами и желающий запретить прием в монашество до достижения шестидесяти лет? – прищурился Кавалерович.
– А вы, стало быть, внимательно читали мое сочинение. Заметьте себе, что Петр Великий в своем отношении к монахам был с ним вполне согласен.
– Я не менее горячий сторонник республики, чем вы, Павел Иванович, – сказал Рылеев. – Но деспотизм, который вы предлагаете, для меня неприемлем. Какая польза свергать одного тирана, чтобы водрузить на народную шею другого?
– Почему бы не иметь деспота, если этот деспот Наполеон? Вот, кто отличал не знатность, а дарование и поднял Францию на недосягаемую высоту!
– И был свергнут с нее! – пылко воскликнул Константин, которому речи Пестеля не нравились все больше.
– Сохрани нас Бог от Наполеона! – сказал и Кондратий. – Впрочем, сего не стоит опасаться. В наше время даже честолюбец предпочтет быть Вашингтоном, нежели Наполеоном.
Пестель резко пошел на попятную:
– Разумеется! Я лишь хотел сказать, что не должно опасаться честолюбивых замыслов, что если бы кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном, и в таком случае мы все останемся в проигрыше.
– А позвольте осведомиться, не думаете ли вы, что, убив Помазанника Божия, вы сделаете его мучеником в глазах народных? И народ не простит нам этой крови? – спросил Кавалерович.
– Опасность народного возмущения есть, ваша правда, – не стал отрицать Пестель. – Ежели народ придет в сильное раздражение от убийства тирана, то мы отдадим им на растерзание непосредственного убийцу, представив его единственным виновником произошедшего.
– Но ведь это… подло! – пробормотал Константин.
– Нисколько, господин корнет, потому что исполнитель приговора будет готов принести и эту жертву на алтарь свободы, если потребуется.
Разговор затянулся далеко за полночь. Рылеев настаивал на выработке Устава, являющего собой золотую середину между муравьевским и пестелевским проектами. Пестель, соглашаясь в частностях, упрямо настаивал на первенстве своей «Русской Правды». Решено было стремиться к объединению обществ и постоянной координации действий. Наконец, гости удалились.
– Ну-с, что скажете, Кондратий Федорович? – спросил князь Евгений Оболенский.
– Скажу, что это опасный человек, и за ним нужно приглядывать, – ответил Рылеев. – Сдается мне, что именно себя он видит нашим новым деспотом.
– Несомненно, – поддержал его Кавалерович, раскуривая трубку с длинным бунчуком. – Скажу больше, наш уважаемый собрат, по-видимому, весьма презирает тот самый народ, о котором все мы здесь печемся. Если бы власть оказалась в его руках, то аракчеевщина показалась бы нам невинной игрой в солдатики.
– Вот, поэтому нужно быть с ним осторожными: использовать все то здравое и полезное, что, безусловно, есть в его идеях, и ограничивать все вредоносное.
– Признаюсь, после этого разговора мою душу снедают сомнения, – покачал головой Оболенский. – В конце концов, имеем ли мы право, как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве, составляющем наше Отечество, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на государственное устройство налагать почти насильственно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего, если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития?
– Вы напрасно сомневаетесь, друг мой! – горячо возразил Рылеев, быстро поднявшись с места и вплотную подойдя к князю. – Идеи не подлежат законам большинства или меньшинства. Они свободно рождаются и развиваются в каждом мыслящем существе. Они сообщительны и, если клонятся к благу общему, а не являются порождением чьего-то самолюбия и своекорыстия, то выраженные несколькими лицами уже есть то, что большинство чувствует, но еще не способно выразить. Поэтому мы имеем полное право говорить и действовать от имени большинства в уверенности, что наши идеи сообщатся ему и будут полностью одобрены! – его большие темные глаза вспыхнули, как бывало всегда, когда говорил он вдохновенно, и заряд его веры сообщился всем присутствующим.
Немного ободрили они и Константина, но, едва он покинул дом Пущина, как сомнения нахлынули на него с новой силой. Эти люди собирались совершить цареубийство, при надобности расправиться со всей царствующей фамилией, ввести диктатуру… Впрочем, к чему возводить напраслину на всех? Этот план принадлежит лишь изуверу Пестелю, о котором так справедливо высказался Кавалерович. Северяне желают лишь Конституции, освобождения крестьян, соблюдения законов. И даже Рылеев согласен с необходимостью монарха!..
Стратонова обогнал идущий быстрым шагом Кавелерович. На мгновение он обернулся и смерил корнета пристальным взглядом цепких, умных, пронзительных глаз. И не сказав ни слова, скрылся в темноте, легко неся вперед свою тонкую, высокую фигуру.
Вот еще странный человек! Никогда не мог понять Константин, что делал этот умный и язвительный инородец в Обществе, отчего пользовался в нем совершенным доверием. Откуда, наконец, взялся он и чем занимается в России. Приходилось слышать, будто бы Кавалерович – масон высокой степени, и прибыл в Россию, как посланник заграничных тайных обществ для координации действий с русскими. В это можно было поверить, учитывая, что Рылеев с некоторых пор являлся представителем Российско-Американской компании, директорами которой были члены масонской ложи. Одоевский рассказывал, будто бы и поляк подвизался в этой компании и через нее сошелся с Кондратием.
Отвлекшись на странного поляка, Константин вновь вернулся к своим невеселым размышлениям. Ему все более казалось, что жажда справедливости завела его куда-то не туда, что Общество преследует отнюдь не только те цели, о которых говорит, а он, Стратонов, оказывается слепым орудием в неведомой игре. Что бы сказал брат Юрий, узнав, что он состоит в рядах заговорщиков? Тяжело и представить себе. Каким ударом было бы для него это открытие! Но и отступать – разве не поздно? Отступить – значит, предать товарищей, которые доверяли ему. А что может быть позорнее предательства?..
Глава 4.
Ольга Реден играла на фортепиано столь самозабвенно, что не услышала, как в комнату вошли мать и дядя Алексис. А они некоторое время безмолвствовали, не то ожидая, когда она закончит, не то заслушавшись мелодией.
– Что ты играешь, дитя мое? – осведомилась Анна Гавриловна.
– Это вальс, написанный Сашей, маман. Не так давно он принес мне ноты, и я, наконец, разучила его.
– Боже! – мать воздела руки к небу и тяжело опустилась в кресло. – Даже музыка в этом доме – его!
– Вам не понравился вальс, маман? – невозмутимо спросила Ольга.
– Вальс бесподобен! – улыбнулся дядя, не давая матери ответить. – У этого юноши, несомненно, есть талант. Жаль только, что он не может определить, к чему именно. Слегка поэт, слегка художник, слегка музыкант…
– А, в общем и целом, ничто! – воскликнула Анна Гавриловна. – Мальчишка без денег, чина и дела! Если бы не щедрость к нему его беспутной сестрицы, он бы давно пропал с голоду!
– Анюта, сделай милость, помолчи, – попросил дядя, также усаживаясь. – Мы ведь договорились, что говорить буду я.
Ольга насторожилась. Она знала, что мать не выносит Сашу Апраксина, считая его перекатной голью и пустым человеком, лишенным всякого будущего, но не обращала на это внимание, твердо решив выйти замуж за талантливого, но слишком беспечного юношу. Старшая дочь давно почившего Фердинанда Редена, Ольга полностью унаследовала характер отца: решительная, целеустремленная, умная девушка отличалась огромной силой воли и редким упорством. А к тому – совершенным постоянством в своих вкусах и симпатиях.
Получив прекрасное домашнее образование, Ольга после смерти отца сама занималась с больной от рождения сестрой, которую прогрессирующий паралич давно приковал к инвалидному креслу. Из-за искаженной речи и болезненной слабости педагоги затруднялись заниматься с нею, а мать и вовсе не могла, мгновенно впадая в истерику от вида мучений калеки-дочери. Пока был жив отец, он занимался с Любой всякий свободный час, веря, что его и ее упорство возьмут верх над страшной болезнью и, если не даруют исцеление, то уж во всяком случае избавят девочку от жалкого растительного существования. Ольга продолжила самоотверженный подвиг отца и достигла значимых результатов. Люба читала и писала на трех языках, сочиняла стихи, прекрасно чувствовала музыку и литературу. Ольга, отказываясь от многих увеселений, не имея близких подруг, старалась проводить как можно больше времени с сестрой. И если она была единственным человеком, совершенно понимавшим Любу, то и Люба была единственной, от кого у нее не было тайн.
Только Люба знала о том, какое глубокое и сильное чувство завладело сердцем ее холодной и строгой на людях сестры после случайной встречи на именинах дальней родственницы с молодым человеком по имени Александр Апраксин. Странное это было чувство. Не любовь прекрасной дамы к благородному рыцарю, не обожание юной барышни к лощеному франту. В этой любви было что-то материнское. Может, именно потому Ольга так легко прощала Саше все его ошибки, ветреность, непостоянство, увлечения. Так любящая мать прощает возлюбленному чаду все его проказы, покрывая их нежностью и при этом глубоко скорбя в душе.
Ольга имела слишком ясную голову, чтобы не видеть всех тех недостатков своего избранника, о которых настойчиво твердила мать. Но это был тот редкий для нее случай, когда сердце брало верх над рассудком, заставляя последний усиленно работать, чтобы пройти по узкому ущелью, не сорвавшись в пропасть. Только Люба знала, как дорого стоило сестре ее кажущееся спокойствие и уверенность в совместном с Сашей будущем, только она видела слезы от огорчений и обид, которые невольно причинял ей он и вольно – мать.
И, вот, теперь мать решила добиться своего, усилив свои позиции дядей-адмиралом. Ольга поняла, что настала судьбоносная минута и собрала все свое мужество. Переубедить мать она не надеялась. Зато дядя, человек мудрый и добрый, вполне мог перейти на ее сторону. А, возможно, даже и помочь найти выход из создавшегося положения. А оно было – только Любе признаться в том можно – нестерпимо! Ведь Саша до сих пор не делал ей прямого предложения, а по временам как будто и вовсе охладевал, отдалялся от нее, увлекшись игрой или какой-нибудь кокеткой из салона его сестры. Ольга боялась, что он, наконец, покинет ее вовсе и… пропадет сам. Такой образ жизни может погубить и более крепкого человека, а уж Сашу-то с его болезненностью, с его хрупкой душой, с расстроенными уже теперь нервами! Ему нужен был свой дом, забота, стержень… И тогда бы таланты его непременно расцвели, и сам бы он исцелился от своих вечных душевных терзаний! Ольга самоуверенно полагала, что лишь она сумеет дать Саше все это. Вот, только как донести эту уверенность до дяди Алексиса?..
– Дитя мое, твой отец целых двенадцать лет ждал благорасположения твоей матери, отказавшей ему при первом сватовстве, пока она не овдовела. Зная твой характер, не сомневаюсь, что ты готова следовать стопам своего почившего родителя. Посему не спрашиваю тебя, любишь ли ты предмет, внушающий столь великие опасения твоей матушке. А спрошу лишь о том, любит ли он тебя?
Морщинистое лицо дядюшки, обрамленное густыми, ухоженными белоснежными баками по обыкновению излучало доброту и благорасположение. Между тем, удар попал точно в цель, и Ольга вынуждена была признаться:
– Я не знаю, дядя. Думаю, и сам он этого еще не знает.
– А уверенна ли ты, что он однажды узнает это?
– Я знаю лишь одно: я буду ждать этого часа. Если потребуется, всю жизнь.
– Господи! – сплеснула руками мать. – Ты слышишь, слышишь это, Алексис?!
– Со слухом у меня все замечательно, – мягко отозвался Алексей Гаврилович своим бархатным, успокаивающим голосом. – Вот что, Аня, будь добра, оставь нас наедине.
– Что?!
– Я сказал, что хочу поговорить с племянницей наедине. Тобою ей было сказано уже довольно, к тому же ты слишком нервничаешь. После смерти Фердинанда я глава семьи и потому будь добра уважить мою просьбу.
Эти слова были сказаны со всей возможной кротостью, но под ней крылась непреклонность, и мать, обиженно хмыкнув, удалилась.
– А теперь поговорим спокойно и разумно, – сказал дядя. – Обещай, что будешь со мной откровенна.
– Обещаю, – кивнула Ольга.
– Я не собираюсь тратить свое драгоценное время на убеждение тебя в неправильности избранного пути. Я понимаю, что если уж ты вбила себе в голову желание испортить себе жизнь, то сделаешь это с нашего благословения или без. Поэтому поговорим о другом. Сядь!
Ольга покорно опустилась на стул, ожидая, что скажет дядя.
– Допустим, ты станешь женой этого вертопраха, – начал тот. – В этом случае можно опасаться за твое состояние. Твой бель ами гол, как сокол, и при том совершенно не приучен считать деньги и ограничивать себя. Посему в случае твоего замужества право опеки, данное мне твоим отцом, я оставлю за собой. Нуждаться ты ни в чем не будешь, он также будет получать достойное содержание, но ни гроша на излишества. Надеюсь, что после моей смерти тебе также хватит ума не позволить своему супругу разорить тебя, а попутно разрушить собственную жизнь и жизнь вашей семьи.
– Клянусь, дядюшка, что мне хватит силы духа не допустить этого.
– Ты молода, но силы этой тебе не занимать. А несколько лет такого брака или сломают тебя, во что я не верю, или закалят. Что ж, этот пункт ясен. Перейдем ко второму, – Алексей Гаврилович поскреб подбородок. – Как ты предполагаешь женить его на себе?
Ольга покраснела:
– Дядя, как же я могу его на себе женить…
– Я навел справки о твоем ряженом-суженом, и должен тебе признаться, весьма огорчен результатом. Ему только двадцать два, он никогда не нюхал пороху, а кутит так, что и не всякий гусар потягается. Танцовщицы, карточные игры, вино… И ведь добро бы еще умел он играть и пить, как иные! Так нет же! А потому вечно в проигрыше, в долгах, и вечно пьянее других!
– Дядя!
– Что? – вскинул бровь адмирал. – Я понимаю, дитя мое, что тебе все это слушать неприятно, а, может, и не пристало. Но ты должна знать, на что идешь.
– Я знаю…
– Вот, что я скажу тебе, племянница, этого молодого человека может обратить лишь одно – удаление от той среды и того образа жизни, который он повел с самых нежных лет, и который губит его. Ты согласна со мной?
– Согласна, но я не совсем понимаю…
– Деревня, уединение, рядом единственный цивилизованный человек – ты в виде ангела-утешителя. Вот, в таких условиях ты была бы уже обрученной невестой. Кажется, у него есть небольшое имение где-то в Смоленской губернии?
– Да, но совершенно разоренное.
– Любое разоренное имение можно привести в порядок, если иметь голову на плечах. Во всяком случае, там есть крыша над головой и стены, в которых вполне можно жить. Как тебе покажется такой образ жизни, дитя мое?
– Вы знаете, дядя, я неприхотлива, и городская жизнь никогда не манила меня. Но Саша никогда не поедет туда.
– Добровольно – разумеется. Следовательно, нужно создать условия, которые вынудили бы его туда уехать.
– Но каким же образом?
– Повелением Государя Императора, например.
– Ссылка?! – ужаснулась Ольга.
– Ссылка, моя дорогая, была у светлейшего князя Меншикова в Березове. А называть таким словом жизнь в собственном имении – это значит гневить Бога.
– Но для Саши это будет ужасный удар!
– А жизнь не должна состоять из одних удовольствий – тем более, если последние таковы, что не приносят радость, а на время дают забвение слабой душе, боящейся жизни.
Ольга с удивлением посмотрела на дядю: оказывается, старый адмирал успел хорошо узнать Сашу. Именно таков он и был. Человек, боящийся жизни и прячущийся от нее в сомнительных удовольствиях, отравляющих его душу горечью и разочарованностью.
– Иногда нужно хорошенько получить по темечку, чтобы выпутаться из нетей собственных ошибок и пороков. Не бойся за него. В конце концов, Пушкин пребывает в «ссылке» уже продолжительное время и ничего. Не зачах, не помешался. Талант его лишь расцвел, не растрачиваемый на суету. И твой возлюбленный, постенав и погоревав, приобвыкнется к новому месту, проветрится, протрезвится, откроет для себя много нового и полезного. И, может быть, наконец, решится отверзнуть свои очи, которые он так старается зажмурить, чтобы не увидеть настоящей жизни и не испугаться ее сурового лика. К тому же ты поедешь с ним и смягчишь ему удар.
– Но как же я смогу поехать? Ведь я даже не невеста ему.
– Ты надоумишь его пригласить себя вместе с матушкой и сестрой.
– Матушка ни за что не согласится!
– А вот это уже моя забота, чтобы она согласилась.
– И все-таки, дядя, я сомневаюсь…
– Дитя мое, если он останется в столице, он окончательно погрязнет в долгах.
– Они столь велики?
– Гораздо больше, чем ты думаешь. В случае вашей женитьбы я, конечно, оплачу их, чтобы прошлое не тяготело над заново начатой жизнью. Но для этого необходим ваш отъезд. К тому же я не все еще сказал тебя. Твой ненаглядный друг водит дурную компанию.
– Какую еще компанию?
– Компания молодых людей, слишком вольно мыслящих и жаждущих устроить в нашем Богом хранимом Отечестве забаву навроде французской. Если я что-нибудь понимаю в политике, то нарыв этот скоро прорвется, и тогда головы полетят. И в этом случае ссылка может оказаться уже вполне настоящей, далекой и долгой. Поэтому ради собственного блага твоему бель ами не должно оставаться в Петербурге.
Доводы дяди были столь весомы, что Ольге ничего не оставалось, как согласиться. Алексей Гаврилович удовлетворенно кивнул:
– В таком случае будь готова действовать. И подготовь Любу.
– Я сделаю все, что вы скажете, дядюшка, – пообещала Ольга.
Старый адмирал поднялся и, приблизившись, поцеловал ее в лоб:
– Ты точно все обдумала? То, что ты делаешь, есть принесение себя в жертву и более ничего. Если ты полагаешь обрести мужа, то напрасно. Такие люди могут обладать талантами и прекрасными душевными качествами, они даже могут привыкнуть вести размеренную жизнь, если есть, кому держать их в руках. Но они никогда в существе своем не выходят из младенческого возраста. Тебе придется быть очень терпеливой и очень твердой, а подчас, быть может, и жестокой. Во всяком случае, он будет воспринимать твои действия именно так. Как жестокость. Сможешь ли ты выносить упреки и обиды, сможешь ли ты защитить себя и своих детей?
– Бог даст мне силы, дядя. Я знаю, на что иду, – тихо ответила Ольга.
– Что ж, да будет Его воля, – вздохнул Алексей Гаврилович и, уже направившись к двери, вдруг вернулся и, достав из кармана, протянул племяннице знакомый футляр. – Чуть не забыл. Вот, возьми. И будь добра, никогда больше не делать подобных поступков – иначе я не стану тебе помогать.
В футляре были серьги Ольги, которые она три месяца назад тайно заложила, чтобы Саша мог выплатить срочный карточный долг. Он находился тогда в глубоком отчаянии, так как невыплата грозила ему бесчестьем, и Ольга испугалась, что в припадке черной меланхолии он совершит над собой непоправимое. Эта мысль так ужаснула ее тогда, что она, не раздумывая, заложила драгоценности.
Ольга с дрожью взяла футляр и, не поднимая глаз, порывисто поцеловала руку адмирала:
– Простите, дядюшка!
– Прощаю, дитя мое. И обещаю ничего не говорить твоей матери. Но не вздумай впредь потакать этому человеку подобным образом. Пойми, ты не поможешь ему своими жертвами, а лишь подтолкнешь его к новым и новым проступкам. Ты должна иметь выдержку: не потакать пороку подачками с одной стороны, но и не подавлять даже самое слабое стремление исправиться недоверием. Это, милая моя, куда труднее, чем ходить по канату над пропастью…
Когда Алексей Гаврилович ушел, Ольга поспешила к сестре. Люба, хрупкая девочка-подросток, сидела в кресле, укрытая теплым пледом, и листала томик Парни. Ольга стремительно подошла к ней и, опустившись на пол у ее ног, уткнулась лбом в ее колени. Люба быстро отложила книгу и тронула сестру за плечо. Взглянув в ее вопрошающие, полные сочувствия глаза, Ольга сказала:
– Кажется, я гибну, Люба. Я только что дала дяде Алексису обещания, которые, не знаю, буду ли в силах исполнить. Я не могу оставаться спокойной, когда вижу, что он страдает. Не могу отказать ему в том, о чем он просит. Потому что боюсь за него… Ах, Люба, Люба, где моя рассудительность, которой все так восхищались, а некоторые и попрекали меня? Если бы он был сейчас рядом, мне было бы легче! Но его нет… И я не знаю, где он. Как счастлива и спокойна я была раньше, а теперь мне кажется, что все мое существование отравлено какой-то мукой, неисцельной болезнью.
Люба молчала. Она хорошо знала Сашу. Он, как ни странно, быстро и легко нашел с ней общий язык и даже исправно давал ей уроки живописи. Люба же, обычно дичившаяся чужих, к нему отнеслась с полным расположением и всегда радовалась его приходу. Из этого Ольга сделала вывод, что не ошиблась в сердце Саши. Ее несчастная сестра, подобно детям, удивительно хорошо чувствовала людей. И в Саше за всем наносным без труда угадала чистое и доброе сердце и оттого поверила ему, приняла его.
– Что ты скажешь, Люба, если мы поедем в деревню? В гости к Саше?
– Я буду очень рада, – ответила сестра, с трудом шевеля губами и сильно растягивая слова.
– Не слишком ли много я беру на себя, Люба? Может, ему определен совсем иной путь, а я пытаюсь его изменить? Может, это просто гордость?
Люба погладила Ольгу по голове:
– Разве ты можешь изменить чей-то путь? Это может только Бог. Не бойся, все устроится. Саша хороший… Ты только верь в него и не суди. Если он причиняет тебе боль, то себе стократ большую.
– Ты права, мой ангел, – откликнулась Ольга. – Только поэтому мне и кажется, что он никогда не будет счастлив. Счастье противоречит его природе. Всю жизнь он будет мучить себя и находящихся рядом. А значит и мне не знать счастья. А я бы так хотела, чтобы мы были счастливы! Чтобы он счастлив был…
– Ты не будешь счастлива без него, – сказала Люба. – А с ним… Каждому свой крест дан. Не бойся. Ты сильная, хорошая. Ты сумеешь нести его.
Огромные, печальные глаза смотрели светло и ясно с высохшего и искаженного болезнью лица. Эта девочка несла крест почти с самого рождения, крест ужасный, способный раздавить всякую живую тварь. А она несла, не ропща и не жалуясь, утешая с той чуткостью и мудростью, которые не могли дать ей года, но дала горькая и высокая наука – наука достойно и одухотворенно страдать, обращая собственное страдание в свет для душ окружающих.
К своему старому другу генерал-губернатору Петербурга адмирал Ивлиев имел привилегию заходить попросту и без доклада. Граф Михайло Андреевич принял его за завтраком, тотчас велев принести еще один прибор и пригласив гостя откушать вместе с ним. Алексей Гаврилович не думал отказываться и, прежде чем перейти к разговору, отдал должное губернаторской трапезе. Хозяин же во время оной устало-пафосным тоном рассуждал о тяготах службы на посту градоначальника. То ли дело было на войне! Всякую секунду жизнью рисковал, а ни страха, ни устали не ведал – и бодро, и весело было на душе, как когда из бани жарко натопленной да в ядреный мороз окунешься.
– Так ведь и лета наши, Михайло Андреич, уже не те, чтобы жеребцами-то ржать, – заметил Ивлиев, подумав про себя, что в отличие от него, седого и высохшего, граф Милорадович и теперь еще красавец истинный. Раздобрел, конечно, маленько, и лицо, холеное и чувственное, сделалось дряблым, а все ж еще – орел!
Хотя верно, на войне-то ему более быть пристало, чем на гражданском поприще. Там, среди рвущихся снарядов, в огне и дыму, он был истинный герой – слава своего Отечества. Еще в Италийском и Швейцарском походах Миларадович стяжал ее, сделавшись дежурным генералом Суворова, чью удаль и отеческое отношение к солдату усвоил. Широко известен был эпизод, когда при переходе через Сен-Готард солдаты заколебались при спуске с крутой горы в долину, занятую французами. И тогда бравый Михайло Андреевич воскликнул: «Посмотрите, как возьмут в плен вашего генерала!», – и покатился на спине с утеса. Солдаты, любившие своего командира, дружно последовали за ним.
То была истинная слава. Но стоило на мирных нивах расположиться, так и размякал, и погрязал в восточной неге, и уже глядь – попадал в полон к какой-нибудь чаровнице. А то и не одной… Красавец-серб, по-южному пылкий, всегда пользовался успехом у женщин и сам питал к ним немалую слабость.
Едва не вышло беды с того в Бухаресте, где, прельстившись красотами дочери знатного и богатого грека Филипеску, главы валашского дивана и недруга России, Михайло Андреевич столь тесно сошелся с ее семейством, что невольно стал орудием неприятельских интриг, ведомых через оное. От Филипеску и окружавших его шпионов узнавали турки секретные планы русского командования. Местная знать делала, что хотела, нисколько не стесняемая Милорадовичем, который фактически владычествовал в ту пору в Валахии, чувствуя себя в Бухаресте наместником. Он успел задолжать там 35000 рублей и ни в чем себе не отказывал. Конец этой дружбе и беспечной жизни положил князь Багратион. Прибыв в Молдавию, он быстро заподозрил неладное и категорически потребовал, чтобы в интересах Отечества Милорадович был со своего поста отозван. Михайлу Андреевича отозвали, и он никогда не простил князю этой обиды.
А потом был 1812-й год, Бородино, после которого командир русского арьергарда добился согласия Мюрата на беспрепятственное продвижение русской армии через Москву. «В противном случае, – заявил ему Милорадович, – я буду драться за каждый дом и улицу и оставлю вам Москву в развалинах». При переходе русских войск на старую Калужскую дорогу арьергард своими энергичными ударами по противнику, неожиданными и хитроумными перемещениями обеспечил скрытное проведение этого стратегического маневра. В горячих боях и стычках он не раз заставлял отступать рвавшиеся вперед французские части. Когда же под Малоярославцем корпуса Дохтурова и Раевского перекрыли путь французам на Калугу, Милорадович от Тарутино совершил столь стремительный марш к ним на помощь, что Кутузов назвал его «крылатым» и именно Михайле Андреевичу поручил преследование неприятеля. А после были Вязьма и Дорогобуж, Красное и Варшава, Кульм и Лейпциг, после которого доблестный серб был возведен в графское достоинство…
Пост генерал-губернатора столицы был венцом его карьеры. Увы, мирная жизнь вновь превратно отразилась на храбром воине. Лишь при серьезных происшествиях наподобие наводнения просыпался прежний Милорадович – распорядительный командир, неустрашимый и благородный герой. Все остальное время трясина страстей и слабостей, не укрощенных летами, затягивала его, бросая тень на славное имя.
Особенно скверно пошли дела после того, как Государю пришла в голову странная мысль назначить боевого генерала еще и директором Большого каменного театра – этой обители прелестных весталок… Что же вышло из этого? Судачили, будто театральная школа сделалась губернаторским гаремом. Для оного по образцу французских королей был заведен специальный парк в Екатерингофском лесу, на украшение которого город истратил более миллиона рублей. Для молодых актрис и воспитанниц здесь были наняты дачки, и в выстроенном зале губернатор стал давать балы, на которых плясали перед ним прелестные танцовщицы… Сластолюбие не есть привлекательная черта и в юношах, а в мужах пожилых и в старцах вызывает смесь горечи, насмешки и стыда.
Ивлиев с тоской созерцал утехи стареющего героя, меж тем как последний занялся еще одним делом, чуждым и не подобающим для себя. Видя встревоженность Государя европейскими революциями, Михайло Андреевич взял на себя обязанности тайной полиции. Трудно было представить человека более негодного к этой роли, чем Милорадович. Вокруг него вечно крутились подозрительные лица, которым он доверял и которых наивно приближал к себе, подобно хитрым и вероломным валахам. Но донес он зачем-то на молодого поэта Пушкина, которого лишь заступничество Карамзина и Каподистрии уберегло от Сибири.
Увы, воспользоваться именно этой новой ролью графа приходилось теперь Алексею Гавриловичу.
– А я к тебе, Михайло Андреич, за помощью пришел, – сказал он тотчас по окончании завтрака.
– Я весь к твоим услугам, душа моя! – с готовностью отозвался Милорадович.
– Дело весьма щекотливое, – начал адмирал. – Моя дорогая племянница имела несчастье полюбить одного салонного верхолета. Юноша, в сущности, имеет честную душу и светлый ум, но по младости своей увлекся вздорными идеями.
– Это серьезно, – нахмурился губернатор.
– Это может стать серьезно, если ты не поможешь мне спасти этого молодца, который в недалеком будущем должен стать мужем Ольги.
– Помилуй Бог, выражайся, наконец, яснее! – нетерпеливо потребовал граф. – Чего ты хочешь?
– Я хочу, чтобы ты образумил моего будущего родича, подобно тому, как образумил г-на Пушкина.
На холеном лице Михайлы Андреевича отразилось удивление:
– Ты хочешь, чтобы я похлопотал об отправлении его в ссылку? Это ново! Выхлопотать место или награду меня просят всякий день, но ссылку!..
– Я лишь хочу, чтобы молодой человек был на год-другой удален от столичных увеселений в свое имение. Разумеется, без всякого вмешательства полиции, арестов и прочих унизительных процедур. Во имя нашей дружбы выручи меня, а я уж в долгу не останусь!
Последние слова произвели на графа явно благоприятное впечатление:
– Дело-то несложное, – пожал плечами он. – Ты лишь дай мне какой-то формальный повод… Ты же понимаешь, я должен доложить.
– Вот, – Ивлиев протянул Милорадовичу короткую записку.
– Что это?
– Это высказывания, которые молодой человек позволил себе однажды по адресу Августейших особ.
Михаил Андреевич пробежал глазами записку:
– Твой будущий родственник подлец, коли имеет такие мысли! – возмутился он.
– Он был просто сильно пьян. А спьяну чего не сморозишь?
– Ты прав, таким вольтерьянцам в моем городе не место. Я все устрою.
– Только прошу тебя, – адмирал приподнял руку, – все должно быть сделано аккуратно. Ты же понимаешь…
– Понимаю. Твоя племянница получит своего жениха целым и невредимым. Хотя я не понимаю, как ты допускаешь, чтобы она выходила замуж за такого подлеца. Раньше я не замечал в тебе излишнего либерализма!
– Потому что я всегда берег его лишь для близких, коих, как ты знаешь, у меня немного.
– Что ж, раз ты столь добр, мон ами, то, вероятно, не откажешь и своему старому другу в незначительной ответной услуге?
Михайло Андреевич был опутан долгами куда больше, чем тот, о ком пришел просить Ивлиев. Когда-то молодой Милорадович без счета растрачивал собственные деньги, не жалея их на друзей, женщин и прочие радости жизни. Но оные быстро закончились, и настало время проматывать деньги чужие. Если балы в Екатерингофе оплачивались из городской казны, то все прочее требовало дополнительных средств. Их привыкшему жить на широкую ногу графу не хватало всегда, а потому он вечно одалживался – в том числе, у подчиненных. Адмирал прекрасно знал об этом и потому, предугадывая эту просьбу, захватил с собой значительную сумму, коей оказалось достаточно, чтобы временно удовлетворить аппетит губернатора и привести его в исключительно доброе расположение духа.
– Можешь считать, что дело уже сделано, – пообещал он. – Я дам тебе знать, как только улажу формальности.
– Премного тебе обязан, – чуть улыбнулся Алексей Гаврилович и откланялся.
Глава 5.
Внезапная высылка из столицы глубоко потрясла Сашу Апраксина, давно забывшего, что такое сельская жизнь. В родительском имении он прожил лет до пяти, а затем очутился в Москве, в доме бабки, вельможной дамы екатерининских времен, суровой и властной. Хотя рассказывали, что в молодые лета была она весьма хороша собой и не отличалась пуританскими воззрениями, следуя примеру своей правительницы… Увы, старость часто превращает веселых, беспечных женщин в нуднейших моралисток. Видимо, в том, чтобы отравлять жизнь своими нотациями тем, кто в отличие от них еще мог весело грешить, черпают они своеобразную компенсацию за то, что беспощадные годы лишили их возможности подавать аморальные примеры.
Из всех детей бабка фанатично обожала старшего сына, бездельника, мота и волокиту, обладавшего при том исключительным обаянием и блистательной наружностью. Саша тоже был привязан к дяде Антуану, как на французский манер называла его бабка, больше, чем к собственному отцу, человеку жесткому, обиженному на судьбу, а оттого желчному и вечно недовольному. Отца Саша побаивался и к его раздражению всегда искал общества дяди Антуана, с коим всегда было легко и весело. Увы, скоро дядя перебрался в Петербург, и Саша лишился своего единственного друга, которого не перестал любить даже после того, как бабка оставила своему любимцу все свое наследство, ни копейкой не оделив остальных родственников, включая дочь и внуков.
Надо ли говорить, что мать была в бешенстве от такой несправедливости и посылала умершей матери страшные проклятия, так как именно старуха и никто другой погубила ее жизнь.
Мать всегда была болью Саши. Женщина необычайно красивая, гордая и темпераментная, она мечтала блистать при дворе, мечтала о роскоши и поклонниках. Но бабка, ревнуя к ее красоте и молодости, поспешила спровадить ее с глаз долой, выдав замуж за неказистого, пожилого дворянчика, который вдобавок оказался неудачником и вскоре разорился…
Отца мать ненавидела и презирала. Зато к молодому курляндцу-управляющему заметно благоволила. Наблюдательный Саша не раз замечал, как тот невзначай касается руки матери, и это доставляет ей удовольствие. Однажды в грозу перепуганный мальчик бросился искать ее – ему отчего-то примстилось, будто бы она по обыкновению своему ускакала верхом одна и разбилась, упав с лошади. Сперва он тщетно бегал по дому, жалобно зовя маму, а затем, несмотря на дождь, бросился в конюшню. Там Саша нашел родительницу в объятиях курляндца. И хотя младенческий разум еще не мог понять происходящего, мальчику отчего-то стало больно и обидно, и он поспешил убежать, пока его не уличили в подглядывании недозволенного…
Саша до сих пор помнил, как горько плакал сидя один в своей комнате, и как несправедливо отругал его вернувшийся от соседа отец, назвав трусом и каким-то еще жестоким словом. Отец никогда не бывал ласков с ним, а под воздействием вина вымещал на сыне горечь собственного положения.
Мать не вступалась за него. Ей было все равно… А Саша сохранил ее тайну. И многие другие тоже… С возрастом он понял, что курляндец был не единственным другом матери, и с болезненным любопытством приглядывался к мужчинам, бывавшим у нее: как смотрят на нее они, как она отвечает. Приглядывался и старался отгадать, кто же из них теперь похищает его мать, мать, которая непременно любила бы его и была бы с ним нежна, если бы не было всех их.
Саша рано понял, что не унаследовал красоты и отменного здоровья матери. Лишь лицу передалась отчасти миловидность ее, а в остальном рос он таким же худосочным, малокровным, нервным, как отец. Это неприятное открытие принесло за собой следующее: такого, как он, любить нельзя вовсе.
Правда, его новый друг и наставник месье Жан старался разуверить его в этом. Именно месье Жан объяснил ему о жизни его матери все, чего Саша не понимал. Само собой, мать в такого рода разговорах не упоминалась, речь шла о предметах отвлеченных, но этого было довольно. Если присланный дядей Антуаном месье и был докой в какой из наук, то наукой той был порок. И в ней француз старательно наставлял своего воспитанника, пробуждая в детской душе чувства и вожделения ей вовсе непристалые. Эти разговоры производили на Сашу двоякое впечатление. С одной стороны, его тянуло слушать их, удовлетворяя болезненное любопытство. С другой – пошлые и низкие предметы, о которых повествовал ему наставник, рождали в мальчике чувство отвращения, стыда и глубокой печали от того, что все поэтичное, прекрасное, высокое оказывалось на проверку ничтожным и грязным.
Не довольствуясь домашним «обучением», отец отдал Сашу в пансион мадам Форсевиль, главным достоинством которого почиталось то, что из него молодые люди выходили настоящими французами. Подобных пансионов в Москве было до двадцати и ничем не превосходили они народных школ, исключая преподавание иностранных языков. Учителя преподавали свои предметы кое-как, ученики зубрили их, но не понимали и забывали тотчас по окончании уроков.
Мадам Форсевиль, несмотря на французское происхождение, родилась в России. Будучи сама безграмотна, она отличалась большой предприимчивостью и проворством. Ее муж, добрый, сморщенный старичок, был простым ремесленником, долгое время работал в Англии и с той поры боготворил эту страну. Покорный своей энергичной супруге, он был вовсе незаметен в пансионе, целыми днями просиживая в своей маленькой коморке-мастерской, в которой содержалось все необходимое для токарной и столярной работы.
В пансионе воспитывались совместно мальчики и девочки. Живя на разных половинах, вместе сидели они в классах, вместе обедали, вместе посещали уроки танцев… Эти последние рождали во впечатлительной душе Саши трепет. Особенно, когда ему выпадала честь становиться в пару с самой красивой девочкой пансиона Ниной. Нине было четырнадцать, и в ней уже почти не было угловатости девочек-подростков, но стать и плавность линий взрослой барышни. Впервые увидев ее в классе, Саша едва не задохнулся от восторга и с той поры едва ли мог думать о занятиях, о чем-то, кроме юной красавицы. Занятия от того немало страдали, учителя сердились, но Саше было все равно. Когда Нина заболела и почти месяц отсутствовала в пансионе, он сам сделался совершенно болен, страшась, что предмет его мечтаний больше не вернется или того хуже – умрет.
Но она вернулась. И они снова стали в пару, и Саша снова чувствовал в своих руках ее нежные ладони, упивался глубиной чудных глаз. После танцев, опьяненный ее приятной и, как показалось ему ласковой улыбкой, он, улучил мгновение, когда они остались наедине, и с жаром поцеловал Нину. Девушка молниеносно отшатнулась, и лицо ее выразило смесь брезгливости и презрения:
– Да как только вы посмели!..
Саша готов был расплакаться от обиды, а красавица ушла, обдав его холодом изменившегося взгляда, и пожаловалась мадам Форсевиль. Был грандиозный скандал, и Сашу изгнали из пансиона с позором.
В тот же год умер отец. Тяжелые душевные терзания сделали Сашу нелюдимым, и родные опасались развития у него чахотки. Все свое время юноша посвящал чтению – в основном, переводных романов и поэзии. Вскоре он начал тайком сочинять сам. Природные способности позволяли ему довольно быстро обучаться тому, к чему лежало его сердце: он недурно рисовал, играл на фортепиано, исполнял драматические роли в любительских спектаклях, ставившихся в доме бабкиных знакомых, но его терпения никогда недоставало, чтобы овладеть каким-либо делом в совершенстве. Всякое занятие, вначале воспламенявшее его до бессонных ночей, скоро прискучивало ему, и он вновь погружался в состояние глубокой меланхолии.
Гостивший у бабки дядя, оценив унылое бытие племянника, повез его с собой в столицу – развеяться и поразвлечься. Саше тогда едва исполнилось шестнадцать. Среда, в которую он попал, вряд ли могла благотворно влиять на юношу столь нежного возраста. Дядя был, как казалось тогда, закоренелым холостяком и вел весьма разгульный образ жизни. Это именно он, дядя, впервые свел его с девицами, которые не брезговали никакой физиономией, если у оной были деньги. Таков был первый опыт «любви», неизбывно горький для ищущей высокой поэзии души, но слишком притягательный для плоти. Рано разбуженная и питаемая романами чувственность разжигала желания, а укрощать их у Саши не было воли, ибо никто никогда не заботился о том, чтобы волю эту, стержень в нем воспитать.
Вскоре, однако же, жизнь снова переменилась. Скончалась бабка, и дядя вступил в права наследования. Наследства хватило ему лишь на оплату своих громадных долгов, и, чтобы, не обнищать окончательно, уже совсем не юный волокита должен был оставить вольную жизнь, сковав себя узами брака. Его женой стала молоденькая дурочка из захудалого рода, имевшая, однако, изрядный капитал.
Дабы задобрить разгневанную сестру, не желавшую даже почтить своим присутствием свадьбу, а заодно отделаться от нее на будущее, дядя выделил ей пенсион и средства для отъезда за границу. Она уехала тотчас, всю жизнь мечтая о том, чтобы обосноваться в Европе. Увы, наслаждаться впервые улыбнувшейся ей жизнью пришлось недолго. Во время одной из верховых прогулок несчастная упала с лошади и сломала себе шею…
Для Саши это стало величайшим горем, которое он словно предвидел с самых младенческих лет, содрогаясь всякий раз, когда мать – прекрасная наездница – уезжала кататься верхом. Он вновь отправился в Петербург, на сей раз к сестре, которая по окончании Смольного сделалась фрейлиной Императрицы Елизаветы Алексеевны.
Катрин была очень похожа на мать: и внешне, и характером. Поэтому, когда однажды она объявила о помолвке с молодым офицером Измайловского полка Стратоновым, Саша искренне посочувствовал будущему зятю. Он всем сердцем любил сестру, но, хорошо зная ее, понимал, что она не создана для того, чтобы дать счастье такому простому, цельному и честному человеку, как Юрий. Если, конечно, такие женщины вообще способны давать счастье кому бы то ни было…
В последнем Саша сомневался. Изучение женской души утвердило его во мнении, что есть два типа женщин: те, что созданы для счастья своих мужей, детей, семьи, женщины-жены, женщины-матери, и те, что созданы для мимолетного утоления мелких страстей и разжигания жестокого пожара страстей больших, для мук тех, кому сам рок предначертал любить их, и наслаждений тех, кто ищет в них лишь чувственного удовольствия, удовлетворения похоти. Последнее Саша презирал и ненавидел тем более, что сам оставался порабощен этим пороком.
Сколько раз клял он свое детство, родителей, дядю, наставников, приятелей, французских романистов… Все они, точно сговорившись, похитили у души его идеал, у помыслов чистоту, у желаний невинность, а вместо них оставили один лишь угар, отвращение к самому себе, и своему растленному уму, неизменно осквернявшему самый высокий порыв души циничной и низкой мыслью…
Но, вот, однажды на его пути встретилась Женщина. Она была не похожа на тех, к каким Саша привык, и он даже не сразу поверил, что зрение и чувство не обманывают его, не идеализируют приятный ему предмет. Ведь столько раз уже обманывался он, принимая жалкую подделку за истинный бриллиант. И как невыносимо мучительны были эти разочарования!
Бывая у Ольги Фердинандовны, Саша отдыхал душой, отогревался в лучах ее участия и заботы и чувствовал прилив сил, чтобы, наконец, сбросить с себя опротивевшие нети всевозможных гнусностей. Но приходил новый день, и он снова срывался и стыдился показаться ей на глаза. И все же показывался, когда душу охватывало отчаяние, и больше некуда было податься. Он знал – Ольга не прогонит, не осудит, поймет и пожалеет…
Никто за всю жизнь не жалел его по-настоящему, и, когда Ольга отдала ему свои серьги, чтобы оплатить карточный долг, он был потрясен и затем много раз ругал себя самыми последними словами, что посмел заложить ее вещь, что принял ее жертву, и искренне чувствовал себя самым ничтожным из ничтожеств.
Именно к Ольге бросился он, получив предписание выехать из столицы – растерянный, оглушенный, едва помнящий себя. Она же встретила грозную весть с неизменным спокойствием своей высокой, ясной души:
– Вы напрасно приходите в такое отчаяние, Сашенька, – сказала ласково, опуская ладонь на его нервную руку. – Я уверена, что ссылка не будет долгой, а ваша Клюквинка, единственное ваше достояние давно нуждается в хозяйском пригляде. Подумайте, ведь ваша жизнь в столице проходит, как в тумане, не давая плодов, и вы сами мучаетесь и тяготитесь ею. Клюквинка же даст вам возможность, наконец, заняться настоящим, благородным делом: позаботиться о ваших крестьянах, возродить пришедшее в упадок хозяйство и преумножить его. Как пойдет эта работа, так столица вам и на память не придет! Вы оживете и окрепнете, обретете душевный покой. Я уверена в том, что будет именно так, и именно в этом состоит промысел Божий о вас.
– Но я останусь там совсем один! – воскликнул Саша. – Что я смогу сделать один? Вы не понимаете! Ведь я с ума там сойду уже о того лишь, что не с кем будет слова сказать!
Ольга чуть опустила свои небольшие, но выразительные, мягкие глаза:
– Если бы вы оказали нам с матушкой и сестрой честь и пригласили нас погостить…
Саша в изумлении приподнялся с дивана, на котором они сидели:
– Как, Олинька, как?! Вы хотите поехать в эту глушь?! Вы принесете эту жертву?!
– Разве это жертва? Мы были бы рады немного пожить вдали от столицы. Любочке смена обстановки и жизнь на лоне природы пошла бы на пользу.
– Неужели вы говорите это серьезно, душа моя?
– Конечно, серьезно, – чуть пожала плечами Ольга. – Впрочем, если мы для вас слишком обременительные гости…
– Что вы! – вскричал Саша, сжимая ее руки. – Та честь, которую вы мне оказываете… Да я никогда бы не посмел предложить вам… Это… Милая Олинька, вы мой добрый гений! Я не нахожу слов, чтобы отблагодарить вас!
Ольга весело рассмеялась:
– Это мы благодарны вам за приглашение, – она поднялась и, взяв его под руку, сказала: – А теперь пойдемте к Любочке. Она будет очень рада вам. Она, вы знаете, к вам привязана, как к брату, и очень скучала по вам.
Младшая сестра Ольги, действительно, встретила его приветливо. Это кроткое создание, обреченное на неподвижность, внушало Саше чувство благоговения. Он взирал не нее, как на живую икону и в ее присутствии с особой остротой ощущал глубину собственного падения. «Что за беда, что вам придется какое-то время пожить вдали от привычных увеселений? – казалось, вопрошали ее глаза. – Вы молоды и здоровы, и все пути открыты вам, тогда как мне не дано и самой ничтожной малости – поднять свое тело с этого кресла. У вас впереди жизнь, а у меня – краткие годы медленного умирания, физической и душевной пытки, растянутой во времени…» Скорее всего, кроткая Люба так не думала, но сам Саша при виде юной страдалицы всецело ощутил ничтожность собственной беды в сравнении с ее трагедией.
Около часа они провели втроем, музыцируя. Саша сыграл девушкам недавно написанную польку, после чего Люба, обладавшая тонки слухом и еще не утратившая гибкости пальцев, повторила ее с ним в четыре руки, раскрасневшись от усилия и в то же время радости.
За обедом Ольга, не дожидаясь, пока оробевший в присутствии ее матери и дяди Саша скажет что-либо, сама объявила, что их семейство приглашено в Клюквинку. Лицо Анны Гавриловны не выразило удовольствия от этой вести, однако она ответила сдержанной благодарностью и согласием.
Решив проявить благородство, Саша предложил поехать вперед, дабы подготовить дом к приезду гостей. В душе ему менее всего хотелось ехать одному. Слишком хорошо он знал себя, знал, что стоит ему разлучиться с этим милым ему сердцу обществом, как драконы аббата Тетю опять завладеют его истерзанной душой.
– Очень разумное решение, – одобрила Анна Гавриловна, и сердце Саши упало.
– Разумное, – согласился Алексей Гаврилович. – Но молодому человеку нелегко будет одному справиться с этой задачей. Предлагаю следующее: г-н Апраксин, я и Олинька со своей горничной поедем вперед. А вы с Любочкой последуете за нами. К вашему приезду все будет готово. А как только вы устроитесь, я со спокойной душой отбуду в столицу.
Было заметно, что Анне Гавриловне такое решение не показалось лучшим, но она смолчала, едва заметно закусив губу. Вскоре она сослалась на приступ мигрени, и оставшаяся часть обеда проходила без нее к облегчению Саши, робевшему перед г-жой Реден.
Общество Ольги и Любы немало утешили его, и он уже сам готов был поверить в то, что, обосновавшись в деревне, сможет показать себя рачительным хозяином, и что смена обстановки пойдет ему на благо. Вдохновленный ими, он представлял себе, как станет устраивать дела в имении, какие нововведения учредит, как станет самолично вникать во все дела, не прибегая к услугам воров-управляющих.
И все же одна смутная тревога занозила его не умевшее оставаться спокойным и дольше мгновения безмятежно радоваться чему-либо сердце. Несмотря на гордость свою, Саша прекрасно сознавал, что если милая и добрая Ольга Фердинандовна могла испытывать к нему приязнь и даже нечто большее, то ее родные уж никак не могли видеть в его персоне желанного ей жениха. Тогда для чего такое внимание? Эта поездка, которая явно не прельщает Анну Гавриловну и вряд ли будет легка для Любы? Для чего так хлопотлив старый адмирал? Что им нужно от него, бездольного, неудельного, странного человека с не самой хорошей репутацией? Саша решительно не мог взять этого в толк и от того нервничал и сомневался во всем.
Впрочем, решение было принято, и ничего лучшего судьба в обозримом будущем не сулила ему. Этот факт, если и не положил предел душевным колебаниям, то, во всяком случае, немало приглушил их, и в назначенный день Саша покинул столицу вместе с адмиралом Ивлиевым, его милой племянницей, ее бойкой, ветчинно свежей горничной и собственным лакеем.
Глава 6.
Кладбищенская тишина, нарушаемая лишь скрежетом одиноких в этот морозный день вороньих голосов, вносила в душу покой и умиротворение. В день кончины матери Юрий пришел на родительскую могилу один, не захотев, чтобы Никита сопровождал его. Ему хотелось побыть наедине с давно ушедшими родными, мысленно обратиться к ним за вразумлением и поддержкой. Время отпуска подходило к концу, и тоскливо становилось на душе от этого. Скоро гостеприимный дом Никольских и саму Москву-странноприимницу сменит холодный Петербург, промозглость и одиночество, которое не с кем разделить… Когда бы хоть война приключилась с турками или персиянами – тогда, глядишь, удалось бы вырваться из столичного каземата.
По долгу службы Стратонову уже надлежало вернуться в столицу, как только стало доподлинно известно о кончине в Таганроге Императора, и войска были приведены к присяге Константину Павловичу. Однако Юрий не спешил. Восшествие на престол нового государя, впрочем, внушало ему определенную надежду. У Константина Павловича не было причин отказать в очередном рапорте с просьбой об отправке на Кавказ. В остальном же Стратонов был невысокого мнения о новом Государе, взбалмошном и много напоминающим своего отца. Московский уют размягчил Юрия, подобно теплой воде, дал его угнетенной душе столь необходимый ей покой, и едва ли не впервые в жизни небольшая человеческая слабость взяла над ним верх. В конце концов, он все еще числился в отпуске по болезни, и формально ничего не нарушал.
С невеселыми мыслями возвращался Стратонов на Большую Никитскую. Он не стал брать извозчика, решив прогуляться по родному городу пешком, надышаться сухим морозным бодрящим воздухом, насмотреться на румяный и веселый люд, так не похожий на столичных жителей, отягощенных малокровьем и расстройством нервов…
Недалеко от дома Юрия настиг всадник с лицом, замотанным до глаз шарфом. Незнакомец остановил лошадь и, по-военному отдав честь, осведомился:
– Вы полковник Стратонов?
– Точно так. С кем имею честь?
– Мне приказано вручить вам это, – всадник протянул ему запечатанное письмо и, еще раз отдав честь, пришпорил коня и скрылся, так и не представившись.
Удивленный Юрий тотчас распечатал письмо. В нем было всего несколько строк, написанных незнакомым почерком:
– Император Константин Павлович отрекся от престола. Заговорщики готовят бунт в гвардии против нового Государя – Николая Павловича. Измайловцы могут восстать также. Если Вам дорога Ваша честь и судьба Вашего брата немедленно выезжайте в столицу. Всякая минута промедления гибельна. Ваш друг.
Стратонов, как и все люди, не любил анонимок, но сведения, сообщавшиеся в странной депеше, были столь важны, что он не счел возможным пренебречь ими. К своей чести и чести своей фамилии Юрий относился весьма щепетильно, и мысль о том, что его брат может оказаться впутанным в государственное преступление, что имя их будет покрыто позором измены, казалась ему ужасной. К тому же Великий Князь Николай был шефом Измайловского полка, и Стратонова связывали с ним узы гораздо большие, нежели отношения командира и подчиненного, государева брата и его подданного – узы личной дружбы, которой Юрий дорожил не корысти ради, но из глубокой симпатии и уважения к Великому Князю. Последний был, кажется, самым русским по духу из всей императорской фамилии, лучше других сознавал место и задачи России и в то же время никогда не задумывался о престоле, оставаясь верноподданным своего Августейшего брата. И как же можно допустить, чтобы Измайловцы изменили своему шефу?! Стратонов готов был отдать голову, чтобы не допустить подобного позора.
Взволнованный и бледный, он быстро вошел в кабинет Никольского и плотно притворил за собой дверь. Никита поднялся ему навстречу из-за стола и спросил озабоченно:
– Что-то случилось? На тебе нет лица.
Юрий протянул ему письмо:
– Читай.
Никита поправил очки и быстро пробежал немногословную депешу.
– Что скажешь? – спросил Стратонов.
– Ты имеешь предположение, кто мог это написать?
– Ни малейшего. Курьер мне также не знаком.
– Странно… В любом случае, это очень серьезно, – задумчиво произнес Никольский. – Я ведь много рассказывал тебе в эти недели о нашем положении… Боюсь, что мои мрачные предчувствия начинают сбываться. Если Константин, действительно, отрекся, то мы переживаем сейчас междуцарствие, а междуцарствие, друг мой, самое лучшее время для смущения невинных и наивных умов, умов солдат и простолюдинов, для подстрекательства. Ты должен немедленно ехать в столицу. Даже если это дурацкая шутка, нельзя рисковать.
– Я с тобой согласен, – кивнул Юрий, – буду готов через четверть часа.
– Я велю заложить для тебя экипаж. Или нет! – Никита поднял вверх указательный палец. – По нашим дорогам, еще не заснеженным довольно для санного пути, зато размытым, чтобы остановить всякую карету, ты будешь добираться слишком долго. Недавно я купил замечательного коня. Мне по моему сложению он не годится, поэтому прими его, как мой прощальный дар тебе. Не спорь! Это самый быстрый конь в нашей седовласой Москве! Бери его и скачи, что есть мочи. Бог да поможет тебе!
Через полчаса полковник Стратонов уже мчался на сером в яблоках коне к московской заставе, полный тревожных предчувствий и решимости в случае необходимости со шпагой в руке защищать Государя и Отечество от новоявленных русских якобинцев.
Глава 7.
Этот вечер на квартире Рылеева вышел жарким. Решалась судьба восстания, судьба России, судьба Общества… Уже составленный план был перечеркнут неожиданной смертью Императора, теперь приходилось принимать решения сообразно вновь и вновь возникающим обстоятельствам, оценивая их мгновенно.
Уже после известия о смерти Александра Рылеев с братьями Бестужевыми ночью ходили по городу, останавливая каждого солдата, останавливаясь у каждого часового и передавая им словесно, что их обманули, не показав завещание покойного Царя, по которому дана свобода крестьянам и убавлена до пятнадцати лет солдатская служба. Этим обманом подготовлялась почва для подстрекательства к бунту нижних чинов.
Отречение Константина после присяги ему в отсутствии самого Великого Князя, который так и не пожелал приехать из Варшавы, давало исключительный шанс на успех предприятия путем игры на верноподданнических чувствах солдат в отношении Константина.
– Подлецами будем, если не воспользуемся! – горячо говорил Пущин.
Горячились и другие.
– Мы скажем солдатам, что Константин Павлович, которому солдаты уже присягнули как Императору, и Великий Князь Михаил Павлович арестованы и находятся в цепях и что солдат якобы собираются силой заставить присягать вторично, – подал идею Михаил Бестужев и тотчас был поддержан Щепиным-Ростовским.
Угрюмый герой Кавказа Якубович, полубезумный после страшного удара горской саблей по голове, был не в духе. Столько времени он лелеял мечту отомстить Императору Александру, уславшему его покорять дикие племена, убив его самолично, и, вот, не случилось. И теперь герой роптал на удержавшего его от этой затеи Рылеева, будто это он и все Общество отняли у него его законную жертву. Тут, однако же, подал голос и он:
– Надобно просто разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и идти ко дворцу!
– Ни в коем случае! – возразил Трубецкой. – Откуда вы знаете, на кого поворотит пьяная вхлам толпа? И… не стоит допускать чернь, солдат до дворца. Раз получив волю убивать и грабить своих правителей, они уже никому не подчинятся. Нам с вами, в том числе. Уничтожая саму власть, мы не должны подрывать авторитета института власти.
Рылеев был также уверен в необходимости действовать. Еще больной после недавней простуды, с замотанным черным платком горлом, с лихорадочно блестящими огромными глазами, он звал к оружию, заражая своей верой даже колеблющихся.
А поводов для колебания было предостаточно. При такой скорости событий не оставалось времени снестись с Пестелем и скоординировать действия. Хуже того, кое-кто из офицеров уже отказался участвовать в наспех состряпанном мероприятии. Даже Рылеев и Оболенский не смогли склонить к участию в деле кавалергардов Анненкова и Арцыбашева. Та же незадача вышла со ставленником Пестеля Свистуновым и командиром Семеновцев, членом Союза Благоденствия Шиповым.
Хуже всего было то, что в рядах Общества оказался предатель. Молодой офицер и литератор Яков Ростовцев написал Великому Князю Николаю письмо, в котором предупредил об опасности и умолял отложить присягу. Ростовцев был принят им, подтвердил свои слова лично, а после этого не побоялся известить о своем поступке бывших товарищей. По требованию Оболенского он дословно воспроизвел письмо и свой разговор с Николаем. Но Николай Бестужев не поверил в откровенность Ростовцева:
– Этот человек хочет ставить свечу Богу и сатане. Николаю открывает заговор, пред нами умывает руки признанием, в котором, говорит он, нет ничего личного. Не менее того в этом признании он мог написать, что ему угодно, и скрыть то, что ему не надобно нам сказывать.
– Если бы Ростовцев назвал нас, мы были бы уже арестованы, – усомнился Кондратий.
– Николай боится сделать это. Опорная точка нашего заговора есть верность присяге Константину и нежелание присягать Николаю. Это намерение существует в войске, и, конечно, тайная полиция о том известила Николая, но как он сам еще не уверен, точно ли откажется от престола брат его, следовательно, арест людей, которые хотели остаться верными первой присяге, может показаться с дурной стороны Константину, ежели он вздумает принять корону.
Николай Бестужев в свои тридцать четыре года превосходил всех присутствовавших опытом и знаниями. Моряк, организатор литографии при Адмиралтейском департаменте, историк русского флота, ныне, спокойно и не теряя достоинства поднимаясь по служебной лестнице, занимал он пост директора Адмиралтейского музея.
– Так ты считаешь, что мы уже заявлены? – спросил Рылеев.
– Непременно. И если будет новая присяга, то мы будем взяты тотчас после нее.
– Значит, выбора у нас нет – только действовать?
– О предательстве Ростовцева кроме нас, – Бестужев обвел спокойным взором собравшихся, – никто не должен знать. Да, мы обязаны действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели в постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где и за что пропали.
Рылеев порывисто обнял друга:
– Я уверен был, что таким будет твое мнение! Судьба наша теперь решена! С Богом!
Приняв окончательное решение, заговорщики перешли к разработке более тщательного плана. Оболенский брал на себя распропагандирование Конной артиллерии. Булатов и Сутгоф – Гренадер. Александр и Михаил Бестужевы вместе с Щепиным-Ростовским должны были привести на Сенатскую площадь Московский полк. Якубович и Арбузов брали на себя Гвардейский экипаж и Измайловцев…
В разгар совещания в комнату, никогда не охранявшуюся от сторонних, вошел бывший член Союза Благоденствия, адъютант Милорадовича Федор Глинка. Заметив его, Рылеев махнул рукой:
– Будем продолжать, при Федоре Николаевиче можно.
Глинка, однако же, остановился на пороге:
– Я, кажется, не ко времени и не буду мешать вам. Опять присяга на днях, вы слышали?
– Да, – ответил Кондратий, – и Общество непременно решило воспользоваться этим случаем.
– Смотрите, господа, чтобы крови не было, – покачал головой Глинка.
– Не беспокойтесь, приняты все меры, чтобы дело обошлось без крови.
Когда адъютант губернатора ушел, Якубович нетерпеливо спросил:
– Так как же с Августейшей фамилией?
– Мое мнение, что Царская семья должна быть уничтожена, – ответил Рылеев. – По взятии Зимнего она должна быть арестована, а, если понадобится, тотчас истреблена. Если же не истребят всей фамилии во время беспорядка при занятии дворца, то надлежит заключить оную в крепость и, когда убьют в Варшаве Цесаревича, истребить ее под видом освобождения. Если Цесаревич не откажется от престола, то должно убить его всенародно, и когда схватят того, кто на сие решится, то он должен закричать, что побужден был к сему Его Высочеством. Знаете ли, какое это действие сделает в народе? Тогда разорвут Великого Князя Николая!
План был принят…
– Я уверен, – сказал в завершении Кондратий, – что мы погибнем, но пример останется. Мы положим начало и принесем собою жертву для будущей свободы Отечества!
– Ах, как славно, как славно мы умрем! – восторженно воскликнул Саша Одоевский, глаза которого увлажнились от избытка чувств.
Константин посмотрел на него с сожалением. В сущности, какой наивный ребенок еще этот юноша-князь. Вспомнилось, как не без легкой досады сетовал однажды Саша, что любимый кузен его Грибоедов, спасенный им при петербургском наводнении, отечески наставлял его не мешаться в дела политики, в тайные общества и заговоры. А ведь и прав был мудрый Александр Сергеевич! Куда этому дитяти чистому – да в этакую грязь соваться? А ему, корнету Стратонову – куда? Только что при нем постановили убить всю Царскую семью, не исключая женщин и детей, и он молча принял это. А не смел, не смел принять! Не смел, потому что отец и брат прокляли бы его в противном случае! А он принял… И неужто и дальше зайдет? Пойдет с ними пропагандировать солдат и вести их против законного своего Самодержца под пули верных ему войск? Пойдет на Зимний, чтобы погубить венценосные головы, уподобясь якобинцам? Посягнет на Помазанника Божия? Да разве этого он хотел? Он хотел лишь, чтобы произвол верховной власти был ограничен Законом, чтобы Закон стал во главе всего, чтобы Россия сделалась, наконец, страной свободных людей, Законом огражденных и по справедливости судимых и отличаемых…
Конечно, последний шаг еще не сделан, можно просто отказаться участвовать в преступлении, как отказались Анненков и Арцыбашев… Но что это изменит? Он все равно останется соучастником. Соучастником, трусливо бежавшим в последний момент с поля боя.
Свой выход нашел Ростовцев. Теперь Константин понимал, какую внутреннюю распрю тот пережил, прежде чем сделать свой шаг. Теперь он избавлен от страшной ответственности за кровопролитие. Но пойти по его стопам – как? Как возможно предать собственных друзей, людей, веривших тебе, людей, несмотря на ошибки, движимых идеями благородными? Предать Сашу Одоевского? Рылеева? Пущина? Да не такое же ли это бесчестие, только наоборот?..
Несмотря на холод ночи, Стратонов задыхался. Ему чудилось, будто бы невинная кровь уже липкой пеленой покрывает его лицо, и он то и дело утирал лоб. Конечно, можно кончить все разом. Написать покаянное письмо всем и застрелиться. Это, пожалуй, самый достойный выход из земной коллизии… Но что если вслед явится коллизия небесная?
И почему, почему Великий Князь Константин не принял престола? Ведь в этом случае Общество решило ничего не принимать и даже самораспуститься, не теряя, конечно, связи и не забывая по мере возможности служить поставленным целям…
В таких отчаянных терзаниях Константин брел до тех пор, пока взгляд его не привлекли ярко освещенные окна, из-за которых доносилось веселое пение и музыка. Это был трактир «У Евпла», и Стратонов решил, что более подходящего места для приведения в порядок мыслей и чувств не найти. И хотя офицеру не пристало бывать в подобных заведениях, тем более, в мундире, он пренебрег этим правилом.
Трактирная публика гуляла весело. Хохотали пьяно косматые девки в ярких и открытых платьях, тянули к ним лапищи подвыпившие гуляки из купцов и ремесленников, мелких чиновников и прочих лиц, положение которых определить было невозможно.
Услужливый половой тотчас подал Константину штофик водки с солеными грибочками и осведомился, желает ли его благородие отужинать. Стратонов небрежным жестом отослал его и принялся размыкать тоску. Но тоска не размыкалась… Хотя Константин никогда не имел пристрастия к вину, но водка на сей раз не брала его, и на душе делалось все тошнее.
– Что, господин корнет, никак запоздалые муки совести лишили вас сна в эту прелестную ночь? – раздался вдруг знакомый голос.
Константин вскинул голову и увидел за соседним столиком Кавалеровича. Длинный нос его показался Стратонову еще длиннее, а не сходящая с тонких губ усмешка еще язвительнее, чем обычно. Поляк водку не пил, а угощался белым вином. Подано ему было и жаркое, и сыр, и яичница, и всему он явно намеревался отдать должное.
– О чем это вы, пан? – нахмурился Константин.
– Вы прекрасно знаете, о чем, – прищурил поляк миндалевидные глаза. – Кровь его на нас и на детях наших – вы ведь не готовы возопить так вослед древним иудеям и вашим друзьям?
Константин опасливо огляделся вокруг. Кавалерович понял этот взгляд, и, не ожидая приглашения, проглотил последний кусок яичницы и перебрался с остальным натюрмортом за столик Стратонова.
– Мне казалось, сударь, что друзья у нас общие, – заметил Константин.
– Стало быть, вы и, в самом деле, считаете их себе друзьями?
– Что вы, черт вас возьми, имеете, наконец, ввиду?
– Нес кузнец
Три ножа
Слава!
Первый нож
На бояр, на вельмож.
Слава!
Второй нож
На попов,
на святош.
Слава!
А молитву сотворя
Третий нож на царя.
Слава! – вполголоса пропел Кавалерович рылеевскую песенку из тех, что они с Бестужевым придумывали и пускали в народ, дабы через песни вернее донести до него свои идеи. – Это этих соловьев-разбойников вы почитаете своими друзьями, Константин Александрович? Людей, которые вместо несчастной горстки жандармов, навряд ли превышающей три тысячи душ на всю Империю, собираются окружить освобожденный народ отеческой заботой в виде соглядатаев на каждые четыреста душ?
– Вам не хуже меня известно, что это лишь одна из глупых идей Пестеля, которая никогда не будет исполнена!
– Ошибаетесь! Революции замечательны именно тем, что исполняют самые безумные и кошмарные идеи. Последние всегда побеждают все разумное, когда страсти разнузданы, а пороки выпущены на волю. Поймите, разум не управляет революцией, ею управляют стихийные, звериные начала, – все это Кавалерович говорил со своим обычным невозмутимо-насмешливым видом, поглощая жаркое и запивая его вином.
– Замена одного правительства другим – это еще не революция!
– Разумеется, если глубокой ночью несколько благородных господ забивают, как собаку, венценосца и сажают на его место его сына. Но если вырезать всю семью…
– Этого не будет!
– Непременно будет, потому что иной расклад невозможен. Но позвольте узнать, вы всерьез верите, что ваши милые друзья Одоевские, Рылеевы, Якубовичи, Трубецкие – что они могут управлять государством? Тем более, таким, как Россия? Что они знают о России и управлении? Что умеют делать, кроме как говорить звонкие фразы, нахлобучивать камзолы Руссо и Вольтера на русские плечи и пописывать статейки и стишки?
– Разве нынешние министры знают Россию и дела, коими ведают? – горячо возразил Стратонов. – Нет! Только они еще и не любят России и ее народа! Тогда как…
– Кондратий Федорович и прочие оный народ обожают-с! Допустим. Но скажите мне, господин корнет, какого черта ни один из этих обожателей не сделал такой маленькой малости, как отпустить на волю собственных крестьян с земельными наделами? Если берешься выступать против крепостничества, так будь честен до конца, начни с себя! Ваши друзья живут мечтами, не имея глубоких представлений ни об одном предмете. И при этом хотят править Империей!
– Они приведут к власти достойных людей! У нас есть Тургенев, Мордвинов, Сперанский, наконец! О сколькие еще, которые примкнут в случае победы!
– Примыкающие к победителям – люди, несомненно, высоких нравственных качеств и принципов. Ваш Мордвинов – старый болтун, желающий быть хорошим для всех и ничегошеньки толком не умеющий.
– Послушайте, сударь! – Константин сжал кулаки – Вы все это время были одним из нас, а теперь говорите так, точно вы наш заклятый враг! Что это значит, Кавалерович?! Кто вы такой? Шпион?
– Скажем так, исследователь человеческой глупости, – жаркое было доедено, и поляк вытер салфеткой усы и холеную руку.
Стратонов стиснул зубы и, едва сдерживая бешенство, выговорил:
– Если бы вы не были калекой, я бы тотчас потребовал сатисфакции!
– И не получили бы ее, – усмехнулся Кавалерович.
– Боитесь?
– Не считаю должным нарушать закон и похищать жизнь, которая еще вполне может пригодиться Отечеству.
– Подлец! – вскричал Стратонов. – Пеняйте на себя, сударь! Я буду вынужден оскорбить вас действием!
– Поосторожнее в выражениях, юноша, – поляк стал серьезен.
Константин занес руку, чтобы дать наглецу пощечину, но тот с удивительной прытью отразил удар тростью:
– Сядьте, господин корнет, – холодно сказал он. – Я не стану драться с вами. Вы ищете смерти, я же желаю, чтобы вы жили.
– Трус! Ничтожный позер!
– Прежде чем рассыпаться в подобного рода «комплиментах», извольте удостоить своим вниманием одно небольшое представление, – Кавалерович щелкнул пальцами, и на его зов тотчас возник половой. Поляк что-то шепнул, и через несколько мгновений перед ним лежали пистолеты, а на столе у противоположной стены были выставлены вряд бутылки шампанского.
Трактирные гуляки притихли, предвкушая любопытное зрелище. Кавалерович осушил последний бокал вина, расправил усы и, взяв пистолет, выстрелил. Могло показаться, что он не целился вовсе, но пуля аккуратно «отбила» пробку первой бутылки, и пенящийся напиток брызнул во все стороны. Та же участь постигла остальные, причем последние выстрелы поляк сделал, стоя спиной к своим мишеням. Ни одна пуля не ушла в сторону, ни одна не ударила ниже, разбив бутылку – каждая легко и изящно откупорила «Вдову Клико» к неописуемому восторгу публики, зашедшейся в реве и аплодисментах.
– Шампанского всем! – взмахнул рукой поляк. – Я угощаю!
Эта щедрость вызвала еще больший восторг, и сам хозяин нашел нужным выразить уважение столь выдающемуся таланту. После его ухода Кавалерович обернулся к пораженному не менее других Стратонову:
– Вот, что я имел ввиду, господин корнет, когда говорил, что не стану драться с вами ни при каких обстоятельствах.
– Должен признать, я восхищаюсь вашим мастерством, и… сожалею о вашем решении.
– Вам так не хватает небольшого отверстия во лбу? – приподнял бровь поляк. – Стало быть, я угадал, и муки совести, действительно, истязают вашу душу.
– Да, – устало вздохнул Константин, – вы угадали. Кто бы вы ни были, и каковы бы ни были ваши цели, я признаю, что вы правы, Кавалерович. Но если вы думаете, что я сделаюсь вашим орудием против людей, с которыми связан узами дружбы…
– Константин Александрович, скажите мне на милость, каким образом я могу употребить такое орудие, как вы? В качестве доносчика? Но, черт возьми, я знаю о делах Общества больше вашего. Так что вы мне вполне бесполезны.
– И опять вы правы… Я абсолютно бесполезный человек, – вздохнул Стратонов. – И мне лучше уйти.
– Постойте! – Кавалерович удержал его за руку. – Вы ведь пришли сюда набраться с тоски, как это принято у совестливых и не очень людей? Так зачем отказываться от этого весьма разумного предприятия? Лично я готов вам в этом споспешествовать! Только с условием, что вопросов политических мы более касаться не будем. По мне так добрая попойка лучше худой дуэли.
– Вы странный человек, Кавалерович, – покачал головой Стратонов, отчего-то подчиняясь воле загадочного поляка. – Но черт с вами, я останусь. И пусть в эту ночь мне будет весело! Пусть гремит музыка! Пусть льется вино! Пусть будет самое мерзкое свинство, до которого не должно доходить порядочному человеку. Пусть будет все!
– Золотые слова! – воскликнул поляк и снова сделал знак, по которому через считанные мгновения все пришло в движение. Загремела откуда-то явившаяся гитара, запела хрипло трактирная певичка-цыганка, зашлось все вокруг в хмельном и буйном веселье. И уже первый бокал поданного вина отчего-то тотчас ударил Константину в голову, и все закружилось перед его глазами в странном и пестром хороводе.
Глава 8.
Он еще не царствовал, но уже всецело ощутил груз той ноши, что вот-вот должна была лечь на его плечи, и которую, во что бы то ни стало, нужно было выдержать, не дрогнув, понести, ни на дюйм не пригнувшись, не показав, сколь тяжела она.
Все началось с пакета от начальника Главного Штаба Дибича, адресованного Императору и доставленного Николаю по причине кончины последнего. Адресованного Императору! Не Константину ли надлежало вскрыть его? Не имея ни власти, ни опыта, ни решимости, ни права отдавать приказы, вправе ли был Николай сделать это сам? Но пакет «о самонужнейшем» лег на его стол и был, скрепя сердце, вскрыт.
В пакете было донесение о чудовищном заговоре. В приложениях к нему, писанных рукою генерал-адъютанта графа Чернышева, заключалось изложение открытого обширного заговора чрез два разных источника: показания юнкера Шервуда, служившего в Чугуевском военном поселении, и открытие капитана Майбороды, служившего в тогдашнем 3-м пехотном корпусе. Заговор касался многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку, но в особенности в Москве, в главной квартире 2-й армии и в части войск, ей принадлежащих, а также в войсках 3-го корпуса. Показания были весьма неясны, неопределенны, но, однако, еще за несколько дней до кончины своей покойный Император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Казачьего полка Николаева взять известного Вадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка. Еще более ясны были подозрения на главную квартиру 2-й армии, и генерал Дибич уведомлял, что вслед за сим решился послать графа Чернышева в Тульчин, дабы уведомить генерала Витгенштейна о происходящем и арестовать князя Волконского, командовавшего бригадой, и полковника Пестеля, в оной бригаде командовавшего Вятским полком…
На этом дело не кончилось. Во время одной из прогулок неподалеку от Аничкова дворца, которую Николай совершал в одиночестве, к нему неожиданно приблизилась облаченная в темное дорожное платье дама, лицо которой было скрыто вуалью. Дама сделала легкий реверанс и со словами:
– Ваше Высочество, возьмите – это очень важно, – подала ему еще один пакет…
– Что здесь? И кто вы, сударыня?
Но незнакомка не ответила и, быстро вскочив в проезжавший мимо экипаж, исчезла, оставив Николая в полном недоумении.
Содержимое пакета лишь усилило оное, ибо явилось новой и весьма значительной частью мозаики, некоторые детали которой были уже присланы Дибичем. Новые факты изобличали петербургскую часть заговора и его руководителей и участников, имена многих из которых потрясали душу.
Этих двух пакетов достало бы, чтобы привести в полную растерянность даже более подготовленного к таким испытаниям человека. Но и ими не ограничились открытия и предупреждения.
Третьим вестником угрозы стал адъютант генерала Бистрома подпоручик Яков Ростовцев. Этот также явился с пакетом для Великого Князя. В пакете было его собственное письмо, немало тронувшее Николая.
«В продолжение четырех лет с сердечным удовольствием замечав, иногда, Ваше доброе ко мне расположение; думая, что люди, Вас окружающие, в минуту решительную не имеют довольно смелости быть откровенными с вами; горя желанием быть по мере сил моих, полезным спокойствию и славе России; наконец, в уверенности, что к человеку, отвергшему корону, как к человеку истинно благородному, можно иметь полную доверенность, я решился на сей отважный поступок.
…Противу Вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге, и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России.
Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва от нас отделятся; Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает ее державою Азиятскою, и незаслуженные проклятия, вместо должных благословений, будут Вашим уделом.
Ваше Высочество! Может быть, предположения мои ошибочны; может быть, я увлекся и личною привязанностью к Вам, и любовью к спокойствию России; но дерзаю умолять Вас именем славы Отечества, именем Вашей собственной славы – преклоните Константина Павловича принять корону!.. …Излейте Ему, как брату, мысли и чувства Свои; ежели Он согласится быть Императором – слава Богу! Ежели же нет, то пусть всенародно, на площади провозгласит Вас Своим Государем.
…Ежели Ваше воцарение, что да даст Всемогущий, будет мирно и благополучно, то казните меня, как человека недостойного, желавшего, из личных видов, нарушить Ваше спокойствие; ежели же, к несчастью для России, ужасные предположения мои сбудутся, то наградите меня Вашею доверенностью, позволив мне умереть, защищая Вас».
Прочтя это послание, Николай позвал молодого офицера в кабинет, запер за собою обе двери и, взяв его за руку, обнял и расцеловал:
– Вот, чего ты достоин, такой правды я не слыхивал никогда!
– Ваше Высочество! – с волнением отвечал юноша: не почитайте меня доносчиком и не думайте, чтобы я пришел с желанием выслужиться!
– Подобная мысль недостойна ни меня, ни тебя, – сказал Николай. – Я умею понимать тебя. Скажи, тебе известно что-нибудь о заговоре против меня?
– Многие питают против вас неудовольствие, – ответил Ростовцев, смутившись. – Хотя все эти дни, что на троне лежит гроб, обыкновенная тишина не прерывалась, но и она может скрывать возмущение. Люди благоразумные видят в вашем мирном воцарении спокойствие России…
– Но есть и другие?
– Других я не могу назвать… – подпоручик опустил глаза, и Николай с пониманием кивнул:
– Может быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благородству – и не называй! Мой друг, я плачу тебе доверенностью за доверенность! Ни убеждения матушки, ни мольбы мои не могли преклонить брата принять корону; он решительно отрекается, в приватном письме укоряет меня, что я провозгласил его Императором, и прислал мне с Михаилом Павловичем акт отречения. Я думаю, этого будет довольно.
– Ваше Высочество, для спокойствия России нужно, чтобы Константин Павлович прибыл в Петербург сам и сам, на площади, провозгласил вас своим Государем!
– Что делать! – развел руками Николай. – Он решительно от этого отказывается, а он – мой старший брат. Впрочем, будь покоен. Нами все меры будут приняты. Но если разум человеческий слаб, если воля Всевышнего назначит иначе, и мне нужно погибнуть, то у меня – шпага с темляком: это вывеска благородного человека. Я умру с нею в руках, уверенный в правости и святости своего дела и предстану на суд Божий с чистой совестью.
– Вы думаете о собственной славе и забываете Россию: что будет с нею? – страдальчески воскликнул подпоручик.
– Можешь ли ты сомневаться, чтобы я любил Россию менее себя? Но престол празднен, брат мой отрекается, я единственный законный наследник. Россия без Царя быть не может. Что же велит мне делать Россия? Нет, мой друг, ежели нужно умереть, то умрем вместе! – с этими словами Николай вновь обнял Ростовцева. – Этой минуты я никогда не забуду. Знает ли Карл Иванович, что ты поехал ко мне?
– Он слишком к вам привязан: я не хотел огорчить его этим. А, главное, я полагал, что только лично с вами могу быть откровенен насчет вас.
– И не говори ему ничего до времени. Я сам поблагодарю его, что он, как человек благородный, умел найти в тебе человека благородного.
– Ваше Высочество, всякая награда осквернит мой поступок в собственных глазах моих! – горячо сказал юноша.
– Наградой тебе – моя дружба, – ответил ему Николай.
Да, верных было много, и на них возлагал он свои надежды, и все же выпавший жребий ощущался им великим несчастьем…
Будучи третьим сыном Императора Павла, Николай никогда не готовился царствовать. Наличие двух старших братьев как будто вовсе исключало эту возможность. Оттого и воспитанием его занимались не столь усердно, как их.
Наставник Николая и Михаила, граф Ламздорф, человек грубый и недалекий, обходился со своими подопечными жестоко и зачастую несправедливо. Другие же учителя подражали ему. Юных Великих Князей нередко наказывали розгами. Строгость, с запальчивостью употребляемая по поводу и без повода, отнимала у них чувство вины, доверие к наставникам и даже собственной матери, интерес к учению, оставляя взамен страх и искание, как избегнуть наказания. Оба брата мечтали лишь о воинском служении и в учении видели одно принуждение.
Своего отца Николай помнил плохо. Ярко вспоминался лишь день зачисления в Измайловский полк. Николай, живший тогда в Павловске, ожидал в нижней комнате прибытия Августейшего родителя. Завидев его, он пошел навстречу к калитке малого сада у балкона. Отец отворил калитку и, сняв шляпу, сказал:
– Поздравляю, Николаша, с новым полком! Я тебя перевел из Конной гвардии в Измайловский полк, в обмен с братом.
Николаю шел тогда четвертый год. И это радостное известие произвело на него столь сильное впечатление, что память о нем не изгладилась и с летами.
Не менее явственно вспоминалось и событие скорбное – смерть отца. Вечером накануне трагедии дети играли в своих покоях. Трехлетний Михаил почему-то не принимал участие в общих забавах, а один играл в углу. На вопрос англичанки, что он делает, брат ответил:
– Я хороню своего отца!
Гувернантки всполошились и запретили Михаилу эту странную и пугающую игру…
В тот же вечер отец в последний раз посетил Николая, и тот полюбопытствовал у родителя, отчего его называют Павлом Первым.
– Потому что не было другого государя, который носил бы это имя до меня, – ответил отец.
– Тогда меня будут называть Николаем Первым, – отчего-то уверенно заключил Николай…
В ту же ночь он был разбужен графиней Ливен и вместе с другими детьми отведен в покои матушки, лежавшей в глубине комнаты с заплаканным лицом. Вскоре явился брат Александр в сопровождении Константина и графа Салтыкова. Он бросился перед матерью на колени, и Николай на всю жизнь запомнил его отчаянные рыдания…
Старшего брата, всегда ласкового, прекрасного лицом и манерами, Николай боготворил. Однажды, будучи в Царском Селе, он узнал, что Измайловский полк заступает во внутренний караул. При дверях в комнату Александра часовых никогда не бывало: Император говорил, что желал бы быть охраняемым любовью своих подданных. Зная это, Николай на рассвете облачился в измайловский мундир и, когда все еще спали, незаметно прошел к покоям брата и встал с ружьем на часах.
– Что ты тут делаешь, любезный Николай? – с удивлением спросил Александр, когда вышел из комнаты по пробуждении.
– Вы видите, Государь, что я занимаю караул у дверей вашего величества. Полк мой сегодня должен занимать дворец, и я выбрал себе самый почетный пост; я занял его с раннего утра, чтобы его у меня не отняли.
– Хорошо, дитя мое, – с улыбкой кивнул Император, – но что ты стал бы делать, если б пришел обход: ведь ты не знаешь пароля…
– Ах, и в самом деле, ведь всегда отдается пароль и лозунг… – спохватился Николай, но тотчас добавил: – Но все равно я не пропустил бы никого, будь это сам Аракчеев, который проходит всюду!
Служить Государю и Отечеству – в этом было все его желание с детских лет. Позднее добавилось и еще одно – желание семейного счастья.
Во время своего первого пребывания в Париже по окончании войны в 1814 году, Николай свел знакомство с герцогом Орлеанским. Созерцание редкого семейного счастья последнего произвело на него сильное впечатление, глубоко запавшее в душу.
– Какое громадное счастье жить так, семьею! – сказал он герцогу.
– Это единственное и прочное счастье, – ответил герцог Орлеанский убежденно.
Этот разговор стал как будто прологом к собственному счастью Николая. Возвращаясь в Россию, он остановился в Берлине и познакомился там с принцессой Шарлоттой. Впечатление, которое они произвели друг на друга, как нельзя более отвечали желаниям Александра и прусского короля. Очаровательная юная принцесса, тонкая, хрупкая, мечтательная, показалась Николаю созданием вовсе неземным, сотканным из воздуха, беззащитным. Одной встречи с нею было довольно, чтобы понять – эта женщина назначена ему Богом, и никакой иной рядом с ним не будет.
Их помолвка состоялась годом позже, а еще через два года Николай встречал избранницу, нареченную Александрой Федоровной, в России…
Первые годы супружества ничто не омрачало их семейного счастья. Уже на другой год после свадьбы Бог благословил этот союз рождением сына. Великая Княгиня своей сердечностью и веселостью легко завоевывала расположение без исключения всех, с кем приводилось ей общаться. Сам Николай занимался делами службы, а все свободные часы посвящал семье. Чтения вслух, прогулки вдвоем в коляске, которою он сам правил – все это было неотъемлемой частью их досуга.
Но недолго позволено было наслаждаться безмятежностью. Летом 1819-го года, когда Николай командовал 2-й гвардейской бригадой под Красным Селом, в какой-то из дней после учений на обед к нему с женой пожаловал Император. Никого более за столом не было, а потому беседа носила самый доверительный характер. Начавшаяся с предметов самых невинных, она нежданно приняла самый потрясающий оборот, полностью сокрушивший мечту о тихой и спокойной будущности.
– Я с большой радостью вижу ваше семейное блаженство, – сказал Александр. – Сам я счастья сего никогда не знал по вине моей безрассудной молодости… Увы, ни я, ни Константин не были воспитаны так, чтоб уметь ценить с молодости это счастье. И, вот, печальное следствие: оба мы не имеем детей, которых бы могли признать. Признаюсь, это чувство самое тяжелое для меня. К тому же, я чувствую, что силы мои ослабевают, тогда как в нашем веке государям, кроме других качеств, нужна физическая сила и здоровье для перенесения больших и постоянных трудов. Скоро я лишусь потребных сил, чтоб по совести исполнять свой долг, как я его разумею. Потому я решился, считая это долгом, отречься от правления с той минуты, когда почувствую тому время. Я неоднократно говорил о том брату Константину, но он, имея со мной почти одни годы и обстоятельства, а вдобавок природное отвращение к престолу, решительно не хочет мне наследовать. Оба мы видим в вас знак благодати Божией – дарованного вам сына. Поэтому вы должны знать наперед, в какое достоинство призываетесь.
Пораженный Николай словно онемел, выслушав эту речь. Он взглянул на жену – та не могла вымолвить ни слова и лишь глотала струящиеся по щекам слезы. Николай и сам чувствовал, как ком подкатывает к горлу, и, потупив глаза, продолжал молчать.
Видя, какое глубокое, терзающее впечатление произвели его слова, Александр с ангельскою, ему одному свойственною ласкою пустился в утешения. Он говорил, что минута столь ужасному перевороту еще не настала и не так скоро настанет, что может быть лет десять еще до оной, но что должно заблаговременно привыкать к сей неизбежной будущности.
– Но, Ваше Величество, я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе ни сил, ни духу на столь великое дело! – вымолвил Николай, наконец, вновь обретя дар речи. Одна мысль, одно желание мое было – служить вам изо всей души, и сил, и разумения моего в кругу поручаемых мне должностей. Мысли мои даже дальше не достигают!
– Николай, когда я вступил на престол, то был в том же положении, – ответил брат. – Мне было тем еще труднее, что нашел дела в совершенном запущении от совершенного отсутствия всякого основного правила и порядка в ходе правительственных дел. Хотя при бабке нашей в последние годы порядку было мало, но все держалось еще привычками. При восшествии же на престол родителя нашего совершенное изменение прежнего вошло в правило: весь прежний порядок нарушился, не заменяясь ничем. С моим восшествием на престол по сей части много сделано к улучшению, и всему дано законное течение, поэтому ты найдешь все в порядке, который тебе останется лишь удерживать.
«Порядок, который останется лишь удерживать», – эти слова вспоминались теперь с горькой усмешкой. Отменный порядок – ничего не скажешь! Кажется, что в заговорах погрязло все и вся…
А тогда по отъезде Императора Николай еще долго не мог прийти в себя, и собственное положение заранее казалось ему ужасным. Одно только и ободряло немного, что брат еще не стар и полон сил, а, значит, приговор, Бог даст, осуществится еще не вскоре.
Но и тут надеждам не суждено было оправдаться. Лишь шесть лет минуло с того разговора, и, вот, на престоле лежал гроб, а вокруг него нарастала смута, в которой двое Великих Князей обменивались курьерами, разрешая вопрос, кому же из них царствовать, ибо о деле, заранее решенном между старшими братьями, так и не было объявлено открыто.
Едва получив скорбное известие о кончине брата, Николай, следуя долгу, присягнул Константину. Примеру его последовали и все бывшие тогда во дворце военные и гражданские чины. Когда об этом узнала убитая горем мать, то пришла в отчаяние:
– Николай, что ты сделал! Разве ты не знаешь, что существует акт, по которому ты назначен Наследником престола?
Злые языки могли бы вдоволь потешиться: он, Наследник престола, не ведал о таком акте! О нем знали старшие братья. О нем знала мать. О нем знал князь Голицын, прибывший вскоре и также выговоривший за поспешность присяги, и объявивший, что в Совете есть особая бумага о порядке наследования, что акт, о котором говорила Императрица, лежит на престоле Московского Успенского собора, а копии его, рукой Голицына переписанные – в Синоде и Сенате. И лишь он, Николай, не знал ничего! Ему никто не изволил сообщить этой «мелочи», от которой зависела вся его судьба и судьба России.
С трудом сдержав досаду, он ответил матери:
– Если такой акт существует, то он мне неизвестен, и никто о нем не знает. Но мы все знаем, что наш Монарх, наш законный Государь после Императора Александра есть мой брат Константин. Мы исполнили, следовательно, только нашу обязанность: пусть будет что будет!
Акт, скрепленный подписью Александра, был объявлен вскорости на заседании Совета, и все члены его пришли в величайшее смущение, узнав о том, что Николай отрекся от предоставленного ему права и присягнул Константину.
Сам он поспешил отправить брату письмо с выражением верноподданнических чувств и мольбой принять престол. В то время, когда курьер был еще в пути к Варшаве, оттуда в столицу примчался Михаил, дотоле гостивший у Константина и от него узнавший горькую весть. Еще в дороге он с ужасом узнал о присяге и сразу понял, что при переприсяге беды не миновать. В том же, что новая присяга будет необходима, он не сомневался. О своих намерениях Константин, с коим были они весьма близки, говорил ему много раньше, просив, чтобы этот разговор оставался между ними, подтвердил их и перед отъездом Михаила в Петербург.
По приезде в Зимний, Михаил поспешил к матери. Они беседовали с глазу на глаз, а Николай дожидался решения своей судьбы в соседней комнате. Наконец, Императрица появилась в дверях и объявила:
– Итак, Николай, преклонись перед твоим братом Константином: он вполне достоин почтения и высок в неизменяемом решении передать тебе престол.
Николай слушал эти торжественные слова с тяжелым сердцем, невольно спрашивал себя, кто же приносит большую жертву? Тот ли, который отвергал наследство отцовское под предлогом своей неспособности и который, раз на сие решившись, повторял только свою неизменную волю и остался в том положении, которое сам себе создал сходно всем своим желаниям? Или же тот, который, вовсе не готовившийся на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, которому воля братняя была всегда тайной, и который неожиданно, в самое тяжелое время и в ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что ему было дорого, дабы покориться воле другого?..
– Прежде чем преклоняться, позвольте мне, матушка, узнать, почему я это должен сделать, ибо я не знаю, чья из двух жертв больше: того ли, кто отказывается от трона, или того, кто принимает его при подобных обстоятельствах, – холодно ответил он.
Положение так и осталось неопределенным. Решено было вновь писать Константину с изъявлением готовности покориться его воле, если она будет подтверждена вновь, принимая во внимание уже состоявшуюся присягу. Николай и Императрица также просили его приехать в Петербург лично, дабы ни в ком не зародилось сомнений.
Поскольку пребывание Михаила в столице при непринесении им присяги рождали лишние кривотолки, то он был вновь отправлен в Варшаву дабы попытаться лично убедить Константина приехать. Однако, до Варшавы он не доехал, встретив по пути возвращавшегося оттуда курьера с ответом старшего брата. Ознакомившись с ним, Михаил почел за благо оставаться на середине пути в ожидании дальнейших приказаний.
В своем кратком ответе Константин повторял свою низменную волю, отказывался от приезда в Петербург и грозил уехать еще дальше, если все не устроится сообразно решению покойного Государя.
В сущности, надеяться больше было не на что. Но подобно постриженику, трижды отвергающему ножницы, прежде чем принять обет, Николай решил дождаться возвращения своего последнего гонца – фельдъегеря Белоусова.
Дни ожидания, наполненные сгущающимися сведениями о заговоре, тянулись томительно долго. Граф Милорадович изо дня в день докладывал о том, что в городе все спокойно и нет никаких поводов для тревог, но в это слабо верилось. Николаю вспоминалась встреча в Париже с известным писателем Шатобрианом, впавшим в то время в немилость у правительства Людовика XVIII. Разговаривая с ним об этом, Николай с недоумением заметил:
– Я удивляюсь, виконт, что вы, друг Бурбонов, а делаете им более зла, чем могли бы сделать их враги.
– Зачем же они не слушают моих советов? – с живостью возразил Шатобриан. – Если бы русский подданный явил бы императору Александру столько доказательств преданности…
– Его величество император принимает советы только тогда, когда сам удостоит спрашивать их, – резко прервал его Николай.
Шатобриан пожал плечами и принялся объяснять своему гостю, что престол Людовика XVIII повис над бездной, в которой кишат тайные общества и заговоры, порожденные атеизмом, либерализмом и бонапартизмом. Под конец он обронил устало:
– Впрочем… теперь все государства в таком положении: революция подводит под них подкопы. И у вас в России имеются свои минеры; но когда настанет время зарядить мину и воспламенить заряд, Франция, будьте в том уверены, наделит вас своими пальниками.
Тогда это показалось совершенно невозможным плодом писательского воображения, а теперь представилось зловещим пророчеством. Неведомые пальники уже поднесли огонь к смертоносным орудиям, коим надлежало сокрушить всю Россию, обратить ее из величайшей в мире державы, освободительницы Европы в хаос, в пугало и посмешище для всего мира… И как противостоять этому? Не зная, не понимая, не будучи готовым… Не имея, к кому обратиться – одному, совершенно одному без совета! Достанет ли силы и разумения? Оставалось уповать лишь на Божию милость…
Белоусов прибыл, когда Николай обедал вдвоем с женой. Немедленно вскрыв привезенный пакет, он с первых строк понял, что участь его решена окончательно и бесповоротно. Константин подтверждал свою волю, благодарил за изъявления доверия и дружбы, давал советы, как начать Царствование… и уж, конечно, не собирался покидать Варшаву.
– Посылаю тебе благословение старшего брата, от глубины сердца, всеми ощущениями тебе принадлежащего, и удостоверяю тебя, как подданный, в преданности и беспредельной привязанности, с которыми не перестану быть твоим преданнейшим братом и другом… – дочитав письмо, Николай поднял взгляд на жену.
Бедняжка сделалась бледнее обычного. Глаза ее, широко распахнутые и подернутые влажной пеленой, были устремлены куда-то в сторону, а губы чуть вздрагивали. Она старалась сдержать слезы, но ей это плохо удавалось.
– Помолимся, – тихо сказал Николай.
Опустившись на колени, он взял жену за руку и промолвил твердо, глядя ей в глаза:
– Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить мужество и, если придется умереть – умереть с честью.
При этих словах она вздрогнула, но быстро взяла себя в руки и ответила спокойно и мягко:
– Дорогой друг, что за мрачные мысли? Но я обещаю тебе!
Глава 9.
Робкий северный рассвет еще не спешил рассеять владычество долгой декабрьской ночи, и мелкая поземка лениво заметала пустую Сенатскую площадь. Окна Сената были темны… Кондратий закусил тонкую губу. План, с таким трудом выработанный в лихорадочных спорах последних дней, проваливался, не начав осуществляться.
Накануне весь вечер в квартире Рылеева шло совещание. Умница Батеньков предложил перво-наперво взять Петропавловку, пушки которой направлены на Зимний. И чего бы проще, когда лейб-гренадеры во главе с Булатовым готовы действовать! Как всегда, хвастался и шумел Якубович, который уже немало раздражал Кондратия своей неуравновешенностью. Якубович раздражал, определенный на роль диктатора Трубецкой – тревожил. Примечал Рылеев, что робеет князь, что словно ищет повода задний ход дать. Заговорил с волнением о подготовке к возможному проигрышу, а затем больше того: что не стоит, де, слишком упорствовать, что лучше отложить восстание и сперва съездить в Киев для координации действий с Пестелем…
На этом месте Кондратий пристукнул ладонью по столу и, сдерживая досаду, перебил:
– Нет! Теперь уж так нельзя оставить! Мы слишком далеко зашли. Может быть, завтра нас всех возьмут!
– Так что же, губить солдат ради спасения самих себя? – вспыхнул Трубецкой.
– Да! Для истории! – отрезал Александр Бестужев.
– Вот за чем вы гонитесь! – как-то недобро усмехнулся диктатор, и Рылеев, смерив его холодным взглядом, резко ответил:
– На смерть мы обречены, господа. Что касается меня, то я становлюсь в роту Арбузова простым солдатом.
Эти слова как будто отрезвили Трубецкого, и он принялся размышлять:
– Умереть за свободу – почетно. Готов и я на это. Однако – не попытаться ли обойтись без кровопролития? Не вывести ли солдат из казарм без патронов?
– Что ж, можно и холодным оружием справиться, – усмехнулся Арбузов.
– А как по вас залп дадут? – спросил Бестужев.
Кое-кто поддержал диктатора, и в итоге вопрос о патронах перешел в ведение командиров готовящихся к восстанию полков.
Запоздало обнаружилось, что нет плана Зимнего дворца (когда бы прежде Оболенского этим озаботить!), а без него большой риск попасться при попытке взятия его в ловушку или же, как минимум, упустить Царскую фамилию.
– Мы не думаем, – сказал Кондратий, – чтобы могли кончить все действия одним занятием дворца, но довольно того, ежели Николай с семьей уедут оттуда, и замешательство оставит партию без головы. Тогда вся гвардия пристанет к нам, и самые нерешительные должны будут склониться на нашу сторону. Повторяю, что успех революции заключается в одном слове: дерзайте!
На самом деле просто дать Царю уехать было никак нельзя. Как нельзя было вообще оставить его в живых. Потому, когда участники совещания уже расходились, Рылеев задержал Каховского, чьей чрезмерной экзальтированности он опасался прежде, но для которого теперь настало время. Заключив его в объятия, Кондратий с жаром сказал:
– Любезный друг! Ты сир на сей земле, ты должен собою жертвовать для Общества: убей завтра Императора!
Услышав эти слова, Бестужев, Пущин и Оболенский также бросились обнимать Каховского. Тот, давно жаждавший совершить подвиг цареубийства и гордый наконец оказанным ему доверием, за отсутствие которого он столь обижался на Рылеева, осведомился, как надлежит ему это сделать. Оболенский предложил ему лейб-гренадерский мундир для проникновения в Зимний, но Каховский счел этот план ненадежным.
– Можно убить его прямо на площади! – решительно сказал Кондратий и, заметив в назначенном убийце колебания, добавил: – Если не убить Николая, может последовать междоусобная война!
В действительности, такая война неизбежно началась бы, если бы хоть кто-то из царствующий фамилии оставался жив. Поэтому Рылеев был убежден, что для прочного введения нового порядка вещей необходимо полное ее истребление. Убийство же одного Императора лишь разделит умы, составит партии, всколыхнет приверженцев монархии… Истребление же Августейшей фамилии поголовно поневоле приведет к соединению всех партий и избавит Россию от ужасов усобицы. Правда, это свое убеждение не спешил доводить Кондратий до своих соратников, сознавая, что мало кто из них поддержит его. Сперва нужно начать дело, а дальше поворота уже не будет. И даже столь боящемуся замарать руки кровью Трубецкому придется подчиниться революционной необходимости…
Наступал день, к которому Рылеев предуготовлял себя многие годы, к которому упорно шел, о котором мечтал. Сын мелкого провинциального дворянина, он с детства изведал изнанку жизни. Отец, промотавший и без того невеликое состояние, довел семью до нищеты, при том жестоко избивал жену и малолетнего сына, почти открыто имел любовницу, от которой прижил дочь, Аннушку. Мать, женщина необычной доброты, искренне полюбила девочку и, когда несколько лет спустя порвала с мужем, взяла ее с собой и растила, как родную.
Богатые родственники не оставили мать в ее бедственном положении, подарив ей крохотное имение Батово в Петербургской губернии. Там и рос Кондратий до поступления своего в Корпус… Бедность была его неизменным уделом. Не говоря о разнообразных нуждах молодого человека, он не имел средств даже на то, чтобы справить себе мундир. Но это униженное положение не только не сломало Кондратия, но лишь закалило его, укрепило волю и веру в собственное предназначение.
Эта смутная вера укрепилась в походе на Париж, в котором успел он принять участие, благодаря досрочному выпуску из Корпуса. Париж! В нем все еще дышало памятью недавней революции! Часами бродил молодой офицер по улицам Закона, Общественного Договора, Равенства, Прав человека… Вот, дом Робеспьера… А здесь еще недавно заседал Конвент… А на той улице жил Жан-Жак… А кафе, где бывали Вольтер и Дидерот, и теперь покажет всякий парижанин.
Осматривая Париж, заглянул Кондратий и к известной гадалке мадам Ленорман. Эта странная дама едва взглянула на его ладонь и с ужасом оттолкнула ее:
– Вы умрете не своей смертью!
– Меня убьют на войне?
– Нет.
– На дуэли?
– Хуже, гораздо хуже! И не спрашивайте больше!
Это предсказание отчего-то припомнилось теперь, а тогда воспринялось с насмешкой… Впрочем, смерти Рылеев не боялся. Душа его жаждала великого дела, такого, чтобы имя его навсегда запечатлелось в памяти благодарных потомков.
Вернувшись в Россию, он принялся изучать и конспектировать труды французских просветителей. Это чтение, а также собственные размышления вывели его на дорогу, которой с той поры он следовал, не сворачивая. Уже тогда, в 1816 году он сказал однополчанам:
– Вижу, что мне предстоит множество трудов! Жаль только, что не имею сотрудника.
– В чем же именно будут состоять ваши труды? – осведомился один из офицеров.
– В том, что для вас покажется ново, странно и непонятно! На это потребуется много силы воли, чего ни в одном из вас я не замечаю.
Среди этих легковесных, пустых юношей не видел Кондратий ни одного достойного своей откровенности и потому на все вопросы отвечал молчанием. Сперва он иногда спорил с ними, надеясь пробудить хоть в ком-то из них гражданина и соратника, но вскоре убедился, что надежды эти напрасны. Сослуживцы посмеивались над ним, величая «новым гением», дружески советовали оставить «несбыточное».
– Вы не знаете моих мыслей, – отвечал им Рылеев, – и, конечно, не можете понять всего как следует, хоть бы я вам и объяснил. По моему мнению, вы жалкие люди и умрете в неизвестности.
– А ты? – раздавался в ответ смех.
– Я надеюсь, что мое имя займет в истории несколько страниц, – кто из вас проживет долго, тот убедится в этом.
С той поры минуло менее десяти лет, и, вот, до цели остался последний шаг… В этот миг Кондратий особенно явственно ощутил, как тяжелы бывают семейные узы для человека дела, если только жена – всего лишь любящая тебя женщина и мать твоего ребенка, а не соратница, живущая с тобой одними идеями и целями.
Когда утром вместе с Иваном Пущиным и Николаем Бестужевым он собирался уходить из дома, жена выбежала из комнаты и, заливаясь слезами, обратилась к ним:
– Оставьте мне моего мужа, не уводите его, я знаю, что он идет на погибель!
Сердце Рылеева дрогнуло. Несмотря на поглощенность главным своим делом, несмотря на (что греха таить) случавшиеся измены, свою Натаниньку, свою Ангел Херувимовну он любил и жалел. И если была в его заполненной борьбой жизни отдушина, светлая пора, пауза между мятежных бурь – то это были дни влюбленности в Наташу, дни, когда он, бедный молодой офицер, обучал ее и ее сестру различным наукам в доме ее родителей, людей радушных и добрых. А затем первое время супружества, рождение Настеньки…
Немного стесняясь Пущина с Бестужевым, стоявших у двери и в то же время жалея жену, Кондратий попытался успокоить ее. Но она смотрела на него безумными, полными горя глазами и не хотела ничего слышать. Она не успела еще оправиться от смерти маленького сына и теперь, во что бы то ни стало, хотела спасти мужа, добровольно идущего на смерть…
– Настенька! – отчаянно закричала Наташа, и на зов выбежала перепуганная девочка.
Рылеев зажмурился. Знала жена, чем всего больше можно пронять его… Слезы единственной и любимой дочери – легко ли вынести их?
– Проси отца за себя и за меня!
И вот обвили дрожащие ручки отцовские ноги, а Наташа на грудь ему упала почти без чувств. Собрав в кулак всю свою недюжинную волю, Кондратий решительно высвободился из дочерних объятий и, положив жену на диван, опрометью выскочил из дома. Горький плач и зов Настеньки так и стояли у него в ушах. И лишь приближаясь к Сенатской площади, обрел Рылеев обычное самообладание.
И, вот, первое разочарование… В Сенате никого. Значит, некому вручать утвержденный накануне манифест…
– Куда теперь? – спросил Пущин.
– Домой, – отозвался Рылеев, – будем действовать сообразно обстоятельствам, но придерживаясь изначальному плану.
Возвращаясь домой, Кондратий опасался очередной душераздирающей сцены, но все было тихо. Измученная Наташа задремала и не заметила прихода мужа. А, между тем, его ждал новый удар. Заехавший Михаил Пущин, младший брат Ивана, объявил, что Коннопионерный эскадрон на площадь не поведет… Остался дома и «герой» Якубович, которого не смог уговорить действовать посланный в Московский полк Бестужев.
Скрежеща зубами от досады, Рылеев с Пущиным отправился к Трубецкому. Диктатор сразу объявил им, что план его отныне не действителен, ибо Сенат присягнул, Зимний не взят, а в казармах спокойно.
– В такой ситуации о внезапности переворота речи быть не может! Начнется кровопролитие, будут жертвы, а на успех надежды почти нет!
Кондратий с тоской подумал о том, что нельзя было выбирать на роль диктатора этого щепетильного князя, столь боящегося омрачить невинной кровью свое славное имя. Он уже проиграл битву, не начав ее…
– Присяга, судя по всему, пройдет благополучно, – говорил меж тем Трубецкой, нервно вертя в руках свежеотпечатанный царский манифест.
– Однако ж вы будете на площади, если будет что-нибудь? – настаивал Пущин.
– Да что ж, если две какие-нибудь роты выйдут, что ж может быть?
– Мы на вас надеемся! – внушительно были произнесены эти слова, отвел князь глаза…
А Рылеев промолчал. Он видел, что диктатор ни к чему не годен. И вспоминал Пестеля… Этот бы не оплошал теперь… Но, не оплошав, подмял бы затем под себя все и вся. И что же лучше из двух зол?
На Сенатской вновь было пусто. Помявшись у статуи Петра, Рылеев и Пущин направились к Дворцовой площади. Гробовая тишина! Сердце поневоле упало. Неужто напрасно все? Годы трудов и надежд? Неужто пропасть теперь просто так – ни за понюшку табаку, не оставив ни примера, ни имени своего современникам и потомкам? Глупость, непростительная глупость! Ведь была же идея десять лет тому назад – уехать в Америку, где люди живут и дышат свободно! Купить там участок земли и положить основание колонии независимости… О, вот, где можно было бы жить, как немногие из смертных! Офицеры, которых приглашал Рылеев в этот земной рай, где можно жить по собственному произволу и не быть в зависимости от подобных себе, забыть о том, что такое русское лихоимство и беззакония, лишь смеялись над ним. А ведь судьба словно нарочно дала ему шанс вернуться к той идее, сделав правителем дел влиятельной Российско-Американской компании, от имени которой защищал он интересы России на американском побережье, интересы, извечно предаваемые покойным Императором в угоду европейским друзьям, главным образом, англичанам.
Давала шанс судьба, а не воспользовался, решив не искать рая на чужих берегах, но строить его здесь, в России. А Россия – готова ли была к тому? Говорящая тишина была ответом… Не зря отговорил Бестужев, когда Кондратий хотел выйти на площадь в русском кафтане, ознаменовав тем единение солдат и поселян в первом действии их взаимной свободы:
– Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не пришло.
Придет ли когда-нибудь?
Понуро побрели по набережной Мойки, уже почти потеряв надежду, как вдруг…
Эту шляпу с белым султаном трудно было спутать. И мундир парадный, и саму походку – гоголем… Якубович!
– Откуда вы здесь? Ведь вы же…
– Только что Бестужевы, Щепин-Ростовский и я вывели на площадь две роты Московцев! – гордо заявил герой Кавказа. – Полк шел по Гороховой мимо моих окон, и я выбежал навстречу, подняв мою шляпу на конце сабли. Бестужев передал мне командование, как старшему по чину.
– Тогда почему же вы не там? – спросил Пущин.
– У меня разболелась голова, и я иду домой. Но я скоро вернусь, господа! – с апломбом ответствовал Якубович.
Не тратя больше времени на него, Рылеев и Пущин поспешили на Сенатскую. Завидев первые восставшие войска, Кондратий ощутил необычайный подъем духа. Вот, сейчас свершится то, ради чего он жил и живет! Сейчас со всех концов стекутся на площадь полки! Сейчас встанет он в строй простым солдатом, сняв с себя роль руководителя! Сейчас Трубецкой отдаст необходимые приказы! И тогда падет ненавистный колосс, и настанет новая эра…
Но…
Рылеев нервно оглядел площадь, ища Трубецкого. Диктатора не было…
Между тем, полки начинали стекаться. Но то были полки, верные Императору…
***
Этим утром в 3-й роте Измайловского полка было неспокойно. Еще во время приведения к присяге несколько голосов выкрикнули имя Константина Павловича, как законного Императора, и, вот, теперь прибежавший поручик Лохновский с бледным от волнения лицом и горящими глазами взывал:
– Братцы, там на Сенатской наши братья Московцы ждут нашей помощи! Провели вас, как несмысленных! Константина Павловича, нашего законного Государя, заточили в крепость! И Михаила с ними! А присяга, к которой вас принудили, недействительна!
Загудели солдаты, размышляя, не вдруг решаясь, на чьей стороне быть, а поручик упорствовал:
– Не говорил ли я вам еще намедни, что Константин Павлович, отец наш, освободил свой народ, подписав указ об уничтожения крепостного права, и сократил до десяти лет рекрутчину?! За то вельможи и ополчились на него и решили погубить Государя нашего, а власть отдать узурпатору Николаю, чтобы он правил как встарь, им, вельможам, в угоду! Да неужто не защитим мы Императора Константина, которому присягали и обязаны верой и правдой служить?!
От натуги худое, остроносое лицо поручика раскраснелось и покрылось каплями пота. Уже одобрительнее стал гул солдатских голосов. Лохновский, всегда вежливый с солдатами, участливый к их нуждам, был ими любим, его слову верили.
– Да, ребята, недело мы сделали. Не должно повторно присягать при живом Царе!
– Верно! Коли нет его воли править нами, так пущай сам он нам об этом скажет!
– А ежели его в кандалах беззаконно держат, так мы Царя в обиду не дадим, защитим от супостатов!
– Братцы! Поспешать надо! Московцы и другие верные полки теперь на Сенатской ждут нашей подмоги! Не оставим их одних на расправу узурпатору! – подливал масла в разгорающееся пламя Лохновский.
Но еще сомневались солдаты, тяжело раскачивались. Лишь немногие, еще прежде поручиком проработанные, похватались за оружие, зовя к тому остальных. А те, переговаривались раздумчиво, но и все же следовали за наиболее ретивыми товарищами. Вот уже почти вся рота готова к выступлению была, и просиявший Лохновский зычно скомандовал высоким, звенящим голосом:
– Вперед! Постоим за Константина Павловича! Постоим за правду и свободу!
«Ура!», хотя и разнобойное, было ему ответом.
Выбежали на двор, друг друга вслед за поручиком призывами распаляя. И вдруг в этот самый момент в ворота влетел перепачканный дорожной грязью всадник и скомандовал повелительно:
– Солдаты, назад! Отставить!
Замерли нерешительно. Пронеслось по рядам тревожное: «полковник!»
Пожалуй, еще никогда в жизни Юрий не гнал коня с такой сумасшедшей скоростью. Взмыленного и едва стоящего на ногах никитиного Корсара пришлось оставить на одной из почтовых станций, а дальше гнать, гнать без устали непривычных к такому аллюру станционных лошадей. До столицы он домчался за двое суток, не сомкнув глаз, и сразу же направился в казармы родного полка…
– Рота, слушай мою команду! Оружие сложить! Строиться!
– Рота, не слушать полковника Стратонова! – закричал Лохновский, чувствуя, что победу вырывают из его рук. – Он известный приспешник Николая, вы все это знаете! Он изменник! Убейте его! Ну же, стреляйте!
Несколько ружей вскинулось, ощетинились и штыки иные, но Стратонов не дрогнул и, подняв затянутую в белую перчатку руку, заговорил громко и твердо:
– Солдаты! Мы вместе с вами воевали француза, ели из одного котелка и проливали кровь на полях сражений! Никто из вас не может бросить мне обвинений ни в жестокости, ни в несправедливости, ни в трусости!
– Верно! Так! – послышались голоса.
– Но если даже теперь я лгу, как утверждает поручик Лохновский, то пускай же он сам поступит, как человек чести! Пусть не прячется за вашими спинами, подстрекая вас к позорному убийству своего командира, который стоит против вас один, но выйдет сам со шпагой в руке! И пусть Бог рассудит, кто из нас прав!
Застучали о землю ружья, слагаемые Измайловцами, и одобрительный гул приветствовал слова полковника.
– Правильно! Полковника Стратонова мы много лет знаем, а господина поручика без года неделю. Пусть он докажет, что говорит правду, а мы ничью кровь проливать не хотим и не будем! – высказал общее мнение старый солдат с Георгием на груди.
– Что ж, так тому и быть! – воскликнул Лохновский, обнажая шпагу.
Юрий молниеносно спешился и, также выхватив клинок, занял позицию. Поручика Лохновского он знал, как отличного фехтовальщика, которому, впрочем, нередко мешала чрезмерная горячность, толкавшая его на необдуманные действия. Теперь молодой офицер был разгорячен как нельзя больше, и сперва Стратонов не нападал на него, лишь изящно и невозмутимо отражая атаки под одобрительные возгласы солдат. Наконец, пассивная позиция наскучила ему, и Юрий обратился к своему сопернику:
– Предлагаю вам, господин поручик, окончить этот фарс. Сдайте оружие добровольно, и даю вам слово чести, что будут ходатайствовать о снисхождении для вас у Государя.
– Мне не нужна милость узурпатора!
– Бросьте, поручик. Вы прекрасно знаете, что лжете. Мне неведомы ваши цели, и я готов поверить, что они не чужды блага. Но какое благо может быть основано на введении в заблуждение простых солдат, вашему командованию вверенных, в подстрекании их к деянию заведомо беззаконному, как на земле, так и на небе, в подведении их под кару, которой они не заслужили, так как всего лишь имели несчастье поверить своему командиру?
– Да, они имеют несчастье верить вам, полковник! – очередная атака закончилась для Лохновского легкой царапиной на руке.
– Что ж, коли раскаяние вам неведомо, сударь, то мы покончим наш спор иначе. Время теперь дорого, – заявил Стратонов и в следующий миг, сделав неожиданный выпад, насквозь пронзил поручику право плечо. Удар был нанесен с расчетом не убивать и не калечить противника, но лишить его возможности обороняться.
– Итак, Бог нас рассудил, – Юрий вытер шпагу и, убрав ее в ножны, обратился к солдатам: – А теперь кто со мной на Сенатскую – защищать нашего шефа и законного Государя Николая Павловича?
Ответ солдат был единодушен. И даже те несколько, что наиболее рьяно поддержали Лохновского, теперь, не колеблясь, отстали от внушенного им заблуждения. Стратонов тотчас пообещал им, что досадная их оплошность не будет поставлена им в вину Императором, если они теперь встанут на его защиту от мятежников, смущенных такими же провокаторами, как поручик Лохновский.
Арестованный и уводимый на гаупвахту поручик успел услышать, как вся казарма вослед полковнику трижды провозгласила «Ура!» императору Николаю Павловичу и с тем под командованием Стратонова отправилась на Сенатскую, слившись с остальными Измайловцами.
***
Живописное зрелище представляла собой толпа, стоявшая перед Сенатом. Несмотря на то, что основу ее составлял Московский полк, от строя давно не осталось помину. Солдаты, расхристанные, с заваленными назад киверами, были большей частью пьяны. Их ряды были сильно разбавлены штатскими, вид которых вызывал подозрение, что они только что прибыли с маскарада: старинные фризовые шинели со множеством откидных воротников чередовались с шинелями обычными, обладатели которых выделялись мужицкими шапками, полушубками при круглых шляпах, кушаки заменили собой белые полотенца… Из офицеров лишь Бестужев Александр явился в мундире, прочие предпочли маскарад.
Мелькала в толпе взвинченная фигура Рылеева с нелепым солдатским полусумком поверх штатского платья. Он только теперь вернулся от Трубецкого, которого не застал дома, и теперь судорожно решал, как действовать в отсутствие диктатора.
В центре толпы восседал на коне плененный жандарм, подвергаемый постоянным насмешкам. То и дело оглашалась площадь диким ревом: «Ура Константину Павловичу!»
К Московцам добавился Гвардейский морской экипаж, приведенный Николаем Бестужевым…
Курский внимательно изучал ряженую толпу, слившись с нею благодаря мужицкому платью. Каждого из заговорщиков он знал наизусть, поступок каждого мог предугадать. Единственной фигурой, которую Курский не упускал из виду, был Рунич. Тот, переодетый в штатскую шинель, держался поодаль ото всех и был весьма сосредоточен. Он отвлекся от своих мыслей лишь единожды – когда на площади появился генерал Милорадович.
Старый воин надеялся, что его слава, его имя помогут ему вразумить заблудших солдат. И в самом деле, появление героя, невредимым вышедшего из полусотни сражений, произвело на них сильное впечатление. Инстинктивно вытянувшись, солдаты неотрывно смотрели на графа, а он отечески взывал к ним:
– Солдаты! Солдаты!.. Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценом, Бауценом, Фершампенуазом, Бриеном?.. Кто из вас был со мною, говорите?!. Кто из вас хоть слышал об этих сражениях и обо мне? Говорите, скажите! Никто? Никто не был, никто не слышал?! – генерал торжественно снял шляпу, медленно осенил себя крестным знамением, приподнялся на стременах и, озирая толпу на все стороны, воздев вверх руку, громко возгласил: – Слава Богу! Здесь нет ни одного русского солдата!.. – после долгого молчания он продолжал. – Офицеры! Из вас уж верно был кто-нибудь со мною! Офицеры, вы все это знаете?.. Никто? Бог мой! Благодарю Тебя!.. Здесь нет ни одного русского офицера!.. Если бы тут был хоть один офицер, хоть один солдат, тогда вы знали бы, кто Милорадович! – он вынул шпагу и, держа ее за конец клинка эфесом к шайке, продолжал с возрастающим одушевлением. – Вы знали бы все, что эту шпагу подарил мне цесаревич великий князь Константин Павлович, вы знали бы все, что на этой шпаге написано!.. Читайте за мною, – он будто указывал буквы глазами и медленно громко произносил: – «Другу мо-ему Ми-ло-ра-до-ви-чу»… Другу! А?.. слышите ли? Другу?! Вы бы знали все, что Милорадович не может быть изменником своему другу и брату своего царя! Не может! Вы знали бы это, как знает о том весь свет!!! – граф медленно вложил в ножны шпагу. – Да! Знает весь свет, но вы о том не знаете… Почему?.. Потому, что нет тут ни одного офицера, ни одного солдата! Нет, тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы, осрамившие русский мундир, военную честь, название солдата!.. Вы пятно России! Преступники перед царем, перед отечеством, перед светом, перед Богом! Что вы затеяли? Что вы сделали?
Эта проникновенная, пылкая, величественная речь, произносимая громоподобным голосом, действовала на солдат гипнотически. Они видели перед собой истинного боевого вождя, а не безвестных младших офицеров, смутивших их умы, и тянулись к нему. Евгений Оболенский первым понял опасность и, подойдя к графу, сказал:
– Покиньте площадь, Ваше Превосходительство, если вам дорога ваша жизнь!
Генерал не удостоил изменника взглядом и вновь обратился к солдатам:
– О жизни вам говорить нечего, но там… там!.. слышите ли? У Бога!.. Чтоб найти после смерти помилование, вы должны сейчас идти, бежать к царю, упасть к его ногам!.. Слышите ли?! Все за мною!.. За мной!! – он поднял руку, и из протрезвевшей толпы донеслись первые робкие «ура!» по адресу героя.
И тут же побледневший Оболенский ударил его штыком в спину. Граф вздрогнул, еще не поняв, что произошло, рука его опустилась, и в этот миг раздался выстрел: Каховский довершил расправу, выстрелив в Милорадовича почти в упор, под самый крест надетой на нем Андреевской ленты.
Генерал упал на руки адъютанту Башуцкому, и тот вместе с двумя подоспевшими из толпы простолюдинами унес раненого в Конногвардейские казармы.
На обычно бесстрастном лице Рунича отразилось одобрение. Так, именно так почитали они должным обходиться с врагами и просто несогласными – убивать по-подлому, ударом в спину. Так расправлялись они в это утро в казармах с офицерами Московского полка, тяжко ранив генералов Шеншина и Фредерикса, полковника Хвощинского, а также простых унтер-офицера и гренадера, не внявших уверениям Александра Бестужева, выдававшего себя за посланца якобы находящихся в цепях Императора Константина и шефа полка Михаила Павловича.
Так учили их заочно вожди и поджигатели революции французской. Так учили некоторых из них якобинцы-гувернеры. К примеру, воспитание Никиты и Александра Муравьевых предоставлено было попечительными родителями якобинцу Магиеру, исключительному негодяю, который в годы войны открыто праздновал падение Москвы…
Так учили их братья-масоны и «отцы-командиры» подобные Пестелю. Так самого Пестеля, должно быть, учил его изверг-отец… Еще доныне памятно Сибири имя генерал-губернатора Ивана Пестеля, доныне передается оно там потомкам с неизменными проклятиями. Если иные становятся жестоки от трусости или желания выслужиться, от мстительности или от искреннего убеждения, что лишь так можно принести пользу, то для Пестеля жестокость была образом жизни, стихией, вне которой он не мог существовать. Ненависть к нему в управляемом им крае была столь велика, что наезжать туда он не смел, боясь быть убитым, и правил Сибирью из Петербурга, поставив туда губернаторами подобных себе мерзавцев и оклеветав при том тех верных Государю и Отечеству сановников, что занимали эти посты прежде. Около десяти лет томились эти несчастные под судом и лишь потом были оправданы и сделаны сенаторами. Гонитель же их был удален от службы…
Сын унаследовал жесткий характер отца. Обладая редкой твердостью и холодным, логическим умом, он получил изрядное образование, слушая лекции лучших немецких профессоров в Дрездене. Педагоги отмечали у юного Павлика редкие способности и прилежание. «Другие учат, а Пестель понимает!» – таков был их восхищенный отзыв. Увы, этот редкий ум не ведал ни Бога, ни любви, а всякий ум, лишенный оных, обречен принимать формы, граничащие с опасным безумием.
После пяти лет освоения наук в Германии Павел поступил в 4-й класс Пажеского корпуса, откуда был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк, сдав экзамены лично Императору. Вскоре началась война, и на поле брани молодой офицер проявил себя отличным и храбрым воином, за что был удостоен орденов Владимира и Анны…
По окончании войны Пестель служил при штабе 2-й армии, расквартированной в Тульчине. Здесь умный и деятельный офицер был определен к разведывательной работе против Турции. Это был весьма ценный опыт для главной деятельности Павла, о которой командование не подозревало. Пестель сносился с греческими заговорщиками, членами «Филики Этерия» («Гетерии») – тайной организации, штаб-квартира которой находилась в Одессе. Во главе ее стоял купец Никола Скуфас, которого финансово поддерживали купцы-греки, осевшие на юге России. Главной целью заговорщиков была подготовка всеобщего вооруженного восстания христиан в Турции, а на первых порах – восстания в Валахии и Молдове. В этих областях все князья и управители поголовно были членами кишиневской масонской ложи, от которой потянулись нити к Южному обществу…
Так, ловко используя служебное положение, Пестель создал собственную организацию под носом у начальства.
Заговорщикам же греческим Павел оказал медвежью услугу. Во многом, именно его донесения, показывавшие, что поднятое на Балканах восстание обречено, определили политику России. И напрасно сражался во главе отряда добровольцев герой Кульма и сын бывшего господаря Валахии однорукий генерал Ипсиланти, нарочно посланный в родные края, чтобы возглавить восстание. Напрасно требовали пылкие умы осуществить мечту Великой Екатерины и освободить Константинополь от басурманского ига. Напрасно убеждали, что правителю, избавившему языцы от антихриста Наполеона, должно завершить свои славные деяния освобождением православного, славянского мира. Холодные, строго логические сводки Пестеля говорили обратное, и Император внял им.
За это Павел был произведен в полковники, получив под свою команду Вятский полк. Здесь он также показал свой талант, в короткий срок выведя захудалый полк в число образцовых. Государь сравнил оный с гвардией и наградил Пестеля тремя тысячами десятин земли.
Знал бы Император, что двоедушный полковник, обычно ласковый с рядовыми, подвергал их жестоким и незаслуженным наказаниям в канун его приездов. «Пусть думают, – говорил он, – что не мы, а высшее начальство и сам Государь являются причиной излишней строгости».
Знал бы Александр, что сей усердный служака в это самое время разрабатывает план уничтожение всей его семьи, хладнокровно исчисляя всех ее членов, избирая потенциальных исполнителей, составляет планы и уставы, пишет «Русскую Правду».
Этот человек был совершенно уверен в себе, в своем уме, своих дарованиях, своих идеях и своем праве распоряжаться чужими жизнями, праве властвовать. Уже тем одним был ненавистен ему правящий режим, что при нем он, знающий, как надо править и имеющий к тому талант и волю, должен был вместо этого подчиняться разнообразным бездарностям. Он готов был уничтожить всю царствующую фамилию, прибегнуть к насилию над всем обществом, если это необходимо для исправления его.
План исправления всего и всех в русском обществе был разработан Павлом с обычной для него ледяной математической логикой. Этот вполне изуверский документ и получил название «Русской Правды».
Пестелевская «конституция», как будто освобождавшая крестьян, на деле вводила поголовное рабство для всех сословий, полное огосударствление всего. Государство прямо вторгалось в дела Церкви вплоть до запрета принятия в монахи людей не достигших 60 лет, упраздняло любые частные общества, вводило повальное шпионство, сводило на нет права и интересы отдельной личности, принося их в угоду одной цели – благополучию государства.
Но и на этом не останавливался «русский Бонапарт». Все народы, населявшие Империю, должны были по его прожекту слиться в единую общность. Впрочем, некоторые народы Пестель не считал способными к ассимиляции. К таковым отнесены были поляки, население Прибалтики и евреи. Первым предоставлялось право на выход из состава Империи и создание собственных государств, евреев предполагалось попросту депортировать за пределы России. Азиатским подданным повезло гораздо меньше: их должно было обрусить силой.
Особенно же проработаны были пункты, касаемые тайной полиции или Высшего Благочиния – любимого конька Павла. Это «Благочиние» должно было не только охранять власть, но и узнавать, как действуют все части правления; как располагают свои поступки частные люди: образуются ли тайные и другие общества, готовятся ли бунты и т.д.; собирать заблаговременно сведения о всех интересах и связях иностранных посланников и блюсти за поступками всех иностранцев, навлекших на себя подозрение, и соображать меры противу всего того, что может угрожать государственной безопасности… При том о деятельности сего органа ничего не должно было быть известно. «Высшее благочиние требует непроницаемой тьмы… Государственный глава имеет обязанность учредить высшее благочиние таким образом, чтобы оно никакого не имело наружного вида и казалось бы даже совсем не существующим».
В непроницаемой тьме вершились дела тьмы… Велеречивыми рассуждениями о благе обольщали наивных, обращая во зло благородные порывы. Рядовые члены организации не имели понятия о численности ее, верили вождям, нарочно завышавшим оную, уверявшим, что имеют поддержку ряда высших сановников. К одному из них, Сперанскому, даже явились накануне восстания с предложением принять пост. Михаил Михайлович лишь замахал руками: «Вы победите сперва, а потом предлагайте!» А как верили в болтуна Мордвинова, который пафосно обещал, что не станет присягать Николаю, и, разумеется, присягнул. Кое-кто из соблазненных почувствовал в последний момент, что их используют втемную для толком неведомых им целей, и отказались принимать участие в восстании. Другие пошли до конца…
Все, решительно все строилось на лжи в проектах искусителей. Обманом возмутили солдат, используя их простодушную верность Константину, соблазняя невыполнимыми обещаниями.
А Михайло Орлов вынес предложение открыть фабрику для печатания фальшивых ассигнаций. И хотя фабрики не открыли, но никого не смутила теоретическая возможность подобного преступления.
Члены союзов Спасения и Благоденствия некогда приносили клятву освободить своих крестьян, когда им придется вступить во владение ими. Ни один человек не выполнил сего «рыцарского обета», и, по-видимому, нисколько не терзался угрызениями совести…
За долгое время кропотливой работы Курский собрал сведения почти о каждом заговорщике. И первыми в этом списке были Пестель и его ближайший приспешник Рунич. За судьбу первого можно было отныне не беспокоиться – от своего человека Виктор уже знал, что капитан Майборода не подвел и дал показания на своего командира, после чего полковник Пестель был немедленно арестован. Так что напрасно желал Трубецкой снестись с ним, прежде чем выступать…
Оставался Рунич. Этого человека Курский ни на мгновение не упускал из виду с момента своего возвращения в Россию. Именно он был одним из намеченных Пестелем цареубийц, и присутствие его в столице в момент восстания, нахождение его на Сенатской площади внушали Виктору самые серьезные опасения. Рунич нисколько не походил на Каховского. Каховский, мелкий, обнищавший дворянчик, озлобленный на судьбу, был вспыльчив, тщеславен и весьма ограничен умственно. Рунич, сколь знал его Курский, во всем равнялся на своего командира. Этот человек не делал опрометчивых шагов, просчитывая каждый, не поддавался эмоциям, не колебался, наметив цель. Он не мог не понимать, что восстание идет не так, как намечено, что эта сгрудившаяся у Сената толпа разбежится при первых залпах картечи, что поражение неминуемо. Но отчего-то оставался на площади. Предположить лишенное цели самопожертвование во имя товарищества в таком человеке было сложно. Следовательно, на площади Рунич имел свою цель, цель, которую поставил перед ним его вождь, об аресте которого он еще не ведал.
Между тем, на позициях верных Государю войск наметилось оживление. В следующее мгновение на площади показались два всадника. Курский вздрогнул, узнав в высокой, статной фигуре первого Императора Николая. Мгновенно переведя взгляд на Рунича, он заметил, как тот напрягся и, запустив руку под шинель, замер, не сводя глаз с Государя. Тот приблизился к рядам мятежников, изучая их. Несколько беспорядочных выстрелов раздалось в сторону всадников, и те остановились, видимо, решив вернуться.
В это мгновение Рунич выхватил пистолет: прекрасный стрелок, чуждый волнению, он не давал промахов. Но на сей раз ему не суждено было попасть в цель. По знаку Курского мявшийся позади Рунича ямщик с такой силой хлестнул его выхваченным из-за пояса кнутом, что тот со стоном рухнул на колени, выронив пистолет. Прежде чем несостоявшийся цареубийца опомнился, ямщик уже скрылся в толпе. За ним последовал и Курский, решивший, что теперь его присутствие на площади уже необязательно.
***
Вот уже целый час Константин стучал кулаками в запертую дверь, требуя отворить ее, но никто не отвечал. В изнеможении опустившись на пол и со злостью отшвырнув обломок разбитого о ту же проклятую дверь стула, он стиснул руками голову и в который раз стал восстанавливать в памяти все случившееся с ним. Выходило плохо. Константин помнил лишь, как в трактире распивал вино с этим польским дьяволом, говорившим странные и подозрительные вещи… Все-таки нужно было вызвать этого негодяя к барьеру вместо того, чтобы пить с ним!
Что было после трактира, Константин вспомнить не мог. Он очнулся уже в этой небольшой комнате с наглухо затворенными ставнями и дверью. Как ошпаренный вскочил с постели и, колотя в дверь, стал требовать, чтобы его выпустили. Однако, силы быстро изменили ему, и он вынужден был вновь опуститься на кровать, борясь с головокружением и слабостью.
– Проклятый поляк! Он отравил вино! – догадался Константин. – Ну, погоди, ясновельможный! Я еще сквитаюсь с тобой!
Оглядевшись, он должен был признать, что его пленитель явно не желал причинять ему лишние неудобства и муки. В комнате было довольно светло, благодаря свечам, запас которых заботливо помещался на столе. На том же столе стоял затейливо расписанный поднос с караваем хлеба, ветчиной, сыром, вареными яйцами, бутылкой вина и графином воды. Посомневавшись некоторое время, стоит ли прикасаться к угощению, Константин решил, что раз уж его не отравили сразу, то навряд ли сделают это сейчас, а хорошая трапеза непременно вернет ему силы.
С аппетитом умяв все предложенное и оставив без внимания лишь вино, Стратонов почувствовал себя значительно лучше. Он отметил, что комната недурно убрана, и в ней есть даже небольшой шкаф с книгами. Константин взял одну из них:
– Аристотель! – он усмехнулся и поставил том на место. – Что ж, скучать здесь не придется…
В комнате недоставало часов, и Стратонов был лишен возможности узнать, сколько же времени он проспал.
– Дьявол! – ругался он, меря шагами свое узилище. – В полку сочтут меня дезертиром! И в Обществе – также…
При мысли об Обществе на душе замутилось, и где-то в глубине робкий голос шепнул, что, быть может, оно и к лучшему… К лучшему, что проклятый поляк избавил его от необходимости принятия самого тяжелого решения в жизни… Впрочем, другой голос тотчас обругал первый за малодушие. Этот мерзавец, должно быть, никакой и не поляк! И не заговорщик! А тайный агент! Шпион и предатель! И теперь из-за него он, Стратонов, будет почитаться тем же… И дернул же черт пить с ним!
Константин снова кинулся к двери и, отбив кулаки, разбил об нее стул. Не растравленной переводными романами фантазии молодого офицера не хватало, чтобы найти хоть какое-то объяснение, зачем подлому поляку понадобилось травить и пленять его.
– И ведь шпагу отнял, подлец… На поединок не вышел, а шпагу отнял. Ничтожество!
В разгар бранной тирады дверь неожиданно открылась, и на пороге возник мужчина, лицо которого скрывала маска. В одной руке он держал пистолет, в другой – большую корзину с разнообразной снедью. Ничего не говоря, он поставил корзину на пол и мгновенно затворил дверь. Константин бросился к ней:
– Стой! Открой немедленно! Слышишь?! Что вам нужно от меня?! Объясните же хотя бы, черт вас возьми! Вы предстанете перед судом и отправитесь на каторгу, слышите?!
Никто не ответил и, отступив от двери, Константин подумал, что суд и каторга, возможно, в не меньшей мере и его собственная участь.
В принесенной корзине оказалось снеди не на одну трапезу, и Стратонов понял, что заточение его не будет скоротечным. Потянулись долгие часы ожидания и мертвой тишины, не нарушаемой ни единым шорохом. Аристотель и Плутарх едва ли могли скрасить оные, хотя их общество все же было лучше, чем полное его отсутствие.
После очередного бесполезного штурма двери Константин все-таки осушил оставшуюся с первой трапезы бутылку вина, оказавшегося, надо отдать должное поляку, изумительным, и изрядно закусив, завалился спать, решив, что сон лучший способ скоротать время в заточении. Как знать, может скоро придется сменить эту «темницу» на куда менее уютный и хлебосольный каземат…
***
1-я фузелерная рота лейб-гренадер ушла на Сенатскую площадь вслед за ротным командиром Сутгофом. Уже после присяги, когда офицеры отъехали на молебен во дворец, он вернулся в свою роту и объявил:
– Братцы, напрасно мы послушались: другие полки не присягают и собрались на Петровской площади. Оденьтесь, зарядите ружья, за мной и не выдавайте!
Несмотря на то, что полковник Стюрлер бросился за взбунтовавшейся ротой в погоню на извозчике, солдаты не вняли его увещеванием и последовали за ротным командиром.
Теперь пришло время действовать Николаше Панову. Пользуясь отсутствием старших офицеров, юный поручик стал уговаривать строящиеся во исполнение приказа Стюрлера роты последовать за Сутгофом.
– Худо вам придется, братцы, от Константина Павлыча и других полков, коли вы теперь их предадите!
Солдаты к досаде Панова не обращали на него особого внимания, продолжая приводить в порядок амуницию. И что же за стадо такое безмозглое – не дозваться до него! Но ведь Сутгоф дозвался? И Стюрлер не перебил его авторитета! Но у Николаши сутгофского авторитета не было, и, казалось, напрасно выбивается он из сил, объясняя серой толпе, что ей должно делать. И ведь что за народ! Чтобы дать ему свободу, приходится звать его против одного деспота именем другого, а иначе и вовсе не пошевелятся.
На счастье загрохотали выстрелы с Сенатской. Оживилась масса, напряжение охватило ряды. И не теряя мгновения удачного, додавливал Николаша, срывая голос:
– Слышите?! Слышите, братцы?! Что я говорил! Наши уже за законного императора Константина ломят! А мы все зеваем! Ну же! Не отстанем от них! Отстоим Царя-батюшку! Вперед! За Константина! За Конституцию! Ура! – с этим победным кличем Панов бросился в середину колонны, увлекая за собой часть ее.
Увидев, что несколько рот следуют за ним, Николаша почувствовал себя, словно во хмелю. Не ведавший славных сражений, он ощутил себя теперь истинным героем, совершающим подвиг, который уж наверное не забудет благосклонная к отважным история. Но вывести несколько рот на площадь – велик ли подвиг? И другие вывели. И Сутгоф тот же. А надо же больше! Надо же…
Осенило Панова: да не на Сенатскую же, а на Дворцовую сперва идти надо! Взять с налета Зимний и арестовать всю Царскую семью – пусть тогда попробуют сопротивляться! А ежели попробуют, так и истребить всех тотчас! Вот – подвиг! Такой, что его, пановское, имя, пожалуй, Рылеева с Бестужевыми далеко затмит!
Ринулись споро по Большой Миллионной, да на ней заминка вышла. Преградили путь перевернувшиеся сани, вокруг которых суетились ямщик и какая-то черноглазая баба, лопотавшая по-французски. Так уж и быть – перевернули обратно сани ее, заодно себе дорогу расчистили, но время потеряли на том.
Однако же, вот, и Зимний. Екнуло сердце и до горла подскочило, грозя выскочить вон.
– Вперед, молодцы, вперед!
Солдаты шли послушно – любо-дорого смотреть.
У главных дворцовых ворот встретил их комендант Башуцкий и, ничего не заподозрив, велел Финляндцам пропустить новоприбывшие «для охраны дворца» части.
С победоносным видом ступил Николаша на двор во главе своего отряда и вдруг остановился: прямо перед ним стоял только что, по-видимому, пришедший и строящийся гвардейский Саперный батальон. Пока Панов думал, как миновать нежданное препятствие, из дворца выбежал старый приятель – родного полка поручик барон Зальца. Выбежал – что на пожар, даже шинели не накинув. И тотчас стал расспрашивать солдат, откуда они здесь и по чьему приказу. А те бубнили, на Николашу кивая:
– Ничего не знаем, нас поручик Панов привел.
Николаша готов был изрубить Зальца собственными руками, но старался не подавать виду, изобразив глубокую задумчивость. Однако, барон уже спешил к нему:
– Как это понимать, Николай? – спросил взволнованно. – Что ты здесь делаешь, объяснись!
– Оставь меня! – прикрикнул на него Панов, подняв обнаженную шпагу.
– Да ты в уме ли?
– Если ты от меня не отстанешь, я велю прикладами тебя убить! – заревел Николаша и, повернувшись к солдатам, крикнул: – Да это не наши, ребята, за мной!
Солдаты выбежали за ним и направились к Сенатской. Следом выскочил и все понявший Зальца. Совсем рядом он увидел сидящего в санях полковника Стюрлера и подбежал на его зов. Лицо Николая Карловича нервно подергивалось.
– Панов взбунтовал полк, – быстро сказал он. – Постарайтесь спасти знамя!
– Слушаюсь, господин полковник!
Стюрлер кивнул и, тронув за плечо извозчика, направился в сторону Сенатской.
До нее пановскому отряду не удалось добраться без потерь. Дорогой настиг его капитан князь Мещерский и отбил свою роту, убедив солдат, любивших и доверявших ему, что поручик ввел их в заблуждение. Хотел было Николаша приказать прикладами отходить капитана, да побоялся: после неудачи в Зимнем расправа над уважаемым в полку офицером могла восстановить против него весь отряд.
Уже неподалеку от площади, подле Главного Штаба столкнулись с группой всадников. Первый из них, в котором Николаша, оторопев, узнал нового Императора, подъехал к солдатам с криком:
– Стой!
– Мы – за Константина! – дружно прогудели ему в ответ.
– Когда так, – Государь простер руку в сторону Сенатской, – то вот вам дорога!
В этом жесте было столько же презрения к мятежникам и исходившей от них опасности, сколько было его в том, как невозмутимо взирал самодержец на проходящих мимо него бунтовщиков. Им позволили беспрепятственно пройти сквозь войска и присоединиться к восставшим…
Оказавшись среди своих, Панов до крови закусил губу: какой шанс упустил, растепель! С Зимним не вышло, так вместо того сам Царь в руки шел, а он проскользнул, с серой массой слившись, мимо, чувствуя на себе полный презрения взор, и… ничего не сделал! И теперь уж глупости этой не исправишь, не загладишь ничем!
От горестного переживания допущенной оплошности Николашу отвлек знакомый голос, говоривший солдатам с сильным акцентом:
– Зачем же вы здесь? Для чего послушались поручика Панова? Ведь вы все присягнули сегодня!
– Мы Константину присягали раньше…
Панов быстро оглянулся. Вдоль рядов гренадер ходил сам полковник Стюрлер. Этот педантичный швейцарец не мог смириться с мыслью, что часть его полка встала в ряды мятежников и, презрев опасность, сам пришел убеждать своих солдат одуматься. Маленькие, глубоко посаженные глаза вглядывались в лицо каждого, но эти лица оставались безразличны к его увещеваниям.
В этот момент к полковнику подошел длинный, румяный от мороза Каховский, спросил по-французски с насмешкой:
– А вы, полковник, на чьей стороне?
– Я присягал Императору Николаю и остаюсь ему верен, – с достоинством ответил Стюрлер.
Каховский презрительно скривил рот и, подняв сжимаемый в руке пистолет, выстрелил в стоявшего прямо перед ним полковника. В тот же миг другой офицер закричал:
– Ребята! Рубите, колите его! – и сам дважды ударил Стюрлера саблей по голове.
Истекающий кровью полковник вскинул голову, бросил последний помутневший взгляд на расступившихся солдат, попытался сказать им что-то, но не смог и, с усилием сделав несколько шагов, упал замертво.
***
Король Людовик не выполнил своего долга и был наказан за это. Быть слабым не значит быть милостивым. Государь не имеет права прощать врагам государства. Людовик имел дело с настоящим заговором, прикрывшимся ложным именем свободы. Не щадя заговорщиков, он пощадил бы свой народ, предохранив его от многих несчастий.
Эти собственные слова, сказанные еще в отрочестве своему преподавателю французского языка, Николай отчетливо вспомнил теперь, вглядываясь в вытянувшуюся на противоположной стороне площади цепь мятежников, уже обагривших свои руки невинной кровью.
Этот роковой день начинался на удивление тихо. Снова заверял несчастный граф Милорадович, что в столице все спокойно, и хотя полученные сведения говорили об обратном, но так хотелось верить заверениям бравого генерала. Сенат и Синод принесли присягу рано утром. Также и командиры полков. Благополучно присягнули конногвардейцы и артиллерия. Казалось, что еще немного – и все завершится без происшествий.
Во дворце к назначенному на 11 часов торжественному молебствию уже собрались все имевшие право на приезд. Все спешили поздравить нового Императора и Императрицу. Сам же Николай ежесекундно ожидал грозных вестей.
– Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг, – говорил он генерал-адъютанту Бенкендорфу.
Благодушие Милорадовича нисколько не передалось ему. И мрачные предчувствия не замедлили исполниться.
– Sire, le regiment de Moscou est en plein insurrection; Chenchin et Frederichs sont grievement blesses, et les mutins marchent vers le Senat, j'a peine pu les devancer pour vous le dire. Ordonnez, de grа ce, au 1-er bataillon Preobrajensky et а la garde-а-cheval de marcher contre , – доложил прибывший в совершенном расстройстве начальник Штаба гвардейского корпуса Нейдгарт.
Как ни ждал удара этого, а в первый миг оглушил он… Если все другие полагали в случившемся лишь смущение, вызванное перепресягой, то Николай увидел первое доказательство заговора, о котором не переставал думать все эти дни.
Действовать нужно было быстро. Отправив Нейгарта и Стрекалова в Конную гвардию и первый Преображенский батальон для поднятия их, Николай велел своему адъютанту Кавелину срочно перевезти в Зимний своих детей, находившихся в Аничковом дворце. Теперь оставалось одно – вручить себя Богу и следовать завету Марка-Аврелия: «Делай, что должен, и будь, что будет».
Николай решил отправиться прямо навстречу опасности – на Сенатскую. Он лишь на мгновение заглянул к жене, одевавшейся к молебствию, сообщил коротко и спокойно, не желая тревожить:
– Артиллерия колеблется, – и с тем продолжил путь. Мелькнула горькая мысль: уж не в последний ли раз привелось увидеться в этой жизни?
Не накинув шинели, в Измайловском мундире с лентой через плечо – как был одет к молебствию, Николай быстро спустился по Салтыковской лестнице во двор, где в караул как раз вступала 6-я егерская рота лейб-гвардии Финляндского полка. Когда они выстроились, Николай велел им салютовать знамени и бить поход. После обмена приветствиями, он громко спросил:
– Присягнули ли вы мне, и знаете ли, что присяга эта была по точной воле моего брата Константина Павловича?
– Присягали и знаем! – громыхнули в ответ солдаты.
– Ребята, теперь надо показать верность на самом деле. Московские шалят, не перенимать у них и делать свое дело молодцами. Готовы ли вы умереть за меня?
– Так точно, Ваше Императорское Величество! – снова грянул дружный, ободряющий встревоженное сердце ответ.
Николай удовлетворенно кивнул и, велев заряжать ружье, обратился к офицерам:
– Вас, господа, я знаю и потому ничего вам не говорю.
Отдав команду выступать, он сам повел дивизион к дворцовым воротам. За ними на площади толпился народ, который, завидев Государя, стал кланяться ему в ноги. Сбоку от ворот Николай тотчас заметил раненого и обагренного кровью полковника Хвощинского.
– Хвалю вас за службу, полковник! – сказал ему Николай негромко. – А теперь укройтесь куда-нибудь, дабы ваш вид не распалил еще более страстей.
Оставив караул у ворот, он в одиночку вышел на площадь, и люди тотчас хлынули к нему со всех сторон с криками «ура!». Нужно было занять их внимание, дав время войскам спокойно собраться.
– Читали ли вы мой Манифест? – спросил Николай у окруживших его.
Отвечали вразнобой, но, по большей части, отрицательно. Это было весьма кстати. Взяв печатный экземпляр у кого-то из толпы, Николай стал сам читать его вслух, медленно и с расстановкой, толкуя каждое слово.
Трудно было найти более благодарных слушателей. Шапки полетели вверх, сплошное «ура!» вновь потрясло воздух.
В этот момент прискакал Нейгарт с неутешительным известием, что Московцы уже затянули Сенатскую площадь. Выслушав его, Николай немедленно объявил о произошедшем народу, чувствуя, что уже завоевал сердца собравшихся и желая закрепить эту первую победу.
– Не позволим! Не выдадим Государя! – загудело людское море, еще плотнее обступая своего Царя. – В клочья разорвем супостатов!
Сквозь сомкнутые ряды прорвались к Николаю два человека, одетые в штатское, но с георгиевским крестами в петлицах.
– Мы знаем, Государь, что делается в городе, но мы старые, раненые воины, и, покуда живы, вас не коснется рука изменников! – сказал один из них.
То были отставные офицеры Веригин и Бедряга.
Их слова были встречены общей поддержкой. Люди хватали фалды мундира и руки своего Царя, падали на землю, целовали его ноги.
– Ребята! – воскликнул Николай растроганно. – Я не могу поцеловать вас, но – вот за всех! – с этими словами он обнял и расцеловал ближайших к нему, и следом вся притихшая площадь в течение нескольких секунд оглашалась лишь звуками поцелуев – так передавали люди друг другу поцелуи Царя…
Между тем, пора было очищать площадь для расположения на ней Преображенцев, и Николай заговорил вновь:
– Ребята, я благодарю вас всех за вашу преданность, и никогда не забуду ее! Но унять буйство надлежит властям, никто посторонний не должен сметь вступаться ни словом, ни делом во что бы то ни было. Вашу любовь и преданность я еще более оценю по спокойствию и строгой покорности приказам тех, кто одни знают, что и как делать. Сейчас советую всем вам разойтись по домам. Дайте место!
Толпа послушно отодвинулась к краям площади, давая место приближающемуся 1-му батальону и освобождая Царя из своих горячих объятий.
Таков был первый акт драмы, а дальше завертелись, понеслись события с сумасшедшей скоростью, не давая перевести дух.
Менее всего желал Николай довести дело до кровопролития. Хотя после вероломного убийства Милорадовича уже почувствовалось, что миром не решится. Все же он использовал все средства для вразумления мятежников. К ним обращались митрополиты Серафим и Евгений, с крестом обошедшие площадь. К ним взывал брат, великий князь Михаил, бывший шефом Московского полка и оттого особенно остро переживавший его измену. Напрасно – слава Богу, что его не постигла судьба Милорадовича, и трое матросов остановили злодея Кюхельбекера, уже прицелившегося в Михаила. Выезжал на площадь и сам Николай в сопровождении Бенкендорфа и также едва не пал бессмысленной жертвой.
Увы, не имела успеха и атака Конной гвардии под водительством Орлова. Неподкованные на шипы лошади скользили по обледенелой площади, а теснота места давала сомкнутой массе мятежников всю выгоду положения. Их огонь ранил многих конногвардейцев, в том числе полковника Вельо, лишившегося руки.
– Voyez ce qoi se passé isi! Voila un joli commencenment de regne: un trone teint de sang! – воскликнул Николай, обращаясь к только что прибывшему в столицу и тотчас поспешившему на Сенатскую генералу Толю.
– Sire, – решительно ответил Толь, – le seul moyen d’y mettre fin, c’est de faire mitrailler cette canaille .
– Sire, il n'y pas un moment а perdre; l'on n'y peut rien maintenant; il faut de la mitraille! – поддержал Толя генерал-адъютант Васильчиков, под началом которого Николай служил несколько лет назад, будучи командиром 2-й бригады, и которого глубоко уважал с той поры.
Николай вздрогнул:
– Vous voulez que je verse le sang de mes sujets le premier jour de mon regne?
– Pour sauver votre Empire, – ответил Иларион Васильевич.
Слова генерала отрезвили и укрепили решимость Николая. Он понял, что настал момент на деле подтвердить те самые слова, что были сказаны им некогда о несчастном Людовике Шестнадцатом – должно было взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверное все, или, пощадив себя, жертвовать государством.
Николай велел заряжать орудия, внутренне все еще надеясь, что мятежники устрашатся таких приготовлений и сдадутся, не видя иного спасения. Но они оставались тверды. Солдаты и матросы то и дело принимались кричать, раздавались выстрелы. Все же Николай дал им последний шанс, послав генерала Сухазанета с решительным предупреждением.
Сухазанет галопом врезался в бунтующую толпу, расступившуюся перед ним, и воскликнул:
– Ребята, пушки перед вами, но Государь милостив, жалеет вас и надеется, что вы образумитесь. Если вы сейчас положите оружие и сдадитесь, то кроме главных зачинщиков, все будете помилованы!
Солдаты потупили глаза и заколебались, но к генералу тотчас подступили несколько офицеров и лиц неопределенного чина и принялись с бранью и угрозами вопрошать, привез ли он им конституцию. Неустрашимый Сухозанет резко ответил:
– Я прислан с пощадой, а не для переговоров! – с этими словами он развернул лошадь и поскакал прочь.
Вслед ему грянул залп. По счастью, выстрелы лишь сбили перья с его султана и ранили нескольких человек за батареей.
– Ваше Величество, – доложил генерал, – сумасбродные кричат: конституция!
Николай пожал плечами и, подняв глаза к небу, с сокрушенным сердцем скомандовал:
– Пальба орудиями по порядку, правый фланг начинай!
Команда была повторена всеми начальниками по старшинству, но сердце Николая болезненно сжалось, и, вновь вглядевшись в толпу мятежников, он приказал:
– Отставь!
Так повторилось и на второй раз. Однако, мятежники не воспользовались и этой последней милостью. Тогда Николай отдал команду в третий раз, но на этот раз она не была исполнена уже без обратного приказа. Поручик Бакунин мгновенно спрыгнул с лошади и, бросившись к пушке, спросил у пальника, зачем он не стреляет.
– Свои ж, ваше благородие… – робко отозвался тот.
– Если бы даже я сам стоял перед дулом, и скомандовали «пали», тебе и тогда не следовало бы останавливаться! – крикнул Бакунин.
Пальник повиновался.
Первый залп ударил в здание Сената. На него отвечали дикими воплями и беглым огнем. Второй и третий залп были направлены уже в толпу и привели ее в смятение.
Хватило нескольких залпов, чтобы мятежники бросились врассыпную, оставляя «на позиции» лишь убитых и раненых. Люди разбегались по Галерной и Английской набережной, вдоль Крюкова канала, кидались через загородки на Неву, прятались во дворах и подвалах…
Все было кончено к наступлению вечера, и, отдав последние распоряжения, Николай возвратился во дворец, где в тревоге ожидали его мать и жена. С ними находился и Наследник, на которого впервые в этот день была надета Андреевская лента. Несмотря на возражения императрицы-матери, боявшейся подвергнуть внука простуде, Николай снес мальчика на двор и, высоко подняв на руках, показал его выстроенному там Саперному батальону:
– Ребята, это ваш будущий Государь, мой сын Великий Князь Александр Николаевич! Любите его так же, как я люблю вас! Служите ему так же верно, как сегодня служили мне! – с этими словами он передал сына находившимся в строю георгиевским кавалерам и велел первому человеку от каждой роты подойти и поцеловать его. Солдаты с радостными криками прильнули к рукам и ногам семилетнего Наследника, взиравшего на них с изумлением и некоторым испугом.
Глава 11.
Этой ночью покои Государя более всего походили на Главную Квартиру в походное время. По возвращении с Сенатской Николай присутствовал на торжественном молебствии, отложенном утром, затем выступил перед Советом, и тотчас после того принялся за работу, решив лично вести следствие по делу о восстании. Казалось, молодой император не ведал усталости. Его благородное, мужественное лицо светилось энергией, движения были быстры, приказания кратки и четки. То и дело приносили ему новые и новые донесения и уже вели первых арестованных…
Стратонов застал Государя в его кабинете, где вместе с бароном Толем он разбирал какие-то бумаги. Николай живо поднял голову:
– Вот и ты, наконец! – кивнул приветственно и, обращаясь к Толю, велел: – Оставьте нас ненадолго.
Генерал, поклонившись, вышел, и император показал рукой на стул:
– Садись, Стратонов. Я хотел говорить с тобой.
– Я весь в распоряжении Вашего Величества, – с поклоном отозвался Юрий.
– Оставь, будь добр, церемонии, мы не параде, – Николай опустился на стоявшую у стены софу, еще раз пригласил: – Сядь же. Теперь этикет позволяет тебе это сделать.
Стратонов подчинился. По правде говоря, после двух суток скачки и целого дня небольшой войны он чувствовал огромную усталость, и предложение монарха было кстати.
– Во-первых, Стратонов, я хочу поблагодарить себя за то, что ты сегодня спас честь моего полка…
– Ваше Величество, я всего лишь исполнил свой долг.
– Честное исполнение долга в такую минуту заслуживает благодарности. Правда, должен тебе заметить, что сражаться с этим мальчишкой-поручиком было с твоей стороны некоторым мальчишеством. Много чести для него.
– Я лишь хотел убедительно показать солдатам, чего стоит их самозваный предводитель. И мне кажется, это произвело на них более действенное впечатление, чем если бы я попросту приказал другим ротам арестовать смутьяна.
– Возможно, ты прав, – задумчиво отозвался Государь и, вздохнув, продолжил: – К сожалению, я должен… задать тебе несколько неприятных вопросов. Я не сомневаюсь в твоей чести и преданности, ты только что доказал ее. Ты всегда был и, надеюсь, будешь моим другом. Но есть обстоятельства, о которых нам следует объясниться.
– О чем вы хотите спросить? – насторожился Юрий, совершенно не понимая, о чем может пойти речь.
Государю был заметно неприятен предстоящий разговор. Он поднялся и, подойдя к Стратонову, опустил руку ему на плечо, не давая встать:
– Скажи мне, ты знал, что твой брат участвует в заговоре?
Юрий молниеносно вскочил и оказался лицом к лицу с Николаем:
– Заговоре, Ваше Величество?
– Именно, мой друг. Как удалось установить, он плелся несколько лет, еще при моем покойном брате. Имя Константина было лишь использовано ими для соблазнения солдат. Целью же было свержение Самодержавия и превращение нашей страны в республику. Это долгая история, которую нам еще лишь предстоит прояснить. Но уже сейчас у нас есть списки заговорщиков, и среди них встречается имя твоего брата…
Стратонов побледнел и пошатнулся. Силы оставили его, и он вновь опустился на стул, прошептал, пытаясь прийти в себя:
– Я ничего не знал, клянусь…
– Не клянись, я верю твоему слову, – вкрадчиво сказал Николай. – Поверь, для меня этот разговор также мучителен.
– Костя – заговорщик… Не могу поверить! Не может ли здесь быть ошибки?
– К сожалению, ошибки нет. По счастью, твой брат не принимал сегодня участия в восстании, хотя и не по своей воле…
– То есть как? – не понял Юрий.
– То есть один человек, беспокоясь о чести вашего имени, позаботился, чтобы он не смог принять участие в восстании. Ты можешь не беспокоиться. Брат твой жив и здоров и, должно быть, уже дома. Как ты понимаешь, я не могу оставить заговорщика без наказания. Но твоя верность смягчает его вину, и для тебя я ограничусь тем, что отправлю твоего брата на Кавказ, разжаловав в рядовые до выслуги. В сущности, я должен был бы придать его суду, но не стану делать этого…
– Ваше Величество, я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность за ваше снисхождение к моему преступному брату! – воскликнул Стратонов, отвешивая Императору глубокий поклон.
– Это еще не все… – сказал Николай, помедлив. – Более не спрашиваю тебя, знал ли ты что или нет, так как не сомневаюсь в ответе. Поэтому просто сообщаю то, что знать тебе надлежит. Одним из мест собраний заговорщиков была квартира твоей жены.
Этот новый удар заставил Юрия вздрогнуть. Он почувствовал, как кровь прилила к его лицу:
– Вы знаете, Ваше Величество, что я не знаю друзей Катрин.
– Знаю. И, уж прости, должен тебе за то попенять. Нельзя же, право, давать жене такую волю! Я нарочно услал Толя, чтобы говорить с тобой, как с другом, поэтому не взыщи на мои слова. Тебе нужно было давно положить конец этому сраму! Жена да покорна будет мужу своему!
Юрий молчал, низко опустив голову и так крепко сжав кулаки, что раскровил ногтями ладони.
– Прости, Стратонов, – Государь дружески похлопал его по плечу. – Я никогда бы не позволил себе мешаться в твои семейные дела, если бы они не сделались делами государственными. Я не хочу, чтобы твоя жена оставалась в столице и продолжала собирать у себя сомнительную публику. Я мог бы просто предписать ей уехать, но не хочу этого делать из-за тебя. Поэтому будь добр объясниться с нею сам и, как муж, потребуй, чтобы она отправилась в свою деревню. Если же не послушает мужа, то ей прикажет Царь!
– Признаюсь, исполнить эту волю Вашего Величества доставит мне немалое удовольствие, – ответил Юрий. – Смею ли я просить вас об еще одной милости?
– Я ведь просил тебя обойтись без церемоний, – Император снова расположился на софе, чувствуя, по-видимому, облегчение от того, что самая тяжелая часть разговора осталась позади. – Что я могу для тебя сделать?
– Я несколько раз подавал прошение о переводе меня на Кавказ. Покойный Государь отклонил их. Теперь я надеюсь, что новый Государь будет более милостив ко мне.
Лицо Николая омрачилось:
– Признаться, я желал бы иметь тебя подле себя. Ты верный друг, которого мне не хотелось бы терять.
– Ваше Величество, я боевой офицер. Вот уже много лет я задыхаюсь в петербургском тумане. Вы знаете, я чужд двору и сир в жизни. Война, походная жизнь – это единственная жизнь, в которой я на своем месте. Тем паче я слышал, что нам грозит новая война с Турцией. И я думаю, что мог бы быть более полезен Отечеству на фронте, нежели в столице.
– Я понимаю тебя, Стратонов, – кивнул Император. – Что ж, если действительно таково твое желание, то я удовлетворю его. Только постарайся не потерять там своей головы, друг мой. Мне она дорога, помни это! – с этими словами Николай поднялся и крепко обнял Юрия. – Мы были друзьями много лет, и, верь мне, моя дружба не переменится. Поэтому ты всегда можешь обращаться ко мне напрямую, мои двери и сердце открыты для тебя.
– Я благодарю Ваше Величество за эти слова, – отозвался Стратонов. – Однако, время и государственные заботы способны притупить любую дружбу.
Император улыбнулся:
– Вот оно что! Ты, стало быть, думаешь, что, став Царем, я быстро вознесусь и стану с надменным превосходством смотреть на друзей юности?
– Такое случается, Ваше Величество.
– Только не в нашем случае! – покачал головой Государь.
– Я еще раз благодарю Ваше Величество и могу сказать в ответ лишь одно: что бы ни было, моя шпага и моя жизнь всецело принадлежат вам, и вы можете всегда рассчитывать на них.
– Я в этом не сомневаюсь, – кивнул Николай. – Отпуск твой я продлеваю, дабы ты мог спокойно уладить семейные дела. Брату твоему будет вынесено соответствующее предписание, так что пусть готовится к отъезду. Ты же можешь последовать за ним, как только будешь готов. Приказ о назначении тебя к Ермолову я подпишу.
Стратонов снова низко поклонился и напоследок решился задать мучавший его все это время вопрос:
– Ваше Величество, не могу ли я узнать, кому должен быть обязан спасением моего брата от позора?
– Вот это, друг мой, я тебе открыть не могу, – покачал головой Государь. – Если этот человек сочтет нужным, то сам засвидетельствует тебе свое почтение. Если же нет, то воля его.
Потрясенный нежданными и горькими открытиями, ободренный в то же время лаской Государя и перспективой вернуться к настоящей военной службе, заинтригованный тайной неведомого спасителя Кости, Юрий отправился на квартиру Катрин.
Жену, несмотря на ночной час, он нашел совершенно одетой, причесанной и весьма возбужденной.
– Вы?! – со смесью удивления и разочарования воскликнула она, когда Стратонов переступил порог.
– Вы ждали кого-то другого? – сдержанно осведомился Юрий.
– Я никого не ждала. Но вас – в особенности.
– Почему вы не спите в такой час?
– Вы же знаете мои привычки. Я поздно ложусь.
– Действительно. В такой случае, я полагаю, у вас найдется что-нибудь на ужин?
Катрин недовольно повела плечами и хлопнула в ладоши. На зов пришла заспанная горничная.
– Палашка, накрой на стол для барина, – последовал приказ.
Горничная удалилась, а Стратонов вслед за женой проследовал в кокетливо убранную гостиную. Расположившись на мягком диване, обитом белой тканью, как и вся мебель в комнате, Юрий внимательно посмотрел на Катрин. Она заметно волновалась: то и дело посматривала на стенные часы и покусывала кончики затянутых в перчатки пальцев.
– Что, – спросила она вдруг, – много ли убитых сегодня?..
– Полагаю, несколько десятков, – небрежно ответил Стратонов.
– И из офицеров?
– Не могу знать, не видел.
Катрин заломила пальцы, и Юрию на мгновение стало жаль ее. Тот человек, которого она ждала, был офицер из числа заговорщиков, и она боится, что он убит… Выходит, она любит его? Неужели эта женщина способна любить?
– Как вы думаете, что будет с теми, кого арестуют?
– Их судьбу решит суд, – холодно ответил Стратонов. – А ваша судьба, сударыня, уже решена.
– Что вы хотите этим сказать?! – вскрикнула Катрин.
– Через сутки, то бишь утром шестнадцатого числа мы с вами отправимся в ваше имение, где, насколько я знаю, теперь живет ваш брат. Вы останетесь там, а я отбуду на Кавказ, ибо Государь оказал мне милость, удовлетворив мое прошение.
– Вы с ума сошли, сударь! – жена резко поднялась. – Я никуда не поеду!
– У вас нет выбора, – ответил Юрий. – Это воля Государя.
– Что?!
– Государю стало известно, что эта квартира стала притоном для государственных преступников, и он не желает, чтобы оный продолжал существовать. Если это повеление не передано вам с жандармами и не объявлено официально, то лишь благодаря той дружбе, которой Государь изволил меня удостоить. Но оно будет передано и объявлено, если вы сами не покинете столицы в течение суток.
– Вы… вы… чудовище! – воскликнула Катрин, и из глаз ее брызнули слезы.
– Простите, мадам, но я всего лишь выполняю волю Государя.
– Как будто бы ваша воля иная!
– Моей волей вы однажды пренебрегли, так что она здесь не причем.
В это мгновение в дверь постучали, и Катрин, вздрогнув, метнулась в прихожую, не взглянув на мужа. Стратонов не пошел за ней, не имея ни малейшего желания встречаться с ее любовником. Однако, через несколько минут жена, еще более бледная и печальная, возвратилась в гостиную, ведя за собой Константина…
– На ловца и зверь, – промолвил Юрий, поднимаясь. – Оставьте нас, сударыня. Я должен поговорить с братом наедине.
Катрин безмолвно удалилась, и Стратонов с немым вопросом воззрился на поникшего Константина. После непродолжительной паузы он заговорил:
– Молчишь? Отчего же? Или тебе нечего рассказать мне?
– Смотря что ты хочешь услышать…
Юрий со злостью ударил кулаком по столу:
– Я хочу услышать, как ты посмел запятнать честь нашей фамилии? Как тебе пришло в голову изменить присяге и злоумышлять против Государя?! Корнет Стратонов – член тайной организации! Я готов был сквозь землю провалиться от стыда, когда Император объявил мне об этом!
– Прости меня. Менее всего я хотел, чтобы у тебя из-за меня были неприятности…
– К черту твои извинения! Неприятности! Мой брат – мятежник! Это, по-твоему, неприятности? Почему, скажи на милость, ты ни разу не поговорил со мной об этом? Или уж настолько безразлично было тебе мое мнение?
– Я знал наперед, что ты мне скажешь.
– Неужто?!
– И потом я не думал, что все зайдет так далеко!
– Ты не думал? А о чем, вообще, ты думал, связываясь с шайкой якобинствующих негодяев?!
– Прошу тебя, брат, не говорить о них в подобном тоне, – вспыхнул Константин. – Они во многом заблуждались, быть может, но цели их и сердца были благородны, и в этом я могу поклясться!
– Напрасно вы собираетесь клясться, господин корнет! Благородные люди, да будет вам известно, не толкают гнусным обманом на преступление своих солдат, не убивают своих командиров ударом в спину!
– О чем ты? – вздрогнул Константин.
Тут только Стратонов догадался, что брат, пожалуй, и не знает о событиях минувшего дня.
– Сегодня твои друзья подняли мятеж. Ими убиты Милорадович и Стюрлер, Фредерикс, Шеншин и Хвощинский тяжко ранены. Чтобы прекратить мятеж Государь, пытавшийся, рискуя собой, лично урезонить мятежников, и едва не убитый ими, вынужден был применить силу. Десятки людей погибли. Преимущественно простые солдаты и чернь. Люди, в сущности, не имевшие за собой никакой вины, кроме той, что наивно поверили подлецам, сбившим их с толку. Вот, их благородство!
Константин тяжело опустился на кресло, закрыл лицо руками:
– Боже! Теперь все сочтут меня таким же шпионом, как этот мерзкий поляк…
– Это все, что беспокоит тебя в данную минуту? В таком случае, позволь тебе заметить, что ты еще больший дурак, чем я полагал! – Юрий окончательно вышел из себя и заходил по комнате. – Счастлив твой Бог, что уберег тебя поднять оружие на своего Царя и повести на гибель своих солдат! Ты хоть понимаешь, какая следует кара тебе за участие в заговор?
– Понимаю и готов понести любую, – тихо ответил Константин. – Я виноват, и не отрицаю этого.
– Спасибо и на том! Однако, Государь милостив и не станет карать тебя с должной строгостью.
– Что? – брат резко вскинул лицо. – Что ты хочешь этим сказать?
– Ты отправишься на Кавказ рядовым до выслуги. Всего только!
– Нет!
– Может, ты еще и недоволен?
– Как же я могу быть доволен? – на лице Константина изобразилось отчаяние. – Мои друзья отправятся в кандалах в Сибирь, а я, как ни в чем ни бывало, на войну?! Да ведь это позор! Ведь так я никогда не смою пятна, не смогу доказать, что не предавал их!
Стратонов резко поднял руку, словно желая ударить брата, и тотчас опустил ее, сказав сухо:
– Пятно, о смытии которого тебе належит печься, есть измена Государю!
– Это ты попросил его за меня?
– Нет, я бы не посмел просить за изменника. Это милость самого Государя.
– Да, но ради твоих заслуг… – Константин снова сел, покачиваясь из стороны в строну. – Теперь я не смогу честно смотреть в глаза друзьям, а они не подадут мне руки… Проклятый поляк! Сам дьявол поставил его на моем пути! Лучше б я пустил себе пулю в лоб, мертвые сраму не имут.
– Ты еще очень юн и глуп, Костя, – смягчаясь, покачал головой Стратонов. – Запомни, сраму не имут приявшие достойную христианина смерть. А запутавшиеся в собственных ошибках и из малодушия лишающие себя жизни примут тем больше позора.
– Неужели ты сам, Юра, никогда не возмущался несправедливостью, бездарностью правления последних лет? – спросил Константин.
– Разумеется, далеко не все мне было по сердцу. Но, как офицер, я должен следовать своему долгу, а не эмоциям. К тому же, ты знаешь, единственное дело, в котором я разбираюсь порядочно, это война. А остальных предпочитаю чураться, доколе не стал в них таким же докой. Что и тебе советую. А теперь расскажи-ка мне, что с тобой произошло, и какая сила удержала тебя от последнего шага в пропасть?
– Поляк… – прошептал Константин и принялся рассказывать всю ту в высшей степени странную историю, которая приключилась с ним с вечера последнего заседания и по нынешнюю ночь.
Лишь час или чуть больше тому назад, когда все оставленные ему припасы были съедены, и угроза голода готова была нависнуть над ним, дверь «узилища» неожиданно открылась. На пороге возник все тот же мужчина в маске с пистолетом в руках, и женщина, лицо которой скрывала вуаль.
– Скоро вы будете на свободе, сударь, – пообещала незнакомка, – но вы должны мне позволить завязать вам глаза.
Делать было нечего, ибо вкрадчивая просьба дамы подкреплялась пистолетом ее спутника. С завязанными глазами Константин был выведен на улицу, усажен в сани и довезен почти до самого дома Катрин. Лишь здесь его вытолкнули из саней, и те мгновенно умчались прочь, так что, сорвав с глаз повязку, корнет успел разглядеть лишь неясный силуэт в снежной дымке.
– Да, кому рассказать – не поверят, – покачал головой Юрий.
– Клянусь, все так и было!
– Верю… Но скажи мне, неужели ты ничего не запомнил? Не заметил?
– Заметить, прости, не мог. Глаза мне завязали плотным шарфом.
– Но что-то ты все-таки запомнил? – прищурился Стратонов.
– Кое-что, – не без гордости отозвался Константин. – Я сосчитал время пути и все повороты, что мы сделали.
– Отлично! – воскликнул Юрий. – Завтра возьмем извозчика и попробуем воспроизвести твой путь в обратном порядке!
– Слушаюсь, господин полковник! – пожал плечами Константин. – Только не возьму в толк, для чего тебе это нужно?
– Я бы очень хотел знать, кто и зачем позаботился в моем брате, и поблагодарить этого человека.
– Попробуй поспрашивать о Кавалеровиче. Кто-то же должен знать, где этот долгоносый черт обитает…
– Спрашивать, Костя, долго. Тем паче неизвестно у кого. А у нас есть лишь сутки, – ответил Стратонов. – А теперь идем-ка поужинаем и – спать! Ты эти дни недурно отдохнул, а я не спал и не имел порядочной трапезы трое суток.
С этими словами Юрий поднялся и направился в столовую. Поужинал он наскоро, чувствуя, что уже насилу может сидеть за столом от усталости, и заснул, не раздеваясь, прямо в гостиной, привычно укрывшись шинелью. Последняя мысль его была о странном незнакомце, взявшем на себя заботу о его непутевым брате…
Глава 12.
Лишь сутки минули с трагических событий, а сколько же новых деталей вскрыли они! Одного за другим приводили к Николаю арестованных заговорщиков – представителей лучших фамилий, гвардейских офицеров… Русских людей. И каждый из них норовил спихнуть вину на другого, обелить себя, и в этом старании раскрывали такие вещи, которым не хотелось верить даже после ранее полученных донесений.
А ведь было время, когда Николай находил преувеличенными опасения, высказываемые покойным братом… Ему казалось, что основаны они более на иностранных внушениях, чем на положительных данных, что в России просто невозможно задумать, подготовить и совершить столь чудовищный заговор. Но очевидность беспощадно убила всякие сомнения, открыв обширный заговор, стремившийся путем гнусных преступлений к достижению самой бессмысленной цели.
Счастье, что заговорщики не вняли князю Трубецкому и, выступив без достаточной подготовки 14-го числа, разоблачили себя полностью. Страшно представить поразительные ужасы, которые совершились бы в этом злополучном городе, если бы Провидение не позволило расстроить этот адский умысел. С первого появления на революционном поприще русские превзошли бы Робеспьеров и Маратов! Когда этим злодеям сказали, что они, несомненно, пали бы первыми жертвами столь ужасного безумия, они дерзко отвечали, что знают это, но что свобода может быть основана только на трупах и что они гордились бы, запечатлевая своей кровью то здание, которое хотели воздвигнуть. И кто после этого осмелится отрицать, что давно пора подвергнуть должному наказанию этих людей, стремящихся лишь к возбуждению смут и восстаний?
Печально было сознавать, что преступление, пусть и неудавшееся, оставит в России продолжительное и мучительное впечатление. Мятеж, подавленный в зародыше, будет иметь некоторые из тех злополучных последствий, которые влечет за собой мятеж совершившийся. Он внесет смуту и разлад в великое число семей, умы долго еще останутся в состоянии беспокойства и недоверия. И лишь терпение и мудрые меры со временем смогут рассеять это тягостное впечатление, но потребуются годы, чтобы исправить зло, причиненное в несколько часов горстью злодеев…
Так размышлял Николай, меря шагами зал Эрмитажа, где теперь вершилось следствие. Целая вереница заговорщиков прошла перед его глазами, и еще многим предстояло пройти. Говоря с ними, он пытался понять, что двигало этими людьми, насколько глубока та бездна, в которую свалились они, искал в них проблески искреннего, нелицемерного раскаяния и радовался, встречая таковое. По-человечески Николай жалел заблудших и особенно их семьи, но человеческое сочувствие должно было отступить на второй план перед долгом монарха. И долг этот был, пока в груди теплится жизнь, не допустить революции в России, защитить вверенный его власти народ от злоумышленников.
В этот поздний час Николай отпустил ведшего допросы Толя и дежурных офицеров и остался один, ожидая посетителя, у встречи с которым не должно было быть свидетелей. Именно от него незадолго до восстания он получил целый пакет документов, изобличающих заговорщиков и их планы. При этом пакете было письмо, подписанное именем, заставившим Николая вздрогнуть. Пакет принесла неизвестная дама, и через нее была назначена теперешняя встреча. Точность и подробность предоставленных данных и подпись убедила Николая, что это не ловушка. К тому же тайный ход, по которому должен был прийти визитер, знали лишь немногие. И если бы другой человек назвался столь знакомым и дорогим сердцу именем, то он бы не нашел пути…
Все же ближе к часу встречи Николай ощутил волнение, не оставлявшее его, пока ровно в назначенное время с легким скрипом не открылась потайная дверь. В полутемную залу вошел высокий, сухопарый человек в распахнутой штатской шинели и надвинутой на глаза шляпе. Увидев стоящего у камина Императора, он быстро приблизился к нему и, сняв шляпу, церемонно поклонился:
– Счастлив приветствовать моего Государя!
Николай пристально вгляделся в лицо визитера, произнес медленно:
– Значит, все-таки ты…
– Я, Государь.
– Счастлив и я видеть тебя живым! Признаться, не надеялся на то.
– Не думал и я, что такая встреча станет возможной.
– Скажи же, отчего ты скрывался все это время?
– Разве вы забыли, Ваше Величество, что я уголовный преступник, бежавший из тюрьмы?
– Должен тебе сказать, что я никогда не верил в твою виновность! И если бы ты обратился ко мне…
– То ничего не изменилось бы. Ведь тогда вы еще не были Императором.
– Зато теперь я им являюсь и могу всемерно отблагодарить тебя за оказанные тобой чрезвычайные услуги, восстановив справедливость по отношению к тебе. Твое доброе имя и имение будет тебе возвращено, а сверх…
– Не нужно, Государь.
– То есть как не нужно? – удивился Николай. – Разве ты не этого желаешь?
– Может быть, но не теперь. К тому же Вашему Величеству не за что благодарить меня.
– Скромность – большая добродетель, но в данном случае она неуместна. Объясни, однако, почему ты не хочешь восстановления своего имени теперь же?
– Потому что это сделает меня уязвимым для моих врагов, а, чтобы взыскать с них кое-какие долги, мне лучше сохранять инкогнито. Впрочем, я буду признателен, если Ваше Величество напишет бумагу на мое настоящее имя, в которой бы указывалось, что я имею честь быть вами оправданным.
Николай нахмурился:
– О каких врагах речь? Почему бы тебе просто не предать их суду? Можешь быть уверен в его справедливом решении!
– Возможно, мои понятия устарели, но я не хочу препоручать моих врагов заботе судей. С ними я разберусь сам.
В тоне, которым были сказаны эти слова, было столько ледяной решимости, что Николай встревожился:
– Ты что же, собираешься вершить самосуд? Мстить?
– Мстить, Государь, не значит вершить самосуд. Мы не на Кавказе, где в обычае кровная месть. Вы можете быть спокойны, никаких беззаконных действий с моей стороны не будет. Я не злодей и не убийца. Эти люди сами уже избрали свою кару, а мне остается лишь помогать Провидению, создавая условия для ее скорейшего и полного осуществления.
Николай помолчал несколько мгновений, с трудом узнавая в холодном и жестком человеке, стоявшем напротив, веселого, бесшабашного удальца-офицера, с коим их связывала самая сердечная дружба, сохранившаяся даже после того, как он был исключен из Измайловского полка и сослан в Бессарабию за дуэль.
– Ты сильно изменился, Половцев…
– У меня были к тому серьезные причины, Государь.
– Я понимаю. Что ж, я верю твоему слову. И бумагу, просимую тобой, ты получишь. Скажи лишь, зачем она тебе?
– Затем, чтобы если случится непредвиденное, и меня разоблачат раньше времени, я мог бы предъявить этот документ полиции.
Николай снова покачал головой, но, подойдя к столу, быстро написал обещанную бумагу:
– Вот, получи. Могу я хотя бы узнать твое теперешнее имя?
– У меня их много. Зависит от общества, в котором мне приходится появляться. Впрочем, для Вашего Величества я остаюсь тем же, кем был много лет назад – преданным вам Виктором Половцевым.
– А та женщина, что приходила ко мне?..
– Это мой самый близкий друг и помощник. И о ней, я думаю, вы еще услышите.
– Ладно, Половцев, – Николай с легким неудовольствием махнул рукой. – Я не стану выведывать твоих тайн, мне покамест с избытком хватает тайн господ заговорщиков, которые ты, впрочем, знаешь, по-видимому, много лучше, чем я.
– Мне пришлось узнать эти тайны, Ваше Величество, – ответил Половцев. – Хотя если бы судьба не столкнула меня с ними, я был бы гораздо счастливее.
– Как тебе удалось собрать все эти сведения? Это же огромная работа, достойная целой тайной полиции!
– Я знал их методы, имел недурную легенду, упорство, время и деньги, чтобы платить нужным людям. Видите ли, Ваше Величество, за годы, проведенные за границей, я успел хорошо изучить тайные общества. Их историю, мистику, цели и средства. Чтобы обезвредить, уничтожить врага, нужно изучить его, нужно знать о нем все. Желание сквитаться с врагами личными помогло мне открыть такой пласт злодейских замыслов, такие сатанинские козни, что мне пришлось несколько расширить сферу моих интересов и действий.
Половцев извлек из-под шинели, которую так и не счел нужным снять, небольшую папку и подал ее Николаю:
– Здесь мой доклад, в котором вкратце изложено все, что мне удалось выяснить сверх информации, касающейся лишь нынешнего заговора, которую вы уже получили. Прочтя его, Ваше Величество сможет составить себе весьма ясное представление о тех силах, с плохо подготовленным авангардом которых мы столкнулись вчера. Уверен, что даже вожди этого авангарда, не вполне отдавали себе отчет в том, что делали, – Половцев на мгновение замолчал. – Кроме разве что Пестеля… – проронил задумчиво. – Этот знал, что делал.
– А что же Рылеев? Он, по-твоему, не знал? – усмехнулся Николай, принимая поданную папку. – Я уже имел неудовольствие общаться с этим негодяем, и должен заметить, что он произвел на меня самое ужасное впечатление.
– Рылеев… – Половцев неопределенно повел рукой. – Рылеев – поэт. К тому же довольно бездарный, потому что о чем бы и ком бы ни принимался писать, все выходила рифмованная прокламация и более ничего. Нищий офицер, не имеющий шанса возвыситься. Человек с адской гордыней, которую нечем было удовлетворить, кроме как революционным подвигом… Сказать по правде, мне даже жаль его. Его слабости и некоторые вполне благие стремления использовали силы, которые он вряд ли мог понять вполне.
– Жаль… – Николай пожал плечами, вспомнив, что именно этот горе-поэт, согласно донесению самого Половцева, предлагал уничтожить всю его семью. – Лично мне жаль жену и дочь этого мерзавца. Однако, о них я позабочусь. Они получат достойный пенсион и не будут нуждаться. То же касается и других пострадавших от преступления своих членов семейств. Карая злодеев, должно заботиться о том, чтобы насколько возможно, заживить раны, наносимые этой необходимой карой их ближним. Иначе зла не уменьшить…
– Вы первый монарх, который хочет на деле воплотить заповедь о милости к врагам, – заметил Половцев с уважением. – И это заставляет меня лишний раз гордиться тем, что я отчасти смог способствовать вашему восхождению на престол, вашей победе.
– Я христианский монарх, Половцев. И долг мой служить Богу, справедливо правя данной Им мне страной, заботясь о моих подданных. Отныне у меня нет иных стремлений. И вся моя жизнь будет посвящена этому служению.
– Да поможет вам Бог, Государь! – с чувством сказал Половцев.
– Надеюсь на это. Но мне очень нужны преданные и честные люди. Поэтому я весьма сожалею о принятом тобой решении. Я лишь сутки, как Император, а двое моих ближайших друзей, моих верных Измайловцев уже оставили меня.
– Я не оставляю Вашего Величества. И если мне приведется узнать что-то важное, то я найду способ сообщить вам об этом. К тому же, может статься, я появлюсь и в свете, правда, под иным именем.
– Под иным именем… Мне не нравится эта игра, Половцев.
– Мне тоже. Но я поклялся довести ее до конца. И вам не следовало бы роптать на эту игру. Ведь если бы не она, я не смог бы выступить в роли вашей тайной полиции. Разве вам пришлось жалеть о моей игре вчера?
– Боже упаси! – воскликнул Николай. – Что ж, будем считать, что ты меня убедил.
– А кто еще, кроме меня, успел огорчить Ваше Величество своим отъездом?
– Твой друг Стратонов.
– Вот как?
– Он едет на Кавказ. Столичный климат ему не по душе.
– Боевой офицер хорош на поле боя, а не в гостиной. На его месте я поступил бы также.
– Не сомневаюсь, – Николай вздохнул. – Ладно, Половцев, час уже поздний. Я о многом хотел бы расспросить тебя, но, боюсь, в этом случае нам не достанет и ночи на разговор.
– Обещаю, что однажды я отвечу моему Государю на все вопросы. А сейчас позвольте задать один мне.
– Изволь.
– Всех ли заговорщиков удалось арестовать?
– Почти.
– Значит, не всех?
– Одоевский и Кюхельбекер где-то скрываются.
– Пустозвоны, не суть важно. Удалось ли арестовать Рунича?
– Нет, его пока ищут.
Половцев кивнул головой так, будто не сомневался в ответе. Губы его подернулись недоброй усмешкой.
– Что с тобой?
– Ничего, Государь. Очень жаль, что правосудие его не нашло…
Николай прищурился, медленно спросил, озаренный догадкой:
– А ведь ты – знаешь, где он, верно? Знаешь, но не скажешь, не отдашь его правосудию…
– Правосудие в России слишком поспешно в отношении невиновных, и слишком нерасторопно к мерзавцам. Именно поэтому я предпочитаю решать вопросы с моими кредиторами самостоятельно.
– Я желал бы переубедить, остановить тебя, но понимаю, что ты не послушаешь теперь даже моего приказа. Что ж, Бог с тобою. Ступай и делай то, что велит тебе твой долг. То, что ты сделал для меня и для России – не имеет цены, и я навсегда остаюсь твоим должником, помни это. И если тебе нужна будет помощь, ты всегда можешь рассчитывать на меня.
– Да не оставит Господь и вас в вашем служении, Ваше Величество! – отозвался Половцев с поклоном.
Когда потайная дверь за ним закрылась, Николай устало опустился за стол. Эта встреча оставила в его душе смутный осадок. Он был безмерно рад обрести вновь друга юности, которого считал погибшим, и всем сердцем благодарен ему за неоценимую помощь. Но новый Половцев с его тайнами, его одержимостью местью, его ледяным и жестким умом, его многоликостью вызывал чувство тревоги, жалости и страха. Жаль было душу, хоть и честную, но столь ожесточенную жаждой мести, жаль было жизни, проходящей под чужими личинами, и страшно было за будущее этого человека, страшно, что в своей одержимости он может однажды преступить черту, за которой из жертвы преступления сам сделается преступником.
Глава 13.
Между тем, Половцев возвращался домой в необычайно приподнятом духе. Встреча с Государем сильно подействовала на него. Он опасался, что Николай, коего он знал совсем юным великим князем, изменился за эти годы не в лучшую сторону. Эти опасения уже отступили на Сенатской, когда Император сам выехал на площадь, не боясь выстрелов мятежников. Теперешняя же беседа рассеяла их вовсе. Половцев увидел не просто монарха, а природного русского Царя, самим Богом предназначенного к правлению великим народом. Когда последний раз видела Россия такого? Столько природного достоинства, столько решимости к исполнению тяжелого долга, столько трезвости в мыслях было у него, что Половцев впервые пожалел, что, будучи связанным иным делом, не может всю свою жизнь положить к ногам Государя и служить ему до последнего вздоха, не таясь.
Половцев не стал нанимать извозчика, долгие прогулки и свежий воздух всегда помогали ему приводить в порядок мысли и чувства. Глубокой ночью он, наконец, добрался до своей улицы и сразу заприметил на ней незнакомца, бродящего вдоль домов и разглядывавшего их с явно непраздным любопытством. Половцев притаился за углом, заподозрив соглядатая и решив сперва проследить за ним. Неужто они все-таки сумели выйти на его след? Ведь он был крайне осторожен. И кто из них? Навряд ли Руничу теперь до подобных розысков – этот теперь уносит свою драгоценную шкуру к польской границе. И Половцев знал точно, где стеречь его, дабы не выпустить из рук. Тогда кто же? Ужели князьки Борецкие так быстро почувствовали неладное? Но в отношении них игра лишь началась. Если только не предал этот «юродивый» разбойник… Хотя также навряд ли. За те деньги, что Половцев положил ему, он не стал бы рисковать. Тогда кто же? Кто же?
В этот момент незнакомец развернулся и пошел навстречу Половцеву, и тот с облегчением перевел дух, тотчас узнав старого друга Стратонова. Когда Юрий поравнялся с ним, Половцев вынырнул из своего укрытия:
– Не меня ли вы ищете, сударь?
Стратонов мгновенно повернулся, смерил настороженным взглядом стоявшего перед ним Виктора, с трудом сдерживавшего улыбку.
– Черт побери… – пробормотал Юрий, отступая на шаг. – Не могу быть уверен, но, возможно и вас, если ваша фамилия Кавалерович.
– Кавалерович? – Половцев приподнял бровь. – А для какой нужды вам нужен в такой час господин Кавалерович?
– Затем, что я желал бы поблагодарить этого человека за оказанную моему брату и мне услугу.
– Эх, Юра, Юра… – Виктор покачал головой. – Тебе ли меня благодарить? Ты ведь мне жизнь под Лейпцигом спас, а потом единственный пытался вступиться за меня, когда я гнил в кишеневской тюрьме. Репутации своей не пожалел, на Государево имя прошение подал…
Глаза Стратонова расширились от удивления, он приблизился к Половцеву, вглядываясь в его лицо:
– Но ведь этого не может быть…
– Чего не может быть, Юра? Разве ты на моем отпевании был и цветы возлагал к моему скорбному надгробью?
– В самом деле… Однако, все были убеждены в твоей гибели.
Виктор усмехнулся:
– Признаться, иногда я и сам был в ней практически убежден, – он хлопнул старого друга по плечу: – Не ждал я, что ты меня сыщешь! Вот уж не ждал! Никак «маленький Костя» оказался хитрее, чем я полагал.
– У моего брата отменная память, – отозвался Стратонов. – И он очень хорошо ориентируется на местности. В родном же городе особенно.
– На будущее мне урок – надо не просто завязывать своим пленникам глаза, но доставлять до места, порядочно покружив, чтобы их памяти не хватало для восстановления обратного пути.
– Ты недоволен, что я тебя нашел?
– Напротив, напротив, – искренне ответил Половцев. – Я рад тебя видеть, друг мой! И думаю, наша встреча стоит того, чтобы отметить ее бутылкой отменного вина и хорошим ужином!
С этими словами Виктор повел Юрия в уже знакомую читателю квартиру, где еще недавно пребывал в заточении корнет Стратонов.
Дверь друзьям открыл смуглый черноволосый человек, подозрительно покосившийся на нежданного гостя.
– Не беспокойся, Благоя, – сказал ему Виктор. – Это мой старый друг Юрий Александрович Стратонов, о котором я тебе рассказывал.
Названный странным именем человек поклонился полковнику и вновь посмотрел на Половцева.
– Подай нам с полковником нашего лучшего вина и чего-нибудь закусить, – велел тот, и слуга немедля исчез, так и не произнеся ни слова.
– Он всегда молчит? – спросил Стратонов, снимая шинель.
– Да, с тех пор, как ему отрезали язык, – ответил Виктор.
– Отрезали язык?
– Благоя – серб. Турки вырезали всю его семью, включая жену и малолетнего сына, а самого его взяли в плен. Он пытался бежать, подговорив еще нескольких отчаянных, но их поймали и подвергли жестоким пыткам, после которых выжил лишь он и еще двое. Их продавали на невольничьем рынке, и я купил всех троих. У двоих оставались близкие в родных краях, и они отправились к ним. А Благоя остался со мной, и с тех пор мы неразлучны.
В этот момент серб вновь показался в прихожей и подал знак, что стол накрыт. Пройдя вслед за хозяином, Стратонов увидел вполне подобающую для добрых христиан в постный день трапезу, состоящую и жареного карпа, правда, уже холодного, каравая ржаного хлеба, головки чеснока… На огне дымилась кастрюля с ячменной кашей. К столу были также поданы две бутылки белого сухого вина.
– Прошу, – пригласил Виктор. – Ужин, как видишь, вполне солдатский.
– О вине я бы не сказал, – заметил Юрий.
– Ты прав, к такой трапезе лучше бы подошла наша горькая, но, увы, друг мой, скитаясь по миру, я обрел некоторые привычки, от которых не спешу отказываться. Например, привычку к хорошему вину, – с этими словами Половцев откупорил бутылку и, разлив ароматный напиток по бокалам, провозгласил тост: – За встречу!
– За встречу, – кивнул Стратонов.
Когда первый голод был удовлетворен, а от вина внутри разлилась приятная теплота, Юрий нетерпеливо попросил:
– Расскажи же, что с тобой произошло! Ты знаешь, я часто вспоминал тебя в эти годы. Ведь в полку у меня не было более близкого товарища. Знаю, что и Государь Николай Павлович весьма печалился твоей участью. Он не раз говорил, что, будь он тогда в России, то непременно нашел бы способ выручить тебя. Но когда он вернулся из Европы, тебя уже не было…
– Значит, такова селяви, – отозвался Половцев. – Что ж, я расскажу тебе, Юра, свою историю, но ты должен дать мне слово, что об этом разговоре и самой нашей встрече не узнает ни одна живая душа.
– Ты можешь быть в этом уверен.
– Хорошо, тогда слушай мою повесть. Из живущих на этом свете ты будешь третьим человеком, знающим ее, после Благоя и еще одной верной мне души.
И Виктор начал свой рассказ, столь удивительный и страшный, что подчас было сложно поверить, что все это могло произойти на самом деле.
– Как ты помнишь, за ту глупейшую дуэль с Бертольди я был отправлен в Бессарабию. Моим непосредственным командиром там был штабс-капитан Федор Рунич. Там же я познакомился с подполковником Пестелем, который частно наезжал в Кишинев по делам службы из Тульчина и был в большой дружбе с Руничем. В ту пору я был как нельзя более далек от политики и различных умствований. Я любил жизнь и наслаждался ею даже в этом треклятом городишке. Я подружился с двумя офицерами, Тропом и Галактионовым. Вместе мы бывали у цыган, вместе коротали ночи за картами и вином. И, в сущности, изнывали от безделья. С Руничем, напротив, у нас сложились неприязненные отношения. Ему не по нутру было мое веселое удальство, моя беспечность, мои братские без какой-либо натянутости отношения с солдатами. Мне – его надменная заносчивость, замкнутость… Мне казалось, что этот человек, славящийся безупречностью, гнушающийся даже вином, не говоря уже о картах и женщинах, в душе презирает и ненавидит всех. Кроме разве тех немногих, кого признает выше себя. Например, подполковника Пестеля…
Однажды я невольно услышал беседу последнего с Руничем и Тропом. Я слышал немногое, и не все понял, но в главном усомниться не мог: эта троица замышляла что-то против Государя, мечтала о перевороте… Прежде я замечал у Рунича книги Фурье, Вольтера и прочих демагогов, которых я, не читая их, чтил никому не нужной завалью. Теперь я понял, что это не просто глупое увлечение, а дело куда серьезнее. Я знал, что Пестель занимает в штабе 2-й армии далеко не последнее место, и мог предположить, что круг вовлеченных в скверное дело офицеров, куда шире, чем двое кишиневцев. Я очень огорчился за Тропа и решил перво-наперво поговорить с ним, дружески вразумить. В этом была моя главная ошибка! Я верил людям, Юра. Верил в дружбу и честь. Я был наивен, а наивность – порок, который оплачивается весьма дорогой ценой.
Троп, конечно, не вразумился моими словами. Зато испугался до безумия. И донес о нашем разговоре Руничу… Очень скоро в Кишиневе случилось весьма темное дело. Был предательски убит один из наших агентов, а из штаба пропали важные документы, содержание которых стало известно турецкой стороне. Все последующее походило на дурной сон… Однажды ночью меня арестовали. А в доме, где я квартировал, нашли какие-то документы из тех, что были похищены, и странной формы кинжал, которым был убит несчастный агент и которого я никогда дотоле не видел.
– И тебя обвинили в измене и убийстве…
– Меня заковали в цепи и бросили в тюрьму с отпетыми разбойниками. Вскоре я узнал, что не только Рунич, но и Троп, и даже Галактионов свидетельствовали против меня. При этом лишь у Рунича была возможность украсть эти проклятые документы. И только Троп, навещавший меня накануне, мог подбросить мне их вместе с кинжалом…
Ты можешь, друг мой, вполне представить то бешенство, которое овладело мною! Я видел, что участь моя предрешена, что все против меня, что меня ждет позорная и жестокая кара! Единственным моим шансом было найти улики, чтобы изобличить моих обвинителей и предоставить их самому Государю! Но для этого я должен был быть свободен!
– И ты бежал, не зная, что я уже мчался к тебе на выручку…
– Ты не выручил бы меня, Юра. А, пожалуй, что и сам бы оказался под ударом.
– Если бы Великий Князь не уехал в Европу!..
– Но он уехал. И надеяться мне было не на что. Сбежав из тюрьмы, я смог добраться до Одессы и там устроился чернорабочим в порту, чтобы заработать денег на дальнейший путь. Я хотел добраться до дома, а после, связавшись с кем-нибудь из старых боевых друзей, с тобой, в частности, попытаться вывести на чистую воду эту шайку. Но тут меня поджидал еще один удар. После того, как я получил свое первое жалование, какие-то молодчики напали на меня и, обобрав до нитки, продали, пользуясь моим бесчувственным состоянием, на турецкий корабль.
– Продали туркам?! – воскликнул Стратонов, не веря собственным ушам.
– Я очнулся уже на идущем по морю корабле, снова в оковах… Я был хорош собой, силен и вынослив. Такие рабы высоко ценятся на невольничьих рынках. Я готов был предаться отчаянию, но тут судьба неожиданно улыбнулась мне. Меня купил итальянец по фамилии Боргезе. Он тотчас объявил мне, что если я не желаю оставаться с ним, то могу быть свободен. Однако, он бы весьма желал, чтобы я принял обратное решение, так как ему очень нужен помощник в задуманном им предприятии.
Альфонсо Боргезе оказался инженером. Гениальным инженером, который, думается мне, в иных условиях затмил бы даже Бетанкура. Я не встречал более людей, наделенных таким умом и знаниями. Он в совершенстве знал географию, математику, химию и физику… А еще он знал, как обрести баснословное богатство…
Целый год я жил в доме Боргезе, постигая его науки с никогда прежде неведомой мне жадностью. Конечно, до высот моего учителя мне было весьма далеко, и все же я научился очень многому.
Альфонсо выдавал меня за своего племянника и под именем сего последнего я отправился вместе с ним в Америку. Признаюсь, несмотря на все мое преклонение перед моим учителем, я с трудом верил, что его проект обогатит нас. Но Боргезе никогда не ошибался! Я не стану описывать тебе наших странствий по американскому континенту – это отняло бы слишком много времени. Скажу лишь, что два года спустя мы возвращались оттуда богатейшими людьми…
Однако, тут меня подстерегло новое горе. Еще в порту я заметил, что мой любимый учитель чем-то сильно взволнован. Он все время озирался по сторонам, словно ища кого-то. Когда же уже на корабле он увидел человека в одежде протестантского пастора, то сделался бледнее смерти. «Они все-таки нашли меня…» – так прошептал Боргезе и с того дня не выходил из своей каюты, отказываясь при этом объяснять что-либо. Это, однако, не спасло его. Вскоре Альфонсо заболел и объявил, что дни его сочтены, ибо он отравлен.
Тогда-то мой учитель и рассказал мне, чего боялся все эти годы. В молодости, влекомый жаждой тайных знаний, Боргезе вступил в одно из тайных обществ и успел подняться в нем на высокую степень. Однако, его глубокий ум и честная душа сумели распознать злую суть прикрывающихся благими целями радетелей о человечестве. Раскусив их, он не мог долее оставаться с ними и бежал, захватив с собой некоторые разоблачительные документы. Альфонсо сменил имя и затаился в укромном уголке Италии. Он знал, что «ночные братья» не прощают не только предательства, но и просто выхода из их рядов, нарушения их правил и приказов, а потому изо дня в день боялся, что его обнаружат.
Тело Боргезе нашло последний приют на дне океана. Увы, я так и не смог найти его убийцу. Видимо, он успел сойти в одном из портов, где мы останавливались в дни болезни Альфонсо.
Так, злая таинственная сила второй раз вошла в мою жизнь. Но на этот раз я получил первое оружие против нее. Все то, что успел мне рассказать о ней Боргезе перед смертью, и документы, которые остались после него.
Кроме того, я был богат, как Крез. В Англии я открыл счет в банке и, изменив внешность, отправился в Россию под именем графа Неманича. Без малого пять лет я не был дома, не имел вестей о матери, и не мог дать ей вестей о себе… Было и другое…
Я любил женщину, Юра. Любил по-настоящему, любил так, что готов был ради нее пожертвовать дворянской честью, отказаться от друзей и всей моей прежней жизни. Тогда, в Бессарабии, я лишь ждал отпуска, чтобы, наконец, объявить матери о своем решении и затем уволиться из полка. Я готов был навсегда осесть в деревне – лишь бы быть с этой женщиной! Можешь ли ты понять меня?
– Она была низкого происхождения? – догадался Стратонов.
– Она была крепостной, и поэтому я таил ее ото всех. Я не встречал в своей жизни создания более нежного, чистого, неземного… Она была похожа на хрупкий первоцвет, прекрасный и беззащитный, до которого боишься дотронуться. Уезжая в Бессарабию, я поклялся ей, что мы положим конец нашей лжи и греху и обвенчаемся. Хотя она и не смела просить о том, не желая вредить моему будущему. Моя мать ни о чем не догадывалась. Она любила мою Машу, а Маша ее. Маша знала грамоту и читала матери вслух. Книги и мои письма…
Все годы, проведенные вдали от дома, я мечтал, что снова увижу ее. Иногда это желание становилось почти наваждением, бредом… Мысль о том, что где-то живет и ждет меня Маша, это чистое создание, этот ангел, сошедший на нашу грешную землю, смягчала мое сердце, не позволяла мне ожесточиться. Если бы я знал, что ждет меня! – Виктор провел дрожащей рукой по побелевшему лицу и, переведя дух, продолжил.
– Когда моя несчастная мать узнала о моей участи, то тотчас слегла. Пользуясь ее болезнью, наш сосед князь Борецкий решил осуществить свою давнюю подлую затею – отнять у матери наше имение в счет долга, который якобы остался неоплаченным моим покойным отцом. Старший сын князя, Владимир, служил в ту пору в столице, подвизаясь по судебной части. Этот достойный своего отца мерзавец состряпал подложный документ, по которому наше имение отошло Борецким. Этого последнего удара моя мать не выдержала и скончалась.
В ту пору у Борецкого гостил его младший сын Михаил, получивший отпуск из полка. Его я знал довольно хорошо, как человека жестокого и глубоко развращенного. Об оргиях, которые он устраивал в своем имении, ходило немало слухов. Впрочем, и в обществе он пользовался недоброй славой, как погубитель многих порядочных девиц. Маша как-то жаловалась мне, что Михаил очень пугает ее. Имения наши были рядом, и ей не раз приходилось встречаться с ним, и, конечно, он не мог не обратить своего жадного взгляда на такое кроткое и прекрасное существо, как она.
И, вот, теперь моя Маша сделалась его собственностью! На другой день после похорон матери он, будучи пьян, явился в наш дом со своими лакеями, столь же отпетыми, как и он сам. Маша пыталась укрыться, убежать от них, но они настигли ее и силой привели к своему хозяину. Никто не посмел защитить ее от нового барина, и он увез ее с собой, как увозят захваченных в плен рабынь варвары…
Ее не видели после того проклятого дня целый месяц, и можно лишь догадываться, каким адом он стал для нее. Затем она неожиданно появилась в деревне, не похожая на себя, безумная, страшная… Бабы рассмотрели вскоре, что она тяжела… Ей пытались помочь, но Маша никому не позволяла приблизиться к себе, убегая в лес, на болота. Там мы часто гуляли с ней, и она, уже лишенная рассудка, инстинктивно бежала туда.
Бабы оставляли для нее разную снедь и уходили, чтобы она могла взять ее. Но однажды оставленная пища осталась нетронутой. С того дня никто больше не видел Машу и ничего не знал о ее страшной участи… – голос Половцева дрогнул, он быстро наполнил бокал вином и залпом осушил его, стараясь взять себя в руки.
Стратонов потрясенно молчал, насилу веря, чтобы офицер, князь, мог опуститься до столь гнусного злодеяния.
– Этого выродка мало повесить… – наконец, вымолвил он.
– Да, мой друг, этого слишком мало для всех них! – с жаром ответил Виктор. – Поэтому я буду затягивать петлю на их шеях медленно, так, чтобы они успели в совершенстве узнать, что такое земной ад.
– Что же было дальше?
– Дальше я вновь отправился в Европу. Я уезжал из России, будучи тяжко болен и едва ли не при смерти. Меня спасла женщина, которая с той поры стала моим верным другом и спутницей в моих странствиях. У нас с ней оказалось много общего. Мы оба умерли для мира и оба были связаны своими обетами. С той только разницей, что я был связан обетом ненависти, а она – обетом любви.
В Европе я принялся с жаром изучать все то, чему не успел научить меня Альфонсо. Мое богатство открывало мне любые двери, и я мог получить доступ к самым редким архивам. В Германии, в частности, я смог ознакомиться с недавно обнаруженной Кельнской хартией 1535 года – самым ранним из известных масонских документов. За три года мне удалось собрать весьма изрядное количество сведений, в том числе изустных – от раскаявшихся вольных каменщиков и не слишком заботящихся о тайне исповеди католических священников.
Мне удалось установить, что сила, прикрывающаяся велеречивыми словами о любви к человечеству, на деле является непримиримым врагом христианства, монархической власти, семейных ценностей и всякой частной собственности, кроме своего личного имущества. Своих целей эти люди достигают, главным образом, дьявольской ложью. Они так искусны в ней, что даже самые благие стремления и чувства, самые благородные порывы, самые высокие и правильные идеи используются ими так, что незаметно для попавшихся на крючок профанов ведут к целям совсем противоположным. Свобода оборачивается жуткой деспотией, равенство – жестокой диктатурой узкой группы людей, братство – взаимной ненавистью и братоубийством.
В России они использовали искреннее возмущение многих честных людей произволом судебной системы и тяжким положением крестьян. Но это еще ничто. Самое чудовищное состоит в том, что сила, враждебная любому здравому национальному началу, любой порядочной государственности и патриотизму, сыграла у нас именно на национальном чувстве русского человека, на его русском патриотизме. Благое желание избавиться от унизительного подражания всему иностранному, от чрезмерного засилья иностранцев на русской службе, стремление к изучению и возрождению своего языка, истории и традиций использовались с целью разрушения русского государства и предания русского народа во власть самых чуждых и враждебных ему сил.
Как им удалось это, спрашивается? А весьма просто! Национальное чувство прекрасно, когда оно соединено с христианским сознанием и подлинной просвещенностью. Вычлени из русского чувства православную веру, подмени действительное знание своей истории и культуры набором умело подобранных отдельных сведений с приданием им нужного идеологического уклона, и на месте русского патриота явится страшная карикатура на него. Явится якобинец с русифицированной фразиологией (Земский Собор вместо Конвента, Русская Правда вместо Конституции и т.п.), видящий русскую историю лишь под одним идеологическим углом, а, значит, ровным счетом ничего в ней не понимающий. Ведь чего стоит эта идея противопоставления Новгородской республики всему русскому государству и желание саму столицу перенести в Новгород… Распропагандированный невежа, почитающий себя истинным патриотом – такой материал незаменим для ночных братьев! Они должны были лишить русский народ основы его национального сознания – православной веры, считая, что возрождают русское национальное государство.
Любая идея требует просвещенного ума и христианской души, чтобы не быть использованной во зло. Подлинным русским чувством облает у нас, например, Карамзин. А этим несчастным, вышедшим вчера на Сенатскую, досталась вместо оного умелая подделка, которая и отравила, и погубила их.
Однако, я немного отвлекся… – Виктор помолчал, собираясь с мыслями. – Из Европы я вновь отправился в Америку и там свел дружбу с представителями Русско-Американской компании. Мне, вооруженному моими знаниями, нетрудно было войти к ним в доверие и сойти за своего. Рылеев, я знаю, наводил обо мне справки и получил самый благоприятный ответ…
Заручившись рекомендацией компании, я вернулся в Россию, и под именем поляка Кавалеровича занялся изучением наших заговорщиков изнутри. Сказать по чести, не самое приятное занятие. Разумеется, шпионя за вождями, я не чувствовал ни малейших угрызений совести. Но мальчишки-офицеры вроде твоего брата вызывали у меня самую жгучую жалость. Когда я увидел Костю среди этой публики, я пришел в ужас. Я не мог допустить, чтобы брат моего лучшего друга покрыл свое имя позором и погубил себя. Поэтому мне пришлось прибегнуть к некоторому насилию по отношению к нему.
– За что я тебе безмерно благодарен! – с чувством воскликнул Стратонов, крепко обнимая друга. – Но что же ты собираешься делать теперь?
– Раздавать долги, Юра. Ты же знаешь теперь, что у меня довольно много кредиторов…
– Я понимаю, – негромко отозвался Юрий. – И… поступил бы на твоем месте также. Ты можешь всегда на меня рассчитывать.
– Как и ты на меня, – чуть улыбнулся Половцев.
– Как я смогу найти тебя, если потребуется?
– Ты можешь писать на этот адрес, – Виктор быстро написал его на бумаге. – Письма помечай литерой «К». Мне передадут.
За окном уже задымалась тусклая северная заря.
– Мне пора идти, – сказал Стратонов. – Этим утром Костя должен отбыть на Кавказ, я мне надлежит сопроводить Катрин в ее имение. Надеюсь, мы встретимся еще!
– Непременно встретимся, – уверенно ответил Виктор. – Главное береги себя, друг мой! Кавказ – место серьезное.
– Откуда ты..?
Половцев только улыбнулся и, обняв Юрия на прощание, проводил его до дверей.
– Береги и ты себя, – сказал тот напоследок и стал осторожно спускаться по темной лестнице.
– Постой, я посвечу тебе! – Половцев взял свечу и пошел вперед.
Еще раз простившись со Стратоновым уже на улице, Виктор быстро вернулся к себе, позвал громко:
– Благоя!
Серб тотчас появился из темноты.
– Что, – спросил Половцев, – тот человек уже покинул мадам Стратонову?
Благоя кивнул.
– И направляется туда, куда мы предвидели?
Снова последовал утвердительный кивок.
– Отлично! В таком случае, нам нужно поторапливаться, чтобы опередить его и встретить, как полагается!
Глава 14.
Той проклятой ночью он подвергался угрозе ареста по меньшей мере трижды. Пришлось долго лавировать между расставленными постами, которые инспектировал лично Великий Князь Михаил, пробираться по темным закоулкам. До того промерз Федор, что думал или горячку схватит, или ноги отмерзшие пропадут. А пуще всего жгла мысль: чья же эта рука неведомая ударила и помешала тому, к чему столько времени готовился, для чего, может, и жил?.. Найти бы негодяя и душу вытрясти! Да что толку теперь? Единственный раз такой случай дается, и, вот, упущен он! Да им ли одним? Дурья голова Панов перед деспотом стоял и не шевельнулся… А этот форменный мизерабль Каховский? Убить двух офицеров и упустить Царя… Не говоря уж о сукином сыне Якубовиче, из которого сабельный удар неведомого джигита сделал сущего идиота. Фанфароны… Ничтожества… Все дело запороли! Когда бы Павел Иваныч здесь был…
В таких горестных и гневных размышлениях все-таки добрался Федор до тихой гавани, в которой гостил уже долгое время, будучи рекомендован хозяйке одним из «братьев». Хозяйка оказалась соломенной вдовой, жившей порознь со своим мужем – измайловским полковником Стратоновым. И хотя Федор никогда не был охоч до женского пола, но эта знойная красавица, жадная до любовных утех, не оставила его равнодушным. Да и он был немедленно отличен ею – это Рунич понял по тем взглядам, что она обращала на него с первого дня их знакомства.
Поначалу Федор отмел возможность любовной интрижки, считая, что предаваться таковым, когда все мысли, чувства и силы должны быть отданы делу, не должно. Но затем… В сущности, если чувства и мысли остаются ясны, то что дурного в подобной связи? Она лишь бодрит, освежает силы! Хоть и погружен был Рунич в дело, хоть и прожил всю жизнь честным бирюком, но все же оставался он мужчиной во цвете лет, и плотское желание настойчиво заявляло о своем праве на удовлетворение.
Катя оказалась любовницей, о которой только можно было мечтать. Она не задавала вопросов и не требовала большего внимания, чем Федор мог ей дать. Вполне возможно, что вниманием не была она обделена и без него. В ее салоне каждый вечер собирались офицеры и штатские, мало кто из которых мог устоять перед чарами хозяйки. Но Рунича это нисколько не волновало, ведь никаких чувств к Кате он не питал.
Тем удивительнее было, когда она, увидев его той ночью, с рыданиями упала ему на грудь, причитая, что уже не думала увидеть его в живых. Руничу было совсем не до бабских истерик. Подойдя к дому, он не стал стразу стучать в дверь, а сперва огляделся и с огорчением обнаружил, что Катя не одна. В окне гостиной он разглядел двух мужчин и узнал в них предателя корнета Стратонова и его брата, загубившего мятеж в Измайловском. Шепча проклятия по их адресу, Федор поскребся в дверь черного хода, и был тайком проведен горничной в покои госпожи…
И тут последовала эта нежданная сцена! И подумать Рунич не мог, что Катя может питать к нему (как и к кому-либо еще) нечто похожее на чувство. Насилу освободился из ее объятий, стараясь сохранять вежливый тон:
– Дорогая моя, не сейчас, прошу! Я промерз, как пес, и меня могут арестовать в любую минуту.
– Значит, ты пришел проститься, рискуя собой?
Рунич мысленно обругал любовницу дурой. Он пришел, потому что его вещи остались в ее доме. И потому, что некуда больше было идти, чтобы переодеться и скрыться под чужим именем.
– Я же не мог исчезнуть просто так, – сдержанно ответил он, с трудом стягивая сапоги. – Вели своей девке принести мне горячей воды. И скажи, чтоб никому не смела говорить, что я здесь. Ты понимаешь, это ставит под угрозу и тебя.
– Мне все равно! – воскликнула Катя. – Мой муж передал мне только что приказ тирана: я должна покинуть столицу через сутки! Эти варвары хотят заточить меня в деревню, вообрази!
Федор подумал, что на месте ее мужа давно бы заточил ее туда, а, пожалуй, и убил бы, но изобразил сочувствие:
– Это ужасно, моя дорогая! Что ж, наступают дни, когда лучшие люди должны будут страдать за правду.
– Но я вовсе не желаю страдать! Тем более за какую-то там правду! Послушай, Теодор, – она опустилась рядом с ним на колени, – возьми меня с собой! Пусть мне придется покинуть мой дом, но лучше я сделаю это с тобой, чем с этим варваром, моим мужем!
«Тебя-то мне и не хватало», – зло подумал Рунич, обругав себя за то, что позволил себе слабину и связался с этой беспутной бабой.
– Нет, Катя, это невозможно, – жестко ответил он. – Я не знаю, куда занесет меня судьба, что со мной будет. Брать тебя с собой – значит, подвергнуть риску и тебя, и себя самого. Потому что одному всегда проще уходить от погони. Если все обернется благополучно, то я вызволю тебя из твоего деревенского заточения. Но пока мы оба должны покориться судьбе.
Глаза «Мессалины» наполнились слезами, но она тотчас справилась с собой:
– Но сегодня, мон ами, ты ведь не покинешь меня? Ты останешься со мною в эту последнюю ночь?
Эта бесстыжая кокотка набралась выражений и пошлейших театральных эффектов из дурацких переводных романов и не менее дурацких пьес, в которых актрисы вечно закатывали глаза и разговаривали таким тоном, что любая трагедия казалась смешною.
– Конечно же, моя дорогая! Но сперва распорядись, чтобы подали горячую воду, водки и что-нибудь поесть.
Лишь после этого обещания все требуемое явилось, и Федор смог, наконец, согреться и удовлетворить мучавший его голод…
Странная это была ночь. Ее муж спал в гостиной, укрывшись шинелью. Там же спал и его брат. А Федор Рунич почивал в постели жены, в ее жарких объятиях. В сущности, если разобраться, мерзость. Федор всегда отличался некоторым пуританством во взглядах и теперь был весьма зол и на себя, и на свою нечаянную любовницу.
На другой вечер, сбрив усы и одевшись в штатское платье, Рунич, наконец, покинул ее. Он хотел уехать еще утром, но счел, что в доме мадам Стратоновой, высылка которой из столицы уже была поручена ее мужу, можно не опасаться обыска, а, значит, лучшего укрытия не найти. К тому же передвигаться в ночное время было безопаснее…
Маршрут отступления был тщательно продуман и подготовлен Федором заранее. Подорожная на чужое имя позволила ему беспрепятственно добраться до Белоруссии. Здесь он остановился в доме одного из братьев, расположенном в глуши и оттого сразу определенном под возможное убежище. Только здесь узнал Рунич громоподобную новость об аресте Павла Ивановича. Оказывается, его взяли еще накануне восстания! И все Южное общество разгромлено, как и Северное…
Не удалась и авантюра взбунтовавших Черниговский полк братьев Муравьевых по захвату Белой церкви и распространению мятежа на южные области империи. Этим смелым предприятием Муравьев и Бестужев-Рюмин, несмотря на отвержение его Пестелем, пытались увлечь Грибоедова, когда тот следовал на Кавказ. Зная его близость к Ермолову, они желали, чтобы дипломат-поэт выяснил позицию генерала – останется ли он верен Царю или перейдет на сторону революции со своим Кавказским корпусом? Рунич присутствовал на том памятном киевском совещании и по лицу Александра Сергеевича наперед угадал, что вольнодумец в сочинениях никогда не позволит себе вольнодумства в делах государственных. Его проницательный взгляд, казалось, видел насквозь каждого присутствующего, и во взгляде этом читалось… сожаление. Так обычно люди, полагающие себя мудрецами, смотрят на людей, умом обделенных. Уже один этот взгляд был оскорбителен. А чего стоило это уничижительное удивление:
– Что же это, господа, сорок прапорщиков хотят изменить Россию? Тысячелетнее государство со сложившимся укладом жизни? А не много ли вы берете на себя? Конечно, преобразования необходимы. Но осуществлять их должно последовательно и со знанием дела. А не кавалерийским наскоком. Так можно разрушать жизнь, но не устроять ее.
– Так надо же с чего-то начинать! – возразил тогда Рунич.
Быстрый взгляд проницательных глаз из-под очков, удивленный взлет бровей… Грибоедов несколько мгновений молчал, и продолговатое лицо его оставалось непроницаемым. Наконец, спокойно и твердо он ответил:
– Я всей душой стою за преобразования, но разрушения не поддержу никогда.
С тем и уехал Александр Сергеевич, глубоко разочаровав восторгавшихся его комедией членов общества и дав им слово чести, что эта беседа останется между ними.
Теперь терзали Федора подозрения: а не выдал ли этот дипломат-сочинитель вверенную его чести тайну?
Впрочем, теперь это было уже неважно. Дело было проиграно окончательно, и теперь оставалось лишь одно: бежать как можно быстрее. Сперва в Польшу, а там и еще подальше, туда, где не доберутся…
К польской границе Рунич отправился ночью. Он знал надежный путь, на котором не стояло кордонов, и рассчитывал, что уже утром будет в царстве Польском. Дорога шла через лес, но ночной мрак не смущал ни всадника, ни мчавшегося галопом коня, также хорошо знавшего все здешние тропы.
Федор проделал около половины пути, когда конь внезапно остановился и поднялся на дыбы. Дорога оказалась перегорожена упавшим деревом.
– Что за дьявол! – выругался Рунич, вглядываясь в темноту в поисках объезда.
В этот момент что-то хрустнуло совсем рядом, и Федор разглядел выступившего из леса человека. Человек держал в руке наведенный на него пистолет.
– Слезайте с коня, сударь, – последовала вежливая просьба.
– Какого черта? И не подумаю!
– В таком случае в следующую секунду вы будете лежать на этой дороге с пулей в голове.
Рунич хотел было быстро развернуть коня и пуститься назад, но заметил, что позади него стоит еще один разбойник с ружьем…
– Кто вы такие? – нервно спросил Федор. – Разбойники? Моего кошелька вам будет довольно?
– Слезайте с коня, сударь, – повторил первый разбойник, приближаясь. – Третьего предупреждения не будет.
При этих словах стоявший позади злодей выхватил из-за пояса кнут и с силой стегнул коня. Тот заржал и, вновь поднявшись на дыбы, сбросил Рунича на землю. Еще один удар, и конь умчался прочь, а Федор остался один между двумя разбойниками. Свист кнута сразу напомнил ему Сенатскую площадь и, вглядевшись в стоящего перед ним душегуба, он спросил:
– Кто ты?
Разбойник резким движением плеча сбросил распахнутую шинель, и Рунич заметил, что пистолет он держит в левой руке…
– Кавалерович… – прошептал он, поднимаясь. – Проклятый изменник…
– Нет, господин подполковник, вы обознались, – поляк сделал еще шаг к Федору, и тот разглядел, что лицом он лишь отчасти похож на Кавалеровича. И одновременно на кого-то еще, кого-то, кого память мучительно пыталась вспомнить.
– Что, сударь, неужто вы не помните меня? Неужто вы забыли молодого офицера, чью жизнь вы уничтожили единственно из страха, что он узнал толику ваших проклятых секретов?
Рунич вздрогнул и отступил на шаг:
– Я помню тебя, – процедил он сквозь зубы. – Как же я не узнал тебя сразу! Ведь что-то почудилось еще в первый вечер… Что-то знакомое… Но после стольких лет все считали тебя мертвым!
– Как видишь, мертвецы иногда воскресают и до Страшного Суда.
– Так это все ты… – голос Федора охрип от бешенства. – Ты предал всех нас!
– Да, я, – кивнул Половцев. – Все это время я следил за тобой, я знал каждый твой шаг. А ты даже не заметил этого. Помнишь, я сказал твоему патрону, что лучшая полиция – это собственные глаза и уши? Как видишь, моя полиция оказалась куда расторопнее, чем та, о которой вы грезили.
– Чего ты хочешь теперь? – зло спросил Рунич. – Убить меня, не так ли?!
– Я мог убить тебя десятки раз. В том числе сейчас. Но я дал слово одному уважаемому мною лицу, что не совершу преступления. Поэтому я предлагаю вам, бывший подполковник Рунич, честный поединок.
– На пистолетах? – прищурился Федор, бывший отменным стрелком.
– Нет, ибо мы оба не даем промаха.
– Сабли? – Рунич усмехнулся. – Может, вы рассчитываете, что я дам вам фору и буду драться одной рукой в уважении к искалеченной вашей?
– У меня нет причин подозревать вас в благородстве. Но можете быть спокойны, мне с избытком достанет и одной руки, чтобы проткнуть вам горло, – с этими словами Половцев отбросил в снег пистолет и, выхватил саблю, скомандовал: – Защищайтесь!
Выбора у Рунича не было. Впрочем, сабельный поединок так же мало страшил его, как и дуэль на пистолетах – Федор был одним из лучших фехтовальщиков в полку. Правда, практики в последние годы недоставало…
Клинки скрестились. Глаза обоих поединщиков давно привыкли к темноте, и она нисколько не мешала им.
– А что, поручик Половцев, если фортуна окажется на моей стороне, то ваш подручный пристрелит меня? – спросил Рунич, с ожесточением нападая на противника.
– У него нет приказа на этот случай, – отозвался Половцев. – Потому что фортуна уже давно отвернулась от вас, – и словно в подтверждение своих слов рассек правую руку Федора чуть ниже плеча. – Вот теперь, сударь, вам поневоле придется научиться хорошим манерам!
– Я убью тебя! – зарычал взбешенный Рунич и, перехватив саблю левой рукой, вновь бросился на противника и сбил его с ног.
Однако, тот увернулся, и занесенная сабля Федора пронзила лишь снег. Между тем, Половцев уже вскочил на ноги и ожидал следующего шага истекающего кровью Рунича.
Федор чувствовал, что рана лишает его сил, и тем яростнее атаковал ненавистного врага, но тот, ловкий, точно сам дьявол, оставался неуязвим. В какой-то момент Рунич прижал его к поваленному дереву, но Половцев отбросил его ударом ноги, а сам перекувырнулся на другую сторону барьера. Федор последовал за ним.
– А теперь, господин бывший подполковник, нам пора заканчивать, – сказал Половцев. – И вы должны быть мне весьма благодарны за такой финал, потому что в противном случае вы закончили бы вашу жизнь в петле, как это суждено вашему другу Пестелю, – с этими словами он быстрым разворотом оказался на расстоянии вытянутой руки от Рунича и во мгновение ока вонзил клинок ему в горло.
Федор захрипел и, в последний раз с убийственной ненавистью взглянув на врага, повалился на снег.
Половцев быстро обшарил карманы умирающего и, забрав найденные в них бумаги, крикнул:
– Благоя! Веди наших лошадей!
Это было последнее, что суждено было услышать на этом свете подполковнику Федору Руничу…
Глава 15.
Известие о восстании грянуло для Саши Апраксина, как гром среди ясного неба. Хотя сам он не был членом Общества, но хорошо знал многих «государственных преступников», часто встречаясь с ними в салоне сестры, разделяя их вольные, прекрасные мысли. В сущности, душой он был в их рядах и не участвовал в деле лишь потому, что Рылеев с Бестужевым не приняли его в общество, за что Саша был в большой на них обиде. Они, видите ли, усомнились в его благонадежности из-за его беспутной в их понимании жизни. Члены Общества должны были иметь достойный моральный облик! По этой причине, по слухам, сам Пушкин был Обществом отвергнут, несмотря на дружбу свою с Пущиным.
Моральный облик… Хорош, можно подумать, был он у Кондратия! Ему можно было ходить от жены к любовнице. И даже не к одной… А остальные – будьте любезны, блюдите нравственность. Жестоко обижен был Саша рылеевским надменным отвержением, и после того уже не пытался приближаться к Обществу, за глаза поругивая и высмеивая «якобинствующих демагогов».
Но, вот, грянул мятеж, и все в душе Саши перевернулось. Как! Те, кого честил он демагогами, вышли погибать за свободу, а он остался в стороне! Первым порывом взволновавшейся до предела души было мчаться в Петербург и объявить себя соучастником заговора, обличить тиранию. Но Ольга воспрепятствовала этому самым возмутительным образом, заявив, что ни она, ни Люба никогда не простят ему подобной выходки. Целый день они не спускали с него глаз: Люба – в гостиной, Ольга – везде. Она ходила за ним, как тень, с холодной убежденностью доказывая бессмысленность его затеи.
Саша никогда не мог сопротивляться такому давлению и от поездки отказался. Вместо этого он с горя заперся в своем кабинете и в одиночку покончил со штофом рябиновой наливки. От вина душа его вновь исполнилась жаждой подвига, и он написал письмо на имя Государя, в котором решительно заклеймил тирана, всецело поддержав «благороднейших людей», не пожалевших крови своей ради счастья народа. Письмо было написано в самых жестких тонах и, перечтя его, Саша прослезился от гордости за собственную отвагу и мысленно примерил мученический венец на свою голову. Пусть все знают, что он был одним из них! Что и он не пожалел жизни своей для свободы!
Письмо было запечатано и передано слуге для отправления в Петербург…
Ночью Саше приснилось, будто его возвели на эшафот и надели петлю на шею. Он проснулся в холодном поту, и первые мгновения ему еще чудилась барабанная дробь в ушах. Вспомнив, что накануне отослал в столицу письмо с чудовищными выражениями по адресу Государя, Саша пришел в страшное смятение. Ему представилось, что вот-вот за ним приедут жандармы, заточат его в каменный мешок Шлиссельбурга, закуют в кандалы, а потом… потом… Ощущение петли на шее из ночного кошмара живо воскресло в памяти, и Саше стало тяжело дышать. Страх его был так силен, что ему сделалось дурно.
Впрочем, страх этот оказался напрасен. Через каких-то полчаса выяснилось, что доглядчивая Ольга вытребовала у слуги врученное ему письмо и, не читая, тотчас сожгла в печи. Но этих получаса хватило, чтобы Саша слег с припадком нервной болезни и провел в постели несколько дней. На смену страху пришла глубокая тоска и самобичевание. Ему было стыдно за свою трусость и слабость, за глупейший порыв, досадно, что Ольга следила за ним, как за полуумным, распоряжаясь его письмами. Конечно, тем самым она спасла его от беды, но досадным было само отношение это, и, всего более, что он сам вызвал это отношение своим недостойным взрослого мужчины поведением.
Во все дни болезни Саши Ольга была особенно ласкова и предупредительна с ним, и это с одной стороны согревало, а с другой усугубляло чувство стыда, ощущение собственной никчемности, ничтожества. И зачем только такой мудрой и прекрасной девушке, как Ольга, растрачивать себя на него… Не в первый раз являлась ему мысль, что после всех ее жертв для него он должен попросить ее руки, но на это недоставало решимости. Как смел он просить ее руки? Со своей беспутной жизнью и больной душой, со своими долгами и неудельностью… Только губить жизнь этого чудесного существа! И тем добавлять к своим подлостям новую. Если бы даже она согласилась, то очень быстро измучилась с ним, и совместная жизнь обратилась бы страшной каторгой для обоих.
Но не смея просить руки, Саша страшился, что их теперешние странные отношения, в сущности, уже компрометирующие Ольгу в глазах света, не могут оставаться в этой точке. Они должны или развиваться, или прерваться вовсе. Последнее было бы истинной трагедией, ибо вновь обрекло бы Сашу на полное одиночество, которое было для него столь мучительным.
Несмотря на то, что безумное письмо сгорело в камине, страх еще долго гнездился в источенной сумбуром горьких чувств душе. Каждый раз, заслышав шум проезжающего экипажа, Саша внутренне вздрагивал, боясь, что это тот самый экипаж, и что сейчас он остановится у ворот и… Но экипажи благополучно проезжали мимо, и Саша облегченно переводил дух.
Но однажды крытые сани, запряженные четверкой лошадей, все-таки остановились у ворот апраксинской усадьбы. Саша с опаской выглянул в окно и вздрогнул, когда из экипажа выпрыгнул офицер. Тревога, однако, оказалась ложной. Уже в следующее мгновение Саша узнал в офицере своего зятя полковника Стратонова и опрометью понесся навстречу гостю.
– Юрий Александрович, как я рад тебе! – воскликнул он, обнимая родственника.
Стратонов сдержанно ответил на приветствие и, отворив дверцу экипажа, помог выйти из него жене.
– Как, Катенька, и ты здесь? – удивился Саша. – Ах, как чудесно! Я так счастлив видеть тебя!
Сестра явно не испытывала никакой радости по поводу встречи.
– Здравствуй, Александр, – обдала холодом, быстро освобождаясь из братских объятий и не удостаивая ответного целования.
Саша подумал, что Катя стала окончательно похожа на злую колдунью, которую даже идеальная, застывшая красота не делает привлекательной. Отвернувшись от сестры, он обратился к зятю:
– Какими судьбами? Не чаял столь дорогих гостей!
– Твоей сестре рекомендовали сменить климат, – отозвался Стратонов.
– Климат?
– Да, воздух петербургских салонов иногда бывает вреден.
– Юрий Александрович пытается сказать тебе, что меня выслали из столицы по приказанию Царя! – зло пояснила Катя.
– Ах! – всплеснул руками Саша. – Это из-за… событий? Боже, как это ужасно! Я очень сочувствую тебе, Катя! Ты ведь совсем не привыкла к деревенской жизни…
Сестра не ответила, а лишь закусила губу.
Не зная, что сказать еще, Саша поспешил проводить гостей в дом, пытаясь сообразить, где же разместить их, учитывая, что все комнаты уже заняты семьей Ольги. Юрий словно прочел его мысли:
– Я с твоего позволения помещусь во флигеле.
Саша покраснел:
– Мне даже неловко предложить тебе его. Это скорее сарай, а не флигель! Там все так запущено…
– Я полагаю, там найдется печь и какой-нибудь топчан или лавка?
– Помилуй, Юрий Александрович, там есть и софа, и стол, и…
– Это уже больше, чем нужно солдату.
Саша очень обрадовался такому решению зятя и тотчас решил, что сестре он уступит свою спальню, а сам переберется в кабинет.
– Однако же, что там в столице? – набросился он на новоприбывших с расспросами, будучи не в силах утерпеть. – Мы в этой глуши совсем ничего не знаем!
– Ничего особенного, – отозвался Стратонов, снимая шинель. – Мятеж подавлен, зачинщики арестованы. Солдат Государь помиловал, как введенных в заблуждение и в измене не повинных. Теперь все благополучно.
Катя бросила на мужа полный ненависти взгляд, но промолчала. Саша чувствовал, что оба они не настроены на разговор, но все же настоял:
– Пообещай мне, Юрий Александрович, что за обедом непременно расскажешь нам все подробно! Я думаю, что Ольге Фердинандовне, ее матушке и сестре также будет весьма интересно услышать твой рассказ. Прошу тебя, будь снисходителен к невольным провинциалам.
– Хорошо, – со вздохом согласился Стратонов. – Хотя рассказчик из меня никудышный, но, будучи гостем в этом доме, полагаю должным служить, чем могу, в ответ на твое гостеприимство. А сейчас прикажи кому-нибудь из слуг проводить меня в мои апартаменты. Да и Екатерине Афанасьевне нужно умыться и отдохнуть с дороги.
Юрий сдержал слово и за обедом рассказал, а, лучше сказать, отрапортовал с военной четкостью и краткостью о событиях, произошедших в столице. Анну Гавриловну столь сильно взволновали они, что ей сделалось дурно, и лишь нюхательные соли вернули ее к жизни. Между тем, сам Саша уже не столь внимательно слушал рассказ, будучи озабочен совсем иным предметом.
Приезд сестры грозил разрушить ту худо-бедно устроившуюся, тихую жизнь, которую доселе вел он в Клюквинке. Хозяйственные заботы еще не успели наскучить ему, а Ольга оказалась в них незаменимой помощницей. Она увлеченно создавала уют в его заброшенном доме, который преобразился благодаря ее стараниям. А что если Катя решит наводить здесь свои порядки? Это вполне могло статься, учитывая властный и жесткий характер сестры. Зная себя, Саша прекрасно понимал, что не сможет противостоять ей, ее напору и деспотизму… И тогда она разрушит его хрупкий мир, в реальность и возможность которого он еще сам толком не успел поверить. Именно об этом со страхом думал Саша, почти не слушая зятя и едва притрагиваясь к еде.
После обеда он наведался к Стратонову во флигель, надеясь найти помощь у него.
– Я хотел спросить тебя, Юрий Александрович, – чуть запинаясь, начал он. – Долго ли ты предполагаешь прогостить в Клюквинке?
– Не беспокойся, надолго не стесню. Денек-другой и отправлюсь в путь. На Кавказ.
– Как, разве Государь прогневан и на тебя?
– Отнюдь. Это было мое желание.
– Как жаль… – огорчился Саша. – Я надеялся, что ты задержишься…
– Полно! Не думаю, что отсутствие моего общества для тебя потеря, – рассмеялся Юрий.
– Ты не понимаешь, – Саша опустился на подоконник и покачал головой. – Ты же знаешь Катю… Ты уедешь, она останется. И что здесь будет? Бедлам и только!
– Вот оно что, – Юрий вздохнул. – Ты боишься ее, что ли? Что ж, твоя сестра – дама с характером, не спорю. Я так понимаю, наш приезд помешал вам с Ольгой Фердинандовной?
Саша покраснел:
– О чем ты… Ольга Фердинандовна просто гостит у меня…
– Ну и напрасно, – сказал Стратонов, располагаясь на софе.
– Что напрасно? – не понял Саша.
– Напрасно ты так долго оставляешь ее в положении просто гостьи. Я, конечно, не большой знаток людей и не люблю давать советы в области… личной жизни, но послушай, что я тебе скажу. Ты опасаешься, что твоя сестра станет заводить здесь свои порядки, не считаясь с тобой, верно?
– Я понимаю, это стыдно… Но я никогда не мог противостоять ей!
– Значит, нужен человек, который сможет ей противостоять.
– Что ты имеешь ввиду?
– Я имею ввиду, что дому нужна хозяйка. Другая хозяйка. Гостья не вправе распоряжаться, а хозяйка – обязана. Ольга Фердинандовна обладает, как мне кажется, ничуть не менее твердым характером, чем Катрин. С той только разницей, что она в отличие от нее имеет сердце. И будь хозяйкой этого дома она, ты мог бы забыть свои опасения.
Саша взволнованно заходил по комнате, ломая свои тонкие, длинные пальцы:
– Ты сейчас сам не знаешь, как мои чувства и мысли угадал… Но я никак не могу решиться! Я боюсь испортить ей жизнь, понимаешь ли? А счастье ведь я не смогу ей дать. Уж так подло я устроен, что ни сам не могу быть счастлив, ни другим это счастье подарить.
– Мне кажется, это должно решать Ольге Фердинандовне, – заметил Юрий. – Она не дитя. И она, пожалуй, любит тебя, если поехала с тобой в эту глушь, лишив себя общества и возможности составить выгодную партию.
– Я и сам так думаю, – согласился Саша, все более волнуясь. – Но, ей-Богу, язык прилипает к гортани! Боюсь говорить с нею об этом! Вот, если бы ты…
– Что? Объяснился вместо тебя? – усмехнулся Стратонов.
– Нет, просто поговорил с ней, осторожно разузнал ее мысли, чувства…
– Помилуй Бог! Прости великодушно, но такая разведка не по моей части! Ты знаешь, я дипломатии и галантерейного обращения не знаю, в светский беседах – образцовый сапог. Куда мне с барышней о таких предметах разговаривать! Нет уж, Александр Афанасьевич, уволь!
– Но я прошу тебя! – взмолился Саша. – Тут же вся судьба моя решается! И к тому Ольга Фердинандовна – душа прямая, чистая. Вы с ней непременно найдете общий язык! Мне бы лишь наверное знать, что она примет предложение мое. Ведь отказ – это значит конец всему! И лучше и вовсе не пытаться…
– Послушай, я ведь уезжаю со дня на день. Мне и знакомство свести порядком некогда с мадемуазель Реден.
– Послезавтра день рождения нашей соседки Дарьи Алексеевны Мурановой. Мы с Ольгой Фердинандовной приглашены, и я хотел бы, чтобы и ты поехал.
– Помилуй Бог, да ведь меня не приглашали!
– Это ничего! Тебе там будут очень рады! Это совершенно удивительный дом, поверь мне! – оживился Саша. – Отец Дарьи Алексеевны погиб при Малоярославце. Мать умерла еще раньше. Дарья Алексеевна осталась круглой сиротой, да еще с малюткой-сестрой на руках. Они вдвоем, да еще со старухой нянькой, пережили нашествие французов, разруху. А после Муранова так и не вышла замуж, сама стала вести хозяйство и растить сестру. Правда, такая жизнь, оказалась слишком тяжела для нее. Ее легкие теперь совсем плохи… О, это удивительная женщина! Ты непременно должен с ней познакомиться! Она ведь очень дорожит памятью об отце, и принимать в доме такого героя, как ты, для нее будет большой радостью.
– Что ж, – пожал плечами Юрий, – отдать дань уважения дочери павшего героя – мой долг. Но я не понимаю, какое отношение этот визит имеет к твоему делу.
– Может быть, после него ты сможешь поговорить с Ольгой Фердинандовной… Например, завести разговор о судьбе Дарье Алексеевны, а там вывернуть как-нибудь на нужное…
– Ну тебя, Александр Афанасьевич, ей-Богу, с твоими вывертами! – рассердился Стратонов. – Если хочешь выворачиваться, изволь сам – я к такой эквилибристике природой не сподоблен. А если уж желаешь, чтобы я твоим сватом выступил, так я попросту говорить буду, как умею.
– Хорошо, пусть так, – согласился Саша. – Ты попробуй хотя бы… Если случай представится, если получится… От этого вся моя жизнь зависит, понимаешь ли? А я тебе по гроб жизни благодарен буду…
Юрий нетерпеливо махнул рукой:
– Довольно! Послезавтра я поеду с вами на именины. Если оказия случится, справлюсь у твоей зазнобы о твоих перспективах. А на другой день уеду, как собирался, и не неволь. Сам знаешь, какие у нас с твоей сестрою отношения.
– Да-да, конечно, я все понимаю, – закивал Саша. – Спасибо тебе! Прости за неудобство… – пятясь, он покинул флигель, оставив зятя отдыхать с дороги. Сердце учащенно билось от волнения. Еще каких-то два дня – и, быть может, судьба решится! И в какую же из сторон? С ума сойти можно, ожидая! Два дня… Какие мучительные и долгие два дня! И как пережить их?..
Юрий был зол на себя за то, что позволил шурину уговорить себя исполнить столь чуждую роль. Своей собственной жизни устроить порядком не сумел, а тут – на тебе! Изволь чужое счастье (или же несчастье) устраивать! Скорее бы уж вырваться из всего этого круга пустых обязательств и ложных отношений! На войне все будет проще, понятнее и честнее.
В назначенный день он вместе с Сашей, Ольгой и Любой отправился в имение Мурановых, расположенное в нескольких верстах от Клюквинки. Стратонов сразу определил, что владения Дарьи Алексеевны находятся явно в большем порядке, чем хозяйство его зятя. Видимо, молодая барыня знала толк в ведении дел. Саша говорил, что управляющего она не держит по недоверию к этому роду людей. Крестьяне Мурановой жили в домах крепких и ладных, нигде не чувствовалось той пронзительной, удручающей нищеты, какую Юрий то и дело примечал в Клюквинке.
Стратонов быстро понял, что из его шурина хозяин никакой. Его крестьяне были разуты и голодны, а он точно не видел этого, увлеченно разрабатывая всевозможные проекты: то школы для сельских ребятишек, то музыкального театра с хором, для которого сам бы он писал музыку, то какой-то невиданной в этих краях фабрики… Юрий поленился вникать в суть этих проектов, хотя Саша два дня напролет с упоением рассказывал о них, но понял, что все они ничто иное, как воздушные замки. А между тем, Клюквинке необходим был хозяин. Или же толковый управляющий.
Муранова наверняка могла бы дать немало добрых советов соседу. Приближаясь к ее дому, Стратонов уже чувствовал глубокое уважение к этой необыкновенной женщине. Дом ее был совсем мал – всего один этаж и крохотная мансарда. В сущности, он были немногим лучше, чем дом какого-нибудь зажиточного крестьянина. Со всех сторон обступал его запущенный сад, в котором ничто не обнаруживало руки садовника.
На крыльце гостей встречала маленькая, сухонькая старушка в накинутом на плечи тулупе. Она приветствовала их поясным поклоном и провела в дом.
Стратонов догадался, что это – Савельевна, нянька сестер Мурановых, о которой также успел рассказать ему словоохотливый Саша.
Когда Савельевне было двенадцать лет, барин, гуляка и картежник, проиграл ее своему приятелю Николаю Луцкому. Тот увез девочку за много верст от родного дома и оставил в имении сестры – Натальи Мурановой. Это были самые горькие дни в многотрудной жизни Аграфены Савельевны. Насильно оторванная от отца и матери, с рыданиями бежавшей за ней, увозимой неведомым барином, оказавшаяся в чужих краях без единой знакомой души, она не находила себе места. Всю дорогу девочка провела в страхе перед новым барином, но тот ничем не обидел ее. Определение в услужение к барыне Наталье Даниловне немного успокоило ее, но тоска по дому и родителям продолжала снедать душу.
Много месяцев спустя к дому Мурановых подошла нищая, оборванная странница, в которой Грушенька с трудом узнала мать. Та с великим трудом узнала, куда увезли ее девочку, и пешком преодолела огромное расстояние, побираясь и ночуя под открытым небом, чтобы обнять ее и молить новых хозяев, чтобы они не отлучали ее от матери. Однако, мольбы оказались напрасны. Расторопная и старательная девочка пришлась по душе Наталье Даниловне, и она определила ее нянькой к своей маленькой дочери Даше. Несчастной матери было сказано, что Грушенька останется при барышне, что ей не будет сделано никакого зла, и что родители могут навещать ее, если пожелают.
Навещать! Представляла ли барыня, сколь сложно было нищей крепостной крестьянке отлучиться из родной деревни, от мужа и детей и пройти многие версты ради такой встречи… Наталья Даниловна, впрочем, явила милость, дозволив измученной дорогой страннице прожить в имении целый месяц и снабдив ее деньгами на обратный путь.
Прощаясь с матерью, Грушенька плакала навзрыд, чувствуя, что больше никогда не увидит ни ее, ни отца, ни братьев с сестрами. На прощание мать наказала терпеть выпавшее испытание, как Бог велит, и честно служить новым хозяевам.
И Савельевна служила. Со временем она искренне привязалась к барыне, а барышню и вовсе полюбила, как родную. Любила и Даша ее. Вместе они проводили помногу времени. Пока Даша мала была, Грушенька ей сказки рассказывала, от матери с бабкой слышанные и вдруг придуманные самой. Когда же барышня повзрослела, то стала няньке пересказывать читаемые романы, а то и вслух читать, когда попадались переводные. На обеих эти трагические истории производили сильнейшее впечатление, и обе горько плакали над судьбами Клариссы и иных полюбившихся героев и героинь.
Савельевна так и не вышла замуж, хотя была мила собой, и многие с охотой приняли бы ее в дом хозяйкой. Она всецело посвятила себя служению любимой барышне и другим детям Натальи Даниловны, из которых, правда, двое умерли в малых летах, и уцелела лишь младшая, Софьинька, которой суждено было потерять обоих родителей еще во младенчестве.
Барин Даниил Васильевич бывал дома нечасто, приезжая лишь в отпуска. Дочь, однако же, он любил без памяти, как и она его. В какой-то счастливый год полк, в котором служил Муранов, стоял недалеко от его имения, и он мог практически не разлучаться с семьей. Даша в сопровождении Савельевны не раз навещала отца в полку – отчего-то ей особенно нравилось бывать там. Даниил Васильевич в тот год обучил дочь верховой езде и стрельбе из пистолета, чем немало рассердил жену, считавшую таковое занятие неподобающим для барышни.
Когда зимой несчастного 1812 года от чахотки преставилась Наталья Даниловна, Даша быстро справилась с горем – теперь она должна была заменить для маленькой Софьиньки мать. Вскоре грянула война, и Смоленская губерния оказалась во власти французов. Все, кто мог, бежали в тыл. Дарье Алексеевне бежать было некуда. О своем отце она ничего не знала и держалась верой в то, что он жив, и что она должна быть мужественной, чтобы он гордился ей, когда вернется.
Две беззащитные женщины и ребенок – втроем остались они в опустевшем и открытом любому супостату доме, надеясь лишь на Божью милость. Бог и впрямь защитил их. Ни один француз не переступил порога мурановского дома, а, благодаря помощи крестьян, голод также обошел его стороной.
А потом была великая радость и великое горе. Русская армия освободила Смоленск от захватчиков, и в тот же день Дарья Алексеевна узнала о гибели отца. Целый месяц после этого была она, точно мертвая, и Савельевна страшилась, что ее любимица сляжет окончательно. Все это время ей одной приходилось ходить за Софьинькой и распоряжаться по хозяйству. Она оставалась крепостной, но, в сущности, сделалась членом семьи Мурановых. Сестры любили и уважали ее. Савельевна сиживала с ними за одним столом, не чинясь. Лишь в присутствии сторонних возвращались положенные правила. Но гости в доме Мурановых бывали редки.
Дарье Алексеевне уже минуло тридцать, выглядела же она еще старше своих лет. Очень высокая, болезненно худая и бледная, она казалась усталой и суровой. Даже приветливость, с которой она встретила гостей, не оттенила этого впечатления.
Сестра же ее, юное создание лет четырнадцати, была поистине очаровательна. В противоположность Дарье Алексеевне, миниатюрная, живая и веселая, она словно светилась изнутри, и трудно было не залюбоваться ею.
Саша оказался прав, утверждая, что хозяйка будет рада видеть у себя героя великой войны. Дарья Алексеевна тотчас поинтересовалась, не знавал ли Стратонов ее отца, и не преминула показать писанный маслом портрет последнего, висевший в гостиной. Об отце она рассказывала довольно долго, и чувствовалось, что несмотря на прошедшие годы, боль этой утраты все еще не оставила ее. Взволновавшись воспоминаниями и чересчур заговорившись, Муранова закашлялась и, бледно улыбнувшись, попросила извинить ее и проходить к столу.
За обедом все внимание было обращено к Саше, бывшему явно в ударе. Он рассказывал о восстании и его предводителях, с которыми был лично знаком, превозносил мужество своего зятя при схватке с поручиком Лохновским, на ходу придумывая подробности, коих никто и никогда ему не сообщал, расписывал достоинства своих многочисленных проектов, призванных полностью изменить жизнь в Клюквинке, а то и во всей губернии.
«Какой же, в сущности, болтун, – досадливо подумал Стратонов. – И уж хоть бы отставил угощаться вином – и без того довольно глупости…» Он то и дело поглядывал на присутствующих дам, силясь прочесть по их лицам, что они думают о сашиных рассказах. Опытный душевед, должно быть, легко справился бы с этой задачей, но для Юрия она оказалась посложнее, чем иная рекогносцировка.
Лицо хозяйки дома по-прежнему не выражало ничего, кроме усталости и напускной приветливости. Кажется, ей не было ни малейшего дела до столичных событий, столь далеких от нее, до воздушных соседских прожектов. Правда, когда Саша вздумал спросить совета по продаже леса, Дарья Алексеевна тотчас очнулась от своего молчаливого равнодушия и пригласила соседа в свой кабинет. Саша стал, было, отнекиваться:
– Помилуйте! Я совсем не желаю обременять вас в ваш праздник! Я с вашего позволения заеду как-нибудь в другой раз.
– К чему откладывать на другой раз то, что можно порешить прямо сейчас? Если вы желаете продать ваш лес, то, быть может, я сама куплю его у вас. Так что не стесняйтесь и, сделайте одолжение, проходите в кабинет! – хозяйка встала и учтиво кивнула оставшимся гостям. – Прошу нас извинить. Мы ненадолго.
– Сестра никогда не откладывает дел на потом, – пояснила Софья. – И никогда не ложится спать, пока не убедится, что все намеченное на день исполнено должным образом. Таким был и наш отец, как она говорит…
Этот очаровательный ребенок, пожалуй, был единственным человеком, смотревшим на Сашу с добродушной веселостью, видимо в душе посмеиваясь над его необъятными планами. Это было заметно по тому, как Софьинька время от времени прятала в ладонях лицо, а глаза меж тем смотрели озорно и лукаво.
– Ольга Фердинандовна, а, может быть, вы сыграете нам что-нибудь, пока нас покинули для важных дел? – предложила она.
– Конечно, с удовольствием, – с улыбкой согласилась Ольга. – Любочка, ты не сыграешь ли со мной?
– Лучше ты спой, а я буду тебе аккомпанировать, – откликнулась Люба, старательно выговаривая слова.
Обе сестры были музыкально одарены. Приятный, бархатный голос Ольги словно заполнил собой всю гостиную. Романс, который пела она, глубоко растрогал Стратонова. Как оказалось, и стихи, и музыка были сочинены Сашей, что немало удивило Юрия. Это открытие заставило его признать, что шурин, пожалуй, более сложная и одаренная личность, чем он полагал, никогда не будучи с ним близок.
После романса был исполнен этюд, во время которого Софьинька неожиданно обратилась к Стратонову:
– Юрий Александрович, можно ли мне просить вас об одолжении?
– К вашим услугам, мадемуазель, – с легким поклоном откликнулся он.
– Не могли бы вы некоторое время посидеть, не шевелясь? – заметив удивление полковника, Софья рассмеялась. – Понимаете, я немного рисую… И мне бы очень хотелось нарисовать ваш портрет.
– А разве для этого не нужно часами позировать художнику? – улыбнулся Стратонов.
– Настоящему мастеру, наверное, нужно. Но мне часами может позировать разве что нянюшка. А с другими приходится полагаться на память. Делать набросок, а потом уже по памяти дорисовывать.
– Что ж, пока я ваш гость, можете располагать мною, – кивнул Юрий. – Хотя, уверен, есть предметы много достойней вашей кисти.
– Возможно, но пока они мне не встречались. А ваш портрет я непременно написать хочу. Вы же настоящий герой, как и наш отец…
– Герои, Софья Алексеевна, это генерал Кульнев, князь Петр Иваныч Багратион. Но уж никак не ваш покорный слуга.
– Я вам не верю, – сказала Софьинька, склонившись над альбомом и быстро работая карандашом. – Александр Афанасьевич нам рассказывал о ваших подвигах.
– Ну, раз Александр Афанасьевич рассказывал… – развел руками Стратонов.
– Вы обещали не шевелиться.
– Прошу простить.
– Александр Афанасьевич, конечно, иногда… преувеличивает некоторые вещи, – Софья чуть улыбнулась. – Но о вас он всю правду сказал – вы именно такой, как он рассказывал.
– Что ж, ему виднее, – не стал спорить Юрий, подумав, что шурин умело расположил к себе соседок, воспользовавшись его боевой славой. Это соображение не вызвало в нем досады. Что, в самом деле, дурного? Пусть хоть кому-то эта слава принесла пользу.
– Все, я закончила, – объявила Софьинька, закрывая альбом.
– Покажете?
– Да, но не сейчас, – хитро отозвалась девочка.
– А когда же?
– Когда вы приедете к нам в другой раз!
– О! Это может быть еще очень нескоро! Завтра я отбываю на Кавказ.
– В таком случае, когда вы приедете снова, я смогу не только показать, но и подарить вам ваш портрет, написанный маслом, – беззаботно откликнулась Софья.
– Вы так уверены, что я приеду вновь? – спросил Юрий.
– А разве нет? – спросила девочка, внимательно посмотрев на него.
– Да… Конечно… – рассеянно отозвался Стратонов, вдруг побоявшись огорчить милую юную художницу.
– Мы вас будем ждать, – улыбнулась она довольно.
В этот момент возвратились Дарья Алексеевна и Саша.
– Опять ты за свое! – укорила Муранова сестру. – Извините ее, Юрий Александрович, она уже всех нас измучила своими живописными упражнениями!
– Что вы, я почел за честь быть полезным Софье Алексеевне.
– Но вы можете не сомневаться – она не просто так резвится. У нее есть и талант, и прилежание. Насколько я могу судить, конечно.
– О, несомненно! – подал голос Саша, заметно утомленный деловым разговором.
После чая гости тепло простились с хозяйками и отправились в обратный путь. Уже выезжая из усадьбы, Стратонов обернулся и с удивлением увидел Софьиньку, сбежавшую с крыльца в одном платье и машущую вслед рукой. К ней уже стремилась Савельевна, проворно накинула шубу на хрупкие плечи, закутала, выговаривая за по-детски безрассудную выходку.
Юрий инстинктивно приподнял треуголку, простившись таким образом с милой художницей.
Сани мчались быстро, и вскоре в сумерках уже забрезжила огнями Клюквинка. Поездка сильно утомила Любу. И Саша, не возясь с ее креслом, подхватил девушку на руки и быстро понес к дому. Юрий же подал руку Ольге и вдвоем с ней неспешно последовал за шурином.
– Я хотел поговорить с вами, Ольга Фердинандовна, – начал Стратонов, решив, что пора выполнить сдуру данное Саше обещание.
– Я слушаю вас, – откликнулась Ольга.
Юрий запнулся. Весь этот день он наблюдал за этой женщиной, за тем, как смотрела она на Сашу. И сколь ни мало искушен был в подобных материях, а уже не сомневался в ее чувствах. То не была страсть, слепое обожание, а что-то совсем иное: глубокое, цельное… Есть лишь одна любовь – сильнейшая, нежели любовь женщины к мужчине: любовь матери к ребенку. И в том взгляде, каким смотрела Ольга на Сашу, было что-то очень схожее с этим чувством. Понимание, сочувствие, тихая, кроткая нежность… Никогда и ни в чьих глазах не встречал Стратонов подобного.
– Я слушаю вас, – повторила Ольга.
– Простите… Видите ли, я не привык к такого рода разговорам. И не знаю, с чего, собственно, начать…
– Тогда позвольте сперва я спрошу вас.
– Конечно, извольте.
– Это вы хотите поговорить или же… кто-то попросил вас об этом? – Ольга замедлила шаг и старалась не смотреть на Юрия.
– Вы угадали, – ответил он. – Полагаю, что нет нужды говорить и о том, кто именно попросил меня.
– Я понимаю…
Стратонов почувствовал, как рука девушки, опиравшаяся на его локоть, едва приметно дрогнула.
– Что же он просил вас сказать мне?
– Он, собственно, велел спросить…
– Что же?
– Согласится ли прекрасная, мудрая, чистая душой и мыслями девица связать свою жизнь, которая может дать ей столь много, с человеком, повинным во многих пороках, слабым, не имеющим ни состояния, ни сколь-либо определенного будущего…
– Не продолжайте! – Ольга резко остановилась и, крепко сжав руку Стратонова, обратила к нему побледневшее, взволнованное лицо. – Передайте этому человеку, что он слишком строго судит себя и преувеличивает добродетели той, к которой обращается. Передайте, что в тот час, когда он наберется смелости обратиться к ней с этим предложением сам, то не услышит в ответ ничего, кроме одного слова: «Да!»
С этими словами она оставила Юрия и быстро пошла к дому.
Стратонов глубоко вздохнул. «Ну и хорошо. Ну и слава Богу, – подумал он, сворачивая к своему флигелю. – Теперь долг мой исполнен и можно, наконец, отправляться в путь…»
Последний луч солнца догорел за горизонтом, и осколками разбившегося хрусталя усыпали небо звезды. Неспешно шагая по заснеженной тропинке, Юрий с тоской подумал о своем одиночестве и бесприютности на этой земле. Вспомнилась с теплотой милая девочка с наивно-восторженным обещанием: «Мы вас будем ждать!» Неужто и впрямь? Никто и никогда не ждал его и не давал обещаний ждать… А Ольга Фердинандовна! Какой образчик истинного достоинства, женственности! «Ах, как хотелось бы, чтобы эта замечательная во всех отношениях женщина была счастлива! – мелькнула нежданная мысль. – Мой шурин все же не достоин ее, будь он даже тысячу раз талантливый поэт и музыкант… А, впрочем, кто знает! У всякого своя мерка. Может, они и в самом деле будут счастливы, и ее здравого смысла хватит на них обоих. Дай Бог! Дай Бог».
Глава 16.
Девять месяцев минуло, прежде чем фактическое восшествие на престол нового Государя было закреплено ритуалом коронования в Успенском Соборе Московского Кремля. Эти месяцы нужны были Государю и России для того, чтобы пережить потрясение декабря, изгладить, сколь возможно, тяжелый след мятежа, чтобы тень этого злодейства и кары, понесенной за оное, не омрачала великого дня.
– Наконец ожидание России совершается. Уже Ты пред вратами Cвятилища, в котором от веков хранится для Тебя Твое наследcтвенное освящение.
Нетерпеливость верноподданнических желаний дерзнула бы вопрошать: почто Ты умедлил? еслибы не знали мы, что как настоящее торжественное пришествие Твое нам радость, так и предшествовавшее умедление Твое было нам благодеяние. Не спешил Ты явить нам Твою славу, потому что спешил утвердить нашу безопасность. Ты грядешь наконец, яко Царь, не только наследованнаго Тобою, но и Тобою сохраненнаго царства.
Не возмущают ли при сем духа Твоего прискорбныя напоминания? – Да не будет! И кроткий Давид имел Иоава и Семея: не дивно, что имел их и Александр Благословенный. В царствование Давида прозябли сии плевелы; а преемнику его досталось очищать от них землю Израилеву: что ж, если и преемнику Александра пал сей жребий Соломона? – Трудное начало царствования тем скорее показывает народу, чтo даровал ему Бог в Соломоне.
Ничто, ничто да не препятствует священной радости Твоей и нашей! «Царь возвеселится о Бозе». «Сынове Сиони возрадуются о Царе своем». Да «начнет все множество хвалити Бога»: Благословен грядый Царь во имя Господне!» Всеобщая радость, воспламеняя сердца, да устроит из них одно кадило пред Богом, чтобы совознести фимиам Твоего сердца, да снидет благодатное осенение Царя царствующих на Тебя и Твое царство.
Вниди, Богоизбранный и Богом унаследованный Государь Император! Знамениями Величества облеки свойства истиннаго Величества. «Помазание от Святаго» да запечатлеет все сие освящением внутренним и очевидным, долгоденственным и вечным, – таким словом приветствовал монарха архиепископ Московский Филарет.
Никита Васильевич Никольский, удостоенный чести присутствовать на торжестве, почувствовал, как горячо забилось его сердце при виде царственной четы. Ни в одном монархе, ни в одном знатном вельможе не приводилось ему видеть столько истинного величия и достоинства, как в молодом Царе.
– Прекрасен, как древнегреческий бог… – проронила Варвара Григорьевна.
Хотя Никольский не мог оспорить этого вполне справедливого замечания жены, но все же заметил ей с укоризной:
– Вы, женщины, всегда смотрите на внешнее! А важна суть! Важно, что Россия обрела на престоле мужа силы и чести, твердого духом и светлого разумом.
Жена мягко улыбнулась и покачала головой:
– Учитель в тебе неистребим.
Учитель… Это и в самом деле всегда ощущалось Никитой своим настоящим призванием. Просвещение народа! Просвещение самой знати, которая за редким исключением не имеет подлинных знаний, а если имеет, то знания эти оторваны от почвы, вложены в головы иноземными мудрецами! Вот, о чем грезил Никольский бессонными ночами, сочиняя разнообразные проекты и доклады и топя печку черновиками оных. Он слабо верил, что когда-нибудь они будут востребованы.
Даже зимой, с тревогой и надеждой следя за первыми шагами нового Императора, он не верил в это, хотя уже заканчивал свой главный труд и твердо решил представить его очам Государя. Труд сей, посвященный воспитанию русского просвещенного сознания, в коем одном был залог невозможности новых мятежей и распространения разрушительных идей, мог быть принят со вниманием ввиду трагических событий на Сенатской. К тому же Никольскому искренне хотелось быть полезным Государю. Инстинктивно он чувствовал в нем человека гораздо более русского, нежели большая часть его окружения, человека, верно оценивающего положение дел, человека готового к тому, чтобы выправить, наконец, тот роковой крен в сторону запада, что унаследовала Россия еще от Петра.
Но один человек мало что может сделать. Ему нужны надежные, верные люди, разделяющие его мысли и чаяния, а когда-то и направляющие их. Нужны соработники и сотворцы, знающие и понимающие Россию и ее нужды, не боящиеся труда и не ищущие наград. Хоть это было и нескромно, но себя Никита видел именно таким человеком. Впрочем, он не стремился вторгаться в вопросы, чуждые себе, а в тех, по которым желал подвизаться, был истинным докой.
Удача пришла к Никольскому в лице его доброго друга Дмитрия Николаевича Блудова. Двоюродный брат Озерова и двоюродный племянник Державина, член «Арзамаса», он пользовался большим расположением Карамзина и покровительством жены фельдмаршала Каменского, ставшей ему второй матерью.
Благодаря Каменской, Блудов сделал недурную дипломатическую карьеру. В 1808-м году он был командирован в Голландию для вручения ордена Андрея Первозванного королю Людовику Бонапарту, два года спустя возглавил дипломатическую канцелярию главнокомандующего Дунайской армии генерала Каменского. В годы войны Дмитрий Николаевич был поверенным в делах российской миссии в Стокгольме, а несколько лет спустя – в Лондоне. Министр иностранных дел Иван Антонович Каподистрия называл его «перлом русских дипломатов». Он дал Блудову поручение знакомить иностранную печать с настоящим положением дел в России и через английские газеты защищать российскую политику от нападок заграничной прессы. Будучи горячим приверженцем политических взглядов своего патрона, Дмитрий Николаевич разделял его отрицательное отношение к Священному Союзу и Меттерниху, не верил австрийской дружбе, видя в Австрии естественного соперника России во влиянии на балканские дела. И как и все русское общественное мнение, настаивал за вмешательство России в борьбу Греции против Турции. Падение Каподистрии остановило дипломатическую карьеру Блудова.
Долгая жизнь в европейских столицах не наложили непоправимого отпечатка на его образ мыслей и душу, как случалось со многими. Дмитрий Николаевич остался, по-видимому, одним из немногих чиновников, сохранивших русское воззрение. А это было куда как непросто при общем преклонении перед Европой! Так же непросто, как презирать порок тогда, когда оный был возведен в норму и даже обязанность, когда отсутствие пороков выглядело не достоинством, а ущербностью, достойной сочувствия. Так же непросто, как сохранить веру тогда, когда неверие сделалось необходимой частью «просвещения» в духе энциклопедистов.
Блудову это удалось. Он не выставлял своих чувств напоказ, но и не скрывал их под лживой личиной. Он бичевал пороки в едких эпиграммах, за что был нелюбим многими пустозвонами в столице. Зато друзья любили и уважали Дмитрия Николаевича. И он любил их, никогда не забывая. Государственная служба не мешала его увлечению литературой и театром. Имея от природы душу, глубоко чувствующую все прекрасное и возвышенное, Блудов питал истинную страсть к поэзии и, хотя сам не обладал большим талантом, зато умел по-настоящему ценить чужой, вдохновенно воспринимать плоды чужого гения. А ведь это тоже – своего рода талант.
Написав сатирическую статью «Видение в Арзамасе», Дмитрий Николаевич стал одним из основателей «Арзамаса». Воейков в шутку называл его «государственным секретарем бога Вкуса при отделении хороших сочинений от бессмысленных и клеймении последних печатью отвержения». Общеупотребительным же в обществе был у Блудова псевдоним «Кассандра».
Кроме всего прочего, удалось Дмитрию Николаевичу и еще одно «невозможное». Шестнадцатилетним мальчишкой он влюбился в двадцатичетырехлетнюю фрейлину княжну Анну Щербатову. Юные годы не давали ему права просить руки избранницы, но через несколько лет, достигнув положения в свете, он все-таки сделал предложение. Увы, мать Анны Андреевны не хотела и слышать о браке. Женщина набожная, суровая и гордая, кичившаяся знатным родом, она отказала уже многим претендентам на руку дочери. И «мелкий дворянчик» Блудов уж точно не отвечал ее желаниям. Лишь старания графини Каменской и быстрое служебное возвышение Блудова сломили строптивую старуху. Спустя десять лет после первой встречи, за считанные недели до начала войны состоялась долгожданная свадьба…
После отставки Каподистрии Дмитрий Николаевич некоторое время оставался не у дел. Но вскоре другой добрый гений проявил участие в его судьбе. Старый Карамзин, видевший в Блудове своего духовного продолжателя, рекомендовал его новому Государю, как человека просвещенного, консервативного, умеющего держать перо и достойного занять место в высшей государственной администрации.
Эта рекомендация была одним из последних деяний гения. Николай Михайлович Карамзин скончался 25 мая, оставив после себя зияющую пустоту, которую, как казалось, нескоро удастся заполнить, ибо не так часто являются люди такого огромного ума, таланта и душевной чистоты, каким был почивший летописец. Последние главы его неоконченной «Истории» предстояло теперь выпускать в свет именно Блудову…
Карамзин, как никто понимал важность просвещения для России. В памятной записке своей он подвергал жесткой критике бессмысленные реформы в этой области Александрова царствования: «Гнушаясь бессмысленным правилом удержать умы в невежестве, чтобы властвовать тем спокойнее, он употребил миллионы для основания университетов, гимназий, школ… К сожалению, видим более убытка для казны, нежели выгод для Отечества. Выписали профессоров, не приготовив учеников; между первыми много достойных людей, но мало полезных; ученики не разумеют иноземных учителей, ибо худо знают язык латинский, и число их так невелико, что профессоры теряют охоту ходить в классы. Вся беда от того, что мы образовали свои университеты по немецким, не рассудив, что здесь иные обстоятельства. В Лейпциге, в Геттингене надобно профессору только стать на кафедру – зал наполнится слушателями. У нас нет охотников для высших наук. Дворяне служат, а купцы желают знать существенно арифметику, или языки иностранные для выгоды своей торговли. В Германии сколько молодых людей учатся в университетах для того, чтобы сделаться адвокатами, судьями, пасторами, профессорами! – наши стряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав; наши священники образуются кое-как в семинариях и далее не идут, а выгоды ученого состояния в России так еще новы, что отцы не вдруг еще решатся готовить детей своих для оного. Вместо 60 профессоров, приехавших из Германии в Москву и другие города, я вызвал бы не более 20 и не пожалел бы денег для умножения числа казенных питомцев в гимназиях; скудные родители, отдавая туда сыновей, благословляли бы милость государя, и призренная бедность чрез 10, 15 лет произвела бы в России ученое состояние. Смею сказать, что нет иного действительнейшего средства для успеха в сем намерении. Строить, покупать домы для университетов, заводить библиотеки, кабинеты, ученые общества, призывать знаменитых иноземных астрономов, филологов – есть пускать в глаза пыль. Чего не преподают ныне даже в Харькове и Казани? А в Москве с величайшим трудом можно найти учителя для языка русского, а в целом государстве едва ли найдешь человек 100, которые совершенно знают правописание, а мы не имеем хорошей грамматики, и в Именных указах употребляются слова не в их смысле: пишут в важном банковом учреждении: «отдать деньги бессрочно» вместо «a perpetuite» – «без возврата»; пишут в Манифесте о торговых пошлинах: «сократить ввоз товаров» и проч., и проч. Заметим также некоторые странности в сем новом образовании ученой части. Лучшие профессоры, коих время должно быть посвящено науке, занимаются подрядами свеч и дров для университета! В сей круг хозяйственных забот входит еще содержание ста, или более, училищ, подведомых университетскому Совету. Сверх того, профессоры обязаны ежегодно ездить по губерниям для обозрения школ… Сколько денег и трудов потерянных! Прежде хозяйство университета зависело от его особой канцелярии – и гораздо лучше. Пусть директор училищ года в два один раз осмотрел бы уездные школы в своей губернии; но смешно и жалко видеть сих бедных профессоров, которые всякую осень трясутся в кибитках по дорогам! Они, не выходя из Совета, могут знать состояние всякой гимназии или школы по ее ведомостям: где много учеников, там училище цветет; где их мало, там оно худо; а причина едва ли не всегда одна: худые учители. Для чего не определяют хороших? Их нет? Или мало?.. Что виною? Сонливость здешнего Педагогического института (говорю только о московском, мне известном). Путешествия профессоров не исправят сего недостатка. Вообще Министерство так называемого просвещения в России доныне дремало, не чувствуя своей важности и как бы не ведая, что ему делать, а пробуждалось, от времени и до времени, единственно для того, чтобы требовать денег, чинов и крестов от государя».
К несчастью, в России образование было поставлено совсем не так, как надлежало. Когда-то русские вельможи, следуя примеру Императрицы Екатерины, вели переписку с французскими философами, разжигавшими пламя революции в своей стране. Племянник светлейшего князя Потемкина переводил и на свои средства печатал сочинения Руссо, Григорий Орлов и Кирилл Разумовский зазывали опального и высылаемого из отечества философа в свои имения, на средства князя Д.А. Голицына печаталось запрещенное в Париже сочинение Гельвеция «О человеке», А.П. Шувалова величали во Франции «северным меценатом», и сам Вольтер посвятил ему трагедию, русские придворные переводили статьи Дидерота и сочинение Мармонтеля «Велизарий», вызвавшее резкое осуждение французской королевской власти…
Казалось бы, кровавый блеск гильотины должен был отрезвить русский правящий класс. Но отрезвление, по крупному счету, исчерпалось заточением в петропавловку «бунтовщика похуже Пугачева» Радищева… Русская аристократия, в большинстве своем, продолжала воспитываться в отрыве от родных корней, возрастать практически всецело на французской, постреволюционной «культуре», на сочинениях антихристианских «мыслителей» и эротических романах «литераторов», на гнили, отравляющей умы и души в самом нежном возрасте.
Заядлый противник Карамзина адмирал Шишков, несмотря на нередкие крайности в своих убеждениях, очень точно определил корень истинного патриотизма, гражданственности: «Вера, воспитание и язык суть самые сильные средства к возбуждению и вкоренению в нас любви к Отечеству».
Эти три основы выбивались из-под ног возрастающих поколений уже при первых их шагах. В родительских домах благородные отроки воспитывались гувернерами-иностранцами, зачастую совершенными проходимцами. «Образование», таким образом, становилось неотделимо от морального и умственного растления юношества и подавления в нем природной русскости.
Порочность такого положения уже начинало осознаваться наиболее здравыми умами. И недаром писал мудрый Гнедич: «Писатель да любит более всего язык свой. Могущественнейшая связь человеческих обществ, узел, который сопрягается с нашими нравами, с нашими обычаями, с нашими сладостнейшими воспоминаниями, есть язык отцов наших! И величайшее унижение народа есть то, когда язык его пренебрегают для языка чуждого. Да вопиет противу зла сего каждый ревнующий просвещению, да гремит неумолкно и поэзией и красноречием! Пусть он в желчь негодования омачивает перо и все могуществом слова защищает язык свой, как свои права, законы, свободу, свое счастие, свою собственную славу».
Никольский слышал от своего друга Стратонова, что Государь Николай Павлович всецело разделяет этот взгляд. Юрий рассказывал, как однажды молодой Великий Князь выговорил первому камер-пажу великой княгини Александры Федоровны: «Зачем ты картавишь? Это физический недостаток, а Бог избавил тебя от него. За француза тебя никто не примет; благодари Бога, что ты русский, а обезьянничать никуда не годится. Это позволительно только в шутку».
На заре 19-го века для детей аристократии практически не существовало возможности получения русского образования. Да и вообще путей получения образования было не так много. Юные души попадали по выбору в «заботливые» руки иезуитов, содержавших пансион в столице, либо – масонов, коими, например, поголовно были преподаватели Царскосельского лицея. Большая часть тамошних профессоров были последователями Новикова. А французскую литературу преподавал родной брат якобинца Марата.
Схожим образом обстояло дело в Московском Университете, который с конца 18-го века возглавлял крупный масон и отец будущих мятежников И.П. Тургенев. Пансионом же при главном учебном заведении Империи заведовал другой «вольный каменщик» – А.А. Прокопович-Антонский. Соответственно подбирались люди и на преподавательские должности…
Такие посевы не могли не дать пагубных всходов. Их пришлось пожинать 14 декабря минувшего года. В судьбе Дмитрия Николаевича Блудова имели они особое значение. Он был назначен в Верхнюю следственную комиссию по делу декабристов для составления журнальной статьи, в которой излагался ход следствия. Статья была затем переделана в «Донесение» комиссии с выражением официальной точки зрения на события 14 декабря. Участие в следственной комиссии настроило против Дмитрия Николаевича многих его бывших друзей, но укрепило доверие к нему Императора.
Этим доверием было обусловлено получение должности товарища министра народного просвещения. Вступив в нее, Блудов вызвал Никольского в Петербург. Он хорошо знал взгляды Никиты, знал и о работах его, фрагменты из которых читал и одобрял вслед за Карамзиным. Теперь Дмитрий Николаевич просил в кротчайшие сроки окончить столь долго ждавший своего часа доклад с тем, чтобы он передал его для ознакомления Государю.
– Если изложенное тобой придется по душе Его Величеству, на что я весьма надеюсь, то без достойной службы ты не останешься, – сказал Блудов. – И поспеши. Нужно ковать железо, пока оно горячо.
Никольскому не нужно было повторять дважды. Доклад его был готов, и нужно было лишь переписать его начисто, опустив некоторые места, могущие показаться лишними. Никита справился с этой задачей в несколько дней, и его сочинение легло на стол монарха.
Высочайшего вердикта Никольский ждал с редчайшим для себя волнением. И волнение это было не о собственной судьбе, а о том – каков же окажется Государь? Близки ли ему будут высказанные в докладе убеждения, или он отвергнет их? Из этого можно было заключить об умонастроении самого монарха, а, значит, о судьбе России под его скипетром…
«Что требуется для порабощения народа той или иной злой силой? Уничтожение тех «китов», на которых стоит этот народ. А именно: религиозного сознания, божественного начала в душах, национальных традиций, национального самосознания, нравственных ориентиров, способности к цельному, логическому и предметному мышлению, созидательному, честному труду, живой инициативы, самостоятельности и ответственности, подлинного образования и просвещения. Превращение народа в скопище людей, лишенных исторической памяти, ориентиров и настоящего дела, ни к чему не способных, но распаляемых гордостью «разума» дилетантов, стремящихся низвергать других и утверждать себя, падких на самые бессмысленные идеи и становящиеся легкой добычей для всякой злой силы.
Эту страшную опасность можно избегнуть лишь с помощью единственного противоядия: долгой и кропотливой работы по духовному и нравственному оздоровлению народа, подлинного просвещения как высших слоев, так и низших. Как ни важны процессы экономические и социальные, но именно борьба за души и умы – главнейшая. Ибо если разум помрачен, если в душах беспорядок и туман, то никакие даже самые нужные реформы не принесут должной пользы, но будут нести на себе все ту же порчу, рожденную помрачением разума», – таким предостережением завершил Никольский свой доклад с упованием, что оное будет услышано.
Государь отнесся к переданному ему Блудовым сочинению с большим вниманием и пожелал беседовать с автором лично. Тогда Никита увидел Императора впервые! Его строгое лицо с высоким лбом и правильными, мужественными чертами казалось совершенно бесстрастным, но ясные, синие глаза, смотрящие пристально и внимательно, выражали явное одобрение. Немного тонкие губы дрогнули в приветственной улыбке:
– Рад знакомству с тобой, Никита Васильевич. С тобой и твоим сочинением, доставившим мне и горечь от справедливости многих упреков, и удовольствие от верности высказанных суждений. Должен сразу сказать, что считаю нравственность и усердие к своей службе, своему делу главной основой воспитания. Без нее всякое неопытное просвещение будет служить лишь растлению ума и поводом для, как ты удачно выразился, всевозможного мыслеблудия, плоды коего мы уже имеем несчастье пожинать.
Почитая народное воспитание одним из главнейших оснований благосостояния России, я желаю, чтобы для оного были поставлены правила, вполне соответствующие истинным потребностям и положению Государства. Для этого необходимо, чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были, по возможности, соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, чтобы каждый, вместе со здравыми, для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности, приобретал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи и, не быв ниже своего состояния, также не стремился чрез меру возвыситься над тем, в коем, по обыкновению течению дел, ему суждено оставаться. Детям крестьян весьма полезно было бы учиться навыкам и ремеслам, полезным для них в их состоянии. Но некие беспредметные знания, наносное просвещение принесло бы им великий вред. Они привили бы им образ мыслей и понятия, не соответствующие их состоянию. И, естественно, последнее сделалось бы для них несносно. Итог – душевный раскол, пагубные мечтания, низкие страсти и гибель.
Вот, для претворения в жизнь этой задачи я и пригласил тебя. Я желаю, чтобы ты вошел в состав Ученого Комитета и приступил к разработке необходимых правил исходя из того, что сейчас я тебе пояснил, и собственного твоего понимания государственного блага, кое мне представляется весьма верным.
– Я приложу все усилия к исполнению воли Вашего Величества! – с чувством ответил Никита, исполненный восторга от слов Государя и его доверительного обращения.
Следуя велению Императора, Никольский перебрался в Петербург, а следом перевез в столицу и всю свою семью. Жаль было покидать Первопрестольную, родной дом и привычный уклад жизни, но, как говорится, назвался груздем – полезай в кузов. Обмануть доверие Государя, отказаться от дела, о котором мечтал столько лет, было бы исключительно подло и непростительно.
Коронационные торжества позволили Никите ненадолго возвратиться домой. Правда, и здесь он не мог вырваться из круговорота придворной жизни, но сейчас она не тяготила Никольского. Слишком долгожданен и торжественен был момент. И стоя в Успенском Соборе, вторя словам возносимых духовенством молитв, Никита позволил себе забыть свой обычный скептицизм и рассудительность и всецело предаться ликованию. Верноподданный – как, однако, гордо может звучать это слово, когда на престол восходит настоящий Самодержец, которому хочется служить не за страх, а за совесть, не щадя живота. И так, только так и должно звучать оно.
Глава 17.
В просторном кабинете Императора в Чудовом дворце было в этот день отчего-то нестерпимо холодно, несмотря на натопленный камин. Или это только казалось так от вызванного простудой озноба и усталости после долгой дороги? Ведь в считанные сутки домчали присланные фельдъегери от Михайловского до Москвы – будто боясь опоздать. И сюда приехав, ни мгновения передышки не было дадено. Прямо в дорожной пыли, небритого и неумытого с дороги привезли в Чудов пред очи монарха.
Так и вертелись, так и вертелись на остром языке эпиграммы одна другой злее и язвительнее. Добра от тирана, отправившего на казнь тех пятерых, ждать нечего. А значит и искать нечего, а все, что закипает в душе, все обвинения бросить ему в лицо! Выступить непримиримым Катонном, не желающим угодничать и просить милости, но обличающим до конца… И пусть тогда заковывают в кандалы и везут в Сибирь! Там уже собралась весьма недурная компания.
Дверь отворилась, и Пушкин быстро повернулся спиной к камину, так и не отойдя от него, все еще надеясь согреться. Резкие слова вдруг застыли на уже скривившихся язвительно губах при виде рыцарственно-прекрасного, величественно спокойного, благородного лица стоявшего перед ним Императора, и поэт почтительно склонил голову, как подобало верноподданному.
Николай смотрел на него изучающе и словно вопросительно. За эти месяцы перед глазами его прошла целая вереница государственных преступников, он хорошо узнал этих людей, и теперь пытался по первому впечатлению угадать: кто же перед ним – закоренелый бунтовщик и погрязший в пороках падший человек, каким рекомендовали его в 3-м Отделении или же просто человек, сбившийся с пути, но честный и стремящийся ко благу, могущий перемениться к лучшему. Не забывал Николай и о том, что речь идет не просто о человеке, но о замечательно одаренном поэте, коему, если не наделает больших глупостей, надлежало сделаться гордостью России, прославить ее в веках. Судьбу такого человека никак нельзя было доверить 3-му Отделению, подчас ревностному не по уму. Поэтому Император занялся ею лично. Он должен был сам взглянуть в глаза человеку, которого рекомендовали врагом престола одни, и величайшим гением России другие, поговорить с ним по душам, понять. И, если только это хоть сколько-нибудь возможно, на что Николай очень надеялась, сделать своим.
– Итак? – спросил Николай прямо, – верно ли, что и ты враг своего Государя? Ты, которого Россия вырастила и покрыла славой? Пушкин, Пушкин! Это нехорошо! Так быть не должно!
Менее всего Пушкин ожидал этих слов, сказанных со снисходительным упреком и неподдельным участием. Поэт смутился, онемел от удивления и волнения, разом растерял все только что придуманные едкие слова. Отвращение и ненависть, заочно питаемые к «тирану», вдруг рассеялись, как дым. Пушкин молчал, а Государь ждал ответа. Наконец, устремив на поэта пронзительный взгляд, он спросил вновь:
– Что же ты не говоришь? ведь я жду?!
Словно пробудившись от этого вопроса, от взывавшего к доверию звучного голоса, а еще более от взгляда, Пушкин опомнился и, переведя дыхание, спокойно ответил:
– Виноват – и жду наказания.
– Я не привык спешить с наказанием! – резко сказал Николай. – Если могу избежать этой крайности – бываю рад. Но я требую сердечного, полного подчинения моей воле. Я требую от тебя, чтобы ты не вынуждал меня быть строгим, чтобы ты мне помог быть снисходительным и милостивым. Ты не возразил на упрек во вражде к своему Государю – скажи же, почему ты враг ему?
– Простите, Ваше Величество, что, не ответив сразу на ваш вопрос, я дал вам повод неверно обо мне думать, – отозвался Пушкин, постепенно приходя в себя от удивления и растерянности. – Я никогда не был врагом своего Государя, но был врагом абсолютной монархии.
Николай усмехнулся и, подойдя к поэту, дружески похлопал его по плечу:
– Мечтанья итальянского карбонарства и немецких Тугендбундов! Республиканские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоваренных мыслителей из университетских аудиторий! С виду они величавы и красивы – в существе своем жалки и вредны! Республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном счете всегда ведущее к диктатуре, а через нее – к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудные минуты обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя. Сила страны – в сосредоточенности власти; ибо где все правят – никто не правит; где всякий – законодатель, там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!
Государь умолк, в задумчивости прошелся по кабинету, а затем вновь остановился перед Пушкиным и спросил, пристально глядя на него:
– Что ж ты на это скажешь, поэт?
Чувствуя желание Царя говорить начистоту и следуя собственному изначальному намерению, преобразившемуся за эти минуты из мальчишеского желания уязвить и встать в позу в стремление донести до монарха действительно важные для всей России истины, Пушкин решил отвечать откровенно, не пытаясь увиливать и скрывать свои настоящие мысли. Он почувствовал, что подобное поведение было бы недостойным и оскорбило бы Государя хуже горьких, но искренних слов.
– Ваше Величество, кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует еще одна политическая форма: конституционная монархия…
– Она годится для государств окончательно установившихся, – перебил Николай, – а не для тех, которые находятся на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода борьбы за существование. Она еще не добилась тех условий, при которых возможно развитие внутренней жизни и культуры. Она еще не добыла своего политического предназначения. Она еще не оперлась на границы, необходимые для ее величия. Она еще не есть тело вполне установившееся, монолитное, ибо элементы, из которых она состоит, до сих пор друг с другом не согласованы. Их сближает и спаивает только Самодержавие – неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой воли не было бы ни развития, ни спайки, и малейшее сотрясение разрушило бы все строение государства.
Помолчав, он добавил, пытливо вглядываясь в лицо поэта:
– Неужели ты думаешь, что, будучи нетвердым монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей! Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученной мне Богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию? Она не посмела подняться против меня! Не посмела! Потому что самодержавный Царь был для нее живым представителем Божеского могущества и наместником Бога на земле; потому что она знала, что я понимаю всю великую ответственность своего призвания и что я не человек без закала и воли, которого гнут бури и устрашают громы!
При этих словах глаза Императора засверкали. Сперва Пушкин принял это за признак гнева, но быстро угадал, что Государь не гневается, а мысленно вновь измеряет силу сопротивления, и борется с нею, и побеждает, и исполняется чувством собственного могущества. От этого его и без того высокая фигура показалась поэту почти гигантской.
Но, вот, глаза погасли, напряжение сошло со строгого лица. Император вновь прошелся по комнате, словно собираясь с мыслями.
То, что поэт не стал заискивать перед ним, просить милости, лгать и уклоняться от прямых ответов, Николаю понравилось. Он желал именно такого разговора – прямого и откровенного, как подобает между честными людьми. Он почувствовал также, что перед ним на сей раз отнюдь не враг. И хотя и не друг еще, но очень может стать таковым. И в этом была бы победа куда большая и радостная, нежели кара каких-то злодеев.
Николай присматривался к Пушкину, пытаясь понять, можно ли совершенно доверять этому человеку, и догадывался, что тот присматривается к нему с точно таким же чувством – надеясь и сомневаясь одновременно.
– Ты еще не все высказал, – сказал он, снова остановившись напротив поэта. – Ты еще не вполне очистил свою мысль от предрассудков и заблуждений. Может быть, у тебя на сердце лежит что-нибудь такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело. Я хочу тебя выслушать и выслушаю.
– Ваше Величество, – откликнулся Пушкин взволнованно, – вы сокрушили главу революционной гидры. Вы совершили великое дело – кто станет спорить? Однако… есть и другая гидра, чудовище страшное и губительное, с которым вы должны бороться, которого должны уничтожить, потому что иначе оно вас уничтожит!
– Выражайся яснее! – перебил Николай, угадав, что настал ключевой момент разговора, и приготовившись ловить каждое слово.
– Эта гидра, это чудовище, – продолжал поэт звенящим от напряжения голосом, – самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над вашей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не достигнуло! Нет сословия, которого оно не коснулось бы. Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена! Справедливость – в руках самоуправцев! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи! Никто не уверен в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни! Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона! Что ж удивительного, ваше величество, если нашлись люди, решившиеся свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения – свободу, вместо насилия – безопасность, вместо продажности – нравственность, вместо произвола – покровительство закона, стоящего надо всеми и равного для всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного! Вы могли и имели право наказать виновных, в патриотическом безумии хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что, даже карая их, в глубине души вы не отказывали им ни в сочувствии, ни в уважении! Я уверен, что если Государь карал, то человек прощал!
Высказав все это, Пушкин замолчал, не без тревоги ожидая, что же ответит на это Царь. Тот к его удивлению нисколько не разгневался, а кивнул головой и отозвался спокойно, хотя и строго:
– Смелы твои слова! – и, прищурясь, вновь спросил в лоб: – Значит, ты одобряешь мятеж? Оправдываешь заговор против государства? Покушение на жизнь монарха?
– О нет, Ваше Величество! – в этом взволнованном вскрике было столько искренности, что у Николая разом отлегло от сердца. А Пушкин торопливо добавил: – Я оправдывал только цель замысла, а не средства! Ваше Величество умеет проникать в души – соблаговолите проникнуть в мою, и вы убедитесь, что все в ней чисто и ясно! В такой душе злой порыв не гнездится, преступление не скрывается!
– Хочу верить, что так, и верю! – сказал Николай смягчившимся голосом, благосклонно посмотрев на поэта, чувствуя, что достиг желаемой цели. – У тебя нет недостатка ни в благородных убеждениях, ни в чувствах, но тебе недостает рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за то, что она сразу же не уничтожила этого зла и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание всеобщего блага. Sacher que la critique est facile et que l»art est difficile. Для глубокой реформы, которой Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени. Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой, передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию самоуважения в народе и чувства чести – в обществе. Пусть все благонамеренные и способные люди объединятся вокруг меня. Пусть в меня уверуют. Пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их – и гидра будет уничтожена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Ибо только в общих усилиях – победа, в согласии благородных сердец – спасение! – сказав так, Император вновь опустил руку на плечо Пушкина и добавил внушительно: – Что же до тебя, Пушкин… ты свободен! Я забываю прошлое – даже уже забыл! Не вижу перед собой государственного преступника – вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание – воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов! Теперь… можешь идти! Где бы ты ни поселился (ибо выбор зависит от тебя), помни, что я сказал и как с тобой поступил. Служи Родине мыслью, словом и пером. Пиши для современников и для потомства. Пиши со всей полнотой вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором твоим – буду я!
Пушкин покидал кабинет Государя потрясенным, с трудом веря в возможность подобной беседы и поворота дел. На лестнице он почувствовал, что озноб его прошел, и даже сделалось жарко, и почти с ужасом вспомнил, что собирался прочесть «тирану» под конец беседы строфу из «Пророка»:
Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на выи
К убийце гнусному явись.
Теперь уже сама строфа эта показалась поэту гнусной, и он решил тотчас по возвращении вымарать ее. И совсем другие строки рождались в голове, вытесняя без следа недавние злые эпиграммы:
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни…
ПОБЕДНЫЕ ЛИТАВРЫ
Пролог
Ночной Париж никогда невозможно назвать спящим городом. Париж любит ночь, как любят ее поэтическое вдохновение и порок, и предается им обоим с одинаковой страстью, соединяя их.
Но сейчас Аврора не видела ни влюбленных пар, ни подвыпивших гуляк, ни ярких огней Монмартра, ибо шторы кареты, в коей везли ее, прочно отгораживали весь этот не спящий мир.
Когда после обычного выступления перед салонной публикой мамаша Терсо привела в ее комнату мужчину и сказала, что нужно поехать с ним, Аврора нисколько не удивилась – клиенты частенько предпочитали увозить ее куда-нибудь, нежели оставаться в апартаментах заведения Терсо. Наскоро приведя в порядок туалет, она с готовностью села в карету вместе с незнакомцем, но вскоре ей сделалось не по себе.
Ее спутник не говорил ни слова и даже не смотрел на нее. Его суровое, смуглое лицо, обрамленное жгуче-черной бородой оставалось совершенно бесстрастным. Да еще эти плотно зашторенные окна!
– Куда мы едем, сударь? – спросила Аврора через полчаса пути. – Скажите, далеко ли?
Ответом ей было ледяное молчание. Отчего-то сразу вспомнилась история несчастной малышки Лили, ставшей жертвой жестокой оргии и задушенной каким-то сумасшедшим негодяем. Может быть, и этот черный человек такой же?..
Поборов дрожь, Аврора попыталась заигрывать с ним:
– Вы так холодны, что мне становится обидно… Не желает ли мой господин немножко ласки? И не скажет ли, как называть его?
Незнакомец холодно отстранил ее и так и не проронил ни слова. Аврора готова была выскочить из кареты на полном ходу, но дверь была заперта. Тогда она предприняла отчаянную попытку вызвать жалость:
– Сударь, будьте великодушны! Я выступала весь вечер и теперь чувствую, что от долгого пути меня укачало! Мне дурно! Велите кучеру остановиться и позвольте мне выйти на воздух!
Увы, эта попытка провалилась, как и все предыдущие. Черный человек молчал, карета мчалась дальше, и Авроре оставалось лишь зажмуриться и с ужасом ожидать своей участи…
Но, вот, экипаж остановился. Дверь отворилась, и кучер помог ей сойти на землю. Дом, в который ввели ее, находился, по-видимому, в одном из предместий Парижа, и здесь было непривычно тихо. Черный человек, так и не нарушивший молчания, проводил ее в небольшую комнату, где Аврора с удивлением обнаружила приготовленную ванну, гардероб, трюмо с привлекательными для любой женщины баночками и флакончиками, и двух горничных, которые, также не произнося ни слова, принялись проворно раздевать ее, едва лишь за незнакомцем затворилась дверь.
– Да что здесь происходит, черт побери?! – закричала вконец выведенная из себя пыткой молчания Аврора, пытаясь вырваться из рук горничных. Но те хорошо знали свое дело, и через несколько минут она уже сидела в ванной, натираемая ароматным бальзамом.
Такие приготовления окончательно убедили Аврору в том, что ей уготована судьба Лили, и она мысленно прокляла самыми страшными проклятиями папашу, обрюхатившего и бросившего мать… Мать, спившуюся и не нашедшую в себе сил защитить дочь… Деда, проклявшего мать из верности моисееву закону, а того больше от истинно ростовщической жадности… Того старого борова, что сделал из нее, тринадцатилетней голодной девчонки, проститутку… Мамашу Терсо, торговавшей ею все минувшие с той поры годы… И всех… Всех… Черного человека… Кучера… Горничных…
Пока Аврора вспоминала всю свою горькую и мерзкую жизнь, ее, омытую и аккуратно причесанную, облачили в дорогое и очень красивое, ничуть не вульгарное платье. Увидев свое отражение в зеркале, пленница ненадолго забыла о мрачных мыслях: на нее смотрела не куртизанка из салона мамаши Терсо, а… знатная дама! Какие обычно сидят в лучших ложах театра! Жемчужное ожерелье и серьги довершили сходство.
По завершении наряда черный человек провел Аврору по темному коридору в продолговатую, ярко освещенную залу, посреди которой стоял длинный стол, накрытый для ужина на две персоны. За столом сидел мужчина лет тридцати пяти – сорока, сухопарый, с тонким, довольно привлекательным лицом. Он сделал едва заметный знак рукой, и черный человек исчез. Аврора же осталась стоять, словно окаменев. Странный человек смотрел на нее немигающим взглядом темных глаз, точно изучая. Взгляд этот был столь пристальным, что Авроре почудилась, будто она осталась перед ним вовсе без одежды. И даже хуже. Вовсе без одежды ей доводилось бывать и не перед одной парой глаз… А здесь… Словно бы и кожи не было на ней, а смотрел этот человек прямо в душу ее.
– Да, – наконец, удовлетворенно произнес он. – Я не ошибся. Так значительно лучше. Это – то, что нужно.
Услышав его спокойный, чуть надтреснутый голос, Аврора вздрогнула. Заметив это, незнакомец улыбнулся:
– Не бойся, дитя мое. Здесь тебе никто не причинит зла. И довольно стоять на пороге. Садись к столу.
Аврора нерешительно приблизилась и опустилась на стул напротив хозяина. Тот позвонил в колокольчик, и возвратившийся черный человек наполнил вином оба бокала, положил на тарелки неведомое ароматное кушанье, от запаха которого у голодной Авроры засосало под ложечкой. Не удержавшись, она рукой выхватила первый попавшийся кусок и с наслаждением проглотила его. Многозначительный взгляд хозяина дал ей понять, что так поступать не следовало…
– Дитя мое, в порядочном обществе, где, как я надеюсь, тебе придется бывать, для еды полагаются вилки, ножи и ложки. Впрочем, у тебя будет время изучить сложности этикета и научиться говорить…
– Научиться говорить? – усмехнулась Аврора, беспечно опорожнив свой бокал. – А я, по-вашему, что, мычу, как корова?
– Ты делаешь нечто гораздо худшее. Бог дал человеку великий дар – Слово. А человек обратил это слово в брань, в скабрезность… В нечто, чего один звук непереносим для уха.
– Что вам от меня надо, черт побери? – нахмурилась Аврора. – И кто вы, наконец, такой?
– Ты можешь называть меня Альфонсо. Пока для тебя этого довольно. А как твое имя?
– Аврора! – гордо представилась она, приняв одну из тех вызывающе-соблазнительных поз, что неизменно вызывали вожделение в глазах мужчин.
Но «итальянец» остался бесстрастен.
– Эти позы тебе придется до времени приберечь, – холодно сказал он. – Меня ты не интересуешь. И я все-таки просил бы тебя назвать свое имя, а не кличку, которую ты носила в притоне.
– Меня зовут Лея… – как-то вдруг обмякнув, отозвалась Аврора.
– Лея… Кто была твоя мать?
– Она… Она делала шляпки… Сначала…
– А потом?
– А потом проклятое вино свело ее с ума!
– А твой отец?
– Я его никогда не видела. Мать говорила – из благородных… Он уехал в Англию, обещал вернуться и жениться. Моя несчастная мать до последнего дня ждала, что этот сукин сын вернется!
– Быть может, он погиб?
– Как же! Такие негодяи не гибнут, а губят других…
Альфонсо помолчал несколько мгновений, затем спросил:
– Сколько тебе лет, дитя мое?
– Девятнадцать!
– Только-то… – вздохнул хозяин. – И сколько ты у мамаши Терсо?
– Пять лет, с тех пор, как умерла мать…
– Да… В сущности, варварство европейское во многом ничем не уступает варварству азиатскому, – заметил Альфонсо. – Скажи мне, Лея, хотела бы ты жить иной жизнью?
– Это какой же? – прищурилась Лея. – Если прачкой или чем-то еще, то не хочу.
– Нет, не прачкой, – хозяин тонко улыбнулся. – Если ты будешь слушаться меня, то я сделаю тебя… русской княгиней.
Лея закашлялась, изумленно выпучив глаза:
– Кем?!
– Русской княгиней, дитя мое. Конечно, твой будущий супруг будет отнюдь не молод и не хорош собой. Зато он даст тебе титул и деньги, с которыми по его кончине, которая, учитывая лета этого почтенного негодяя, не заставит себя ждать, ты сможешь жить так, как тебе захочется.
– Да неужто найдется сумасшедший, чтобы жениться на такой, как я?
– Разумеется, нет. Но о том, какая ты на самом деле, он должен будет узнать не раньше, чем станет твоим законным мужем и отпишет тебе свое состояние. Только тогда! – глаза Альфонсо блеснули недобрым огоньком. – Только тогда он узнает, каким позором покрыл свои седины…
– Этот русский князь вам чем-то насолил, и вы хотите использовать меня, чтобы отомстить? – догадалась Лея. – Не очень-то хорошую роль вы мне предлагаете.
– Почему же, дитя мое? Этот человек большой мерзавец и в отношении к нему ты выступишь в роли Немезиды.
– Кого?
– Богини возмездия. Что же касается тебя, то ты получишь всю возможную выгоду. Никаких притонов, никакой нищеты, никаких… клиентов, от которых не знаешь, чего ждать, никаких оргий. Почти что порядочная жизнь в полном достатке. Имей ввиду, я не собираюсь принуждать тебя к чему бы то ни было. Если пожелаешь, то тебя сей же час отвезут обратно в притон Терсо, где тебе суждено будет окончить свои дни в нищете и сраме. Если же ты согласишься играть роль в моей постановке, то ты должна будешь точно исполнять все мои указания. Выбор за тобой.
– Я хотела бы сперва знать, что должна буду делать.
– Справедливо. Сперва я дам тебе новое имя и новую историю… В ней не будет ни мадам Терсо, ни прочих ужасов, что выпали на твою долю. Я слышал твой голос, Лея. Он не менее прекрасен, чем ты сама. Я сделаю из тебя певицу, актрису, и ты с твоей красотой и талантом станешь желанной гостьей везде.
– Актриса, конечно, лучше, чем проститутка. Но разница не так уж велика, если брать отношение к нам порядочных людей.
– И тем не менее она есть. Проститутка никогда не будет допущена в те дома, где актриса является желанной гостьей. Разумеется, актриса актрисе рознь. А потому талант и красота – лишь начало. Язык, манеры, кругозор… Тебе понадобится все.
– Черт побери! – рассмеялась Лея. – Я и писать-то не умею!
– Каждый день к тебе будут ходить учителя. Ты научишься читать и писать, прилично разговаривать и держать себя, научишься музыке и иным необходимым вещам. А затем начнется твой путь к славе и к княжескому титулу.
– Почему вы так уверены, что этот князь настолько потеряет голову, что женится на мне?
– Потому что порочная страсть подобна болоту. Особенно, в человеке слабом, ничтожном и уже отчасти слабоумном. Овладев его сердцем, она неминуемо затянет его всего. Ты же, дитя мое, бриллиант, который при нужной огранке будет способен ослепить и не такую ничтожную жертву.
– Вы так легко распоряжаетесь чужими жизнями, что я боюсь вас…
– Это происходит от того, что однажды моей жизнью распорядились слишком легко и жестоко. Но тебе не нужно меня бояться. Я никогда не причиню зла невиновному. Ты же, если примешь мое предложение, ни в чем не будешь нуждаться. Те камни, что теперь надеты на тебе, лишь скромный аванс.
Лея машинально пощупала крупные жемчужины, приятно холодившие шею. Этот странный человек пугал и влек ее одновременно, и на миг ей стало жаль, что она нужна ему лишь как средство мести. Бриллиант, который может ослепить… Вот, только не его. Будто он не человек, а сам дьявол… Какую игру он ведет? Кто должен пасть его жертвами? И не обманывает ли он ее? Не придется ли ей заплатить слишком дорого за согласие сделаться безмолвной исполнительницей его воли, как все в этом доме?
А что если отказаться? Час-другой, и снова салон мамаши Терсо… Вульгарные платья и пошлые куплеты для пьяной публики, отпускающей похабные шутки и тянущей к ней потные руки… Орущие и гогочущие лица «господ», один из которых эту ночь непременно проведет в ее постели… И в памяти не останется от него даже – лица. Потому что все они давно слились воедино и вызывают лишь тупое отвращение.
И лишь одно лицо – не забыть никогда. Лицо человека, который сидит теперь напротив нее, на другом конце длинного-длинного, бесконечного стола, сидит так далеко, что никак не ощутить ни тепла его, ни дыхания. Человека-тайны, которому нет дела до ее красоты…
Нет, не могла Лея покинуть этот дом, вернуться в свой привычный ад… Этот человек словно лишил ее воли, приковал к себе.
– Так что ты решила, дитя мое? – спросил он тоном полного безразличия по окончании ужина.
– Мне нечего терять в этой жизни… И я согласна. Я сделаю все, что вы скажете. А если вы погубите меня, то это будет ваш грех, а не мой.
– Я рад, что ты приняла правильное решение, – кивнул Альфонсо и снова позвонил в колокольчик. – Твоя новая жизнь начнется с завтрашнего дня. Эльза, – он кивнул на вошедшую горничную, – проводит тебя в твою комнату и будет при тебе неотлучно. Она даст тебе первые указания.
Глава 1.
Полковник Стратонов прибыл на Кавказ аккурат к началу новой большой войны, дым которой еще издали живил его задыхавшуюся в столице душу, возвращая в привычный ритм бивуачной жизни.
Двенадцать лет потребовалось Персии, чтобы забыть сокрушительные поражения, нанесенные ей славным Котляревским при Ахалкалаки и Асландузе. Сын бедного сельского священника, воспитанник духовного училища, сменивший свитку на мундир пехотинца, этот выдающийся воин уже к тридцати годам вышел в генералы, увенчав себя лаврами победителя могущественной персидской армии, и с тем вынужден был выйти в отставку из-за подорванного тяжелым ранением здоровья. Его пример не раз возникал в памяти Стратонова по дороге на Кавказ. Новая война открывала дорогу новым подвигами и новым героям.
Презрев Гюлистанский мир, ставший итогом прошлой, почти на десятилетие затянувшейся войны, персы под водительством наследного принца Аббас-Мирзы вторглись в пределы России, разоряя приграничные области и вселяя ужас в их жителей, в памяти которых живы были неописуемые зверства Аги Моххамед-хана, изверга-евнуха, залившего кровью древнюю Грузию.
Хотя вероломство персов не было неожиданностью для людей, хорошо знавших положение дел в этих краях, но, как показывает история, любое нападение всегда застает обороняющихся в той или иной мере врасплох.
Трудно было найти человека, лучше знавшего лживую натуру персов и самого Аббас-Мирзы, нежели Алексей Петрович Ермолов. Еще в начале своего правления на Кавказе он с посольством совершил в Тегеран визит, имевший важное значение для обоих государств. Хорошо знавший восточные нравы и не чуждый, когда требовалось, восточной хитрости и красноречия, Ермолов сумел всецело расположить к себе старого шаха, более всех государственных забот беспокоившемся о своем гареме, насчитывающим сотни «жен». Он ослепил персов пышностью своего посольства и удивил категорическим отказом от дорогих подарков, которые правдами и неправдами норовили всучить ему и тем подкупить. Он вызвал недовольство вельмож и зависть иностранных посланников тем, что отказался выполнять унизительные правила церемоний, кои должны были подчеркивать в глазах народа важность шаха и его наследника и ничтожность иноземных послов. Европейцы терпеливо унижались, меняя обувь на красные чулки, дабы предстать пред ясные властительные очи и исполняя другие глупейшие требования. Алексей Петрович спокойно прошел по дорогим персидским коврам в сапогах, позволив лишь стряхнуть с них пыль. Его невозможно было ни обмануть, ни подкупить, ни соблазнить лестью. То была скала, неколебимая в защите русских интересов.
Непримиримого врага обрел Ермолов в Аббас-Мирзе. Этот принц не имел законного права наследовать престол шаха, так как у него был старший брат. Однако, учитывая, что мать последнего была христианкой, а мать Аббас-Мирзы происходила их шахского рода, то право первородства было попрано. Обиженный брат обещал мириться с таким положением дел, доколе жив отец, а потом решить вопрос престолонаследия мечом. Старого шаха это вполне устроило. Но не Аббас-Мирзу.
Последнему необходимо было признание своих прав, как внутри страны, так и вовне. Англия, стремившаяся во что бы то ни стало ослабить влияние России в важнейшем для нее регионе, поддержала узурпатора. Ермолов же во время своего посольства обращался к нему, исключительно как к наместнику пограничных с Россией областей, игнорируя титул наследника. Зная, что старший сын шаха является сторонником русского Императора, Алексей Петрович был убежден, что необходимо поддерживать именно его, не признавая амбициозного, но слабохарактерного младшего брата. Увы, канцлер Нессельроде счел иначе, и Россия совершила крупную ошибку, признав Аббас-Мирзу законным наследником.
Получив признание внешнее, принцу осталось заручиться поддержкой внутренней. Ее могли доставить ему военные победы над могущественным соседом, реванш за поражение 1813 года. Какое-то время от опрометчивой авантюры Аббас-Мирзу удерживал его воспитатель, сохранивший влияние на принца и в зрелые годы. Увы, этот умный и дальновидный человек скоропостижно скончался, и воинственно-настроенное окружение, подстрекаемое Англией, легко склонило жаждавшего славы Аббас-Мирзу начать боевые действия.
Начало кампании совпало с началом нового царствования в России, и это обстоятельство неблагоприятно сказалось на судьбе Ермолова. Известный своими резкими высказываниями, еще в младые годы приговоренный к ссылке в имение за участие в тайном обществе, пользовавшийся симпатиями многих декабристов генерал, который к тому же не тотчас привел к присяге Николаю Кавказский корпус, не мог не вызывать настороженное отношение молодого Императора, имевшего печальный случай убедиться, что в заговор могут быть втянуты даже самые высокородные, при чинах и заслугах люди.
И хотя никаких показаний против Алексея Петровича не было, а промедление с присягой объяснялось его осторожностью, которая не позволяла принимать скоропалительных решений, находясь так далеко от столицы, и запоздало получая оттуда противоречащие друг другу сведения, для выяснения ситуации на Кавказе Государь сперва направил князя Меньшикова, а после – Паскевича и Дибича. Последние, в особенности, Паскевич, не преминули разжечь подозрительность Императора к кавказскому наместнику, место которого желательно было им обоим.
Стратонов по приезде своем на Кавказ застал Ермолова в угнетенном расположении духа. Его тяготило висевшее над ним недоверие Государя, мелочные интриги вокруг него, о которых он хорошо знал. Конечно, и самому Алексею Петровичу случалось не только разить в глаза Царю – «Произведите меня в немцы!», но интриговать куда более искусно. Юрию, бывшему адъютантом при князе Багратионе, было хорошо известно, как во время печальной памяти отступления Ермолов, состоявший начальником штаба при Первой армии Барклая, усиленно подбивал к бунту против последнего штабных офицеров. Подзуживал в письмах к тому Багратиона, и без того разгоряченного, раздраженного против губящего, как многим тогда казалось, Россию «немца» и искавшего занять его место во имя спасения Отечества. Писал и напрямую Государю, дабы тот сместил Барклая и отдал начальство в армии князю Петру Ивановичу. Тогда эти действия казались Стратонову всецело правильными. Но по прошествии лет, когда сама история доказала честность Барклая и верность в основе своей избранной им стратегии, Юрий посмотрел на дело другими глазами. Строить интриги против своего командира за его спиной, оставаясь при этом на посту начальника его штаба – не самое благовидное занятие. И провоцировать конфликт внутри командования в разгар войны – также. Даже если действия эти вызваны лишь пламенной любовью к Отечеству и болью за его поругание.
Теперь невидимые нити интриг вязали и душили самого Ермолова, лишая его необходимой энергии для решительных действий на фронте.
– Они требуют от меня решительного наступления! – зло говорил Алексей Петрович, качая своей львиной головой, производившей столь неизгладимое впечатление на персов в памятные дни посольства. – А как я могу действовать решительно, если я уже не чувствую себя хозяином, командующим здесь? Здесь хозяева теперь все! Паскевичи, Дибичи… Вынюхивают, выспрашивают, проверяют… Все эти годы я чувствовал за собой поддержку Государя. А сейчас всякий мой шаг норовят истолковать к моему обвинению. И как же мне бить перса, не имея Высочайшего доверия?
Ермолов имел все основания негодовать. Именно он, а никто иной обратил совершенно дикий, разоренный край, покрытый лесами, служившими надежным убежищем для чеченских разбойников, в истинную провинцию Империи. Разбойничьи леса были вырублены, непокорные аулы приведены в повиновение огнем и мечом, всюду проложены дороги, для передвижения по которым уже не требовалось, как прежде, большого конвоя. Тифлис расцвел к новой жизни, восстанавливаясь после многовекового кошмара жестокого порабощения. Солдаты боготворили Ермолова, который всегда бывал прост и сердечен в общении с ними, всегда умел найти нужное слово, зажечь сердца. И который к тому же отличался исключительной скромностью своего быта. У него, как некогда у князя Петра Ивановича, было «все для других и ничего для себя». Долгое время покоритель Кавказа и вовсе жил в землянке, которую теперь любили показывать заезжим путешественникам.
Горцы же относились к генералу с суеверным трепетом. «На небе – Аллах, на земле – Ермолай», – говорили они. Его имя приводило в страх мятежников, которым доставало подчас для усмирения одной угрозы: «Ежели не покоритесь, сам приду…» Воинственные племена и их вожди знали, что Алексея Петровича нельзя ни обмануть, ни купить, ни напугать. А он, совершенно изучив их характер, утвердился в мысли, что племена эти понимают лишь один язык – твердой, неколебимой, но справедливой силы.
– Снисхождение в глазах азиатов – знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены, – говорил он.
И, вот, теперь все эти достижения, вся эта многолетняя работа чернилась людьми, Кавказа не знавшими и не понимавшими, лишь из одного постыдного искательства…
– Я напишу Государю о том, что вижу здесь, и, надеюсь, мой голос что-то да будет значить для него, – предложил Стратонов.
– Нет! – вспыхнули глаза из-под сурово сдвинутых бровей. – Я в защитниках не нуждаюсь! Погоди, история очень скоро защитит меня сама…
Юрий не стал настаивать, зная упрямый характер генерала.
Была, между, тем и другая, главнейшая причина промедления Ермолова, служившего ко столь многим несправедливым упрекам в его адрес.
– Наши силы теперь ничтожны в сравнении с персидскими. Персы, как следует из донесений наших агентов, ныне не те, что при Котляревском. Англичане все эти годы обучали их варварские толпы, вооружали и, наконец, сделали из них армию. Если я теперь брошу на них все наличные силы и потерплю неудачу, то это будет конец кампании. Промедление же дает нам время стянуть дополнительные силы, укрепиться и подготовиться к решительному сражению, к верной победе. Аббас-Мирзе при этом промедление не дает никакой выгоды. Наоборот. Его войска занимают татарские провинции, теряют первый порыв наступательной войны… Придет час, и мы нанесем им сокрушительный удар. Нужно лишь иметь терпение, не бить копытом о землю, как граф Паскевич!
Та обстоятельность, с которой Алексей Петрович, объяснял Стратонову свое положение и логику действий, уверила его в том, что отказ от «защиты» с его стороны был лишь восточной хитростью. На самом же деле, суровый правитель Кавказа рассчитывает, что прибывший в его распоряжение полковник, пользующийся дружбой молодого Императора, непременно отпишет последнему об увиденном и услышанном.
Юрий не замедлил с отправкой соответствующего письма, считая это долгом чести как по отношению к Ермолову, так и по отношению к армии и Отечеству, которым вовсе не на благо была очередная распря в высшем командовании во время войны.
Письмо это, впрочем, не смогло перевесить «тяжелой артиллерии» графа Паскевича, который умел добиваться своего не только на поле боя, но и на дворцовых паркетах. Потомок запорожского казака Паська, сын полтавского помещика, Иван Федорович обладал чисто хохлацкой хитростью, изворотливостью и умением втереться в доверие. И чисто хохлацким же гонором, требовавшим первенства во что бы то ни стало, не терпящим противоречия и стремящимся принизить всякий талант, могущий грозить соперничеством. Все это ярчайшим образом явилось в конфликте с Ермоловым и его ближайшими сподвижниками.
Воинский путь графа Паскевича был без сомнения славен. Кое-кто называл его гением, но отец Ивана Федоровича отвечал на это небрежно: «Що гений, то не гений, а що везэ, то везэ…»
Ему и впрямь везло. Из камер-пажей он был произведен во флигель-адъютанты минутной прихотью Императора Павла. Состоя в Молдавской армии, юный Паскевич отличился в деле под Журжею, спася своей распорядительностью заплутавшую в ненастье русскую колонну и вовремя введя ее в бой, что обеспечило победу над турками. Неоднократно ловкий и удачливый офицер посылался с секретными поручениями в Константинополь, где склонял турок к войне с англичанами. Однажды конвой его разбежался, и он в одиночку, оставшись в незнакомых горах, сумел пробраться через Балканские ущелья в город Айдос. В другой раз беснующаяся константинопольская чернь требовала его выдачи, и Паскевич спасся лишь тем, что отважно бросился в рыбачий челн и один пустился на нем в море. Несколько дней бушующая пучина кружила утлую ладью, а затем милостью Небес выбросила ее к берегам Варны.
Тяжело раненый в голову при штурме Браилова, Иван Федорович остался в строю и проявил себя во всех славных делах под командованием Прозоровского, Багратиона и Каменского. Под Варной он с одним Витебским полком отразил яростную атаку турецкой армии… В двадцать девять лет этот баловень судьбы был уже генералом.
Затем был 1812 год… Вильна, где сам Кутузов представил его Императору, как выдающегося военачальника, Лейпциг, взятие Парижа…
В мирные дни под его началом какое-то время служил Великий Князь Николай, величавший с той поры Ивана Федоровича «отцом-командиром». Красавец, краснобай, этот человек умел быть исключительно обаятельным и изображать совершенное простодушие. Это расположило к нему вдовствующую Императрицу, поручившую его попечению младшего сына Михаила, коего Паскевич в течение года сопровождал в путешествии по Европе.
Казалось бы, неоспоримая слава его ратных подвигов, стремительное продвижение по службе, близость к Августейшим особам, красота и неизменная удачливость должны были отчасти изгладить, смягчить неуемное тщеславие графа, сделать его в ответ на щедрость судьбы самого более щедрым к другим, справедливым к их достоинствам. Но ничуть не бывало. Военный талант и личная отвага соседствовали в Иване Федоровиче с какой-то мещанской мелочностью, жгучей ревностью к проблеску чужой славы – качествами, присущим озлобленным, обиженным судьбой неудачникам. Странно и печально было наблюдать это неприятное сочетание.
Тем не менее, влияние Паскевича на Государя и его Августейшего брата было столь велико, что именно ему было вручено командование действующей армией, коей надлежало разгромить и примерно наказать Аббас-Мирзу. Обидно было для Ермолова и его сподвижников, Вельяминова и Мадатова, неусыпными трудами которых готовилась будущая победа, что снимать сливки с их трудов будет «царский любимец», пусть и талантливый военачальник, но для этой победы не сделавший еще ничего. Но приходилось повиноваться.
«Не оскорбитесь, любезный князь, – писал Алексей Петрович князю Мадатову, который должен был возглавить войска и лишь в последний момент оказался заменен Паскевичем, – что вы лишаетесь случая быть начальником отряда тогда, когда надлежит ему назначение блистательное. Конечно, это не сделает вам удовольствия, но случай сей не последний. Употребите теперь деятельность вашу и помогайте всеми силами новому начальнику, который, по незнанию свойств здешних народов, будет иметь нужду в вашей опытности. Обстоятельства таковы, что мы все должны действовать единодушно».
Именно под начало славного Мадатова был еще прежде определен Ермоловым Стратонов. Это дало Юрию возможность принять самое деятельное участие в первом победном деле этой войны – битве под Шамхором.
Валериана Григорьевича Мадатова война застала на кавказских водах, где он восстанавливал подорванное ранами и напряженными трудами здоровье. Лечение должно было продлиться до глубокой осени, но, едва заслышав грозный рокот войны, князь забыл о болезни, сел в перекладную тележку и уже на третий день был в Тифлисе, а оттуда спешно отправился догонять выступившую к занятому персами Елизаветполю армию. Когда весть о его скором прибытии достигла солдат, восторг их был неописуем.
– Ну, слава Богу, едет Мадатов! Теперь персиянам шабаш!
После Ермолова не было на Кавказе военачальника более любимого солдатами, чем князь Валериан Григорьевич. Своим возвышением бедный карабахский армянин был обязан исключительно собственным дарованиям и отваге. О нем говорили, что лишь тот, кто видел князя Мадатова в пылу сражения, под градом пуль и картечи, может судить, до какой степени храбрость может быть увлекательна и как одно появление перед войсками таких вождей, как Мадатов, служит вернейшим залогом победы.
Немалую роль в судьбе Валериана Григорьевича сыграл Император Павел. Прибыв в Петербург с одним из своих соотечественников, Мадатов загорелся желанием поступить в гвардию. Но его друг вскоре уехал, а у самого юноши не было ни гроша, чтобы остаться в столице. Он вынужден был вернуться в Карабаг, но – счастливый случай: Император сам вспомнил о молодом горце, которого однажды заметил на разводе, и приказал привезти его назад с фельдъегерем. Мадатов явился и был тотчас определен подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк с титулом князя, а с производством в офицеры переведен подпоручиком в армию.
Его служба начиналась в пехоте, в рядах которой он не единожды отличился в ходе турецкой кампании 1808 года. Но, само собой уроженцу Карабага куда роднее была кавалерия, куда и был он переведен два года спустя. Одним из самых славных дел Мадатова было сражение под Батиным, где граф Каменский разбил сорокатысячную турецкую армию. Александрийский полк, в коем служил князь, стоял на левом фланге. Командир полка Ланской рассказывал офицерам про одного майора, получившего при Екатерине небывалую в этом чине награду – Георгия 3-ей степени. Мадатов, имевший чин майора, тотчас спросил Ланского, что ему сделать, чтобы получить георгиевский крест? Командир в шутку указал на четырехтысячную колонну турецкой кавалерии, шагом выезжавшую из лагеря:
– Разбей их!
– За мной! – крикнул Мадатов двум эскадронам и бросился на неприятеля. Ланской и другие офицеры не успели опомниться, как два эскадрона русских гусар столкнулись со всей четырехтысячной массой турецкой кавалерии. Неожиданность и стремительность атаки, однако, столь потрясла неприятеля, что лощина на протяжении нескольких верст покрылась трупами изрубленных турок… Бой окончился лишь ночью, а утром курьер из главной квартиры привез Мадатову георгиевский крест, пожалованный ему еще за предыдущее сражение и производство в подполковники.
Нашествие Наполеона застала князя уже командиром Александрийского гусарского полка. 11 ноября под Борисовым положение русской армии было критическим. Авангард, разбитый и отброшенный, должен был отступать через Березину по узкому, длинному мосту, загроможденному столпившимися на нем обозами и артиллерией. Мадатов решился остановить французов, дабы спасти остатки пехоты и дать возможность убрать хоть часть застрявшей на мосту артиллерии. Он выдвинул вперед четыре эскадрона и, проскакав по их фронту, сказал:
– Гусары! Смотрите: я скачу на неприятеля! Если вы отстанете – меня ожидает плен или смерть! Ужели вы в один день захотите погубить всех своих начальников? – и, не ожидая ответа, он круто повернул и пришпорил коня и помчался на неприятеля. Гусары не отстали от него и под огнем двадцати орудий врубились в пехоту. Этот бой стоил александрийцам очень дорого, но они восстановили честь русского оружия, спасли артиллерию и дали возможность пехоте отступить без больших потерь.
В Заграничном походе Мадатов отличился под Калишем и Люценом, участвовал в нескольких отважных партизанских поисках и в битве народов под Лейпцигом. По окончании войны в генеральском чине Валериан Григорьевич получил назначение на Кавказ. Уехавший оттуда шестнадцать лет назад бедным сиротой, он возвратился правителем трех мусульманских ханств: Ширванского, Шекинского и Карабагского. И здесь, на родине, талант князя раскрылся во всем своем блеске. Войска, предводимые им, проникали в такие места, в которых еще никогда не бывала нога победителей, и где народ не знал, что значит быть побежденным. Горы Дагестана склоняли пред ним непокорные головы, а нравственное влияние, которое он приобретал над побежденными было столь сильно, что заставляло недавних врагов становиться под его знамена и идти на бой со своими единоземцами.
Стратонову Мадатов чем-то напоминал незабвенного князя Петра Ивановича, и тем отраднее было оказаться именно под его началом.
Валериан Григорьевич прибыл в действующую армию, стоявшую у Красного моста, переброшенного через реку Храм, глубокой ночью в простой почтовой тележке без всякого конвоя. Еще до света войска были построены, и князь весело приветствовал их:
– Ну, ребята, правду ли я слышал, что у вас нет говядины?
– Так точно!
– Так вот, ребята, что, я вас знаю – вы русские воины. Я проведу вас на персиян, мы и их побьем, – и тогда у нас всего будет вдоволь!
– Рады умереть под командой вашего сиятельства! – последовал дружный крик.
Прибытие князя мгновенно склонило на сторону русских колебавшихся до той минуты татар, всегда примыкавших к сильному. Персы нарочно пустили меж ними слух, будто бы Мадатов отозван в Россию и более не появится на Кавказе. И, вот, он приехал, и татары нарочно приходили в лагерь, дабы убедиться в этом, и вставали под знамена Валериана Григорьевича.
Передовой отряд под командованием князя вскоре продолжил прерванный в ожидании его приезда поход, и ободрившиеся солдаты распевали любимую боевую песню:
– Генерал храброй Мадатов
Нас к победам поведет;
Он военные ухватки
Персов знает напролет.
Хотя Ермолов в письмах рекомендовал Валериану Григорьевичу соблюдать всякую осторожность и в случае надобность отступить, Мадатов нисколько не думал об отступлении. Он поспешно шел к расположенному на пути к Карабагу Елизаветполю, где были сосредоточены значительные силы персов, имея целью разгромить противника, а также снять блокаду Шушинской крепости.
Вторая задача как нельзя более отвечала стремлению Юрия, ибо в осажденной персами Шуше находился его брат Константин, направленный в числе небольшого отряда для усиления гарнизона крепости в самом начале войны. Шуша изнемогала от голода и жажды, но продолжала стоять, имея приказ Ермолова держаться до последнего.
Встреча с неприятелем случилось прежде, чем отряд добрался до Елизаветполя. Не только Мадатов искал персов для того, чтобы задать им знатную трепку, но и они искали русских, льстя себе тою же надеждой.
Когда войска подошли к Шамхору, древнейшему городу, расположенному на реке Шамхор-чай, то обнаружили, что персидская конница уже заняла высившийся впереди Дзигамский шпиц. Вскоре стало ясно, что на правом берегу Шамхор-чая расположился десятитысячный персидский корпус, имевший большие массы кавалерии и поставленную англичанами артиллерию.
Мадатов, остававшийся во всех ратных делах одновременно вождем и первым солдатом, осмотрел позиции противника и, построив свой отряд в боевом порядке, отдал приказ о наступлении. Под мерный грохот барабанов, чеканя шаг, без единого выстрела, с ружьем наперевес впереди шли два батальона грузин и егерей, за ними двигались херсонцы. А впереди колонн, верхом на золотом карабагском коне, осыпаемый градом пуль, ехал сам Валериан Григорьевич. Опасаясь за жизнь генерала, ехавший подле него Стратонов воскликнул:
– Они вас видят, князь! И метят в вас!
– Тем лучше, что меня видят, – белозубо улыбнулся Мадатов, – скорее убегут! А ну, ребята, прибавить шагу! Не будем заставлять неприятеля ждать себя!
Колонны двинулись быстрее. Вот, завязалась артиллерийская дуэль через реку, вот, на правом фланге закипело сражение, вот, охватила перестрелка уже всю неприятельскую линию… А колонны шли, предводительствуемые все также спокойно ехавшим впереди всех князем. Мерно, под барабанную дробь, не замедляя шага – вот, они спустились к реке и пошли через нее вброд, по пояс в воде, вот, ринулись на крутые высоты противоположного берега.
Вдруг что-то полыхнуло ослепительной молний – то была выхваченная из ножен сабля Мадатова. Сделав полуоброт в седле, он крикнул одно слово:
– Ура! – и словно ток пробежал по рядам идущих за своим вождем солдат. Отвечая ему громовым эхом, они стремительно ринулись на вражеские батареи. Понеслась, рубя неприятеля, конница.
В этот миг позади русских рядов, на горизонте показались облака пыли. Это спешил к месту боя отставший в дороге обоз. Персы же приняли его за сильное подкрепление и обратились в бегство, и русской кавалерии осталось лишь преследовать их. Отступление было столь поспешным, что принц Мемед-Мирза, командовавший корпусом, проскакал мимо своего лагеря, не успев даже вывезти из него свиту молодых и красивых мальчиков, сопровождавших его в походе. Ужас персов был столь велик, что бежали они уже не в Елизаветполь, а мимо него, за Курак-Чай и дальше по Шушинской дороге.
– Вы русские воины, русские богатыри! – весело говорил сияющий Мадатов, обходя после боя расположившиеся на бивуаках войска. – Я с вами никогда не буду побежден, мы будем бить персиян везде, где их встретим!
Обратясь к Стратонову, Валериан Григорьевич шутливо осведомился:
– Ну, что, Юрий Александрович, прочистилось ли ваше горло от петербургского тумана? То ли еще будет! Нас ждет Елизаветполь и Аббас-Мирза!
Елизаветполь, действительно, ждал князя, но уже без персов, которые покинули город, тотчас занятый армянами. Последние встречали прославленного полководца ликованием, падали перед ним на колени, обнимали его ноги, на улицах распевались песни, слышались возгласы «Кгчах (молодец) Мадатов!», солдатам подносили хлеб и вино, а духовенство служило благодарственный молебен.
Торжества продолжались недолго. Очень скоро лазутчики донесли, что, узнав о поражении под Шамхором, Аббас-Мирза оставил осаду Шуши и со всею своей армией ринулся к Елизаветполю. Это ставило отряд Мадатова в весьма затруднительное положение, ибо дополнительные русские силы еще не подошли, а наличные были слишком малы в сравнении с наступающей армией персов. В этот-то момент и явился на театре военных действий Паскевич, неожиданно назначенный командовать русскими войсками в персидской кампании.
Новый главнокомандующий успел прибыть из Тифлиса прежде Аббас-Мирзы, продвигавшегося чересчур медленно, и привел с собой необходимые резервы. Уже первый день нахождения в Елизаветполе явил характер Ивана Федоровича. Все ему не нравилось, во всем он находил беспорядки. Его выводило из себя неприглядное состояние обмундирования войск и их отвыклость от фрунта, отсутствие должной выправки. То, что войска эти годами находились в состоянии войны, что им покорялся весь Кавказ, что выходили они победителями из многочисленных кровопролитных сеч с сильнейшим неприятелем, значения как будто не имело. Гнев Паскевича обрушивался поочередно на всех начальников, кои, как и солдаты, не привыкли к такому обращению.
Мрачно наблюдал за этим разносом смуглый дочерна, а теперь точно еще более почерневший Мадатов.
– Подумать только! Это с нашими-то орлами ему – «не дай Бог в первый раз в бою быть»! Скорей уж не дай Бог в бою быть под таким началом…
– Полноте, князь, – попытался смягчить его Стратонов. – Уверен, что он говорит не то, что думает. Иначе бы не решился принять бой. Иван Федорович при всех своих недостатках не хуже нас знает, что такое война.
– Просто ему необходимо унизить и смешать с грязью всех, чтобы выставить победителем одного себя? – недобро усмехнулся Валериан Григорьевич. – А не думает ли он, что такая обида офицерам и солдатам (особенно, солдатам!) накануне боя может снизить их боевой дух и скверно отразиться на деле?! У солдата перед боем сердце гореть должно, а не тянуть от незаслуженных попреков…
– Что поделать, князь, таков характер Паскевича, – вздохнул Юрий, также раздосадованный устроенной графом публичной «поркой».
– Хорош подарочек, нечего сказать, – проворчал Мадатов.
Неприятель подходил все ближе, а русские войска были заняты учебными построениями. Лишь появление на горизонте конных разъездов Аббас-Мирзы освободили солдат от глупой и ненужной муштры.
Паскевич срочно собрал совещание, на котором вынес предложение встретить персов в самом городе и дать бой на его улицах. Сидевший подле Мадатова Стратонов заметил, как хмурое лицо того вытянулось при этих словах главнокомандующего. Валериан Григорьевич резко поднялся и, едва сдерживая негодование, воскликнул:
– Воля ваша, граф, но принять бой в таких условиях – значит… погубить армию!
Паскевич вспыхнул и впился глазами в князя:
– Отчего вы так полагаете? – спросил отрывисто.
– Оттого, что войска, находясь на узких улицах этого города, будут лишены возможности для маневра, окажутся в тисках! Кроме того, в Елизаветполе, кроме дружественных нам армян, полно татар, всегда могущих нанести нам удар в спину. Они уже теперь поют свои гимны в ожидании, когда могущественная армия персиян разобьет горстку гяуров! Мы не имеем право подвергать такой опасности армию, а с нею честь России и нашего Государя!
Упоминание Высочайшего имени убавило спесь Ивана Федоровича, и он спросил с видимым спокойствием:
– Что же предлагаете вы?
– Только наступление! – решительно ответил Мадатов и тотчас представил совету свой план действий.
Паскевич выслушал его, не показывая своего отношения, затем предложил высказаться другим участникам совещания, начиная с младших по чину. Большинство, включая Стратонова, поддержали Валериана Григорьевича. Решило дело мнение начальника штаба Вельяминова, выступавшего последним.
– Я считаю доводы князя обоснованными и поддерживаю его план, – сказал верный сподвижник Ермолова и Мадатова. – Нужно наступать, граф, иначе Елизаветполь станет для нас мышеловкой.
Иван Федорович был достаточно умен, чтобы сознавать, что эти заслуженные кавказские генералы пока еще лучше знают условия, в которых протекает кампания, и способны лучше и вернее его ориентироваться в них. Это должно было серьезно ранить его самолюбие, но перед важностью поставленной перед ним Государем задачи оно вынуждено было на время примолкнуть. План Мадатова был принят.
Покидая совещание, Вельяминов заметил довольному одержанной победой Валериану Григорьевичу:
– Тешьтесь, князь, но как бы впоследствии нам не пришлось быть в ответе…
Поздним вечером в палатку к Мадатову явились трое армян, бежавших из персидского лагеря, и сообщили, что Аббас-Мирза хотел атаковать русских уже этой ночью, но по настоянию совета отложил наступление до утра. Князь тотчас отправился будить Паскевича, и тот лично расспросил перебежчиков.
Решено было опередить персов. Поднятые еще задолго до рассвета солдаты спешно съели ранний обед и встали под ружье. В это время еще один лазутчик сообщил, что с тыла к Елизаветполю подходят войска Эриванского сардаря.
– Что ж теперь будем делать? – озадаченно спросил Паскевич, обводя взглядом собравшихся старших офицеров.
– Побьем Аббас-Мирзу – уйдет и сардарь! – был ответ.
И вновь последовал главнокомандующий общему решению, хотя колебания не покидали его даже в начале сражения, когда перед русскими рядами возникла огромная масса персидской конницы. Было отчего дрогнуть человеку, еще не знавшему кавказского солдата – превосходство персов было велико. Шести с половиной батальонам при двадцати двух пушках и полуторам тысячам всадников предстояло сразиться с шестидесятитысячным полчищем персов при двадцати шести орудиях, руководимых английскими офицерами. Перед этой грозной силой Иван Федорович едва не отдал приказа об отступлении, но горячие настояния Мадатова и Вельяминова удержали его от этого шага. Им двоим, по существу, вручена была судьба этой важнейшей битвы.
Персы с первых мгновений боя стремились замкнуть в полукруг русский отряд. Последний до времени оставался стоять неподвижно. Князь Мадатов, становившийся невыразимо прекрасным в такие мгновения, шагом объезжал войска под чудовищным огнем неприятеля.
– Ребята! Не жалейте сегодня пролить свою кровь за Государя и Россию! – говорил он солдатам и казакам. – Помните мое наставление: держитесь час – и неприятель побежит!
Первые атаки персов были столь яростны, что на левом фланге казаки и татары мгновенно были опрокинуты и понеслись назад. Обходивший в это время пешком интервалы линий Паскевич внезапно очутился в толпе беспорядочно бегущих татар. Тут-то и сказалось достоинство истинного воина и полководца. Его спокойствие и уверенный тон, с которым он обратился к смешавшейся и перепуганной массе, имели магическую силу. Татары вновь построились и ринулись в бой.
Между тем, персидская конница грозной тучей неслась на левый фланг. На счастье он оказался прикрыт небольшим, но крутым оврагом, незаметным издали неприятелю. Стремительная лавина остановилась как вкопанная перед неожиданным препятствием и попала под огонь грузинского батальона. Одновременно, обогнув овраг, насели на вражескую конницу оправившиеся казаки и татары. Растерявшиеся персидские всадники бросились бежать и, рассыпавшись по полю, открыли свою пехоту.
Однако, неприятель обладал немалой ловкостью. В какой-то момент сарбазы, отличавшиеся примерной стойкостью, уже зашли в тыл русского войска, и, будь у них в тот момент вдохновенный предводитель наподобие Мадатова, то победа осталась бы за персами. Но такового не нашлось, а Паскевич, вовремя заметив опасность, успел выдвинуть резервы, отбросившие неприятеля.
Левый фланг перестал быть угрожаем, и теперь судьба сражения решалась в самом центре, где распоряжался Валериан Григорьевич. Когда восемнадцать персидских батальонов надвинулись на русскую позицию, насчитывавшую всего два батальона, он приказал пехоте сбросить ранцы и приготовиться к удару в штыки. Солдаты рванулись вперед, но князь удержал их порыв:
– Стой! – крикнул он. – Подпускай персиянина ближе, ему труднее будет уходить!
Сарбазы в синих куртках и белых панталонах надвигались на русских, казавшихся ничтожной горстью в сравнении с этим человеческим морем. Но, вот, грянули по ним двенадцать батарейных орудий, сосредоточенных Вельяминовым, и атака замедлилась. Этим моментом и воспользовался Мадатов. Вновь блеснула ослепительно в солнечных лучах его не знавшая поражений сабля, грянуло знакомое солдатам победное:
– Ура! – и русские перешли в наступление.
Ширванцы и егеря первые кинулись вперед, батальон грузинцев почти в тот же момент сравнялся с ними – начался страшный рукопашный бой. Отважные командиры грузинцев и ширванцев Симонич и Греков, находившиеся во главе своих батальонов, скоро выбыли из строя.
– Вперед, ребята! Там ваше место! – кричал Симонич, которому пуля раздробила ногу, солдатам, хотевшим оказать ему помощь. И солдаты продолжали сражаться, оставив командира на руках цирюльника и одного унтер-офицера.
Потеря любимых начальников лишь ожесточила солдат и они опрокинули неприятеля. В этот момент подоспел переброшенный с левого фланга резерв, и разгром был довершен.
Победы на левом фланге и в центре отвлекли внимание командования от фланга правого. А между тем, здесь конница персов стремительным нападением загнала казаков почти до Елизаветполя и уже обходила русскую линию.
Узнав об этом от прискакавшего с правого фланга офицера, Стратонов, имевший приказание вести преследование отступавших персов, решил на свой страх и риск отложить исполнение этого предписания. Он направился на выручку прижатым к стенам города казакам и херсонцам, приказав майору Клюгенау с шестью карабинерными ротами взять правее между центром и левым неприятельским флангом, чтобы зайти в тыл последнему. Персы заметили это и подались назад. Тогда Стратонов приказал майору Гофману, оборонявшемуся на правом фланге, перейти в наступление, а тем временем доблестные нижегородцы обскакали неприятеля с фланга. Сам Юрий повел в атаку дивизион драгун, воспламенив усталых от многочасового боя людей кратким рассказом о подвигах их товарищей. Атака выдалась стремительной и бурной. Мощным ураганом сносила она все на своем пути. Неприятельская линия была приведена в полное опустошение, и персы предались бегству, в котором лишь гористая и изрезанная оврагами местность спасла их от полного уничтожения.
Два батальона персов успели окапаться на лесном кургане. Стратонов попробовал взять эту позицию силами карабинеров Клюгенау, но те встретили такой отпор, что вынуждены были отступить, потеряв шестьдесят человек убитыми и ранеными. Оставалось караулить неприятеля в ожидании подмоги. И она не замедлила прийти в лице князя Мадатова. Несмотря на сумерки, Стратонов еще издали узнал его характерную фигуру. Подъехав к позиции, Валериан Григорьевич обратился к персам на их языке с предложением сдаться. В ответ раздались выстрелы. Тогда прибывшие с князем два орудия ударили по кургану, после чего князь обратился к солдатам:
– Братцы! Возьмите его в штыки, зарядов он не стоит!
Солдаты словно только и ждали этой команды своего любимого командира. Во главе с капитанами Долининым и Авраменко они бросились на позиции персов, и тем ничего не оставалось, как сложить оружие.
Потери персов в Елизаветпольском сражении составили около двух тысяч убитыми и тысячи пленными. С русской стороны выбыло из строя двенадцать офицеров и двести восемьдесят пять нижних чинов. Среди павших был командир Ширванского полка, подполковник Греков, сраженный наповал ударом пики. Трагическая судьба семейства Грековых составляла славную страницу в истории Кавказского корпуса. В Ширванском полку служило шесть братьев. Старший, прославленный генерал Греков, гроза чеченских и дагестанских разбойников, был убит в Герзель-Ауле во дни недавнего мятежа под водительством Бей-Булата. Трое других пали еще прежде в боях с кавказскими горцами. И, вот, теперь персидская пика настигла пятого брата…
Елизаветпольская победа, освободившая Закавказский край от нашествия врага, принесла заслуженную славу и награды всем участникам этого грозного дела. В первые часы после битвы даже Паскевич был щедр ко всем своим сподвижникам и, обнимая Мадатова, говорил, что именно ему, первому, принадлежит заслуга в русской победе, ибо именно умелые действия князя привели к разгрому неприятеля на главном участке сражения – в центре.
Увы, эта редкая для графа честность в оценке чужих заслуг продлилась недолго. И очень скоро предупреждение дальновидного Вельяминова начало оправдываться.
После такой громовой победы Ивану Федоровичу уже ничего не стоило добиться смещения Ермолова и назначения себя на его место. Тем более, что Алексей Петрович вновь медлил в развитии наступления на персов, тогда как Паскевич и Дибич уверяли, что достанет считанных месяцев для овладения Тавризом и победного окончания войны.
Доводы Ермолова о необходимости обеспечения безопасности в тылу и налаживания снабжения идущей в столь далекие от Тифлиса персидские пределы армии в расчет не принимались. Паскевич полагал, что все необходимое армия получит от армян по ходу победоносного наступления. К сожалению, граф не учел того, что разоренные персами армяне ничем не могли помочь русским войскам, а нуждались в помощи сами.
Справедливость ермоловской осторожности обнаружилась вскоре по назначении Паскевича, столкнувшегося аккурат с теми самыми трудностями, о которых предупреждал его предшественник, и к которым так легко было относиться с пренебрежением, критикуя со стороны…
Ермоловский век на Кавказе был окончен. Он уезжал отсюда в простой кибитке, ничего не нажив за это время – так, как приехал сюда много лет назад. Большой низостью со стороны нового наместника было не позволить Алексею Петровичу даже проститься с войсками. А те взирали на нового начальника мрачно. Старые ермоловские солдаты, возвращавшиеся с заданий в глухих уголках Кавказа, входившие в Тифлис с веселыми песнями и встречаемые там лаской своего «Алеши», как любовно звали они за глаза сурового генерала, теперь были встречены бранью Паскевича. Тот пришел в гнев оттого, что солдаты были одеты не по форме и казались «разнузданной вольницей»…
Времени и совместным сражениям надлежало отшлифовать, выровнять трудности взаимопонимания между новым наместником и его войсками. Пока же последние прибывали в унынии, усугубленном тем, что вслед за Ермоловым с Кавказа были удалены и его вернейшие соратники Мадатов и Вельяминов.
Не задержался на Кавказе и прославленный Давыдов, которому с уходом Алексея Петровича не нашлось места в действующей армии. Опасался Стратонов, что и на него падет немилость самолюбивого графа. Но обошлось – он продолжил кампанию под началом генерала Бенкендорфа. Младший брат шефа жандармов, Константин Христофорович, человек исключительно образованный, говоривший почти на всех европейских языках, он должен был посвятить себя дипломатическому поприщу. Но военная жилка быстро взяла верх над намеченной стезей, и, начиная с 1812 года, Бенкендорф-младший оставил Министерство иностранных дел и сменил свой высокий камергерский чин на звание армейского майора. С той поры этот бравый офицер являлся всюду, где только слышались выстрелы. Мало знакомый с фронтовой службой, он стяжал себе славу лихого партизана и, несмотря на немецкое происхождение, заслужил такую огромную любовь и доверие подчиненных ему казаков, каких редко удостаивались природные уроженцы Дона.
После разгрома французов Константин Христофорович вернулся к дипломатической службе, но с началом новой войны умолил молодого Императора назначить его в Кавказский корпус. По прибытии в Тифлис он справедливо оценил действия Ермолова и Паскевича и не замедлил написать письмо влиятельному брату, в котором категорически утверждал, что все наветы на Алексея Петровича являются клеветой. Бенкендорф получил под свою команду авангард, при Ермолове неизменно предводимый Мадатовым. И – о чудо – в короткий срок этот неизвестный кавказским солдатам пришелец сумел завоевать их любовь и безграничное уважение и повел их к новым славным победам…
Первой целью русского похода в Персию, начавшегося весной 1827 года стал древний Эчмиадзин – армянская святыня, история которой насчитывала более полутора тысяч лет. Путь к сей жемчужине персидских владений лежал через высокий снежный хребет Безобдала. Трудно было вообразить картину более прекрасную, чем эти сказочные белые вершины, подпирающие ослепительно синий небосвод и словно черной стеной окруженные величественными лесами. Лучи солнца заставляли их причудливо переливаться, метать яркие искры. Вершина самого Безобдала была скрыта белоснежными клубами облаков. А где-то далеко внизу расстилалась светлым покрывалом долина, в которой человек казался ничтожной песчинкой.
«Бес его дал» – так прозвали это красивейшее место солдаты, которым пришлось вместо лошадей впрячься в пушки и телеги, чтобы перевести их через перевал. К тому же, когда отряд еще не поднялся до половины горы, погода испортилась: ветер, дувший до сих пор навстречу, перешел в настоящий вихрь, повалил густыми хлопьями мокрый снег, перемежающийся с дождем. Застонало, загудело дикое ущелье, дорога окончательно исчезла. Солдаты переносили тяготы стоически, с песнями и шутками бросались они в воду и грязь, на плечах вытаскивали обозы. Это привело Бенкендорфа в восторг, и он исходатайствовал по рублю каждому солдату за их мужество.
Девятого апреля 1827 года русский отряд вступил в неприятельскую землю и двинулся к Эчмиадзину. Здесь испокон веков располагалась резиденция армянского патриархата. Здесь не переставало биться сердце армянского народа, уже давно полоненного жестокими завоевателями, но и под их властью ревниво берегшего свою веру, Церковь, которая составляла всю силу и надежду его. Божьей волей именно в эту пору и в этих краях в армянском народе явился человек, слово которого воспламеняло уставшие от многовекового ига сердца, чей духовный авторитет имел несравнимое влияние на современников. Этим человеком был архиепископ Нерсес.
Его отец был священником селения Аштарак, и Нерсес с юных лет посвятил себя монашеской жизни, приняв постриг и получив образование в Эчмиадзине. Ближайший сподвижник эчмиадзинских патриархов Даниила и Ефрема, он знал и странствия, и заточения, и славу. В трудное время цициановских войн Нерсес управлял Эчмиадзином и именно тогда стяжал неограниченное доверие народа, заставив самих мусульман охранять монастырь от покушений на него своих единоверцев. Будучи епархиальным архиереем в Грузии, пользовался большим расположением Ермолова. Вынужденный бежать из Эчмиадзина Ефрем, поселившись в одном из грузинских монастырей, поручил Нерсесу верховное правление престолом. Аббас-Мирза, зная влияние архиепископа на армян, старался всеми средствами склонить его переехать вместе с патриархом в Эчмиадзин, дабы иметь их под своей властью. Но Нерсес не поддался на лестные предложения. Страстный патриот своего порабощенного отечества, он жил мечтой о воскрешении угнетенной магометанами святой веры, которого чаял и отец его, запретивший сыну приближаться к своей могиле, доколе мечта эта не исполнится.
И, вот, вместе с русским авангардом шестидесятилетний епископ возвращался на родину. Годы не охладили его энергии и бодрости. Он и теперь готов был ежесекундно пожертвовать всем, чтобы увидеть освобождение отечества. Присутствие при русских войсках Нерсеса необыкновенно воодушевляло армянский народ, толкая его сыновей на героические подвиги. Так, чтобы доподлинно узнать о положении монастыря, святитель отправил туда Оганеса Асланьянца со словесным поручением к тамошним монахам. Но гонец попал в руки персидского разъезда и был подвергнут жестоким пыткам. Несчастному отрезали ухо и выкололи глаз. Когда же и эти страшные увечья не заставили его говорить – отрезали язык. Тем не менее, истекающий кровью юноша добрался до монастыря и исполнил возложенное на него поручение.
13 апреля, в прекрасный солнечный день, русский отряд поднялся на последний горный отрог и, наконец, увидел перед собой Эчмиадзин. Завораживающий то был вид, и Стратонов на несколько минут остановил коня, залюбовавшись им. Среди непреступных гор, сияющих белоснежными вершинами, высился, устремляясь золочеными крестами к небу, древний монастырь. На какое-то время все погрузилось в благоговейную созерцательную тишину. Было слышно лишь, как шепотом молятся солдаты. Но, вот, гулко ударил колокол соборного храма, и из ворот монастыря навстречу освободителям вышло немногочисленное духовенство в торжественном облачении.
– Да здравствует Николай! Да здравствует повелитель и государь Армении! – раздались крики.
– Воссиял день избавления, – со слезами провозгласил архиепископ Нерсес, обращаясь к эчмиадзинскому монашеству, – и вековая слава Армении вновь оживает на земле под сенью креста, с которым идут к нам русские братья. В призывном голосе вождя их мы видим указание Бога, располагающего судьбами царств и народов. Внимайте этому голосу, и днесь, аще услышите его, не ожесточите сердец ваших!
Пав на колени святитель долго и горячо молился о спасении родины, о ниспослании ей долгих и счастливых дней под мощным покровом России, о том, чтобы армянский народ «оказался достойным своего бытия и воскрешения из мертвых»…
Первый шаг дался русскому отряду необычайно легко. Но наступательная кампания лишь начиналась, и теперь путь авангарда лежал на Эривань.
Глава 2.
Несмотря на военное время, столица продолжала жить своей веселой и ветреной жизнью, ничуть не смущаясь раскатами далекого грома. И то сказать – одно дело, когда горела Москва, и сам Бонапарт победным маршем шагал по матушке-России и совсем другое – какие-то персы, напавшие на наши рубежи в диком краю, о коем лишь у немногих было смутное представление, как о поистине гибельном крае. Да, вот, еще Пушкин своим солнечным гением озарил его, чудными стихами и поэмами открыв России иной Кавказ – прекрасный, будоражащий воображение, притягательный в своей непокорности. Однако, все одно – далеко, и не столь важно, чтобы события там отвлекли столицу от ее привычного ритма. Разве только те, чьи сыновья, мужья, отцы сражались там, настороженно прислушивались к долетавшим оттуда вестям.
Семейство Борецких к таковым не относилось. Князь Михаил, хотя и носил чин подполковника, но на фронт не спешил, довольствуясь беспечной службой в Петербурге. Впрочем, «довольствуясь» о младшем Борецком сказать было бы крайне неверно, ибо то был человек, который не бывал доволен ничем и никогда. Темнокудрый красавец с надменным и мрачным выражением лица, он носил на себе печать разочарованности и отверженности. Кое-кто сравнивал его с Байроном – для полного сходства не хватало хромоты и поэтического дара. Другие прозвали демоном. Это, последнее, пожалуй, всего вернее подходило ему. Ибо, если бы какой-либо художник взялся написать падшего ангела, бесприютного Агасфера, то лучшей натуры не нашел бы.
Его брат, занимавший высокую должность в судебном ведомстве, был полной противоположностью ему. Князь Владимир, плотный мужчина средних лет с крупной, почти совершенно лысой головой, он был неизменно учтив и любезен со всеми, но за этой учтивостью сквозило полное равнодушие ко всему, что не касалось благополучия семьи Борецких. Владимир был женат, и брак этот носил такую же печать равнодушия. Оба супруга имели, кажется, одну-единственную настоящую страсть – накопительство. Оба были скупы и редко принимали кого-либо у себя. В них явно отразился процесс вырождения, тронувший аристократию, низведший аристократа до уровня буржуа. Владимир и Прасковья Борецкие хорошо подходили друг другу. Возможно, именно абсолютная эгоистичность обоих являлась причиной бесплодности этого союза.
Куда живее обоих своих сыновей казался старый князь. Лев Михайлович, невысокий, вертлявый старик, с необычайным проворством сновал по залу, приветствуя гостей и особенно гостий, оценивая последних взглядом опытного ловеласа, отпуская шутки и проявляя себя докой в любом вопросе. Менее всего, князя занимали время от времени бросаемые на него негодующие взгляды жены. Никто не замечал, как княгиня Вера Дмитриевна, чье лицо до половины скрывал пышный веер, кусала тонкие губы от вечного стыда за мужа и обиды на него. Никто, кроме сидевшей подле нее загадочной женщины, облаченной в темно-фиолетовые одежды, изобличавшие совершенное презрение их обладательницы к капризам моды.
То была наперсница княгини, с некоторых пор оттеснившая от нее даже юрода Гаврюшу. Вера Дмитриевна утверждала, что эта женщина обладает исключительными дарованиями – предвидит будущее, исцеляет или, как минимум, облегчает болезни и творит иные чудеса. Ближайшие приятельницы княгини подтверждали это, будучи в невыразимом восторге от «душечки Эжени». Но им мало кто верил, зная, что и сама старуха Борецкая, и ее окружение – сплошь экзальтированные особы, которые только тем и заняты, что ищут чудес и чудодеев.
Нынешний прием был особенно в тягость Вере Дмитриевне, ибо давал оный ее супруг в честь заезжей певички, не то итальянки, не то француженки, которая как на грех приключилась с гастролью в Петербурге и обратила на себя внимания многих женолюбов. И князя – в первую очередь.
– Беспутник! – шепотом ворчала старая княгиня. – Фигляр! Даже не понимает, как смешно, как срамно он выглядит! Ведь эта… как ее…
– Лея Фернатти, ваше сиятельство, – напомнила Эжени.
– Вот-вот. Она годится ему во внучки! Да и кроме того, кто она такая, чтобы мы принимали ее в своем доме? О! Мой отец никогда, никогда бы не пустил на порог подобных ей девиц!
– Я слышала, у нее удивительный голос. Она пела перед французским королем, а в Италии…
– Во Франции уже давно перевелись настоящие короли, – безапелляционно отрезала старуха. – В мое время таких, как она, не допускали в порядочные дома!
– Вы, однако же, ни разу не видели ее.
– И счастлива была бы не видеть никогда. Довольно, что ее видел мой муж! Он же без ума от нее всю неделю! Только о ней и твердит. В ее гостиницу он послал уже дюжину букетов и дорогой браслет! И это притом, что мы едва сводим концы с концами. И то – благодаря дорогому Владимиру!..
В это мгновение в зале наметилось оживление, и важный лакей в пышной старомодной ливрее объявил о приезде Леи Фернатти. Старая княгиня надменно поджала губы, но все-таки поспешно навела лорнет на впорхнувшую в залу и тотчас окруженную поклонниками артистку. Молодые офицеры и штатские наперебой рассыпали ей комплименты, но всех их опережал Лев Михайлович, мгновенно подхвативший гостью под руку и поведший ее к установленному на подиуме роялю.
– Несравненная! Мы просим вас усладить наши души вашим божественным талантом!
– Да… – проронила княгиня, качая головой. – Слухи не преувеличили ее красоты. Несчастная наша семья. Теперь уж точно не избежать нам нового позора – когда князь встречает очередную кокотку, он никогда не помнит о приличиях…
Эжени промолчала, слишком хорошо зная, сколько времени, сил и денег было вложено в то, чтобы жалкая куртизанка из парижского притона превратилась за считанные годы в признанную диву, которой рукоплескали в европейских театрах и уважаемых домах… За это время красота Леи расцвела в полную силу. Высокий рост, фигура античной богини, прелести которой подчеркивало дорогое платье, сочетавшее в себе благородную изысканность и легкую фривольность, позволявшую жадным взглядам оценить белизну и нежность обнаженных плеч, спины, высоко поднимающейся от волнения груди. Высокая прическа позволяла любоваться стройной шеей, а темные локоны оттеняли матовую кожу, естественный тон которой не требовал ни румян, ни пудры. При этом лицо красавицы отличалось восточной манкостью. Особенно темно-зеленые бархатные глаза, блеск коих скрывали длинный ресницы.
Лея начала свое выступление с итальянской арии, заворожив зал редким если не по силе, то по тембру голосом. Да, искушенная публика знавала таланты более значительные, но более оригинальные – навряд ли. Педагоги, занимавшиеся огранкой бриллианта, знали свое дело.
– Какая поразительная женщина! – выдохнул Саша Апраксин, схватив за руку Михаила.
Лишь недавно он получил высочайшее позволение возвратиться в столицу и не замедлил воспользоваться им, так как деревня успела немало опостылеть ему за месяцы ссылки. Только две радости и принесли они – исчезновение сестры и помолвка с Ольгой.
Сестра исчезла столь же внезапно, как появилась. В начале мая к ней приехал один из завсегдатаев ее салона, молодой барон Ролан, сын бежавших от революции французских аристократов. По тем взглядам, что барон бросал на Катрин, Саша без труда понял, что он – очередная ее жертва, и от души посочувствовал юноше. Тот же таял от улыбок предмета своего обожания.
Ролан гостил в имении дней десять. А затем исчез вместе с Катрин. Проснувшись поутру, домочадцы обнаружили, что комната хозяйки пуста, равно как и флигель, занимаемый гостем. Ни вещей, ни экипажа не было также. Некоторое время спустя, до Саши дошли слухи, что его сестру видели в Париже, но узнавать подробности ее тамошней жизни он нисколько не стремился.
Исчезновение Катрин принесло ему и Ольге немалое облегчение. Все время вынужденного существования под одной крышей сестра только тем и развлекала свою скуку, что портила кровь брату и его невесте, норовя ввести в доме свои порядки. Потому Саша мысленно поблагодарил Ролана за похищение сестры. Правда, это налагало на него неприятную обязанность сообщить о происшедшем Юрию… Но Саша так и не написал зятю письма, изо дня в день откладывая оное. В конце концов, к чему ему знать это теперь, когда весь он поглощен войной, на которую так стремился? Вот, вернется – тогда и… Большим ударом для него это стать не должно. Ведь между ним и Катрин давно все кончено. Жаль только маленького Петрушу. Но да о нем позаботятся Никольские…
Оказавшись в Петербурге, Саша с радостью окунулся в привычный мир светской жизни. Их свадьба с Ольгой должна была состояться через две недели. Будущая теща настояла, что торжество должно происходить в столице, а не в захолустье, и желала провести оное «как подобает» – с большим приемом в честь знаменательного события. В этом вопросе упорство г-жи Реден не сломили не только Ольгино желание скромной и тихой свадьбы, но и отговоры старого адмирала.
– Нам нечего стыдиться, чтобы выдавать дочь замуж тайком, вдали от света! И пусть все это видят и знают!
Пришлось уступить этому желанию. Тем не менее, на всех приемах Саша появлялся теперь с невестой, помолвка с которой стала достоянием общества, как только они вернулись в столицу. Вечер в доме Борецких исключением не стал. Приглашению на него Саша радовался особенно, так как был дружен с князем Михаилом и очень желал вновь повидаться с ним после долгих месяцев изгнания.
К его удивлению презрительное равнодушие последнего не нарушил даже голос Леи Фернатти.
– Не вижу ничего поразительно, – сухо возразил он. – В парижских борделях такого товара в избытке.
– Помилуй! – воскликнул Саша. – Как же можно сравнивать!..
– В отличие от тебя я как раз могу сравнивать, – усмехнулся Михаил. – Я в том самом Париже не один месяц живал. Знаю я цену этим певичкам. Будь добр, Сандро, не уподобляйся моему выжившему из ума родителю. Старик, кажется, окончательно впадает в детство. Я уже предлагал Вольдемару учинить над ним опеку. Но этот крючкотвор считает, что закон нам пока не позволит это сделать.
– Помилуй, все же это твой отец…
– Вот именно, – хмуро отозвался Михаил. – И мне отвратительно наблюдать, как этот старый мизерабль волочится за каждой шлюхой, растрачивая семейный капитал. Опека была бы лучшим решением!
– Но ведь и ты не отличаешься экономностью, – заметил Саша, вспомнив, какие суммы случалось оставлять князю за карточным столом.
– Конечно. И я, Сандро, вовсе не хочу оказаться принужденным к оной мотовстом дорогого папА, которому по годам его давно бы пора прекратить скакать и ржать…
Саша не стал возражать другу, понимая его досаду на родителя. Он ринулся было к подиуму, когда Лея Фернатти закончила петь, дабы выказать ей свое восхищение, но Михаил удержал его:
– Никогда не беги вслед табуну. Это недостойно человеческой личности. Если хочешь, я покажу тебе по-настоящему прекрасную женщину, которая стоит сотни подобных вашей певички шлюх.
Сашу сильно коробила резкость и жестокость Михаила, его нарочитая грубость и неизбывная желчь, но это же и привлекало к нему, заставляло слушать и подчиняться.
– Взгляни! – кивнул князь на стоявшую в отдалении женщину. – Вот тебе Мадонна, а не шлюха…
Той, на которую указывал он, было лет тридцать. Статная, вмеру дородная фигура ее отличалась величественностью, а мягкое, улыбчивое, круглое лицо с детскими ямочками на щеках и большими, светлыми глазами – простотой и радушием. Густые, пшеничные волосы были причесаны просто и без изысков, таким же было и платье дамы, украшенное, однако, очень дорогой и красивой брошью. Женщина являла собой тип подлинно русской красоты и образец редчайшего вкуса.
– Кто это? – спросил Саша, залюбовавшись дамой.
– Варвара Григорьевна Никольская, – ответил Михаил.
– Супруга Никиты Васильевича?
– Она самая.
– О, я слышал о ней от своего зятя! Он также видел в ней идеал женщины – жены и матери.
– Да, добродетельная женщина всегда привлекательна, – заметил князь. – Возможно, потому, что этот вид женщин встречается все реже. Хочешь, я представлю тебя ей?
– Конечно! С большим удовольствием! – поспешно согласился Саша.
Михаил подвел его к Никольской и с легким полупоклоном обратился к ней:
– Позволите ли на мгновение завладеть вашим вниманием, Варвара Григорьевна?
– Разумеется, князь, – приветливо улыбнулась Никольская.
– Позвольте представить вам моего доброго друга, поэта и композитора Александра Афанасьевича Апраксина…
– Помилуй, какой из меня поэт и композитор… – смутился Саша, целуя протянутую руку Никольской, оказавшуюся необычайно мягкой и теплой.
– Сдается мне, Александр Афанасьевич, что мы с вами заочно знакомы, благодаря полковнику Стратонову? – с непринужденной веселостью заметила Варвара Григорьевна.
– Точно так…
– Мы с мужем будем всегда рады видеть вас у себя!
– О, а я буду не менее рад нанести вам визит. Ваш муж – прекрасный государственный ум. Я много слышал о нем и читал кое-что из его работ, – ответил Саша, совершенно очарованный простотой и непритворным радушием этой женщины.
– Мы навестим вас в самое ближайшее время, Варвара Григорьевна, – пообещал Михаил. – Надеюсь, меня вы также будете рады видеть?
– Вы всегда желанный гость в нашем доме, Михаил Львович, – улыбнулась Никольская. – К чему и спрашивать?
– А что же Никита Васильевич? Отчего он не с вами? – спросил Саша.
– Дела государственные, Александр Афанасьевич, дела государственные! – отозвалась Варвара Григорьевна. – Государь поручил ему составить важный проект, и Никита Васильевич последние дни работает над ним днями и ночами.
За беседой все трое не замечали двух пристальных взглядов, следивших за ними.
– Мой вам совет, машер, будьте всегда подле своего мужа, иначе вы не удержите его, – наставляла княгиня Борецкая Ольгу. – Там артистки, здесь жены важных сановников – такой соблазн для мужского легкомыслия…
– Но, княгиня, Варвара Григорьевна – замужняя женщина и мать четверых детей. Все говорят, что трудно найти женщину более высокой добродетели, чем она.
– Я пока мало знаю мадам Никольскую, хотя она производит приятное впечатление. Но если вы и уверены в ней, то уверены ли вы в своем будущем муже?
– Да, я доверяю ему, – ответила Ольга, покраснев.
– Напрасно… – покачала головой старуха, переведя усталый взгляд на собственного супруга, продолжавшего увиваться вокруг заезжей артистки. – Не обижайтесь, машер, что я так говорю. Вы хорошая, и я искренне желала бы, чтобы вы не повторяли моих ошибок, и ваша судьба была счастливей моей. Когда-то я была такой же юной и наивной… И, вообразите, даже верила Льву Михайловичу… Тогда он был красив, галантен. Он только что вернулся из Франции и казался почти иностранцем. Не один год мне потребовался, чтобы за этим внешним лоском обнаружить пустоту и пошлость и более ничего.
Заметив, смущение Ольги, Вера Дмитриевна ласково похлопала ее по руке:
– Не смущайтесь, машер, моей откровенностью. Я сказала лишь то, что теперь уже очевидно всем. Думаете, я не знаю, как смеются над князем и надо мной за нашими спинами? Прекрасно знаю.
– Поверьте, я ни разу не слышала…
– Вы говорите так, щадя меня. Впрочем, вы, кажется, редко бываете в свете, и многие низости проходят мимо ваших невинных ушей… – княгиня помолчала. – Простите, если огорчила вас. Я ведь совсем о другом хотела с вами поговорить. Я знаю, что ваша сестра очень больна…
– К сожалению, это так…
– Позвольте рекомендовать вам мадемуазель Эжени, – сказала Борецкая, поманив стоявшую в стороне наперсницу. – Мадемуазель Эжени обладает удивительными способностями, и, я полагаю, она могла бы помочь вашей сестре или хотя бы облегчить страдания бедняжки.
Ольга не слишком верила дарованиям представленной ей загадочной особы, но обижать Веру Дмитриевну не хотелось, и она с благодарностью пригласила старую княгиню и ее протеже к обеду в ближайшую среду.
Глава 3.
Эжени давно привыкла подолгу находиться вдали от Виктора, не имея от него вестей. Чулое сердце – лучше писем. Оно скорее узнает, когда грозит беда близкому человеку, а когда тревожиться не о чем. И хотя на этот раз Виктор уехал в совсем не мирный край, Эжени была спокойна. Она знала, что там ему ничто не грозит.
Все же нынешняя разлука была тяжелее предыдущих. Слишком многое и важное легло на ее плечи в его отсутствие. Именно ей нужно было теперь держать под неусыпным приглядом все, за чем прежде следило его недреманное око. А ведь и семейства Борецких с их бесчисленными скелетами в каждом шкафу – куда как хватило бы! За этими тремя князьями уследить даже с помощью юрода Гаврюшки сложно было.
Старый князь немного хлопот доставлял. Каждый его шаг быстро становился известен княгине от услужливой челяди. Да и не столь разнообразен был его досуг. Артистки, клуб, карты… С появлением же на сцене Леи можно было и вовсе расслабиться. Бывалый ловелас не мог думать ни о чем, кроме нее. И Лея исправно сообщала о том, как идет дело. Свою задачу новоявленная Эсфирь знала отлично, и Эжени не сомневалась, что она ее выполнит.
Впрочем, последнее не очень-то радовало ее. Если старик Борецкий вполне заслужил уготованной ему участи, то его жена – ни в коей мере. Она была лишь жертвой своего мужа и своих сыновей, глубоко несчастной женщиной, искавшей утешения в «чудесном». Эжени успела хорошо узнать Веру Дмитриевну, и с каждым днем чуткая совесть ее все больше страдала оттого, что она во имя мести Виктора должна изо дня в день обманывать бедную старуху и готовить ей такие страшные удары.
Младшие Борецкие были натурами значительно более сложными, чем их беспутный отец, и тут нужно было приложить немало трудов. Кое-что о них Эжени узнавала от княгини, другое выглядывал считаемый в доме за бессловесное существо Гаврюшка. Служебными делами Владимира Виктор поручил заняться надежному человеку, а по возвращении собрался вникнуть в них сам. Медленно-медленно плелась сеть вокруг каждого Борецкого, и это становилось для Эжени настоящей пыткой.
Оба князя, впрочем, также заслужили своей участи. Особенно, Михаил, который виделся Эжени совершенным чудовищем. Этот мрачный «демон» сделался главным предметом ее работы. Она не упускала случая вывести княгиню на разговор о младшем сыне, она была в курсе его частных бесед, время от времени подслушиваемых Гаврюшкой, даже письма его нет-нет, а попадали ей в руки.
Но дело было не в словах, не в рассказах, не в письмах. Этого человека Эжени чувствовала. Чувствовала зло, которое исходило от него, расплескиваясь по всем находящимся рядом, разрушая все окружающее его. Ей было физически тяжело находиться рядом с ним, тем более, говорить. Слава Богу, Михаил не проявлял к ней никакого интереса, глубоко презирая как «кудесников и кудесниц» своей матери, так и ее саму.
Владимир также был совершенно равнодушен к Вере Дмитриевне. Кажется, единственным человеком в доме, кто был к ней привязан, являлся воспитанник старухи – Сережа – мальчонка лет десяти. Борецкая взяла сиротку в дом и заботилась о нем с младенческих лет, ища в нем того сыновнего чувства, которого не встречала в родных сыновьях. Те относились к мальчику с обычной своей презрительностью, а мать не упускали случая попрекнуть и высмеять, как сумасшедшую, за то, что подбирает детей крепостных и разных шарлатанствующих нищебродов.
– У меня был еще один сын, Ванечка, – рассказывала княгиня. – Но он умер, когда ему не было и года… Я до сих пор помню его. И сорочки его храню… Иной раз достану и плачу. Не ребенок был, а чистый херувимчик. А когда я Сережу увидела, так сердце зашлось – очень уж он на моего Ванечку был похож. Я и подумала, что Бог мне его вместо Ванечки послал.
Сережа и впрямь походил на ангела – тонкое, чистое детское личико с большими, глубокими и куда больше, чем обычно для таких лет, понимающими глазами. С княгиней он был сыновне ласков, с прочими – почтителен и вежлив, но без искательства. Чувствовалось в этом ребенке природное достоинство. Мальчик исправно учился и мечтал о морской службе. Вера Дмитриевна возражала, считая, что Сережа слишком хрупок для нее, но тот был упрям в своей мечте и старался закалить некрепкое от природы тело.
С ним Эжени поладила, но избегала его не менее, чем Михаила. Ей отчего-то виделся укор в его ясных, слишком много понимающих глазах. Ведь руша жизнь семейства Борецких, она, не желая того, рушила и жизнь этого мальчика. А разве имела она на то право? Но Виктор рассчитывал на нее, и подвести его Эжени не могла также. Так и двоилась душа. А с его отъездом – особенно.
Этим днем Вера Дмитриевна отправилась с визитом к семейству Реден. Эжени, отрекомендованная целительницей, вынуждена была сопровождать ее, и это также было весьма тягостно. Конечно, далеко не впервые княгиня рекомендовала ее своим знакомым, и Эжени навещала их и врачевала их недуги, помогала в иных несчастьях. Но дело было в том, что недуги и несчастья их были большей частью надуманы. Эти люди, как и сама Борецкая, были больны душой, а прочее являлось лишь следствием. Эжени хорошо знала человеческие души и умела находить к ним подход, умела и врачевать их, а тем самым и производные от оных недуги. Но как можно лечить юную девушку, душа которой чиста как у ребенка, а тело разбито страшной болезнью?.. Тут не гипноз, не знахарство нужно, а истинное чудо, к которому одни только святые способны. А обман в таком положении – великий грех.
Мучительно решала Эжени, как выйти ей из трудного положения, не уронив себя в глазах княгини, и не обманув несчастную страдалицу и ее родных, но так и не нашла верного пути.
Ольга Фердинандовна, ее мать и жених приняли гостей с большим радушием. По глазам Ольги, впрочем, Эжени тотчас поняла, что она ни секунды не верит в ее дар. А, вот, мать… Мать на то и мать, чтобы надеяться на чудо даже тогда, когда нет ни малейшей надежды.
– Олинька, проводи мадмуазель Эжени к Любочке, – с волнением велела она и пояснила, извиняясь: – Она сегодня неважно себя чувствует и не может выйти…
– Пойдемте, – пригласила Ольга, и Эжени последовала за ней. На лестнице мадмуазель Реден замедлила шаг и сказала негромко: – Я бы хотела вас попросить об одной услуге…
– Я вас слушаю.
– Мадмуазель Эжени… Я не хочу обидеть вас сомнением в ваших способностях, но поймите меня правильно: я не верю, что вы можете заставить ходить лежащего без движения и отверзать очи слепым.
– Вы совершенно правы. Таких чудес мне совершать не приходилось, – честно призналась Эжени. – Я лишь могу облегчать некоторые страдания, первопричина которых гнездится в сердце, но не более.
– Я рада, что вы так прямодушны, – лицо Ольги прояснилось. – В таком случае вас не должна задеть моя просьба. Вы можете поговорить с моей сестрой, но прошу, не обещайте ей несбыточного, не обнадеживайте понапрасну.
– Я обещаю вам это, Ольга Фердинандовна. И, поверьте, я бы не стала обманывать вашу сестру, даже без вашей просьбы.
– Я верю вам, – кивнула Ольга. – И простите, если нечаянно вас обидела.
Комната, занимаемая Любой, была весьма просторной и светлой. Вероятно, это была лучшая комната в доме, и все в ней было устроено так, чтобы создать максимальный комфорт для парализованной девушки. Книги расставлены на низких полках, чтобы она могла дотянуться до них рукой, стол специальной формы, полукругом – чтобы на нем поместилось все ей необходимое, а сама она могла легко передвигаться вдоль него на своем кресле, низкий мольберт, наклоненный под определенным углом…
Сама Люба сидела у окна в домашнем платье, с распущенными по плечам светлыми локонами. Ее большие, серые глаза смотрели с какой-то особой, пронзительной печалью. Эту печаль легко можно было принять за страдание от болезни, но Эжени угадала в ней нечто большее.
После кратких приветствий Люба попросила сестру спуститься к гостям, а, когда та ушла, некоторое время молча смотрела на стоявшую перед ней Эжени. Затем отвернулась и спросила обреченно:
– Вы ведь… не можете мне помочь, верно?
– Исцелить ваше тело не в моей власти, это так, – отозвалась Эжени.
– Что ж, – пальцы девушки нервно сомкнулись и разомкнулись, – может, так оно и лучше. Правильнее…
– Отчего же лучше и правильнее?
– Оттого, что всегда лучше страдать, чем причинять страдание, страдать, чем преступать…
Произносить слова четко Любе стоило труда, но она старалась, напрягая не слушающиеся ее губы. Эжени внимательно посмотрела на нее, пытаясь проникнуть в мысли и чувства этой девушки, лишь издали казавшиеся простыми. Нет-нет, совсем не просты и не детски были они. Да и отчего бы быть им детскими? Хоть по фигуре и осталась Люба девочкой-подростком, но душа, разум созрели так же, как и во всякой другой девушке, а, может, обостренные недугом – и быстрее…
– Бог знал, что, если бы дал мне здоровье и красоту, то я бы преступила и причинила горе другим… И он защитил меня от этого соблазна, связав мое тело. Это справедливо.
Эжени присела на мягкий пуф подле Любы, проронила, неотрывно глядя на нее:
– Мне кажется, я понимаю вас… Вы любите, не так ли?
– Это – самое большое счастье, которое мне отпущено. Я могу любить и утешаться, зная, что рядом с ним спутница, достойней которой я не могла бы ему пожелать. Не будь это так, я была бы глубоко несчастна от мысли, что мой недуг разлучает нас… Но от этой скорби я избавлена.
Перед глазами Эжени промелькнуло только что виденное лицо ольгиного жениха. Приятный юноша с поэтическим и музыкальным талантами… Вряд ли, кто-то иной мог стать предметом обожания юной затворницы. Да и кого бы, кроме своей сестры, она полагала достойнейшей? Однако, какое мужество! Какое самоотвержение и покорность Божьей воле! Глядя на Любу, Эжени вспомнила бесчисленное множество людей, имевших все, но сделавших себя несчастными собственными страстями, полагающих горем любое ничтожное неудовольствие…
– Знаете, Любовь Фердинандовна…
– Лучше называйте меня Любой. Так меня все зовут.
– Знаете, Люба, я, действительно, ничем не могу вам помочь. Скорее, это мне следовало бы просить вашей помощи.
– Отчего так?
– Оттого, что я большая грешница, а вы – сама чистота.
Люба опустила глаза:
– Как странно… Я представляла вас совсем по-другому. О вас много говорят, вы знаете? Мама говорила, что даже Государь интересовался вами.
«Этого только и недоставало», – подумала Эжени.
– Я надеюсь, что у Государя довольно более важных дел, нежели моя персона. А то, что обо мне говорят… Я знаю, что. Одни считают меня чуть ли не колдуньей, другие – обманщицей. Я не то и не другое. Просто я хорошо знаю медицину и другие науки и хорошо чувствую других людей. Сейчас люди разучились чувствовать друг друга, будучи слишком заняты собой, поэтому такая способность видится почти чудесной…
– Но вы предсказывали будущее?
– Случалось, – признала Эжени. – Но это не является моим ремеслом. Подлинные чудеса даровано совершать одним лишь святым. В России они еще не перевелись.
– Вы встречали их?
– Не встречала, но многое слышала. Приходилось ли вам слышать когда о саровском старце Серафиме?
Люба отрицательно покачала головой.
– Он монашествует с юных лет. Рассказывают, что, когда он отшельником жил в лесу, какие-то разбойники жестоко изувечили его. Но он простил их и велел отпустить, когда их поймали. Говорят также, что сама Богородица являлась ему и дважды поднимала со смертного одра. Долгие годы он оставался в затворе, совсем недавно вышел из него и теперь принимает у себя всех страждущих и нуждающихся в совете. По его молитвам люди получают исцеление от болезней. Так, во всяком случае, говорят.
– Отчего же вы сами не поедете к нему?
Эжени покачала головой:
– Не могу… Пока не могу… Не спрашивайте, Люба.
– А княгиня? Неужели она не пожелала поехать?
– Вера Дмитриевна предпочитает видеть странных людей в своем доме, нежели посещать самой тех, что слывут святыми. Может быть, у нее, как и у меня, есть на то причины. Но вам, Люба, нечего бояться. Кто знает, может быть, старец смог бы вам помочь. К тому же теперь он занят устройством новой женской обители. Вы могли бы навестить и ее. Мне кажется, ваша душа получила бы там немалое утешение.
– Благодарю вас, мадмуазель Эжени. Я подумаю и поговорю с сестрой и с матушкой. Мне уже давно хотелось побывать, пожить в подобном месте, поближе к Богу… Вы, действительно, хорошо чувствуете людей, – Люба помолчала несколько мгновений, а затем спросила с любопытством: – Вы в самом деле хорошо знаете науки?
– Достаточно хорошо. Я много и многому училась.
– А меня вы могли бы учить им?
– Вы хотели бы учиться?
– Это единственная возможность, которая у меня пока еще не отнята. Мадмуазель Эжени, я хорошо понимаю, что ожидает меня в недалеком будущем. Все, что у меня останется, это глаза и слух. И память. Лучше всего было бы уйти прежде… Но на все Божья воля. Пока я хотела бы, чтобы память моя вместила достаточно, чтобы скрашивать те печальные дни…
– Извольте. Если таково ваше желание, я с радостью буду вас навещать, – согласилась Эжени.
– Спасибо, – слабо улыбнулась Люба. По ее измученному лицу Эжени поняла, что девушка очень устала, и пора уходить.
Тепло попрощавшись, она сошла вниз и вновь присоединилась к княгине. За обедом пришлось выдержать шквал вопросов от г-жи Реден и ее будущего зятя. Ольга же, напротив, была молчалива и задумчива. Нескольких часов в обществе этой семьи хватило Эжени, чтобы в достаточной степени понять каждого ее члена и привычно сделать выводы относительно них. Иногда эта способность «читать» людей, как книги, тяготила ее. В сущности, к чему знать так много о других людях, заполнять свою душу их страстями и переживаниями?
Эжени не преминула рассказать матери Любы о старце, дабы отвести слишком пристальное внимание от себя, и та весьма оживилась от идеи поездки в Саров. Ее поддержала и Вера Дмитриевна, посетовавшая, что сама она никак не соберется туда, и поездки стали чересчур тяжелы для ее разбитого хворями тела. Это, конечно же, была отговорка. Эжени давно заметила, что при всей своей страсти к «кудесникам», юродам, религиозным обществам, княгиня не имеет ни малейшей тяги к истинным православным пастырям. Вернее, она охотно говорит о них, но упорно избегает общения с ними. Не считая положенных исповеди и причастия, коих для соблюдения формы не избегали даже ее закоренелые безбожники-сыновья. Но давать советы в этой области княгине Эжени не могла. Ей, беглой монахине, живущей под чужим именем, как было самой на глаза святому мужу показаться? Как переступить без душевного содрогания порог? Как приобщаться Святых Тайн, тая в душе великий грех? Нет, прежде нужно было довести до конца начатое дело, помочь Виктору, а уж затем думать о спасении души… А пока – играть по жестоким правилам затеянной им игры.
Глава 4.
Осада Эривани пользы не принесла. Растянувшись до середины лета, она оказалась слишком тяжела. Июльская жара изматывала и доводила до болезни непривычных к ней солдат, и осаду решено было снять. В составе дивизии генерала Красовского, сменившей авангард Бенкендорфа, Стратонов возвращался в Эчмиадзин. Измученные невыносимым зноем, солдаты двигались медленно. Среди них и Костя, с коим Юрия, наконец, свела судьба. Стратонову было жаль младшего брата, вынужденного тянуть лямку в солдатчине за свою глупость, и он в душе надеялся, что война даст Косте не один случай отличиться, и тогда Государь возвратит ему офицерский чин.
Меж тем сам Константин уже свыкся со своим положением. В конце концов, ему, сироте, никогда не имевшему гроша за душой, не ведавшему уюта, не так сложно было сойти на ступень ниже, как многим знатным и состоятельным участникам заговора. Отличаясь крепким здоровьем и отменным голосом, он старался ободрить уставших товарищей бравыми походными песнями, некоторые из которых сам и сочинял на бивуаках. И хотя прост и неискусен был их слог, а зато солдатские души согревали. Вот, и теперь, нет-нет а подтягивали иные осипшие голоса за Костиным звонким тенором:
Рождены на свет к победам –
И привыкли побеждать
Не таких, как персияне,
И сумеем доказать
Всему свету, что с Россией
Тщетный труд войну вести,
Что Россия свою славу
Всегда может соблюсти!
Подтягивали солдаты, качали головами с завистью:
– И откуль в тебе еще сила этак горло рвать? А ну-ка давай еще какую, чтоб душа развернулась!
– Дам, дам. Только шагайте, братцы, бойчей. До Эчмиадзина уже рукой подать!
Он и впрямь скоро показался – окруженный со всех сторон горами древний армянский монастырь, основанный пятнадцать веков тому назад. Колокольный звон возвестил о том, что приближение войск замечено, и город во главе с архиепископом Нерсесом готовится к их встрече.
– Слава Богу, – крестились проходившие мимо Юрия солдаты. – Наконец-то дошли! Теперь отдохнем, братцы…
Слыша эти облегченные вздохи, генерал Красовский лишь качал головой, покручивая ус:
– На войне отдыха лучше не ждать. Только расслабься, как потревожит она тебя совсем не матерински.
Афанасий Иванович принадлежал к числу тех замечательных личностей, что сочетают в себе полководческий дар, качества природного вождя и солдатскую прямоту и отвагу, а потому быстро обретают любовь и уважение подчиненных. Он вступил на военное поприще в памятные годы европейских войн, из горнила которых вышло столько славных воинов. Поручиком тринадцатого егерского полка Красовский в 1804 году, совершил плавание из Одессы в Корфу и Неаполь с черноморской эскадрой, имевшей задачу вытеснить оттуда французов и идти в Северную Италию. Аустерлиц помешал этому предприятию, и эскадра вернулась в Корфу. Во время обратного плавания фрегат, на котором находился Афанасий Иванович, сел на мель и был разбит волнами. Гибели экипажу удалось избежать лишь благодаря присутствию духа и необыкновенной в столь юные годы распорядительности Красовского.
Этим не завершились его морские походы. Годом позже молодой поручик в составе той же эскадры уже спешил на помощь черногорцам. Вместе с ними он действовал против французов, участвовал во взятии укрепленных высот Баргарта и осаде Рагузы, в обложении герцеговинской крепости Никшич. От черногорцев перенял Красовский их ледяное спокойствие в опасности и неукротимый пыл во время атаки, а также те исключительные приемы войны, которые могли быть выработаны только людьми, почти не опускавшими меча с конца XIV века, когда Сербское царство погибло на Косовом поле, для которых война была самой жизнью.
Из Черногории Афанасий Иванович вместе со своим полком был переброшен в Молдавию, где участвовал в неудачном штурме Браилова Прозоровским. Этот штурм стоил русским множества жизней. От егерского полка Красовского осталось лишь двести человек при четырех офицерах. Сам Афанасий Иванович уцелел чудом, фуражка и сюртук его были простреляны, рядом пуля поразила в голову будущего кавказского наместника Паскевича, в том же полку командовавшего стрелковой цепью.
После был не менее несчастный штурм Рущука Каменским и отправка в составе корпуса Засса на помощь Сербии, народное восстание в которой грозили подавить турецкие полчища. Уже в одном из первых дел Красовский был серьезно ранен и вынужден какое-то время не участвовать в сражениях. Но, вот, турки окружили Менгрельский полк и захватили русские орудия. Опечаленный Засс сказал сидевшему на дрожках Афанасию Ивановичу:
– Если бы вы были там, этого с полком никогда бы не случилось… Но знаете, я полагаю, что ваше присутствие даже и теперь могло бы поправить дело!
– Я готов, – живо откликнулся Красовский, – прикажите только посадить меня на лошадь.
Его явление перед расстроенным полком вернуло солдатам мужество. Собравшись вокруг молодого командира, полк бросился вперед и отбил свои орудия. После этого Афанасий Иванович лечился уже, не оставляя службы. Он принял деятельное участие в походе за Дунай, в отряде графа Воронцова, который отдал в его командование сербскую дружину, прибывшую из Неготина во главе с воеводой Велько Петровичем.
Природный серб, он долгое время находился в числе телохранителей виддинского паши. Но когда Георгий Черный поднял в Сербии знамя восстания, Велько убил пашу, и, явившись с его головой в Сербию, стал славным гайдамаком, о котором ходили в народе целые легенды. Его имя сделалось грозой и ужасом турок. При одном крике: “Гайдук Велько!” – целые турецкие деревни обращались в бегство.
С этим-то славным отрядом Петровича Красовский действовал по большим дорогам, из Виддина к Софии. Уничтожение подвижных турецких колонн, захваты транспортов и разорение “кол”, небольших полевых укреплений – дела эти не вызывали громких реляций, зато навсегда остались в народной памяти. Совместные действия положили начало настоящему братству между сербами и русскими, и грозный Велько плакал, когда прощался с Красовским.
Война 1812 года отчасти обошла Афанасия Ивановича, находившегося в Западной армии Тормасова, стороной. Зато Зарубежный поход дал немало случаев к отличию, оделив и ранами, и наградами.
В день коронации Императора Николая Павловича Красовский получил чин генерал-лейтенанта и двадцатую пехотную дивизию, шедшую в Грузию, под свое начало.
Воину-»черногорцу» Кавказ был достаточно близок. А, вот, с Ермоловым Афанасий Иванович характером не сошелся, не признавая его особой системы воспитания войск и всемерно ограждая свою дивизию от «ермоловского духа». Впрочем, отношения с бывшим однополчанином Паскевичем сложились и того хуже.
Став по настоянию Дибича начальником штаба нового кавказского наместника, Красовский очень скоро изнемог от этой должности, а точнее – от самодурства своего начальника. Размолвки между ними начались почти сразу. На первых порах Паскевич как будто высоко ценил трудолюбивого и грамотного помощника и даже потребовал от него всегда откровенно высказывать свои мнения. Афанасий Иванович, будучи человеком чуждым лукавства, не преминул воспользоваться этим милостивым дозволением.
И тут-то обнаружилось, что чужого мнения граф Иван Федорович выносить не в силах. Любая попытка высказывания такового вызывала в нем подозрения в стремлении заслонить его заслуги, оттеснить его. При первом же мнении Красовского он сорвался и, осыпав своего начальника штаба градом упреков, заявил:
– Я знаю, сударь, что вы желаете, чтобы все делалось по-вашему! Но вы ошибаетесь, – со мной этого не будет!
Первый раз Афанасий Иванович счел это минутной вспышкой, но таковые вспышки отныне преследовали его всякий день. Любой довод недослушано отвергался сакраментальным – «Вздор!», любое настояние вызывало крик и брань. Один раз граф даже грозил Красовскому сатисфакцией на расстоянии трех шагов в собственном кабинете.
Этот случай стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Афанасия Ивановича, и он стал просить Дибича перевести его с должности начальника штаба назад в свою дивизию. Дибич обещал исполнить эту просьбу, но только после прибытия русских войск под Эривань.
Последние недели в должности были для Красовского чистым наказанием из-за повсеместных мелочных придирок Паскевича, всячески демонстрировавшего свое нерасположение. Однажды полковник Фридерикс, только что принявший полк от Муравьева, просил Красовского доложить Паскевичу, что он не видел еще батальона, находившегося в отряде Бенкендорфа, а потому просит позволения съездить туда с первой оказией. Красовский доложил об этом в присутствии сторонних лиц и получил в ответ привычное: “Вздор!” В ту же минуту вошел полковник Муравьев с той же просьбой, и Паскевич любезно отозвался: “Очень хорошо, пусть едет!”
Настоящим анекдотом сделалась еще одна «месть» Ивана Федоровича. Будучи в Эчмиадзине, он приказал художнику Машкову, сопровождавшему действующий корпус, написать картину “Торжественная встреча русских войск архиепископом Нерсесом” и указал те лица, которые должны быть помещены на ней. Красовского, бывшего в тот памятный момент подле главнокомандующего, из числа таковых граф исключил, нисколько не заботясь об исторической правде.
В Эчмиадзине Красовский с великим облегчением, наконец, сдал свою должность полковнику Муравьеву и опять вступил в командование своей двадцатой пехотной дивизией.
Теперь, возвратившись из похода в это хранимое Богом место, Афанасий Иванович расположил свою дивизию в Дженгулинских горах, недалеко от монастыря, укрепив здесь оборонительный рубеж на случай появления персов.
А они не замедлили явиться. Тридцатитысячное полчище под командой Юсуп-хана ринулось к древней святыне, рассчитывая стереть ее с лица земли и тем открыть себе путь на Грузию. На Тифлис, не имеющий в этот момент достаточной защиты, так как большая часть армии победоносно шагала по владениям самого наследного принца. Не умея дать отпор русским в них, он решил совершить хитрый маневр и нанести удар по тылам противника, лишив его снабжения и понудив срочно вернуться в свои пределы. План этот был прекрасно рассчитан, и Красовский без труда разгадал его, едва заслышав первые артиллерийские залпы под стенами Эчмиадзина, гарнизон которого составлял всего лишь один батальон Севастопольцев.
– Все это Аббас-Мирза может легко исполнить, – говорил Афанасий Иванович на военном совете. Если он пойдет на Тифлис через Гумры, то не встретит нигде более одного батальона в течение десяти-пятнадцати дней. В этом случае все наши войска, находящиеся в Эриванской и Нахичеванской провинциях, должны будут возвратиться в Грузию, ища спасения от голода…
Сколь-либо порядочно разведать обстановку в Эчмиадзине не удавалось. Лазутчики, пытавшиеся пробраться туда, попадали в руки персов и предавались ими мучительным пыткам. Одно лишь известно было точно – что артиллерийский подполковник Линденфельден, один из лучших штаб-офицеров двадцатой дивизии, на предложение сдать монастырь, невозмутимо ответил:
– Не сдам.
На все щедрые предложения сладкоречивых персов старый артиллерист откликнулся с достоинством:
– Русские собой не торгуют, а если монастырь персиянам нужен, то пусть они войдут в него как честные воины, с оружием в руках.
Также ответил Юсуп-хану на угрозу уничтожить монастырь и архиепископ Нерсес:
– Обитель сильна защитой Бога, попытайся взять ее.
С того момента грохот персидской артиллерии не умолкал ни на миг, а всякое сообщение с Эчмиадзином было прервано блокадой.
Красовский не находил себе места.
– Наше положение отчаянное, – заявил он, собрав у себя старших офицеров. – Наши силы не насчитывают и двух тысяч человек в то время, как под стенами монастыря стоит тридцатитысячная армия при значительном числе орудий. Вступить теперь в бой – значит, почти неминуемо погибнуть. Остаться и ждать – значит, уже в ближайшие часы потерять Эчмиадзин и пустить Аббас-Мирзу в Грузию. Что будем делать, господа?
– Артиллерия и Кабардинский полк уже в трех-четырех переходах от нас, – заметил Стратонов. – С их помощью мы могли бы рассчитывать на успех.
– Вы правы, Юрий Александрович. Но есть ли у нас время, чтобы дождаться их? – Красовский нетерпеливо забарабанил пальцами по расстеленной на столе карте. – Слышите ли вы эту канонаду? Эчмиадзин – отнюдь не непреступная крепость. А Юсуп-хан бережет своих людей и не бросает их в атаку, предпочитая просто стереть с лица земли вставшее на его пути препятствие. И при таком варварском огне ему понадобятся на это не дни, а часы.
В это мгновение вошедший в палатку дежурный офицер взволнованно доложил:
– Ваше превосходительство, гонец из Эчмиадзина!
– Немедленно привести! – приказал Афанасий Иванович.
Через несколько минут измученный и окровавленный армянин пал к ногами генерала:
– Ваше превосходительство! Архиепископ Нерсес и Эчмиадзин молят о спасении! У нас нет провианта, а огонь вот-вот сокрушит наши стены!
– Перевяжите его и накормите, – вымолвил Красовский и, обратившись к присутствующим, объявил: – Монастырь в опасности, господа, надо идти…
– Это безумие, ваше превосходительство! – воскликнул один из офицеров. – Кто поручится, что этот армянин послан Нерсесом? Что если Аббас-Мирза нарочно хочет выманить нас?
– Вы правы, – кивнул генерал, лицо которого неожиданно просветлело, озаренное мужественной решимостью идти до конца. – Аббас-Мирза точно хочет того. Но я верю в доблесть русского солдата. По многим опытам я в полной мере могу положиться на его усердие, неустрашимость и доверие ко мне.
– Но соотношение один к пятнадцати, не говоря об артиллерии, это верная гибель!
– А я поддерживаю мнение Афанасия Ивановича, – произнес Стратонов. – Эчмиадзин – не просто крепость, город. Это сердце Армении и святыня всего христианского мира. Дать его на разорение и поругание персам было бы величайшим грехом перед Богом. Более того, не защитить Эчмиадзин было бы позором. Но позором, который не спасет нас от поражения и гибели. Защищая же его мы, быть может, погибнем, но сохраним честь свою и России. К тому же в этой битве Бог не оставит нас. И солдат русский способен творить чудеса. Если и погибнем мы, то такой ценой достанется наша гибель персам, что поход на Тифлис им придется отложить надолго!
– Браво, Юрий Александрович! – воскликнул Красовский, обнимая Стратонова. – Вверяю вам наш авангард! Итак, господа, – добавил он, обращаясь уже ко всем, – время не ждет. Готовьтесь к выступлению.
Через несколько часов отряд выстроился на небольшой площадке, готовый к походу. Осада Эривани немало ослабила дивизию, ряды ее поредели. Навстречу персам предстояло выступить горсти людей – тысячи восьмистам пехотинцам и полутысячной коннице. Дело усугублялось тем, что солдаты двадцатой дивизии за восемь месяцев пребывания в Грузии еще ни разу не бывали в настоящем жарком бою, а лишь в небольших стычках, а потому не имели достаточного опыта. Тем не менее, они держались бодро.
– Ребята! – обратился к ним Красовский, объезжая фронт. – Я уверен в вашей храбрости, знаю готовность вашу бить неприятеля. В каких бы силах он с нами ни встретился, мы не будем считать его. Мы сильны перед ним единством нашего чувства: любовью к Отечеству, верностью присяге, исполнением священной воли нашего Государя. Помните, что строгий порядок и устройство всегда приведут вас к победе. Побежит неприятель – преследуйте его быстро, решительно, но не расстраивайте рядов ваших, не увлекайтесь запальчивостью. У персиян много конницы; потому стрелкам не отходить на большие дистанции и, в опасных случаях, быстро собираться в кучки. Вас, господа офицеры, прошу иметь за этим строжайшее наблюдение. Надеюсь, ребята, что мои желания исполнятся в точности, что порядок, тишина и безусловное повиновение будет для каждого из вас святой и главной обязанностью.
Перед выступлением отслужил напутственный молебен. Жарко молился коленопреклоненный отряд, ища укрепы в обращении к Богу перед неравной битвой, в которой мало кто надеялся уцелеть. Может быть, через считанные часы придется предстать пред лицом Царя Небесного, – это чувство владело теперь каждым. «Победы благоверному Императору нашему на супротивные даруя», – тянули идущие за кропившим войска святой водой священником певчие. Осенив идущих на смертный бой крестом, о. Тимофей Мокрицкий возгласил:
– Братцы! Не устрашитесь многочисленности врагов ваших. Многочисленность их прославит только мужество ваше, доставит вам еще большие лавры и почести. Всемогущий Бог, сильный и в малом числе своих избранных, истребит многолюдные полчища врагов, не ведающих святого имени Его. Вооружите же, православные воины, крепкие мышцы ваши победоносным русским мечом, дух – храбростью, сердце – верой и упованием на Бога, помощника вашего, и Тот сохранит и прославит вас!
С этим напутствием войска тронулись по Эчмиадзинской дороге. Неунывающий Константин запел веселую залихватскую песню, тотчас подхваченную другими солдатами. Так с музыкой и песнями и шли всю дорогу – точно не на погибель, а на долгожданный отдых.
До Эчмиадзина было всего лишь два перехода, и 17 августа отряд достиг цели. День этот выдался необычайно знойным, и с раннего утра люди уже задыхались от жажды. Объявив привал, Красовский и Стратонов стали внимательно осматривать окрестности в подзорную трубу.
– Экую силищу согнали супротив нас… – пробормотал Афанасии Иванович, поглаживая ус. Все видимое пространство на правом берегу реки Абарань было усеяно неприятельской конницей, а Ушаканская гора была покрыта войсками и укреплялась батареями. На левом берегу, по которому шел русский отряд, против Ушакана также стояло до десяти тысяч персидской пехоты с сильной артиллерией.
– Бог ты мой, это ж как нужно бояться нас, чтобы такое полчище стянуть, – Афанасий Иванович убрал подзорную трубу. – Ладно, посмотрим еще, поможет ли вам это.
Красовский не спешил вступать в бой, стараясь предугадать любые действия противника. Персы же томились в ожидании и боялись, что русские все-таки уйдут, не приняв сражения. Дабы не допустить этого, они сперва предприняли вылазку против русского отряда, но были отброшены, а затем сделали вид, будто отступают сами.
– Взгляните-ка, каков хитрец Аббас-Мирза! – тонко улыбнулся Красовский, разгадав и этот маневр. – Нет, брат, меня не проведешь. Твой план мне ясен.
Стратонову этот план был ясен также. От возвышенности, где стояли русские, дорога к Эчмиадзину пролегала между двумя рядами небольших, но крутых возвышенностей, образовывавших собой узкую лощину, почти ущелье. В этом-то ущелье, на самой дороге, персы и решили запереть русский отряд, дабы затем истребить его перекрестным огнем справа и слева. Положение было поистине гибельным. Усугублялось оно и тем, что маневренность отряда была парализована обозом с продовольствием для осажденного монастыря.
Однако, пути назад не было. Взор Красовского был прикован к Эчмиадзину, и ничто не могло остановить его в решимости спасти монастырь любой ценой. Отступление позволило бы неприятелю сомкнуть кольцо вокруг монастыря, и тогда он был бы потерян безвозвратно.
Итак, отряд двинулся вперед. Силы персов, между тем, все увеличивались новыми толпами, прибывавшими из-за Абарани. Их части, оставленные русскими в своем тылу, насели на арьергард, и одновременно грозное полчище навалилось слева, не давая отряду уклониться в сторону и выйти из-под огня батарей, стоявших за рекой. Били орудия из-под Ушакана, били другие – переправившиеся из-за Абарани и занявшие позицию на скатах между рекой и отрядом. Наконец, восемь орудий громили русских с тыла и с левых высот.
Чтобы открыть себе путь в монастырь, Красовский приказал головным колоннам стремительно ударить на врагов. К счастью, егеря успели взбежать на высоты прежде, чем неприятель соединился, и сильным огнем расстроили его намерения: неприятельская конница, осыпанная их выстрелами, была отбита назад, и пехота – остановилась сама. За эту трепку персы немедленно отыгрались на русском арьергарде, замедлив тем движение отряда.
После пяти часов сражения солдаты начали терять силы. Персы нападали все яростнее, но и русские, которым неоткуда было ждать помощи и некуда отступать, отбивались с отчаянием обреченных. Каждая атака обходилась неприятелю великими потерями.
Несмотря на всю мощь противника, поредевший отряд все же приближался к цели – до монастыря остались какие-то четыре версты. Но эти последние версты были самыми страшными. Каменистая и трудная дорога тормозила движение артиллерии, колеса ломались, арбы переворачивались, преграждая путь войскам, лошади и люди изнемогали. Красовскому не раз приходилось самому водить в штыки то ту, то другую роту, чтобы дать время остальным уйти вслед за обозами. В эти моменты орудия с величайшим трудом брались на передки и до следующего действия отступали с полумертвой прислугой. Солдаты были измучены настолько, что падали при своих орудиях и, облокотясь на камень, равнодушно отдыхали под градом неприятельских пуль.
Орудия третьей артиллерийской роты сопровождал сам командир батареи, капитан Соболев. Картечь и пули осыпали его со всех сторон. Афанасий Иванович заметил опасность положения роты, стоявшей на крутом спуске, и немедленно поскакал на батарею, чтобы ободрить артиллеристов.
– Будьте спокойны, ваше превосходительство! – весело откликнулся Соболев на приказ не отступать ни в коем случае. – Двадцать персидских орудий меня не собьют!
Слово свое капитан сдержал и не отступил до получения соответствующего распоряжения. Третью роту сменил артиллерийский взвод полковника Гилленшмита. И почти тотчас неприятельское ядро раздробило ось у батарейного орудия. Пока его перекладывали на запасной лафет, персы ринулись в атаку.
Блистательный Красовский, замечавший все и поспевавший везде, бросился на выручку к растерявшимся людям и очутился под страшным картечным огнем, которым персы хотели заставить бросить подбитое орудие. Им удалось сбить стрелковую цепь и, понимая отчаянность положения, Гилленшмит взмолился:
– Ваше превосходительство! Я вас прошу, оставьте меня с орудием на жертву, но не подвергайтесь сами столь очевидной опасности. Будьте уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы спасти орудие!
– Я останусь с вами, – коротко ответил Красовский.
В этих словах не было лихости мадатовского «Пусть видят – скорее убегут!», но лишь полное самоотвержение и желание быть со своими подчиненными в самых опасных местах, ответственность командира за принятое решение и судьбу вверенных ему солдат и офицеров.
Оставив две роты сорокового полка обороняться, Афанасий Иванович поскакал к резерву:
– Ребята! За мной! Выручайте пушку!
Его воодушевление сообщилось всем. Солдаты ринулись навстречу толпе персов, уже бежавших к орудию, и отбросили их, а в это время артиллеристы успели подхватить и вывезти орудие.
Сам Красовский чудом избежал гибели при этом деле. Лошадь под ним была убита. Едва пересев на другую, он был контужен в руку осколком неприятельской гранты столь сильно, что правая ключица оказалась раздробленной. Почти в тот же момент другой осколок сразил и вторую лошадь. Егеря водрузили раненого генерала на лошадь командира стрелков поручика Пожидаева. Афанасий Иванович изо всех сил старался скрыть невыносимую боль в руке и казаться спокойным, чтобы ободрять людей везде, где им угрожала наибольшая опасность.
А опасность грозила везде! Еще не прояснилась темнота, разлившаяся от раны, в глазах генерала, а уже спешил к нему адъютант:
– Ваше превосходительство! Майор Щеголев опасно ранен двумя пулями в ногу и голову!
Такая потеря могла поколебать егерей, и Красовский, забыв боль, помчался к ним. Он застал остатки батальона под сплошным огнем, с одним молчащим орудием.
– Отчего не стреляют? Стрелять картечью! – крикнул Афанасий Иванович, видя, что неприятель находился уже в ста шагах от позиции.
– Ваше превосходительство! – спокойно ответил старый фейерверкер. – У меня осталось только два картечных заряда, и я храню их на крайний случай…
На счастье, в это время подвезли зарядный ящик. Первый же залп заставил неприятеля укрыться за высоты.
Лишь только отражена была опасность на участке егерей, как часть неприятельской конницы быстро пересекла дорогу и скрылась слева за гребнем ущелья. Красовский тотчас заметил и разгадал этот маневр: два русских орудия слишком выдвинулись вперед, оставшись без прикрытия, и персы решили подобраться к ним, скрываясь за холмами. Им бы это почти удалось. Но когда всадники были уже в тридцати саженях от вожделенной добычи, как на их пути возник бледный, окровавленный, с наспех перевязанной рукой русский генерал, соскочивший с коня и вставший во главе тридцати егерей, прибежавших за ним. Напади персы, и все они неминуемо погибли бы, но Афанасий Иванович не стал ждать нападения и сам бросился в штыки. Изумленный и расстроенный нежданной атакой противник поворотил вспять.
До монастыря оставался последний подъем и равнина, где отряд должен был встретиться с основными персидскими силами, сквозь которые необходимо было прорубаться, спасая знамена. Картечных зарядов уже не осталось. Обозы пришлось оставить позади, разместив в центре колонны только орудия. Священник Крымского полка Федотов с крестом в руках пошел впереди войск…
В этот момент монастырские ворота открылись, и навстречу спасителям вышел гарнизон Эчмиадзина. Персы, побоявшись оказаться зажатыми меж двух огней, отошли с дороги.
Спустившись на равнину, Красовский велел колоннам идти к монастырю, а стрелкам и казакам спешно присоединиться к ним. Сам же генерал остановился в ожидании арьергарда.
И тут дисциплина, все это время сохраняемая войсками, дрогнула. Измученные жаждой стрелки кинулись к канаве со студеной водой, нарушив приказ. Персы не преминули воспользоваться этим. Вся вражеская конница напала на стрелков и принялась без жалости рубить их. Многие солдаты в изнеможении ложились на землю и уже не пробовали защищаться. И живым, и мертвым персы рубили головы и, привязав их в торока, спешили с кровавой добычей назад, чтобы получить за каждую голову обещанные десять червонцев…
Страшная гибель стрелков привела русские войска в паническое состояние. Артиллерия, потеряв надежду на прикрытие, поскакала к монастырю, а за ней все бросились бежать в таком беспорядке, что арьергард смешался с авангардом.
В бесполезном усилии восстановить порядок, погибли командир Крымского полка подполковник Головин и майор Севастопольского полка Белозор. Последний, еще в начале катастрофы, отдал раненому офицеру свою лошадь, а сам скоро изнемог до того, что солдаты вели его под руки. Измученные люди стали отставать от отряда, и тогда благородный Белозор сел на камень, достал кошелек с деньгами и, передав его солдатам, сказал:
– Спасибо вам, братцы, за службу. А теперь спасайтесь, иначе вы все погибнете вместе со мной совершенно напрасно!
Солдаты подчинились, и вскоре налетевшие персы обезглавили отважного майора, сорвав с него эполеты.
В этом кровавом безумии Красовский сам едва не погиб. Отделившись от отряда, он бросился ободрить стрелков и вместе с ними был окружен. Вокруг генерала многие уже были изрублены, а сам он, изнемогая от раны и усталости, отбивался своей тонкой офицерской шпагой, когда на выручку примчались пятьдесят донцов во главе со своим полковым командиром Сергеевым и войсковым старшиной Шуруповым. Очищая дорогу пиками и шашками, они пробились до самого Красовского и спасли его и нескольких уцелевших стрелков.
Эчмиадзин в ужасе наблюдал с крепостных стен и колокольни за кровавой сечей, в которой две тысячи людей бились с тридцатитысячной армией. Весь монастырь молился. Не только весь народ и солдаты, но даже больные и раненые ползали к монастырскому храму – молиться… Архиепископ Нерсес, облаченный в праздничные святительские одежды, со всем духовенством совершал божественную службу. Все время, пока длилась страшная битва, он стоял на коленях, простирая вверх святое копье, омоченное кровью Христа, и со слезами просил Бога даровать победу благочестивому русскому воинству. Может быть, эта святая молитва и спасла в последний трагический час русский отряд и сам монастырь от гибели…
Перед самыми воротами Эчмиадзина Афанасий Иванович остановил шедшие впереди войска, чтобы дать время стянуться остаткам своего отряда. Изнемогшие солдаты замертво падали под тень монастырских стен. Когда ударили подъем, пятеро из них, которые не были ни ранены, ни контужены, оказались умершими от истощения сил. Красовский ввел в монастырь только слабые остатки своего прежде двухтысячного отряда, потеряв в этот страшный день весь транспорт, двадцать четыре офицера и тысячу сто тридцать нижних чинов.
Завидев уцелевших героев у своих стен, Эчмиадзин отворил ворота. Грянули приветственно колокола, раздалось молебное пение. Архиепископ Нерсес вышел навстречу освободителям и, преклонив перед ними седовласую голову, произнес со слезами:
– Горсть русских братьев пробилась к нам сквозь тридцатитысячную армию разъяренных врагов. Эта горсть стяжала себе бессмертную славу, и имя генерала Красовского останется навсегда незабвенным в летописях Эчмиадзина!
Глава 5.
О радость, радость, что же ты
Нам скоро изменяешь
И сердца милые мечты
Так рано отнимаешь!
Зачем, небесная, летишь
Пернатою стрелою
И в мраке бедствия горишь
Далекою звездою!
Плавно лился дорогой голос, негромкий и мягкий, проникающий в самое сердце. Когда так дорог стал ей этот человек, когда свершился переворот в ее дотоле не ведавшей страстей душе? Уж не с первой ли встречи, когда он обратился к ней так просто и ласково, словно видя пред собою равную себе, а не девочку-калеку, вся радость которой заключалась в мечтах, уносивших ее далеко-далеко от своего печального удела. Так никто прежде не относился к ней… Даже самая любимая, самая родная Олинька. Все смотрели на нее с жалостью, и эта жалость отравляла всякое слово, всякое действие. Слыша похвалу себе, Люба не доверяла ей, думая, что это – из жалости… Люди говорили о несправедливости к ней судьбы, а она страдала от несправедливости – их. Отчего решили они, что если она прикована к инвалидному креслу, если больна, то в чувствах своих чем-то отличается от них? Отчего даже когда переступила она детский возраст, относились к ней, как к ребенку?
В своем затворе Люба прочла множество книг, выучила два языка, научилась музыке… В развитии своем ничем не уступала она здоровым людям, стремясь к покорению все новых высот, чтобы доказать им, что она – не хуже их. Но они привычно видели в ней лишь несчастную искалеченную девочку.
А Саша, придя, будто бы и не заметил ее недуга. И потом ни разу не замечал, обращаясь с нею так, как если бы она была такой же, как все. Это вызывало иногда недоумение у Ольги и матери, а для Любы было настоящим даром. Рядом с Сашей она и сама не чувствовала себе больной, и это было так прекрасно…
Прочитанные книги и особенно музыка, всегда завораживавшая ее, заразили Любу романтическим настроением. Герои романов и поэм становились ее вымышленными друзьями и возлюбленными. Она могла часами жить среди них, в своих мечтах, и это служило ей утешением. И, вот, явился человек из плоти и крови, который в одночасье отправил всех ее героев в отставку, заменив их собой. Одна беда – любовь к реальному человеку была куда опаснее, чем любовь к литературным персонажам, не могущая опалить сердца, а лишь потешить его в частые минуты скуки и одиночества.
С того времени в мечтах ее царил один-единственный человек. И сколько раз мучительно томилась душа от мысли, что она могла бы быть вмести с ним, если бы…
Конечно, никто не подозревал о чувствах Любы. Она умела хорошо скрывать их, не доверяя сокровенных мыслей даже самым близким. Лишь странная мадемуазель Эжени, приходившая заниматься с нею греческим и философией, проникла в ее тайну, но в разговорах обе они никогда не упоминали имени Саши.
Его свадьба с Ольгой состоялась недавно, и для Любы день этот был мучительным, ибо она никак не могла отогнать навязчивого миража, будто бы это она стоит с ним у алтаря… Одно и выручило – множество гостей, к которому Люба не привыкла, дало ей возможность под самым естественным предлогом укрыться в своей комнате и вдоволь поплакать над своей горькой участью.
Теперь, став мужем и женой, Ольга и Саша, конечно, будут заняты друг другом, и она, Люба, отдалится от обоих. А потом родятся дети, ее племянники… И им уже окончательно станет не до нее.
Зачем же прелестью своей
Ты льешь очарованье
И оставляешь… светлых дней
Одно воспоминанье!
Минувшее с твоей мечтой
Как в душу ни теснится,
Его бывалой красотой
Душа не оживится.
Впрочем, на первых порах горестные предчувствия Любы не оправдались. Ни Ольга, ни Саша ничуть не изменились к ней, и, окруженная их вниманием и любовью, она ободрилась, искренне радуясь их счастью. Однако, скоро в поведении Ольги заметилась неясная тревога. Саша время от времени стал уезжать куда-то без нее, и сестра боялась, что он вновь сорвется и начнет играть. После того, как дядя Алексис в честь свадьбы выплатил все его долги, это было бы величайшим стыдом для Ольги!
Сочувствуя сестре и беспокоясь о Саше, Люба решила расспросить Эжени, полагая, что кому-кому, а этой доглядчивой и умной женщине многое должно быть ведомо.
Эжени не удивилась прямому вопросу и ответила:
– Относительно игры вы с сестрой можете быть покамест спокойны. Хотя Александр Афанасьевич не из тех людей, что легко порывают с прежними страстями…
– Что же тогда? – пытливо спросила Люба.
– Он очень сошелся с князем Михаилом, и тот имеет на него большое влияние. Если угодно вам знать мое мнение, то это… хуже игры.
– Отчего же?
– Вы, Люба далеки от света, и, вероятно, не знаете репутации князя.
– Кое-что я слышала. Но не всем сплетням…
– Эти сплетни, поверьте мне, еще многого не передают. Я не знаю души более темной, чем душа князя Михаила. Было бы лучше вашей сестре отправиться с мужем куда-нибудь заграницу в свадебное путешествие…
– Помилуйте, Эжени, невозможно же вечно уезжать. То в деревню, то заграницу.
– Рано или поздно им придется это сделать. Но лучше бы рано…
– Вы знаете что-то еще, Эжени? Знаете, где бывают князь Михаил с Александром?
– Я знаю, где они бывают. Пока вам не о чем тревожиться. Даю вам слово.
– Пока?
– Я не знаю, что на уме у князя. Если это какая-то интрига, то можете быть уверены, что узнаете об этом первой. Я не хочу, чтобы князь Михаил причинил зло ни вашей семье, ни другой.
Хотя слова Эжени были туманны, но Люба отчасти успокоилась, доверяя ей. Поведение самого Саши также успокаивало. Он был на редкость весел, ежедневно навещал ее, развлекая беседами и совместным музыцированием. Ничто в нем не выдавало какой-либо тайны, обмана…
Накануне Саша принес Любе свой новый романс на стихи особенно любимого ею поэта Ивана Козлова. Этот подарок немало растрогал ее, и решено было навестить Ивана Ивановича, дабы и он мог услышать свои чудные стихи в музыкальном исполнении.
– Ах, какой он был красавец! Необыкновенный! А как танцевал… Другого такого танцора я в своей жизни не встречала, – так ностальгически вспоминала мать, когда речь заходила о Козлове, которого знала она блестящим офицером Измайловского полка.
С того времени минуло много лет. Девятнадцатилетний юноша неожиданно для всех променял золотые эполеты на службу в канцелярии московского генерал-губернатора. Он поражал современников своей начитанностью, знанием четырех европейских языков, литературной образованностью. В Москве он быстро сошелся с молодыми литераторами – Вяземским, Жуковским и другими, но сам в ту пору еще не имел большой страсти к перу.
В 1812 году Козлов стал одним из организаторов обороны Москвы, а после войны вместе с семьей переехал в Петербург, где служил в департаменте государственных имуществ. Ничто не предвещало беды. Мужчина в самом расцвете сил, сильный, красивый, талантливый, он имел перед собой самые завидные перспективы. Его карьера неуклонно шла вверх. Он был счастливо женат на любимой и любящей женщине, подарившей ему сына и дочь…
Все рухнуло в одно мгновение. В 1818 году тридцатидевятилетнего Козлова разбил паралич.
О, радость! ты не жребий мой!
Мне нет сердечных упоений:
Я буду тлеть без услаждений.
Так догорает одинок
Забытый в поле огонек…
Прикованный к постели, ища спасения от охватывавшего духа уныния, он обратился к литературе. Его романтическая душа восхищалась Бернсом, Байроном, Скоттом, Мицкевичем… Он увлеченно занимался переводами и сочинял оригинальные произведения.
Но рок уже готовил Ивану Ивановичу новый удар. Он стал быстро терять зрения. Для человека, жизнь которого составляли книги, могло ли что-то быть страшнее? И еще страшно – не видеть, как растут, меняются дети. В его памяти им навсегда суждено было остаться маленькими. Пока свет еще не погас в глазах, он изо всех сил вглядывался в дорогие лица, запоминая, вбирая в себя. Трудно вообразить, какую муку переживала его душа… Кроме всего, оттого еще, что любимой жене, молодой и цветущей женщине суждено было превратиться отныне в сиделку при его разбитом недугом теле…
И, вот, свет погас. Прикованный к своему одру и погруженный во тьму поэт был близок к отчаянию. Его спасла – память. Память, вмещавшая в себе бесчисленное множество стихотворений и поэм на нескольких языках. Память, с одного прочтения, с голоса запоминавшая стихотворения новые. Память, в которой оживали картины русской истории, явленные гениальным пером Карамзина…
Хоть светлый призрак жизни юной
Печаль и годы унесли,
Но сердце, но мечты, но струны,
Они во мне, со мной, мои.
Этого ничто и никто не мог отнять у поэта. Один за другим являлись в свет переводы Козлова и его собственные сочинения, исполненные светлой печалью, все чаще и чаще обращающиеся к миру горнему. Поэзия стала для Ивана Ивановича способом выживания, в ней черпал он силы и бодрость.
Преодолев отчаяние, он стал появляться перед гостями вместе с семьей, нисколько не стесняясь, и изредка выезжать к наиболее близким друзьям. Даже страшная болезнь не отняла у него его прежней красоты. А сам он крайне заботился о том, чтобы выглядеть достойно. Всегда безупречно одетый, опрятный, галантный, исполненный ума и необычайной доброты, которую не смогли побороть страдания, он располагал к себе всех без исключения. То был человек абсолютно светлый, такой же, как и его творчество – светлое, задушевное, праведное. Праведный муж, мудрец с младенческой душой – таков был идеал Козлова. Таким был он сам, смиренно и кротко принимающий удары судьбы и продолжающий славить Бога, во мраке своем помня истинный свет и даруя его окружающим.
Умы растленные не могли оценить этой высоты, а потому принимали в штыки верноподданнический патриотизм Ивана Ивановича, его оду Императору Николаю, его безыскусную, искреннюю веру. Эти мотивы объяснялись ими недугом поэта… На деле же недужны были они сами…
Своим пером Козлов желал воскресить отдельные страницы русского прошлого. После выхода карамзинской «Истории» эта мысль вдохновляла многих. Но не всем давалось ее осуществление. Историю нужно чувствовать душой, а не использовать ее образы для выражения мыслей и чувств текущего момента, не сообразуясь с языком и настроением.
Это искусство неведомо было Рылееву, и оттого такими неестественным выходили его «Думы». Даже «Дума», написанная на такой романтический сюжет, как судьба Натальи Борисовны Долгорукой. Козлов написал свою поэму на эту же тему. И его искреннее чувство, высокий лиризм и религиозность, конечно, полностью затмили рылеевскую «пропаганду». Образ княгини предстал у Козлова совершенно живым, и Люба, много раз перечитывавшая поэму и, наконец, запомнившая ей наизусть, всякий раз плакала над судьбой несчастной Натальи Борисовны.
Творец судил: навек страданье
Ее уделом, розно с ним;
Ее земное упованье
Навек под камнем гробовым.
С несчастным страшною разлукой
Печальной жизни цвет убит;
Один удар из двух мертвит:
И слез Натальи Долгорукой
Никто ничем не усладит.
Одна ужасная подруга
И в темну ночь и в ясный день
Его страдальческая тень,
Тень мрачная младого друга,
Не отразимая в очах:
В ней жизнь и смерть, любовь и страх;
И слух ее тревожат звуки
Прощальных стонов, вопля муки,
И ужасают томный взор
Оковы, плаха и топор;
Его кровавая могила,
Страша, к себе ее манила;
И долг святой велит терпеть:
Нельзя ни жить, ни умереть;
Она окована судьбою
Меж мертвецом и сиротою.
Люба нередко навещала Ивана Ивановича вместе с Ольгой. Мать не ездила с ними, ревниво оберегая в памяти образ блестящего офицера и не желая огорчаться видом «несчастного калеки». А Люба не видела «несчастного калеку». А видела самого прекрасного человека из всех, кого встречала, рядом с которым сама она становилась сильнее и просветленнее. Не считая сестры, матери и теперь еще Саши, Козлов был самым дорогим для Любы человеком, и каждую беседу с ним она благоговейно сохраняла в своем сердце.
Вот и теперь, пожимая его мягкую, тонкую руку, которую отчего-то всегда хотелось поцеловать, слыша его ласковые без натуги слова, видя печальную, но такую чудную улыбку, она чувствовала, как согревается душа. Волна тепла исходила от этого человека, точно внутри него светило солнце, лучами которого щедро делился он со всеми. Иван Иванович был, как всегда радушен, ничем не выдавая мучавших его болей. А они сильны были. И только этой ночью пережил он сильнейший приступ, о чем шепотком сообщила Ольге его жена.
Когда Саша закончил играть, Козлов поманил его к себе и, долго пожимая руку, осязая таким образом человека, которого не мог видеть, сказал:
– Я от души благодарю вас за ваш талант, который так чудесно преобразил, наполнил мои вирши, придав им звучание, коего я не подозревал в них.
– Если романс удался, то это, главным образом, заслуга стихов. Ведь именно они вдохновили меня.
– Вы очень талантливы, Александр Афанасьевич, – произнес Иван Иванович. – Люба не раз читала мне ваши стихи и кое-что играла… Признаюсь, я всегда немного завидовал тем, кому подвластна такая необъятная стихия, как музыка. Музыка! Это целый океан, прекрасный, безбрежный… Самое великое из искусств. Самое совершенное, гармоничное.
– И все же – вначале было Слово.
– Вам Господь дал власть над обеими стихиями. Это великий дар и ответственность. Не ленитесь, не забрасывайте этих даров, не оставляйте их, прельщаясь сиюминутным, на неведомое будущее, коего нам по счастью не дано знать. И тогда вы достигните больших высот.
Люба благодарно посмотрела на Козлова. Как точно и лаконично он сказал! Словно бы, практически не будучи знаком с Сашей, даже не видя его, знал его характер, мысли, чувства. И мягко, любовно остерегал, направлял.
– Я не столь высокого мнения о своих способностях, но постараюсь следовать вашему совету. Поверьте, ваше мнение мне очень дорого.
– Я рад это слышать, – кивнул Иван Иванович.
После чая, Ольга о чем-то заговорила с супругой Козлова, расположившись за чайным столиком в глубине просторной гостиной, а Саша с разрешения хозяина услаждал слух присутствующих лирическими импровизациями на фортепиано.
Наступили самые дорогие для Любы мгновения – разговора с Иваном Ивановичем. Он участливо расспросил об ее жизни, горячо поддержал в желании изучать языки и науки, а затем с тихой ностальгией вспоминал о лучших временах своей жизни, о родной Москве, в которой он вырос, и которую ему не суждено было увидеть вновь.
– Однако, я все помню. Каждую улочку, каждый дом. Я словно бы вижу, словно бы вновь хожу по ним… Вы умница, что стараетесь все запоминать, узнавать, видеть, как можно больше. Наша память – величайшее богатство, которое мы мало ценим и мало знаем. А она, как и все, требует заботы о себе. Постоянного развития, работы. Иначе она начинает терять остроту. И непременно, непременно выезжайте, пока есть такая возможность. Напитывайтесь впечатлениями и благодарите Бога за них. И к старцу этому саровскому непременно съездите. Такие встречи – сокровища, из которых и складывается великое богатство памяти, которые помогают жить. Поезжайте. А потом расскажите мне.
– Из всех встреч самое большое сокровище – это вы, Иван Иванович, – чистосердечно сказала Люба, зная точно, что в разговоре с этим человеком не нужно было искать каких-то слов, и можно и нужно говорить от сердца – так, как говорил он сам.
– Вы сами сокровище, Люба, – чуть улыбнувшись, откликнулся поэт. – Вы не знаете себе цены. И другие пока еще не знают. Но со временем узнают…
– Увы, я лишена каких-либо талантов.
– Неправда. Ваша душа талантлива. А это больше, чем какие-то видимые дары.
– Спасибо вам, дорогой Иван Иванович. Мне так хорошо было этим вечером… Как давно не было. Все последнее время мной владела тоска, от которой я не знала, как спастись. А сейчас чувствую, что она отступила.
– Я знаю, как вам трудно, Люба, знаю лучше, чем кто-либо. И потому очень прошу вас. Будьте мужественны, моя милая девочка. Такой, какой вы были всегда, какой я вас знаю и люблю.
– Я буду, Иван Иванович. Ведь я беру пример с вас… – откликнулась Люба, пожимая руку поэта.
Глава 6.
В Ашаракской битве Константин Стратонов был ранен персидской пулей в ногу. По счастью, пуля прошла навылет, не задев кости, но и эта «царапина» принудила его к лазаретной тоске. За все эти месяцы он впервые вспомнил это тягостное чувство. Все-таки тоска – непременно следствие праздности и неудельности… А когда чуть не каждый день над головой пули свистят, то тут не до тоски! Тут только поворачиваться успевай! А коли выдастся день мирный и покойный, так покуда отдохнешь и почистишься – не успеваешь заметить, как день тот пролетит.
Солдатская служба – конечно, не сахар. Но пожаловаться на обхождение ни со стороны однополчан, ни со стороны командиров Константин не мог. Его, государственного преступника, Алексей Петрович принял по приезде, как родного сына – усадил за свой стол, расспрашивал о брате. Впервые Константин увидел этого легендарного воина и сразу был покорен его спокойным величием, его простотой в обхождении. Да, Ермолов был суров и грозен – для врагов Отечества. И для тех, в ком он, справедливо или нет, таковых подозревал. Для солдат Алексей Петрович был настоящим отцом.
Константин немало жалел о замене Ермолова. Хотя, справедливости ради, к бывшим декабристам Паскевич относился нисколько не хуже, принимая их столь же радушно и ни в чем не чиня обид. А недавних заговорщиков становилось на Кавказе все больше. С началом войны они, разжалованные и ссыльные, стали просить Государя о переводе своем на Кавказ для искупления своего греха верной службой и, если приведется, кровью. Император подобные прошения большей частью удовлетворял, предоставляя оступившимся случай исправиться и вновь возвратиться в общество.
Встреча со старыми друзьями ободрила Константина, ибо они, как оказалось, ни в чем не винили его.
Но не о них были теперь его мысли. Через горы и долины мчались они стремительнее ветра – к Тифлису и дальше, дальше… Туда, где теперь находилась женщина, неотступно бывшая с ним все эти месяцы. Женщина, поселившаяся в его сердце и заполнившая оное собой.
Ее звали – Лаура… Ее отец происходил из знатного грузинского рода Алерциани, мать – армянка, семья которой перебралась в Грузию много лет назад. К родной сестре матери Нарине, жившей с мужем в Шуше, Лаура приехала погостить в начале 1826 года. Одинокие супруги любили племянницу, а потому их дом был для нее родным. Тетя Нарине хворала, и именно поэтому Лаура задержалась в Шуше дольше обычного…
Не заболей Нарине и вернись Лаура в родительское поместье, расположенное недалеко от Тифлиса, раньше – может, и не встретил бы ее бывший корнет Стратонов. Хотя говорят, что если судьбе угодно свести двух людей, то она уж непременно изыщет к тому способ.
Так уж случилось, что именно в Шушу был направлен Константин по прибытии своем на Кавказ. Эта карабагская крепость была большей частью населена магометанами, хотя армян оставалось в ней еще много. Она была известна окрест богатой культурной жизнью: литературой, музыкой, архитектурой… В XVIII веке здесь жил и творил знаменитый поэт и визирь карабагского ханства Молла Панах Вагиф. Его стихи легли в основу многих народных песен и привлекали исполнителей мугамов. Еще в конце XVIII – начале XIX века в Шуше образовалась школа мугамата, состоявшая из нескольких творчески индивидуальных школ, во главе которых стояли крупные исполнители-мугаматисты (ханенде). Школа эта славилась далеко за пределами Шуши. Равно славились и мастера-ханенде, чьи песни почти безумолчно раздавались в крепости.
Хотя Константин не понимал языка, на котором они исполнялись, но, имея природную тягу к музыке, любя хорошую песню, все-таки был очарован «поющим городом», незнакомыми музыкальными инструментами, чужими, но интересными мотивами.
Постигать эту оригинальную культуру пришлось, однако, недолго.
Едва ступив в русские пределы, Аббас-Мирза двинул свои полчища к Шушинской крепости. Войсками в Карабагской провинции командовал сподвижник самого Цицианова и герой ахалкалакского боя полковник Иосиф Антонович Реут. Старый воин давно предвидел возможность вторжения и не раз доносил Ермолову о стягивающихся к границе персидских войсках, о лазутчиках, наводнивших провинцию. Алексей Петрович пересылал донесения в столицу, но там не ждали войны и не обращали на них внимания. Все же Ермолов усилил Шушу, прислав туда роту егерей, в числе которых был и Константин.
Однако, что была эта рота перед шестьюдесятью тысячами персов?
А те двигались быстро. Еще до получения очередной инструкции Ермолова крепость оказалась окружена неприятелем. Положение было еще усугублено трагической гибелью на пути к Шуше отряда подполковника Назимки, насчитывавшего почти тысячу штыков. Таких бездарных потерь русская армия не несла на Кавказе уже много лет. Тем тяжелее был удар. Такая бесславная гибель батальона, помноженная на чинимые персами погромы в мирных деревнях, деморализовало население, подрывая в нем веру в русское могущество.
15 июля персидские тьмы явились у стен крепости. На другой день лазутчик доставил приказ Ермолова об отступлении, но отступать было уже некуда. Двое отважных казаков вызвались отвезти донесение о сложившемся положении в Тифлис и уехали под покровом ночи. Осада Шуши началась.
Запасов продовольствия в крепости практически не было, и угроза голода и жажды с первых дней нависла над его жителями и полуторатысячным гарнизоном. Выдача провианта немедленно была урезана вполовину.
Несмотря на грозившее стать отчаянным положение, старшие офицеры приняли решение защищать крепость до конца и, если надо пасть с честью, не посрамив русского имени.
Два дня спустя на Шушу обрушился огненный шквал персидской артиллерии. Трудно описать ужас, охватывавший людей при ее громовых раскатах, когда стены домов их содрогались, а там, где кладка послабее, и вовсе начинали рушиться, когда взметались к небу столбы дыма и огня, и казалось, что весь этот мирный «поющий город» того гляди будет уничтожен.
В один из таких дней и произошла встреча, изменившая жизнь бывшего корнета Стратонова… При очередном обстреле он получил легкое осколочное ранение и был послан в лазарет с тем, чтобы перевязать рану, а затем немедленно вернуться в строй. До лазарета, однако, Константин так и не дошел, ибо по дороге увидел смертельно перепуганную девушку, жавшуюся к стене дома и вздрагивающую при каждом залпе. Она была столь бледна, что, казалось, вот-вот лишится чувств. Константин бросился к ней:
– Сударыня, вам нельзя здесь! Одной на улице! Идите домой!
Девушка подняла на него угольно-черные, расширенные ужасом глаза, но не ответила.
– Ах, черт… – досадливо ругнулся Стратонов. – Должно быть, она не понимает по-русски…
– Я понимаю… – едва слышно за грохотом прошептала она побелевшими губами. – Наша служанка… Мы потерялись с ней.
Девушка едва держалась на ногах и, забыв о собственной ране, Константин подхватил ее на руки:
– Скажите, где ваш дом? Я провожу вас до него!
Она назвала улицу и, хотя бывший корнет еще не совсем освоился с географией города, но все-таки поспешил в указанном направлении. Ни вражеский огонь, ни ранение, ни царящая вокруг неразбериха не помешали ему отметить красоту спасенной им юной особы. Смуглая матовая кожа, продолговатый овал лица, прямой нос – в этом лице чувствовалось благородство, и Константин быстро догадался, что имеет дело с девицей знатного происхождения. На то указывал и наряд ее.
Не иначе как чудом отыскал Стратонов нужный дом. На стук выбежал старик-армянин и, запричитав, торопливо провел его в гостиную, где прибежавшие служанки принялись приводить в чувство свою барышню.
Старик был мужем тетки Лауры. Он сердечно и долго благодарил Константина за спасение племянницы, а затем вскрикнул:
– Да ведь у вас весь рукав в крови! Вы ранены?
Стратонов и в самом деле потерял много крови, пока нес Лауру к ее дому. Но куда больше беспокоило его то, что он должен был уже возвратиться к стенам крепости, где, не покладая рук, солдаты трудились над укреплением обороны. Однако, откланяться не получилось. Старый Арам велел одной из служанок немедленно перевязать рану Константина.
– Не беспокойтесь. Я пойду с вами сам и скажу вашему начальству, что обязан вам спасением племянницы!
Это отчасти успокоило Стратонова, и он поинтересовался у хозяина, почему Лаура оказалась так далеко от дома.
– Моя жена очень больна, – ответил старик, помрачнев. – А у нас почти не осталось еды… И лекарств тоже… Лишения отнимают у моей Нарине последние силы, убивают ее. Лаура очень привязана к тетке. Она хотела пойти к коменданту, просить помощи. Эта глупая Манушак пошла с ней, но, когда началась пальба, убежала, бросив нашу девочку. Теперь я выгоню ее на улицу, и пусть ищет себе другое место!
– Все было не так, дядя! – слабо возразила пришедшая в себя Лаура. – Там была суматоха… Люди бежали в разные стороны, и мы просто потерялись.
– Не оправдывай ее! – сурово отозвался Арам. – Она должна была не отходить от тебя ни на шаг!
Константин приблизился к Лауре и, шаркнув потрепанным сапогом, представился:
– Константин Александрович Стратонов, в прошлом корнет, ныне разжалован в рядовые.
– За что ж вас так? – полюбопытствовал старик.
– За провинность перед Государем и Отечеством, которую я надеюсь искупить в этой войне.
– Достойный ответ! – одобрил Арам. – Я сразу понял, что вы не простой солдат. Впрочем, это неважно. Вы спасли Лауру, и мой дом отныне – ваш дом.
– Я также глубоко благодарна вам, Константин Александрович. И буду рада видеть вас вновь, – сказала Лаура мягким, чистым голосом.
– Если позволите, я навещу вас, когда явится возможность, – тотчас отозвался Стратонов, желавший, во что бы то ни стало, продолжить знакомство.
– Мы всегда вам рады, – добродушно сказал старик. – А теперь идемте, я провожу вас. А то, чего доброго, командование будет недовольно вашим отсутствием.
Жаль было так скоро оставлять красавицу, но пришлось подчиниться долгу. Однако, ни о ней, ни о ее больной тетке он не забыл. По дороге он узнал у Арама, чем больна его жена, и уже на другой день выпросил в лазарете нужное лекарство, которое передал служанке Лауры.
С продовольствием было куда хуже. Его недостаток сказывался на здоровье солдат, не знавших отдыха ни днем, ни ночью и все чаще болевших. Тяжко страдало и население. Единственным средством поправить положение было снять с полей еще неубранный хлеб. Для этого Реут снарядил фуражиров, но те оказались отрезаны персидской конницей. Увидев это отважный майор Клюгенау воскликнул:
– Ну, что, охотники, кто со мной наших выручать?
Константин бросился к барону первым, а за ним другие егеря. Их небольшой отряд успел привлечь на себя персидскую пехоту, а одна конница ничего не могла сделать с фуражирами. Отстреливаясь, они успели выбраться из ущелья к крепости, но попасть в нее через Елизаветинские ворота, где шла перестрелка персов с отрядом Клюгенау, уже не могли. Пришлось направиться кругом, к Эриванским воротам, еще при начале осады заложенным землей и каменьями. Гарнизон стал спешно очищать их, чтобы впустить фуражиров, и все это время Клюгенау со своей ротой продолжал сражаться под сплошным огнем противника.
В том бою Константин впервые лицом к лицу увидел русских дезертиров. Их у персов был целый батальон. Одетые в персидские мундиры и папахи, рослые, длинноволосые, бывшие русские солдаты во главе с офицерами, назначенными из их же числа, нападали куда яростнее, чем сами персы, бросаясь по русской привычке в штыки…
После неудачи фуражиров осталось лишь доставлять муку с мельниц деревни Шушакент, с которой сообщение еще не было прервано. Попытки Аббас-Мирзы уничтожить ненавистную деревню, разбивались о стойкость армян и неприступность гор, стеной ограждавших Шушакент. Но муки не хватало…
Персы долго не решались на штурм, но в одну безлунную ночь все же предприняли попытку взять крепость. Однако, передвижения противника были вовремя замечены, и войска, предводительствуемые Клюгенау мгновенно заняли свои места. По сигналу барона они встретили неприятеля картечью, и тот вынужден был ретироваться.
А утром Константин вновь увидел Лауру. Она пришла на позиции сама, в сопровождении старой служанки, державшейся поодаль.
– Боже мой, вы здесь?! – воскликнул Стратонов. – Что-то случилось?
– Я пришла поблагодарить вас, Константин Александрович, – отозвалась девушка. – Те лекарства, что вы прислали, поддержали тетушку. Теперь мы обязаны вам и ее жизнью.
Она осунулась за прошедшее с их первой встречи время, но тем изысканнее стала ее строгая красота.
– Вы ничем не обязаны мне, – покачал головой Стратонов. – Для меня честь и счастье – служить вам. Но как же вы решились прийти сюда? Ведь это может быть опасно.
– Не бойтесь, Константин Александрович, в этот раз я не лишусь чувств, – чуть улыбнулась Лаура. – Ко всему можно привыкнуть… Даже к этому аду, если живешь в нем изо дня в день. Мои родители, должно быть, сходят с ума, не имея от меня вестей…
– Когда-нибудь все это закончится. Ермолов не оставит нас погибать. Вот увидите. Мы разобьем Аббас-Мирзу, и вы возвратитесь домой.
Лицо Лауры отчего-то опечалилось.
– Домой… Да… А что же будет с вами?
– А я продолжу воевать, пока не заглажу свою вину, и мы не одолеем персов. А потом я приеду в Тифлис. Надеюсь, уже офицером. Смогу ли я навестить вас, Лаура?
Щеки девушки вспыхнули, и она быстро ответила:
– О, да! Я всегда буду рада вам!
Как бы хотелось Константину, чтобы этот разговор продолжался вечность! Но…
– Стратонов, вы мне нужны! – голос майора Клюгенау прервал воцарившуюся идиллию и, спешно попрощавшись с Лаурой, Стратонов поспешил на зов.
– Я смотрю, вы время не теряете, – усмехнулся барон, провожая взглядом удаляющуюся красавицу.
– Я помог найти лекарства для ее тетки. Она серьезно больна.
– Не оправдывайтесь, – махнул рукой барон. – Почему бы нет? Девушка замечательно хороша, а вы отличный воин… Кстати, именно поэтому я вас и позвал.
– Чем могу служить?
– Мы с вами и еще двумя смелыми людьми поедем на свидание, – улыбнулся Клюгенау. – К самому Аббас-Мирзе!
После неудачного штурма персы, рвавшиеся перейти в дальнейшее наступление, решили вернуться к переговорам. Брошенный жребий определил, кому из офицеров ехать на эту опасную встречу.
Майор Клюгенау в полной парадной форме, верхом на коне, сопровождаемый тремя солдатами, спустился к дожидавшемуся его внизу персидскому конвою. В неприятельском лагере его встретили с почестями: войска при проезде его становились в ружье, играла музыка. У ставки принца собрались знатнейшие сановники, толпились под реющими на ветру знаменами полков офицеры шахской гвардии. Все с любопытством смотрели на барона, ожидавшего представления принцу.
– Нас встречают, как важное посольство… – шепотом заметил Константин.
– Было бы недурно, если бы и проводили также, – ответил майор.
В это мгновение шелковый занавес шатра раздвинулся, и перед Клюгенау явился сам Аббас-Мирза. Не тратя много времени на приветствия, принц скоро перешел к делу:
– Я уже потерял всякое терпение и не могу быть более снисходительным к вам и к жителям города. Мои войска неотступно требуют нового штурма, но я не хочу кровопролития. Я все ждал, полагая, что вы образумитесь. Теперь не в моей уже воле сдерживать стремление моих храбрых войск. Я и так потерял слишком много времени через свою снисходительность!
Майор молчал, не сводя глаз с персидского повелителя.
– Неужели вы думаете, – раздраженно продолжал тот, – что я пришел сюда с войсками только для одной Шуши? У меня еще много дел впереди. Я предваряю вас, что соглашусь на заключение мира только на берегах Москвы!
При этих словах Клюгенау не смог удержать улыбку. Аббас-Мирза заметил это, добавил горячо:
– Клянусь вам честью, что вы не получите помощи. Вы, верно, не знаете, что ваш государь ведет междоусобную войну со своим старшим братом и, следовательно, ему не до Кавказа. Что же касается Ермолова, то его давно уже нет в Тифлисе!
– Я не имею полномочий вести переговоры о сдаче крепости, – ответил барон. – Но если Вашему Высочеству угодно обладать Шушой, то он может обратиться за этим к генералу Ермолову, который, конечно, предпишет оставить крепость, ежели только удержание Карабага не входит в его соображения.
– В Тифлис мне посылать незачем, – отмахнулся Аббас-Мирза, – я уже сказал вам, что город покинут русскими.
– Тем не менее, мы оставим Шушу только тогда, когда получим приказание Ермолова, – холодно повторил Клюгенау.
– Хорошо, я согласен, – с неудовольствием ответил принц. – Пошлите в Тифлис своего офицера, а до получения ответа пусть будет перемирие.
Тотчас составлены были условия. Камнем преткновения стали две шестифунтовые пушки, которые Аббас-Мирза в случае отступления Реута из Шуши требовал оставить персам.
– В таком случае, переговоры не могут продолжаться, – жестко объявил Клюгенау и взялся за шляпу.
Присутствовавшие ханы стали уговаривать его исполнить желание наследного принца, но барон был непреклонен:
– Скажите принцу, что, располагая идти к Москве, он возьмет их там целую сотню; так стоит ли из-за таких пустяков теперь терять драгоценное время!
Этот аргумент победил настойчивость Аббас-Мирзы, и перемирие было заключено на девять дней.
В эти девять дней затишья Константин дважды виделся с Лаурой, принося ей немного еды, урезая для того свой и без того скудный солдатский рацион. Он все больше очаровывался этой чудной семнадцатилетней девушкой, на удивление чисто говорившей по-русски, любившей и знавшей поэзию как своей страны, так и отчасти далекой России… Но ее рассказы о родительском доме тревожили его. Ее отец, знатный вельможа, наверняка искал для дочери столь же знатного мужа. А нищий русский дворянин да еще разжалованный в солдаты разве будет принят им? Стратонова заранее терзала ревность, когда он представлял себе, что его Лаура уедет, и война разлучит их надолго.
Между тем из Грузии пришло долгожданное письмо Алексея Петровича: «Я в Грузии. У нас есть войска и еще придут новые. Отвечаете головой, если осмелитесь сдать крепость. Защищайтесь до последнего. Употребите в пищу весь скот, всех лошадей, но чтобы не было подлой мысли о сдаче крепости».
На очередное предложение о сдаче гарнизон Шуши ответил отказом. Разъяренный Аббас-Мирза вновь обрушил огонь на крепость, а заодно начал вести подкоп, надеясь таким образом сломить непокорных. Но вдохновленные примером командиров, защитники Шуши предпочитали умереть под развалинами, нежели сложить оружие. Припасы, меж тем, подошли к концу. Население все более смущалось, теряя надежду на помощь, и лишь солдаты в ответ на ободрения Реута, обещавшего скорую подмогу, стойко отвечали:
– Ничего, ваше высокоблагородие, подождем!
А егеря пошучивали:
– Да уж коли на то пойдет, так мы по жеребью друг друга есть станем, а уж не сдадимся этим дуракам-кизильбашам.
Но, вот, настало 5 сентября. Ровно в полдень персидский лагерь пришел в неописуемое движение, и вскоре вся несметная рать отошла от стен Шуши. В крепости были немало изумлены такому повороту, еще не ведая о блестящей победе Мадатова под Шамхором…
Через несколько дней Лаура уехала. Накануне Константин навестил ее, будучи приглашен на обед ее дядей Арамом. После обеда Лаура пела на непонятном Стратонову языке. И хотя он не мог понять слов, но сама мелодия, голос, взгляд девушки говорил куда больше их. Когда утомленный застольем старик задремал, Константин порывисто сжал руки красавицы:
– Скажи мне только одно: будешь ли ты ждать меня, Лаура? Я клянусь, что приеду за тобой! Приеду с победой и при офицерских эполетах! И увезу тебя в Петербург! Или в Москву! И мы никогда впредь не разлучимся!
Девушка мягко улыбнулась:
– Что мне эполеты? Разве в них мое счастье? Лишь бы ты был невредим! А я буду ждать тебя, клянусь! Никого в мире у меня нет теперь кроме тебя, помни!
Константин прижал ее теплые руки к губам:
– Теперь ни пули, ни ядра, ни острый клинок – ничего мне не страшно! Ничто не помешает мне вновь увидеть тебя!..
Лаура уехала, а для Стратонова начались долгие месяцы походов и сражений. Свою далекую возлюбленную он вспоминал часто, но еще ни разу воспоминание это не схватывало сердце такой мучительной тоской. Где она теперь? Что с нею? Не забыла ли?..
Обстановка в лагере, куда войска возвратились после снятия осады с Эчмиадзина, немало способствовала шушинским воспоминаниям – потеря обозов обернулась угрозой голода. В монастыре, по счастью, запасы еще оставались – донесение лазутчика об их отсутствии оказалось ошибочным. Но в лагере провизии оставалось не более, чем на неделю.
Почти уничтоженный отряд Красовского не имел больше возможностей для маневра. Своей жертвой он остановил прорыв неприятеля в Грузию, нанеся ему тяжелейшие потери и совершенно деморализовав его, но сам оказался в тисках. Выручить его из этого положение мог лишь приход свежих сил, но их пока не было. Пришла лишь посланная из Тифлиса для новой осады Эривани артиллерия, загромоздившая лагерь доброй тысячью разнообразных повозок, среди которых располагались сараи для раненых, скирды сена, кони, волы, люди… Издали разноцветная его панорама могла казаться грозной, а на деле насчитывал он не более пятиста штыков с тремя сотнями конных казаков…
Между тем, Аббас-Мирза изменил свои позиции, и теперь отсюда, с Дженгулинских гор видна была находящаяся в пятнадцати верстах пехота противника, окапывавшаяся над самым берегом Занги, а также кавалерия. Не решаясь прямо напасть на русских, персы всеми силами старались нарушить их сообщения. В частности, их конница была послана наперерез идущему через Безобдал транспорту с провиантом. Узнав об этом, Красовский, лежавший больной после ранения, спешно послал для прикрытия обоза Крымский и Севастопольский батальоны, но подвоз продовольствия все равно задерживался.
Сухари в лагере закончились, и между солдатами пошли мрачные разговоры о неизбежности голодной смерти. Слушая их вздохи, Константин только усмехался:
– Не было вас, братцы, в Шуше! – и принимался рассказывать о памятных днях осады крепости…
Очередной такой рассказ был прерван стремительно появившимся братом. Константин взглянул на него с невольным восхищением – словно ни боев, ни блокады не было и нет! Хоть теперь на парад господину полковнику! Мундир и сапоги вычищены, щеки гладко выбриты – как только удается это ему! Константин поскреб щетину, покосился на изорванное платье – далеко до брата, куда как далеко!
– Ну, что, как здрав? – спросил Юрий, подойдя.
– Отлично, ваше высокобродие! Кабы не чертова нога, так хоть сейчас перса опять бить!
– Успеешь еще. Теперь для тебя другое дело есть.
– Какое? – живо спросил Константин, приподнявшись.
– Пойдем-ка, дорогой объясню, – ответил брат, подавая ему руку.
Юрий повел Константина в лагерь Кабардинского полка, где всего сильнее была тревога по поводу блокадного положения. Сюда, превозмогая мучительную боль, с большим трудом поднявшись с постели, пришел и сам генерал Красовский. Стараясь выглядеть бодро, он держался стоически, успокаивая подчиненных. Завидев приближающихся братьев Стратоновых, Афанасий Иванович слабо улыбнулся и поманил их рукой.
– Вот что, братцы, – сказал он солдатам, – прослужив более вас и проведя не один раз несколько дней без пищи, я узнал из опыта, что можно быть сытым и не евши.
– Как так? – послушались недоверчивые голоса.
– Вот, он научит, – кивнул генерал на Константина.
Тот весело улыбнулся:
– Есть, братцы, такой способ. Лично опробован в шушинской осаде, – с этими словами он, лукаво прищурясь, грянул удалую разбитную песню, тотчас подхваченную несколькими ротными песенниками, также позванными Афанасием Ивановичем.
Повеселели солдаты, оживились. И, вот, уж кое-кто вприсядку пустился.
– Давай, братцы! – воскликнул Константин. – Когда поешь, тогда нестрашно! Когда поешь, и голод нипочем!
– Верно! – одобрительно кивнул Красовский.
Видя, что смущение покинуло солдат, и песня захватила их, измученный генерал с облегчением покинул кабардинцев в сопровождении Юрия. А Константин, довольный тем, что вырвался из лазарета, продолжил повышать боевой дух солдат залихватскими куплетами, жалея лишь о том, что раненая нога не позволяла ему подняться с места.
К ночи в русском лагере царило такое веселье с песнями, плясками и шутками-прибаутками, что неприятель должен был положительно заключить, что провиант прибыл к месту назначения, и русские отмечают это событие шумным пиром…
А наутро пришло долгожданное известие, что обозы уже совсем близко. Лагерь огласился дружным «ура».
– То-то же, – сказал Красовский, чуть улыбаясь своей редкой и немного печальной, но ласковой улыбкой. – Учитесь впредь верить своему командиру!
Солдаты заулыбались также, глядя на генерала с выражением бесконечной любви и преданности.
Глава 7.
Князь Владимир Борецкий редко бывал в такой ярости, как в этот день. Заехав проведать мать, он имел пренеприятный разговор с братом Мишелем, который с каким-то глупым злорадством сообщил, что отец окончательно помешался на заезжей певичке и не только снял для нее прекрасную квартиру, принадлежавшую прежде Катрин Стратоновой, но и приобрел уютный домик в Павловске, записав его, между прочим, на имя госпожи Фернатти.
– Чему же ты радуешься? – зло спросил Владимир, впившись колючими глазами в насмешливое лицо брата. – Можно подумать, этот старый безумец оставит без гроша только меня! Ты первый пойдешь по миру! Потому что я в крайнем случае обеспечен и без отцовского наследства, а ты без него будешь нищим!
– Неужели? – прищурился Мишель. – Я, мон шер, всегда найду чуткую душу с солидным приданым, а ты… Твое жалование и взятки…
– Что?!
– Только не нужно сцен оскорбленной невинности! Кто-то может и мнит тебя образцом честности и принципиальности, но я-то знаю, чего стоят твои принципы. Так вот, твое жалование и взятки, конечно, обеспечат тебе достойное существование, но неужели твоя жадность выдержит сознание, что наследство нашего батюшки ушло мимо твоего кармана какой-то кокотке?
– Ты, Мишель, конечно, редкостная скотина… – вымолвил побагровевший Владимир. – Но признаю, на сей раз ты прав. Нельзя допустить, чтобы семейное достояние пропало для семьи из-за прихоти сумасшедшего старика.
– Ты уже второй раз называешь его сумасшедшим, – заметил Мишель. – Если ты помнишь, еще до появления этой твари я предупреждал тебя, что нам должно… оградить нашего родителя от него самого, позаботиться о нем, как подобает сыновьям. А заодно и о нашей матушке, которую он ежечасно бесчестит.
– Хочешь, чтобы я начал процесс по установлении опеки над собственным отцом? – нахмурился Владимир. – Это чревато большим скандалом…
– Открытое сожительство отца с тварью и его баснословные траты на нее уже сделались скандалом. Что мы теряем?
– Ты – ничего. А я…
– А ты? Кто упрекнет сына, болеющего за позор матери, за честь и достояние семьи и, скрепя сердце, пытается спасти отца от еще большего падения? Никто не упрекнет тебя. Более того, еще и посочувствуют.
– Я подумаю, – отозвался Владимир. – Возможно, ты и прав. Он не оставляет нам выбора…
– Именно! И единственный человек, который может его остановить – ты!
– Хорошо, я изучу этот вопрос и извещу тебя о действиях, которые решусь предпринять.
– Только очень прошу, поспеши. Состояние нашего дорого родителя ухудшается стремительно, и нельзя быть уверенным, что завтра он не выкинет еще какой-нибудь фортель.
Оба брата не подозревали, что их беседу внимательно слушают посторонние уши. Притаившись в смежной комнате, Эжени прекрасно слышала каждое слово. Когда же молодые князья разошлись, она еще некоторое время сидела на полу, поджав под себя ноги, и улыбалась со смесью печали и удовлетворения.
Удовлетворена она была тем, что все шло по намеченному Виктором плану, но печально было видеть человеческую низость и делать все для еще худшего падения князей, питать их пороки с тем, чтобы они поглотили их без остатка…
Лее ничего не стоило превратить старого князя в свою игрушку, в раба, готового исполнять все ее прихоти. Она обильно угощала его восточными снадобьями, подмешиваемыми в вино, от которых Лев Михайлович чувствовал необычайный подъем сил и возвращение молодости. Это чудо он приписывал всецело самой Лее и своей страсти к ней, и готов был жертвовать всем для продления оного. А Лея, не скупясь на ласки, изо дня в день выманивала из него все возможное: сперва драгоценности, затем квартиру и, вот, уютную дачу в Павловске… А еще нужна была рента… А еще… Виктор обещал ей, что она станет княгиней, и Лея твердо намеревалась добиться этого – ведь именно для того она так старательно обучалась всему, что ей было велено.
Если прежде Эжени сомневалась, что такое возможно, то теперь сомнения рассеялись. В жарких объятиях Леи князь обратился в глину, из которой она могла лепить все, что угодно. И, пожалуй, он не остановился бы перед тем, чтобы бросить жену и узаконить свои отношения с любовницей.
– Ему нужно чувствовать себя мужчиной, а эту роскошь в его лета могу дать ему только я, – смеялась Лея, и в ее громком, наглом смехе отчетливо слышался голос трактирной девки, какой была она несколько лет назад.
Эжени тяжело было видеться и разговаривать с этой особой, глаза которой горели все жаднее, а повадки становились все более хищническими.
– Погоди, князек, вот, когда ты женишься на мне, так уж узнаешь меня! Так уж и заживу я тогда! По-настоящему!
– А что значит – по-настоящему? – спросила Эжени.
– А это значит, любить того, кто любится, а не того, кто может заплатить. Не зависеть ни от кого! Делать, что хочется!
– Разве же это жизнь?
Лея отставила недопитый бокал мускатного вина, нахмурилась:
– Только не надо учить меня морали, моя дорогая. Я, может, и могла бы стать целомудренной, если бы со мной рядом был господин граф… Для него одного – могла бы. Но он предпочел из меня сделать шлюху для своих целей. Что ж, значит, так тому и быть! Тебе повезло больше…
– Между мной и господином графом ничего нет, – холодно сказала Эжени.
– Ну и зря, – пожала плечами Лея. – Вот и будешь сохнуть… А я сохнуть не хочу. Я жить хочу! Пусть даже недолго, но… весело!
– Смотри не спотыкнись. Сыновья князя хотят начать процесс и учинить над ним опеку.
– Вот как? – сразу насторожилась Лея. – И что теперь?
Эжени опустила голову. Теперь! Теперь настал момент хорошенько раздуть семейный скандал и окончательно отколоть отца семейства от остальных ее членов…
– Князь будет у тебя нынешним вечером?
– Само собой.
– Отлично. Ты расскажешь ему, что тебе стало известно о злоумышлениях на него его сыновей…
– А если он спросит, откуда я узнала?
– А ты постарайся, чтобы твой любовник не задавал тебе лишних вопросов.
– А дальше?
– А дальше ты передашь ему это письмо, – Эжени протянула Лее конверт. – Оно написано якобы друзьями князя, радеющими о его чести и свободе и желающими помочь ему защититься от посягательств сыновей. От имени этих друзей завтра в полдень к тебе для встречи с князем явится человек.
– Что еще за человек? Я его знаю?
– Нет, ты его не знаешь. Это поверенный, который возьмет на себя защиту князя.
– Все-то у вас продумано, все-то подготовлено. Словно бы вы знали, что эти два жлоба решат объявить папочку идиотом!
– Мы об этом догадывались.
– И после этого ты говоришь мне о морали? Нет уж, моя дорогая, смею думать, что у меня-то совесть почище, чем у тебя!
– Возможно, так и есть, – сухо ответила Эжени. – Но запомни, твое княжеское будущее будет зависеть от этого процесса. И нам нужно, чтобы князь всецело доверился нашему человеку.
– Можешь не беспокоиться. Он ему доверится. Но сможет ли ваш человек справиться с князьями? Князь Владимир очень влиятельный человек.
– На каждое влиятельное лицо найдется лицо более влиятельное, а на каждое такое лицо найдется круглая сумма, которая убедит его действовать в наших интересах.
– А вы с господином графом все-таки чудовища…
– Следи за языком, – нахмурилась Эжени. – Чудовища – это князья Борецкие. А мы…
– Немезида… – усмехнулась Лея, вспомнив, как называл ее господин граф.
– Итогом этого процесса станет полный разрыв князя с предавшей его семьей. Тем проще станет тебе добиться своей цели, а нам своей.
– Ты даже говоришь совсем, как он, – покачала головой Лея.
– Как кто?
– Как господин граф. Кстати, где он теперь? И скоро ли вернется?
– Он вернется, Лея, – ответила Эжени. – Непременно вернется. Как только дела позволят ему сделать это…
– Даже у дьявола, наверное, меньше тайн, чем у вас… – махнула рукой Лея. – Не беспокойся за князя. Можешь не сомневаться, мои доводы всегда будут для него весомее любых других.
– Я в этом не сомневаюсь, – откликнулась Эжени, мысленно уносясь от «гнезда разврата», как называла злополучную квартиру княгиня, в тот далекий, неведомый край, где теперь находился Виктор, стараясь вызвать перед взором дорогой образ, придающий ей крепости и уверенности в своих действиях.
Глава 8.
Персия… Образ этой страны овеян притягательным флером, созданным поэтами. Странствующим романтикам представляется она краем тысячи и одной ночи с роскошными дворцами, ослепляющими блеском своих сокровищ, сказочными диковинками и прочими прельстительными вещами, на которые так падки мечтательные души.
Путешественник бывалый лишь усмехнется наивным ожиданиям, ибо он знает, что сказки и стихи, коими балуется даже сам Фетх-Али-Шах – это лишь кальянный дым, скрывающий нищету и дикость воспеваемого края. Постоянные войны и междоусобицы, баснословная жестокость кровавых деспотов и столь же баснословная ненасытность их вероломных наместников повсюду наложили печать опустошения и народного бедствия…
Когда-то ослепленный кровавым Моххамед-ханом нахичванский наместник, глубоко скорбевший о своем народе, жаловался Ермолову во дни его персидского посольства:
– Здесь, сидя у окна, восхищался я некогда богатством прекраснейшей долины, простиравшейся к Араксу; она была покрыта обширными садами и лесом, и многолюдное население оживляло ее. Теперь, сказывают мне, она обращена в пустыню, и нет следов прежнего ее богатства. Мысль о сем уменьшает горесть, что я лишен зрения, и я нередко благодарю судьбу, что она закрыла мои глаза на разорения земли, которая в продолжение трех веков блаженствовала под управлением моих предков. Междоусобные войны и прохождения армий Надир-шаха вносили в мою несчастную землю опустошения, и каждый шаг сего завоевателя ознаменован был бедствиями народов. Не так давно здесь были и русские войска, но они не заставили проливать слез в земле нашей, и злом не вспоминают о них соотечественники мои. Теперь вы, посол сильнейшего государя в мире, удостаиваете меня вашей приязнью и, не пренебрегая бедным жилищем моим, позволяете принять себя как друга. Не измените тех же чувств благорасположения, господин посол, когда непреодолимые войска государя вашего войдут победителями в страну сию. Хотя приближаюсь я к старости, но еще не сокрушит она сил моих, и последние дни жизни моей успокою я под сильной защитой вашего оружия. Некоторое предчувствие меня в том уверяет… Я знаю персиян и потому не полагаюсь на прочность дружбы, которую вы утвердить столько старались. Я не сомневаюсь, что или они нарушат дружбу своим вероломством, или вас заставят нарушить ее, вызывая к отмщению вероломства…
Ермолов навсегда сохранил ненависть к Персии, вынесенную из этого посольства: «Тебе, Персия, не дерзающая расторгнуть оковы поноснейшего рабства, которые налагает ненасытная власть, никаких пределов не признающая, где подлые свойства народа уничтожают достоинство человека и отъемлют познание прав его, где обязанности каждого истолковываются раболепным угождением властителю, где самая вера научает злодеяниям и дела добрые не получают возмездия, – тебе посвящаю я ненависть мою и отягчая проклятием прорицаю падение твое».
В отличие от своих предшественников Фетх-Али-Шах не был жесток и деспотичен. Он покровительствовал искусствам, вовсе не отличался воинственностью и никогда бы не решился на войну с русскими, если бы не влияние его младшего сына Аббас-Мирзы, подстрекаемого в свою очередь Англией.
Слабохарактерный Шах был уже стар и более всех забот волновали его две: собственный гарем и собственная казна. Скупость «солнца мира» была легендарной. Этот властитель тащил в свой кошелек все, что попадалось ему под руку, и сам признавался, что день, в который он не опустил в свой кошелек ничего, считает прожитым зря. Гарем же Шаха составлял не одну тысячу жен. Они дали ему сто пятьдесят сыновей и двадцать дочерей – снилось ли хоть одному королю столь бесчисленные наследники? Правда, избыток их не сулил Персии ничего, кроме еще более жестоких распрей…
С годами Шаху все тяжелее становилось управляться с многочисленным «семейством», а жадность лишь возрастала. Поэтому всякий, кто мог услужить правителю в этих двух вопросах, а к тому ублажить его красивой речью, принимался им с распростертыми объятиями. Дружба же Шаха открывала для стяжавших оную двери его вельмож, которым также всегда можно было услужить, имея определенные знания и достаточное богатство.
Странствующему ученому Самуму ничего не стоило снискать расположение Шаха и персидской знати. Никто не знал его настоящего имени, не знал, к какому племени он принадлежит, откуда приезжает он время от времени в Тегеран и куда направляется затем. Одно лишь было известно о нем: человек этот – великий врач и богач, лишенный порока скупости… В нем подозревали колдуна, рассказывали, будто бы он владеет тайной производства золота. Тегеранская чернь, слепо внимающая фанатикам, боялась Самума, считая его шайтаном, и обходили стороной дом, где он останавливался.
Зато Шах не чаял в нем души, поверяя все свои многочисленные тревоги и недовольства на ближних. Самум говорил мало, но слушал с неподдельным вниманием, а, главное, не отягощал слух повелителя давно набившими оскомину трескучими велеречиями. Этот человек обращался к нему с глубоким почтением и в то же время с тем редким достоинством, какого не сыскать было у персидских вельмож. Некогда таким же образом говорил с Шахом Ермолов, которого он и поныне вспоминал с теплотой. А остальные… По-восточному приторно лицемерили. Ведь не так глуп был Шах, чтобы принимать все велеречья за чистую монету…
Дворец правителя был одним из тех немногих мест в Персии, что оправдывали ее сказочный образ. Впрочем… странника, видевшего роскошь дворцов русских Царей, это великолепие не могло удивить. А русские, зная слабость восточных соседей, умели пользоваться ею. Тегеран никогда не видел более роскошного посольства, чем посольство Ермолова. И никогда не получал даров прекраснее, чем знаменитая хрустальная кровать. Ее незадолго до войны привез Шаху князь Меньшиков. Весь Петербург ходил любоваться на это чудесное произведение императорского стеклянного завода, выставленное перед отправкой в Таврическом дворце для публики. Кровать блистала серебром и разнообразной гранью хрусталей, была украшена хрустальными столбами и ступенями, сделанными из прочного синего стекла. С обеих сторон ее били фонтаны благовонной воды, склоняя к дремоте своим мелодичным звоном. При освещении сказочное ложе горело тысячами алмазных искр. Правитель был так восхищен русским подарком, что поместил его в одной из роскошнейших зал своего дворца, и каждый день заходил полюбоваться им. Персидские поэты наперебой сочиняли оды в честь кровати, “сиявшей подобно тысяче одному солнцу”…
Именно в этой зале принимал Шах дорого гостя, желая показать ему великолепную диковину.
Самум всегда являлся к правителю с редкими дарами, приводившими Шаха в восторг. Но, самое главное, он привозил заветный элексир, возвращавший дряхлеющему «убежищу мира» молодые силы, что было просто необходимо при столь сложном семейном положении.
– Чем я могу отблагодарить моего джинна? – воскликнул Шах, приняв очередные дары, от вида которых глаза его тотчас загорелись.
– Джинны, повелитель, ни в чем не нуждаются, – тонко улыбнулся Самум, красоту смуглого лица которого подчеркивал белый убрус. – Кроме разве что свободы. Но я, по счастью, обладаю и ею.
– Да, ты счастливейший из смертных, – вздохнул правитель. – У тебя есть все, что можно пожелать… Жаль, что ты предпочитаешь странствия оседлой жизни. Я бы подарил тебе дворец и сделал тебя визирем… Ты стал бы первым человеком Персии после меня! Ты учен и мудр и смог бы дать этой земле процветание. Мои сыновья не смогут этого сделать.
– Я польщен твоими словами, повелитель, но принять твое предложение – значит, утратить свободу. А я дорожу ею больше, чем всем на свете. Впрочем, одну милость ты можешь оказать мне.
– Говори! – живо откликнулся Шах, перебирая четки из редкостно крупных жемчужин. – Я заранее обещаю оказать тебе ее!
– Ты знаешь, повелитель, что я весьма любопытен. Сейчас твоя великая армия стоит на пороге решающих сражений, и мне бы хотелось быть там, дабы увидеть все своими глазами.
– И это все? – удивленно развел руками Шах.
– Все, повелитель. Простому путешественнику сложно будет увидеть и узнать все, но для облеченного твоим доверием преград не будет.
– Я дам тебе грамоту, предъявление которой принудит любого моего сановника во всем тебе помогать, – пообещал Шах. – Только очень тебя прошу – не потеряй там свою голову. Иначе что же я буду делать без моего джинна?
– Джинны бессмертны, повелитель, – с поклоном отозвался Самум.
– Раз уж тебе ничего не нужно, то прими хотя бы в дар мой портрет, – сказал правитель и хлопнул в ладоши.
По его знаку в покои внесли большой портрет, написанный чудовищно бездарно. Художник, по-видимому, нисколько не задавался целью достигнуть сходства с оригиналом, а лишь отразить богатство одежд и оружия повелителя, черноту его глаз (вовсе не бывшими черными) и баснословную длинную бороды. На портрете она была еще длиннее, чем на самом деле, и, само собой, жгуче черной, без всякого признака седины.
– Благодарю тебя, повелитель, за этот дар! – с чувством сказал Самум, приложив руку к груди. – Отныне твой дорогой образ будет со мной во всех моих странствиях!
Эти слова явно понравились Шаху, и, растрогавшись, он заключил своего «джинна» в объятия, расцеловав и выразив сожаления, что тот так скоро лишает его своего общества.
Заручившись шахской грамотой, Самум уже на следующее утро выехал в Эривань, со дня на день ожидавшую русского штурма.
Персидские войска на русском фронте несли поражение за поражением. Под натиском армии Паскевича пал Сардарь-Абад, и теперь настала очередь Эривани – одной из главнейших цитаделей Персии. За последние четверть века русские трижды подходили к ее стенам – сперва под началом князя Цицианова, затем – генерала Гудовича. Последняя была отражена непобедимым Гассан-ханом, эриванским сардарем. Третий поход – под началом Бенкендорфа и сменившего его Красовского – был остановлен самой природой. Русские не выдержали испепеляющего климата, не позволившего продолжать осаду.
И, вот, снова закаленное в победительных боях войско подступило к древним стенам. А те – по-прежнему были высоки и крепки. По-прежнему сурово глядели грозные башни, щетинясь орудиями на нападающих. По-прежнему глубоки были наполненные водой рвы, окружавшие стены. По-прежнему защищал крепость Гассан-хан… Одного лишь не доставало – прежнего стойкого духа в жителях города. Измученные нуждой, смущенные победным громом русского оружия, они сдались бы без боя, если бы не Гассан-хан.
Этот отважный воин умел вселять мужество в людей. Гассан-хан был самым талантливым полководцем Персии. Он отлично проявил себя как в сражении с русскими, так и с турками. Именно ему за многие славные победы было пожаловано Шахом одно из главных персидских сокровищ – меч Тамерлана. Это оружие по легенде приносило победу всем своим владельцам. Многие пытались овладеть им, не исключая Наполеона, но персы ревниво берегли клинок, доказывающий их происхождение от великого завоевателя, и передали его в руки лишь своего достойного сына.
Самум довольно хорошо знал Гассан-хана, и для него ему не требовалась шахская грамота. Сардарь имел свои слабости и свои суеверия, а Самум умело потакал и тем, и другим.
В этот раз странник привез славному воину великолепные ножны из чистого золота, обильно украшенные драгоценными камнями, на которых талантливый мастер изобразил сцену одной из громких побед Гассан-хана. Сардарь принял дар благосклонно и тотчас поместил меч в идеально подошедшие ему ножны.
– Ты хорошо сделал, что приехал, Самум, – сказал полководец. – Один талисман у меня есть, – он любовно погладил клинок. – А ты будешь вторым!
– Гожусь ли я быть талисманом такого великого воина, как ты? – скромно отозвался странник. – Я ветер пустыни, далекий от грома битв.
– Ты колдун, Самум. Ты излечил моего сына от смертельного змеиного укуса.
– Я хорошо знаю медицину и только, – с поклоном отозвался Самум.
– Мне нравится твоя скромность, – кивнул Сардарь. – Но она не убеждает. Я хочу, чтобы ты остался в крепости до тех пор, пока мы не разобьем проклятых гяуров. Ведь мы разобьем их, не так ли?
Жгучие глаза Гассан-хана испытующе впились в странника.
– Ты знаешь, что я не предсказываю будущего. Это удел пророков-фанатиков, а я… Я лишь наблюдаю жизнь и отнимаю у нее ее секреты.
– Ты мудрец, Самум, потому и не говоришь о будущем. Но оно мне известно и без тебя. От этой крепости отступились Цицианов и Гудович. Уйдет и Паскевич. Или же будет уничтожен нами. А затем мы возвратим себе все, что отняли у нас русские.
– Твоя слава и твой меч дают все основания для уверенности в этом, – ответил Самум. – Хотя силы, стянутые русскими против Эривани, весьма внушительны и навряд ли уступают тем, что были под Сардарь-Абадом…
Этот легкий угол полководческой гордости заметно уязвил помрачневшего сардаря. Ведь никто иной, как он командовал гарнизоном павшей недавно крепости, и принужден был бежать из нее, дабы не попасть в плен. Практически чудом он успел добраться до Эривани прежде, чем русские заняли позиции у ее стен.
– Ты мудр, Самум, но не знаешь положения дел, – резко ответил Гассан-хан. – Не думай же, что я верю лишь в собственное счастье и помощь Тамерлана. Есть кое-что еще!
– Вот как? – приподнял бровь Самум.
– Да, – кивнул сардарь. – Перебежчик.
– Какой-нибудь русский солдат?
– Кой черт мне в каком-то солдате? Русский офицер!
– Стало быть, дела у русских не так хороши, если их офицеры переходят на твою сторону?
– У этого человека какой-то счет к русскому Царю.
– Какой же?
– Он и его друзья готовили его свержение. Друзей повесили или отправили в заключение, а наш перебежчик не захотел повторить их участи, предпочтя отомстить.
– Ты веришь этому человеку, сардарь?
– Он уже дал мне несколько случаев убедиться в своей верности нам. А теперь у него есть план блистательной вылазки против русских. Если она удастся, то исход кампании будет решен!
– Любопытно было бы взглянуть на этого человека, – проронил Самум. – Ты же знаешь, сардарь, я любопытен. А русский перебежчик, да еще и офицер – такого я еще не видел.
– Ты увидишь его завтра, Самум. Ты друг Шаха и мой друг, и потому будешь допущен на наш совет. Там ты увидишь занимающего тебя человека и услышишь его план. И хотя ты и далек от войны, но, уверен, твоя мудрость поможет тебе оценить блистательность и изящество этого плана!
– Сардарь, – с поклоном отозвался странник, – сам Шах не мог бы сделать для меня большего подарка. Ведь знания – единственное богатство, до которого я алчен, и которое дает мне богатства прочие. Я никогда не бывал на военном совете, и счастлив возможности получить и этот опыт. Верю, что к нему прибавится и другой, счастливый – быть свидетелем и пусть самым ничтожным, но соучастником победы такого великого воина, как ты.
Мясистое лицо Гассан-хана выразило удовлетворение воодушевленными словами Самума и, покровительственно опустив руку ему не плечо, он сказал:
– Обещаю, что ты будешь свидетелем моей победы и сможешь стать ее летописцем!
– Это великая честь для меня, сардарь! – с поклоном отозвался Самум.
Глава 9.
Осада Эривани началась 25 сентября. Русское командование изменило изначальный план операции и решило сосредоточить основные силы для удара в этом направлении, сочтя опасным растягивать их на многие версты ради взятия Тавриза.
Быстро-быстро были устроены под стенами крепости туры и фашины, и уже на другой день первые демонтир-батареи начали обстрел города. Неприятель отвечал энергично, но уже чувствовалась, что перевес сил не на его стороне. Жалея страдающее от обстрела население, Паскевич предложил Гассан-хану сдаться, но получил предсказуемый отказ. Жесткие меры стали неизбежны, и Иван Федорович лично отправился на брешь-батарею, где о чем-то оживленно спорили инженерный генерал Трузсон и разжалованный в рядовые декабрист Михаил Пущин. Завидев последнего, Паскевич подозвал его к себе и без лишних предисловий спросил:
– Что скажете, можно ли сегодня ночью короновать гласис?
– Отчего же нельзя, если вы желаете? – пожал плечами Михаил. – Стоит только дать приказания.
– Любопытно видеть, как вы это приведете в исполнение? – недовольно воскликнул Трузсон.
– Он вам покажет, как! – рыкнул Паскевич и велел Пущину сделать все необходимые приготовления.
Михаил довольно покрутил тонкий, загнутый кверху ус, и обратился к Константину:
– Вот, Костя, нашло нас с тобою важное дело. Времени у нас в обрез, идем!
– На вашем месте я бы не был столь опрометчив и небрежен к теории! – бросил Трузсон. – Ваше желание выслужиться весьма понятно, но ваши необдуманные обещания могут стоить жизни нашим солдатам и успеха всей операции!
Впалые щеки Михаила вспыхнули, но он ответил спокойно:
– Я не стану отвечать на ваш несправедливый намек в мой адрес. Скажу лишь, что никогда бы не позволил себе вводить в заблуждение командующего и подвергать угрозе жизни моих боевых товарищей. Что касается теории, то я прекрасно помню ее…
– В самом деле? И то, что она не допускает коронования гласиса из третьей параллели без приближения к крепости двойной силой, прикрываясь траверзами и мантелетами?
– Разумеется. Но осмелюсь заметить, что вы, ваше превосходительство, упускаете из виду то обстоятельство, что мы имеем дело с неприятелем, который шесть дней кряду не делал ни одной вылазки и не препятствовал нашим работам.
– Ваша самонадеянность изумительна, – развел руками генерал. – Что ж, Ивану Федоровичу было угодно вверить нашу судьбу вам – мне остается только умыть руки! – с этими словами Трузсон заложил руки за спину и в крайнем раздражении пошел прочь.
– Ну и слава Богу, а то бы пришлось терять драгоценное время на бесконечные споры, – заметил Пущин.
Странно было наблюдать со стороны за перебранкой заслуженного генерала и простого солдата. Но что поделать, если еще недавно этот солдат был капитаном лейб-гвардии конно-пионерного эскадрона, образцовым офицером? Его ждала, надо думать, блестящая карьера, но тут-то и попутал лукавый – подался капитан вслед за старшим братом Иваном в заговорщики. Иван Пущин, близкий друг Кондратия, был одним из главных действующих лиц заговора, за что и записал его Государь в совершенные злодеи. Михаил, впрочем, до конца вслед за братом не пошел и в день восстания не повел своих пионеров на Сенатскую, оставшись дома, несмотря на все уговоры.
Это, однако же, не спасло его от ссылки в Сибирь, откуда он вместе с Коновницыным с Высочайшего разрешения отправился рядовым на Кавказ. Оба они были с большой лаской приняты Ермоловым. Алексей Петрович напоил их чаем, расспросил о пребывании в Сибири, обнадежил относительно службы на Кавказе. Эта душевная беседа немало укрепила Михаила, и с той поры он вовсе перестал стыдиться своего солдатского мундира.
Служба же под началом Паскевича выдвинула его в число доверенных соратников графа. Самоотверженность и мужество Михаила не раз имели случай сполна проявиться, и его неукротимая энергия и находчивость скоро обратили на себя внимание Ивана Федоровича. Случилось это здесь же, под Эриванью, при первой осаде оной армией Паскевича. Находясь в составе блокадного корпуса, Пущин по вечерам тайно ходил в крепость, обрядившись в персидскую одежду. Таким образом он смог снять план укреплений и изучить окрестную местность так, что мог безошибочно судить об осадных работах. План этих работ Михаил категорически не мог понять, но и не смел судить строго, зная репутацию Трузсона, как лучшего инженера. Однако, когда вопрос об ней поставил перед ним сам Паскевич, Пущин ответил прямо, что намеченным планом осады крепости не взять.
– Но, – добавил он, – есть у меня свой план, изученный в два месяца стоянки под Эриванью, и отвечаю, что после восьмидневной осады крепость должна покориться, но только не в это время года, когда половина солдат после ночи, проведенной на работах, отправляется в госпиталь, где скоро не будет места больным. Поэтому, по моему мнению, следует снять осаду и уходить куда-нибудь в горы искать прохлады и отдыхать до осени.
И осада была снята… Чтобы возобновиться теперь, и дать Пущину претворить свой план в жизнь. А прежде успел Михаил еще раз отличиться под Аббас-Абадом. Там батареи, предложенные Пущиным, свободно громили крепость, а орудия, расставленные инженером Литовым не могли стрелять, поскольку неизбежно попали бы по своим. И тогда рассерженный Иван Федорович, отведя Литова в сторону, резко высказал:
– Я мог бы тебя сделать солдатом, но не хочу; а его, – кивнул он на Пущина, – я хотел бы произвести в полковники, но не могу. А вот что я могу: от сего числа не ты у меня начальник инженеров, а он, и все его распоряжения должны исполняться беспрекословно.
Так загорелась звезда Михаила, становящаяся день ото дня ярче. Под Аббас-Абадом им не только было налажено расположение батарей, но и устроен в рекордные сроки плавучий мост через Аракс. Дело это из-за ужасающе быстрого течения и высоких скалистых берегов казалось невозможным. Тем более, что переправить требовалось не только пехоту, но и артиллерию. Но изобретательный Пущин велел свезти бурдюки со всех окрестных духанов, надуть их кузнечными мехами и подвязать под бревна. Эта находка обеспечила русским войскам благополучную переправу…
Теперь настал решающий для Михаила час. Сухощавое лицо его, обожженное солнцем, светилось в предвкушении Дела, умные глаза поблескивали. Пущин проворно двинулся в направлении крепости, столь основательно изученной им. До начала работ необходимо было провести последнюю рекогносцировку. Константин быстро следовал за ним, петляя по окопам, пригибаясь, дабы не попасть под вражеский огонь. Наконец, Михаил остановился и, затаившись в укрытии, начал что-то быстро набрасывать на бумаге.
– Добро будет, если ночь выдастся безлунной, – бормотал он. – Иначе больших потерь не избежать…
В этот момент вражеская пуля просвистела совсем рядом с ним, но Михаил лишь небрежно дернул головой, точно то была назойливая муха.
– Ты точно уверен в успехе? – спросил Константин. – Пули и снаряды здесь частят так, что не приведи Бог!
– Не надо высовываться из траншей, тогда и не попадут…
– Однако же, под таким огнем… И ведь солдатам придется сперва дойти до этого чертова гласиса! Пока тихой сапой идти будут, сколько душ сгинет?
– Зачем же тихой? – прищурился Пущин. – Летучей, Костя, только летучей. Дойдут и будут работать. А боги войны нас прикроют! Такой огонь по городу откроем, что им не до гласиса будет… К утру с Божьей помощью узрят они наше доблестное войско прямо пред собой. А Бог, Костя, нам поможет. Завтра ведь Покров. Так что знатно повоюем!
– Гляди, – Константин толкнул товарища в бок, указав ему на странную фигуру, ползшую к ним со стороны крепости.
– Это еще что? – Михаил убрал бумагу и карандаш. – Перебежчик?
– Или лазутчик… Обожди, – Константин осторожно двинулся вперед и, улучив момент, когда стрельба затихла, ловким броском настиг предполагаемого шпиона и, по-медвежьи обхватив его, увлек за собой в укрытие. И вовремя – совсем рядом разорвалось неприятельское ядро, чудом не ранив Константина и его пленника.
– Ай-ай-ай, не убивайте! – закричал тот. – Я не персиянин, нет! У меня важное донесение!
– Сперва скажи, кто ты, – сурово потребовал Константин, уже убедившись, что пленник безоружен, и ослабив хватку.
– Мое имя Мигран, и я должен видеть полковника Стратонова!
Константин отпустил пленного армянина, и тот, наконец, обратился к нему лицом.
– А для чего тебе нужно видеть непременно полковника? – спросил Пущин.
– Тот, кто послал меня, велел мне говорить именно с ним.
– Кто тебя послал?
– Это я могу открыть лишь самому полковнику Стратонову. Мое поручение очень важное и срочное! Очень! – армянин быстро переводил глаза с одного солдата на другого, точно боясь, что они не понимают его.
– Ладно, – пожал плечами Константин, взглянув на Михаила, – делать нечего – надо отвести его к Юрию. Хотя он мне и не нравится…
– Перебежчик как перебежчик, – отозвался Пущин. – Отведи его к своему брату и возвращайся. Ты можешь мне понадобиться.
– Слушаюсь, господин капитан…
Михаил грустно усмехнулся. Хотя судьба облачила их обоих в солдатские мундиры, все же Пущин оставался для Константина капитаном, а сам он всего лишь корнетом. Впрочем, облеченный доверием Паскевича Михаил вполне мог отдавать распоряжения и офицерам…
Для порядка связав пленнику руки, Константин привел его прямиком к брату, которого нашел в лагере собирающимся отбыть к одной из батарей. Узнав суть дела, Юрий велел развязать измученного Миграна и пригласил его в свою палатку, оставив Константина ждать снаружи.
– Итак? – вопросительно взглянул он на перебежчика. – Кто же послал тебя ко мне?
Вместо ответа армянин протянул ему спрятанный под одеждой перстень с затейливой печаткой, которую Юрий мгновенно узнал.
– Вижу, перстень вам знаком? – спросил Мигран.
– Разумеется, – с удивлением отозвался Стратонов. – Стало быть, тебя послал его хозяин?
Армянин утвердительно кивнул.
– Стало быть, он в крепости?..
Снова кивок последовал в ответ.
– Проклятье… Какой черт его туда занес…
– Мой господин искал человека и нашел его в крепости. Этот человек – подлый человек. Он перешел от русского Царя к Гассан-хану и теперь готовит вероломный план против вас.
– Я понял тебя, – отозвался Стратонов. – А теперь сядь, мой друг, и расскажи порядком, что это за план.
Усталый посланник с охотой воспользовался предложением дать роздых ногам и принялся рассказывать полковнику все то, что велел передать ему его господин…
***
Древняя Эривань час за часом гибла под своими руинами. Целую ночь била по ней с небывалым ожесточением русская артиллерия, не давая крепостным орудиям порядочно отвечать. Рушились, складываясь как карточные домики, старинные здания, погребая под собой обезумевших от ужаса жителей, со всех сторон рвались к небу сполохи пламени. Дворец сардаря был частично разрушен, и потому он сам вынужден был затвориться в тесном крепостном каземате.
С каждым новым залпом лицо Гассан-хана становилось все чернее.
– Проклятый гяур обманул нас, – шептал он, скрипя зубами. – Его проклятая вылазка лишила нас лучших воинов!
– Однако, ты сам считал, что план капитана Троппа превосходен, – заметил находившийся тут же Самум, сменивший свои белые одеяния на скромный черный наряд.
– Он и был таким! – воскликнул сардарь. – Если бы проклятый гяур не действовал по наущению русских! Они ждали наших людей и напали на них первыми!
– Может быть, это трагическая случайность? Фатум?
– Нет, Самум, это не фатум! В том месте должен был находиться лишь ничтожный русский отряд, не ожидающий действий с нашей стороны. Я посылал наших лазутчиков, и они подтвердили мне это. Откуда же взялись там такие неприятельские силы, ждавшие нашего нападения? О! Если только этот шайтан останется жив, я лично изрублю его! – Гассан-хан сжал кулаки. – Никогда не верь гяурам, Самум. Эти собаки способны на любое предательство.
– Я, сардарь, предпочитаю верить лишь самому себе, – ответил странник. – И то лишь в тех вопросах, которые мной основательно изучены.
– Поэтому ты и мудрец, – усмехнулся Гассан-хан. – Увы, летописцем моей победы на сей раз тебе не стать. Часы этого несчастного города сочтены, и я должен признать это.
– Ты собираешься сдать крепость?
– За меня это благополучно сделает чернь. Она и так бесновалась последние дни, а после такой канонады, – сардарь махнул рукой. – Проклятые трусы! Они бы и вовсе сдались без боя… Что ж, я предоставлю их своей судьбе. А сам попробую уйти из этого города прежде, чем наступит конец.
– Опасно бежать под таким огнем, когда повсюду русские.
– И что с того? Самум, лучше погибнуть сражаясь, нежели отдаться в плен. К тому же, один Аллах знает, как примет мое поражение Аббас-Мирза…
В этот момент у дверей послышались возня и крики, и двое дюжих сарбасов швырнули к ногам сардаря окровавленного, но еще живого человека, в котором мало кто мог бы узнать бывшего капитана Русской Императорской Армии Троппа…
– Так, значит, ты жив! – процедил Гассан-хан, наступая обутой в шитую золотом туфлю ногой на дрожащего перебежчика. – Тем хуже для тебя, проклятая собака! Ты посмел обмануть меня! Ты погубил моих людей! И ты дорого заплатишь за это!
– Выслушай меня, сардарь! – умоляюще воскликнул Тропп, подняв на Гассан-хана полные ужаса глаза. – Клянусь тебе, что моей вины в случившемся нет! Нас кто-то предал!
– Чем ты можешь клясться? – усмехнулся сардарь. – Ты предал своего Царя и своего Бога. Значит, ими ты не можешь поклясться. Ни великим именем Шаха, ни Аллахом ты, гяур, также не можешь клясться. Чем же тогда? Жизнью? Твоя жизнь не продлится долее минуты!
– Но, сардарь, зачем мне было предавать тебя, если я предал своего Царя?! Чтобы быть казненным своими?!
– Допускаю, что Царя ты не предавал, а был подослан ко мне своим командованием. Ты рассчитывал в суматохе перейти к своим, но удача подвела тебя, и теперь ты заплатишь.
– Сардарь! Подумай! Ты можешь убить меня! Можешь! Но что если предатель останется рядом с тобой?
– Кто, кроме тебя, мог выдать наш план русским?
– Хотя бы он! – окровавленная рука Троппа указала на стоявшего неподалеку Самума. – Он не один из твоих военачальников!
Удар сардаревой ноги в лицо заставил предателя замолчать:
– Я не позволю тебе, собака, клеветать на друга Шаха и моего!
Очередной залп русской артиллерии потряс могучие стены каземата. Гассан-хан нахмурился:
– Я бы хотел изрубить тебя на куски, но русские не оставляют мне времени для этого удовольствия. И меч великого Тамерлана я не стану марать твоей гнусной кровью! – с этими словами сардарь молниеносно выхватил меч у одного из стоящих рядом сарбасов и отсек несчастному Троппу голову. Презрительно плюнув на обезглавленное тело, сардарь обратился к приближенным:
– Однако, нам нельзя терять времени, если мы хотим успеть покинуть город. Самум, ты идешь с нами?
– Нет, сардарь, – покачал головой Самум. – Я всего лишь ученый, и остаться в городе не угрожает ни моей жизни, ни чести. Тогда как попытка вырваться из города весьма опасна.
– Ты прав, – кивнул Гассан-хан. – Что ж, прощай, Самум! Да поможет тебе Аллах!
– Да поможет он и тебе, сардарь, – с поклоном ответил Самум, провожая взглядом удаляющиеся фигуры.
Оставшись в каземате один, он некоторое время смотрел на убитого взглядом, не выражающим никаких определенных чувств. В дверной проем осторожно заглянул один из слуг Самума и замер на пороге. Заметив его, странник проронил:
– Какая ужасная участь… Впрочем, справедливая. Эти люди – плоды мушмулы. Портятся и гибнут сами. Идем, нам не стоит дольше здесь оставаться, – с этими словами Самум перешагнул распластанное на полу тело и навсегда покинул каземат древней крепости…
***
Тяжелой выдалась ночь у полковника Стратонова, да и день легче быть не обещал. С вечера по приказанию Паскевича выдвинулся он с сильным отрядом туда, откуда по донесению перебежчика неприятель должен был совершить свою исключительно хитроумную и чреватую тяжелейшими последствиями вылазку. Затаившись так, чтобы не спугнуть персов, стали ждать. С трудом верилось Юрию, чтобы подобный вероломный план русский офицер измыслил. Будь ты хоть тысячу раз бунтовщик супротив Царя, но против товарищей своих, против солдат своих врага вести – это как может быть? В голове не укладывалось!
С наступлением темноты две тысячи солдат под командой Пущина начали работы, за ходом которых наблюдал сам Паскевич. Еще едва-едва успело закатиться солнце, и первые ядра грядущего огненного смерча полетели в стены города, как разведчики донесли Стратонову о приближении неприятеля.
Тихо они шли, как тати ночные. На впереди идущих русская форма одета была – рассчитал неведомый подлец сбить тем с панталыку дозорных солдат и, расправившись с ними, внезапно ударить во фланг, застав русских врасплох.
Стратонов со своими людьми тотчас обнаруживать себя не стал, дав вражескому отряду пройти мимо, и лишь затем замкнул кольцо, отрезав пути к отступлению. Большой неожиданностью для незваных гостей был столь горячий прием! Большинство из них тут и полегли под ударами русских сабель и штыков. Иных взяли в плен живыми. А несколько злодеев впотьмах да суматохе все-таки сумели уйти. И среди них, как угадал Стратонов, тот самый предатель, которого более всего и хотелось ему схватить. Не убить, а пленить, чтобы пред очами товарищей держал он ответ за свое иудино дело.
Но не оказалось его ни среди пленных, ни среди убитых, и оттого досадовал Юрий. Между тем, ночь готовила ему новые неожиданности. Едва стали на исходные позиции у реки Занги, полагая перевести дух до сулившего знатное дело утра, как заметили недреманным оком разведчики еще одну неприятельскую партию. Только эта не к русскому лагерю стремилась, а в обратную сторону. В обход северного форштадта быстро двигалась конная группа человек в шестьдесят и некоторое число пеших.
Никак через Зангу тикать собрались господа персы из русской мышеловки? Ну уж врешь, брат! Таких фокусов с русскими не пройдет. По команде Стратонова егеря и стрелки молниеносно выдвинулись навстречу неприятелю. Для пеших беглецов достало одного вида русского отряда, чтобы броситься назад к крепости. То ли дело всадники! Предводительствуемые некой, по-видимому, важной персоной, они отчаянно врубились в русскую цепь и после краткого боя прорвали ее. Но это было лишь началом их злоключений.
В тылу их ожидали уланы и казаки во главе с самим Юрием, который немедленно ринулся в атаку на врага. Мгновение, и со звоном скрестились в безлунной ночи русские и персидские клинки. Сильная рука Стратонова направо и налево раздавала смертоносные удары. Неприятель дрогнул и стал поспешно отступать, но уланы и казаки преследовали его, нещадно истребляя. В какой-то миг перед Юрием очутился предводитель персидского отряда, богатство одежд которого выдавали в нем знатного вельможу. Стратонов подумал, что это, пожалуй, никто иной, как сам Гассан-хан, и уже занес саблю таким образом, чтобы лишь ранить и сбить сардаря с коня, но не убивать. Однако прославленный воин успел увернуться от удара и с остатками своего отряда скрылся в крепости.
– Ничего, вашбродь, – ободрил раздосадованного полковника один из казаков. – Завтра в крепости все одно возьмем его. Никуды он от нас не денется.
Казак был прав, но его слова все-таки мало утешили Стратонова. Подумать только, сардарь был почти в его руках, а он его упустил!.. Единственное, что отчасти примирило Юрия с неудачей, это обретенный у стен крепости трофей, по-видимому, оброненный бежавшими. То был древний меч великолепной работы. Ничего подобного ему Стратонов в своей жизни не видел и, возвратясь на позиции, долго любовался прекрасным клинком, переливающимся в отблесках костра. Такое оружие, определенно, мог носить лишь сам сардарь.
Так с переменным успехом минула решающая ночь, а утром 1 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы жители полуразрушенного города в ужасе увидели русские туры уже на краю самого крепостного рва. Страх несчастных людей был столь велик, что они бросились на башни и валы. Одни становились на колени, махали белыми платками и кричали, что они сдаются. Другие в отчаянии спускались в ров и, под градом пуль, перебегали в русские траншеи.
И, вот, настал ключевой момент штурма. Шесть рот гвардейского полка бросились через брешь и решительно заняли юго-восточную башню под огнем неприятеля, еще стрелявшего с южной стороны. Тем временем остальные гвардейцы, севастопольцы и егеря подошли к северным воротам, перекрыв путь исхода из крепости.
Сюда примчался вместе с генералом Красовским Стратонов. Солдаты, уже чувствующие столь знакомый им вкус победы, гордо стояли надо рвом, облокотившись на опущенные к ноге ружья, и ожидали, пока им откроют заваленные камнями и землей ворота.
Легко перебравшись через ров, Афанасий Иванович подошел прямо к воротам, из-за которых доносился шумный спор. Не желая тратить время, Красовский приказал обер-аудитору Белову, хорошо знавшему татарский, сказать, чтобы ворота были немедленно отворены. Однако, едва только нечастный переводчик передал приказание, как пущенная из крепости пуля раздробила ему череп. Выбитый мозг обрызгал стоявшего рядом Красовского, но это не заставило Афанасия Ивановича отступить. Через мгновение ворота распахнулись перед русским генералом, и он вместе с другими офицерами ступил в крепость.
Покуда Красовский разговаривал с городскими старейшинами, вышедшими ему навстречу, Стратонов тревожно озирался. Внутреннее чутье и давнишние смутные остережения Миграна подсказывали ему, что человек, отстреливавшийся от неприятеля до самого открытия ворот, должен был предпринять хоть что-то, чтобы испортить победителям торжество.
Не хуже Пущина успев разобраться в устройстве и расположении крепости, Юрий в первую очередь обратил внимание на пороховую башню. Окажись он, Стратонов, на месте Гассан-хана, то непременно бы поджег арсенал, ища хотя бы так спастись от позора и отомстить врагам.
Подозрения Юрия оправдались. Из погреба, где хранились запасы оружия и порох, уже струился дым, когда он с двумя казаками подоспел туда. Ни мгновения не думая, полковник соскочил с коня и бросился вниз. На счастье, горящий фитиль еще не добрался до бочонков с порохом, и Стратонов успел выхватить его и потушить.
– Ну-с, вот, – довольно сказал он побледневшим от его неожиданного и рискованного геройства казакам, – теперь можно и Гассан-хана навестить. С ночи не могу дождаться этой встречи!
Гассан-хан, с горстью своих приверженцев, заперся в мечети, куда вслед за Красовским поспешил и Стратонов. Мечеть располагалась недалеко от дворца сардаря и была одним из немногих уцелевших после бомбардировки зданий. Старый воин все еще продолжал сопротивляться: из мечети то и дело доносились выстрелы, и гвардейцы, окружившие ее, отвечали тем же. Перестрелка, однако же, продолжалась недолго. Угроза Красовского взять здание штурмом возымела действие, и двери последней цитадели открылись победителям.
Афанасий Иванович с небольшой свитой бесстрашно вошел внутрь и увидел около двух вооруженных персов во главе с Гассан-ханом. Мгновение было весьма опасным: славящийся буйным нравом сардарь мог легко броситься на русского генерала и изрубить его прежде, чем погибнуть самому. Но хладнокровие и отвага Красовского, видимо, произвели на него сильное впечатление. Некоторое время противники молча смотрели друг на друга. Наконец, Гассан-хан что-то сказал стоявшему подле него персу, и тот на ломаном русском объявил о сложении оружия.
Сардарь медленно отстегнул свой меч и протянул его подошедшему Красовскому. Афанасий Иванович тотчас передал его своему адъютанту барону Врангелю, дабы тот доставил трофей корпусному командиру.
– Я хотел бы просить вас, генерал, об услуге, – обратился Гассан-хан к Красовскому.
– Я слушаю вас, – с готовностью откликнулся тот.
– Я прошу ваших солдат отыскать меч Великого Тамерлана, который вчера… – сардарь запнулся, – был утерян мной возле крепостной стены. Он выпал из ножен, и все попытки найти его оказались тщетными. Сами ножны мне оставалось только разбить! Меч Тамерлана – великая реликвия нашего народа, и я бы не хотел, чтобы она попала в руки какого-нибудь бесчестного вора.
– О, конечно, я понимаю вас, – кивнул Афанасий Иванович. – Думаю, однако, что на поиски нам никого отправлять не придется. Не так ли, Юрий Александрович? – с легкой улыбкой обернулся он к стоявшему подле Стратонову.
Юрий шагнул вперед и извлек меч, с которым не расставался с ночи:
– Это он?
– Да! – воскликнул старый воин. – Меч Тамерлана! Слава Аллаху, что он оказался в достойных руках! Теперь же я прошу отправить его в дар вашему Императору. Русский Царь достоин обладать этим мечом.
– Уверен, что Его Величество по достоинству оценит столь ценный дар и лично отблагодарит вас, – ответил Красовский. – В скором времени вы отправитесь в Петербург.
Лицо сардаря посветлело.
– Я знал, – важно сказал он, – что великому русскому Императору угодно будет увидеть старого заслуженного воина, которого имя доныне с ужасом произносится турками… Я не страшусь предстать перед лицом великого монарха. Он великодушен и простит мне, что я верно служил моему государю.
– Наш Государь умеет ценить честь и доблесть даже в тех, с кем в настоящее время нам приходится сражаться. Вам будет оказано все подобающее уважение, – пообещал Афанасий Иванович.
Когда сардаря и остальных пленных увели, Красовский похлопал Юрия по плечу и весело сказал:
– Вот, мой друг, готовьтесь к давно заслуженному повышению. Сегодня же я отправлю представление к производству вас в генерал-майоры.
– Благодарю вас, Афанасий Иванович, – откликнулся Стратонов.
Генерал помолчал мгновение, а затем прибавил:
– А ваш брат, надеюсь, наконец, получит чин унтер-офицера.
Вторая весть обрадовала Юрия еще больше первой и, простившись с Красовским, он отправился разыскивать Константина.
Тут, однако, ожидал его тяжелый удар. Пущин, которого он нашел довольно скоро, сообщил ему, что Костю тяжело ранило осколком во время ночных работ по коронованию гласиса, и все это победное утро он оставался в лазарете, врачи которого не спешили ручаться за жизнь будущего унтер-офицера…
Глава 10.
– М-ль Эжени! М-ль Эжени! А сколько кораблей было при Наварине у турок? – восторженно блестя глазами, допытывался Сережа, отрываясь от конструирования игрушечных корабликов, коих в его комнате было уже бесчисленное множество.
– Помилуйте, Сережинька, откуда мне знать? Адмирал за обедом у Ольги Фердинандовны говорил, что около ста, – откликнулась Эжени, аккуратно вырезая из плотного картона деталь для будущего фрегата.
– Сто! – васильковые глаза расширились. – А вы могли бы спросить адмирала, какие именно корабли участвовали? И у нас, и у турок? Сколько фрегатов, сколько корветов?
– Хорошо, – улыбнулась Эжени. – Завтра я буду у Ольги Фердинандовны и попрошу, чтобы Алексей Гаврилович составил вам полный список эскадр.
Весть о славной победе лишь на днях достигла Петербурга и вызвала всеобщее ликование. Соединенная эскадра России, Франции и Англии начисто разгромила флот Ибрагим-паши, покарав Турцию за нежелание признавать Лондонскую конвенцию, даровавшую полную автономию Греции.
Битва продолжалась четыре часа, и наиболее всех отличилась в ней русская эскадра под командованием адмирала Гейдена. Именно она уничтожила центр и правый фланг неприятеля. Турки потеряли в роковой для себя день шестьдесят кораблей и свыше двух тысяч человек. Потери союзников не превысили восьмиста человек, ни один корабль не был потоплен.
Среди героев битвы упоминалось имя капитана флагмана русской эскадры «Азов» Михаила Петровича Лазарева. «Азов» уничтожил пять турецких кораблей, включая фрегат командующего турецким флотом. Сам флагман получил 153 попадания, семь из которых ниже ватерлинии. Несмотря на столь значительные повреждения, он остался в строю и сумел добраться до бухты.
– Выходит, что у турок кораблей было втрое больше, чем у нас, а мы их разгромили! – говорил Сережа, ползая по полу и расставляя игрушечные кораблики на расстеленной на полу карте. – Ах, как хотел бы я быть в этом бою!
Испытывал ли кто в столице сколько-нибудь сравнимый восторг? Вряд ли. Хрупкий мальчик с глазами херувима вот уже который день не мог думать и говорить ни о чем, кроме как о Наварине, «Азове», Гейдене, Лазареве… Эжени слушала его с любопытством и удивлением. Откуда, помилуй Бог, в этом ребенке такая страсть к морю, к войне? И как умещается в его памяти столько подробностей самых разных сражений, имен флотоводцев и названий кораблей? В свои юные годы он мог показать на карте ход десятков морских сражений. А ведь к тому знал он и сами корабли, их модели, детали…
– Знаете, Сережа, я, пожалуй, познакомлю вас с адмиралом, если ваша добрейшая крестная не будет против. Я думаю, старику доставит большое удовольствие видеть молодого человека столь любящего и знающего морское дело. И ему, дитя мое, вы сможете, наконец, задать все свои вопросы, на которые я не в силах вам ответить.
– О, м-ль Эжени! – радостно воскликнул мальчик. – Спасибо вам! Вот, если бы вы еще уговорили крестную определить меня в корпус… Вы единственная, к кому она прислушивается.
– Вера Дмитриевна просто очень привязана к вам, Сережа. К тому же она боится, что вам не по силам окажется столь тяжелая служба… – отозвалась Эжени и тотчас поняла, что слова ее прозвучали исключительно фальшиво. Она сама была убеждена, что мальчика необходимо отдать в корпус. Если у человека есть настоящее призвание, настоящая мечта, то большой грех препятствовать ему. Если же призвание обманчиво, то пусть человек убедится в этом сам, набив синяки и ссадины. Но если просто не позволить ему даже попытаться осуществить желаемое, то он навсегда останется несчастным. Призрак неосуществленной мечты, отнятого пути будет преследовать его, манить, не давать покоя, мучить.
Впрочем, в отношении Сережи Эжени питала уверенность, что его мечта непременно сбудется. Слишком велико и серьезно было стремление мальчика к своей цели. Такое упорство всегда дает надлежащие плоды.
– Хорошо, – Эжени ласково потрепала Сережу по пшеничным кудрям, – я постараюсь уговорить Веру Дмитриевну. А если еще и адмирал скажет свое веское слово и пообещает приглядеть за вашими успехами в корпусе, то, полагаю, княгине придется сдаться!
Мальчик порывисто поцеловал Эжени в щеку и радостно запрыгал по комнате. Она же в который раз ощутила неприятный укол совести от двойственности своего положения в этом доме.
– Вот, – Эжени протянула Сереже готовую деталь, – надеюсь, я ничего не напутала.
– Что вы! У вас прекрасно получается!
– Спасибо. Только скажите мне, будущий адмирал, сколько еще мы будет строить этих кораблей?
– У нас уже есть двадцать семь кораблей русской, английской и французской эскадры. А турецкой… – мальчик пальчиком пересчитала готовые суда. – Только двадцать! А вы сказали, что их было около ста. Значит, нам нужно сделать еще, как минимум, семьдесят.
Эжени приподняла брови:
– Семьдесят… Однако…
Резать картон ей уже порядком наскучило. Но что делать, если без того никак невозможно было воспроизвести Наваринское сражение, завладевшее воображением Сережи?
В этот момент из гостиной, расположенной этажом ниже, послышались громкие голоса.
– Опять бранятся, – со вздохом заключил Сережа, прислушавшись.
– Похоже… Пойду посмотрю, что там стряслось, – ответила Эжени. – После таких скандалов княгиня всегда во мне нуждается.
Выскользнув из детской, она поспешила к лестнице и, притаившись на ней, стала слушать. Семейный скандал происходил при участии всех членов фамилии Борецких, но, главным образом, слышны были голоса старого князя и Владимира.
– Я не позволю вам, отец, расточить все наше достояние и опорочить нашу семью в глазах света ради какой-то дряни, которая окончательно свела вас с ума!
– Что?! Да как ты смеешь говорить со мной подобным образом?! Это ты в своих законах вычитал, что сыновья вправе выставлять отцов сумасшедшими и глумиться над ними?! – голос старика сорвался на слезливый визг. – А в главном-то, в главном-то Законе что написано?! А?! То-то же! Чти отца своего – там написано! Чти! А вы! Пример библейского хама не дает вам покоя!
– Не вам говорить о главном Законе! – воскликнул Владимир. – Не вам попирающему его всякий день и час!
– Молчать! Судить отца удумали?! Ну, узнаете же вы теперь, что такое отцовская власть! В детстве не узнали, так уж теперь узнаете!
– ПапА, опомнитесь, – послышался усталый голос Михаила. – Подумайте! Вы, князь, аристократ из древнейшего рода – и выставляете себя на посмеяние ради какой-то гулящей девки не при маман будь сказано! Я вас не узнаю!
– А ты, Мишка, и вовсе молчи. Твои забавы мне слишком ведомы. И кабы не братец твой, крючкотвор, гнил бы ты на каторге, где тебе самое место. А я бы избавлен был от твоего общества!
– Лев Михайлович! – умоляюще воскликнула Вера Дмитриевна. – Что вы такое говорите! Опомнитесь!
– А вы… Не понимаю, какой черт подбил меня когда-то жениться на вас. Сколько лет живем, а только и слышу о ваших хворях и недомоганиях… Да всю эту замызганную, вороватую сволочь, что вы собираете вокруг себя, наблюдаю. Над вами смеется весь Петербург, мадам! И это как будто не роняет чести нашего имени? Один я в этом доме изверг рода человеческого? – снова дрогнул и сорвался на всхлипе дребезжащий голос. – Так вот довольно же! Ноги моей больше не будет в этом доме! Вашем доме! Но более ничего вашего не будет, слышите?! Я отрекаюсь от вас и лишаю вас наследства! Вы не получите ни полушки из моих денег! Все они достанутся моему единственному отныне сыну!
– Кому?! – вскрикнул Михаил.
– Скоро на свет явится новый князь Борецкий. Моя плоть и кровь! Он получит мое имя и все мое состояние!
– Старый безумец! – взревел Владимир. – Неужели вы не понимаете, что вас просто водят за нос?!
– В самом деле? Отчего-то только тебя, мой бедный Вольдемар, никто не водит таким манером за нос, включая венчанную жену. Не завидуйте, дети, вашему старому отцу. Зависть никого еще не доводила до добра! – от души потоптавшись таким образом на больной мозоли старшего сына, князь покинул библиотеку, преследуемый истеричным плачем Веры Дмитриевны и руганью обоих сыновей.
Эжени усмехнулась. Идея с «новым князем Борецким» принадлежала самой Лее. Интриганка сочла, что лета и здоровье князя таковы, что брать его полностью в свои руки должно как можно скорее. Разоблачение перед ним планов сыновей по объявлению его слабоумным стало первым шагом. Это открытие глубоко потрясло старика и окончательно отрезало его от семьи еще до суда. Отныне единственным родным человеком стала для него Лея. Оставалось закрепить успех, и «божественная Фернатти» (откуда только у людей скверный обычай обожествлять падшие создания?) объявила удрученному предательством сыновей князю, что пребывает в счастливом ожидании… Само собой, Лея вовсе не была в положении. Она предполагала весь срок разыгрывать свою роль, а затем попросту купить младенца у нуждающейся матери и выдать его за их с Борецким сына. Учитывая прогрессирующее слабоумие старика, сложности эта игра не представляла.
И, вот, второй акт трагедии был завершен. Князь оставил семью и должен был уже в ближайшее время переписать на Лею и ее будущего ребенка свое состояние. А дальше… Дальше вернется Виктор и скажет, что делать. Лишь бы только скорее…
– Эжени! Эжени! Где вы? Эжени!
Эжени встрепенулась и поспешила на зов несчастной княгини, с которой после разговора с мужем случился очередной нервный припадок…
Глава 11.
Сад… С детства у Лауры не было места любимее. В его кущах таилась она от родных, мечтала, читала стихи. В дальнем углу сада, в зарослях лоницеры и барбариса, на увитой плющом скамье проходили безоблачные часы… А какой прекрасный вид был отсюда! Чуть правее источают чарующий аромат белые хлопья жасмина, а совсем рядом – любимый матушкин розарий. Эта часть сада была богата редкими растениями и всегда ухожена. Тропинка, пересекающая ее, по обеим сторонам которой, как бессменные часовые выстроились стройные можжевельники, вела прямо к дому. Дом был стар, его террасу почти скрывали сети дикого винограда. Когда Лаура смотрела на нее издалека, ей все время чудился образ дедушки, сидящего там в любимом кресле и смотрящего куда-то вдаль… Там, вдали высилась святая Мтацминда с церковью святого Давида, стены которой некогда спасли отца Лауры от неминуемой гибели.
В 1795 году Тифлис был разорен Мохаммед-ханом. Это было одно из самых жутких испытаний, выпавших на долю многострадальной Грузии. Авангард грузин под начальством царевича Иоанна сражался отчаянно. На помощь ему великим царем, тогда уже глубоким старцем Ираклием был послан отряд поэта Мочабелова. Дед рассказывал Лауре, что поэт-воин, взяв свой чунгур, пропел перед войсками несколько вдохновенных строф своей песни и кинулся вперед так стремительно, что его отряд проник до самых персидских знамен, многие из которых были взяты грузинами на глазах свирепого Мохаммед-хана. Однако, силы были слишком неравны. Большинство воинов пало, и тогда старец-царь, прекрасный в этот трагический миг, сам повел войска в бой, не слушая остережений. От плена в той кровавой битве Ираклия спас лишь его внук царевич Иоанн…
Царь и разбитое войско отступили в горы, а персы принялись громить доставшийся им Тифлис. Дворцы и древние храмы были обращены в груду развалин. Шесть дней и ночей изверги творили в городе немыслимые жестокости: резали пленных, насиловали женщин, а младенцев разрубали пополам с одного размаха, проверяя остроту своих сабель. Митрополит тифлисский заперся с духовенством в Сионском соборе, но персы выломали двери, сожгли иконостас, убили всех священников, а самого старца митрополита сбросили в Куру с виноградной террасы его собственного дома. На авлабарском мосту захватчики выставили икону Иверской Богоматери и заставили грузин издеваться над ней, бросая ослушников в Куру, так что река скоро запрудилась трупами. Около двадцати трех тысяч грузин было уведено в рабство.
В те дни погиб и знаменитый сазандарь Грузии Саят-Нова. Его имя в стенах старого Тифлиса было славно повсюду, от царского дворца до сакли ремесленника. Бедный армянский ткач и сазандарь, в юности он был разгульным певцом, а в старости сделался отшельником. Когда Мохаммед-хан входил в Тифлис Саят-Нова молился в Крепостной церкви. Слыша приближение врагов, восьмидесятилетний старец взял в руки крест и пошел к ним навстречу, желая остановить их на пороге.
– Не отступлю от Иисуса,
Не выйду из церкви… – то были последние стихи, последние слова, слетевшие с уст поэта, прежде чем он был изрублен…
И отец, и дед вспоминали ужас последнего нашествия, как прообраз Страшного Суда. Дед успел уйти в горы вместе с Ираклием, а раненый отец со своей матерью отдался с несколькими десятками несчастных под защиту святого Давида, затворившись в церкви на склоне Мтацминды. Каким-то чудом персы так и не поднялись к ней, и все, кто находился в ее стенах, спаслись.
– Дедушка, ты смотришь на Мтацминду? – спросила однажды Лаура старика.
– Нет… – медленно отозвался дед, не отводя взора старчески прозрачных глаз. – Я смотрю дальше…
Через несколько дней его не стало, и лишь, повзрослев, Лаура догадалась, куда смотрели глаза деда в последние его дни.
Ухоженной части сада девушка предпочитала дальнюю, хранившую налет дикости. Рука садовника не стесняла здесь вольного буйства зелени, а птицы пели особенно звонко. Здесь же у самой стены, ограждавшей владения Алерциани, протекал быстрый ручей, к которому Лаура часто спускалась, в мечтательной задумчивости.
На сей раз оная была нарушена властным голосом матери, доносившимся из глубины сада. Не желая быть застигнутой в своем убежище, Лаура поспешила ей навстречу.
Мариам Алерциани, тридцатисемилетняя дородная женщина, еще не утратившая прежней привлекательности, отличалась характером решительным и властным. В последнее время отношения матери и дочери оставляли желать лучшего, ибо напор Мариам, привыкшей, чтобы ее воля исполнялась, разбивался о холодное безразличие Лауры.
– Вы искали, матушка? – Лаура нашла запыхавшуюся от жары мать аккурат на старой скамейке.
– Тебя никогда не дозовешься! – взмахнула рукой Мариам. – Целыми днями мы с отцом тебя не видим! Объясни мне, наконец, что с тобой происходит? После возвращения от тетушки ты сама не своя!
– Разве недель в осажденной крепости недостаточно, чтобы измениться?
– На какое-то время, быть может. Но пошел уже второй год! Не пытайся обмануть меня, Лаура. Я вижу, что есть что-то другое. О чем, скажи, ты постоянно думаешь, сидя одна в этом саду?
– О пустяках, матушка. Чему вы удивляетесь? Я всегда любила уединение.
– О пустяках… – мать поджала губы. – Довольно тебе предаваться этим пустякам. Ты уже не ребенок, и настало время позаботиться о твоем будущем.
Сердце Лауры екнуло:
– Что вы хотите сказать, матушка?
– Ты прекрасно знаешь. Князь Джакели давно оказывает тебе знаки внимания, и…
– И что, матушка?
– Мы с отцом хотим, чтобы и ты отнеслась к нему с подобающим уважением.
– Я уважаю князя. Он ведь старый друг нашего дома.
– Не делай вид, что ты меня не поняла. Князь в скором времени попросит твоей руки, и твой отец даст ему согласия.
– Но я его не дам, – тихо, но твердо сказала Лаура.
– Что?
– Я не выйду замуж за князя Джакели.
– Почему, позволь узнать? Конечно, он не молод… – Мариам пожевала губами. – Но твой отец также много старше меня.
– И вы никогда не любили его, матушка?
Щеки матери вспыхнули:
– Я всегда любила твоего отца!
– Почему же тогда вы не хотите, чтобы и я любила своего мужа?
– Ты полюбишь его, когда оставишь свои пустяки и отнесешься к нему с должным вниманием. Князь весьма достойный человек. И богатый…
– В то время, как наша семья разорена? Не так ли?
– Ты слишком много себе позволяешь, – мать резко встала. – Эти петербургские нравы, пришедшие в Тифлис, имеют на тебя дурное влияние.
– Значит, сегодня мы не поедем на вечер Чавчавадзе? – спросила Лаура. – Ведь там настоящая обитель этих столь дурных нравов.
– За твою дерзость тебя следовало бы запереть в твоей комнате. Но я не стану этого делать. И мы, конечно же, поедем на вечер. Ведь там соберется вся тифлисская знать. И там будет князь Джакели, мечтающий вновь увидеть тебя.
– В таком случае я предпочла бы остаться взаперти.
– Останешься, – раздраженно ответила мать, – если я сочту нужным. Но не сегодня. Кстати, нам уже пора собираться, если мы не хотим опоздать.
Покоряясь родительской воле, Лаура отправилась в свою комнату одеваться к выезду. Если бы не Джакели, она была бы вовсе не против навестить гостеприимный дом Чавчавадзе, этот очаг культуры и просвещения в Грузии.
Дед Лауры был добрым другом Гарсевана Чавчавадзе, одного из виднейших дипломатов великого Ираклия, подписавшего Георгиевский трактат, даровавший Грузии покровительство России. Сын Гарсевана Александр воспитывался в одном из лучших частных пансионов Санкт-Петербурга, затем в Пажеском корпусе, из которого был выпущен в 1809 году подпоручиком в Гусарский Лейб-гвардии полк. Прослужив три года на родине под началом маркиза Паулуччи, итальянца на русской службе и настоящего героя Кавказа, князь принял участие в кампании 1812-14 гг. и закончил ее адъютантом Барклая-де-Толли в Париже. В этот период он овладел несколькими европейскими языками, хорошо узнал европейскую культуру и, вернувшись через несколько лет в Тифлис, первым из грузинских князей поставил свой дом в Цинандали на европейскую ногу.
Дом этот и сам Александр Гарсеванович, грузинский князь, славный воин, образованнейший человек и прекрасный поэт, стал связующим звеном между русскими и грузинами. Именно благодаря Чавчавадзе грузины, а среди них и Лаура, открыли для себя многих русских, европейских и персидских поэтов. Многогранная муза князя с одинаковой легкостью перенимала и скептицизм Вольтера, и сентиментальность персов, нисколько не забывая при этом собственной грузинской песни. Грузинские песни князя расходились столь широко, что становились народными, и сазандары повсюду распевали их. С удивительной легкостью Александр Гарсеванович переводил Саади и Расина, Гафиза и Гюго, Вольтера и Гете, Пушкина и Корнеля…
В доме Чавчавадзе подрастали две красавицы-дочери. Старшей, Нине, едва исполнилось шестнадцать, но ее красотой, умом и талантом восхищался без преувеличения весь Тифлис. Ей и ее родственнице Марии Орбелиани дозволено было даже устроить домашний спектакль. Действо происходило в доме княжны Орбелиани. В представлении участвовали ученики высших классов. Официальных сановников на нем не было, но присутствовали все родственники и родственницы юных артистов, принявшие их дебют с большим одобрением. Лаура также мечтала принять участие в этом спектакле, но родители не разрешили ей подобной «вольности»…
Теперь юная Нина была влюблена. И не в кого-нибудь, а в русского дипломата и литератора Грибоедова, бывшего много старше ее. Некогда он учил ее музыке, был частым гостем дома Чавчавадзе… Кто бы мог подумать, что из этого родится чувство? И не только у шестнадцатилетней девочки, но и у знающего жизнь поэта-дипломата?..
Отправляясь на вечер, Лаура утешала себя тем, что, по крайней мере, увидит милую Нину и Александра Сергеевича, порадуется их любви, а, может, улучив мгновение, поведает подруге и сокрушения собственного сердца. Те самые, о которых так желала знать мать, и которые менее всего ей можно было раскрыть…
В доме Чавчавадзе было, как всегда, многолюдно. Сам хозяин радушно встречал гостей, очарованных его обаянием. За роялем в гостиной сидел сухопарый человек с продолговатым, остроносым лицом и проницательными глазами, близорукость которых призваны были исправить небольшие круглые очки. Александр Сергеевич играл вальс собственного сочинения. А подле него замерла, не сводя с него взгляда, Нина, казавшаяся в этот день прекраснее обыкновенного…
Посмотрев на подругу, Лаура с сожалением поняла, что сегодня поговорить не удастся. На днях Грибоедов должен вновь ненадолго уехать по делам службы, а затем по возвращении обвенчаться с Ниной, прежде чем отправиться с посольством в Тегеран. И теперь юная невеста дорожит каждым мгновением, проведенным рядом с ним, стараясь насмотреться на дорогого человека. И похищать у нее эти драгоценные минуты было бы жестоко.
– Я счастлив видеть вас, прекрасная Лаура, – с такими галантными словами подошел к ней Джакели, по виду вполне восприявший столичную моду, но в душе сохранивший азиатский нрав и патриархальные понятия.
Князь был глубоко неприятен девушке, но, следуя родительской воле, она постаралась улыбнуться и поблагодарила его за комплимент. Джакели, несмотря на тучность и лета, сохранивший отменное здоровье и легкость движений, тотчас пригласил ее на танец, и Лауре ничего не оставалось, как принять это приглашение.
Рассеянно и принужденно отвечая многословному князю, девушка с тоской думала, что рядом с этим человеком ей придется провести весь сегодняшний вечер. А после еще выдержать очередной напор матери, и, возможно, отца…
Внезапно, глаза Лауры расширились, и она едва не споткнулась на очередном круге вальса. У рояля, подле Александра Сергеевича стоял и разговаривал с ним… Лаура не могла поверить своим глазам. Неужели это он? Несомненно, он! Только теперь на нем мундир унтер-офицера…
– Что с вами? Вам дурно? – обеспокоенно спросил князь.
– Нет-нет… Немного закружилась голова, – слабо улыбнулась Лаура. – С вашего позволения я присяду.
– Конечно-конечно, – Джакели проводил девушку к одному из кресел и пообещал через несколько минут принести ей что-нибудь прохладительное.
– Что еще за головокружения? – недовольно осведомилась мать. – Будь добра взять себя в руки!
Лаура с отчаянием искала способ вырваться из-под докучливой опеки, но не находила его. Ведь если даже она скажет, что ей необходимо подышать свежим воздухом, этот докучливый князь непременно галантно проводит ее в сад. Когда бы здесь был любимый троюродный брат Николоз! Вот, кто бы непременно помог!
Николоз был круглым сиротой и в доме Алерциани находился в положении не столько родственника, сколько приживала, из милости принятого под кров. Пылкого и гордого юношу такое пренебрежение крайне задевало. Ведь и он был – Алерциани! Пусть и из младшей, захудалой и обнищавшей ветви! Лишь с Лаурой у него сложились самые сердечные отношения и полное взаимопонимание. Увы, последний год Николоз редко появлялся дома, предпочитая все время проводить в полку, куда поступил, ища независимости от пренебрегающих им родственников. Да и на вечера, где собиралась тифлисская знать, был он не ходок…
Спасение пришло неожиданно. Оставив своего жениха, к Лауре подошла сияющая Нина и, глядя на Джакели и Мариам одним из самых своих обезоруживающих взглядов, попросила:
– Прошу меня простить, но не позволите ли вы мне ненадолго похитить у вас Лауру? Мне просто необходим ее совет в одном очень важном вопросе!
Кто мог отказать этому трогательному ребенку? К тому же так естественно – в преддверье грядущей свадьбы юной невесте хочется обсудить какие-то наивные детские секреты со старшей подругой…
Через минуту Лаура уже покинула зал вслед за легкой и точно парящей по воздуху Ниной. Оказавшись вдали от гостей, она крепко пожала подруге руки:
– Милая Нина, ты меня просто спасла!
– Я думаю, что сделала кое-что лучшее, – Нина улыбнулась. – Иди в сад. На наше любимое место – помнишь? Там тебя ждут. И меня тоже, наверное, уже ждут… В другом месте.
Все поняв без лишних объяснений, Лаура крепко обняла подругу и, расцеловав ее, поспешила в сад. Убедившись, что возле дома никого нет, она с замиранием сердца побежала к старым дубам, подле которых они любили играть детьми.
Сад, а, вернее, парк Чавчавадзе, самый огромный и прекрасный в Грузии, Лаура знала не хуже своего. Его прекрасные тенистые аллеи, тематические уголки с диковинными цветами и кустарниками, привезенными из Англии, его могучие дубы и кипарисы – все было родным для Лауры, все приводило в восхищение ее глубоко чувствующую природу душу.
Еще только приближаясь к указанному месту, она разглядела сквозь сумрак знакомую фигуру… Нет, это явный перст судьбы, чтобы он, о котором она, не переставая думала, все эти без малого полтора года, которого почти не надеялась увидеть живым, появился именно сегодня! И теперь ничто и никто не должен разлучить их!
***
Константину Стратонову не суждено было окончить победоносный поход русской армии в древнем Тавризе. Впрочем, чести взятия его оказались лишены не только брат Юрий, но и сам Паскевич. Неожиданно для всех Тавриз был занят небольшим отрядом генерала Эристова, которому было поручено командование войсками в Нахичеванской области.
Впрочем, старый князь вряд ли сам предпринял бы столь дерзкий марш-бросок, если бы не начальник штаба полковник Муравьев. Умный, решительный, педантичный, строгий к себе еще более чем к другим, исключительной честный Николай Николаевич был хорошо известен на Кавказе. Ветераны карабинерского полка, коим он прежде командовал, любили вспоминать “муравьевское” время, когда “всякий был убежден, что правое дело не будет гласом вопиющего в пустыне”. Честность и бескорыстие Муравьева вошли в пословицу.
Возложив на него и Эристова защиту Нахичеванской области и отвлечение внимания противника от Эривани, Паскевич и предположить не мог, сколь далеко зайдет это отвлечение.
После очередного нападения персов, предводительствуемых самим Аббас-Мирзой, и разгрома их решено было вести преследование. От лазутчиков и перебежчиков Муравьев знал, что неприятель понес большие потери и полностью деморализован. Не воспользоваться этим благоприятным моментом Николай Николаевич не мог. В самый день падения Эривани, отряд Эристова взял город Маранду, жители которого, армяне, встречали русских как освободителей, а наместник перешел на сторону победителей. Это окончательно подорвало боевой дух персидской армии. Она панически бежала и больше не была способна к сопротивлению.
Пользуясь этим, Муравьев решил овладеть Тавризом. Свои намерения при этом полковник хранил в глубокой тайне ото всех, включая Эристова, не будучи уверен, что тот согласится на столь ответственное и дерзкое предприятие.
Старый князь весьма удивился, когда обнаружил, что его начальник штаба привел его к стенам Тавриза. Но отступать было уже поздно, и город был взят Муравьевым еще до подхода главного отряда Эристова неожиданно легко, ибо большая часть персидских войск бежала из него вместе со многими жителями…
Паскевич был немало потрясен этой операцией и, срочно прибыв в Тавриз, осыпал князя градом упреков. Но хитрый грузин выслушал его молча, а затем поздравил Ивана Федоровича с тем, что именно он, Паскевич, покорил Тавриз. Граф тотчас забыл об упреках, расцеловал Эристова и исходатайствовал ему орден св. Александра Невского…
Увы, все эти славные события прошли мимо Константина. Долгие недели провел он в эриванском госпитале, изнывая от скуки. Эту унылую пору рассеяли лишь два светлых мгновения: сперва получение чина унтер-офицера, а затем предпринятая Красовским постановка блистательной комедии Грибоедова «Горе от ума» силами офицеров гарнизона. И хотя постановка была любительской, далекий от театра Константин был восхищен талантом автора, остротой его глаза и слова…
Война, меж тем, была окончена, и все тот же Грибоедов составил не уступающий по таланту его литературному творчеству проект мирного договора, который и был подписан в Туркменчае 10 февраля 1828 года.
На смену Персидской уже вовсю спешила новая война – с турками. А покамест Константин получил отпуск из полка для окончательной поправки серьезно подорванного ранением здоровья и поспешил в Тифлис с одним всепоглощающим желанием – увидеть ту, что стала для него в последние месяцы наваждением.
И, вот, она стояла перед ним… Еще более прекрасная, чем в пору первой их встречи, расцветшая из почти ребенка в женщину. У Константина на миг перехватило дыхание и, не говоря ни слова, он подошел к Лауре, смотревшей на него сияющими и в то же время немного испуганными глазами, и порывисто поднес к губам ее руки.
– Помните ли вы меня, дорогая Лаура?
– Видит Бог, что с часа нашей разлуки не проходило дня, чтобы я не думала о вас, не молилась о вас, прося скорее лишить меня жизни, нежели погубить вас!
– О, это было бы для меня хуже самой жестокой смерти!
– Слушая о сражениях, о победах, я всегда видела перед собой вас. Спрашивала себя, были ли вы там-то или там? А если были, то живы ли? Не ранены ли? – девушка говорила быстро, и ладони ее сделались горячими. Ее как будто лихорадило, и на щеках горел румянец. – Вы живы – и теперь я счастлива!
– Разве же мог я погибнуть, когда вы столько думали обо мне? Это было бы непростительно с моей стороны!
– Что же теперь? Вы больше не уедете? – с надеждой спросила Лаура.
– Не могу вам обещать этого. Ведь я состою на службе у Его Величества, а мы стоим на пороге новой войны.
– Однако, вы ведь больше не солдат?
– Покамест я нечто среднее между солдатом и офицером. И мне бы весьма хотелось из этого промежуточного перейти в полноценное состояние. К тому же я обязан служить моей стране и моему Царю.
– А что же делать мне? – красиво очерченные дуги бровей страдальчески взметнулись вверх. – Мои родители хотят, чтобы я вышла замуж за старого князя Джакели!
Константин побледнел:
– За этого подлеца, что не отходил от вас весь вечер?
– Он не подлец… Но я не желаю быть с ним! Я скорее умру! – воскликнула Лаура.
– Вы не будете с ним, Лаура, – твердо сказал Константин. – Потому что в таком случае и мне будет лучше погибнуть от турецкого ятогана.
– Тогда что же делать? В нашей стране важно желание отцов и мужей, а нашего согласия не спрашивают.
– Я попрошу вашей руки сам!
– И получите отказ… – безнадежно покачала головой девушка. – Вы должны знать, мой род очень знатен, но войны практически разорили его.
– А я не родовит и нищ, как церковная крыса… – докончил приговор Константин.
– Мне нет до этого никакого дела. Я поклялась вам тогда, в Шуше. И теперь клянусь, что стану или вашей, или ничьей…
– После таких слов мне должно перевернуть все горы вашего края! – пылко воскликнул Стратонов, обнимая Лауру. – Я пробуду в Тифлисе еще не менее трех недель. Я обещаю, что найду выход. Но вы должны быть готовы, что он может потребовать от вас нарушения родительской воли, даже обмана!
– Я на все готова, – отозвалась девушка. – Однако, мне нужно идти, иначе мое отсутствие могут заметить… Знаете ли вы наш дом?
Константин кивнул.
– Если вы пойдете от ворот вниз по склону, а затем повернете за угол, то увидите ручей. Он берет свое начало в нашем саду и проходит под стеной. В этом месте я буду ждать вас каждый день в пять часов по полудни. На стене есть уступ…
– Милая Лаура, если бы даже ваша стена была отполирована и непреступно высока, я все равно нашел бы способ перебраться через нее, чтобы заключить вас в свои объятья!
– Тогда – до завтра? – глаза девушки радостно заблестели.
– До завтра, Лаура, – отозвался Константин, вновь с жаром целуя ее руки.
Когда тонкая, стремительная фигурка скрылась во мраке аллеи, он с досадой сжал кулаки и пошел в противоположную сторону, решив покинуть вечер, не дожидаясь его окончания. Видеть Лауру рядом со старым подлецом было бы совершенно невыносимо! Однако, что же делать, чтобы избавить ее от него? Вызвать на поединок и убить? Во-первых, неслыханный скандал, который больно ударит по брату, перед которым Константин виноват и так. Во-вторых, его это не приблизит к Лауре ни на дюйм, ибо сам он отправится обратно под ружье, а она… А ей любящие родители отыщут другого Джакели.
Что же тогда? Проклятая, проклятая нищета! Никогда еще Константин не ощущал ее таким несчастьем! Когда бы он хоть был прославленным героем, как брат Юрий, другом самого Императора…
Однако все это пустое. Нужно искать выход, а не роптать на то, чего нет. Воистину тысячу раз был прав Юрий, когда говорил, что на войне все куда проще, чем в этой так называемой мирной жизни…
Глава 12.
Белоснежный Безобдал остался позади, уступая место узкой долине, обрамленной невысокими горными кряжами. Чуть в стороне от дороги виднелся полуразрушенный недавним землетрясением памятник, воздвигнутый еще во времена Цицианова. То была могила отважного Монтрезора.
В дни блокады Эривани 1804 года персидской коннице удалось перерезать пути снабжения русской армии. Для восстановления сообщения с Тифлисом и обеспечения доставки провианта в село Караклис, где в ту пору располагалась русская операционная база, был послан майор Монтрезор с отрядом в сто человек при одном орудии. Несмотря на все предосторожности, отряд все-таки встретил на своем пути персов и был окружен ими.
Несмотря на многочисленность неприятеля, Монтрезор решил проложить себе путь штыками. Двадцать верст шел отряд через каменистые горы, изнемогая от жажды и отражая атаки персов. Но впереди, у самого Караклиса, их ждало еще большее полчище врагов… Персы предложили окруженному отряду сдачу, но славный майор ответил, что «смерть предпочитает постыдному плену». И тогда все силы персов ринулись на русских. Битва длилась несколько часов. Когда большая часть отряда уже пала, Монтрезор сбросил мундир и, обратившись к солдатам, сказал: «Ребята! Я больше вам не начальник. Спасибо за храбрость и службу. Теперь, кто хочет, может спасаться!» Позволением этим никто не воспользовался, солдаты кинулись в штыки вслед за своим командиром. Все они были изрублены. Тело самого Монтрезора нашли на пушке, которую он, как видно, защищал…
Завидев это скорбное и славное надгробие, Грибоедов приказал остановить экипаж и в одиночестве прошел к памятнику, желая отдать долг памяти герою. Долго стоял Александр Сергеевич над одинокой могилой, терзаемый тяжелыми предчувствиями, не оставлявшими его с той минуты, как монаршим повелением был он назначен послом в Тегеран. Отправляясь в Петербург по заключении Туркмечайского мира, Грибоедов полагал, что служба его на том закончена. Впереди ему виделась мирная жизнь в Тифлисе с обожаемой Ниной, литературная деятельность, на которую всегда не доставало времени… Судьба распорядилось иначе. Его дипломатический талант и знание Персии сделали его незаменимым человеком для посольства. Это назначение вкупе с орденом Святой Анны и немалой денежной наградой было, конечно, знаком высокого доверия Императора, но лучше бы был им почтен кто-нибудь другой.
Отказаться от должности Александру Сергеевичу не позволяло чувство долга, и последние дни в Петербурге, полные хлопот о постановке «Горя от ума», званых обедов и прочих мероприятий, его не покидало чувство обреченности. Заметивший это Пушкин со своей обычной веселостью попытался ободрить Грибоедова, но тот лишь безнадежно покачал головой: «Вы не знаете этого народа, увидите, что дело дойдет до ножей». И на поздравления Жандра, отозвался резко: «Не поздравляйте меня с этим назначением: нас там всех перережут».
И, вот, стоя у могилы славного Монтрезора с особой остротой чувствовал Александр Сергеевич, что его ждет та же участь. И участь эту надо встретить так, как и лежащий здесь герой…
Смерти Грибоедов не боялся. Кажется, всю жизнь он играл с нею. Хотя детство и юность не предвещали столь странной судьбы. Московский уют, богатое поместье, прекрасное юридическое образование… Вот, только не прельщала юношу крючкотворская скука, а потому с радостью сменил он в 12-м году фрак на гусарский ментик.
Увы, Иркутский полк, в который поступил Александр, оставался в резерве, и славные битвы проходили мимо юного корнета, вынужденного проводить время не в ратных подвигах, а в нескончаемых кутежах, попойках, карточных играх, женских объятиях… Пожалуй, мало кто мог превзойти его в сумасбродстве в ту пору. Оргии, надолго нарушавшие покой обывателей, появление на коне в танцевальном зале – каких только выходок ни позволял себе в ту пору скучающий от бездействия корнет. Однажды он прогнал органиста в костеле и, заняв его место, после дивных импровизаций, изумивших церковь глубиной молитвенного настроения, вдруг начал играть «комаринскую».
Этот образ жизни, однако, не мог удовлетворять Грибоедова. Слишком большим умом наделила его природа, слишком взыскательным сердцем. Осознав необходимость покончить с беспутной жизнью, он вышел в отставку и, поселившись в столице, занялся литературой. Прекрасно образованный, свободно говоривший на четырех языках, превосходный музыкант-импровизатор, Александр быстро стал душой столичных салонов. И все же страстность натуры время от времени давала себя знать.
Одна из вспышек ее закончилась дуэлью. Первоначально Грибоедов должен был быть лишь секундантом в поединке между Шереметьевым и Завадовским по поводу знаменитой тогдашней танцовщицы Истоминой. Но ссора с Якубовичем, также бывшим одним из секундантов, привели к двойной дуэли. Впрочем, после гибели Шереметьева, Грибоедов и Якубович решили отложить свою сатисфакцию до более подходящего момента.
Наказания для всех участников были мягки. Завадовского отослали за границу, Якубовича перевели на Кавказ, а сам Грибоедов и вовсе отделался замечанием. Но после случившегося оставаться в столице и продолжать вести обыденную светскую жизнь он уже не мог. В ту пору поверенный по русским делам в Тавризе Мазорович отправлялся в Персию, и Александр Сергеевич поехал с ним в качестве секретаря посольства.
По дороге он встретился в Тифлисе с Якубовичем. Итогом этой встречи стало легкое ранение в левую руку и навсегда изувеченный мизинец…
Покончив таким образом все счеты с ветреной молодостью, молодой дипломат погрузился в государственные дела. Именно в Персии, в суровом “дипломатическом монастыре” окончательно сложился его твердый характер и глубокий ум. За четыре года, проведенные там, Грибоедов изучил восточные языки, персидскую поэзию, восточные нравы и быт. Это сделало его крайне полезным русской миссии. Именно он добился согласия Персии освободить всех русских пленных, томившихся в неволе еще со времен Цицианова. Задача эта была крайне трудна, особенно, учитывая тот факт, что, выполняя ее, Александр Сергеевич ежеминутно подвергался риску быть растерзанным фанатичной чернью. Но страх смерти, смерти мучительной не остановил молодого дипломата. Его спокойная и холодная отвага была высоко оценена Ермоловым.
В Персии же задумана была Грибоедовым комедия «Горе от ума», план которой чудесным образом явился ему во сне. Там была и начата она, а закончена уже в России, куда Александр Сергеевич вернулся в 1824 году на время отпуска.
По окончании оного он отправился обратно на Кавказ, где ожидал его Ермолов, прочивший его на пост директора Тифлисской гимназии, но дорогой был арестован…
Не зная за собой ни малейшей вины в заговоре, приведшем к печальным событиям на Сенатской, Грибоедов обратился с письмом напрямую к Государю, который тотчас освободил его и, пожаловав чин надворного советника, вновь отправил в Грузию, но уже под начало Паскевича.
Иван Федорович был женат на двоюродной сестре Грибоедова и, как и Ермолов, весьма расположен к родственнику. Одна беда, при не любившем писать самостоятельно графе его свежеиспеченному секретарю совершенно не оставалось времени для занятий литературой, к коим так рвалось сердце. Литературный талант уходил на донесения, приказы и частные письма начальника… И не раз пожалел Александр Сергеевич о Ермолове, при котором доставало ему с избытком времени и на чтение, и на собственные писания…
Впрочем, не только секретарские обязанности занимали тогда время Грибоедова. Интересуясь вопросами развития промышленности, шелководства, виноделия, он оказывал поддержку Кастелла, открывшему шелкомотальную фабрику в Тифлисе, и Эристави, построившему в Горийском уезде стекольный завод. Не оставлял заботами Александр Сергеевич и «благородное училище», преобразованное вскоре в гимназию. Им был составлен и план развития оного заведения с особенным упором на составление библиотеки.
А еще добился Грибоедов издания первой в Тифлисе газеты. По указанию Паскевича в ней должны были печататься «официальные известия, разные объявления, главные общие новости для края сего, любопытные и вообще всякие сведения, согласные с видами правительства».
Недостатка авторов «Тифлисские ведомости» не испытывали. Кроме передовых людей самого Тифлиса в ней публиковались под псевдонимами прибывшие на Кавказ декабристы и, конечно, сам Александр Сергеевич.
Да и литературы не оставлял он, уже ощутивший ее главным своим призванием. Выкраивая минуты и часы, работал над трагедиями «Грузинская ночь» и «Радамист и Зенобия», задуманной в результате глубокого изучения истории Грузии и Армении.
Персидская кампания предоставила Грибоедову случай наконец-то принять участие в военных действиях. Будучи в свите Паскевича, он с горячностью блестящего наездника участвовал во всех важнейших делах.
Однажды во время одного из сражений, Александру Сергеевичу случилось быть рядом с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей, и в первый миг Грибоедов подумал, что тот убит. Это развило в нем такое содрогание, что все тело охватила дрожь. Князя только контузило, но поэт-дипломат чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило его, так как сознание себя трусом – нестерпимо для порядочного человека. Страх подл: поддайся ему раз, и он усилится и утвердится в душе. Дабы вылечиться от робости и не дрожать более перед ядрами, в виду смерти, Александр Сергеевич при первом же случае стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал он назначенное им самим число выстрелов и потом тихо поворотил лошадь и спокойно отъехал прочь. После такой закалки никакая военная опасность уже не страшила его.
В ходе Персидской кампании Грибоедову пришлось вновь выступить в качестве дипломата после взятия Аббас-Абада, ставшего поводом для предложения неприятелю мира. Ему было приказано отправляться в персидский стан и представить на усмотрение персидского принца: 1) что Эриванская и Нахичеванская провинции уже принадлежат России фактически, так как заняты русскими войсками: две крепости в них продержатся недолго, и, следовательно, уступить эти области все равно придется теперь или позже; 2) что чем дольше продлится война, тем более будет потрачено на нее денег персиянами, и, стало быть, если они решатся уплатить известную сумму, то тем избегнут будущих военных расходов, которые далеко превзойдут цифру, оспариваемую ими теперь; что, наконец, по мере успехов будут возрастать и требования России, в сравнении с которыми нынешние покажутся уже умеренными.
Получив эту инструкцию Александр Сергеевич отправился в неприятельский лагерь, где был принят самим Аббас-Мирзой. Наследный принц начал беседу с того, что горько жаловался на Ермолова и его приближенных, как на главных, по его мнению, зачинщиков войны. Грибоедов возразил, что неудовольствия, по случаю спора о границах, были обоюдные, но что военные действия никогда бы не начались, если бы шах-заде сам не вторгся в русские пределы.
– Во всяком случае, – резюмировал он, – если бы это было и так, то вы имели законный путь обратиться с жалобой, и Государь, конечно, не оставил бы ее без внимания. Между тем ваше высочество поставили себя судьей в собственном деле и предпочли решить его оружием. Но тот, кто первый начинает войну, никогда не может сказать, чем она окончится.
– Да, это правда, – принужден был согласиться Аббас-Мирза, – военное счастье так переменчиво…
– В прошлом году, персидские войска внезапно и довольно далеко проникли в наши владения; нынче мы прошли Эриванскую и Нахичеванскую области, стали на Араксе и овладели Аббас-Абадом.
– Овладели!.. Взяли! – воскликнул принц. – Вам сдал ее зять мой… Трус… женщина… хуже женщины!..
– Сделайте против какой-нибудь крепости то, что мы сделали, и она сдастся вашему высочеству, – спокойно откликнулся Грибоедов.
– Нет! Вы умрете на стенах, ни один живой не останется. Мои не умели этого сделать, иначе вам никогда бы не овладеть Аббас-Абадом.
– Как бы то ни было, – возразил Александр Сергеевич, – но при настоящем положении вы уже третий раз начинаете говорить о мире. Теперь я прислан сообщить вам последние условия, помимо которых не приступят ни к каким переговорам: такова воля нашего государя.
– Послушаем, но разве должно непременно толковать о мире, наступая на горло, и нельзя рассуждать о том, что было прежде?
Тут Аббас-Мирза пустился бранить пограничных начальников, и своих, и русских, и восхвалять великого русского Императора, клянясь в преданности последнему. Хотя слова хитрого и лживого перса нисколько не убеждали Грибоедова, однако, он отметил, что характер русского Царя, действительно, производит сильное впечатление не только на принца, но и на его окружение. В персидском лагере рассказывали про Государя множество анекдотов, иные справедливые, большей частью вымышленные, – но все без исключения представлявшие Императора в могущественном виде, грозным и страшным для неприятелей.
– Как же, имея такое представление о нашем Государе, – сказал Грибоедов, наконец сумев вставить слово в поток витиеватых речей Аббас-Мирзы, – вы решились оскорбить его? И вот, кроме убытков, понесенных нами при вашем нападении, кроме нарушения границ, теперь оскорблена и личность самого Императора, а у нас честь Государя – есть честь народная.
Эти слова как будто поразили принца, и он принялся театрально каяться в своем поведении. Однако же, как только речь зашла о подписании мира на условиях великого Императора, тон хитрого перса мгновенно изменился:
– Так вот ваши условия! – воскликнул он. – Вы их предписываете шаху Иранскому как своему подданному! Уступку двух областей, дань деньгами!.. Но когда вы слышали, чтобы шах персидский делался подданным другого государя? Он сам раздает короны… Персия еще не погибла… И она имела свои дни счастья и славы…
Переговоры длились еще несколько дней, и всякий раз повторялись одни и те же достойные театра переходы от слезных раскаяний и восхвалений русского Царя к гневу, проклятием в адрес Ермолова и упованию на еще не погибшее могущество Персии… Окончились они, как и следовало ожидать, ничем. И русской армии пришлось проделать еще долгий путь, прежде чем враг, наконец, признал себя побежденным и согласился на Туркменчайский мир…
Туркменчай! Он стал пиком блестящей дипломатической карьеры Грибоедова, его триумфом, но и… Само собой подкатывала гонимая мысль – роком.
Нет, он и теперь не боялся смерти. Даже мучительной смерти. Но меньше всего хотелось уходить именно сейчас! Сейчас, когда столько литературных замыслов рождалось в голове, ожидая быть поверенными бумаге. Сейчас, когда рядом с ним была самая прекрасная из женщин, его мадонна Мурильо, его Нина, с которой желал бы он не расставаться никогда…
Они познакомились в доме Прасковьи Николаевны Ахвердовой, родственницы Чавчавадзе и наставницы Нины. Ее покойный муж сперва занимал должность «правителя Грузии», а после – начальника артиллерии Кавказского корпуса. Человек богатый и гостеприимный, он любил устраивать у себя приемы, на которые собиралось все местное общество. Вдова Ахвердова свято хранила эту традицию.
На одном из таких приемов Грибоедов и встретил Нину. Первоначально отношения их были лишь отношениями учителя и ученицы. Александр Сергеевич обучал девочку игре на фортепиано по просьбе ее отца, став частым гостем кахетинского поместья Чавчавадзе Цинандали.
Маленькая черноволосая Нина, веселая и шаловливая, относилась к своему учителю с огромным почтением и в отличие от взрослых, называвших его господином Сандро, величала исключительно по имени и отчеству.
Грибоедов скоро сдружился со всем семейством Чавчавадзе, с особой лаской относясь к подрастающему сыну князя – Давиду. Дни, проводимые в Цинандали, были счастливыми для него. Здесь любовался он с балкона изумительной природой и рекой Алазани, здесь сочинял стихи, никем не тревожимый.
Там, где вьется Алазань,
Веет нега и прохлада,
Где в садах сбирают дань
Пурпурного винограда,
Светло светит луч дневной,
Рано ищут, любят друга…
Ты знаком ли с той страной,
Где земля не знает плуга,
Вечно-юная блестит
Пышно яркими цветами
И садителя дарит
Золотистыми плодами?..
Странник, знаешь ли любовь,
Не подругу снам покойным,
Страшную под небом знойным?
Как пылает ею кровь?
Ей живут и ею дышат,
Страждут и падут в боях
С ней в душе и на устах.
Там самумы с юга пышат,
Раскаляют степь…
Не мог и подумать Александр Сергеевич, что здесь, в старой часовне Цинандали ему суждено обручиться с черноглазой девочкой, на которую смотрел он тогда лишь как на очаровательного ребенка.
Но, вот, минуло несколько лет, и в доме Ахвердовой Грибоедов вновь увидел свою ученицу. За обеденным столом, сидя прямо напротив нее, он силился узнать в этой прекрасной мадонне с бездонными глазами ту смешливую девочку с растрепанными косами, какой он помнил ее. Александр Сергеевич так неотрывно смотрел на девушку, что та вконец смутилась. А он был ослеплен. Он был впервые в жизни – влюблен. И это разом овладевшее им чувство было столь сильно, что Грибоедов решился объясниться с Ниной незамедлительно.
– Пойдемте со мной, мне нужно что-то сказать вам, – сказал он ей по-французски.
Девушка с готовностью проследовала со своим учителем в комнату. И, оставшись наедине, краснея и задыхаясь от волнения, непривычно с трудом подбирая слова и бормоча их с несвойственной для дипломата сбивчивостью, Александр Сергеевич сделал ей предложение. Она заплакала, засмеялась, позволила поцеловать себя и побежала к матери, бабушке и, конечно, добрейшей Прасковье Николаевне за благословением, которое тотчас было дано.
Счастливая и заплаканная Ахвердова только качала головой:
– Затмение солнечное на вас обоих нашло, иначе как объяснить?! С бухты-барахты, пошли было передохнуть перед болтовней кофейной, а тут тебе – нате, пожалуйста бегут, летят: Ниночка – невеста!
Невеста… А ведь не первым был Александр Сергеевич, кто пленился красотою Нины, кто искал ее руки. И среди них – сын Ермолова Сергей, самый настойчивый из обожателей, старый генерал-лейтенант Иловайский, Николай Сенявин… А она всем им предпочла своего строгого учителя, вдруг растерявшего перед ней всю свою невозмутимую сдержанность…
22 августа 1828 года они обвенчались в Сионском кафедральном соборе Тифлиса. На медовый месяц молодым оставалась лишь неделя, которую провели они в благословенном Цинандали.
– Как это все случилось? – говорила в те дни счастливая Нина, окружившая мужа неустанной заботой и лаской, каких он еще никогда не знал. – Где я и с кем? Будем век жить, не умрем никогда!
Она была самим счастьем, и всем сердцем хотелось, чтобы оно длилось век. Но настала пора отправляться в Тегеран… Молодая жена поехала с Александром Сергеевичем, дабы проводить его до Тавриза, а самой ожидать там его возвращения. В пути они ночевали в шатрах на вершинах гор среди жестоких ветров и зимнего холода. Дорогой Грибоедов рассказывал Нине о своей жизни, а она наслаждалась каждой минутой, проведенной рядом с ним. Часто засиживаясь у костра, Александр Сергеевич делал записи в путевом журнале, а она тихонько сидела рядом, не мешая, и он чувствовал ее неотрывный, полный нежности взгляд. Иногда он читал ей свои записи:
– Кто никогда не любил и не подчинялся влиянию женщин, тот никогда не производил и не произведет ничего великого, потому что сам мал душою. У женщин есть особое чувство, которое французы называют tact, этого слова нельзя перевести даже перифразой ни на один язык. Немцы перевели его как «разум чувствований», это мне кажется довольно близко к подлиннику. Такт есть то же, что гений или дух Сократа: внутренний оракул. Следуя внушению этого оракула, женщина редко ошибается. Но оракул этот действует только в сердце, которое любит…
Дни путешествия пролетали незаметно. Вот, и Безобдал остался позади… С тяжелым чувством возвратился Грибоедов от могилы Монтрезора и впервые не смог скрыть его от жены. Заметив, что муж опечален, Нина крепко сжала его ладони, всмотрелась в лицо тревожным взглядом:
– Что-то случилось, Сандро? Что с тобой?
– Ничего, мой ангел, – Александр Сергеевич погладил ее по голове. – Только пообещай мне вот что… – он помедлил, не решаясь причинить жене боль горьким словом. – Я, конечно, не задержусь в Тегеране и скоро вернусь к тебе. Но на все Божья воля. И… если вдруг случится несчастье… не оставляй костей моих в Персии и похорони меня в Тифлисе, в церкви Св. Давида.
Глава 13.
Дни утекали незаметно, как песок из нерадивой ладони… Прекрасные дни… Сколько было в них подарено поцелуев и признаний, сколько переговорено всего, сколько перемечтано несбыточного! Вот, только как несбыточное это воплотить в жизнь, так и не придумал Константин, чувствующий себя закованным в кандалы рабом.
Но настал день, в который она не пришла к ручью в назначенный час. Константин прождал ее до сумерек, но напрасно. Так повторилось и на другой день, и на третий. Он уже пришел в отчаяние и решился идти прямо в дом Алерциани, чтобы хотя бы узнать, жива ли и здорова ли Лаура, когда его опередил Николоз.
Смуглый до черноты, горбоносый юноша с жемчужно блестящими зубами и насмешливыми, озорными глазами, он вдруг возник на дороге, выскочив из расщелины низкого горного кряжа, где, по-видимому, дожидался Константина. От неожиданности лошадь последнего привстала на дыбы, но будучи отличным наездником, он удержался в седле и громко выругался:
– Что, черт побери, ты здесь делаешь?
Лаура познакомила Константина с Николозом через неделю после их встречи на приеме у Чавчавадзе, и молодые люди, имея схожие сиротские и совсем неласковые к ним судьбы, быстро сошлись.
– Жду тебя, мой дорогой, – засияла широченная улыбка. Говорил Николоз с сильнейшим акцентом, так что иные его слова Константин понимал не без труда. – Далеко ли ты направляешься?
– Ты прекрасно знаешь, куда!
– Напрасно!
– То есть как?!
– Вот, прочти, – Николоз протянул Константину запечатанный конверт и попросил: – Не мог бы ты сойти с коня? Есть важное дело!
Константин покорно соскочил с коня, бросил приятелю повод и, усевшись на придорожный камень, в волнении стал читать письмо Лауры, написанное на французском языке безупречным почерком. С каждым прочитанным словом, он чувствовал, как его все больше бросает в жар, а скулы сводит от бессильной ярости.
Они увезли ее! Увезли его Лауру! Увезли, чтобы выдать замуж за этого старого негодяя!
– Проклятье! Я изрублю его собственными руками! – воскликнул Константин. – И пусть меня повесят, как собаку…
– Признаться, я и сам не против изрубить эту старую свинью, – осклабился Николоз, – но не хочу быть повешенным. И тебе не советую. Лауру бы это не обрадовало.
– Замолчи! Ты ничего не понимаешь…
– Где уж мне! – молодой кавказец безмятежно сидел на корточках, щурясь на солнце и покусывая сорванную травинку. – Но не обо мне речь, мой дорогой. А о Лауре. Знаешь, своего дядю я не выношу. Да и тетка не лучше. Я для них всегда был хуже любимого дядиного пса… С ним был он ласков, а я… Для него я никогда не был Алерциани. Единственным человеком, который меня любил, была Лаура. И я совсем не хочу, чтобы ее жизнь обрекли тоскливому увяданию у этого трухлявого ствола. К тому же, сознаюсь, очень хочется отплатить дядюшке за все его надменное презрение ко мне…
– Ты можешь говорить яснее? – нахмурился Константин.
– Конечно, могу. Есть только один способ спасти мою сестру – похитить ее!
– Легко сказать!
– Легко и сделать! – тонкий и гибкий Николоз вскочил на ноги и приблизился к Константину. – Сейчас она в доме тетки Тамары, которая приходится дальней родней Джакели. Она и повезет Лауру к нему. Дорогу я знаю.
– И что ты предлагаешь? Напасть нам двоим на кортеж и похитить Лауру? Там же будут слуги, и они будут вооружены. Это значит – нам придется сражаться. Возможно, убить их. Я не могу пойти на такое преступление!
– Зачем двоим? Зачем убить? – Николоз поморщился. – Ты не знаешь Кавказа и не имеешь воображения!
– Говори яснее!
– Есть у меня три ловких человечка…
– Разбойники, конечно?
– Скажем так, вольные люди, не брезгующие незаконной работой.
– И что же?
– Я дам им денег…
– Откуда у тебя деньги?
– Какая тебе до того забота? Если угодно, я выиграл их у одного простофили.
– Допустим…
– Я заплачу этим услужливым людям. И уже впятером, обрядившись разбойниками горских племен, кои время от времени еще тревожат наши края, мы подождем кортеж в удобном месте и…
– И твои услужливые люди убьют невинных людей?
– Зачем опять убьют? Лишь повалят на землю и оглушат. Ты же, пока мы четверо будем заняты этим, верхом подлетишь к экипажу, отворишь дверцу, посадишь мою любимую сестру на луку седла и помчишься с нею по дороге, которую я тебе укажу. Я последую за тобой, а мои люди отправятся восвояси.
– А дальше?
– А дальше мы втроем отправимся в Джавахети, где я родился, – ответил юноша, посерьезнев. – От моего дома там не осталось и золы… Но неподалеку есть старая часовня. А в деревне живет старик-священник, который когда-то крестил меня. Он обвенчает вас.
– А если он не согласится?
– Я уговорю его, – уверенно отозвался Николоз.
– А затем? Мы все равно оба станем преступниками! Два офицера русской армии похитили женщину! Ты же вдобавок окажешься дезертиром, так как в отличие от меня не находишься в отпуске. Да и мой вот-вот подойдет к концу.
– Дезертиром я не окажусь, – улыбнулся Николоз. – Сегодня командир полка дал мне краткий отпуск, дабы съездить в родные края на похороны любимой тетушки.
– Какой еще тетушки?
– Не беспокойся. Бедняжка преставилась много лет назад.
– И ты не боишься, что твоя ложь будет разоблачена?
– Не боюсь. Кому это нужно? Командир считает меня способным и храбрым офицером, расположен ко мне. Полк наш стоит в резерве и предается всем порокам тыловой жизни. Так что мой отъезд никому не важен. Что же касается тебя, то ты и вовсе вернешься героем!
– Что за вздор ты мелешь?
– Никакого вздора. Ты же спасешь нашу дорогую Лауру от похитивших ее свирепых разбойников и возвратишь домой живую и здоровую.
– Ты сошел с ума!
– Нисколько. Родители, конечно, будут счастливы возвращению единственной дочери, и она объявит им о своей любви к своему спасителю.
– Они не поверят!
– И что с того? Вы уже будете обвенчаны перед Богом. И она будет твоей женой. Обнажить правду – значит, опорочить имя Алерциани! На это дядя не пойдет никогда. Им придется смириться и покрыть вашу вынужденную ложь.
– Хитер ты, друг мой, слов нет… – задумчиво покачал головой Константин.
– Находчив, – вновь блеснул зубами Николоз. – Командир говорит, что я находчив. А в бою это очень важное качество!
– В жизни тоже.
– Несомненно.
– Но ты точно уверен, что твои люди смогут провести дело без крови?
– Дорогой мой, пятнать свой мундир невинной кровью мне ничуть не более охота, чем тебе. Даю тебе слово, что все будет исполнено с полнейшей галантностью. И не робей же ты, в конце концов! Здесь Кавказ, а на Кавказе похищение невест – не редкость. В сущности, то, что теперь делают с моей сестрой – разве не то же похищение? Только подлое! Потому что совершается против ее воли! За деньги! Подобно тому, как покупают рабынь!
– Довольно! – воскликнул Константин. – Я принимаю твой план! Жизнь без Лауры для меня горше самой лютой смерти, и у меня нет выбора, кроме как довериться твоей находчивости.
– Вот и молодец! – довольно прихлопнул в ладоши Николоз. – Жди меня здесь же с заходом солнца. Я привезу с собой тех, кто нам помогут, и вместе мы отправимся на место нашей засады. Кортеж двинется в путь завтра утром. Верхом мы успеем за ночь одолеть предстоящий путь и с рассветом осмотреть место и распределить роли.
– Хорошо, – кивнул Константин. – Я буду ждать тебя. И если все получится, буду твоим пожизненным должником.
– Должников я люблю, – рассмеялся юноша. – Особенно оттого, что всю жизнь одалживаюсь сам, – он легко вскочил в седло и, махнув на прощанье рукой, припустил коня во весь опор в сторону Тифлиса.
Константин же еще долго стоял на дороге, терзаясь тысячью сомнений и яростью на свое положение, в котором ему, дворянину и офицеру (пускай пока что и с приставкой «унтер»), приходится обращаться за помощью к каким-то разбойникам, самому преступать закон и лгать, чтобы не потерять любимую. И что бы сказал на это Юрий? Лучше и не думать…
Четверо всадников появились на пыльной дороге аккурат с последними лучами солнца. Один из них опустил маску, скрывавшую лицо до самых глаз, и блеснув белоснежными зубами, кинул Константину тюк с вещами:
– Переодевайся, и едем!
Константин быстро облачился в разбойничий наряд и, также скрыв лицо полумаской, вскочил на коня.
Николоз, действительно, все рассчитал точно. Намеченного места они достигли еще затемно, что дало возможность отдохнуть лошадям и хорошенько осмотреться людям.
Место представляло собой узкое горное ущелье. Дорога здесь поворачивала, а потому заметить засаду, притаившуюся за поворотом, было совершенно невозможно. Рядом вбок уходила горная тропинка, терявшаяся за крутыми склонами. С ловкостью дикого зверя Николоз карабкался по склонам, намечая самые выгодные точки и давая распоряжения своим людям. Следя за ним, Константин подумал, что из него бы и впрямь вышел лихой разбойник, гроза кавказских дорог и богатых караванов… Впрочем, сейчас главной заботой «разбойника» было еще раз разъяснить своим наемникам задачу: никого не убивать и не калечить. Те кивала головами и бросали редкие фразы. Стратонов не мог понять их разговора, происходившего на незнакомом ему языке.
Наконец, все, включая Константина, заняли свои позиции и стали ждать. Кортеж в составе двух экипажей, один из которых был занят багажом, и четырех всадников, сопровождавших их попарно спереди и сзади, двигался медленно. Едва миновал он поворот, как прямо под копыта лошадей, шедших впереди, с грохотом скатилась огромная глыба, повлекшая за собой еще десяток камней. От испуга кони встали на дыбы и, сбросив своих седоков на землю, помчались прочь. В ту же секунду два всадника «арьергарда» были повержены на землю спрыгнувшими на них разбойниками, а кучера неподвижно замерли под нацеленными на них пистолетами.
Наступила очередь Константина. Подлетев верхом к первой карете, он распахнул дверцу и тотчас встретился глазами с бледной и напуганной Лаурой. Несмотря на маску, она узнала его и, охнув, прижала руки к груди. Легко подхватив девушку, Константин усадил ее на лошадь, и что есть мочи помчался по той самой уходившей в горы тропинке.
– Вы сошли с ума! – воскликнула Лаура.
– Вы правы, – согласился Константин, снимая маску. – Но это лучше, чем увидеть вас в объятиях назначенного вам жениха! Быть может, я поступил неправильно? – он чуть сбавил аллюр. – Если так, то я немедленно возвращу вас назад.
– Нет! – воскликнула Лаура, прижимаясь к его груди. – Нет! Нет! Нет! Я твоя навсегда и ничьей больше буду! Вези меня, куда захочешь. У меня теперь кроме тебя никого нет!
Константин остановил коня и, крепко обняв, поцеловал возлюбленную.
– Вы совсем лишились рассудка? – неожиданно послышался еще по-юношески звонкий голос Николоза.
Константин обернулся. Его сообщник в нетерпении гарцевал позади, и лицо его выражало крайнюю степень возмущения:
– Вы хотите, может быть, чтобы вас догнали, и все пошло прахом? У вас еще будет довольно времени для объяснений. А сейчас надо спешить! – и, не дожидаясь ответа, он хлестнул плетью лошадь Константина, и та вновь помчалась во весь опор.
Сам Николоз скакал следом – рядом на столь узкой тропинке двум всадникам места не было. Но, вот, миновали ее и выехали на более широкую дорогу, идущую однако в стороне от дороги главной, на которую выезжать было опасно. Так, безлюдными тропами, пробирались беглецы в сторону Джавахети.
Казалось, все шло хорошо, как вдруг до тонкого слуха Николоза донесся гортанный клик, и в следующее мгновение в нескольких десятках метров позади показалась целая туча всадников.
– Пришпорь коня! – крикнул он Константину. – На сей раз это уже настоящие разбойники! И упаси нас Бог попасть к ним в руки!
Константин пришпорил взмыленную лошадь, но та, уставшая от долгого пути, уже не могла состязаться со свежими скакунами преследователей.
Грянул выстрел – это Николоз наповал сразил одного из разбойников. Он, чей легкий, привыкший к горам конь, мог мчаться куда быстрее, нарочно оставался позади сестры и Константина, прикрывая их.
Но, вот, не выдержала бешеной скачки с двумя седоками несчастная лошадь и, споткнувшись, упала. Мгновенно оценив ситуацию, Константин крикнул подлетевшему Николозу:
– Возьми Лауру и увези ее!
– А ты?!
– А я попробую хоть ненадолго задержать их!
– Они изрубят тебя!
– Делай, что говорю! Спасай Лауру!
Николозу не нужно было повторять дважды. Бросив другу свое ружье, он подхватил потерявшую сознание при падении сестру и, как ветер, помчался прочь. Константин же, укрывшись за горным выступом открыл огонь по приближавшимся всадникам. Два выстрела поразили первых из них, и остальные вынуждены были остановиться, а затем отойти назад и скрыться за поворотом. Однако, прежде чем враг ретировался, Константин успел ранить еще двоих преследователей.
Оставшись в одиночестве, он огляделся по сторонам. Николоза, по счастью, уже простыл и след. Но где теперь искать его? Не знавший местности и лишившийся лошади Константин оказался в весьма затруднительном положении. К тому же, что-то подсказывало, что разбойники не ушли далеко.
Предчувствие не обмануло. Заслышав подозрительный шорох прямо над головой, Константин поднял глаза и увидел приближающегося к нему горца. Злодеи обошли его с тыла! Выстрел – и еще одним мерзавцем стало меньше, но в следующий миг сам Константин был ранен в руку, и сразу трое разбойников бросились на него с разных сторон. Завязалась рукопашная схватка. Будучи хорошим фехтовальщиком, Константин сражался как лев, но, получая все новые раны сам, быстро слабел, истекая кровью. Наконец сильный удар в спину заставил его выронить клинок и без памяти свалиться на землю…
Глава 14.
Простая дорожная кибитка безо всякой охраны катила по крутым дорогам Кавказа в направлении Тифлиса. В облаченном в черную черкеску без погон человеке с обветренным, сумрачным лицом трудно было узнать личного друга Шаха, богача и «колдуна» Самума. Между тем, это был именно он. И ехал он прямиком от двора Шаха, из Тегерана, где совсем недавно разыгралась кровавая драма, до сих пор стоявшая пред глазами путника.
30 января чернь с утра толпилась в тегеранской соборной мечети. Распаленная речами муджтехида, она ринулась к дому русского посланника. Охрана последнего была ничтожна, чтобы противостоять многотысячной толпе, и в считанные минуты убийцы с обнаженными кинжалами ворвались во двор. Первым от их рук погиб евнух Мирза-Якуб, армянин, выразивший желание вернуться в Эривань и с тем пришедший в русское посольство. Так как армяне по итогам войны стали подданными русского Царя, то Грибоедов не мог отказать Якубу в этом желании. Между тем, тот указал еще на двух армянок из гарема ненавидящего русского посланника Аллаяр-хана, также желавших вернуться на родину. Нельзя было вообразить большего оскорбления Шаху и персидской знати, чем вмешательство в дела гарема. Гнев их был неописуем. И уж, само собой, нашлось, кому подлить масла в огонь недовольства черни и натравить ее… Изувер и фанатик Мирза-Месих, верховный мулла тегеранский, пустил слух, что Якуб ругает магометанскую веру. «Как, – говорил он в собрании хаджей, – этот человек двадцать лет исповедывал нашу религию, читал наши книги, а теперь поедет в Россию, чтобы надругаться над нашей верой? Он должен умереть!» Пустили также слух, будто в доме посланника силой удерживают женщин, принуждая их к отступничеству от мусульманства.
– Не мы писали мирный договор с Россией!.. Мы не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру! – вопил народ.
А ахунды ходили по площадям накануне погрома и призывали:
– Правоверные! Запирайте завтра базары, идите в мечети, там вы услышите наше слово!
Чувствуя, чем пахнет дело, Самум тайно посетил русского посланника и предупредил его о возможных последствиях, заметив, что армянин, пятнадцать лет занимавший высокое положение в Персии и принявший магометанство, не стоит того, чтобы подвергать риску жизни сотрудников посольства.
Однако, подобного рода прагматизм был чужд Александру Сергеевичу. Имея большой опыт вызволения пленных, никогда не считавшийся с опасностями, сопутствующими этому благородному делу, он и теперь был полон решимости исполнить свой долг до конца.
…Побоище продолжалось около часа. Персидский караул бежал. Казаки отстреливались от наступавшей свирепой толпы, но по малочисленности своей были скоро изрублены. По их трупам убийцы бросились в дом, где находились сам Грибоедов, князь Меликов, родственник его жены, второй секретарь посольства Аделунг, медик и несколько человек прислуги. На крыльце изуверов встретил отважный грузин Хочетур, некоторое время один сражавшийся против целой сотни людей. Но когда у него в руках сломалась сабля, толпа растерзала его на части и ворвалась в дом. Медик посольства, видя гибельность положения, пытался проложить себе дорогу через двор маленькой европейской шпагой. Ему отрубили левую руку, которая упала к его ногам. Несчастный вбежал в ближайшую комнату, оторвал с дверей занавес и, обернув им свою страшную рану, прыгнул в окно. Напрасно! Изверги добили его градом камней на земле.
Грибоедов вместе со своей свитой продолжал отбиваться, все еще надеясь на помощь шахского войска. Но помощь не пришла. А убийцы разобрали крышу и подожгли потолок… Пользуясь вызванным пожаром смятением, они ворвались в комнату и начали избиение русских. Александр Сергеевич до последнего защищался шашкой, пока не пал под ударами кинжалов… Тело его на три дня превратилось в игралище для озверевшей черни и было опознано лишь по увечному мизинцу.
Самум видел и останки славного русского патриота, и разрушенное и разграбленное здание посольства, мрачные руины которого свидетельствовали о совершенном злодеянии. И не мог простить себе того, что не сумел помешать трагедии, не стоял с горсткой отважных плечом к плечу в их последние мгновения… Конечно, чтобы разогнать разъяренную толпу нужно было шахское войско, а у Самума было лишь несколько слуг, из которых лишь один был его доверенным лицом. Что могли сделать они? Лишь также погибнуть с честью… И при том – как же глупо! Как же – напрасно и бездарно!
За что? – этот вопрос неотступно терзал Самума. За этого евнуха, уж не нарочно ли подосланного накануне отъезда посла, чтобы спровоцировать бойню? Очень может быть… Аллаяр-хан, всегда ненавидевший Аббаса-Мирзу и желавший истребления династии Каджаров, жаждал возобновления войны с Россией и мог пойти для этого на самое изощренное и жестокое преступление.
Не в стороне были и англичане. Слишком много теряли они с утратой своего влияния в Персии, слишком нестерпимо для них было русское господство в этом регионе… Об этом, не стесняясь говорили, в окружении самого наследного принца. Так, один из адъютантов его, когда речь зашла об участии англичан в трагедии, рассказал притчу:
– Однажды чертова жена со своим ребенком сидела неподалеку от дороги в кустах. Вдруг показался путник с тяжелой ношей на спине и, поравнявшись с тем местом, где сидели черти, споткнулся о камень и упал. Поднимаясь, он с сердцем произнес: «Будь же ты, черт, проклят!» «Как люди несправедливы, – сказал чертенок, обращаясь к матери, – мы так далеко от камня, а все же виноваты». – «Молчи, – отвечала мать, – хотя мы и далеко, но хвост мой спрятан там, под камнем»… Вот так-то было и в деле с Грибоедовым: англичане хотя и жили в Тавризе, но хвост их все же был скрыт в русской миссии в Тегеране…
Сам Шах, по-видимому, нисколько не ожидал столь рокового исхода. Он желал лишь расправы над неверным Якубом, но никак не истребления русского посольства, ставящего под угрозу с таким трудом достигнутый мир. В Россию решено было спешно снарядить посольство, дабы загладить происшествие…
Однако, это происходило уже в отсутствие Самума, покинувшего Тегеран через несколько дней после бойни, чтобы никогда больше не возвращаться в него.
По дороге в Тифлис он ночевал под открытым небом, либо останавливался на ночлег в самых бедных лачугах, нисколько не привлекая к себе чьего-либо внимания.
Так было и на очередной остановке. Постояльцев у старика хозяина, кроме Самума и его слуги, было еще двое: юноша-кавказец и молодая красивая девушка с заплаканными глазами, простая одежда которой не могла обмануть наметанный взгляд, тотчас угадавший в ней представительницу знатной фамилии.
На рассвете следующего дня, ожидая пока починят треснувшую ось кибитки, Самум в одиночестве отправился на прогулку, привычно разминая память повторением заученных некогда отрывков из поэзии и драм различных народов. Внезапно до слуха его донеслись спорящие голоса, по которым он тотчас узнал вчерашнюю странную пару. Следуя природному любопытству, путешественник притаился за грозного вида деревом и стал слушать разговор.
– Послушай, Лаура, мы должны возвратиться в Тифлис! – горячо говорил юноша, в волнении расхаживая взад-вперед. – Я скажу, что, узнав о твоем похищении, бросился на поиски, нашел и спас тебя! Можешь не сомневаться, я придумаю превосходную легенду, которой поверят все!
– И тебя, наконец, признают героем…
– Это лучше, согласись, чем быть признанным дезертиром, которым я вот-вот стану!
– Тогда возвращайся один! А меня отвези туда, куда должен был! – властно потребовала Лаура.
– Ты сошла с ума! Что ты будешь делать одна в этой забытой Богом стороне? Как жить? И потом тебя, в конечном итоге, найдут! И что будет тогда?
– Теперь мне все равно. Если я вернусь в Тифлис, то меня вновь отдадут Джакели, а я лучше умру. Или уйду в монастырь… Кстати, Николоз, вот, решение, которое может помочь тебе. Отвези меня в какой-нибудь монастырь и езжай с Богом. А я приму постриг и напишу родителям.
– Я не позволю тебе сделать этого, – отрезал юноша, резко остановившись.
Подошедшему доложить о готовности кибитки слуге Самум сделал знак притаиться также. Он твердо решил дослушать до конца этот любопытный спор и вызнать историю двух беглецов.
– Но почему? – девушка нервно ломала пальцы. – Зачем мне жить теперь, Николоз? Если Константина больше нет? Зачем?! – на глазах ее блеснули слезы.
– А ты его хоронила?! – Николоз тряхнул Лауру за плечи. – Откуда ты знаешь, что он погиб? Он может быть в плену! И я узнал бы это наверное, если бы мог оставить тебя!
– Если бы это было так…
– Стратонов не такой человек, чтобы дать убить себя на дороге каким-то собакам! – воскликнул юноша.
При этих словах Самум вздрогнул и, обернувшись к слуге, проронил:
– Тебе не кажется, мой добрый Благоя, что нам придется несколько задержаться в этом благословенном краю, именуемом Кавказ?
Благоя пожал плечами, явно не обольщенный открывшейся перспективой.
– Ничего не поделаешь, друг мой, – тонко улыбнулся его хозяин. – Кисмет! – с этими словами он вышел из своего укрытия и, поклонившись испуганной его появлением паре, произнес:
– Прошу простить меня, что невольно услышал часть вашего разговора. Верно ли я расслышал или ветер подшутил надо мной: вы упомянули имя Константина Стратонова?
– Да, мы говорили о нем, – живо откликнулась девушка, лицу которой ее печаль придавала еще большую изысканность.
– О брате полковника Юрия Стратонова?
– Генерал-майора, – уточнил Николоз.
– Ах, не знал, что мой друг уже генерал. Впрочем, он уже давно заслужил это звание…
– Вы друг генерала? – недоверчиво спросил юноша, присматриваясь к непрошенному собеседнику.
– Да, когда-то мы были с ним очень близки… – чуть улыбнулся тот.
– Можем ли мы узнать ваше имя?
– Ах, да! Прошу простить, что не представился сразу. Можете называть меня Виктором.
– Вы русский? – вновь осведомился Николоз.
– Пожалуй, что так. А вы, как я понимаю, держите путь из Тифлиса?
– Именно. Я – корнет Николоз Алерциани, а это моя троюродная сестра Лаура.
– Так-так… – Виктор задумчиво поскреб тонкий нос. – Вот что, мои юные друзья, не буду скрывать: я неплохо разобрал ваш разговор, и теперь желал бы помочь вам и нашему общему другу Константину.
– Спасибо, сударь, но чем вы можете нам помочь? – спросил юноша.
– Очень многим, господин корнет, очень многим, – серьезно ответил Виктор. – Если Константин жив и находится в плену, то я вызволю его, даю вам слово.
– Благослови вас небо! – воскликнула Лаура.
– Насколько я мог понять, сударыня, вы бежали из родительского дома?
– Да, – призналась девушка. – Чтобы быть с тем, кого люблю.
– Вы отважны, если решились на такой шаг, а отвага должна вознаграждаться. Ваш брат прав – сейчас необходимо узнать, что стало с Константином. Прав он так же и в том, что не хочет становиться дезертиром.
– Что вы предлагаете? – спросила Лаура.
– Я предлагаю вам продолжить путешествие вместе со мной. Мы доберемся до Тифлиса, где господин корнет сможет предстать пред очи начальства, а вы, сударыня, найдете убежище у одного моего знакомца.
– Вы уверены, что он не узнает меня? Если это знатный человек, то…
– Не беспокойтесь. Вас никто не узнает, поскольку вы предстанете в образе восточной женщины, чье лицо будет скрыто покрывалом.
– Что же дальше?
– Дальше мы постараемся узнать о судьбе Константина. Кстати, не знаете ли вы, где теперь его брат?
– Генерал в Эривани вместе с Красовским. По крайней мере, так было, когда мы покидали Тифлис.
– Жаль, что он не в Тифлисе… – вздохнул Виктор. – Что ж, не суть важно. Если, не дай Бог, подтвердится худшее, то дальше я исполню любую вашу волю, сударыня.
– Мне останется лишь уйти в монастырь…
– Я отвезу вас в любой, какой вы изберете, – кивнул Виктор. – Если же, Константин жив, то я найду способ вызволить его. Вы же, сударыня, отправитесь в Петербург.
Лаура вздрогнула:
– Я? В Петербург? Но зачем?
– Затем, что ваши родители никогда не одобрят вашего выбора. Я нечасто бываю в Грузии, но древность и знатность вашего рода мне известны. Равно как известно и неказистое положение вашего избранника.
– Но что я буду делать в Петербурге?
– В Петербурге вас примет моя добрая знакомая, которая представит вас Государю.
– Государю?.. – окончательно растерялась Лаура, покосившись на не менее растерявшегося брата.
– Именно. Только он может благословить ваш союз с бывшим государственным преступником и тем узаконить его в глазах вашей семьи.
– Но почему вы уверены, что Царь их благословит? – усмехнулся Николоз.
– Потому что есть некая услуга, которую я имел честь оказать ему, и еще одна, которую оказать надеюсь. За них Его Величество вознаградит меня дарованием своего благословения. Вы, сударыня, отвезете в столицу ларец с некоторыми документами и письмами, который передадите даме, которая вас примет. Она же передаст их Императору, приобщив к тому мою нижайшую просьбу.
– Все, что вы говорите… несколько странно, – заметил Николоз. – Почему мы должны вам верить? Почему я должен вручить вам судьбу моей сестры?
– Возможно, потому, что не можете найти выхода лучше.
Юноша помолчал, а затем, взяв сестру под руку, спросил:
– Вы позволите поговорить нам наедине?
– Разумеется, – с легким поклоном отозвался Виктор.
Николоз и Лаура отправились к дому, а их нежданный покровитель сказал подошедшему слуге:
– Вот, увидишь, Благоя, они согласятся. И мы будем иметь сомнительное удовольствие снова выручать из передряги нашего старого приятеля, который, между прочим, еще не поблагодарил нас за прошлое спасение.
Благоя тяжело вздохнул.
– Не грусти, старина. Во всяком случае, нас ждет веселое дельце! После проклятого Тегерана это как нельзя более кстати. Оно вернет мне необходимую бодрость…
Молодые люди возвратились ровно через полчаса: еще более белая, чем прежде, девушка, и ее раскрасневшийся так, словно дым вот-вот пойдет у него из ушей, брат.
– Мы согласны на ваше предложение, сударь, – объявила Лаура. – Для меня нет ничего важнее жизни Константина, и я пойду на все, чтобы спасти его. Но Бог вам судья, если вы решили посмеяться над нашим несчастьем.
– Будьте уверены, сударыня, что я знал в жизни слишком много несчастий собственных, чтобы позволить себе посмеяться на чужим, – серьезно ответил Виктор.
Глава 15.
Кто не знал на Кавказе Артамона Лазаревича Чернова? Кто не наслышан был о лихих делах его? Кто не восхищался баснословными подвигами и удачей? Много знал Кавказ донецких гулебщиков, не один век состязались они с горцами в отваге и удальстве. Иной раз и в одиночку выезжал казак-богатырь на широкие просторы, ища иного богатыря-кочевника, дабы помериться с ним силушкой. Кто одолеет, того и добыча, кто одолеет того и зипун.
Целые легенды рассказывались по всей Кавказской линии о таких молодцах, и молодежь слушала восторженно и мечтала повторить славные дела героев. Слава, впрочем, не всегда бывала доброю. Бесстрашие и воинственность в иных казаках доходили до того, что сражения, опасности, кровь сделались для них необходимой потребностью. То было делом их души, их искусство, в котором они являли незаурядные таланты, черпали вдохновение, которым наслаждались. Оттого мирное время заставляло этих отчаянных людей совершать поступки, плохо совместимые с обычною моралью, долгом, порядочностью.
Иной русский казак шел с чеченцами в набег на русскую сторону, чтобы увезти лошадь, барана или украсть что-либо еще – лишь бы потешить свою страсть к опасности, к приключениям. Трофей был ничто для этих людей в сравнении с самим процессом набега…
К такому типу отчасти относился Чернов. Вот, только фигура эта была не в пример крупнее простого «гулебщика», а потому на Кавказе считались с ним без исключения все: как русское командование, доверявшее ему самые серьезные поручения, так и горцы, считавшие его колдуном, а то и самим шайтаном и боявшиеся его.
Простой казак Моздокского полка, уроженец Калиновской станицы, Артамон Лазаревич в многочисленных походах получил три золотые медали, чин есаула, Владимирский и Анненский кресты… Постоянно подвергая свою жизнь опасности, ранен был всего лишь однажды, и это укрепляло его славу знахаря, заговаривающего пули…
Страсть к опасным приключениям этот человек удовлетворял не набегами и грабежами, а освобождением русских пленников из далеких горных аулов. В ход в этом благородном деле шло все: сила, хитрость, деньги, которых Чернов не жалел. Сколько семей было обязано ему спасением своих родных, не помнил, вероятно, даже он сам.
Впрочем, бывали случаи, когда и Артамон Лазаревич участвовал совсем не в благовидных делах – например, в контрабанде. Это, однако же, не помешало Еромолову назначить его приставом в Чечню. Никто не знал этого непокорного и жестокого народа лучше Чернова. Он и язык чеченский знал лучше любого чеченца. Сами же чеченцы также прекрасно знали его и, зная, ненавидели и страшились.
Ермолов, впрочем, не сразу согласился на сомнительную кандидатуру, предложенную ему Грековым, заметив, что Чернов – мошенник. На это Греков весьма справедливо указал, что для таких мошенников, как чеченцы, и нужен именно такой мошенник, как Чернов, имеющий за Тереком множество как кунаков, так и кровомстителей.
Немало пришлось вынести бывшим затеречным кунанакам от нового пристава. Он легко изобличал любые их хитрости, за малейшие провинности накладывал на них огромные штрафы, а за подстрекательство к мятежу приказал живым закопать в землю представителя одного из влиятельных чеченских семейств. Чернову удалось даже вывести на чистую воду и предать суду могущественного князя Адиль-Гирея, убившего собственного отца и двоих братьев, чтобы унаследовать семейные владенья. В такое чудовищное злодеяние не сразу поверил даже Ермолов, но Чернов, как заправская ищейка, сумел доказать вину Гирея.
Этот случай вселил в чеченцев еще больший страх к приставу. Они суеверно боялись даже встречи с ним, даже прикосновения к нему.
К этому-то примечательному во всех отношениях человеку и направился за помощью Виктор. Зная волей случая контрабандные дела Артамона Лазаревича и его страсть к освобождению пленников, в успехе он не сомневался, даже несмотря на весьма почтенный возраст теперь уже бывшего пристава.
Чернов сидел на крыльце своего дома, закутавшись в бурку, и курил трубку, когда Виктор остановил коня у его двора.
– Ба! – протянул старик. – Никак Самум посетил нас не в свой сезон! – и, не поднимаясь, сделал рукой знак входить.
Привязав коня, Виктор подошел к Чернову:
– Здорово ли живешь, Артамон Лазаревич?
– Бывало и поздоровее, – усмехнулся бывший пристав. – А ты? Все странствуешь?
– Приходится.
Чернов надсадно закашлял:
– Садись, в ногах правды нет. Небось, не о здравии моем справиться прибыл?
– Ты, как всегда, прав, – Виктор уселся подле старика. – Нужно мне человечка сыскать, коли жив он еще.
– Коли жив, так почто ж не сыскать? Сыщем. Кто таков?
– Унтер-офицер Константин Стратонов. Он был похищен несколько недель тому…
Артамон Лазаревич рассмеялся, махнул рукой:
– Не продолжай! Это та бедовая голова, что дочурку Алерциани украсть хотел, а вместо того сам к чеченцам угодил?
– Про все, гляжу я, тебе ведомо в этих краях!
– Глаз мой не так остер, как прежде, Самум. Но порох в пороховницах еще есть. К тому же… Узнать о глупости двух мальчишек – задача не великой сложности.
– И как же ты узнал?
Чернов лукаво прищурился:
– Кунаки их, которым они заплатили, мне хорошо знакомы. От них и знаю. А еще знаю, что это они чеченцев на девчонку навели, да только те не ждали, что твой приятель окажется знатным воином. Думали они захватить княжну и взять за нее большой выкуп, а вместо этого взяли этого нищеброда, который годен разве что в рабы.
– Ты знаешь, где его держат?
– Сперва у Делим-хана был, потом тот его продал Магоме, а Магома – Ахмат-Гирею. У него теперь твой приятель и обретается.
– Почему же ты не сообщил об этом командованию? – спросил Виктор.
– Потому что с некоторых пор командование не утруждает себя спрашивать меня о чем-либо. А я слишком стар, чтобы утруждать себя визитами. Признаться, я удивлен, что именно ты приехал искать этого беднягу. Я ожидал его брата.
– Напрасно, – ответил Виктор. – Генерал Стратонов сейчас на турецком фронте. Я узнал об этом, будучи проездом в Тифлисе. В противном случае, мы приехали бы вместе. А, быть может, он опередил бы меня.
– Стало быть, ты хочешь выручить этого юнца?
– Разумеется. Он брат моего друга.
– Святое дело! – кивнул Чернов.
– Ты поможешь мне?
Глаза старика хитро блеснули:
– Ты знаешь мои слабости, Самум. Правда, как ты можешь видеть, годы не слишком благосклонны ко мне. Но можешь не сомневаться, я сделаю все, чтобы помочь тебе. Если ты хочешь выкупить пленника…
– Выкуп – это крайность, – отозвался Виктор. – Никогда нельзя поощрять шакалов. Им нужно задавать хорошую трепку!
– Прекрасные слова! Мне они по сердцу! – воскликнул Чернов. – В таком случае, есть другой способ.
– Какой?
– У Ахмат-Гирея есть единственный и любимый сын Салман. Если захватить его, то можно стребовать с отца не только твоего приятеля, но и других пленников.
– Идея мне нравится. И, думаю, я знаю, как это сделать.
– Не сомневаюсь, Самум. Твоя голова всегда полна отменных идей.
– Ты сможешь пустить слух о караване некоего богатого восточного путешественника, известного под именем Самум, который проедет в этих краях? О том, что при себе он имеет ларец с драгоценностями, среди которых дары самого Шаха?
– Хочешь выманить зверей из логова обещанием большой добычи?
– Нам нужно, чтобы об этом узнал Ахмат-Гирей, и чтобы его люди напали на караван, который, конечно же, мы отправим в нужное место.
– И чтобы напал не кто-нибудь, а сын Ахмата?
– Разумеется!
– В таком случае, слух должен дойти именно до его ушей. Салман горд и жаден. Он непременно захочет показать отцу и всем другим свою удаль и удачливость.
– Ты сможешь устроить это?
Чернов улыбнулся:
– У меня достаточно кунаков для такого дела. А людей, которые заменят собой кладь в твоем караване, ты найдешь сам? Или доверишь это мне?
– Никто лучше тебя не знает здешних людей, так что я всецело доверяю тебе, – ответил Виктор, радуясь тому, как с полуслова понял старый казак его план. – Обещай им награду, какую сочтешь нужной.
– Ты всегда был щедр, Самум! Поедешь ли ты сам в этом караване?
– Разумеется. Ты же знаешь, я предпочитаю следить за исполнением моих приказов. Так надежнее.
– И опаснее.
– Ты также знаешь, что опасности меня не страшат. Я фаталист.
– И тем ты и люб мне, Самум, – кивнул Артамон Лазаревич. – Жаль, что годы не позволяют мне быть с тобою в этом деле. Могу ли я еще что-то сделать для тебя?
– Можешь, – кивнул Виктор. – Я бы хотел, чтобы ты дал кров моей спутнице до той поры, пока я не устрою ее безопасное отбытие в Россию.
– Могу я узнать, кто это загадочная спутница?
– Она бы предпочла сохранить инкогнито.
– Что ж, она сохранит его, даже если я уже догадываюсь, кого ты хочешь укрыть в моем доме.
– Иногда мне кажется, что ты и впрямь колдун.
– В таком случае кто же ты сам? – Чернов вновь закашлялся. – Иди, Самум. Ты можешь привезти ко мне свою женщину нынешней ночью, чтобы не привлечь внимания чужих глаз. Никто не увидит ее здесь и не узнает о ней.
– Благодарю тебя, Артамон Лазаревич! Я не сомневался, что ты не откажешь мне в помощи! – сказал Виктор и, простившись со стариком до ночи, покинул его.
Глава 16.
Летние «народные» маскарады в Александрии стали доброй традицией – без них уже невозможно было представить дня рождения Императрицы, обожавшей такие праздники. Маскарады любил и сам Николай. Если балы были для него ничем иным, как тягостным исполнением долга, то веселые маскарады, на которых собиралась самая разнообразная публика, и исчезали грани между сословиями, чинами – истинным удовольствием. Здесь простая горничная, скрывшись под маской, могла свободно заговорить с самим Царем. Такая демократичность с одной стороны развлекала Николая, любившего веселые шутки и внимание хорошеньких женщин. С другой – давала ему возможность узнать от «масок» много любопытных вещей, в том числе таких, какие весьма полезно знать монарху, дабы помочь нуждающимся, восстановить попранную справедливость, призвать к ответу виновных. Эту возможность ценил он особенно, выступая в роли Гаруна аль-Рашида.
Впрочем, от Гаруна Николая отличало то, что в России переряжены на маскарадах были лишь дамы, мужчины же обязаны были носить домино (офицеры – мундир без шпаги) и не скрывать лиц под масками. Посему Государь оставался Государем и на маскараде, а его тайными информаторами выступали исключительно женщины.
Простой люд, допускаемый в царские чертоги, испытывал сперва некоторую робость. Простые мещане, мужики могли созерцать убранство дворца, вкушать разнообразные угощения, недостатка в которых не было, а, главное, видеть совсем рядом своего Царя и Царицу. Последняя часто бывала одета в русский сарафан, очень шедший ей, и считала весьма важным такой непосредственный контакт с народом.
Конечно, не обходилось и без курьезов. То слишком напирала толпа на буфеты, то тащили угощения со стола, что, конечно, было весьма извинимо. Однажды кто-то пытался отломить «на память» арматурное украшение. Впрочем, что желать от простолюдинов, если апельсин или конфетку в подарок для детей с царского стола норовили унести со стола даже сановники?
Подобные мелочи доставляли немало забот дворцовой администрации, но нисколько не беспокоили Николая, равно как и его жену.
Нынешнее 31-е день рождения Александры Федоровны отмечалось, как и всегда. Народ начал собираться в Александрии уже с утра, запруживая парк. Увенчаться торжество должно было праздничным ужином. А предшествовали ему танцы, которые так любила Императрица.
Николай пребывал в добром расположении духа. На Турецком фронте его армия одерживала победу за победой: Карс, Баязет, Варна, Силистрия, Эрзерум – крепость за крепостью сдавались ей, и совсем близко виделась окончательная победа над вероломными турками. В мае Император был коронован в Варшаве, а затем посетил Берлин, где встретился с королем Фридрихом-Вильгельмом. Это путешествие до некоторой степени утомило его, и он рад был вновь оказаться дома, в кругу семьи.
Публика все пребывала, и Николай с любопытством разглядывал наряды дам, фантазия которых в этой области не знает пределов. Одни, подражая Императрице, отдавали предпочтение русскому стилю, другие блистали нарядами средневековой Европы, третьи манили к себе пышностью востока. Иные, впрочем, ограничивались обычным домино и масками… Некоторые, разряженные особенно броско, время от времени подходили к Императору.
– А я тебя знаю! – таинственно шепнула одна.
– И я тебя, – усмехнулся Николай.
– В самом деле? И кто же я? – завлекательно улыбнулась «маска».
– Ты дура, – отозвался он. – Прачка или горничная…
Незадачливая кокетка поспешила затеряться в толпе, а Николай заметил стоящую неподалеку даму в черном платье и длинном до пола, широком фиолетовом плаще, концы которого были таким образом прикреплены к манжетам, что, когда женщина распахивала руки, то плащ походил на крылья летучей мыши. Лицо дамы было скрыто не только полумаской, но и капюшоном. Незнакомка некоторое время наблюдала за Императором, а затем подошла к нему и, чуть поклонившись, сказала глуховатым голосом:
– Прошу Ваше Величество простить меня, что в праздничный день должна потревожить вас, но я имею к вам важное дело.
Голос показался Николаю смутно знакомым, но, прежде чем он успел ответить, незнакомка сложила ладони так, что стал заметен украшающий ее руку перстень с оригинальной печаткой, которая ответила на все вопросы Императора.
– Кажется, мы уже с вами встречались три с половиной года назад, не так ли? – спросил он.
– Да, Ваше Величество. И надеюсь, та встреча не была для вас бесполезна.
– Более чем, – согласился Николай.
– Благоволит ли Ваше Величество пройти со мной в одну из комнат?
Император кивнул и последовал за посланницей. Оставшись наедине с ним, она сняла капюшон, оставшись, впрочем, в маске, и протянула Николаю аккуратно сложенную стопку бумаг. Император нахмурился:
– Только не говорите, что у нас успел созреть очередной заговор!
«Маска» улыбнулась:
– Нет-нет, здесь дело иного рода. Известный вам человек сейчас на востоке, и в этих письмах содержатся некоторые сведения относительно положения дел в Персии, Турции и на Кавказе.
– Полагаю, Персия еще долго будет помнить силу нашего оружия. Как, впрочем, и Турция.
– Эта так, Ваше Величество. Но дела внешние иногда слишком отвлекают внимание и силы от дел внутренних.
– То есть?
– Кавказ, Ваше Величество. Сейчас он кажется спокойным, но спокойствие это столь же обманчиво, сколь было обманчиво перед восстанием Бей-Булата. И даже хуже. Есть некое опаснейшее учение, которое проникает в среду горских племен. Оно рождено фанатиками и подобно искрам, от которых легко может вспыхнуть всегда сухой порох Кавказа.
– Паскевич ничего не писал мне об этом.
– Потому что искры пока еще ничтожны, и граф, сосредоточившись на внешних войнах и еще недостаточно успев вникнуть в положение края, в психологию его племен, просто не замечает их. И это естественно.
– А ваш вездесущий друг, как всегда, зрит на сто футов вглубь земли?
– Разве информация, которую он предоставил вам в прошлый раз, была неверна?
Николай развел руками:
– Я уже говорил ему, что всегда буду ему обязан.
– Он не забыл этого, Ваше Величество, и имеет к вам просьбу.
– Что я могу для него сделать?
– Не для него, а для двух молодых людей, очень любящих друг друга
– У нашего друга приступ романтизма? – чуть улыбнулся Император.
– История и впрямь весьма романтична. При обороне Шуши известный вам Константин Стратонов…
– Боже мой, наш общий друг случайно не в дядьки определил себя этому молодцу?
– У него более широкий круг подопечных, – отозвалась «маска». – Так вот этот молодой человек спас от гибели княжну Лауру Алерциани, а также ее тетку.
– Достойный поступок.
– Вне всякого сомнения. Они с княжной поклялись друг другу в верности, но…
– Не продолжайте. Я догадываюсь, что столь знатная семья не воспылала желанием обрести такого зятя.
– Семья эта к тому же бедна, а потому девушку хотели насильно выдать замуж за старого князя Джакели.
– И что же она?
– Ее родственник помог ей бежать.
– Действительно, история все больше похожа на роман.
– Она еще больше напомнит вам роман, когда вы узнаете, что унтер-офицер Стратонов сейчас находится в плену у черкесов.
– Час от часу не легче!
– А пославший меня делает все для его освобождения.
– В таком случае, я спокоен за судьбу Константина. А что же девушка?
– Одно мгновение, Ваше Величество, – «маска» дважды хлопнула в ладоши, и из смежной комнаты появилась одетая в восточные одежды женщина, лицо которой скрывала вуаль.
– Вы можете снять вуаль, машер, – обратилась к ней незнакомка.
Вошедшая послушалась, и перед Государем предстала необычайной красоты девушка, лицо которой было весьма бледно, а в глазах читался испуг.
– Княжна Лаура Алерциани, насколько я понимаю? – осведомился Николай.
Девушка присела в реверансе, вымолвила едва слышно:
– Да, Ваше Величество…
– Княжна оказалась в Петербурге, благодаря известному вам человеку, – пояснила «маска».
– Я догадался об этом. И что же он хочет от меня?
– Лишь ваше одобрение и благословение этого союза может стать для ее семьи убедительным доводом в пользу оного. Эта девушка бежала из родительского дома, скиталась по Грузии, едва не оказалась в плену, наконец, достигла Петербурга…
– Не продолжайте! – Николай поднял руку. – Глаза этой прекрасной беглянки говорят мне больше всех ваших слов, – подойдя к Лауре, он мягко пожал ее ледяные пальцы. – Успокойтесь, милое дитя. И не дрожите так. Обещаю, что никакой обиды вам сделано не будет, а ваше будущее будет обеспечено.
Девушка хотела броситься перед ним на колени, но Николай удержал ее:
– Благодарить вы будете своего ходатая, коему я имел неосторожность остаться весьма должен. Теперь оставьте нас с этой дамой и ни о чем не тревожьтесь.
Голос Императора звучал вкрадчиво и ласково, и Лаура немного ободрилась. Когда она вышла в соседнюю комнату, Николай обернулся к ее представительнице:
– Может быть, вы, наконец, снимете маску, сударыня? Я все равно успел узнать нас. Вы наперсница княгини Борецкой? Некая Эжени, о которой по всему Петербургу ходят слухи?
Эжени послушно сняла маску:
– Вы не ошиблись, Ваше Величество. Правда, слухи… весьма преувеличены.
– Я был в этом уверен до сего дня. Теперь же, зная, кто за вами стоит, начинаю в этом сомневаться. Курский знает, что мне не по душе его игра с семейством Борецких. Знайте и вы об этом.
– Я знаю об этом, Ваше Величество.
– Но вам обоим нет до этого дела, – усмехнулся Император.
– Я… разделяю ваше мнение… – вымолвила Эжени. – Но я не могу подвести того, кому обещала помогать.
– Понимаю… А я не могу не выполнить просьбы того, кому столь обязан уже и, возможно, – Николай кивнул на стопку писем, – еще буду.
– Вы поможете княжне?
– Она образована, обучена светским манерам?
– Самым лучшим образом, Ваше Величество.
– В таком случае, я позабочусь о том, чтобы она стала фрейлиной моей жены. Константин же, когда выслужит офицерский чин, сможет жениться на ней. Пока же будет считаться, что они помолвлены. Ко дню свадьбы я выделю ей хорошее приданое, которое, полагаю, успокоит ее родителей. То, как объяснить им произошедшее, дело ваше.
– Можете не сомневаться, что я сделаю это лучшим образом.
– Не сомневаюсь! – отозвался Николай. – Всего лучше будет, если ее родители приедут в Петербург и сами убедятся, что с их дочерью все благополучно. Любовь и верность – это прекрасно, но долга перед родителями еще никто не отменял. А с ними ваша протеже повела себя весьма дурно.
– Поверьте, Ваше Величество, у Лауры не было иного выхода.
– А что мне остается делать, как ни верить вашим словам и глазам этой девушки? – махнул рукой Николай. – Ступайте же теперь обе обратно в зал. И не уходите слишком поспешно, – он чуть улыбнулся. – Передайте вашей протеже, что она осталась должна мне первый танец.
– Для нее это будет великая честь, – откликнулась Эжени и, сделав глубокий реверанс, скрылась вслед за своей подопечной.
Убрав письма, чтением которых он решил заняться перед сном, Император возвратился в зал, где тотчас заметил обеих дам, с которыми только что расстался. Как раз объявили «Па де катр», и Николай предложил руку оробевшей Лауре. Эжени, как оказалось, не преувеличила достоинств своей протеже. Танцевала она столь же прекрасно, как и говорила на русском и французском языках. Общество юной княжны, постепенно ожившей от первоначального испуга, сгладило легкое раздражение Императора от нежданной деловой беседы и вынужденности участвовать в весьма странном, мягко говоря, предприятии. «В сущности, такой жемчужине, и в самом деле, нечего делать в Тифлисе, – подумал Николай. – Здесь она затмит всех придворных красавиц, исключая разве что мадмуазель Россет. Пусть же у нее будет лучшее будущее, чем то, что ей готовили. А уж, выходить ли замуж за этого мальчишку или нет, решать ей. Пока он получит офицерский чин, время подумать у нее будет. По правде говоря, достойна она несравненно лучшей партии, и, если она изменит свое решение, я буду лишь рад за нее. Если же нет, то слово свое я сдержу. Бедствовать им не придется…»
Глава 17.
Матвей Шилов уже несколько месяцев кочевал из аула в аул. Сбывали его чеченцы друг другу, а от своих выкуп не спешил прийти. Да и то сказать, простой маркитант из крепостного звания кому надобен, кроме жены да детей? По ним тосковал Матвей – как-никак два года не видались. И когда теперь свидеться удастся! И удастся ли? А, в общем рассудить, так не для того ли до Кавказа и подался, чтобы в плену очутиться? Что ж поделать, коли никаким иным образом крепостному человеку в вольные не выбиться, а помещик да управитель поедом едят – спасу нет?
Чеченцы, хоть дики и жестоки, но и с ними ужиться можно. У прошлых хозяев даже очень неплохо Шилов жил. Хозяйка его жалела, самолично ужин приносила – и не как смердящему псу, а как человеку. Матвей и теперь благодарен ей был. Да и мужу ее, Мустафе, тоже. Хоть и басурманской веры, а человек. Понапрасну обид не чинил. А как не оценить это мужику, у которого вся жизнь, почитай, из одних сплошных обид и состояла?
Родился Матвей близ Арзамаса. Отец его был человеком грамотным, зажиточным и в деревне уважаемым. Занимался старший Шилов торговлей скотом, перегоняя скот из Симбирской и Оренбургской губерний. С юных лет приобщен был и Матвей к этому промыслу. Ох, и навидался же всего в те поры! Уральские степи, кочевые племена с их особыми нравами и обычаями, разбойники, промышлявшие на торговых путях… К ним однажды и сам Матвей чуть в лапы не угодил, когда уже без отца перегонял очередное стадо.
Отец в ту пору должен был сосредоточиться на исполнении обязанностей бурмистра. Очень тяготили они старика. Иной раз, когда оброк нужно было срочно подать, а собранных денег не доставало, так недостачу покрывал он из своих средств, одалживая их обществу. Однако, оброк становился все больше. Еще и барыня, побывав с мужем в его владениях, подлила масла в огонь. Крестьяне вышли встречать их в праздничных одеждах. Женщины из зажиточных семейств надели и жемчуг. Посмотрела барыня на такое великолепие, и решила, что крестьяне весьма богаты и не затруднятся платить оброк вдвое больший прежнего.
Вот, только не ведали баре жизни мужицкой. Зажиточным семьям и впрямь возможно было такой оброк понести, а прочим как? Никак не избежать недоимок было – а за них не миновать грозной кары! Насилу умолил отец тогда снизить оброк, а с тем стал с бурмистров на покой проситься, не желая меж своими односельчанами за мытаря прослыть.
Вот, только не принял той отставки барин, а пригрозил старика в Сибирь услать, а Матвея в солдаты, если не станет должности своей исправлять.
Что было делать? Только исполнять господскую волю. Отец и исполнял, пока не слег, сраженный гнусными обвинениями в якобы присвоении части собранных денег, которые воздвиг против него управитель. Когда старик умирал, то упредил сына, что отныне перекинется и на него эта злоба и неправда людская. Так оно и вышло.
Стал управитель на всяком шагу Матвею козни чинить. До того дошло, что на месяц под арест определил по оговору. И хотя дело было разобрано, и обвинения сняты, а немало пошатнул этот месяц шиловское хозяйство. Нашел он его, из острога выйдя, частично разворованным, разоренным. И только-только восстанавливать начал, как потребовал барин оброк. А где ж на него деньги взять было?
Поехал Шилов тогда в Петербург, где барин жил, пал в ноги управителю, прося рассмотреть его дело и, принимая во внимание разорение в силу оговора, освободить его сей год от уплаты оброка. И хотя управитель-шельма обещал похлопотать, но Матвей не поверил этим обещаниям. И правильно! Стоило лишь возвратиться восвояси, как новые наветы пошли, и понял Шилов, что житья ему отныне в отчем доме не будет. Оставалось одно – бежать.
Выхлопотав паспорт для поездки по торговым делам в южные губернии, отправился Матвей вместе с молодой женой сперва к двоюродному брату в Херсон, затем в Одессу. Здесь удалось выправить ему другой паспорт, и с ним перебрался он в Бессарабию.
В Бессарабии Шилов завел свою лавку, ездил по всему южному краю, занимаясь привычным торговым делом. Дело спорилось у сметливого и грамотного мужика, и все было бы хорошо, кабы не шли по его следу барские ищейки. А они шли, и не знал Матвей ни мгновения покоя.
А тут еще не иначе как лукавый намутил: сошелся Шилов в Кизляре с одним военным интендантом – как будто хороший человек показался ему, и сделку хорошую заключили. Да, вот, только обвинил тот интендант Матвея в присвоении казенных средств, кои сам и присвоил с подручным своим. Да так ловко, шельмы, подлость эту обставили, что все взятки гладки!
Так во второй раз в жизни угодил Шилов в острог. А уж там и отыскали его ищейки барские, уговаривали возвратиться, обещали прощение… Да уж только сыт был Матвей обещаниями, сказал, что уж лучше в Сибирь на поселение отправится, чем назад к барину.
Суд, однако же, иначе рассудил и водворил Шилова к хозяину вместе с женой и двумя народившимися ребятишками. Какое-то время прожил Матвей в родных краях, стараясь быть тише воды, ниже травы. Вскоре получил он возможность вновь ездить по торговым делам, получая для того временный паспорт.
Как раз в те поры и вычитал Шилов, что крепостные, которые в плену у черкесов были, освобождаются от зависимости указом Государевым. И загорелась душа, вольной жизни жаждущая. Выхлопотав очередной паспорт, отправился Матвей на юг. Здесь оставались у него знакомцы среди евреев-факторов. К одному из них, Осипу Наумовичу, и нанялся Шилов, добравшись до Моздока.
Осип Наумович ценил расторопного и знающего работника и посылал его с самыми важными и сложными поручениями в разные станицы и аулы. Одна такая срочная экспедиция, предпринятая поздним вечером, и закончилась для Матвея пленом, в котором пребывал он уже полгода.
Новый хозяин, к которому попал он недавно, Ахмат-Гирей был человеком знатным. Но с пленниками обращались в его вотчине куда хуже, чем у небогатого Мустафы. Зато здесь судьба свела Матвея с товарищем по несчастью. То-то радость была – за полгода впервые христианскую душу увидеть! На русском языке поговорить! Русского человека к сердцу прижать!
А соузник-то к тому оказался из благородных! Разжалованный офицер. И разжалованный – за выступление супротив Государя. Сам барин крепостных не имел и всячески крепостничество порицал, и оттого еще теснее сдружились два пленника. Уважая благородное сословие и сострадая болезни своего соузника, вызванной многочисленными ранами, полученными в сражении с чеченцами, Матвей стал служить не только хозяевам, но и ему, став чем-то вроде денщика.
Благодаря его заботам, Константин Александрович поправлялся быстро. Да и крепок он был – многим молодцам на зависть. Иной бы от таких поранений, пожалуй, и не поднялся бы уже. Одному только шибко печалился барин – ничего не знал он о своей зазнобе, которую и защищал от разбойников, когда попал в плен.
История Константина Александровича немало тронула Матвея. Не меньше и барин был потрясен печальной повестью шиловских злоключений.
– Видит Бог, – говорил он, – коли на свободу вырвусь, то и тебя освобожу. И все сделаю, чтобы ты вольным человеком стал!
Матвей благодарил, конечно, сердобольного барина, а про себя улыбался грустно: чем этот осужденный заговорщик, не имеющий за душой ничего, кроме честной души и дворянского титула, может ему помочь? Правда, у него есть брат-генерал, который дружен с самим Государем… Но генералам – какое дело до бед простого человека?
Так рассуждал сам с собой Матвей до того дня, как в ауле случился большой переполох. Отряд чеченцев во главе с сыном Ахмат-Гирея Салманом совершил неудачное нападение на караван какого-то знатного путешественника. Многие нападавшие были изрублены, а Салман попал в плен.
Немало порадовался Матвей этой новости. Хозяйский сын был жесток и своенравен и мог избить пленника просто так, безо всякой провинности, для своего удовольствия. Шилов несколько раз попадал ему под горячую руку и через то лишился пяти зубов.
Ахмат-Гирей был в большом горе, и о пленниках три дня никто не вспоминал. Константин Александрович весьма печалился, что из-за своих ран не может использовать столь удобного времени для побега. А Матвей решал в своей душе трудную задачу. Сумятица в ауле давала ему шанс сбежать. Но бежать одному и бросить товарища по несчастью, на котором и без того ожесточенные чеченцы непременно выместят злость – совсем не христианское дело. И на себе не унесешь его – верный способ пропасть обоим. И остаться – может, заветный шанс упустить… Вспомнилась жена с ребятишками, что за тысячи верст отсюда ждала его, ничего о нем не ведая. Каково-то ей?
Все же не позволила совесть Шилову друга оставить. А день спустя снова было в ауле какое-то оживление, но так и не разведал Матвей, что его вызвало. Ночью же их с Константином Александровичем неожиданно разбудили, обоим завязали глаза и, усадив верхом на лошадей со связанными руками, куда-то повезли. Терялся Шилов в догадках. Коли новый хозяин, то зачем же в ночь увозить? Прежде куда проще все устраивалось… По крайней мере, когда бы собрались убить, то не везли бы так далеко и обходились бы с куда меньшим почтением.
Не менее озадачен происходящим был и Константин. Вдобавок ему было еще тяжеловато держаться на лошади, так как раны, полученные в схватке с чеченцами, не успели зажить. Ехали, впрочем, небыстро, а потому дорога заняла порядочно времени. Наконец лошади остановились, и разом заговорили несколько голосов. Поскольку говорили они на чеченском, Константин не мог понять, о чем идет речь. А Матвея, отчасти успевшего узнать язык своих временных хозяев, держали от него на расстоянии, так что узники не могли переговариваться друг с другом.
Разговор продолжался недолго, а затем стук копыт возвестил Константину, что его пленители ускакали прочь.
– Развяжите их, – раздался повелительный голос, который отчего-то показался Стратонову знакомым.
Мгновение, и руки его были свободны, и он смог, наконец, сорвать с глаз ненавистную повязку. Прямо перед собой он увидел десять хорошо вооруженных всадников. Все они были в масках, кроме одного седобородого старца, с хитрым прищуром рассматривавшего освобожденных пленников. Один из всадников в богатой черкеске, бурке и белой папахе, бывший, по-видимому, командиром отряда, подъехал к Константину и, сняв маску, скрывавшую его лицо до самых глаз, усмехнулся:
– Кажется, сударь, что судьба назначила меня опекать вас!
– Кавалерович! – вспыхнул Константин, дернув рукой в поисках сабли и запоздало вспомнив, что он безоружен.
«Поляк» рассмеялся:
– Потише-потише! Я ведь, кажется, уже имел честь говорить вам, что не стану драться с вами ни при каких обстоятельствах.
– Предатель! – зло бросил Константин.
– И это ваша благодарность за то, что я спас вас из лап Ахмат-Гирея! Сударь, должен вам заметить, что вы чертовски скверно воспитаны.
– Мне очень жаль, что я оказался обязанным своим освобождением вам!
– Может быть, вы предпочтете ради принципа возвратиться к Ахмат-Гирею?
– Нет уж! Его обществом я сыт еще более, чем вашим!
– Это радует, – вновь рассмеялся «поляк». – Кстати, мой юный друг, оставьте «Кавалеровича» истории. Можете называть меня Курским.
– И вас больше имен, чем окрасов у рептилии!
– И то верно. Что ж, можете именовать меня так, как вам нравится. Мне, в сущности, все равно. Тем более, что, как я надеюсь, в ближайшем будущем мы будем избавлены от общества друг друга.
– Был бы этому весьма рад!
– Не сомневаюсь. Однако, сперва я должен выполнить поручение, данное мне одной особой, которой я дал слово чести вернуть ей вас живым и невредимым.
Константин вздрогнул:
– О ком вы?
«Кавалерович», не говоря ни слова, протянул ему запечатанное письмо, и, взяв факел у одного из своих спутников, любезно посветил, дабы недавний пленник мог ознакомиться с посланием. Письмо было от Лауры. Прочтя его в страшном волнении, Константин изумленно взглянул на своего спасителя:
– Вы дьявол!
– С вашей избранницей гораздо приятнее иметь дело. Она в отличие от вас считает меня ангелом, посланным ей небом, – усмехнулся «поляк». – И в данной ситуации это кажется мне более справедливым.
– Послушайте… Курский…
– Прекрасно, вы, наконец, изволили оставить в покое «Кавалеровича»…
– Если вы спасли Лауру, то забудьте все то, что я говорил вам. Эта такая услуга, рядом с которой все прочее – ничто. И отныне я всегда буду вам обязан, – вымолвил Константин.
– Слова не мальчика, но мужа, – кивнул Курский. – Теперь же слушайте и запоминайте. Узнав об отъезде Лауры, вы поспешили следом за ней, и натолкнулись на увозивших ее похитителей. Вы вступили с ними в бой и освободили Лауру, которой удалось ускакать прочь, тогда как вы попали в плен, получив тяжелые ранения. Из плена вас освободил всем известный в этих краях Артамон Лазаревич Чернов, авторитет которого, несомненно, укрепит вашу версию случившегося.
Седобородый старец при этом согласно кивнул.
– Что стало с княжной, вы не знаете и полны страха за ее участь. Постарайтесь изобразить это достаточно убедительно. Вас, впрочем, скоро успокоят известием о том, что княжна находится в Петербурге, куда отвез ее некий богатый путешественник, нашедший ее на дороге без чувств. Поскольку девушка долго оставалась без памяти, он не мог узнать ее имени и отвез ее в свой дом в столице, где она была вылечена, после чего смогла написать убитым горем родителям, которые тотчас выехали к ней. Теперь все они в столице, и юная княжна волею судьбы будет представлена ко двору и получит шифр фрейлины…
Курский говорил медленно, с расстановкой, точно воочию видел все это. Глаза его при этом смотрели неподвижно сквозь собеседника в неведомую даль.
– Лаура станет фрейлиной?!
– Непременно. Такова воля Государя, который готов благословить ваш брак после того, как вы возвратите себе офицерское достоинство, и снабдить невесту хорошим приданым, дабы ее родня не слишком печалилась о Джакели.
– С чего вдруг Государю так заботиться о нас? – нахмурился Константин.
– Подумайте, сударь. Ведь вы же хорошо знаете, сколь многим Государь обязан некому «поляку», – Курский вновь насмешливо улыбнулся.
– Проклятье… – выругался Константин. – Опять вы! Все вы… Везде вы…
– Не огорчайтесь! Если бы я был не все и не везде, то вы бы теперь сидели в яме аула Ахмат-Гирея, а ваша прекрасная дама, в лучшем случае, была бы пострижена в монахини или стала женой Джакели. Утешайтесь же этим.
– Я благодарю вас за вашу… помощь! – скрепя сердце, сказал Константин.
– Вот и отлично, – кивнул Курский. – А теперь мы расстанемся с вами. Вы с вашим товарищем по несчастью отправитесь вместе с Артамоном Лазаревичем, который позаботится о вас обоих должным образом. А меня ждут важные дела, которые мне и без того пришлось отложить ради удовольствия услышать благодарность из ваших уст. Прощайте, сударь! И постарайтесь не задолжать мне в третий раз! – с этими словами он развернул коня и, простившись с Черновым, помчался прочь, сопровождаемый одним из бывших с ним всадников.
– Теперь можно ехать, – объявил Артамон Лазаревич и предупредил своих людей. – Шибко не гнать. Г-н унтер-офицер, как я вижу, серьезно ранен.
Отряд тронулся в путь. Впереди ехал сам Чернов, следом освобожденные пленники, а позади них остальные семеро всадников.
– Что это за небывалый человек такой? – шепотом спросил Константина разбираемый любопытством Матвей.
– Не знаю, как и сказать… Если скажу, что это доносчик, из-за которого я и мои друзья были разоблачены, то окажусь неблагодарной свиньей в отношении его и Государя. А потому скажу, что это человек, которому я уже дважды обязан жизнью и свободой. А главное обязан еще и жизнью и свободой женщины, которую люблю.
– Да, ваше благородие, за такие одолжения вам этому человеку по гроб жизни рабом быть, – заметил Матвей.
– Не хотелось бы мне быть его рабом… – покачал головой Константин. – Слишком странные игры он ведет, и слишком высокие в них ставки.
Остальной путь они проделали молча. Константин был измучен дорогой и едва держался в седле. Думал же он вовсе не о Курском-Кавалеровиче, а о Лауре, которая, с одной стороны, была теперь так далеко от него, а с другой – перестала, благодаря благословению Государя, быть недосягаемой. И когда-то удастся свидеться теперь?.. Но важно ли это, когда до сего дня он не знал даже главного – жива ли она! И что может быть важнее этого знания? Все прочее преодолимо, и он будет служить так, что очень скоро возвратит на свои плечи офицерские эполеты, и отправится в Петербург!
Глава 18.
Блестяще началось новое царствование! Вслед за персами турки преклонились перед могуществом русского Царя. Турецкая кампания завершилась Адрианопольским миром, по которому Россия получала Анапу и Поти, свободную навигацию в Черноморских проливах и контрибуцию, Сербия, Молдавия и Валахия – подтверждение своих автономий, Турция же обязана была ликвидировать свои крепости на Дунае…
Великолепные победы способствовали подъему русского духа, патриотизма русского общества. Лиры поэтов пели славу русскому воинству и самому Государю. Тем не менее, генерал Стратонов возвращался в столицу с тяжелым сердцем.
С Кавказа он принужден был уехать, испросив Высочайшего разрешения на перевод на основной театр новой войны. На этот шаг Юрий пошел из-за совершенной невозможности служить под началом Паскевича. Таким же образом поступил и Красовский, коему граф так и не простил Эчмиадзина. Впрочем, на Турецком фронте им пришлось воевать порознь.
Зато новая кампания вновь свела Стратонова с Бенкендорфом и Мадатовым – свела, к несчастью, в последний раз, чтобы разлучить навсегда. Потеря этих двух блестящих военачальников и были той кладью, что мешала Юрию вполне насладиться триумфом русского оружия. И ведь оба они пали не в бою, а от болезней, так нежданно и беспощадно унесших их во цвете лет…
Константин Христофорович покинул Кавказ тотчас по заключению Туркменчайского мира. Вернувшись в Петербург, он в качестве генерал-адъютанта сопровождал Императора в турецком походе. Привязанность Государя к славному воину была столь велика, что он обменялся с ним шпагами. Адъютантская должность, конечно, не могла удовлетворить энергичную натуру генерала, и вскоре он уже стоял со своим летучим отрядом у подножия Балкан в селении Проводы, служа связующим звеном между главной армией и ее корпусами, осаждавшими Шумлу и Варну. Увы, здоровье Константина Христофоровича, уже подорванное немилосердным персидским климатом, не выдержало нового напряжения сил. Он скончался в солдатской палатке 6 августа 1828 года, на сорок четвертом году от рождения. Последний вздох его принял князь Мадатов.
Валериан Григорьевич рассказывал об этом прибывшему на турецкий фронт Стратонову:
– Когда я приехал сюда принять его отряд, то нашел его в самом отчаянном положении. Вечером он пришел в память, радовался моему приезду, спросил о Грузии, потом простился со мной и говорил, что ожидает каждую минуту своей смерти. Я успокоил его сколько мог, подавая надежду на выздоровление. Все было тщетно, он был очень труден; на ночь начался пароксизм, он не мог переносить его, совершенно пришел в беспамятство и умер в одиннадцать часов пополудни. Бедные дети остались сиротами. Тело велел отпеть русским священникам, за неимением лютеранского, также сделал гроб свинцовый и отправил на большую дорогу к местечку Казлуджи. Может быть, родные захотят перевезти его в Россию…
Сам Мадатов в тот момент также не выглядел здоровым, что весьма встревожило Юрия. Однако, силы князя подтачивали не труды и не климат, привычный ему от рождения, а глубочайшая и жестокая несправедливость к нему, причиной которой стала все та же перешедшая все границы зависть графа Паскевича, не оставившая Валериана Григорьевича даже вдали от Грузии.
Государь оставил Мадатову его разоренное войной имение в Карабаге. И оно-то неожиданно стало главным предлогом к обвинению князя, создало множество клевет, тень которых пала не только на Валериана Григорьевича, но и на Ермолова.
Надеясь, что его отъезд положит конец гнусным нападкам, князь с помощью Дибича, прекрасно понимавшего положение дел, добился назначения на Дунай, где уже в самом начале кампании с небольшим отрядом овладел двумя турецкими крепостями, Исакчей и Гирсовым, и отстоял то самое селение Проводы, где окончил земной путь Бенкендорф.
Четырнадцать знамен и девяносто восемь орудий были трофеями Мадатова в турецкую кампанию. Но несмотря на это, козни Паскевича делали свое дело, и единственной наградой за все подвиги Валериану Григорьевичу стало лишь «монаршее благоволение». Наконец, в начале 1829 года, он был назначен начальником третьей гусарской дивизии. Вновь судьба, описав затейливый круг, привела его на те самые поля, на которых двадцать лет тому назад он получил георгиевский крест, свела с теми же самыми Александрийцами, теперь входившими в состав его дивизии.
– Ну, слава Богу, – шутил князь, – мы опять увидим турок. Только вы, братцы, их всех не рубите; за пленных дают по червонцу – сгодится, а лошадей их мы маркитантам за долг отдадим.
Молодые гусары восторженно глядели на того, чье имя давно уже сделалось неотделимо от их полковой славы. Популярность Мадатова в армии была необычайно велика.
Стратонов был свидетелем тому, какое воодушевление вызвало появление князя перед артиллерийской батареей, расположившейся на ночлег неподалеку от Пазарджика. Валериан Григорьевич, высокий и статный, подъехал к артиллеристам верхом на вороном коне, весело приветствовал их, тотчас поднявшихся ему навстречу:
– Поздравляю вас с войной! Мы подеремся славно – я это вам предсказываю. Надобно только выманить этих мусульманских собак в чистое поле, а тогда и нам, гусарам, будет работа… Я знаю турок, я с ними вырос… Я вам пророчу, господа, что через год вы все вернетесь в Россию с георгиевскими крестами.
Артиллерийский капитан заметил, что без особенного случая трудно заслужить этот крест.
– Какой тут случай! – возразил Мадатов, играя поводьями коня, который так и рвался вперед. – Была бы охота да отвага! Знаете ли вы, как добываются георгиевские кресты? – он оглядел, прищурившись, внимавших ему офицеров. – Так, вот, я вам расскажу! – и рассказал свою знаменитую историю о сражении под Батиным.
– Это было дело знатное, оно утешает меня даже под старость, – заключил он. – Дай Бог и вам когда-нибудь поработать таким же манером… А пока прощайте! Увидимся под Варной!..
Первое дело, в котором отличились гусары, было сражение при Кулевче, открывшее русским войскам путь за Балканы. На другой день Мадатов должен был прервать сообщения разбитой турецкой армии с Шумлой. Турки выслали ему навстречу трехтысячную конницу, и тогда Александрийский, Ахтырский и Белорусский гусарские полки понеслись в атаку. Сам князь первым врубился в ряды неприятеля и собственноручно вырвал знамя Ахмет-бея, командовавшего конницей в Шумле. Враг был полностью разбит, а лагерь его захвачен.
Но этого показалось мало Валериану Григорьевичу, и молниеносным поворотом направо он успел отрезать другую пехотную колонну врага, поспешно отступавшую в Шумлу из соседнего лагеря. Она была практически полностью истреблена на глазах гарнизона. Лишь немногие успели укрыться в двух редутах. Атаковать их конницей было невозможно, и Мадатов приказал своим людям спешиться. Пешие гусары с саблями наголо бросились на приступ и взяли первый редут. К атаке второго на выручку подошла пехота, и славное дело было докончено.
«… Что за молодцы эти прекрасные войска, эти дорогие ратные товарищи, и как я сожалею, что более не с ними! Что за геройские полки: двенадцатый егерский и Муромский и храбрые Александрийские гусары! Вот подвиги, которые должны быть отмечены в истории нашей армии!» – написал Государь в ответ на восторженное донесение об этом славном деле и щедро наградил всех участников сражения. Мадатов был награжден орденом св. Александра Невского.
Увы, то был последний подвиг и последняя награда славного воина. Уже больной, но старающийся не замечать болезней, он принужден был терпеть все новые и новые унижения, на которые не скупился его влиятельный и завистливый враг. Из-под стен Шумлы князь отвечал на разные вопросные пункты, посылаемые ему Паскевичем. Доносы на него собирались неслыханным по бесчестности путем. В крепости Шуше барабанным боем на улицах приглашали жителей подавать жалобы на Мадатова. И никакая глупейшая клевета не была обойдена вниманием графа… Особенно тяготило Валериана Григорьевича дело о якобы незаконном завладении имением в Карабаге, несмотря на то, что у Паскевича в руках были подлинные рескрипты Императора Александра, которыми утверждались за ним эти имения. Ненависть Ивана Федоровича дошла до того, что за небольшие долги, которые Мадатов легко мог покрыть собственными средствами, был продан в казну за ничтожную сумму его тифлисский дом, а князь не был даже предупрежден о том.
И это в то время, когда больной генерал беспрерывно делал происки в тылу неприятеля и героически сражался под стенами Шумлы.
Известие о продаже дома стало последней каплей, докончившей черное дело. 28 августа мрачный и усталый Мадатов выступил в свой последний поход к городу Тырнову. По сырой и туманной погоде отряд ежедневно совершал длительные переходы, и этот путь отнял у князя последние силы. 2 сентября у него внезапно открылось сильное кровотечение из горла, и через два дня героя не стало.
Ему не было и 49 лет. В Петербурге его ожидала жена, с которой он сочетался браком пять лет назад… Вся русская армия скорбела об этой тяжелой утрате. И даже турки отдали дань уважения к его памяти. Великий визирь открыл для него ворота неприступной Шумлы и принял в ее стены прах славного воина. Гроб из лагеря до самой крепости несли на себе попеременно гусары и офицеры третьего пехотного корпуса. У самых ворот Шумлы печальное шествие остановилось. Войска преклонили знамена и оружие, раздалось церковное пение, и пушечные выстрелы отдали генералу последнюю почесть. Когда окончилась лития, процессия вступила в Шумлу. Турки впустили в город только конный взвод Белорусских гусар с их трубачами. Толпы народа, привлеченные зрелищем пышного погребения русского генерала, сопровождали гроб Мадатова до самого кладбища, находящегося в ограде христианского храма. Печальные звуки труб изредка прерывали глубокую тишину, царившую в толпе, ничем не нарушавшей мрачной торжественности погребального обряда.
Теперь, по окончании войны Стратонову выпала печальная миссия сопроводить прах своего друга в Петербург, где вдова Валериана Григорьевича желала похоронить его в Александро-Невской лавре.
Похороны князя в Петербурге стали первой церемонией, которую посетил Юрий. Он поведал княгине Софье Александровне о последних днях ее мужа. Княгиня была исполнена намерения увековечить его память. Пять лет назад она была фрейлиной Императрицы Елизаветы Алексеевны, имела счастье быть знакомой с Гете – ее настоящее и будущее было прочно и, как казалось, прекрасно. За Валериана Григорьевича она вышла по любви и навсегда сохранила благоговение перед супругом. Об их свадьбе в Царском Селе в столице много говорили, как о величайшем пиршестве в духе «Тысячи и одной ночи». Выйдя замуж, Софья Александровна отставила двор и уехал с князем в Тифлис…
– Боже, как я была счастлива эти пять лет… – тихо прошептала она, и рука ее дрогнула в ладони Стратонова. – Я всегда останусь верна ему и сделаю все, чтобы Россия не забыла его трудов для ее славы…
Стоя на скорбной церемонии, Юрий вспомнил о другом прахе, до сих пор покоившемся в чужом склепе, в глуши, забытом всеми, прахе князя Багратиона. Стратонов решил непременно потолковать об этом с Денисом Васильевичем, которому судьба (а вернее Паскевич) так и не дала случая отличиться в войне с персами, приговорив его вернуться к мирной семейной жизни…
Отдав долг покойному другу и его вдове, Стратонов отправился в Зимний, дабы отдать долг своему Государю. Император принял его в своем кабинете, стоя у окна с видом полнейшего равнодушия. Казалось, будто то не живой человек стоит, а мраморное изваяние, памятник самому себе, изредка и словно принужденно роняющий полные безразличия фразы.
– Доволен ли ты службой, Стратонов?
– Я всегда доволен службой Вашему Величеству.
– Желаешь ли отдохнуть от ратных трудов?
– Да, Ваше Величество, я желал бы навестить некоторых друзей. Но если Вы прикажете, я готов отправиться теперь же хоть на самый край света.
Юрия тяготила эта равнодушная, ненужная беседа, тяготил тон Государя, тяготила необратимая перемена, произошедшая в нем. Он уже собрался откланяться, когда «изваяние» неожиданно легко обернулось, точно получив команду «вольно», и с самою веселой улыбкой сказало:
– Эх, Стратонов! Неужто ты мог поверить, что я впрямь превратился в то, что битые четверть часа представляю пред тобой? Что я настолько вознесся, что превратился в истукана, не помнящего друзей?
У Юрия отлегло от сердца, и он также улыбнулся:
– Простите, Ваше Величество…
– Полно извиняться! – рассмеялся Николай. – Давай лучше обнимемся, как встарь, да потолкуем! – с этими словами Государь заключил Стратонова в объятия. – Мне не хватало тебя, друг мой! И я безмерно счастлив, что ты жив и невредим, и вновь со мной. Довольно уж нам потери Константина Христофоровича…
– И Мадатова… – не удержался Юрий.
По лицу Императора промелькнула тень:
– Знаю, знаю, что Иван Федорович перегнул палку в отношении его. Не трудись напоминать… Однако же, давай лучше поговорим о тебе.
– Обо мне? – пожал плечами Стратонов. – Да что же обо мне говорить? Жизнь моя проста, как устав, вы это знаете.
– Что твой брат? Пишет ли тебе?
– Благодаря вам, он, кажется, наконец, практически счастлив. Полагает перебраться в столицу, как только выслужит офицерский чин. То, что вы сделали для него…
– Полно! – махнул рукой Государь. – Благодарить за счастье твоего брата ты должен не меня, а, я думаю, сам догадываешься, кого.
Юрий вопросительно взглянул на Императора. Из кратких и редких писем брата он так и не смог толком понять, что же с ним случилось. Весть о том, что Костя в плену у чеченцев, настигла его уже на турецком фронте, и неделя за неделей он не находил себе места, терзаясь невозможностью самому пуститься на выручку брату. Но, вот, наконец, от последнего пришло письмо о том, что ему удалось освободиться, что он жив-здоров и продолжает службу. А вскоре пришло другое радостное известие, что брат женится на княжне Алерциани, и этот брак благословил сам Государь.
– Твой брат, явно, не любит пачкать руки в чернилах, – заметил Николай, оценив немногословность младшего Стратонова. – Впрочем, может, его «добрая фея», столь исправно выручающая его изо всех передряг, попросила его молчать…
Юрий вздрогнул, вдруг озаренный догадкой:
– Половцев?!
Император улыбнулся:
– Не знаю уж, как ты будешь благодарить нашего общего друга, но знай, что если бы не он, то вряд ли твой брат так легко освободился бы из плена. И уж тем более не видать бы ему руки прекрасной Лауры. Половцев попросил меня об этой услуге в качестве благодарности за услугу, куда более серьезную, которую оказал он мне. А я, мой друг, не хотел бы добавить к своим многочисленным недостаткам еще и столь отвратительный, как черная неблагодарность.
Стратонов изумленно покачал головой:
– Не понимаю, как ему удается быть везде и всюду… Знаете ли вы, Ваше Величество, что под стенами Эривани я получил от него записку, в которой он предупредил нас об опасной вылазке персов, которая могла бы сорвать весь план штурма, если бы удалась?
– Нет, об этом своем подвиге он умолчал. Стало быть, это еще одна услуга, которой оба мы ему обязаны. И я согласен с тобой, меня иногда даже пугает такая вездесущесть… – Император помолчал. – Ты давно не был в столице, Стратонов. А, между тем, здесь происходит много скверных историй, к некоторым из которых, мне кажется, имеет отношение наш друг. В семье князей Борецких чудовищный скандал. Князь, представь себе, отрекся от собственных сыновей и сошелся с иностранной певичкой, сына которого признал своим единственным наследником. Ты ведь знаешь, что именно они сомнительным образом завладели имением Половцева и свели в могилу его мать?
Стратонов кивнул.
– Скажу тебе честно, мне очень не нравится эта месть. Эта распря должна была быть разрешена честным судом, а не всеми этими интригами в духе современных романов! Страшно подумать, что будет дальше… Обладая таким изощренным умом, можно свернуть горы! А этот человек тратит столько необходимых Отечеству сил на… месть! Гнушаясь судом…
– Я понимаю и разделяю неудовольствие Вашего Величества, но не могу осудить Виктора. Он имеет право на эту ненависть… – со вздохом отозвался Юрий.
– Возможно. Однако, если увидишь его, передай ему мои слова, – Николай помолчал несколько мгновений, затем добавил. – С сегодняшнего дня можешь считать себя в отпуске сроком на два месяца. Отдыхай, поезжай в Москву или куда еще желаешь, а затем возвращайся. Знаю, мой друг, что ты предпочитаешь жизнь на бивуаках нашим дворцам, но до новой кампании тебе придется их потерпеть.
– Я готов служить вам, где прикажете, – ответил Стратонов с улыбкой. – Даже во дворцах!
Простившись с Императором, Юрий, не теряя времени, отправился на знакомую улочку, где четыре года тому назад обрел своего старого друга, которого считал погибшим. Он совсем не был уверен, что вездесущий Виктор все еще не оставил своего временного скромного жилища, что сам он теперь в столице, но это была единственная, пусть и призрачная надежда найти его.
Дом Стратонов нашел без труда и, переведя дух, постучал во входную дверь. Долго никто не отвечал ему, затем в приоткрывшейся створке окна второго этажа промелькнуло чье-то лицо. Створка вскоре затворилась, и вновь потянулись минуты ожидания. Впрочем, именно они убедили Юрия, что дом этот все еще занимает Виктор. Обычные жильцы не стали бы окружать себя такой таинственностью…
Наконец, дверь открылась, и пожилая женщина, смерив Стратонова внимательным взглядом, впустила его в дом и, не говоря ни слова, проводила в уже знакомую ему комнату:
– Обождите здесь, – сказала она. – Хозяин должен скоро вернуться. И не выходите из этой комнаты, чтобы ни случилось.
С этими словами странная привратница ушла, оставив Юрия в крайнем недоумении. Эта женщина не могла знать его, но отчего-то впустила, не спросив имени. Или же здесь ждали кого-то другого? Или в доме есть кто-то еще, кто следил за ним из окна и узнал? Быть может, сам Виктор?
Пока Стратонов пытался разгадать эту тайну, наверху послышался странный шум. Юрий прислушался и различил сдавленное мычание и звуки борьбы. Это насторожило его, но, помня указание привратницы, он остался на месте. Шум на какое-то время затих, но затем возобновился вновь. Несколько раз что-то тяжелое падало на пол, затем донесся звон разбитой посуды и, наконец, истошный женский крик, тотчас задавленный и превратившийся в то самое мычание, что Стратонов слышал вначале. Это переполнило чашу терпения Юрия. Там, прямо над его головой истязали женщину, а он слушал и не шел на помощь! Возможно ли это? Никак невозможно!
Стратонов, перескакивая через ступеньки, вбежал на третий этаж и, что есть мочи, стал барабанить в запертую дверь, из-за которой доносились голоса, хрип и непонятная возня.
– Откройте или я высажу эту дверь к чертям! – пригрозил Юрий, на всякий случай взведя курок пистолета и приготовившись к возможному сражению.
Дверь медленно отворилась, и Стратонов остолбенел, едва не выронив пистолет, от того зрелища, которое предстало его взгляду.
На пороге стоял растрепанный Виктор с расцарапанным лицом и в порванной сорочке. Позади, на широкой кровати извивалась в припадке неопределенного возраста женщина, рот которой был заткнут кляпом. Женщину с двух сторон пытались удержать и привязать к ее одру уже виденные Юрием привратница и немой слуга Благоя.
– Я рад тебя видеть, Юра, но ты пришел крайне не вовремя, – сказал Виктор, утирая пот со лба.
– Что это все значит? Кто эта женщина? – спросил Стратонов.
– Будь добр вернуться туда, где тебя просили оставаться, и обождать меня. Я спущусь и все тебе объясню, – с этими словами Виктор вновь закрыл дверь, а потрясенный Юрий спустился в указанную ему комнату, пытаясь понять, чтобы все-таки могла означать та жуткая сцена, свидетелем которой он стал. Догадка родилась довольно быстро, и, немного успокоившись, Юрий опустился на стул и стал ждать своего друга.
Виктор появился спустя полчаса, бледный, но уже успевший привести себя в порядок и переодеться. Стратонову показалось, что со времени их последней встречи Половцев сильно осунулся, и черты лица его заострились еще больше. Несмотря на произошедшее только что, выглядел он абсолютно спокойным.
– Я ведь просил тебя не искать меня, а в случае большой нужды присылать письма? – заметил он, доставая из шкафчика бутылку дорогого вина и два бокала.
– Прости, но я хотел лично поблагодарить тебя за то, что ты сделал для моего брата. Я узнал об этом от Государя лишь сегодня.
– Тебе не за что меня благодарить. Мне доставила удовольствие эта история. К тому же, Юра, если уж судьба не милосердна к нам и к нашей любви, то пусть хоть твой брат будет в ней счастлив за нас обоих. Эта грузинская княжна была достойна того, чтобы быть с тем, кому принадлежит ее сердце, а ни с какой-нибудь обезьяной, которая погубила бы столь прекрасное создание. Я имел возможность ей помочь и сделал это. Разве ты поступил бы иначе?
– Ты можешь принижать свои поступки, как угодно, но от этого они не изменятся в моих глазах, – Стратонов принял наполненный бокал и, сделав глоток, прибавил. – Я твой должник до гробовой доски.
– Ты не должник, а друг, – ответил Виктор. – А должников у меня осталось всего лишь четверо. И не дай Бог никому попасть в число моих должников… – в темных глазах Половцева блеснули огоньки ненависти.
– Государь обеспокоен тем, что происходит с семьей князя Борецкого. Ты ведь знаешь, что он высоко ставит мораль…
– Мораль и Борецкие всегда были несовместны. А тебе я рекомендую побеспокоиться о своем друге Никольском и его милейшей супруге. Эта каналья, младший князек, кружит над нею, как коршун.
– Что ты говоришь? Варя никогда не позволит…
– Быть может, но эти люди не спрашивают позволения, когда разрушают чужие жизни! – Виктор раздраженно хрустнул пальцами. – Ты кажется хотел узнать, что только что происходило этажом выше?
Стратонов опустил голову:
– Мне кажется, я… догадался. Это – она? Это – Маша? Верно?
По сумрачному лицу Виктора пробежал судорога.
– Это то, что они сделали из Маши, то, что осталось от Маши… Я не сказал тебе в нашу прошлую встречу. Когда я впервые вернулся в Россию из моих странствий, то нашел ее. Нашел в одном из приютов для умалишенных… Ты никогда не видел подобных заведений? – голос Половцева вибрировал от волнения, и в его деланно холодном тоне слышалась неизбывная боль. – По сравнению с ними меркнут ужасы самых страшных и кровопролитных сражений… Если есть ад, то он должен выглядеть именно так… В этом аду я и нашел мою Машу. Она не узнала меня, конечно. Она ничего и никого не узнавала и не помнила. Правда, иногда она вспоминала о потерянном ею ребенке и укачивала его… Она и сейчас делает это, и тогда становится немного похожей на себя прежнюю. Обычно она тиха и безразлична ко всему. Но иногда у нее случаются припадки вроде того, что ты видел. Тогда она готова разрушать все, тогда она ненавидит всех, а, главное, обретает страшную силу, так что одному человеку невозможно с нею справиться.
Когда я нашел ее, то подкупил врача и увез ее из того вертепа. Я купил для нее квартирку в одном уездном городке, нанял двух служанок, а также привез из нашей деревни ту самую старуху, которая и рассказала мне о ее страшной судьбе. Она всегда любила и жалела Машу, а я хотел, чтобы рядом с ней были не только служанки, которым есть дело лишь до денег, что я им плачу, но человек, любящий ее… Первое время и сам жил с нею, безумно надеясь, что мое присутствие, моя любовь сделают чудо и вернут ее утраченный разум. Кончилось это скверно. Во время одного из припадков она набросилась на меня и ударила ножом. От этой раны я, вероятно, умер бы, если бы Бог не послал мне женщину, которая спасла мне жизнь и с той поры стала моей неизменной спутницей. К слову, она единственная, кто может сладить с Машей без чьей-либо помощи, без насилия. Ей достаточно поговорить с ней, коснуться рукой ее лба, и Маша успокаивается. Я надеюсь, что она скоро приедет, и тогда жизнь в этом доме вновь войдет в спокойное русло. До следующего припадка…
– Что же, она теперь всегда с тобой? Маша?
– Вернувшись в Россию, я забрал ее и увез в столицу. Старуха Марфа незадолго до этого умерла, а нанятые служанки стали слишком вольно распоряжаться выделяемыми на содержание Маши средствами. Отныне я решил не оставлять ее без своего или моего доброго ангела попечения. Поэтому я нашел этот дом в отдаленном углу Петербурга и выкупил все три этажа, чтобы обезопасить нас от сторонних глаз и ушей. Теперь ты знаешь все…
– Можешь не сомневаться, что твоя тайна умрет вместе со мной.
– Я в этом не сомневаюсь, – печально улыбнулся Виктор.
В этот момент в комнату вошел Благоя и подал ему условный знак.
– Приехала моя дорогая спутница, – пояснил Половцев. – Слава Богу, теперь мучения Маши прекратятся. А значит, и наши… Прости, друг мой, у меня выдался крайне тяжелый день, и я бы хотел побыть один.
– Конечно, я понимаю, – кивнул Юрий. – Прости и ты, что я так бесцеремонно вторгся к тебе.
– Забудь, я, несмотря ни на что, рад был видеть тебя. И рад буду видеть вновь в лучшее время.
Друзья обнялись на прощанье, и Благоя проводил Стратонова до выхода, где с достоинством поклонился ему и вновь затворил дверь таинственного дома. Потрясенный всем увиденным и узнанным, Юрий решил отправиться к гостеприимным Никольским, которые уже, несомненно, заждались его, и у которых он решил остановиться на время пребывания в Петербурге.
Глава 19.
Под вкрадчивый голос Эжени Маша успокоилась быстро, и в ее глазах даже появилось подобие осмысленного выражения. И это выражение было благодарностью к той, которая одна умела облегчить страдания несчастной. Едва войдя в комнату, Эжени выгнала оттуда горничную и Благою и развязала Машу. Она не боялась ее, зная, что та никогда не причинит ей зла. И, в самом деле, даже при самых сильных припадках бедная помешанная ни разу не подняла руки на Эжени. Даже Виктор не мог постичь этого чуда.
Когда Маша уснула, спутница спустилась вниз и остановилась в дверях, глядя на мрачного и разбитого Виктора. Припадки Маши всегда больно ранили его, разжигая в его больной душе мстительный пламень. В такие моменты он словно старел лет на десять, и глаза его, потемневшие, обращены были точно куда-то внутрь, в то страшное прошлое, из которого была запертая наверху страдалица, и которое никогда не отпускало его.
– Лучше бы она умерла… – хрипло прошептал он, отпивая вино. – Да, так было бы лучше. Зачем Бог дает ей столько лет мучений? Разве она мало выстрадала, чтобы петь в хоре его ангелов? Нет, этого нельзя простить… Я бы простил все. Даже смерть матери… Но то, что он позволил сделать с ней, я не могу простить. Вы можете говорить о милосердии Бога, потому что не испытали такой боли. Также. как и остальные, которые говорят о нем… Я не знаю, есть ли Бог. Но если Он и есть, значит, Он слаб, и этим миром правит его антипод. И именно он – настоящая власть…
– Мир лежит во зле, а антипод – князь мира сего, разве вы не знаете? – отозвалась Эжени, приближаясь. – А зло – в нас самих. В каждом…
– В ней не было зла! – крикнул Виктор. – Никакого! Никогда! Она всегда была небесным созданием, а он обратил ее чудовищем!
– Люба Реден верит в Его милосердие. И говорит, что не жаловаться мы должны, а радоваться каждому данному нам дню.
– Она может так говорить, потому что страдает сама. Свое страдание можно вытерпеть. Можно… даже простить. Хотя не уверен, что нужно… Но страдание тех, кого любишь, вынести невозможно. А простить преступно… – Виктор тряхнул головой. – Она уснула, не так ли?
– Да. Спокойно и безмятежно, как ребенок, – ответила Эжени и, обойдя кресло в котором он сидел, положила руки ему на плечи. – Сейчас ей хорошо…
– Не понимаю, как вам это удается. Я люблю ее больше всего на свете, но меня она боится и ненавидит…
– Она не помнит вас.
– А вас любит. С вами ей хорошо… Почему?
– Может быть, потому, что во мне при всех моих грехах нет ненависти ни к кому. Она чувствует это.
– Но ведь я не ее ненавижу!
– Для того, чтобы понять объект ненависти, нужно иметь разум. А ее безумие лишь чувствует волну… Чувствует саму ненависть и страшится ее.
– Вы всегда умеете найти рациональное объяснение собственной силе. Пусть так… – махнул рукой Виктор. – Я рад, что вы снова рядом. Мне не хватало вас в моих странствиях.
– А мне вас, – откликнулась Эжени.
С возвращением Виктора ей стало легче. Теперь, во всяком случае, все решения принимал он, и она не страшилась оступиться. Все сделанное ею и доверенными людьми за время своего отсутствия Виктор одобрил, хотя и заметил, что идея Леи привязать к себе старого князя мнимым сыном была чересчур большой авантюрой. Однако же, она удалась.
За три месяца до предполагаемых родов Лея отправилась в Италию, пожелав, чтобы ребенок родился там. Князь должен был поехать следом, но оформление документов весьма задержало его – само собой, нужные люди приложили руку к этой задержке. Дорога также изобиловала всевозможными препятствиями и, в итоге, когда старик Борецкий все-таки добрался до Рима, то Лея встретила его с новорожденным младенцем, названным, разумеется, в честь отца. Младенца этого купили у одной несчастной девицы из бедной семьи, желавшей скрыть свой позор, разумеется, не открывая в чьем доме он будет жить, и заплатив за услугу столько, что нищее семейство вполне могло бы поправить свои дела.
Окончательно обезумевший от счастья князь признал ребенка, переписал на него и Лею значительную часть своего имущества, а другую отказал им в завещании после своей кончины.
Узнав об этом, княгиня Вера Дмитриевна слегла с тяжелым ударом и с той поры уже более не вставала со своего одра. Ее сыновья практически не навещали мать. Лишь Владимир, соблюдая протокол, раз в неделю заходил к ней с визитом вежливости. Михаил же и вовсе считал себя свободным от каких-либо обязательств. Он не испытывал никакого желания видеть умирающую мать и безудержно размыкал свой гнев на отца в отчаянных кутежах.
Рядом с Верой Дмитриевной оставались все это время лишь Эжени и Сережа. И только для этого мальчика утрата крестной стала настоящим горем.
В последние два дня княгиня уже не приходила в себя. С нею был священник и врач, а Эжени князь Владимир попросил покинуть их дом. Случилось это аккурат в это утро…
– Княгиня Борецкая не доживет до утра, – тихо сказала Эжени Виктору. – И меня больше не хотят видеть в этом доме. Князь Владимир сообщил мне об этом в учтивой, но весьма категоричной форме.
– Плохая новость, – покачал головой Виктор. – Со смертью княгини мы теряем важный источник информации. Вас больше не пустят в этот дом – это ясно. Да и Гирю вышвырнут оттуда завтра же. И это, кстати, тоже для нас плохо. Этот мерзавец может быть опасен. Его нужно устроить куда-нибудь и хорошо заплатить. Займитесь первым. Вы знаете всех сумасшедших приятельниц княгини – уверен, что кто-нибудь приютит у себя это «сокровище». Подумайте также насчет прислуги. Кто из них дружен с вами, у кого бы вы хотя бы изредка могли бы получать сведения… Кто нечист на руку… Кто падок на деньги…
– Это все, что вас печалит? – спросила Эжени.
– А что? Есть еще что-то?
Эжени прошла по комнате и, обернувшись, устремила на Виктора пытливый взгляд:
– Есть, – сказала она. – Сейчас, где-то совсем рядом умирает старая женщина, которая ни в чем не была виновата, кроме того, что ее муж и сыновья большие подлецы. И это мы убили ее! Мы довели ее до могилы своими интригами!
– Успокойтесь! – Виктор поморщился. – Ее убили не мы. Ее убили подлецы – муж и сыновья. Подумайте сами. Всю ее жизнь она лишь терпела унижения и оскорбления от них и потому искала себе отдушину в сектантских сборищах и разномастном шарлатанстве. Именно эти унижения переполнили чашу ее терпения и сломали ее. И так должно было быть.
– Но не мы ли сделали все, чтобы это чаша переполнилась как можно скорее?
– Что изменилось бы от того, что она переполнилась бы медленнее? Судьба всех этих людей определена ими самими, а мы лишь помогаем ей. Для княгини лучше, что она уходит сейчас, не увидев грядущего позора обоих своих сыновей.
– Кое-что изменилось бы. Сережа не остался бы сиротой во второй раз.
– Ах… Этот мальчик… – Виктор вздохнул. – Согласен, он не должен пострадать. Но ведь вы уже взяли его под опеку, не так ли? Вы говорили, что адмирал был им восхищен и обещал ему протекцию? Это прекрасно! Вам нужно поговорить с ним, и я уверен, он, будучи одинок, с удовольствием возьмет способного мальчика к себе, подготовит его к поступлению в корпус и сделает из него настоящего моряка! Вы же сможете навещать его. И уж, конечно, позаботитесь о том, чтобы он ни в чем не имел нужды. Все не так плохо, вам так не кажется?
– Как быстро вы на все находите ответ…
Виктор поднялся и, мягко обняв Эжени за плечи, сказал:
– Вы не должны винить себя. Вы были для княгини утешением все это время. И сейчас нам нужно думать о другом! Нужно следить за Михаилом. Мне не нравится то, как этот мерзавец зачастил в дом Никольских со свояком моего друга Стратонова. Этот пустоголовый верхолет превращается в комнатную собачку Борецкого! Куда смотрит его молодая супруга?
– Г-жа Никольская – женщина образцовой нравственности.
– Это я уже слышал. Но от такого негодяя, как Борецкий, и такого безвольного существа, как Апраксин, можно ожидать всего. Мы должны быть на чеку!
– Говорят, Михаил предполагает жениться для поправки семейных дел…
– Этому тоже надо помешать! Иначе потом удар придется и по несчастной женщине, которую злой рок толкнет под венец с негодяем… Смотрите же, дорогая Эжени, как много важных дел нам предстоит. Я уже не говорю о князе Владимире, с которым я сумею посчитаться, не вовлекая вас… В остальном же я надеюсь только на вас! Ведь вы знаете, что у меня нет человека ближе.
– Я знаю это, Виктор, – отозвалась Эжени. – И я не подведу вас, обещаю.
Этому человеку она с легкостью отдала бы жизнь, попроси он ее. Но он не просил ее жизни, он просил большего – ломки чужих судеб. И на ее плечи ложилась двойная задача: с одной стороны, помогать Виктору в его мести, с другой всеми силами выводить из-под его ударов тех, кто мог пострадать от них, просто стоя рядом с теми, кому они предназначались. Своей жалостью сглаживать его безжалостность, являвшуюся во всем, что касалось его мести. И самого же его пытаться утишить, смягчить, не позволить его душе, такой благородной и прекрасной, иссохнуть и, наконец, сгореть в пожирающем ее мстительном пламени.
– А я обещаю, что ни Сережа, ни другие не будут отвечать за чужие преступления…
Эжени чувствовала, что ее усилия не проходят даром, что нужна этому человеку не только и не столько, как помощница, но именно, как укрепа для души, слишком часто заглядывавшей и заглядывающей в бездну. Что ее влияние на него благотворно точно так же, как на несчастную Машу. Вот, только сколько же собственных сил уходило на подпитку чужих. И теперь, прижимаясь к груди Виктора, слыша биение его сердца, Эжени чувствовала себя, словно та оставленная на столе бутылка вина – выпитой до дна…
Глава 20.
Осень с размытыми ее дорогами не лучшее время для путешествий. К тому же, для дальних. А к тому еще, когда тело твое точно связано путами, и даже речь твою едва понимают находящиеся подле. И все же она решилась ехать. И без того слишком долго откладывали эту поездку – болезнь матери, олинькина беременность…
А силы – уходили. Еще худо-бедно слушались изнемогающие руки, но речь изо дня в день становилась все бессвязнее, и это приводило Любу в отчаяние. Говорить! Видеть! Слышать! – этих трех способностей, Всемогущий, не отнимай! Не оставляй на этой земле кульком бездвижным и безгласным – это выше сил!
И еще страдание – олинькина маята. Опять подхватил, закрутил Сашу столичный ветер, понес по гостиным, балам и маскарадам, где столько соблазнов, столько женщин других… А в соблазнах тех отменный наставник у Саши – князь Михаил. Ни разу не видела его Люба, но со слов сестры и м-ль Эжени истинным демоном представляла. Куда только заведет Сашу такая дружба? Себе жизнь сломает вконец, воли своей не имея, а заодно и Ольгину. Вот, и дядюшка хмурился, наставлял сестру, как мужа в узде держать, а та только очи долу опускала. Ольгина воля – железная. Да только – для себя самой. Для себя чужой палки не нужно, когда такой стержень внутри есть. А для других? Для другого?
Измучавшись вконец, Люба потребовала, чтобы везли ее сей же час в Саров к о. Серафиму. Само собой, наперебой запричитали все: и о том, что дороги в эту пору ужасны, и что Олинька ехать не может в своем положении, и не лучше ли до зимы, до санного пути обождать, а того лучше до лета.
Но Люба была непреклонна. У Бога прощения испросив, даже на ложь пошла: якобы было ей во сне видение, чтобы ехала в Саров. И Сашу со слезами попросила отвезти ее к старцу, пока еще не превратилась она окончательно в немую чурку. Саша всегда ее любил, а, главное, в душе своей был жалостлив и мягкосердечен. Он и вообще отказывать не умел, а уж отказать в просьбе больной родственнице в паломничестве к старцу… Конечно, согласился он, прослезившись и сам. И Ольга решение Любы поддержала, просила помолиться о ней и ребенке будущем и старцу кланяться.
Так и отправились: Люба с матерью, Саша да дворовых несколько людей.
Дороги и впрямь таковы были, что немудрено на них здоровому покалечиться. Мать охала и нюхала соли, а Люба молча молилась. Она чувствовала, что, чем бы ни закончилась эта поездка, решится в ней судьба ее. И это чувство придавало сил.
Недалеко от Арзамаса остановились в имении у Степана Васильевича Попова, женатого на какой-то дальней родственнице княгини Борецкой, которая еще загодя и рекомендовала ей Любу и Анну Гавриловну.
Степан Васильевич был типичным провинциальным помещиком. Казалось, ничто не волновало его, кроме урожаев, прибавления-убавления голов скота, цен на лес… Равно, как и жену его Евфросинию Антоновну ничто не занимало так, как запасы варений, солений и прочего необходимого в кладовых и погребах.
Гостям старики, впрочем, были рады – нечасто наезжали к ним. Тем паче из столицы. На стол было подано все, чем богаты были хозяйские кладовые – и все непременно постное, учитывая цель путешествия прибывших.
Старца Серафима они никогда не видели, хотя, как и все в этих краях, были изрядно наслышаны о нем.
– Чуден старец, чуден, – говорил Степан Васильевич. – Давеча генерал к нему приехал – в слезах ушел, и без крестов. Говорят, будто бы во время разговора все они с него и посыпались. А старец будто бы в фуражку его кресты эти собрал и сказал ему: «Оттого они с тебя посыпались, что не заслужил ты их».
– Болтают, должно быть… – махнул рукой Саша.
– Да и я думаю, что болтают.
– Еще говорят, что он, хоть и стар, и постоянно постится и трудится, но к тому на плечах суму с камнями носит – плоть, стало быть, томит! Изуверство, конечно. А, может, и то болтают. Игумен новый не жалует его, говорит: себя истязает и других так же. И то сказать, монашки-то у него в поте лица трудятся.
– Зато он ласков со всеми, – подала голос Евфросиния Антоновна. – Никому слова недоброго не скажет, всем рад-радешенек, прямо как солнышко. А игумену просто обидно, что всем-то о. Серафим не родной монастырь, а сестер наделяет. Даже роптали на старца, что не годится ему такое попечение о девицах иметь. Что, дескать, соблазн от этого происходит. Так старец, чтобы убедить всех, что самим Господом и матерью Божьей ему то попечение поручено, выбрал вековую сосну, что недалеко от его кельи росла, и сказал, что если Божью волю он исполняет, так дерево то в сторону Дивеева наутро его молитвами приклонится. И что вы думаете? Утром нашли это дерево вывороченным с корнем! А погода в ту ночь самая что ни наесть тихая стояла. И преклонилась сосна аккурат в сторону обители. Так что не все люди болтают. Сколькие по его молитвам от недугов оправились? Разве же это болтают?
– Это правда, – согласился Попов. – Знакомец есть у нас. Тоже из помещиков тутошних. Мотовилов. Его старец на ноги честь по чести поставил. С той поры он ему что самый верный служка. Кстати, рассказывал он нам, будто старец-то бунт декабрьский почувствовал. Весь день тот места себе не находил. «Драка! Драка! В Петербурге бунт против Государя», – говорил и подробно так объяснял, что там происходило, точно сам видел. А потом, стало быть, как Царь-батюшка-то крамолу одолел, так и посветлел лицом, перекрестился. «Слава Богу, – говорит, – Царя богоизбранного даровал Господь земле Русской. Сам Господь избрал и помазал его на царство. Блажены мы, что имеем такого Царя!». Так что нам тут и газет не нужно, пока старец есть, – Степан Васильевич рассмеялся.
– Все бы тебе шутить и балясничать, – покачала головой Попова. – А, что ни говори, много чудес от него идет. Вот и Мантуров…
– Мантуров! Да! Велел ему старец все имение продать – пошел, продал. Велел в нищете туточки поселиться, а клочок земельки, для жития выделенный, девам из общины отписать – так и сделал. Велел все деньги, от имения вырученные, на собор для общины истратить – истратил! Сам гол как сокол остался. Жена его извелась совсем. Мало того молода, красива, так еще – лютеранка!
– Что ж, лучше бы ей было, когда бы муж обезноженным лежал или в землю слег? – возразила Евфросиния Антоновна. – У него ж болезнь тяжкая была. Ни один врач разгадать и помочь не умел. А старец враз его на ноги поставил. Вот в благодарность Богу Мантуров на себя такой крест и взял. Он у старца – правая рука в устроении обители Дивеевской.
– Вот уж не знаю, что бы его жена предпочла, – покачал головой Попов. – Тут его все за юродивого считают, посмеиваются.
– И глупо делают, по-моему, – заметил Саша. – Если человек такой подвиг нести может, так тем только восхищаться можно. Это ведь какую силу духа иметь надо… А мы, пожалуй, заживо гнить будем, а не сможем от своих страстей отречься.
На другое утро после этого разговора Люба отправилась к о. Серафиму. Анна Гавриловна дорогой расхворалась и осталась в постели. Посему Любу сопровождали лишь Саша, горничная Груша и дворовый Поповых Ефим.
День был воскресный, и о. Серафим, как всегда по таким дням, был на службе в Саровской обители. На улице же его ожидала толпа людей. Тут были и крестьяне, и люди купеческого звания, и знатные господа и дамы, и глубокие старцы, и дети – точно вся Россия в миниатюре. Одни пришли за советом, другие искали исцеления от хвори или иной напасти, третьих влекло праздное любопытство. Примостившись следом за пришедшими раньше, Люба, укутанная пледом в своем кресле, стала ждать.
Вот, зазвонили светло и ясно монастырские колокола, возвещая окончание службы.
– Теперь ждите, – сказал Ефим крестясь. – Сейчас батюшка выйдет. Только вы к нему пока не идите. Он по причастии ни с кем не говорит и ни на кого не смотрит. Пойдем следом за ним к его келье, а там, Бог даст, он вас, барышня, и примет. Только кресло ваше надо оставить будет. Дорога-то до кельи через лес идет, не проехать креслу-то.
– Я донесу Любовь Фердинандовну на руках, – ответил Саша, и Люба с благодарностью посмотрела на него. – Далеко ли та келья?
– По счастью, не дюже. Прежде у батюшки другая келейка была. Вот, до той далече было. А ныне, как состарился он, так пришлось новую срубить, поближе. Там неподалеку, сказывают, ему сама Царица Небесная явилась, посохом оземь ударила, и новый колодезь явился. И не простой, целебный. Колодезь тот я сам видел. Как есть чудо!
Пока Ефим говорил, двери обители отворились, и из них вышел согбенный, опирающийся на мотыгу старец в мантии и камилавке, епитрахили и поручнях, в полумантии из цельной кожи с вырезами для одевания, защищающий его от дождей и ветров, и кожаных котах на ногах. Он шел медленно, не глядя по сторонам, опустив глаза долу. И никто не смел мешать его святому сосредоточению, все лишь молча, с благоговением взирали на него. Когда он миновал ожидавшую его толпу, то многие последовали за ним на расстоянии. Последовал и Саша, подхватил Любу с кресла и велев Груше и Ефиму с креслом идти следом.
День был по-осеннему прозрачен и тих. Солнце дарило земле мягкие, рассеянные лучи сквозь стыдливую дымку, а лес, как всегда в эту пору, смотрел особенно торжественно, постепенно слагая свой царский золотой убор к ногам еще невидимой, но уже грядущей зимы.
Паломники неспешно дошли до келейки старца, представлявшей собой маленькую избушку без окон со скошенной на один край крышей. Старец скрылся в ней, так и не взглянув на шедших за ним людей.
Саша вновь усадил Любу в кресло. Она не чувствовала усталости. Ей было хорошо в этом лесу, в этом святом месте, рядом с чудным старцем, всякому слову о чудесах которого она уже верила. Лишь тревожило девушку, что в таком множестве народа ее, сидящую в своем кресле позади всех, батюшка может и не увидеть, и не хватит у него времени на нее.
Прошло совсем не более получаса, и он появился на пороге своего скромного жилища, уже без кожаной полумантии. Теперь о. Серафим смотрел прямо на ожидающих его людей, словно читая их нужды еще прежде, чем они высказали их. Лицо его было весьма красиво – и не только той духовной красотой, какую дает каждодневный подвиг, но и простой, природной. По-русски широкое, но сухое от постов, с высоким лбом, прямым, тонким носом и большими, ясными глазами, оно было обрамлено густыми почти белыми волосами и такой же бородой. Вглядевшись в толпу, старец произнес бодрым голосом:
– Почто же ты, Любушка, позади всех таишься? Ведь я давно тебя жду, радость моя! Поспеши же!
Люба потрясенно взглянула на Сашу. Тот, не менее пораженный явленным чудом прозорливости, подхватил ее на руки и понес сквозь расступившуюся толпу в келью старца.
Келья та внутри показалась еще меньше, чем снаружи. Любу поразило огромное количество зажженных в ней лампад и свечей, от которых в маленьком помещении было весьма душно. Саша усадил ее и взглянул на старца.
– А ты пойди пока, – сказал ему о. Серафим.
Саша с волнением перекрестился на образ Богородицы, и покинул келью. Старец же опустился перед тем образом на колени, помолился недолго и, взяв кружку с водой и частицу просфоры, подошел к Любе:
– Нам с тобой, радость моя, поговорить нужно. Вот, испей-ка водицы богоявленской с просфорою, а там и разговор у нас пойдет с тобой душевный.
Люба послушно съела поданную просфору, выпила воду.
– Хорошо, – кивнул старец, снова становясь на колени, – а теперь возблагодарим Царицу нашу. Повторяй за мной громко, радость моя. Богродица Дево радуйся, Благодатная Мария Господь с тобою…
Как случилось это, Люба не знала, но через мгновение она громко и ясно повторяла вслед за о. Серафимом:
– Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего…
Окончив молитву, батюшка поднялся и, сев напротив Любы, улыбнулся:
– Так-то лучше, радость моя. Твой голос еще многим людям понадобится, грех ему молчать.
Из глаз Любы покатились слезы:
– Спасибо, батюшка! Не знаю, как и благодарить вас…
– А ты не меня, убогого Серафима, а Пречистую Царицу нашу благодари да Сына Ее, – отозвался старец. – Телу твоему, не поропщи, разрешения не будет. Потому не будет, радость моя, что сама ты того разрешения не хочешь. Тяготишься ты оковами своими, терпишь скорбь, а сама боишься утратить их, потому что знаешь, что это для тебя пущей бедой обернется.
Люба опустила голову:
– Так, батюшка. Душа моя преступна перед Богом и моей сестрой…
– Душа твоя светла, радость моя, и много света должна другим подарить. И тому, о ком тоскует твое сердце теперь – первому. Ты все правильно сделала, что с собой привезла его. Ему это на пользу не теперь, но позже будет.
– Вы поговорите с ним, батюшка?
Старец покачал головой:
– Не время, радость моя. Душа его ныне далеко парит, и еще долгий путь ему предстоит пройти, прежде чем сюда возвратиться. А говорить с ним ты будешь, ибо к тебе он обратится, когда мир утратит для него свою прелесть.
Люба смутилась, не понимая слов старца. А тот, угадав это, ответил:
– Не смущайся, радость моя. Твой подвиг только начинается. Многие к тебе приходить будут, ища утешения и помощи. Придет и он. И всем ты тогда нужна станешь, как никто из сильных мира. Не бойся ничего, радость моя, только веруй и терпи все, что ни пошлет тебе Господь. И молись. Многие, пребывая в каждодневной мирской суете, в заботах житейских, не умеют найти довольно времени для молитвы. Тебе же для нее дана вся жизнь. Молись, радость моя. За него молись, за сестру, за будущего племянника. Бог милостив, и, буди молитва твоя сильна, так и отмолишь их счастье, которое сами не сберегут они.
– Где уж мне так молиться, когда я мыслями сама парю, и слова святые мне на ум нейдут. Лишь на ваши молитвы уповаю!
– Не тревожься, я ни тебя, ни их молитвами не оставлю ни на этом свете, ни на том. Но без твоей молитвы не спастись тем, кто дорог тебе, – о. Серафим помолчал. – Ты, вот, радость моя, удивляешься, для чего это столько свечей у меня в келье, так что и без печи жар от них идет. А представь себе, скольких людей мне должно поминать в молитвах. Когда бы я при всяком правиле вычитывал все имена, то и на сами правила бы времени не стало. Поэтому зажигаю я эти свечи в жертву за них. Для одних в отдельности, для других – одну большую на несколько человек, для иных – и по целой лампадочке. И, вот, молясь, тех, кого поименно вспомнить не успеваю, поминаю, прося Господа спасти и помиловать тех, за кого зажжены эти свечи.
– А не благословите ли, батюшка, мне тут остаться? – неожиданно для себя спросила Люба. – Здесь, в обители? Я понимаю, что стану для сестер обузою… Но мне так хорошо здесь. Как никогда и нигде еще не было!
– Не благословлю, радость моя, – покачал головой старец. – Теперь ты к тому не готова и еще нужна будешь в миру своим близким. А коли тяжко тебе дома-то оставаться, так терпи. И муки тела своего терпи и радуйся, ибо они великой наградой увенчаются. Если бы ты знала, радость моя, какая радость, какая сладость ожидают праведного на Небеси, то ты решилась бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы самая эта келия наша полна была червей и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, какую уготовил Бог любящим Его. Там нет не болезни, ни печали, ни воздыхания; там сладость и радость неизглаголанные; там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам святой апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснять красоту горнего селения, в котором водворятся души праведных?!
При этих словах лицо о. Серафима осветилось неземным светом, радостью, словно бы он уже созерцал ту неизъяснимую красоту, и душа его исполнялась восторгом от того. А, быть может, так и было на самом деле? Кто знает, что доступно было взору угодника, коего удостаивала своим посещением сама Небесная Царица?
Люба заворожено слушала, а старец с улыбкой добавил тепло:
– А коли совсем тоска навалится, так ты, радость моя, помолись Богу и скажи: отче Серафиме! Помяни меня на молитве и помолися обо мне, грешной. Тоска и отпустит. А еще пой. Пой псалмы и стихиры. Голос у тебя сильный, чистый, и всегда будет таким. Вот, и пой им Господу нашему славу.
– Я постараюсь, батюшка, – откликнулась Люба.
– Вот и хорошо, вот и славно, – закивал головой о. Серафим и вдруг вновь стал на колени и, взяв ее руки, поцеловал их.
– Что это вы, батюшка? – смутилась Люба. – Это я вам руки целовать должна и в ноги кланяться, когда бы могла!
– Не спорь, радость моя, ибо не знаешь, что делаю, – сказал старец, поднимаясь. – А теперь прощаться будем, – он подал Любе две просфоры – большую и маленькую. – Это с собой возьмешь, и вели еще водицы набрать в колодезе здешнем. Большая просфора – благословение мое младенцу Феодору и матери его. А другая – для тебя. Вкушай частицы ее с водицею ключевой, и то будет тебе укрепа.
Люба с благодарностью приняла дары. Затем старец покрыл ее голову епитрахилью и благословил, после чего отворил дверь и позвал ожидающего снаружи Сашу. Тот, явно теряясь в присутствии святого человека, робко вошел в дом и, увидев счастливо улыбающуюся Любу, заулыбался сам. Уже на улице она сказала:
– Прежде чем вернемся к маменьке, нам надо еще кое-что сделать.
– Что же? – спросил Саша.
– Велите Ефиму, чтобы свез нас к Мантурову. У меня с собой есть немного денег и колечко – я их хочу на обитель пожертвовать. А Попов вчера говорил, что Мантуров распорядитель ее.
– Все будет, как вы скажете, – ответил Саша. – Вы снова говорите – это настоящее чудо! Нам всем не хватало разговоров с вами, вашего голоса. Ваша матушка будет счастлива!
Люба и сама чувствовала себя совершенно счастливой. От вернувшегося дара речи, от слов старца и его обещаний. Впрочем, все, сказанное ей о. Серафимом, она решила до срока хранить в своем сердце, не поверяя никому.
Ефим и Груша сперва засыпали барышню вопросами, что делал и что говорил старец, но получая ответы весьма лаконичные, вскоре затихли, решив, что не все ею может быть рассказано.
С Мантуровым разговаривал Саша. Люба осталась ждать его в экипаже, т.к. погода резко переменилась, и пошел унылый осенний дождь. Впрочем, Михаил Васильевич сам поспешил засвидетельствовать ей свое почтение и благодарность за помощь строящейся обители. Приятно было видеть этого человека, взявшего на себя подвиг добровольной нищеты и совершенного послушания старцу. Мантуров пригласил гостей испить чаю, но день уже склонялся к вечеру, а до имения Поповых путь был неблизок, а потому нужно было возвращаться. Люба, однако же, обещала и впредь оказывать посильную помощь обители.
Так окончилось это паломничество, открывшее Любе новый путь, смысл ее доселе как будто пустой и никому не нужной жизни. Она чувствовала необычайный прилив сил и бодрость. Даже долгая поездка нисколько не утомила ее. Возвратившись к Поповым и коротко рассказав о совершенном с нею молитвами о. Серафима чуде, она оставила более красочное и подробное повествование жаждавшему поделиться впечатлениями Саше, а, сама, поужинав и простившись с матерью, выразила желание побыть одной. Горничная помогла ей раздеться и улечься в мягкую, согретую грелкой постель и ушла, полагая, что барышня от усталости немедленно уснет. Однако, Люба вовсе не хотела спать. Прочитав вечернее правило и акафист Пресвятой Богородице, она достала бумагу и карандаш и принялась набрасывать черновик письма дорогому Ивану Ивановичу Козлову, с коим более всего ей желалось теперь поделиться своей духовной радостью…
Глава 21.
На квартире Никольских Юрий прогостил недолго. Что и говорить, а прежнего московского уюта поубавилось здесь. Да и Никита весь погружен был в дела государственные. Учреждение Технологического института, восстановление института Педагогического, работа над новым цензурным уставом – ничего-то не проходило мимо Никольского. Даже и к учреждению Морского штаба и Корпуса корабельных инженеров его ясный ум приложен был.
Дома Никита и не бывал почти. А коли уж случалась такая радость, так осаждали его визитеры – да все-то по делам срочным! Когда уж тут и поговорить по душам? Да и сил не оставалось у Никольского на прежние задушевные беседы. Измотался старый друг, лицо, прежде румяное да упитанное, осунулось, побледнело. Зато глаз горел, и голос обретал обычную силу и убежденность, стоило только заговорить ему о том, сколько еще всего сделать предстоит! Архитектурное училище открыть, Сиротский институт… А Полное Собрание Законов Российской Империи? Сколько в прошлое царствование бились над ним, и без толку! И лишь теперь пошло дело, и надо дальше, дальше двигать его. Да еще ж от разных дурней и интриганов оборону держать… Самое, пожалуй, наисквернейшее занятие – только нервы сжигать да кровь с пищеварением портить.
Постоянная толчея на квартире старого друга утомляла Стратонова. К тому огорчился, заметив, что младший Борецкий с Апраксиным, в самом деле, слишком частые гости здесь. Заметил об этом вскользь Варваре Григорьевне. Та лишь руками развела в недоумении:
– Так разве же мне выставить их, когда они приходят? К тому же, Александр Афанасьевич мне кажется очень милым человеком… И его жена…
– Отчего же она не заходит?
– Она, кажется, в положении и не очень хорошо чувствует себя.
Юрию было жаль тревожить невинную душу Вариньки, а, тем более, отвлекать от государственных дел Никиту. Да и не объяснишь же им всего…
Саша при встрече что-то лепетал бессвязное и глазами косил, извинялся, что не укараулил сестры. Век бы не видеть ее… Да, впрочем, и с Сашей разговоры разговаривать никакой охоты не было. А уж тем паче находиться в обществе неразлучного с ним Михаила.
К тому еще тяготило Стратонова вынужденное общение с подрастающим сыном. С каждым годом мальчик всю больше походил на мать, и, видя его, Юрий не мог избавиться от черных подозрений – его ли это ребенок? Не единой черточки отцовской в нем, будто вовсе чужая кровь…
Помаялся Юрий некоторое время у старых друзей и покатил в Москву – родительским могилкам поклониться. Там несколько дней прожил в опустевшем доме Никольских, где теперь жили лишь старые девы да несколько человек прислуги. Родным был этот дом, но без Никиты и Вари чувствовал себя Стратонов чужим и в его стенах. Снова навалилась пудовой тяжестью тоска. Что за жизнь собачья выходит? Никому-то не нужен он, никто-то его не ждет…
И вдруг – точно колокольчик вдали прозвенел – послышалось забытое: «Мы вас будем ждать!» И чистые глаза девочки, смотревшие так прямо и искренне при этих словах… Почти четыре года с той поры минуло. Давно, небось, забыла девочка свои слова. Может, и замужем уже. А что если не забыла? Ведь и он, Юрий, дал слово тогда непременно навестить их с сестрой по возвращении с войны. Отчего бы не сдержать его? Слово, в конце концов, держать нужно всегда.
Рассудив так, Юрий написал письмо свояку, спросив разрешения пожить некоторое время в его имении, и получил щедрый ответ, предоставляющий апраксинский дом в его распоряжение в любое время. С тем и отбыл в Клюквинку.
Здесь на первый взгляд мало что изменилось за истекшие годы. Разве только в еще большее запустение пришло, да деревья снежные уборы сменили на золотые… Заночевав, как и в первый приезд, во флигеле, Стратонов на другой день отправился с визитом к Мурановым.
Обступавший со всех сторон старый дом сад был особенно хорош в эту пору, переливаясь багряно-золотистыми оттенками и печально роняя листья на неметеные аллеи.
Встречала Юрия неизменная Савельевна:
– Простите, барин, не ждали мы вас, – приветствовала с поклоном. – Софья Алексеевна сейчас спустится.
– А Дарья Алексеевна что же?
– Сестра умерла год тому назад, – раздался высокий голос, и, подняв глаза, Стратонов увидел стоящую на лестнице Софьиньку.
То была уже не та девочка, что осталась в его памяти, а молодая привлекательная девушка. Ее нельзя было назвать красавицей. Как и сестра, она была чересчур худа, но казалась хрупче, нежнее. На тонком, миловидном лице ее, обрамленном светлыми волосами, замечательны были глаза – большие, темно-зеленые, с длинными веками, смотрящие уверенно и проницательно.
Юрий поклонился хозяйке:
– Примите мои соболезнования по случаю кончины вашей сестры.
– Благодарю вас, – кивнула Софьинька. – Аграфенушка, ты пригляди, чтобы к обеду все приготовили, а мы с генералом, если он не против, прогуляемся по саду.
– С удовольствием, Софья Алексеевна, – кивнул Стратонов.
Савельевна набросила на плечи барышни теплую накидку, и она, опершись на предложенную руку Юрия, спустилась в сад.
– Я рада и благодарна, что вы посетили нас, – сказала Софьинька.
– Я ведь дал вам слово.
– В самом деле… И я бы очень рассердилась, если бы его не сдержали. Ведь я не подарила вам портрета.
– Вы все-таки написали его?
– Конечно, – улыбнулась девушка. – Я также держу свои обещания.
– Неужто вы и впрямь ждали меня, как обещали? – полушутя спросил Стратонов.
– Да, Юрий Александрович, я вас ждала, – серьезно ответила Софьинька.
Юрий вздохнул.
– Отчего вы вздыхаете?
– Мне приятно, Софья Алексеевна, что вы ждали меня. Хотя, признаюсь, это меня удивляет.
– Не удивляйтесь. Вы же знаете, как одиноко жили мы с сестрой.
– Вам, должно быть, очень недостает ее?
Софьинька вздохнула и опустила голову:
– Не считая няни, она была у меня единственным родным человеком. Первое время нам было очень тяжело без нее. Сейчас немного легче…
– А что же хозяйство? Кто теперь занимается им?
– Приходится мне, – отозвалась девушка.
– Вам? – удивился Стратонов.
– Чему вы удивляетесь? Даша была немногим меня старше, когда на нее легло это бремя. К тому же она кое-чему научила меня. Да и няня помогает.
– Помилуй Бог, ведь это непосильное бремя и подточило силы Дарьи Алексеевны! – воскликнул Юрий.
– Что поделаешь? Кто-то должен нести его, – отозвалась Софьинька.
Они обогнули старую липу и остановились у засыпанного листвой пруда.
– Почему бы вам не выйти замуж? – спросил Стратонов, глядя на воду. – Вы молоды, хороши собой, умны. Я никогда не поверю, что не нашелся бы кто-нибудь…
– Кто-нибудь? – блеснули неожиданно казавшиеся дотоле меланхоличными глаза. – Боюсь, что кто-нибудь мне не нужен.
– Простите, я не так выразился… Я хотел сказать, что наверняка есть достойные люди, которые рады были бы разделить с вами это бремя.
– Достойные, да, есть, – согласилась Софьинька. – Но любимых нет, – она опустилась на маленькую скамейку и, подобрав валявшийся на земле желудь, бросила его в воду.
– Ах да… – вздохнул Юрий. – Вы, вероятно, ждете настоящей любви…
– Разве это плохо? – спросила девушка, пытливо взглянув на него.
Стратонов отвел глаза:
– Право, не знаю, что вам ответить. Мой опыт не принес мне ничего доброго. С другой стороны, мой старый друг Никольский женился по любви и счастлив, равно как и его жена… Увольте, Софья Алексеевна. В этом вопросе вы не найдете советчика хуже.
– Разве могут быть хорошие советчики в чужих чувствах?
Юрий внимательно посмотрел на свою спутницу. Как странно говорила эта девочка! Будто бы уже многое видела и пережила. И никакого жеманства нет в ней, никакого кокетства. Должно быть, только вдали от света и сохранились еще такие чистые, цельные души.
– Возвратимся в дом, Юрий Александрович. Обед, должно быть, уже готов. Не взыщите на скромность угощения: мы не ждали гостей.
– Помилуйте, я ведь солдат. А много ли нужно солдату?
– Простите, я ведь не поздравила вас с новым чином, – чуть улыбнулась Софьинька, подавая Стратонову руку.
– Благодарю вас, Софья Алексеевна.
– Вы ведь расскажете нам с няней о войне?
– Вы же знаете, что из меня рассказчик никудышный. Вот, был бы здесь мой свояк Апраксин – он бы многое вам порассказал!
– И, в основном, насочинял бы! – рассмеялась Софьинька. – Юрий Александрович, разве в красноречии дело? Красноречивых людей много, да только сами они зачастую пусты и легковесны. И ничего-то, кроме слов, у них нет. А вы жизнью рисковали не раз, в лицо смерти смотрели. Это дороже любых слов.
– Спасибо, – немного смутившись похвалой, отозвался Стратонов. – Вы, как я вижу, хорошо разбираетесь в людях?
– Добавьте еще – «в ваши-то годы». Вы ведь хотели это добавить, я права?
– Признаюсь, редкая девушка в ваши годы имеет такие суждения.
– Не забывайте, Юрий Александрович, что доля моя сиротская, а она заставляет рано взрослеть.
– В этом мы с вами схожи. Я ведь тоже сиротой остался, когда отец умер от ран. Когда бы ни князь Петр Иванович Багратион, то и не знаю, как бы сложилась моя жизнь.
Незаметно для себя, Стратонов стал рассказывать Софьиньке о своей жизни и, когда дошел до знакомства с Катрин и запнулся, то удивился себе – никому прежде, кроме, разве что, Никиты не рассказывал он о себе с такой легкостью. И никто не слушал его с таким вниманием…
– Простите, вам, должно быть, вовсе неинтересно меня слушать.
– Напротив, я рада, что теперь хоть немного знаю о вашей жизни… Но отчего же вы прервались?
– Оттого, что дальше и рассказывать-то особо нечего… – откликнулся Стратонов. – Вам про то неинтересно будет слушать.
За обедом Софьинька рассказывала о том, как удается ей ладить с крестьянами и чему учила ее при жизни покойная сестра. При упоминании своей любимицы старуха Савельевна тяжело вздыхала, промакивала глаза платком и крестилась. Хотя Софьинька настояла, чтобы она сидела «за барским столом», невзирая на присутствие гостя, Аграфенушка не проронила ни слова за все время обеда. Впрочем, рассказ об Эчмиадзинской битве и взятии Эривани слушала она с не меньшим волнением, чем ее барышня. Много рассказывал Стратонов о генерале Красовском и архиепископе Нерсесе, о Бенкендорфе и Мадатове, умалчивая, впрочем, о Паскевиче, которому не мог простить преследования своих боевых соратников.
– Обо всех-то вы нам рассказали, Юрий Александрович, и лишь о себе умолчали, – заметила с улыбкой Софьинька.
– Что же сказать о себе? Даже и припомнить нечего, – развел руками Стратонов.
– Оттого, должно быть, и столько крестов у вас, что припомнить вам нечего, – покачала головой девушка. – Что ж, идемте в таком разе – покажу вам обещанный портрет. Только уж вы не судите строго – я ведь не мастер и писала по памяти.
– Я бы никогда не позволил себе судить о картине, столь мало смысля в живописи.
Они поднялись на второй этаж, и Софьинька провела Юрия в свои покои, где в углу на мольберте стоял покрытый тканью портрет. Юная художница с волнением сняла покрывало и застенчиво потупила глаза.
И вновь удивился Стратонов. Хотя и не смыслил он в живописи, но не до такой же степени, чтобы не оценить совершенное сходство портрета с оригиналом. Разве что польстила немного художница последнему, чуть утончив, сгладив черты…
– Мне кажется, Софья Алексеевна, что я вышел немного идеальным на вашем полотне, – весело заметил он.
– Быть может, но разве что совсем чуть-чуть, – ответно улыбнулась она. – Расстояние всегда все сглаживает в тех, кого мы ждем. И живопись свидетельствует об этом… Вы позволите, подарить вам этот портрет?
– Я был бы рад принять его, но еще большую радость мне бы доставило, если бы он остался у вас, заняв место в вашей галерее. Я ведь бесприютен, Софья Алексеевна. У меня нет даже своего угла, где бы ваша картина могла обрести достойное место. То ли дело здесь!
– Признаюсь, мне самой было бы жаль с ней расстаться. Я уже привыкла к ней… – откликнулась Софьинька.
За окном смеркалось, и, задернув занавески, она зажгла свечи. От этого небольшая комната сделалась еще более уютной, а ее хозяйка обрела особое мягкое очарование, теплое обаяние полутонов, говоря языком живописцев…
– Скажите, вы ведь скоро уедете опять, не так ли? – тихо спросила Софьинька.
– Конечно. Ведь я служу моему Государю и должен возвратиться к нему. Здесь я пробуду еще две недели, а затем вернусь в Петербург.
– Две недели… Так недолго… – вздохнула девушка, накинув шаль на хрупкие плечи. – Однако, все же лучше, чем один день, как в прошлый раз… Вы ведь навестите нас еще в эти две недели, не правда ли?
– Всегда ваш гость, – чуть поклонился Стратонов.
– Тогда считайте, что вы приглашены к обеду на всякий день, который пробудете в Клюквинке, – сказала Софьинька.
– Благодарю вас и с радостью принимаю ваше приглашение, – откликнулся Юрий.
Он искоса оглядывал комнату девушки, пытаясь найти в ней что-то, что помогло бы ему понять характер ее хозяйки. Все прибрано, во всем строгость и совершенно немецкий порядок. В красном углу несколько икон и лампада, на столе чернильный прибор и стопка книг. Книги, большею частью, хозяйственные, оставшиеся от Дарьи Алексеевны. И как не тяжело читать их юной барышне? Кроме книг, впрочем, несколько петербургских и московских журналов имеется. Номера свежие – стало быть, выписывает их Софьинька, следит за литературой русской. А Юрий в ней – сущий солдафон, за четыре года толком и не читал ничего. На войне не до книг и журналов было…
У постели на столике – Евангелие и Псалтирь. Стало быть, девушка религиозна. У сверстниц ее все больше переводные романы заменяют священные книги… На кровати большая красивая кукла. Слава Богу, хоть что-то типичное для юной барышни…
И мольберт с картиной. И с ним – странное что-то. Ведь портрет написан давно. Вряд ли с той поры Софьинька не брала в руки кисти. А на мольберте так и стоит несколько лет назад написанная картина. Может нарочно, перенесла ее сюда, чтобы показать ему? Нет, не успела бы. Ведь он приехал так внезапно. Выходит, все это время жил его портрет в ее покоях?..
Софьинька стояла у окна, о чем-то думая.
– Приедете ли вы в Клюквинку вновь, Юрий Александрович? – спросила она негромко.
– Не знаю, Софья Алексеевна. Ведь это не мой дом.
– А вы все равно приезжайте. Мы вас будем ждать, – девушка обернулась. Лицо ее казалось спокойным, но в глазах затаилась тоска.
– Зачем вам ждать меня, Софья Алексеевна? Мы ведь едва знакомы с вами.
– Может быть, потому, что всякого человека кто-то должен ждать? – прозвучал ответ.
Стратонов не нашелся, что возразить. Ведь его и впрямь давно уже никто не ждал. В душе Юрия боролись два чувства. С одной стороны, ему хотелось, чтобы эта странная девушка ждала его и впредь, хотелось видеть ее вновь. С другой… Для чего ей ждать его? Его, годящегося ей едва ли не в отцы, не имеющего ни кола, ни двора, а, главное, уже связанного узами брака… Будь они прокляты эти узы… И какое же право имел он желать, чтобы юная, прекрасная девушка ждала его? Она еще слишком чиста и наивна и потому так легко следует своему чувству. Но он стал бы преступником, потакая ему. Когда-нибудь она встретит достойного ее человека и будет с ним счастлива. Ему же давно пора забыть о подобном счастье. В сущности, он и забыл, но эта встреча нечаянно пробудила забытое…
В Клюквинку Юрий возвращался в глубоком смятении. Он хотел было немедленно отбыть в Петербург, но вспомнил, что уже пообещал Софьиньке в течение двух недель быть ее гостем каждый день. Обмануть, обидеть ее Стратонов не мог…
Она же, проводив его, в тот вечер еще долго стояла у окна, глядя в темноту и не вспоминая о расходных книгах, лежащих на ее столе.
– Не должно, барышня, мужчину в свои покои вводить, – с укоризной сказала вошедшая няня. – Срам это, вот что! Покойная барыня никогда бы не дозволила!
Софьинька молчала, перебирая в руках четки.
– И портрет его… Три года он уже в вашей спальне стоит, точно икона какая! Думаете, я не знаю, что это при людях вы на него покрывало-то накидываете, а, как одна бываете…
Девушка опустила глаза. Так все и было. Оставаясь одна, снимала она полотно и долго-долго вглядывалась в благородное лицо, продолговатое, с округлым подбородком, твердым очертанием рта, чуть закрученными усами, прямым носом, высоким лбом, словно шрамом перерезанным меж бровей глубокой морщиной и серыми печальными глазами, так не сочетавшимися с образом бравого воина, героя многих сражений. Софьиньке казалось, что ей так и не удалось верно передать их выражение. Сколько раз видела она этот взгляд во сне, но, берясь за кисть, не могла перенести его на холст…
– Полно тебе, няня, ворчать, – вымолвила, наконец, девушка.
– Конечно, что вам до того, что старая дура бормочет… Только уж я вам скажу. Не тем вы голову свою забиваете. О чужом муже грезить – срам!
– Где же теперь жена его?
– Не все ли равно? Важно, что она есть. А, значит, ничего меж вами быть не может.
– Не может, я знаю.
– А почто тогда душу себе травите? Назавтра уедет он и не вернется больше…
– Он вернется, няня.
– Да с чего вы это взяли?
– С того, что никто его больше ждать не будет так, как я… А человек всегда возвращается туда, где ждут… Где любят… Человек возвращается к человеку.
– И зачем, позвольте спросить, он вернется? И вам, барышня, самой – что от него нужно? Двоих женихов вы от себя уже отвадили, чаю, и с другими так же обойдетесь. А для чего? Чего вы хотите?
– Не знаю, няня… Хочу, чтобы был он жив и здоров. Чтобы помнил меня и видел во мне друга. Чтобы знал, что здесь всегда ждут его. Чтобы хоть изредка писал о себе и навещал… Чтобы сидеть с ним так, как сегодня, и говорить, или, вон, по саду бродить… И все-все понимать друг про друга.
– Умом вы повредились, барышня, не иначе! – развела руками Савельевна. – Люди-то что скажут о вас?
– Что мне дело до людей, когда я их почти не вижу в нашей глуши? Я люблю Юрия Александровича, понимаешь ли ты это? Я знаю, что это неправильно. Но в жизни много неправильного. Лгать перед алтарем, а потом всю жизнь – это ли правильно? Я ведь его все равно забыть не смогу. Я это сразу поняла, хотя тогда еще ребенком была. А его увидела, и что-то со мной случилось. Мне глаза его все эти годы снились… Заметила ли ты, сколько в них печали? Даже когда он улыбается. Я уже за этот взгляд один всегда его буду и ничьей больше.
– Чистое наказание с вами, барышня! Дарья Алексеевна, касаточка моя, в могилу себя свела, силы свои надрывая, чтобы хоть у вас-то другая судьба была! А вы теперь также извести себя и зачахнуть хотите!
Старуха всхлипнула, и Софьинька, отойдя от окна, обняла ее:
– Прости, нянюшка. Я знаю, чем Дашеньке и тебе обязана. И не страшись: ничего со мной не случится. Но сердцу своему я приказывать не вольна и от любви своей отказываться не стану. От него я ничего не требую. Мне довольно любить самой. Эта любовь – единственное, что согревает меня, что придает сил. И без нее я скорее зачахну, чем с нею.
Эти слова мало утешили старую няню, но корить непутевую барышню она больше не стала.
– Бог с вами, вам жить. А теперь оставьте-ка ваши грезы да порадуйте старуху. Почитайте что. Вон, стихи из журналов ваших или уж из Житий что…
К стихам старуха питала большую слабость. Особливо же – к стихам Пушкина с той поры, как еще Дашенька читала ей и Софьиньке вслух «Руслана и Людмилу». Недолго думая, Софьинька взяла недавно присланную ей новую поэму Александра Сергеевича «Полтава», вышедшую отдельным изданием еще в начале года. Ничего более совершенного Софьиньке не приходилось читать доселе и, усадив няню в удобное кресло, она принялась вдохновенно читать уже запомнившиеся строки:
– Тебе – но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?
Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе -
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.
ИНТРИГА
Пролог
– Вы уезжаете? – этот вопрос она задала сама, задала после того, как он целый вечер маялся, не зная, как сказать, как объяснить… В сущности, не было никакой необходимости что-либо объяснять: их отношения были всего лишь приятельскими, добрососедскими. Но… За те дни, что Юрий провел в Клюквинке, каждый день бывая у Софьиньки, душа его прикипела к мурановскому дому. К этой простой, далекой от последних мод гостиной с портретами и натопленной печью, к запущенному саду, старые липы которого видели не одно поколение владельцев усадьбы и знали немало сердечных тайн, к ворчливой Савельевне, а самое главное – к Софье Алексеевне с ее чуждой светских уловок непосредственностью, радушием, теплотой. Ему было удивительно хорошо рядом с ней. Молчала ли она или рассказывала о чем-то, читала ли что-то из любимых книг или рисовала… И даже когда занималась она конторскими книгами – все равно рядом с нею душу окутывал непривычный уют.
Знал Юрий, что и Софьинька рада его обществу. Вот только какова была эта радость? Юная барышня, живущая в глуши, в уединении, видящая лишь старуху-няню и своих крестьян, начисто лишенная общества – могла ли она не радоваться гостю? К тому же гостю с репутацией героя, что так ценилось в мурановском семействе, и что уж конечно могло вдохновить романтическую душу юной художницы. Было ли в ее радости нечто большее? Этот вопрос Юрий гнал от себя, боясь его. Глядя в глаза Софьиньки, он видел в них нечто куда большее, и тогда сердце его охватывал давно позабытый трепет. Стоило оказаться в холодном, заброшенном доме Апраксиных, и все виденное казалось ему не более чем самообманом, мечтой усталого одиночества.
Зачем он нужен этой прекрасной девушке? Он годится ей в отцы, он дослужился до генерала, но так и не имеет за душой ничего, кроме жалования, ему негде жить, а, самое главное, он до сих пор связан с женщиной, одна мысль о которой отравляла сердце. Какое же право имеет он смущать эту чистую, как озеро, душу, невольно пробуждая в ней, быть может, чувство, у которого нет будущего? Свою жизнь он искалечил – это ясно. Но неужто он, генерал Стратонов, падет до того, чтобы искалечить еще и чужую? Нет, никогда…
Чем дороже становилась ему Софьинька, чем радостнее она улыбалась ему при встрече, тем крепче становилось решение уехать как можно скорее, разорвать все, пока и рваться-то почти нечему, кроме слишком откровенных взглядов и слишком сокровенных грез…
Но ведь можно же развестись? Пусть это тяжело, стыдно, пусть Государь крайне дурно относится к разводам, но его жена бросила его, сбежала за границу… Церковь в таком случае не может отказать… Ну, а что же дальше? Привести это неземное создание в Петербург? Поселить на казенной квартире, лишенную общества (и Боже упаси ее – от столичного общества)? И пусть живет, как сможет, на его жалование, пока он будет пропадать на службе, месяцами сражаться где-нибудь на окраинах Империи? Насколько-то хватит ее? Заскучает, заведет знакомства, станет выезжать в свет, искать для этого средства и… Нет! С него довольно было одного раза!
Конечно, можно было бы самому оставить службу и поселиться здесь, взять на себя груз хозяйственных забот, которые до срока свели в могилу сестру Софьиньки, а теперь угнетают ее саму. Но, зная себя, Стратонов понимал, что такая сельская идиллия не сможет удовлетворять его сколь-либо долго. Он был солдатом, и его место было в строю, на поле брани. И променять судьбу воина на судьбу скромного помещика он не мог и не желал ни за что! Да и Софьинька… Она видит теперь в нем героя Бородина и Лейпцига, Персидской и Турецкой войн. А превратись он в того самого помещика в куце сидящем сюртучке, с брюшком, в очках, склонившегося над конторскими книгами… Пожалуй, и сошел бы быстро романтический дурман.
Нет, все это лишь пустые грезы, которые опасно длить чересчур долго. Когда бы встреча эта случилась лет пятнадцать-двадцать назад…
– Так вы уезжаете? – снова прозвучал вопрос. Голос Софьиньки оставался ровным, и лишь тонкие пальцы лежавшей на поручне правой руки судорожно сжались.
– Уезжаю, Софья Алексеевна, – глухо отозвался Стратонов.
– Отчего же… так рано? Ведь отпуск ваш еще не истек, неправда ли? Впрочем, простите. Я, верно, глупость спросила. Ведь у вас, должно быть, много куда более важных дел, чем коротать вечера в нашем захолустье…
Если бы хоть одно было!.. Еще бы знать, куда ехать теперь – уж больно в Петербург возвращаться не хотелось. Разве что кого из сослуживцев проведать. Хоть бы и Давыдова навестить. Этот славный воин и не менее славный сердцеед, кажется, наконец, успокоился, обретя дом и чудесную жену, нарожавшую ему ребятишек. Вот, порадоваться чужому счастью…
– Что вы, Софья Алексеевна, эти вечера навсегда останутся в моей памяти, как одни из самых прекрасных минут моей жизни, поверьте слову.
Щеки Софьиньки вспыхнули, и она отвела взгляд, сделав вид, что оправляет темно-вишневую шаль.
– Однако, мне, действительно, нужно успеть навестить старых друзей, прежде чем я возвращусь в столицу.
– Я понимаю, – Софьинька вымученно улыбнулась. – Но ведь вы навестите нас еще, неправда ли? Мы вас будем ждать… – она помедлила, произнесла тише: – Я вас буду ждать. Теперь, к сожалению, только я…
– Действительно, будете? – с сомнением спросил Стратонов.
– Разве я обманула вас, когда обещалась в прошлый ваш приезд? В следующий все будет так же…
– Не зарекайтесь, Софья Алексеевна. Вы же не знаете, как изменится ваша жизнь за этот срок.
– Она не изменится, Юрий Александрович, – спокойно отозвалась Софьинька, поднявшись и подойдя к потрескивающей печи. – Когда вы приедете навестить нас в следующий раз… Через год, через два, через пять – неважно… Все здесь будет так же. Этот дом, этот огонь в печи, этот стол с трещиной на краю, эти портреты… И сад. Разве что я немножко постарею. Но ведь вы не поставите мне это в вину, неправда ли?
Она как будто шутила, но Юрий чувствовал, что за шуткой скрывалась боль, и от этого страдал сам.
– Я никогда и ничего не поставлю вам в вину.
– Не зарекайтесь. Откуда вы знаете, что изменится за те годы, которые я вас буду ждать? Так вы обещаете снова навестить нас?
– Да, Софья Алексеевна, обещаю, – отозвался Стратонов. – Но… лучше бы вам не ждать меня. Ни к чему вам меня ждать.
– Человеку нужно, чтобы его кто-то ждал… Это я вам уже говорила однажды. А еще человеку нужно… кого-то ждать. Или чего-то… Иначе жизнь становится бесцельной, а так жить очень тяжело. Вам так не кажется?
– Пожалуй. Но когда цель недостижима, ожидание не приносит радости.
– Недостижимых целей не бывает, – карие глаза Софьиньки прямо посмотрели в лицо Юрия. – Разве вы, когда воевали, думали, что тот или иной вражеский редут, та или иная крепость – недостижима? Если бы вы так думали, то не выиграли бы ни одного боя…
Стратонов чуть улыбнулся:
– Ваши суждения очаровательны, Софья Алексеевна! Вам бы, ей-Богу, полком командовать!
– А что! – Софьинька задорно прищурилась. – Я бы не отказалась!
Он вновь залюбовался ею, ее детской непосредственностью, ее открытостью, навстреч распахнутостью, какую светские лицемерные ханжи, пожалуй, сочли бы «неприличной». К этой девочке не ходили учителя, за ней не надзирали мамзели и бонны. Все ей было дано природой – мягкая, трогательная красота первоцвета, грация, умение держать себя, ясность ума и чуткость сердца… Если бы все женщины были таковы…
– Юрий Александрович, пообещайте оказать мне одну услугу, – попросила Софьинька, уже прощаясь.
– Какую, Софья Алексеевна?
– Обещайте писать мне хотя бы иногда. У меня ведь… – она замялась, – никого нет в целом свете. Я имею ввиду – друзей. Кому бы я могла всецело доверять…
Это робкое признание растрогало Стратонова. Крепко пожав руки Софьиньки, он ответил:
– Я обещаю вам, Софья Алексеевна. И хотя я не мастер писать, но вам – обещаю. Тем более, что у меня не так-то много корреспондентов…
– Я тоже буду писать вам…
– Конечно. Пишите лучше на адрес моего друга Никольского. Там ваши письма не затеряются никогда.
– Я так и поступлю.
– Да… Если вам будет что-то нужно, Софья Алексеевна, то сообщите мне непременно. Я ваш друг – что бы ни случилось – до гробовой доски. Я благодарен вам за ваше гостеприимство, за то участие, с которым отнеслись ко мне в вашем доме. И вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку.
Юрий выпустил ее руки и, прежде чем откланяться, вымолвил:
– А еще – простите меня, Софья Алексеевна!
– За что же? – удивилась Софьинька.
– За то, что в жизни все зачастую происходит глупо и не вовремя… – вздохнул Стратонов.
– Неправда, – покачала головой девушка. – В жизни все происходит тогда, когда на то есть Божья воля. А значит, когда и должно быть…
Юрий несколько мгновений молча смотрел на нее, борясь с желанием высказать сокровенное, изменить принятое решение, остаться. Но долг, как всегда, взял в нем верх над чувством. Он счастлив был оставаться другом этого чистого и прекрасного создания, быть ее защитником, какового никогда не было у нее, каким мог бы быть ей погибший отец, но посягнуть на эту чистоту, но внести хаос в светлую душу – никогда. Так и провел отныне и навсегда черту, определил бесповоротно: его долг быть ее защитником. В том числе от самого себя… А сказано в этот вечер и без того было слишком много.
– До встречи, Софья Алексеевна! Будьте счастливы!
При этих словах по бледным губам Софьиньки промелькнула печальная улыбка.
– Храни вас Бог, Юрий Александрович!
Тонкие персты сложились вместе, и она трижды перекрестила его.
На том и расстались вторично. И как и в прошлый раз, уезжая, Стратонов видел стоящую у крыльца тонкую фигуру в наброшенной на плечи накидке. Правая рука ее была приложена к груди, левая едва заметно махала вслед. Юрий не мог видеть глаз Софьиньки, но мог поклясться, что в них стояли слезы…
Глава 1.
Петергоф прекрасен во всякое время года, но летом эта жемчужина, созданная гением лучших европейских архитекторов, сияет особенно ярко. Однако этим солнечным июньским утром Николаю было не до петергофских красот. Десять дней назад в Витебске от холеры скончался брат – Великий Князь Константин Павлович. А накануне из столицы пришли тревожные известия о народных возмущениях, вызванных распространяемыми подстрекателями слухами о том, что якобы господа нарочно измыслили холеру, чтобы извести простой народ, и просто-напросто травят его в то время, как сами уехали из города. Хотел бы посмотреть Николай на тех, кто измышлял эти безумные клеветы! Вот уж, кто заслуживал виселиц нисколько не меньше, чем Пестель сотоварищи! Чего добились они? Что несчастный, лишенный разума страхом перед смертоносной болезнью народ ополчился на лекарей? Стал нападать на холерные кареты и выпускать больных, умножая их число? Безумцы и негодяи…
Что и говорить, пораженная болезнью столица являла собой зрелище поистине ужасающее. Ее улицы опустели и умолкли, и лишь зловещий скрип холерных повозок нарушали кладбищенскую тишину. Трупы не успевали убирать сразу, и они лежали на мостовой и тротуарах. Каждый день люди умирали сотнями. Все, кто мог уехать из города, поспешили сделать это. Увез и Николай свое семейство в Петергоф, подальше от опасности…
Но большинству горожан деваться было некуда, и в таком отчаянном положении несчастные легко верили любым, даже самым невообразимым слухам, пускаемым негодяями.
Вышагивая вдоль Ольгиного пруда, чья безмятежная, темно-синяя гладь действовала на душу умиротворяюще, Николай то и дело посматривал в сторону дворца, ожидая свежих вестей из столицы. То, что вести эти сегодня непременно будут и уж конечно недобрые, он не сомневался. Раз уж замутились души и умы, то сами собой не отрезвятся.
Холерные бунты уже вспыхивали в различных уголках России. Карантины, вооруженные кордоны, запреты передвижений вызывали недовольство. Слухи о якобы намеренном отравлении правительственными чиновниками и лекарями простых людей возбуждали самые темные чувства, звериные инстинкты. Обезумевшие толпы громили полицейские управления и казенные больницы, убивали чиновников, офицеров, дворян-помещиков… В ноябре минувшего года в Тамбове горожане напали на губернатора. Усмирить их удалось лишь регулярными войсками. А в Севастополе и в военных поселениях Новгородской губернии бунтовщики учинили свой суд и выборные комитеты из солдат и унтер-офицеров и вели агитацию среди крепостных крестьян. Само собой, все подобные бунты были подавлены.
Однако, слухи, будоражившие лишенных рассудка страхом людей, были не менее живучи и легко распространимы, чем сама зараза. И, вот, докатились обе напасти рука об руку до столицы… Жаль, что в Петербурге нет такого пастыря, как московский митрополит. Он бы, пожалуй, тотчас нашел нужное слово для помраченных душ, вырвав их у бесов-подстрекателей… Еще при первых намеках на грядущие беспорядки Николай просил владыку Филарета приехать в столицу, но тот не смог оставить Москвы, где в эти же дни холера напомнила о себя новой вспышкой.
Стайка уток опустилась на подернутую налетевшим ветерком гладь пруда. Николай в задумчивости остановился и, взглянув на затягиваемое облаками небо, вздохнул.
И пожелаешь на лаврах почить, так Бог не даст. Особливо в России, где уж если на востоке порядок наведен, так уж непременно на западе полыхнет, или уж внутри какая-ни-на-есть холера приключится…
Не успели поставить на место персиян и турок и отпраздновать громкие виктории, как всколыхнулась вероломная и не знающая покоя Польша.
Польша постоянно была соперницей и самым непримиримым врагом России. Это наглядно вытекает из событий, приведших к нашествию 1812 года, и во время этой кампании опять-таки поляки более ожесточенные, чем все прочие участники этой войны, совершили более всего злодейств из тех же побуждений ненависти и мести, которые одушевляли их во всех войнах с Россией. Но Бог благословил наше святое дело, и наши войска завоевали Польшу. Император Александр полагал, что он обеспечит интересы России, воссоздав Польшу как составную часть Империи, но с титулом королевства, особой администрацией и собственной армией. Он даровал ей конституцию, установившую ее будущее устройство, и заплатил, таким образом, добровольным благодеянием за все зло, которое Польша не переставала причинять России. Но цель императора Александра была ли достигнута?
Не подлежит ни малейшему сомнению, что эта маленькая страна, разоренная беспрерывными войнами, в пятнадцатилетний промежуток времени достигла замечательного благосостояния. Армия, созданная по образцу армии Империи, снабженная всем и богато наделенная запасами в арсеналах, оказалась в состоянии послужить кадрами для 100000 человек. Что же хорошего вышло из этого для Империи?
Империя в ущерб своей собственной промышленности была наводнена польскими произведениями; одним словом, Империя несла все тягости своего нового приобретения, не извлекая из него никаких иных преимуществ, кроме нравственного удовлетворения от прибавления лишнего титула к титулам своего государя. Но вред был действительный. Прежние польские провинции, видя, как их соотечественники пользуются вблизи их всеми правами самостоятельного народа, которыми они даже злоупотребляют, более чем когда стали задумываться над тем, как ускользнуть от владычества Империи. Поэтому оказалось, что при первой же искре эти провинции готовы были восстать и, как следствие этого, самым пагубным образом повлиять на действия армии. Другое, еще более существенное зло заключалось в существовании перед глазами порядка вещей, согласного с современными идеями, почти неосуществимого в королевстве, а следовательно невозможного в Империи. Зародившиеся надежды нанесли страшный удар уважению власти и общественному порядку и впервые привели к несчастным последствиям, открытым в конце 1825 года. Раз удар был нанесен, трудно предположить, чтобы во время всеобщих волнений и смут эти идеи не продолжали развиваться, несмотря на доказанную их призрачность и опасные последствия. Одним словом, это являлось разрешением того, что составляло силу Империи, то есть убеждение, что она может быть велика и могущественна лишь при монархическом образе правления и самодержавном государе. То, что было ложно в основании, не могло продержаться долго. При первом же толчке здание рухнуло; проявилось разногласие в воззрениях на жизненный вопрос, каким образом рассматривать и судить преступления против безопасности государства и особы государя. То, что признавалось и наказывалось как преступление в Империи, было оправдано и даже нашло защитников в королевстве. Вследствие всего этого создались непреодолимые затруднения, настроение умов обострилось, поляки укрепились в своем намерении избавиться от русского владычества и наконец довели дело до катастрофы 1830 года.
Оружие и финансы, накопленные Польшей от щедрот России, обратились против России же. И русская армия вновь вынуждена была проливать кровь, подавляя вспыхнувший в королевстве мятеж. Не меньше неприятеля косила ряды русской армии холера, погубившая не только Константина, но и главнокомандующего графа Дибича, на смену которому пришлось срочно направлять отца-командира Ивана Федоровича, чья счастливая звезда просто обязана была, наконец, доставить русскому оружию победу.
Как известно, беда не приходит одна. Война и мор шли теперь рука об руку. Эпидемия холеры, разразившаяся на территории Оренбургской и Астраханской губернии еще в 1829 году, быстро распространилась по всей стране и осенью 1830 года достигла Москвы. Только тогда министр внутренних дел Закревский признал необходимость введения карантинов. Министерство разослало составленное Медицинским советом «Наставление к распознанию признаков холеры, предохранению от оной и к первоначальному ее лечению», но зараза продолжала распространяться, унося все новые жизни. Москва пострадала особенно сильно: полгода владычества холеры забрали в Первопрестольной 4846 жизней. Сообщение между городами почти прекратилось.
В самом начале эпидемии в древней столице Государю донесли, будто бы митрополит Филарет выступил с проповедью, обращенной против него. Московского святителя уже не раз обвиняли в скрытой крамоле, но Николаю не хотелось верить, чтобы столь достойный и высокопоставленный архиерей, пользовавшийся таким доверием покойного брата, мог иметь злой умысел против трона. Но проповедь, которую заботливо переписали и передали ему для собственного прочтения, и в самом деле наводила на вполне определенные мысли.
«В молитвах упоминалось о губительной язве во дни Давида, и о чудесном ея прекращении (2 Цар. XXIV). Воспоминание сие здесь к месту, теперь ко времени, – говорил святитель. – Царь Давид впал в искушение тщеславия: хотел показать силу своего царства, и повелел исчислить всех способных носить оружие, тогда как такое исчисление совсем не было в употреблении у Евреев. И праведник не безопасен от падения, если вознерадит.
Еще не кончилось исчисление народа, как Царь почувствовал в совести своей обличение греха и страх наказания от Бога. В самом деле явился Пророк, и, по повелению Божию, предложил Давиду на выбор одно из трех наказаний: войну, голод, мор. Примечайте из сего примера, что война, голод, мор, и подобныя бедствия, хотя кажутся приключениями случайными; хотя происходят частию от известных причин естественных, тем не менее однако суть орудия правосудия Божия, употребляемыя для наказания согрешивших человеков.
Давид смирился пред Богом, безропотно покорился суду Его, и совершенно предался в волю Его. «Да впаду убо в руце Господни», сказал он. «И даде Господь смерть во Израили от утра до часа обедняго» (2Цар.24:14—15). Здесь приметьте скорый плод смиренной покорности судьбам Божиим. Не три месяца несчастной войны послал Бог, не три года голода, и мор не на три дня, как угрожал Пророк сначала, но уже только «от утра до часа обедняго».
Открылось наказание греха, и совершилось покаяние Давида. «И рече Давид ко Господу, егда виде Ангела биюща люди, и рече: се аз есмь согрешивый» (2Цар.24:17). Давид совершенно покаялся во зле греха, и тотчас «раскаялся Господь о зле» наказания. «И рече Ангелу погубляющему люди: довольно ныне, отъими руку твою» (2Цар.24:16). Примечайте спасительное действие покаяния.
Что же нам делать? Я думаю, то же, что сделали Давид и жители Иерусалима при виде Ангела погубляющаго. «Паде Давид и старейшины Израилевы, облеченнии во вретище, на лице свое» (1Пар.21:16).
Повергнем, братия, сердца наши пред Богом во смирении, в покорности неисповедимым судьбам Его. Признаем не только правосудие Бога, готоваго карать грехи наши, обличающаго наше житие, недостойное имени Христианскаго, но и Его милосердие и долготерпение, которое не вдруг, не прежде других, поражает нас, а показует поразившее других, нам же только грозящее наказание, и, как бы предохраняя, говорит: «аще не покаетеся, вси такожде погибнете» (Лук. XIII. 5). Покаемся, братия, и принесем плод достойный покаяния, то есть исправление жития. Отложим гордость, тщеславие и самонадеяние. Возбудим веру нашу. Утвердимся в надежде на Бога и на имя Иисуса Христа, Ходатая Бога и человеков, Спасителя грешных и погибающих. Исторгнем из сердец наших корень зол, сребролюбие. Возрастим милостыню, правду, человеколюбие. Прекратим роскошь. Откажем чувственным желаниям, требующим ненужнаго. Возлюбим воздержание и пост. Облечемся, если не «во вретище», то в простоту. Отвергнем украшения изысканныя, ознаменованныя легкомыслием и непостоянством. Презрим забавы суетныя, убивающия время, данное для делания добра. Умножим моления, тайныя на всяком месте, и во всякое время, общественныя, по руководству Святыя Церкви. Употребим внимательно, благовременно, благонадежно, всегда благотворное и всецелебное врачевство, мирную, безкровную жертву, приобщением Пресвятаго Тела и Крови Христовы».
Что же, не его ли, Николая, уподобил митрополит Давиду? Не так ли сам он впал во искушение тщеславия после славных побед русского оружия на востоке? И за этот грех послан всему народу смиряющий царскую гордыню бич? Неужто и впрямь о нем была эта проповедь?
А к тому нарушил святитель Государеву волю. Получив повеление покинуть Москву во избежание болезни, владыка Филарет испросил разрешения остаться, положившись на волю Господа. Поступок, по совести сказать, достойный истинного пастыря и отца своих духовных чад, что бы ни пытались говорить о нем не в меру усердные охранители царского имени…
Что же до проповеди… Будучи христианином, Николай не мог не почувствовать, что в горьких словах оставшегося в холерном городе святителя есть известное зерно истины. Если народ постигает бедствие, то Государь, отвечающий за него перед Господом, не может не чувствовать собственной ответственности за оное. Однако же, и гордость была уязвлена обличением. Мало было бунтарей-декабристов. Не хватало еще, чтобы с церковных кафедр возводили суд на Самодержца!
Эта со всех сторон неприятная коллизия требовала немедленного разрешения, и его могло дать только одно – поездка в Москву. Митрополит Филарет делил опасность и скорбь со своей паствой. Неужели же Государю не делить их со своим страждущим народом? Неужели бояться заразы? Да и пробежавшую между ним и святителем тень, сгущаемую доносами, мог рассеять лишь личный разговор. В том, что такие по душам разговоры – лучшее средство от всевозможных сомнений и подозрений, Николай убедился давно.
Само собой, Императрица была глубоко огорчена решением супруга и со слезами умоляла его не рисковать собою понапрасну во имя любви к ней и детям. Но Николай остался непреклонен. Монарх может без памяти любить свою семью, но свою страну и свой народ он обязан любить больше, и этот, последний, долг неизменно выше первого. Указывающей на детей жене, он ответил:
– Вы забываете, что 300000 моих детей страдают в Москве! В тот день, когда Господь призвал нас на престол, я перед своей совестью дал торжественный обет исполнять мой безусловный долг, и вы с вашим благородным сердцем не можете не разделять моих чувств. Я знаю – вы одобряете меня.
– Поезжайте, – прозвучал сквозь слезы ответ…
29-го сентября Государь прибыл в скорбную, не похожую на себя Москву. Владыка Филарет встретил его приветственной речью:
– Цари обыкновенно любят являться Царями славы, чтобы окружать себя блеском торжественности, чтобы принимать почести. Ты являешься ныне среди нас как Царь подвигов, чтобы опасности с народом Твоим разделять, чтобы трудности препобеждать. Такое Царское дело выше славы человеческой, поелику основано на добродетели Христианской. Царь небесный провидит сию жертву сердца Твоего, и милосердо хранит Тебя, и долготерпеливо щадит нас. С Крестом сретаем Тебя, Государь, да идет с Тобою воскресение и жизнь.
Ясный взор святителя, его сердечное слово быстро рассеяли в сердце Николая зароненные в него наветами сомнения. И, в самом деле, как можно было даже на мгновение представить, чтобы этот богомудрый пастырь, настоящий светоч Русской Церкви мог иметь на душе недоброе? Пожалуй, он не оробел бы обличить Самодержца в случае грехопадения последнего во имя любви к Истине, но только не изменить ему.
А то, что наговаривают на него, так это и понятно. На Пушкина тоже донос за доносом строчат. Людям ничтожным нестерпимо присутствие тех, кто возвышается над ними. А владыка Филарет стоял высоко. Даже Пушкина в прошлом году сумел наставить – и как! – поэтическим ответом! Не зря преподавал некогда поэзию, риторику и высшее красноречие, не зря сам владел словом нисколько не хуже первейших русских литераторов – с тою лишь разницей, что свое слово посвящал он лишь Богу, а не усладам земной юдоли.
Святителю, занявшему первую кафедру России, завидовали еще и оттого, что не забывали о низком происхождении его. Все предки митрополита по отцу и матери были духовного звания. Отец служил диаконом Успенского собора в Коломне, а также преподавал в Коломенской семинарии. Этот по-видимому незаурядный человек собрал у себя богатую библиотеку, с которой и началось образование будущего архиерея.
Благодаря своим исключительным дарованиям, уже в тридцать лет он сделался профессором Богословских наук и ректором Санкт-Петербургской Духовной академии, где радикально модернизировал программу преподаваемых дисциплин. В ту пору владыка оказался в немилости у учрежденного при Святейшем Синоде «Комитета о усовершении духовных училищ», который находился в ведении Сперанского. Это отчасти и послужило причиной его удаления от столицы и перевода сперва в Новгород, а затем – в Москву.
Митрополита нередко попрекали излишней ученостью и строгостью, непонятностью его проповедей для простого люда. Однако, покойный Император ценил его и именно ему доверил в глубочайшей тайне составить манифест о переходе прав на российский престол от цесаревича Константина Павловича к великому князю Николаю Павловичу.
В Москве Николай пробыл чуть более недели. Он рассмотрел все меры, принятые местным правительством касательно обустройства города, начертал общий образ действий на случай распространения заразы, дал необходимые распоряжения. Во все это время он чувствовал обращенный на него взор простого народа, в котором читалось благоговение и благодарность.
5-го октября, в день Трех Святителей Московских в Успенском соборе состоялась торжественная служба. У Кремля Николая ожидала толпа. Велев остановить экипаж у Тверских ворот, Государь приложился к образу.
– Отец наш! Знали мы, знали, что ты будешь! – раздались голоса. – Где беда, там и ты!
Николай обвел взглядом стоявших вокруг людей. Такой радости, такой преданности в лицах он не видел, пожалуй, с памятного дня восстания на Сенатской, когда народ окружил его, обещая защитить от супостатов. Вот, и теперь он был одним целым со своим народом, и это единство наполняло душу силой и верой. То же чувствовали и люди, со слезами славящие своего монарха, будто бы он не просто посетил их в горе, но привез избавление от смертоносной болезни…
В соборе Государя со свитой ожидал митрополит Филарет. По окончании службы, замечательной своим искренним молитвенным настроением, святитель произнес сердечное слово, словно призванное посрамить всех тех, что упрекали его умствованием при недостатке сердечности:
– И в праздник теперь не время торжествовать: потому что исполняется над нами слово Господне: «превращу праздники ваша в жалость» (Амос. VIII. 10). И в день Господень, в доме Божием несвободно Богословствовать: потому что свет созерцания закрывается туманом скорби, и заботливые помыслы прерывают нить размышления и слова. Должно нести то, что раждает находящий день: надобно, без попечения о чине слова, говорить то, что внушает, и чего требует настоящее время.
И гнев, и милость, и наказание, и пощада, и грозное прещение противу грехов наших, и долготерпеливое ожидание нашего покаяния, ежедневно и ежечасно пред очами нашими. Ангел погубляющий ходит по стогнам и по домам; большую часть обитателей оставляет неприкосновенными; не многих касается; некоторых поражает. Видите, что мера грехов наших полна: ибо начинается необычайное наказание. Но видите и то, что бездна милосердия Божия неисчерпана и не заключена: ибо не «вскоре возгарается ярость Его» (Псал. II. 12).
Помыслим, братия, о важности для нас настоящаго времени. Важно и всякое время; и нет времени, которое безопасно можно было бы пренебрегать: ибо во всякое время можно спастися или погибнуть. Но особенно и необыкновенно важно для нас сие время, когда Бог уже положил нас на весы правосудия Своего, так что одна пылинка, прибавленная к тяжести грехов наших, одна минута, не употребленная для облегчения сей тяжести, могут низринуть нас; когда путь жития нашего стеснился так, что с каждым шагом мы поставляем ногу между жизнию и смертию, между надеждою спасения и страхом погибели; когда «Бог Судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день», по неисповедимым, но, без сомнения, премудрым и праведным судьбам Своим, в сии дни, особенно, близко, прямо на нас навел гнев, и, «аще не обратитеся, оружие Свое очистил, лук Свой напряже и уготова и, в нем уготова сосуды смертныя, стрелы Своя палящими содела» (Псал. VII. 12—14).
Когда тут медлить? Куда откладывать спасительныя намерения? У места ли дремать безпечно на краю пропасти? Надобно каждому из нас немедленно и ревностно попещись, как бы облегчить тяжесть прежних грехов своих, покаянием и делами человеколюбия; как бы от умножения сей гибельной тяжести предохранить себя чрез пресечение дел неправедных решительным и твердым намерением исправления; как бы чрез живую веру и непрестанную молитву «открыть ко Господу путь» свой духовный (Псал. XXXVI. 5), и утвердиться в нем, дабы и сомнительною стезею жизни временной могли мы проходить с бодростию, и на темный путь смерти телесной вступать без боязни; как бы возгарающийся гнев Божий угасить слезами умиления; как бы от стрел правосудия Божия укрыться под непроницаемым щитом креста Христова.
Повторяю, и не могу довольно повторять: покаяние, исправление жития, молитва, вера во Христа Спасителя, и какия кому по состоянию и дару возможны добродетели Христианския и плоды духовные, – вот истинныя потребности наши во всякое, и наипаче в настоящее время! Вот верныя средства нашей безопасности во всякой видимой опасности, и благонадежные залоги неотъемлемой жизни в самой смерти! По благодати Божией спасительныя средства сии всегда готовы для нас; никогда не удалены от нас: войди только каждый в себя; взирай умом, обращайся сердцем, воздыхай духом к Богу крепкому, живому, многомилостивому.
Господи! Ты един «веси сущих Твоих» (2 Тим. II. 19), также и начинающих быти Твоими; однако, поелику Ты показал нам возможность познавать древо по плодам, и духовное состояние человека по явлениям онаго; дерзаем утешать себя мыслию, что есть между нами такие, которых настоящий гнев твой обратил к милосердию Твоему, и страх близкой погибели приближил ко спасению. Сего ради буди благословен и во гневе Твоем, якоже и в милосердии Твоем! Но, Господи, обещавший некогда не погубить целаго града десяти ради в нем праведников, и ради покаяния единаго Давида повелевший Ангелу погубляющему отъяти руку свою от Иерусалима, пощади и спаси град сей ради известнаго Тебе в нем числа покаявшихся от грехов своих!
Много должно утешать и ободрять нас, братия, и то, что творит среди нас Помазанник Божий, Благочестивейший Государь наш. Он не причиною нашего бедствия, как некогда был первою причиною бедствия Иерусалима и Израиля Давид (хотя конечно по грехам и всего народа): однако с Давидовым самопожертвованием приемлет Он участие в нашем бедствии. Видит нашу опасность: и не думает о Своей безопасности; устремляется к нам в ту самую минуту, как примечает опасность. Государь! Тебе нет нужды подвергать Себя нашей опасности; наши грехи привлекли на нас бедствие; облегчай оное, поколику можешь, но не приближайся к местам, кои посещает гнев Божий. Нет, говорит Он, «да впаду в руце Господни» (2Цар.24:14); иду туда, где вознесена грозная рука Господня, чтобы как можно более разделять скорбь, как можно деятельнее облегчать бедствие возлюбленнаго Мне народа. Государь! мы знаем, как близка к сердцу Твоему Твоя древняя Столица: но Россия на раменах Твоих; Европа предлежит заботливым очам Твоим, – Европа, зараженная, гораздо более смертоносным, поветрием безвернаго и буйнаго мудрования; против сей язвы нужно Тебе укрепить преграду; для сего потребно бдительное наблюдение происшествий, многие советы, дополнение рядов Твоего воинства. Так, говорит Он, Мой долг предупреждать и ту опасность; но непреодолимая сила отеческой любви и сострадания влечет Меня к сердцу России, болезненно трепещущему.
«Защитниче наш, виждь, Боже, и призри на лице Христа Твоего» (Псал. LXXXIII. 10); приими жертву Его человеколюбия, и умилосердися над народом Его!
О как, братия, желал бы я совсем успокоить себя таковыми утешениями, и почить на уповании. Но еще страшусь, чтобы пред очами Всевидящаго и нелицеприятнаго Судии число кающихся и смиряющихся не оказалось слишком малым, и покаяние слишком несовершенным; чтобы множество не поболевших и не сокрушившихся, когда бичь Божий поразил не многих, не низвело на себя умноженных ударов, чтобы на неприемлющих наказания Божия сильнее не возгорелась ярость Божия.
К вам обращаюсь и мысленно припадаю, Богоутвержденные столпы здешняго Священноначалия, Петре, Алексие, Ионо, Филиппе! Чего не может сделать сие скудное и безсильное слово; чего недостает в моем собственном немощном и неплодотворном покаянии: да сотворит то, да восполнит ваша благоприступная к Богу молитва, и обилие данныя вам благодати. Да не упасет смерть стада вашего. Да сохранится оно, и почиет в мире, в безопасности жизни временной, в надежде жизни вечной, не сокрушаемое, но руководимое и ограждаемое жезлом Верховнаго Пастыре-Начальника, Иисуса Христа, Начальника жизни, прославленнаго во Святых, во веки. Аминь.
Николай был глубоко тронут и восторженной встречей, оказанной ему жителями Первопрестольной, и речью митрополита. Владыку, с полным самопожертвованием и ревностью служившего своей пастве в эти горькие дни, он наградил орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Все сомнения и недоумения, посеянные наветами, были развеяны, и Государь возвратился в столицу с успокоенным сердцем. А здесь ему передали строфы слепого поэта Козлова, чья чуткая душа была исполнена восхищением перед служением пастыря и Царя своему народу:
Когда долг страшный, долг священный
Наш царь так свято совершал,
А ты, наш пастырь вдохновенный,
С крестом в руках его встречал, -
Ему небес благоволенье
Изрек ты именем творца,
Пред ним да жизнь и воскресенье
Текут и радуют сердца!
Да вновь дни светлые проглянут,
По вере пламенной даны;
И полумертвые восстанут,
Любовью царской спасены.
Но и тут не судил Бог передохнуть в сознании исполненного долга. Проклятая зараза продолжала победное шествие по России, становясь грозой пострашнее неприятельских армий. Летом 1831 года холера охватила уже 48 губерний России, в том числе Петербург и его окрестности…
Быстрые шаги, раздавшиеся позади, вывели Николая из задумчивости. Так и есть – спешил к нему со всех ног бледный фельдъегерь…
Отпечатывая донесение губернатора Эссена Государь уже практически не сомневался, что в нем. Бунт… Очередной бунт в столице… И на сей раз бунтовщики – сплошь помраченное простонародье. Решив, что лекаря отравляют больных, огромная толпа собралась на Сенной площади, где, как и в других местах наибольшего скопления людей, зараза свирепствовала особенно яростно. Подогревая друг друга криками и бранью, бунтовщики ринулись к находившейся там же, на углу Таирова переулка, в доме Таирова центральной холерной больнице. Толпа ворвалась в здание и учинила там страшный погром, выбив стекла во всех этажах, выбросив мебель, разогнав больничную прислугу и убив двух врачей. Губернатор Эссен просил разрешения применить против бунтовщиков войска.
– Только этого не доставало! – воскликнул Николай. – Чтобы мои солдаты стреляли в несчастный народ, одурманенный страхом и злодеями! Довольно с меня Сенатской! Подать немедленно коляску. Я поеду и буду сам говорить с ними! Русские люди послушают слова своего Царя!
Коляска, запряженная четвернею, была подана тотчас, и Государь отправился в столицу, ни мгновения не колеблясь в принятом решении.
Еще только приближаясь к Сенной, он услышал глухой гул множества голосов. Двадцатитысячная толпа запрудила площадь. Человеческое море недобро рокотало в полуденном мареве, не ведая еще, куда обратить теперь свою темную энергию, ища новую жертву. Никто не смел явиться перед ним – ни представители городских властей, ни духовенство. Казалось, что в этот миг толпа, утерявшая человеческий образ, может растерзать любого.
Однако, Николай велел ехать прямо к церкви, вокруг которой и сгрудились бунтовщики. Когда коляска остановилась, он поднялся во весь рост и громким голосом крикнул:
– Седые головы ко мне!
Толпа издала невнятный, глухой звук и притихла.
Точно такие же люди чуть больше полугода назад благословляли со слезами его имя в Москве. Не может быть, чтобы эти не услышали его.
– Венчаясь на царство, я поклялся поддерживать порядок и закон. Я исполнил свою присягу. Я добр для добрых: они всегда найдут во мне друга и отца! Но горе злонамеренным: у меня есть против них оружие! Я не боюсь вас! Вам меня бояться! Нам послано великое испытание: зараза! – надо было принять меры, дабы остановить ее распространение. Все меры приняты по моему повелению. Стало быть, вы жалуетесь на меня. Ну, вот я здесь! Вы, отцы семейств, люди смирные; я вам верю и убежден, что вы всегда прежде других уговорите людей несведущих и образумите мятежников. Но горе тем, кто позволит себе противиться моим повелениям: к вам не будет никакой жалости. Если вы оскорбили меня вашим непослушанием, то еще более оскорбили Бога преступлением. Совершено убийство! На колени! Молитесь за те жертвы, которых вы невинно погубили!
На мгновение показалось, что сам воздух, душный и раскаленный, застыл. Но вот, что-то дрогнуло, и многотысячная толпа в один миг рухнула на колени, смиряясь перед своим Царем и осеняя себя крестным знаменьем.
Некоторое время Николай молчал, созерцая коленопреклоненную площадь, а затем взмахнул рукой:
– Теперь расходитесь! В городе зараза, вредно собираться толпами…
Притихшие люди начали подниматься и растекаться по прилежащим улицам: некоторые – пятясь и кланяясь так и стоявшему на своем месте Государю.
Сняв фуражку и утерев выступившую от жары и волнения испарину, Николай перекрестился, возблагодарив Бога за то, что Тот позволил избежать кровопролития и вразумил обезумевших. Заметив смертельную бледность кучера, спросил его, полушутя:
– А ты, братец, уж не заболел ли?
– Никак нет, Ваше Величество… Только душа в пятки ушла, – смущенно сознался здоровяк.
Николай улыбнулся:
– Умирают только один раз. Они напугались, и страх сделал их жестокими к докторам, – с этими словами он приказал возвращаться в Петергоф, где его в большой тревоге ожидала Императрица.
Вернувшись во дворец, Государь застал у себя в приемной Никольского, которого должен был принять сей день с докладом.
– Ваше Величество, слава Богу, что вы невредимы! – воскликнул Никита Васильевич, быстро поднявшись навстречу и поклонившись.
– Пустое, – махнул рукой Николай. – Совсем забыл я о наших с тобой делах с этой проклятой холерой… Что ж, проходи в кабинет, а потом отобедаешь с нами – час уже поздний.
– Благодарю за честь, Ваше Величество!
Хоть и устал Николай с дороги, но дело есть дело. Раз уж назначил на сегодня Никите Васильевичу, так ничего не попишешь. Впрочем, Никольский был человеком на редкость умным и постарался изложить суть своего дела максимально кратко и по существу. Доклад Николай оставил у себя, имея привычку читать все, не полагаясь на секретарей и помощников. Никольского, конечно, можно было не проверять, но Государь не любил отступать от своих правил.
– Я извещу тебя, когда приму решение, – сказал он. – А теперь идем-ка, Никита Васильевич, обедать. Я, признаться, изрядно проголодался от такой «прогулки».
– Позволю себе заметить, что Вашему Величеству не следовало бы так рисковать собой… – промолвил тот. – Ведь толпа подобна стихии! Никогда нельзя знать, что ожидать от нее.
– Друг мой Никольский, запомни: когда русский Царь станет бояться своего народа, монархия в России рухнет, а с нею и сама Россия, – ответил на это Николай. – К тому же мне дороги жизни и души моих подданных. И если для того, чтобы спасти их, нужно будет выйти один на один с толпой вдесятеро больше и разъяренней этой, поехать в самое гнездо заразы, можешь не сомневаться, что я это сделаю…
Глава 2.
4 сентября 1831 года внук светлейшего князя Италийского Александр Суворов доставил в столицу долгожданную весть – Варшава пала к ногам победоносного баловня судьбы Паскевича! И ведь какой умелец и хитрец Иван Федорович! Еще и оформил донесение «с намеком», послав его не с кем-нибудь, а с внуком великого Суворова, некогда также покорившего польскую столицу.
После чреды испытаний светлая страница наступала в истории Империи. Польша была побеждена, холера также отступила, и снова ожила стосковавшаяся по балам и иным увеселениям столица.
Не менее иных соскучился по ним и Михаил, убравшись на войну с подлецами-поляками, чтобы быть подальше от семейной драмы, которая больше напоминала бы пошлый водевиль, когда б речь не шла о фамильном состоянии Борецких. С тех пор как старый идиот сошелся со шлюхой, а мать умерла от горя, воздух петербургских гостиных стал решительно невыносим! Стоило явиться в них Михаилу, и все взоры тотчас обращались на него – насмешливые, презрительные, сочувственные – но равно омерзительные!
На счастье господа поляки вздумали в очередной раз тряхнуть своей национальной гордостью! Михаил отправился на фронт сразу же, надеясь, что за время его отсутствия пошлая история подзабудется, а вернувшегося с войны героя станут встречать уже совсем иначе.
В столицу он возвратился аккурат вместе с Суворовым, что было как нельзя более удачно. Теперь он входил в гостиные, неся на своих сапогах пыль побежденного королевства, овеянный дымом славных битв, в которых и сам был изувечен, получив ранение в руку. Ранение, правда, было ничтожной царапиной, которая давно зажила, но Михаил продолжал носить руку на черной перевязи, добавляя героизма своему образу. И совсем иные взоры обращены были к нему: всем желательно было знать подробности сражений и штурма Варшавы. Михаил отвечал на вопросы с видом человека смертельно усталого, но делающего обществу одолжение. И общество усердно спешило «одалживаться». Князь Борецкий всякий день бывал приглашен на обед или раут, на ужин или бал. Он глубоко презирал суетящихся вокруг людей, но не мог допустить, чтобы они презирали его.
Столица мало переменилась за время отсутствия Михаила. Саша Апраксин, которого Борецкий ценил чуть выше собственного камер-пажа (когда бы такой у него был), с упоением пересказывал ему последние новости… Пушкин женился на красавице Гончаровой… «Философские письма» Чаадаева… «Борис Годунов» Пушкина… А еще…
– О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы!
Когда Саша начинал, задыхаясь от восторга, декламировать патриотические вирши Пушкина, Михаилу казалось, что рот его сводит оскоминой. Как это все скучно, в самом деле! Скажи на милость, вчерашний вольнодумец подался в верные соловьи престола – кто бы мог подумать! Говорят, будто бы они с Вяземским даже рвались на фронт… Саша тоже рвался. И тоже вместо этого писал патриотические вирши. И на Михаила смотрел теперь снизу вверх, как на героя. Это забавляло Борецкого, но недолго.
На одном из вечеров он повстречался с Варварой Григорьевной Никольской и ее вечно занятым своими государственными мыслями мужем, едва удостоившим Михаила взглядом. Варвара же Григорьевна была, как всегда мила и радушна. Но это радушие лишь раздражало Борецкого, ибо она расточала оное на всех, а Михаил желал куда большего.
Эта женщина не давала ему покоя. Хороша собой, добродетельна, верная жена, прекрасная мать… Чем больше похвал ей слышал Борецкий, тем больше желал ее. Впрочем, Михаил был не настолько глуп, чтобы рассчитывать на успех у Варвары Григорьевны. Эта женщина, действительно, любила своего нудного мужа и более всего дорожила своей семьей.
Пользуясь ее открытостью, Михаил вместе с Сашей, ставшим за прошедшее время завсегдатаем в доме Никольских, стал частенько навещать Варвару Григорьевну. Она была с ним весьма мила и предупредительна, но за этим не крылось ничего кроме природной душевности. Это раздражало Борецкого тем более, что к Саше Никольская определенно благоволила. Они могли подолгу беседовать о поэзии и музыке, между ними царило полное взаимопонимание.
День за днем, наблюдая за добычей, подобно опытному охотнику, Борецкий сделал ряд выводов. Во-первых, эта женщина никогда не отдаст себя в его волю по собственной страсти, ибо подобного рода страсти ей совершенно чужды. Следовательно, не стоит и приступать к осаде, дабы не быть посрамленным. Это заранее принятое фиаско требовало, однако, компенсации. Уязвленная гордость жаждала мести. Пусть он не сможет овладеть этой крепостью, но ее непреступную репутацию он разрушит. Даже если эта госпожа и вправду добродетельна, как святоша, она лишится своей репутации навсегда! И обида Михаила будет утешена зрелищем позора не оделившей его вниманием особы.
План мести был придуман мгновенно – даже обычная скука отступила в предвкушении грядущего развлечения…
В один из унылых октябрьских дней Михаилу случилось быть у Никольских без Саши. Двое других гостей скоро удалились, а Никита Васильевич, как водится, уединился в кабинете со своими бумагами.
Борецкий взглянул на хлещущий за окном дождь и, мягко улыбнувшись хозяйке, сказал:
– Вероятно, как и всякий засидевшийся гость, я утомил вас? Вас ждут дети, и вы, как подобает хорошей матери, с куда большим удовольствием провели бы время с ними, нежели с докучливыми визитерами?
– У вас, Михаил Львович, удивительная способность напроситься на комплимент, – пошутила Варвара Григорьевна. – Вы же и так знаете, что я вам всегда рада.
– Приятно слышать, что хоть где-то мне рады… Знаете ли, после того постыдного скандала, на меня многие смотрят косо. И на Вольдемара, конечно, но ему легче. Он образцовый судейский чиновник и крепко стоит на ногах. Он может не обращать внимания на изменчивые порывы ветра, тогда как я всецело в их власти.
– Не стоит вспоминать о той печальной истории…
– Вы правы, не стоит, – согласился Михаил.
– Вам, князь, нужен свой дом, семья. Вы знаете, ничего нет лучше семьи… Она, как стена, ограждает от всех невзгод, – сказала Никольская, и лицо ее осветилось при этих словах.
Все-таки ужасно, когда женщина так фанатично предана своей семье…
– Помилуйте, Варвара Григорьевна, кто же пойдет за человека с моей репутацией и моим неказистым стараниями батюшки финансовым положением? Ошибки собственной молодости и отеческой старости обходятся, знаете ли, дорого. Но не будем об этом, – Михаил небрежно махнул рукой. – Отчего сегодня нет среди ваших гостей моего друга Апраксина? Я, признаться, думал застать его здесь.
– Вероятно, у него сегодня были иные дела. Все-таки у него семья… Его жена – прекрасная душа, и их сын совершенно очарователен.
От этого воркования у Михаила заломило челюсть, но он принудил себя мило улыбнуться:
– Да-да, конечно. Но Саша заслужил это счастье в отличие от меня. Ведь он замечательный человек.
– Мне приятно, что вы так отзываетесь о своем друге. Он… трогательный человек, правда.
– Вот, только, боюсь, что сам он не осознает своего счастья.
– Отчего же?
– Апраксин – меланхолик. А меланхолия – страшная болезнь, Варвара Григорьевна. Она и самого физически здорового человека извести может. Думаю, я могу быть с вами совершенно откровенным… Мне кажется, в том, что сейчас Саша так бодр душой, так много работает, есть большая ваша заслуга.
– Моя? – удивилась Никольская.
– Ваша, Варвара Григорьевна. Вы имеете на него влияние, и влияние это самое благотворное. Поймите… Саша – человек глубоко одинокий. Вы, должно быть, знаете, что жизнь его складывалась нелегко.
– Да, он рассказывал мне кое-что…
– Можете поверить, что это лишь десятая, а то и меньшая часть его злоключений. Сиротская доля – не сахар. К тому же с таким обостренным мирочувствием, с такой благородной и возвышенной душой, с таким отсутствием кожи… Без кожи-то, Варвара Григорьевна, ужасно как больно жить и по земле нашей, шипами усеянной, ходить. Он ведь не раз думал счеты с жизнью свести – так худо ему было. Я тому свидетель, верьте слову. Ему очень повезло встретить Ольгу, но… Нет, не поймите меня превратно! Саша человек творческий, талантливый. И семейного круга ему недостаточно. Вы дали ему то, чего ему так не хватало – сердечную дружбу, понимание. Вашу цельность, столь необходимую его всегдашней терзающей его расколотости. Он очень ценит вас, ваше мнение о его стихах и музыке. Это очень важно для него, поверьте.
– Что ж, я также ценю его талант и дорожу нашей дружбой. Если вы считаете, что она к тому же как-то… поддерживает его, я могу лишь радоваться этому.
– Вы, Варвара Григорьевна, удивительная женщина! Я открою вам один секрет, но только не выдавайте меня Апраксину. Дело в том, что Саша взялся теперь работать драму… Эта вещь очень важна для него, но идет она, как я мог понять, весьма тяжело. Я хотел бы просить вас…
– О чем? – приподняла бровь Никольская.
Борецкий старательно изобразил смущение:
– Я бы хотел просить вас в эти дни проявить к нашему общему другу больше участия. Ольга Фердинандовна сейчас очень занята с маленьким – тот часто хворает. А Саше очень нужна поддержка. Знаете, есть люди, которые уверены в себе, и для того, чтобы работать им совершенно не нужно чье-то участие. Но Апраксин, как вы могли заметить, человек совсем иного склада. Он крайне застенчив и неуверен в себе. Помогите ему!
– Меня трогает ваша забота об Александре Афанасьевиче. Честно говоря, я даже не думала, что вы можете принимать такое сердечное участие в чужой судьбе.
– Значит, и вы думали обо мне плохо? – рассмеялся Борецкий.
– Нет, простите… – смутилась Никольская.
– Полноте, Варвара Григорьевна. Уж кто-кто, а я отнюдь не ангел. Разве что падший. Так вы поможете Апраксину?
– Но чем же?
– Чем? Будьте с ним такой же, как всегда, только… как бы сказать… в утроенном виде. Вы обладаете таким чутким и отзывчивым сердцем, что вам ничего не будет стоить быть с Сашей еще внимательнее и ласковее, чем всегда. И тогда, я уверен, из-под его пера выйдет, наконец, настоящий шедевр, достойный его таланта, который пока он расточает на мелочи. И в том будет ваша заслуга, Варвара Григорьевна.
Михаил говорил проникновенно, умело надавливая на самые тонкие струны благородной души Никольской. Он нисколько не сомневался, что подобрал нужный ключ к ней, и что она непременно откликнется.
– Хорошо, Михаил Львович, я постараюсь помочь Александру Афанасьевичу, хотя мне и кажется, что вы чересчур преувеличиваете и мое влияние, и мои способности.
– Скорее преуменьшаю, Варвара Григорьевна. Я от всего сердца благодарю вас за вашу отзывчивость. Засим же не смею дольше красть ваших драгоценных минут, – с этими словами он поднялся с кресла, церемонно поклонился и, поцеловав руку Никольской, оставил ее, уже заранее торжествуя в душе будущую победу. Если нельзя уловить женщину порочной страстью, то непременно удастся – благородным чувством.
Глава 3.
Протяжно завывал ветер в печных трубах, точно оплакивая кого-то. Уж не его ли, Льва Михайловича? Вот уже месяц лежит он в этой комнате, кажущейся ему склепом, будучи не в силах подняться. Правая сторона тела упрямо не желала подчиняться ему, предав его. Но предало не только тело, предали – все. И даже – она…
Великой ошибкой было то злополучное венчание! Это теперь со всей остротой осозналось… Как он, князь Борецкий, мог согласиться на такое безумие? Но Лея была так бесподобно хороша! И к тому же нужно было дать имя их сыну… Все-таки она родила ему ребенка… После предательства старших сыновей это было для Льва Михайловича такой радостью!
Увы, радость продолжалась недолго… Маленький Левушка умер, не дожив и до двух лет. Для князя это стало тяжелейшим ударом. Именно это горе и сломило его, повергнув на одр болезни.
Лея, как ни странно, огорчалась куда меньше. Или даже вовсе не огорчалась… Борецкому казалось, что она никогда по-настоящему не любила Левушку. Потому и не плакала по нем. Как это странно, что мать не плачет по сыну… Конечно, она молода и хороша собой и, пожалуй, надеется произвести на свет других детей… Они также будут носить имя Борецких или же какое-либо иное, но крови Борецких в их жилах не будет.
Вскоре после венчания что-то разладилось в отношениях князя с молодой женой. Она требовала любви, страсти, а он… Он вдруг почувствовал себя таким старым, разбитым. Он пытался еще крепиться, но ничего не выходило. Лея раздражалась и все чаще оставляла его одного, уезжая куда-то.
Весь прошлый год они прожили заграницей, спасаясь как от скандала, так и от холеры. Зима – в Италии. Весна – во Франции. Лето… Летом князь ощутил свое положение невыносимым. Лея пропадала то в театрах, то на прогулках, то в гостях. В отличие от России в Европе для нее были открыты многие двери. Лев Михайлович поначалу старался сопровождать жену везде. Ему льстили восхищенные взгляды, бросаемые на нее. Он гордился, что эта женщина, предмет вожделений стольких мужчин – его жена. И все они могут лишь завидовать ему.
Но силы изменяли князю, такой насыщенный ритм жизни разрушал его здоровье. Все чаще он был вынужден оставаться дома, а Лея не считала нужным быть с ним и продолжала предаваться удовольствиям жизни.
Льва Михайловича снедала ревность. Он чувствовал, что жена изменяет ему. Несколько раз он пытался объясниться с нею, но водопад изысканных ласк лишал его дара речи и туманил взор.
Тем не менее, летом князь решил покончить с таким образом жизни и увез жену и сына в Москву, как раз оживавшую после победы над холерой. Лея была крайне рассержена таким решением, поскольку в Москве ей грозила смерть от скуки, ибо все двери в порядочные дома были для нее закрыты. Но именно на это и наделся Лев Михайлович. Надеялся, что в условиях бойкота, объявленного Лее во всех светских гостиных, она будет вынуждена проводить время с ним.
Первое время так и было. Только нахождение жены рядом не принесло князю утешение. Лея была разгневана и не упускала возможность, чтобы выказать ему свое негодование.
Лев Михайлович чувствовал себя измученным и опустошенным. И тут судьба нанесла ему новый удар, отняв Левушку… Вскоре после этого слег и он сам, что окончательно развязало руки Лее.
Где пропадала она длинными осенними вечерами? В чьих объятьях предавалась неге? Кому шептала те слова, что так пьянили еще недавно князя? Часто в полусне Лев Михайлович видел жену, предающуюся любви с другими мужчинами. Мужчин было много, и кошмара более отвратительного он не видел во всю свои долгую жизнь. С каким бы удовольствием он убил их всех! И ее, ее… Об этом он мечтал очнувшись, сходя с ума от ревности и собственной беспомощности.
Вот и теперь ее нет. Вечер уже поздний, а Леи нет. И никого нет… Несчастная княгиня умерла от горя и обиды. Только теперь впервые Лев Михайлович подумал о покойной жене с сожалением и угрызениями совести. Ведь эта женщина со всеми ее несуразностями, была верна ему все годы их жизни. И… наверное, все-таки любила. По крайней мере, она никогда бы не допустила, чтобы ее муж околевал один, как собака. Она была бы теперь рядом…
Вольдемар и Мишель отреклись от него, предали, едва не упекли под опеку… Но что взять с них? Он сам вырастил их такими, потакая их порокам и подавая дурной пример. И не могли же они, в самом деле, возрадоваться, что их наследство уплыло в руки какой-то сомнительной особе. В чем-то они были правы… Он и впрямь был не в своем рассудке, когда распорядился так своим состоянием. И на их месте он поступил бы также. Да ведь сам же и отрекся от них, предвкушая грядущее счастье с новой семьей…
И этой семьи нет… Левушка в могиле, а Лея…
По дряблым щекам катились слезы. Даже друзей не осталось! Ни одного! Ни одного! Никто за все это время не справился о его здравии, будто бы в его доме поселилась холера… Все эти люди, звавшиеся друзьями, теперь дружно презирали и высмеивали его… Его! Князя Борецкого! И что теперь осталось от его княжества? От фамильной гордости? Один только позор…
Лев Михайлович яростно зазвонил в колокольчик. Лакей Филька! Последний человек, который остался с ним!
Филька явился на зов сразу, так как по обыкновению дремал в смежной комнате.
– Подай мне халат и усади меня в кресло у окна, – велел Борецкий.
– Дует от окна-то, барин… – заметил лакей.
– Плевать! Я хочу видеть, с кем эта дрянь вернется!
Филька тяжело вздохнул и, ничего не говоря, принялся заботливо укутывать барина, чтобы тот, не дай Господи, не простыл.
– Теперь пошел вон, – махнул здоровой рукой Лев Михайлович, оказавшись на наблюдательном пункте.
Ждать пришлось долго. За это время князь несколько раз проваливался в тяжелую дремоту. Пробуждаясь, он вздрагивал от воя ветра и покашивался на иконы, стоявшие в углу. Борецкий не любил икон. Но после смерти Левушки поставил их в своей спальне, велев Фильке постоянно теплить лампаду. Теперь она погасла, и комната погрузилась в полный мрак…
Наконец, послышался цокот копыт, и у дома остановилась пролетка, в которой сидела Лея и трое мужчин, судя по платью, из порядочного общества. Один из них легко спрыгнул на землю и, протянув руки, подхватил нетрезво хохочущую Лею.
Лев Михайлович с силой ударил кулаком по подоконнику и стиснул зубы. Кровь бросилась в голову, и в глазах почернело от гнева.
– Проклятая шлюха! Лучше бы мои подлецы-сыновья учинили надо мной опеку! Срама было бы меньше! Она наверняка чем-то опоила меня… О… я найду управу… Я докажу… Я…
В это время Лея подарила своему кавалеру страстный поцелуй и вошла в дом. Пролетка, однако же, не уехала…
Нетрезвый смех теперь огласил лестницу. Лея поднималась наверх…
Князь замер в ожидании, сокрушаясь о том, что не имеет пистолета. Ножом он не смог бы, конечно, достать изменницу, а если бы пистолет… Лев Михайлович когда-то был хорошим стрелком. Пожалуй, и левая рука не подвела бы в таком случае…
Дверь распахнулась, и на пороге возникла разряженная в пух и прах, источающая аромат духов, вина и изысканных благовоний Лея. Она насмешливо взглянула на князя:
– Как, мой старичок? Ты не на постели? – спросила по-французски. – Неужели ты ждал свою дорогую женушку?
Лев Михайлович молчал, вдруг поняв, что все слова обличения и обиды, которыми было переполнено его сердце, теперь могли унизить лишь его самого, но не глумящуюся над его немощью Лею.
– Ну, вот, я приехала… – она прошлась по комнате. – Какой у тебя здесь… душный, затхлый воздух… И во всей вашей… Москве… Ты знаешь, мой дорогой, я ведь уезжаю. Молчишь? Отчего же ты молчишь? Или ты ко всему лишился еще и дара речи?
– Жду, когда выскажешься ты, – собрав все свое достоинство, ответил князь, с трудом сдерживая слезы.
– В самом деле? Что же, не будет ни упреков, ни сцен ревности в венецианском стиле? Нет?
– Зачем? Ты добилась всего, чего хотела… А я… растоптан, уничтожен… Я плачу за свои ошибки, и могу теперь в этом признаться. Только… Знаешь, придет день, когда и тебе придется заплатить за то, что ты со мной сделала. Пройдут годы, красота твоя увянет, придут болезни и старость… И, вот, ты окажешься одна, без родных и друзей, неподвижная и никому не нужная…
– Замолчи! – Лея побледнела. – Если уж кто окажется в таком положении, то не я, а тот, кто придумал всю эту чертовщину… – она глубоко вздохнула. – Я уезжаю, друг мой. От тебя, от этой жизни…
– Нашла себе новую жертву?
– У меня больше не будет жертв, – Лея пристукнула каблуком. – Я просто хочу жить! И быть любимой… И любить…
– Если ты скажешь, что любишь того щеголя, который угощал тебя столь дорогим шампанским, а теперь дожидается внизу, то я тебе не поверю. Ты никого не любишь и не сможешь любить.
– Только не тебе говорить об этом! Кого ты любил в своей жизни, кроме себя?! Только не говори, что меня! Мной ты тешил свою гордость, свое тщеславие… свою похоть!
– Нашего сына я любил… А ты нет…
– Нашего сына… – Лея снова вздохнула и на некоторое время замолчала, глядя куда-то за окно. – Ты будешь проклинать меня всю оставшуюся тебе жизнь. Но мне тебя не жаль. Нисколько не жаль… Из меня сделали шлюху, заставили ублажать тебя… И только один Бог, если он вдруг есть, знает, как мне было тошно все эти годы! И даже сейчас… Я ненавижу тебя. И того, кто все это устроил, тоже.
– О ком ты? – нахмурился князь.
– Неважно… Он уничтожит и тебя, и твоих сыновей… Но я уже буду далеко от этой грязи… – Лея поморщилась.
– И будешь ненавидеть своего нового любовника и себя?..
– Может быть… – проронила Лея. – Однако же, он меня заждался. Прощай, Лев Михайлович. Я зашла лишь за своими чемоданами и решила проститься, – она повернулась, чтобы уйти, но князь окликнул ее:
– Постой!
– Что еще?
– Окажи мне услугу напоследок…
– Какую еще услугу?
Лев Михайлович кивнул на темный красный угол:
– Зажги лампаду… Темно здесь…
Лея несколько мгновений стояла в недоумении, затем подошла к иконам, затеплила огонь и, не оборачиваясь, поспешно вышла.
Князь поднял затянутые пеленой слез глаза к осветившемуся образу, закусил губу. Он слышал, как Лея спускалась по лестнице, слышал голоса на улице, слышал цокот копыт удаляющейся пролетки, но так и не взглянул за окно. Он больше не желал видеть Леи, никогда и ни при каких обстоятельствах.
«Тот, кто придумал всю эту чертовщину», «тот, кто все это устроил», «он уничтожит и тебя, и твоих сыновей»… О ком говорила она? Неужто фатум имеет человеческое воплощение? Мысли путались в усталой голове, рождая странные видения наяву, терзая воспоминаниями…
«Со святыми упокой…», – гудел ветер в трубах, надрывая душу.
– Филька! Филька! Свечей! Подай немедля свечей! И посиди… посиди тут… Темно здесь, страшно… Как же страшно…. Холодно и страшно…
Глава 4.
В то время, как похожие на одинаковых серых мышей судейские рылись в его бумагах, о чем-то переговаривались, что-то записывали и изымали, князь Владимир стоял, точно каменное изваяние, сложив руки на груди. Он, впрочем, отметил особенную рьяность одного из своих коллег – молодого Дмитрия Любезнова. Вот оно, мещанское отродье, выучившееся и теперь нахально рвущееся наверх, попутно жаждая обрушить тех, кто занимал там места по праву!
А может и не простая это рьяность желающего выслужиться чиновника? Может, его нарочно подкупили?.. Ведь без доноса здесь явно не обошлось. Придя в кабинет, эти господа определенно знали, где лежат ассигнации, полученные Борецким за одну услугу, где спрятаны документы, изучение которых могло изобличить ряд фальсификаций… Да-да, они шли не наугад, а были подосланы!
Кем? Уж не теми ли господами, с которыми он честно вел дела последние два года со значительной взаимной пользой? Но зачем? Зачем им резать курицу, несущую золотые яйца?
Впрочем, зарезать такую курицу, как князь Борецкий, куда как сложно! Самых важных документов он никогда не хранил в этом кабинете, а потому был относительно спокоен. Те несколько бумажек, что найдут они в его ящиках, конечно, доставят неприятности, но их Владимир сумеет загладить. Что же до ассигнаций… Даже если дама, от которых он их получил, объявит в лицо ему, что они ее, он скажет, что это гнусная клевета и так прижмет эту дрянь, что она возьмет свои показания назад.
– Вы закончили, господа? – невозмутимо полюбопытствовал Борецкий, когда все его ящики были добросовестно перерыты и опечатаны.
– Да, ваше сиятельство, мы закончили-с, – отозвался Любезнов с едва заметной усмешкой, в которой князю почудилась издевка. – Я прошу вас не покидать столицы до окончания следствия по вашему делу-с.
– Моему делу? – приподнял бровь князь. – Да вы смеетесь надо мной, милейшей! Всем известна моя репутация!
– Упаси Бог, ваше сиятельство, как можно-с! Моя должность не позволяет мне смеяться. К тому же смеяться над князем Борецким… – при этих словах по тонким губам Любезнова вновь скользнуло подобие усмешки.
Судейская ищейка определенно издевалась над ним! Однако, Владимир решил выдержать характер. Еще не доставало унижать свою честь перед этим мещанским выскочкой!
– Я не покину Петербурга, господин Любезнов. У меня нет причин покидать моего дома.
– Ваше сиятельство в этом так уверены?
– Разумеется! Как и всякий человек, соблюдающий законы Царя Небесного и Земного.
– Напрасно, – качнул головой Любезнов.
– Что «напрасно»?
– Напрасно вы изволите быть так уверены. Нам ведь известно все, – ищейка хитро прищурилась и повторила значительно: – Все! Нехорошо, ваше сиятельство, целых два года покрывать мошенников, помогая им вводить в убыток государственную казну.
Владимир побледнел. Неужто в самом деле знали?! Но как? Откуда?
– Какая глупая ложь! Кто автор подобного доноса? Уж не тот ли сказочник, что самого московского митрополита записал в иллюминаты?
– Не могу знать, ваше сиятельство. Но предъявленных им доказательств, поверьте, достаточно, чтобы вам пришлось покинуть дом очень надолго-с. Честь имею-с!
Наглый выскочка ушел, оставив князя в полном смятении. Неужели все открылось?! Неужели какой-то висельник раздобыл изобличающие документы?! Но ведь они должны были быть уничтожены! Неужели его провели? Провели, как последнего профана?! Просто подставили… Но кто? Зачем?
Терзаясь этими мыслями, Борецкий возвратился домой, где ожидала его взволнованная вторая половина. Волновал ее, впрочем, лишь один вопрос: грозит ли им конфискация имущества, и на что она будет жить, если Владимира осудят. Она даже не выказала сомнения в его виновности, сочувствия его участи… Хотя Борецкий никогда не любил свою жену, но такое пренебрежение к собственной личности его немало раздосадовало.
– Пойдете в приживалки к какой-нибудь сердобольной дуре! – рявкнул он и, сопровождаемый истеричными криками, заперся в библиотеке наедине со штофом водки.
Он обязан был понять, кто играет против него и какими картами обладает – только так можно было выиграть или на крайний случай свести к ничьей опасную партию. Но все логические построения заходили в тупик. Водка же не давала облегчения, а лишь туманила рассудок.
А ведь все из-за старого идиота и его потаскухи… Нет, конечно, трудясь много лет на ниве закона, Борецкий не раз преступал тот самый закон, но то были эпизоды. Осторожность не позволяла ему пускаться в опасные авантюры. Но потеря отцовского наследства так раздражила Владимира, что требовала непременной компенсации. А тут как раз появилось выгодное дельце…
Не иначе как бес попутал ввязаться в него… В сущности, для чего? Даже без отцовского наследства накопленных Борецким средств с избытком достало бы ему до самой смерти. Ведь детей у него нет, а жизнь он вел крайне умеренную, не устраивая приемов, не придаваясь роскоши. Как есть бес попутал…
А ведь он не сразу согласился. Тот человек его долго уговаривал… Действовал ли он сам или кто-то направлял его? Кто? Зачем? Владимир чувствовал, что за всей этой историей кроется какая-то тайна, но она упрямо не давалась ему в руки.
В дверь осторожно постучали.
– Я приказал оставить меня в покое!
– Ваше сиятельство, – послышался скрипучий голос лакея Федора, – там на улице просит принять его какой-то человек… Кажется, это тот юродивый, что жил у вашей матушки.
– Гони попрошайку в шею! Из-за этого ли ты меня беспокоишь?!
– Не извольте гневаться, ваше сиятельство. Я так и сделал. Но он сказал, что у него для вас есть очень важные и нужные вам сведения, за которые вы осыплете его золотом. И, знаете, он не выглядит помешанным…
Борецкий задумался. Не выглядит помешанным? Что ж, он всегда подозревал, что горбатая бестия лишь паясничает, изображая идиота. Но что ему может быть нужно? И что за сведения у него есть? Такая каналья, пожалуй, может и пригодиться.
– Привести подлеца!
Минут через пять Федор ввел в библиотеку горбуна. При виде его князь поморщился. До чего же мизерабельный вид! Настоящая горилла! Особенно отвратителен даже не горб, а длиннющие волосатые ручищи, торчащие из слишком коротких рукавов латаного кафтана. А что за рожа… И как это матушка могла держать рядом с собою этакое животное?
– Доброго здоровья, барин, – горбун поклонился.
Князь сделал знак лакею удалиться и, не удостаивая бывшего юрода ответным приветствием, усмехнулся:
– Вижу, рассудок вернулся к тебе по смерти матушки.
– Благодарение Богу, ваше сиятельство. Не иначе как молитвами моей добрейшей благодетельницы, Царствие ей Небесное!
– Довольно ломать комедию! – нахмурился Владимир. – Говори коротко, зачем пришел, или я велю выкинуть тебя взашей!
– Не извольте гневаться, ваше сиятельство! – осклабился Гаврюша. – Узнал я, будто бы неприятность с вами по службе вышла.
– И что же?
– А то, что мне, ваше сиятельство, доподлинно известно, через кого она вам вышла, – ответил горбун.
Князь впился в него взглядом:
– Говори!
– Простите, ваше сиятельство, но человек я весьма бедный и больной, а потому…
– Я заплачу тебе столько, сколь скажешь, черт тебя дери! Выкладывай, что знаешь!
– Десять тысяч золотом и служба в вашем доме, – деловито изрек горбун.
– Проклятый уродец, ты издеваешься надо мной?! Ты хочешь, чтобы я выложил тебе целое состояние и согласился всякий день любоваться на твою рожу, неизвестно ради чего?!
– Можете не соглашаться, ваше сиятельство, но тогда он доведет свое дело до конца, и вы отправитесь по Владимирке…
Князь побледнел и, закусив губу, подошел к бюро.
– Банковский чек тебя устроит, я полагаю?
– Помилуйте, ваше сиятельство, в каком же банке выдадут такую сумму такому, как я?
– И то верно, – хмуро согласился Борецкий, бросая на стол несколько пачек ассигнаций. – Вот, вся сумма. А золота у меня нет.
– Так уж и нет, ваше сиятельство?
– Здесь не биржа и не базар. Если сделка тебя не устраивает, можешь тотчас же выйти вон, подлец!
Горбун протянул волосатые лапы и быстро засунул ассигнации за пазуху:
– Премного вам благодарен.
– Теперь говори, – нетерпеливо потребовал князь.
– Есть один человек, который за что-то люто ваше семейство ненавидит и хочет его со свету сжить. Это он послал в ваш дом шпионку по имени Эжени и от нее знал обо всех ваших делах, так как покойная барыня была с нею откровеннее, чем с попом.
– Проклятье…
– А еще именно он привез из Европы ту шишимору, что вашего батюшку окрутила. И не сама она это удумала, а выполняла его приказ.
– Черт возьми!
– И те люди, из-за которых вы теперь в такой беде, были его людьми.
– Откуда ты все это знаешь?
– Не извольте гневаться, ваше сиятельство. Этот человек кое-что знает обо мне, а потому и я принужден был на него работать…
– Вот как? Отчего же теперь ты решил изменить своему хозяину?
– Оттого, что не терплю, когда мне угрожают, ваше сиятельство, – ответил горбун, и глаза его недобро блеснули из-под густых бровей. – Вы человек умный и сможете остановить его. Тем самым мы оба избавимся от нависающей над ними угрозы.
– Хочешь спасти свою шкуру моими руками?
– Точно также, как вы теперь будете спасать свою – моими.
– А ты отнюдь не дурак…
– И никогда им не был.
– Что ж, тогда тебе осталось сообщить мне главное, кто этот человек и что за счет у него к моей семье.
– Про счет ничего не могу сказать. Это мне неведомо. Его настоящего имени я не знаю также. Мне известен дом, где он проживает. Мне удалось однажды выследить его сообщницу Эжени.
– Ты должен показать мне этот дом и этого человека!
– Нет ничего проще, если только ваше сиятельство найдет несколько часов, чтобы последить за домом в ожидании момента, когда этот господин оттуда выйдет.
– О, часов у меня сейчас в избытке! – воскликнул князь. – Хорошо бы мне узнать этого человека… Впрочем, если даже этого и не случится, я найду способ убрать его с моего пути.
– В этом ваше сиятельство всегда может на меня рассчитывать, – учтиво поклонился горбун, показавшийся теперь Борецкому куда менее отвратительным, чем прежде.
– Отныне ты будешь исполнять мои приказы, – сказал князь. – Завтра на рассвете жди меня на углу этого дома.
– Поедем выслеживать дичь? – снова осклабился горбун.
– Именно, – кивнул князь. – В дом ко мне пока больше не заходи. До того, как дело будет улажено, не нужно, чтобы тебя здесь видели.
– Как прикажете, ваше сиятельство.
– А теперь убирайся. Я должен подумать.
Бывший юрод не заставил просить себя дважды и тотчас исчез. Заперев за ним дверь на ключ, Владимир вновь опустился в кресло. Рассказ горбуна дал ему надежду переиграть негаданного противника. Но кто, черт побери, это мог быть? Кто мог так яростно ненавидеть семью Борецких, чтобы изводить ее, не щадя средств? А средств на столь изощренную интригу нужно отнюдь немало! Кто же, кто этот таинственный Крез, решивший обратить все свое богатство на отмщенье? И за что он мстит? Перебирая в памяти все свои проступки, Владимир по совести не находил ни одного, который бы заслуживал такой кары. Впрочем, если тот человек мстит всей семье, то, быть может, виновен перед ним вовсе не он? А, например, отец? А еще вернее, этот жалкий позер – любезный братец? Последнее весьма возможно. Мишель, кажется, только тем и занимался всю жизнь, что портил всем кровь… Но причем здесь тогда сам Владимир и отец? Почему бы было не уничтожить одного Мишеля? В сущности, он того вполне заслуживает, и Владимир не огорчился бы каре, постигшей брата… Хотя любые логические построения бесполезны, если неведомый мститель помешан. А он, определенно, помешан, раз творит такое… Ну да ничего, Владимир найдет на него управу. Одолеть нельзя разве что дьявола, а человека – завсегда возможно. А мститель при всей своей таинственности и хитрости всего лишь человек.
Глава 5.
Бывший разбойник Гиря, а ныне юрод Гаврюша, любил в жизни лишь одно – деньги. В этом он был нисколько не оригинален. В мире, увы, немало людей, всю жизнь которых составляет стяжание богатства и охранение оного. Князь Владимир Борецкий принадлежал именно к этой скучнейшей породе людей, о чем Гаврюша, ведавший всеми секретами дома Борецкий, прекрасно знал.
После смерти княгини он благополучно перебрался в дом одной из ее приятельниц, такой же полусумасшедшей старухи, как и она сама. Дьявол, как называл Гиря своего хозяина, по воле которого он превратился в шпиона в княжеском доме, не обманул его и исправно платил ежемесячное жалование. Однако, очень скоро Гаврюша счел этот «пенсион» недостаточным. Ему до печенок осточертела роль юрода, он мечтал зажить сам собою, на широкую ногу.
Само собой, высказывать свои желания Дьяволу он не стал. Этот человек был опасен для него, а Гиря был не столь глуп, чтобы рисковать вызвать его гнев. Гаврюша так и не смог вспомнить, где видел своего загадочного хозяина, что немало огорчало его. Получить в руки тайну этого человека означало получить власть над ним, а, значит – деньги. Много денег! В том, что Дьявол неприлично богат, Гиря не сомневался.
Он пытался следить за ним, но результаты были невелики. Все, что ему удалось, это найти дом, где жил хозяин. Но – и только. Даже имени Дьявола никто не знал на этой треклятой улице, хотя Гиря расспросил всех дворников, извозчиков и челядь окрестных домов. Все, что они знали, что в доме живут барин с барынькой и их немой слуга. Живут тихо, никто к ним не ходит. Жена ли барынька барину, сестра ли или кто еще, также никто не ведал.
Поиски Гаврюши заходили в тупик. Дело осложнялось еще и тем, что имея столь примечательную внешность, трудно оставаться незаметным…
Между тем, зависимость от хозяина раздражала его все больше. Этот сучий сын знал о нем все и мог в любой миг подвести под монастырь. Или уж, как минимум, оставить без «пенсиона», сочтя, что страха разоблачения вполне достаточно для молчания…
Гиря было совсем приуныл, когда услышал о несчастье, постигшем князя Владимира. Чьих рук это дело, сомневаться не приходилось. Явилась возможность заработать неплохой куш и разделаться с опасным «благодетелем»! Хотя князь и был скуп, но не настолько, чтобы считать деньги, когда на кону лежала собственная свобода.
Расчет Гаврюши оправдался всецело: Борецкий денег не пожалел. Но для Гири то был лишь аванс. Он собирался поступить на службу к князю, и уж не с тем, конечно, чтобы исполнять какие-либо обязанности, а совсем в иных целях. Бывший разбойник рассчитывал, находясь в доме, выведать, где князь хранит свое богатство. По подсчетам Гаврюши оно должно было быть весьма изрядным. Гиря решил вспомнить свое прежнее ремесло – обокрасть Борецкого и сбежать. Князь в этом случае вряд ли поставит на ноги полицию, ибо к тому моменту Гаврюша будет знать слишком много о его темных делах. А, значит, дельце обречено выгореть!
Тогда-то сбросит Гиря отрепья юрода! Тогда-то оденется, как человек, заимеет свой домишко и ссудное дело и заживет! Столицы были ему не нужны. Чем худо, к примеру, в Киеве? Или на Полтавщине? Места там хорошие, солнце яркое, не то, что в этом затхлом городишке… Будет Гаврюша жить-поживать, копеечку копить, бабешек сдобных тискать (пожалуй, можно какую и завести себе, в прислужницы взять), да водочку попивать. Что еще нужно?
Такая идиллическая картина рисовалась вышедшему на тропу разбойнику после встречи с князем. С утра он ждал своего нового хозяина в условленном месте и проводил его до дома хозяина прежнего.
Им повезло, Дьявол в этот день решил не отсиживаться дома, а направился куда-то по своим делам. Князь велел занимавшему место кучера Гире следовать за ним. Его сиятельству было весьма любопытно, куда это направился его враг. Однако, тут удача отвернулась от него. Дьявол свернул в один из переулков, а, когда следом повернула и карета Борецкого, его уже простыл и след.
– Проклятье! – выругался князь, выйдя из экипажа. – Не провалился же он сквозь землю!
На этой малолюдной улочке не было никаких поворотов, и человеку, шедшему по ней, деваться было вовсе некуда. Однако, Дьявол исчез, точно растворился в воздухе…
– Настоящий дьявол… – с толикой восхищения прошептал Гиря.
– Оставь дьявола для старух, которых ты обманываешь!
– Ваше сиятельство не верит в существование нечистого?
– Только не делай вид, что ты веришь! Мошенник и вор!
– Меня, ваше сиятельство, доля сиротская, нужна заставила. Но вы-то…
– Заткнись, – оборвал Гаврюшу князь. – Может быть, на этой улице у него есть знакомые, и он вошел в какой-нибудь дом?
– Все возможно! – пожал плечами Гиря, еще выше подняв ворот кучерского плаща. Ему отчего-то казалось, что глаза Дьявола следят за ним из какого-нибудь окна, и от этого было не по себе.
– Вашему сиятельству не удалось узнать его?
– Увы, – покачал головой Борецкий. – Никогда прежде я не видел этого человека. Должно быть, во всем виноват мой глупец-брат… Лучше бы, черт возьми, его вместе с Дибичем прибрала холера! Мне было бы меньше хлопот…
– Помилуйте, ваше сиятельство! Ведь этак и ваш род пресечется! – рассудил Гаврюша.
– Много болтаешь, – нахмурился князь, возвращаясь в карету. – Трогай!
– Куда прикажете, ваше сиятельство?
– Домой. Не доставало еще, чтобы этот подлец нас заметил…
Гиря охотно исполнил повеление. Ему совсем не улыбалось быть замеченным Дьяволом.
За время обратного пути в изощренном уме Борецкого уже родился план. Велев Гаврюше сесть в карету, дабы не вести его в дом, князь спросил:
– Ты сможешь пробраться в логово своего Дьявола?
Это предложение не очень понравилось Гире, но он утвердительно кивнул. Мало ли, куда пробирался он в своей жизни! Бывали и посложнее задачи.
– Я дам тебе кое-какие бумаги. Ты должен будешь подбросить их этому человеку.
– А потом к нему придет полиция, да? – сразу догадался сметливый Гаврюша.
– Непременно придет. Подчиненные графа Бенкендорфа позаботятся о нашем друге… – князь криво усмехнулся.
– А не боится ли ваше сиятельство, что подчиненные графа при обыске могут найти какие-нибудь бумаги, компрометирующие ваше семейство?
– Вряд ли такой редкостный подлец будет держать их в ящике бюро или под подушкой… А на большее у господ жандармов не хватит мозгов. Они найдут, что им нужно, заберут то, что попадется под руку, но искать тайники не станут. Этих ищеек хватает только на то, чтобы доносить Государю о мнимых и действительных проказах г-на Пушкина и прочие сплетни.
– А сами вы не хотите обнаружить эти тайники? – прищурился Гаврюша.
– Хочу, – ответил Борецкий. – Но это слишком сложно и рискованно. Поэтому мы сделаем проще. Когда нашего друга арестуют, ты снова пойдешь туда и подожжешь их логово.
– Помилуйте, ваше сиятельство! Ведь это преступление!..
– ..За которое ты, – князь ткнул Гирю пальцем, – получишь хорошие деньги. Если нам повезет, дом выгорит дотла со всем содержимым. Если повезет меньше, эта дрянь Эжени попробует вынести оттуда самое ценное… Возможно, именно то, что мне нужно…
– И что же тогда?
– Тогда ты со всей галантностью заберешь у дамы ее поклажу и принесешь оную мне!
– А что делать с нею самой?
– Ровным счетом ничего! Я же сказал – галантно! Лишнего насилия я не хочу. Я хочу лишь забрать то, что представляет угрозу для меня.
– Как будет угодно вашему сиятельству, – склонил голову Гиря, спрятав недобрую усмешку.
Лишнего насилия не хочет его сиятельство! Белых ручек замарать не хочет! А то что мерзкая бабенка в два счета узнает горбуна и расскажет Дьяволу, который уж точно не долго пробудет в заточении?.. А Дьявол найдет Гаврюшу и под землей… Нет, свидетелей оставлять нельзя. Гиря заберет у дамы ее поклажу и… галантно сломает ей шею. Будет это не сложнее, чем свернуть ее куренку. Но за такое дело князю придется заплатить очень дорого! Столько, сколько Гаврюше достанет, чтобы исполнить свою мечту, и ни полушкой меньше. А иначе… А иначе не видать ему его бумажек, как своих ушей! Этот козырь непременно принесет Гире самый крупный, решающий выигрыш в его жизни! А там пускай Дьявол строит свои козни! Без своих бумаг и своей прорицательницы он лишится жала!
Глава 6.
Слежку за собой Курский угадал сразу. Как ни кутался предатель Гиря в кучерский плащ, Виктор легко узнал горбуна. Провести неумелых шпионов не составило труда. Ведь не могли же они знать, что уже месяц назад, когда обеспокоенная Эжени однажды заметила следящего за ней «юрода», Курский поспешил нанять квартиру недалеко от своего жилища, решив, что пора менять лежбище.
Нырнув в свой новый дом, Виктор внимательно наблюдал из окна разговор растерянных преследователей, узнав во втором из них князя Вольдемара. Увы, он не мог слышать, о чем говорили они, но увиденного хватило, чтобы той же ночью перевезти усыпленную Машеньку на новое место, где она была оставлена на попечение старухи-сиделки и Эжени.
Сам же Виктор возвратился назад, ожидая развязки. Ждать пришлось ровно неделю. И, вот, на рассвете он услышал требовательный стук в дверь. Приоткрыв створки окна, Курский увидел нескольких жандармов, старший из которых со всей решимостью грозил выбить дверь.
– Открой им, – спокойно кивнул Виктор встревоженному Благоя и, раскурив трубку, расположился на диване.
Через несколько минут в комнату вошли пятеро подчиненных графа Бенкендорфа.
– Вы господин Курский? – осведомился выступивший вперед капитан.
– Совершенно справедливо. Чему обязан честью видеть в моем скромном доме столь представительную делегацию?
– Вы напрасно иронизируете, сударь, – покачал головой капитан. – Мы обязаны провести обыск в вашем жилище.
– Извольте, – приглашающе махнул рукой Виктор.
Капитан сделал знак подчиненным приступать к делу, и те рассеялись по дому, методично заглядывая в каждый угол. Их предводитель не стал утруждать себя этой нудной работой и, расположившись в хозяйском кресле, подавил зевок. Это был еще довольно молодой человек с кислой, как лимон, физиономией и старательно завитыми редкими баками рыжеватого цвета.
– Вас, господин Курский, даже не интересует, что именно мы ищем? – осведомился он.
– Отчего же, любопытно было бы узнать. Может быть, я мог бы сэкономить время ваших подчиненных.
– Мы ищем кое-какие возмутительные сочинения польского происхождения. Наш информатор сообщил нам, что их мы сможем найти у вас.
– В таком случае советую вам примерно выпороть вашего информатора, – отозвался Виктор, – ибо он лжет.
– Вы утверждаете, что подобных сочинений в вашем доме нет?
– Нет, не утверждаю.
– Как это понимать?
– А так, что раз некий недоброжелатель решил выставить меня польским заговорщиком, то он, вероятно, позаботился, чтобы вы нашли в моем доме то, что могло бы меня уличить.
– Иными словами, вы хотите сказать, что улики, которые мы найдем у вас, вам подброшены неведомыми злодеями? – усмехнулся капитан.
– Ведомыми, сударь, весьма ведомыми.
– И кто же они?
– А этого я пока сообщить вам не могу.
– Ничего, сообщите позже. Когда стены Петропавловской крепости собьют вашу спесь!
– Поживем – увидим, – невозмутимо отозвался Виктор, прикрывая глаза.
Само собой, они нашли то, что искали. Польские прокламации с призывами к убийству Государя и возмутительные памфлеты… Ай да князь! Где это сам он добыл их? Заботливо свернутые бумаги были припрятаны за укладкой дров – а это уже, знать, сам Гиря сообразил. Ну, погоди, горбатая гадина, эти бумаги встанут тебе колом в горле, ими и подавишься.
– Имею честь сообщить вам, сударь, что вы арестованы! – капитану было заметно приятно произносить эти слова. – Советую вам чистосердечно рассказать, откуда у вас эти прокламации, и кто ваши сообщники!
– О, вы не поверите мне, коли я вам их назову!
– А вы попробуйте!
Виктор сделал вид, что обдумывает это предложение. Через некоторое время он поднялся и промолвил:
– Я готов чистосердечно рассказать все, что знаю. Но мои сведения столь важны, что доверить их я могу лишь ушам самого графа Бенкендорфа.
Капитан скривился:
– Что ж, я думаю, граф не откажет вам! Александр Христофорович всегда готов принять исповедь кающегося преступника!
– О, такой исповедник оказывает честь всякому кающемуся грешнику, – отозвался Курский, улыбнувшись.
Окруженный жандармами, он с самым непринужденным видом спустился вниз, напоследок ободрительно кивнув бледному Благое, и сел в полицейскую карету, медленно тронувшуюся в сторону набережной Фонтанки, где располагался построенный некогда великим Монферраном для министра иностранных дел Империи Кочубея особняк, в котором ныне расположилось Третье Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, возглавляемое графом Бенкендорфом.
Об Александре Христофоровиче в обществе редко можно было услышать доброе слово. Начальник «тайной полиции» – должность, не вызывающая симпатий нигде и никогда. Впрочем, немалая часть упреков Бенкендорфу были справедливы. Человеку, занимающему такую должность, кроме преданности Государю, сравнимой с преданностью сторожевой собаки, готовой впиться в ногу любому, в ком заподозрит недоброжелателя хозяина, необходимы гибкость, широкий кругозор, умение находить разные подходы к разным людям. Бенкендорф знал один подход – палку. Мало разбираясь в литературе и искусстве, он не мог оценить гения Пушкина и охотно внимал гнусным наветам на последнего разнообразных завистливых ничтожеств вроде Булгарина.
Сторожевой собаке довольно незначительного знака, чтобы наброситься на человека, который вполне может оказаться случайным прохожим, допустившим невинную шалость. Так, например, вышло у Третьего Отделения с беднягой Алексеевым.
Весельчаку и душе компании штабс-капитану Алексееву кто-то дал стихи Пушкина «Андре Шенье», написанные якобы в честь декабристов, а оттого возбуждавшие в начале нового царствования живейшее любопытство. У него взял их юный офицер Молчанов, да так и не отдал. Алексеев и думать забыл о них – стихи завсегда гуляли по рукам у господ офицеров.
Однако, кто-то донес в московскую жандармскую часть, что Молчанов хранит у себя возмутительные стихи. Юношу схватили, потребовали сказать, откуда взял он сии вирши. Тот указал на Алексеева. Арестовали и его.
В ту самую пору Государь, обладавший несравненно лучшим чутьем, нежели Бенкендорф, лично принял у себя привезенного из ссылки Пушкина, и тот объяснил, что «возмутительные стихи» были писаны им пять лет назад и направлены против революции и обезумевших якобинцев, убивших гениального поэта.
Участью Пушкина с той поры занимался сам Император, но пострадавшим «за вирши» офицерам повезло куда меньше. Молчанову по случаю его признания дозволили уволиться от службы. Но Алексеев, не назвавший человека, от которого он получил злосчастные стихи, был посажен в острог, условия содержания в котором так сказались на его здоровье, что он едва не лишился зрения.
Отец несчастного, генерал Алексеев, первое время оставался в неведении о случившемся. Мать оберегала его от горя, предупреждая всех знакомых, чтобы они ничего ему не говорили. И вот однажды без доклада явился к старику некий адъютант и объявил с порога: «Ваш сын преступник, злоумышленник против Государя». Могла ли быть ужаснее весть для преданного Государю и Отечеству старого воина? А мальчишка-адъютант, упиваясь своей мнимой значительность и властью, добивал:
– Извольте сейчас же отправиться со мною к генералу Бенкендорфу, там увидите вы сына вашего и, может быть, склоните его сказать, наконец, правду!
Потрясенный старик велел заложить карету, но и этого не разрешил ему жандармский посыльный:
– Генералу некогда вас долго дожидаться; извольте со мною ехать на моих парных дрожках: они вас довезут назад!
Бенкедорфа старший Алексеев не застал и в присутствии дежурного генерала Потапова грозил сыну проклятием, если не расскажет все как на духу. Сын божился, что не помнит, от кого получил стихи.
Вернувшись домой, измученный отец слег, разбитый параличом.
В то же время брат бедного арестанта был переведен в армию из Семеновского полка.
Самого же «преступника» отправили к полку в Новгород с указанием содержать его под строжайшим караулом, пока он откроет истину. Там навещали его однополчане. Один из них как-то упомянул в разговоре некого Леопольдова. Тут-то и вспомнил Алексеев, что именно от этого человека, учителя, преподававшего в различных домах Москвы, получил он стихи. Этот Леопольдов был, как оказалось, доносчиком на Молчанова, в доме которого также служил какое-то время.
Но и тут не кончились злоключения штабс-капитана. Его отправили в армию тем же чином с лишением права на производство и с воспрещением не только подавать в отставку, но даже проситься во временный отпуск. Лишь через два года ему выхлопотали отставку.
Дурно, когда человек занимает не свое место. Дурно и для дела, к которому он приставлен, и для него самого. Особенно, когда человек сам по себе отнюдь не дурен и в ином качестве заслуживал самого искреннего почтения.
Виктор знал иного Бенкендорфа. Бенкендорфа – воина, сражавшегося с врагами Отечества, начиная с кампании 1806—1807 гг. В 1809 году граф отправился охотником в армию и бился с турками в авангарде или командуя отдельными отрядами. За выдающиеся отличия в сражении под Рущуком он получил свой первый Георгиевский крест.
Авангардом командовал Александр Христофорович и в 1812 году в отряде Винцингероде. Позже при преследовании неприятеля, находясь в отряде генерал-лейтенанта Кутузова, участвовал во многих делах и взял в плен трех генералов и более 6000 нижних чинов.
В 1813 году, командуя летучим отрядом, Бенкендорф нанес поражение французам при Темпельберге, за что получил орден Святого Георгия 3-й степени, принудил неприятеля сдать на капитуляцию Фюрстенвальд и вместе с отрядом Чернышева и Тетенборка вторгся в Берлин… Под началом графа Воронцова, он три дня с одним своим отрядом прикрывал движение армии к Дессау и Рослау… В Бельгии им были взяты города Лувен и Мехелен, 24 орудия и 600 пленных…
Отважен граф был не только на поле боя. В день страшного петербургского наводнения 1824 года Император приказал ему послать катер для спасения утопающих. Александр Христофорович сам сел в этот катер и в течение целого дня в ледяной невской воде спасал людей. Александр наградил Бенкендорфа алмазной табакеркой с портретом и назначил временным комендантом Васильевского острова – района, наиболее пострадавшего от наводнения. Два месяца понадобились графу, чтобы очистить остров, отремонтировать разрушенные здания и построить новые, найти людям кров…
А еще знал Виктор Бенкендорфа, угадавшего грозившую престолу опасность и не побоявшегося указать на нее Императору Александру. В своей Записке по поводу бунта в Семеновском полку он писал: «Власть может быть сильна лишь благодаря убеждению в превосходстве способностей и качеств тех, кому она принадлежит, лишь благодаря неоспоримой необходимости подчиняться ей для блага и безопасности всех и каждого, и лишь благодаря уверенности, что в ней найдут спасительную защиту от всего, что могло бы ставить частные интересы выше интересов и блага большинства. Будучи лишена тех нравственных атрибутов, которые даются общим мнением, власть, не имеющая надлежащей опоры, оказывается поколебленной, и ее могущество заменяется силой материальной, которая всегда на стороне численного превосходства». Об этом же говорил граф в составленной в октябре 1825 года «Записке о состоянии русского войска в 1825 году», где указывал на причины неудовлетворительного состояния армии – отсутствие должной энергии у генералитета, пренебрежение подчиненными и служащими своих прав и обязанностей. Кроме этого Бенкендорф передал Императору записку о тайных обществах, составленную Грибовским. В записке были рассмотрены причины возникновения тайных обществ, показаны их цели и задачи, названы главные участники. Однако, такое усердие лишь раздражило Александра, и ответом Александру Христофоровичу стало понижение по службе.
Бенкендорф никогда не был жестоким человеком. Он не был жесток даже к мятежникам с Сенатской площади. Однако, возглавив политическую полицию Империи, он действовал подчас слишком резко, неловко, несообразно реальной угрозе. Угроза Империи состояла всего больше в нерадивых и нечистых на руку чиновниках, в министрах, живущих идеалами и интересами чужих стран и не знающих, не любящих России, каковым был, к примеру, доставшийся Николаю в наследство от брата канцлер Нессельроде. А Третье Отделение тратило свою энергию на борьбу со штабс-капитанами Алексеевыми… Всей душой преданный России и Государю, Бенкендорф не задумываясь отдал бы жизнь за них. Он готов был сражаться со всякой угрозой, но… не знал вполне, как. И это незнание порождало ложные шаги, создающий неприглядный образ тайной полиции в глазах общества, весьма усугубляемый теми молодыми офицериками, что ощущали себя вершителями судеб, переступая чей-нибудь порог «с предписанием».
Сидевший напротив Виктора капитан относился именно к этой категории самодовольных ничтожеств, не проливших за Россию ни капли крови, но ощущавших себя вправе говорить свысока, ощущавших себя «властью».
Несмотря на ранний час, Александр Христофорович был у себя в кабинете и при известии о доставлении арестанта тотчас велел привести его.
Когда-то в прошлой жизни Виктор встречался с Бенкендорфом. С той поры граф мало изменился: тот же крупный волевой подбородок, тот же высокий, выпуклый, гладкий лоб и небольшие пристально смотрящие на собеседника глаза. Его лицо портили тонкие, как нить, губы, в сочетании с острым носом и выдающимся подбородком придававшие лицу немного хищное выражение. Открытость взгляда и чела, впрочем, сглаживала это впечатление.
Само собой, Александр Христофорович не узнал Виктора. Не тратя времени не прелюдии, он сразу перешел к делу:
– Итак, господин Курский, какие важные сведения вы имеете мне сообщить?
Отнюдь не собирался и Курский ломать комедию перед заслуженным генералом, как делал он это перед мальчишкой-капитаном, чье самолюбие грех было не пощекотать.
– Прошу прочесть, ваше превосходительство, – ответил он, подав шефу жандармов аккуратно свернутый лист гербовой бумаги.
Это была та самая «охранная грамота», собственноручно написанная и данная Государем Виктору после декабрьского восстания. Само собой, не узнать почерк своего Императора и друга Бенкендорф не мог. Поднявшись из-за стола и, внимательно взглянув на подпись, он начал читать:
– Сим удостоверяю, что предъявитель сего… – быстрый взгляд цепких глаз метнулся на стоящего по стойке «смирно» Виктора, – что предъявитель сего… – дальше Александр Христофорович читал уже про себя, и глубокая складка, залегшая меж его бровей, с каждым прочитанным словом становилась все глубже.
Прочтя и дважды перечтя документ, он вернул его Виктору:
– Отчего бы вам было не показать это моим подчиненным? – осведомился он.
– Оттого, что я не смею вверять Государево дело первому встречному офицеру Третьего Отделения. Эту тайну может знать лишь человек, облеченный доверием Государя и служащий ему не за страх, а за совесть. Поэтому я просил именно вашей аудиенции.
– Вы поступили… правильно… – кивнул Бенкендорф, не переставая хмурить бровей. – Могу я, однако, поинтересоваться, откуда у вас взялись те прокламации?
– Я уже отвечал капитану, что их мне подбросили.
– Вы знаете, кто?
– Прекрасно знаю.
– Но мне, конечно, не назовете? – по тонким губам скользнула усмешка, в которой Курский угадал досаду.
– Не назову, ваше превосходительство. Но лишь оттого, что могу поручиться головой, что человек, сделавший это, не имеет никакого умысла против престола и никак не связан с поляками.
– Для чего же он подбросил их вам?
– Потому что этот человек вор, а я вывел его на чистую воду.
– Воровство – также государственное преступление.
– Несомненно. Одно из худших. Но вы, ваше превосходительство, можете быть спокойны на этот счет. Больше этот человек не украдет ни у кого ни полушки, потому что в самое ближайшее время займет те прекрасные апартаменты, что готовил мне, и непременно будет осужден, так как все улики уже переданы мной в руки следствия.
– Что-то мне подсказывает, что я даже знаю, о ком вы говорите, – заметил Александр Христофорович. – Что ж, не хотите говорить – воля ваша. Однако мне бы весьма желательно было знать происхождение возмутительных листков. Пусть ваш супостат вор, но ведь он где-то взял их.
– Полагаю, ваше превосходительство, что тут всему виной обычное… шалопайство со стороны привезшего их в столицу лица. Будьте уверены, что, если бы дело обстояло иначе, я бы не замедлил вверить врагов моего Государя в руки правосудия.
– А что же мне остается делать, как ни принять на веру ваши слова, когда сам Государь изволил стать вашим поручителем, – отозвался Бенкендорф. – Что ж, господин Курский, вы можете быть свободны. Но на будущее я советовал бы вам быть осторожнее.
– Благодарю, ваше превосходительство, и обещаю следовать вашему совету.
Александр Христофорович позвал дежурившего за дверями капитана и сухо объявил:
– Этот человек невиновен и был оклеветан. Впредь, если на него будут еще доносы, доставлять их прямо ко мне… Лучше вместе с доносчиками. А теперь проводите г-на Курского до выхода.
– Прошу вас, сударь, – процедил капитана с видом крайнего неудовольствия.
– О, не стоит беспокойства! – улыбнулся Виктор. – Я прекрасно найду выход сам!
Поклонившись генералу и не удостоив кивка позеленевшего капитана, он легкой походкой покинул кабинет шефа жандармов, краешками губ улыбаясь произведенному эффекту и предвкушаемой ярости Борецкого.
Глава 7.
Княжна Лаура Алерциани скоро привыкла к своей новой жизни. Сперва она чувствовала себя неловко и неуютно в столь чужом для нее городе, при дворе… Ее утомляла светская жизнь, она постоянно боялась что-то сделать не так, нарушить этикет, сказать не те слова, а потому больше отмалчивалась. Однако, постепенно робость ее рассеялась. Лаура всей душой привязалась к Императрице и перестала бояться Императора. Она по-прежнему скучала по своему саду, по заснеженным вершинам гор и всему родному и любимому, но жизнь в Петербурге взамен дарила ей столько прекрасных встреч и открытий, что тоска по дому посещала ее лишь редкими ночами. Особенно, сильны такие приступы были поздней осенью и весной. Холод и сумрак столицы навевал на грузинскую княжну грусть.
Это мрачное время года ничто так не оживляло, как вечера у прелестной Донны-Соль – Александры Осиповны Россет, на которые та всегда приглашала Лауру. Александра Осиповна сочетала в себе редкую, по-южному яркую красоту, быстрый ум и исключительно тонкий вкус. Она не являлась хозяйкой какого-либо салона, но ни один из существующих салонов не мог сравниться с обществом, собиравшимся у «черноокой Россети». В салонах светских дам собирались светские люди, дабы просто приятно провести время. У Россет собирались умные и талантливые люди и проводили время за замечательными по своей глубине беседами. Здесь говорили о литературе и истории, театре и богословии – и как говорили! Здесь не было места банальности, пошлости, чему-то неумному и низкому, ибо люди, собиравшиеся у Александры Осиповны, были подлинным цветом русского образованного сословия.
Лаура была необычайно благодарна новообретенной подруге за то, что может бывать на этих вечерах, слушать, запоминать… Ей, «дикарке», все это казалось каким-то удивительным университетом, в котором дозволено ей черпать знания. И где, в самом деле, найти лучших педагогов, нежели Пушкин, Вяземский, Жуковский, Крылов, Хомяков… Лаура и рта не смела открыть в таком обществе – лишь зачарованно и счастливо слушала. Был, впрочем, среди завсегдатаев собраний у Донны-Соль еще один робкий и молчаливый гость – остроносый юноша-малоросс с небольшими, но очень внимательными и умными глазами. Недавно он издал свою первую книгу, подписав ее диковинным именем Рудой Панько. Пушкин смеялся до слез, читая ее, и с той поры всячески поддерживал начинающего писателя. Звали молодого человека Николай Васильевич Гоголь.
Александра Осиповна также была немногословна, ибо была занята важным делом – записывала все, о чем говорили ее гости, дабы сохранить эти бесценные мысли для истории. Сам Пушкин наставлял ее вести дневник, полагая, что таковые дневники станут однажды важнейшими документами для постижения нынешней эпохи потомками.
Среди прочих гостей на вечерах Россет бывал и сам Государь, тепло говоривший со всеми, не исключая и юного Гоголя, с коим беседовал он о Малороссии, гетманах, Богдане Хмельницком, его дядюшке Трощинском… Императору, лично встречавшемуся с Гете, Шатобрианом и Байроном, было легко в обществе русских литераторов – их беседы были близки и понятны ему. Впрочем, у Государя Всея Руси было слишком много иных забот, а потому почтить своим присутствием собрания у Александры Осиповны он мог весьма редко.
В этот вечер гостиная Донны-Соль, как всегда, была полна. Говорили и всерьез, и шутя, мешая русский и французский языки. Среди прочего обсуждали комедию «Ученые женщины», кою в это время как раз читала Россет.
– Дурак и дура, педант и педантка, кокетка и фат стоят друг друга, глупая и педантичная женщина не глупее и не педантичнее дурака и педанта. Тут дело не в том, женщина это или мужчина; здесь пол ни при чем, – высказал свое мнение Александр Сергеевич. – Кокетка все-таки лучше фата…
– Потому что она любезничает с тобой, – пошутил Александр Тургенев.
Под дружный смех собравшихся Пушкин возразил:
– Или со мной, или с кем-нибудь другим… Во всяком случае кокетство прекрасного пола довольно лестно для некрасивого пола; женщины ищут нашего внимания.
– И это раздувает тщеславие, присущее сильному полу в такой же мере, как и слабому, – заметил Полетика. – Это-то и создает фатов.
– Фат отличается от кокетки, он думает, что нравится, а она хочет понравиться. Что же до учености… Неважно, женщина или мужчина. С умом всякому можно быть ученым безнаказанно, можно даже говорить иногда вздор и не показаться смешным. Глупость и тщеславие – вот что губит и ученых, и невежд. Нет ничего опаснее глупости и самомнения как для себя, так и для других. Я вообще страшно боюсь дураков; глупость – бездонная пропасть.
– Кого же вы еще боитесь, Пушкин? – улыбнулся Полетика.
– Теплых людей… Их я не переношу. Теплая вода вызывает во мне тошноту. Да и Господь Бог отвергает, как вы знаете, теплых.
Лауре всегда было интересно не только слушать, но и наблюдать за Пушкиным. Нечасто встретишь человека, столь выразительного во всем – мимике, жестах, интонациях. Когда он говорил о чем-то, захватывающим его, глаза его вспыхивали, а далекое от красоты лицо, озаренное вдохновением, казалось почти прекрасным.
– Пушкин! Какая, по твоему мнению, разница между французскою литературой и английской? – полюбопытствовал Тургенев.
– Она бросается в глаза. Гуманизм сделал французов язычниками, и они взяли от древних их худшие недостатки – особенно от латинян, времен их упадка, и от некоторых греков. Непристойность средневековых людей была только в грубости, свойственной их эпохе, довольно варварской в смысле нравов; они были неприличны, как некоторые английские писатели, как неприличен Мольер. Но со времен Раблэ, который в своей gauloiserie доходит до последней степени неприличия, – французы усвоили себе такие приемы, которые попирают всякое приличие не только в словах, но и по существу. Английская литература осталась христианской в отличие от французской… Именно под влиянием французов я написал поэму, которая мутит мне сердце и тяготит мою совесть. Мысль о создании этой вещи зародилась во мне при чтении гнусного произведения Вольтера о Жанне д’Арк. Руссо, на мой взгляд, писатель безнравственный; его хваленая чувствительность есть только флер, прикрывающий проповедь доктрин, недостойных одобрения. Он изображает своего героя и героиню добродетельными, тогда как они противоположны добродетели. Идеализировать запрещенные страсти безнравственно. Древние этого не делали, надо отдать им справедливость, а если и делали, то очень редко. В Риме больше писателей, которых нельзя дать в руки женщинам и школьникам, чем в Афинах; да и жизнь римлян была вполне безнравственна. Зараза шла у них сверху. Убивая в гражданских достоинство, убивали в них и нравственность. Знаете ли, что говорит Тацит? Он говорит, что народ погиб, когда он попал в руки риторов и адвокатов! Он говорит также, что самый скверный образ правления всегда найдет риторов и адвокатов, чтобы восхвалять и отстаивать его.
– Ты очень категоричен в отношении французов, – покачал головой Тургенев. – Что, например, безнравственного в «Элоа» Виньи?
– Софизмы всегда безнравственны, – отозвался Жуковский.
– Где же софизм в «Элоа»?
– Эта поэма прекрасна, но, несмотря на свои высокие лирические достоинства, проводит ложную идею, – сказал Пушкин. – Этот Автол, рожденный из слезы Христа, – очень поэтическая мысль – есть Ангел сострадания. Шекспир сказал гораздо раньше, чем Виньи, что жалость сродни любви. Это безусловно верно. Чтобы пожалеть, надо любить; мы возбуждаем жалость в тех, кто нас любит, потому что любовь держится самопожертвованием, готовностью пожертвовать собою для других. Наш народ, у которого есть столько глубоких слов, часто употребляем слово «жалеть» в смысле «любить». Но Элоа приносит свою чистоту и невинность в жертву Люциферу. Как же не назвать софизмом мысль, что падение может быть одним из следствий сострадания? Любовь может смягчить горести жизни, но сказать, что Люцифер может утешить своей любовью – софизм. Тем более, что Бог есть любовь. Элоа не спасает Люцифера своей жертвой; она только губит себя. Альфред де-Виньи должен быть разочарованным человеком, если он думает, что жалость, сострадание могут привести к падению чистое, любящее существо; это печальная мысль. Он противоречит себе, так как сама Элоа родилась из слезы Христа, плакавшего о Лазаре. И говорить, что Люцифер, падший по своей гордости и притом себялюбец, как все гордецы, стремящиеся властвовать, может утешить своей любовью Ангела, – нелогично. Он очень красноречив и тонко умен; падение Элоа доставляет ему торжество; но он не любит и не может уже любить; падение ее дает ему только удовлетворение. А между тем, автор дал ему черты любящего существа, исполненного сострадания к человечеству, сообщает ему нечто идеальное и интересное. Это тоже поэтический софизм, и мне не по вкусу эти тонкости. Что, Виньи верующий или нет?
– Он спиритуалист, – ответил Тургенев.
– Такой же, как деисты, которые не любят Бога даже тогда, когда верят в него, и не признают того, что один Бог есть принцип всякой любви. Какая огромная разница между этим романтическим Люцифером и Люцифером Байрона. Между всеми поэтическими изображениями Сатаны нет равного Байроновскому. Ибо Байрон заставляет его сказать Каину: «Если ты не Его (Бога) – ты мой». У Байрона было положительное религиозное чувство, хоть его и обвиняли в атеизме, не читая его.
Жуковский, молчавший и предоставлявший говорить своему любимому ученику, смотрел на него с чувством отеческого, даже материнского умиления, нежности. Он наслаждался каждым словом своего Феникса. Было и трогательно, и немного смешно видеть это отношение, эту привязанность. Замечательно было, с каким уважением умолкали и Василий Андреевич, и Вяземский, и Тургенев – все, кто знал Пушкина еще отроком, кто вводил его в литературу, кто летами годился ему в отцы.
– Вам не кажется, что это неприлично – столько говорить мне одному? – спохватывался временами Александр Сергеевич, но никому так не казалось. И он продолжал:
– В сущности, я убежден, что из всей литературы мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания.
– Тебя обвиняли в атеизме, а мне хотелось бы знать, чему тебя учил твой англичанин. Ты брал у него уроки?
– Он давал мне читать Гоббса, который опротивел мне своим абсолютизмом, – безнравственным, как всякий абсолютизм, и неспособным дать какое-либо нравственное удовлетворение… Я прочел Локка и увидал, что это ум религиозный, но ограничивающий знание только ощущаемым, между тем, как сам он сказал, что относительно веры Слово Божие, то есть Библия, более всего наставляет нас в Истине и что вопросы веры превосходят разум, но не противоречат ему. Юм написал естественную историю религии после своего «Опыта о человеческом разуме»; его-то доводы и убедили меня, что религия должна быть присуща человеку, одаренному умом, способностью мыслить, разумом, сознанием. И причина этого феномена, заключающегося в самом человеке, состоит в том, что он есть создание Духа Мудрости, Любви, словом – Бога. И я в конце концов пришел к тому убеждению, что человек нашел Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти того, чего нет, даже в пластических формах – это мне внушило искусство. Возьмем фантастических и символических животных, составленных из нескольких животных. Если ты восстановишь рисунки летучих мышей и уродливых ящериц тропических стран, ты увидишь, откуда взяты драконы, химеры, дикие фантастические формы. Форму нельзя выдумать; ее надо взять из того, что существует. Нельзя выдумать и чувств, мыслей, идей, которые не прирожденны нам, вместе с тем таинственным инстинктом, который и отличает существо чувствующее и мыслящее от существ только ощущающих. Англичане правы, что дают Библию детям.
– В Библии есть вещи неприличные и бесполезные для детей, – возразил Хомяков, – хорошая священная история гораздо лучше.
– Какое заблуждение! Для чистых все чисто; невинное воображение ребенка никогда не загрязнится, потому что оно чисто. «Тысяча и одна ночь» никогда не развратила ни одного ребенка, а в ней много неприличного. Священные истории нелепы, от них отнята вся поэзия текста, это какая-то искусственная наивность. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения; передавать этот удивительный текст пошлым современным языком – это кощунство даже относительно эстетики, вкуса и здравого смысла. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике.
– По-славянски? – осведомился Хомяков.
– По-славянски; я сам их обучу ему. Сказки моей бабушки и Арины были скорее славянские, чем русские; наш народ понимает лучше славянский, чем русский литературный язык. Ты не будешь оспаривать это, великий славянин?
– Я тебе уж как-то напоминал о славянской поэзии.
– Я знаю ее не хуже тебя и изучал ее так же, как и ты, а может быть, и больше. Только ты ошибаешься, утверждая, что поэзия и искусство должны ограничиться первыми шагами – на том основании, что они народные. Я не могу перестать быть русским, не чувствовать как русский, но я должен заставить понимать себя всюду, потому что есть вещи общие для всех людей. Библия – еврейская книга, а между тем она всемирна; книга Иова содержит всю жизнь человеческую; та книга неизвестного автора, которою зачитывался Байрон, переживет века, а местные песни никогда не могут быть вечны. Недостаточно иметь только местные чувства, есть мысли и чувства всеобщие и всемирные. И если мы ограничимся только своим, русским колоколом, мы ничего не сделаем для человеческой мысли и создадим только «приходскую» литературу.
Слушая Пушкина, Лаура в который раз удивлялась, сколь мало знают и понимают этого человека в свете. Одни по сию пору считали его вольнодумцем и смутьяном, атеистом и безнравственным человеком. Другие осуждали за преданность Государю, не ведая, что оная может быть без лукавства и искательства. Многие ценили его дивный слог, но лишь тешили им свое эстетическое чувство, не постигая глубины великого Дара, которым наделил Господь своего Поэта.
Было время, когда Поэт отступал от своего Творца, но это было необходимо для более глубокого обращения, для того, чтобы душа закалилась в горниле искушений, и вернулась к Вечному Отцу зрящей и постигшей Истину в тяжелой борьбе сама с собою. Такие души, души блудных сыновей особенно угодны Господу.
Нередко Лаура жалела о том, что многие свои мысли Пушкин не доверяет бумаге, и они остаются достоянием лишь небольшого круга людей, которым было дано счастье их слышать. Чужим Александр Сергеевич также не спешил раскрывать их. Более того, отчего-то словно нарочно стремился выглядеть в чужих глазах хуже, чем был на самом деле. Оттого еще стороннему человеку было не так просто понять пушкинский характер.
Лаура помнила, как потрясен был французский посол Барант, однажды заглянувший на одно из собраний и имевший долгий разговор с поэтом. Говорили об истории, о крепостном праве и, наконец, о христианстве.
– Рабство, крепостное право – все это, несомненно, должно было исчезнуть с появлением христианства; это – язычество, аномалия в христианском обществе.
– Потому что христианство – главным образом демократическое учение, – присовокупил князь Вяземский, но Пушкин не согласился с ним:
– Да, знаю, это политический ярлык, которым его награждают с тех пор, как якобинцы прозвали Иисуса Христа санкюлотом-патриотом. Это ложь, это даже нелепость – переряживать Его в якобинца и в демагога!
– Не станешь же ты меня уверять, что Он был аристократом, хотя и повелел отдавать кесарево кесарю, да и жил Он среди бедных, среди смиренных.
– Согласен, но Он никогда не отталкивал других, они его оттолкнули.
– Апостолы были простолюдинами.
– Это факт; то были избранники, но кто тебе сказал, что они были избраны потому, что были простолюдины? Заметь в то же время, что волхвы – то есть цари – поклонились Ему ранее народа, хотя пастухи и были при этом. Это и доказывает, что Он пришел для царей, для мудрецов, для простых людей, для всего рода человеческого. Когда я читаю Евангелие, меня всегда поражают некоторые чрезвычайно знаменательные факты, относящиеся к тем, кто исповедал Его, и к апостолам. На этом повествовании лежит печать такой великой правдивости. Писавшие Евангелие не скрыли слабостей апостолов, даже их сомнений в начале их действий, и это-то и придает рассказу громадное нравственное значение, так как восхваление апостолов доказало бы мне только, что рассказ вымышленный. Эти повествования дышат величавой искренностью, а так как истина не нуждается в защите, то евангелисты от нее и не уклонились.
– Не укажите ли вы нам на те факты, которые вас особенно поразили? – с живейшим интересом осведомился Барант.
– Прежде всего, Благовещение и ответ Богородицы «Се раба Господня…» Уже в этом согласии она исповедует Его; ее родственница Елисавета тоже исповедует Его, и пресвятая Дева отвечает: «Величит душа моя Господа»; все это величание – самая возвышенная речь, которая когда-либо вылилась из души человеческой. Затем приходят поклониться Ему волхвы, потому что, если пастухи тут и были, они еще не проникли в Тайну, они видят, но не знают. Во храме Его исповедуют Симеон и Анна. Все те, которые исповедовали Христа рождавшегося, были люди образованные, которые размышляли над пророчествами и жили во храме. Святой Иоанн, сын священника Захарии, исповедует Его словами: «Се Агнец Божий».
Что особенно демократического в этих фактах и в этих людях, мужчинах и женщинах? Что Иосиф был плотником? Но он из рода Давидова, как Мария и родственница ее Елисавета. Генеалогия, я полагаю, что-нибудь да доказывает. Апостолы, которые за Ним последовали, – простолюдины, но не доказано, чтобы все они были низкого происхождения. Упоминается лишь о Петре и Андрее, их называют «галилейские рыбаки»; о происхождении прочих не говорится ровно ничего. Иуда его предал, Фома должен был осязать, чтоб видеть, Филипп его не понял, Петр от него отрекся. Один Иоанн последовал за Ним до Голгофы, так как любил Его превыше всего, а Иоанн, который писал по-гречески, великий прозорливец Патмосский, не был невежественным простолюдином, равно как и апостол Павел, апостол Лука и прочие евангелисты. Апостол любви, св. Иоанн, должен был, преимущественно перед другими, воплощать в себе тип Пророка, так как любовь есть «светоч души». Петр был вдохновен ранее других; несмотря на свои сомнения, на свои падения, он олицетворяет собой человечество и милосердие Божие, коль скоро душа откроет Богу доступ к ней.
Эти факты, по моему мнению, достаточно знаменательны; они мне доказывают, что галилейские рыбаки и люди ученые, как волхвы, Савл Тарсянин, один из аристократов синагоги, Иоанн, сын священника Захарии, и евангелист Иоанн, ученость которого не может подлежать сомнению, могут в равной мере быть призваны и избраны без всякого внимания к их общественному положению; но это мне не доказывает, чтобы необходимым условием было – быть простолюдином, ремесленником и чтобы вдохновенность или святость составляли исключительный удел одного класса, в ущерб всем остальным. Иисус работал, как и Иосиф, всю жизнь и с целью поднять человечество; его струг облагородил труд и бедность, но и только. На труд тогда смотрели как на нечто унизительное, работником был раб, надо было поднять его, возвратить ему его достоинство. Вот, на мой взгляд, значение струга Иисуса Христа. Я не силен в богословии, я могу ошибаться, я просто делюсь с вами своими мыслями. Бедность также должна была быть выведена из своего уничижения, до наших дней ее унижает общество, которое, однако, почитает себя христианским.
– И что ты из этого заключаешь? – уточнил Вяземский.
– Что демократия тут ни при чем. Главнейший факт – появление волхвов, царей, мудрецов, которые приходят поклониться Ему и принести Ему дары. А при конце два богатых человека, два аристократа того времени, Иосиф Аримафейский и Никодим, покупают гроб и хоронят Его. Итак, не следует злоупотреблять Христом на пользу богатых или бедных, как не должно говорить, что Он одобрял Тиверия, когда приказывал воздавать кесарево кесарю. Надо видеть в нем Спасителя всех человеков, ибо, чтобы спасти их, надо было их всех любить. Без этого Он не был бы Искупителем, Богочеловеком.
Барант позже восхищенно говорил, что из Пушкина вышел бы блистательный оратор, который увлекал бы за собой толпы. Лаура же признавалась себе, что из всех прочитанных книг не вынесла, пожалуй, столько, сколько давали ей эти диспуты, нередко превращавшиеся в монолог одного гениального человека…
Возвратившись этим вечером в свои покои, юная княжна была полна самых восторженных впечатлений и не могла заснуть. Оттого, облачившись в теплый халат и затеплив свечу, она взялась за еще накануне начатое письмо. Перечтя начало, вымарала его и бросила в корзину – накануне не то настроение было, и слова упрямо не желали ложиться на бумагу. То ли дело теперь! Ей так хотелось рассказать Константину обо всем, что слышала и видела! И не скупыми строками писем рассказать, а словами – лицо его видя, в глаза глядя… Константин! Вот, кого не хватало Лауре в Петербурге больше всех родных, больше родного дома и любимого сада! Вот, тоску по кому ничто не могло заглушить…
А письма его были так редки, так скупы… Только и было в них, что жив-здоров (что, конечно, главное), что служба идет обыденно, что любит и мечтает обнять, назвать своею. А Лауре хотелось знать гораздо больше – о том, как именно идет служба. Там, на Кавказе, ничего обыденного нет. Доходили слухи о том, что непокорные племена вновь поднимают головы, а Константин ничего не писал об этом. Будто бы служил в самом мирном краю…
А еще хотелось на мысли свои ответа. Письма у Лауры выходили длинными, все-все увиденное, услышанное, почувствованное и передуманное, вкладывала она в них, делясь с любимым самым сокровенным. А в ответ – скупые строки. Рад, де, что при дворе ей хорошо… Неужто все равно ему? А что если – разлюбил? Хотя нет, всякое письмо мечтой о встрече и венчании оканчивалось… Или на «обыденной службе» столь занят и истомлен, что недосуг написать больше?
Юрий Александрович, иногда навещавший будущую невестку, успокаивал ее, объясняя, что брат, как и он, не любит писать длинных эпистолей. Ему и вовсе написал от силы два раза по несколько слов. Таков Константин – ничего с ним не поделаешь…
Поначалу к письмам прилагалось не менее дорогое – стихи. Были они, конечно, слабы, но чтение их доставляло Лауре огромную радость – ведь они были написаны для нее, ведь в них заключалась вся та любовь, которую не умел Константин выразить эпистолярным жанром. Но в последнее время стихов не стало… Почему? Описывая очередной свой вечер у Александры Осиповны, княжна вдруг остановилась. Ведь каждое письмо ее – о литературе, о поэзии и поэтах, о Пушкине… Что если, читая ее восхищение ими, Константин попросту стал стесняться своих неровных виршей? Как глупо! Разве можно сравнивать литературу: радость и пищу для души и ума – и строфы, одним сердцем для другого написанные, и сердечностью этой столь дорогие?
И, вот, еще один лист был измаран и отправлен в мусорную корзину. Не о том, не о том нужно написать… А о том, как, даже находясь в лучшем обществе, какое можно представить, ей чудится, что он – рядом. И так хочется, чтобы эта греза наконец-то стала явью.
Она непременно дождется Константина. Ей никто не нужен, кроме него. И оттого так досадны бывают ухаживания светских щеголей и господ офицеров… Конечно, среди них довольно достойных людей, которые могли бы составить прекрасную партию для любой барышни, но Лауре они не нужны. Бедняжка Россет обречена выйти замуж без любви, несмотря на свою красоту и ум. Продать себя ради будущего братьев, ибо их семья совершенно разорена, и позаботиться о них некому. Печальная участь для столь необыкновенной женщины. Воистину, она заслужила куда лучшей доли… Лаура не имеет ее дарований, но не имеет и удушливых обязательств. Она – единственная дочь в семье. А, значит, ее брак с неродовитым и бедным офицером не разрушит ничьей судьбы. Что же до воли отца, то ей княжна готова противостоять. В Петербурге куда увереннее, чем в Тифлисе. В конце концов, брат ее избранника – генерал и друг самого Императора. И отцу придется смириться. Лишь бы только сам Государь скорее позволил Константину возвратиться!
В таких чаяниях Лаура окончила письмо и, запечатав его, заснула сладким и безмятежным сном всякой чистой души.
Глава 8.
– Напиши трагедию о Генрихе IV или о Вильгельме Молчаливом! – это предложение Тургенев адресовал Пушкину в ответ на критику трагедии Вольтера, посвященной Лиге.
Безумие! Для того, чтобы написать Генриха или Вильгельма нужно иметь историческое чувство француза, фламандца… Лишь гений Шекспира мог объять все народы. Пушкин же написал «Бориса» и «Полтаву», следуя историческому чувству русского.
Русская история – кладезь для драматурга, романиста, поэта. Кладезь, из которого едва успели почерпнуть. В сущности, исторические романы, что появлялись в молодой русской литературе, были лишь подражанием Скотту и иным западным беллетристам. Что же до трагедий, то тут дело и того хуже. «Борис» стал первой русской исторической трагедией, и кипучий ум Александра Сергеевича искал теперь сюжет для трагедии новой.
Когда бы написать о Грозном! Что за любопытный характер! Причудливый, ипохондрик, набожный, даже верующий, но пуще всего боящийся дьявола и ада, умный, проницательный, понимающий развращенность нравов своего времени, сознающий дикость своей варварской страны, до фанатизма убежденный в своем праве, подпадающий, как чарам, влиянию Годунова, страстный, развратный, внезапно делающийся аскетом, покинутый изменившим ему Курбским, другом, который давно понял его, но под конец не мог не оставить его, – странная душа, исполненная противоречий! Он начинает с Сильвестра и Адашева. Он любит свою жену, теряет ее. За ней следуют пять других и фаворитка низкого разбора, во время связи с которой он не смеет входить в церковь. Он убивает, топит, пытает людей, молится об упокоении своих жертв и доходит до того, что убивает епископа и собственного сына. Что за тип! Шекспир сделал бы шедевр из этого характера, из этого человека, в котором восточный деспотизм достиг гиперболических размеров, дошел до какого-то бреда.
А эпоха Петра? А пугачевский бунт? Сколько сюжетов! Только изучай и пиши… Но еще нужно пережить, прочувствовать. Иначе получится «Лига» или «Генрих Третий» Дюма – произведения, быть может и любопытные, но лишенные глубины и правды характеров.
Государь всемерно поощрял исторические изыскания Пушкина, полагая, что он должен занять место Карамзина. То была большая честь и ответственность. Занять место человека, открывшего России ее историю, продолжить начатое им – к тому много сил нужно приложить! А хотелось еще издавать журнал и газету, продолжая дело безвременно ушедшего Дельвига… А вечные долги и суетность семейной жизни отвлекали от работы. «Борис» был написан в ссылке, в деревне, в уединении… Уединение вообще крайне полезно для всякой крупной, серьезной работы. Но прежде, чем затвориться, нужно изучить архивы, кои Государь открыл для преемника Карамзина.
Прогуливаясь утром по аллеям Летнего сада, Александр Сергеевич надеялся встретить своего главного цензора, как это бывало не однажды. С их первой встречи в Москве Государь с неослабным вниманием относился к творчеству Пушкина, который передавал ему все написанное через несравненную и незаменимую Донну-Соль. Нередко это помогало избежать слишком бдительной цензуры – как, например, в случае с «Анчаром». Это стихотворение вызвало живейшую реакцию августейшего цензора.
– То был раб, – заметил он Александре Осиповне, – а у нас крепостные. Я прекрасно понял, что хотел выразить этим стихотворением Пушкин и о каком дереве он говорит. Большей частью люди ищут и желают свободы для себя и отказывают в ней другим. Пушкин не из таковых. Я его знаю: это воплощенная прямота, и он совершенно прав, говоря, что прежде всего мы должны возвратить русскому мужику его права, его свободу и его собственность. Я говорю «мы», потому что я не могу совершить этого помимо владельцев этих крепостных; но это будет.
Эти слова немало воодушевили Александра Сергеевича. Доверие монарха само по себе дорого, но понимание им самых больных вопросов русской жизни, единомыслие в них – много дороже. От той же Донны-Соль знал Пушкин и другие слова Императора. Гуляя однажды вечером пешком по городу, он проходил мимо Большого театра и увидел греющихся у костра кучеров. «Они мерзли и очень здраво рассуждали, – рассказывал Государь, подслушавший мужицкий разговор. – Я нахожу жестоким держать их целый вечер, можно было бы отправлять их домой между 8 и 12… Только тогда буду я счастлив, когда народ этот освободится от крепостной зависимости».
Пушкин знал, что иные упрекают его в преданности Государю. Но упрекавшие не знали ни его самого, ни Императора. Пушкин же знал своего главного цензора. Знал, что тот понимает все с полуслова, и всякий раз поражался его проницательностью, великодушием и искренностью. После одной из неприятностей, доставленной Александру Сергеевичу Бенкендорфом, Государь сказал ему:
– Продолжай излагать твои мысли в стихах и прозе; тебе нет надобности золотить пилюли для меня, но надо делать это для публики. Я не могу позволить говорить всем то, что позволяю говорить тебе, потому что у тебя есть вкус и такт. Я убежден в том, что ты любишь и уважаешь меня; и это взаимно. Мы понимаем друг друга, а понимают люди только тех, кого любят.
В это утро ожидания Александра Сергеевича оправдались. Примерно через полчаса одинокой прогулки по аллеям Летнего сада он увидел приближающуюся к нему высокую фигуру Государя. Офицерская шинель, безупречная выправка, быстрая походка… Никакой свиты. Даже адъютанта нет. Не зная Императора в лицо, можно решить, что простой офицер спешит куда-то по своим делам.
– А, Пушкин! Рад видеть тебя! – приветствовал еще на ходу. – Должен попенять тебе за твою «Родословную». Я нахожу эти стихи остроумными, но в них больше злобы, чем чего-либо другого. Что же до Булгарина, то те низкие и подлые оскорбления, которыми он тебя угостил, обесчещивают не того, к кому они относятся, а того, кто их произносит. Единственное оружие против них есть – презрение; вот что я сделал бы на твоем месте.
Пушкин чуть улыбнулся:
– Я, Ваше Величество, очень искушаюсь написать поэму вроде «Энеиды» Котляревского, только на современный сюжет. И озаглавить ее «Литература Гостиного Двора». Надеждин еще раз назовет меня нигилистом, но я переживу этот удар, и Фаддей, который будет моим героем, скажет еще раз, что я арапчонок, подражающий Байрону!
– Не задирай людей, в который раз прошу тебя. Оставь их, они не стоят твоего пера, – Государь сбавил шаг. – Я уже отписал Александру Христофоровичу, чтобы он запретил Булгарину отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения. А если возможно, то и вовсе запретил его журнал. Однако, поговорим о предметах более важных. Ты все еще собираешься писать о Пугачеве?
– Да, Ваше Величество. Именно этот эпизод нашей истории сейчас наиболее занимает меня.
– В таком случае тебе будет интересно знать, что этот негодяй рассказывал своим казакам, будто бы Петр пожелал поклониться праху Стеньки Разина и для этого велел вскрыть его курган.
– Этот рассказ имел какие-либо основания?
– Нет, конечно. Всего лишь очередная ложь самозванца. Разин был четвертован, и так как народ считал его колдуном, то труп Стеньки был сожжен и прах рассеян.
– Я слышал также, будто Пугачев зарыл в землю деньги, и этот клад до сих пор разыскивают в той местности.
– Если это правда, значит, он был скуп, и его можно было бы подкупить, – пожал плечами Государь. – Отчего, Пушкин, тебя столь привлекают самозванцы?
– Мне интересно понять стихию народного бунта, смуты, ее движущие силы. И психологию личностей, способных поднять ее. Пугачев, Разин, Отрепьев…
– Я сомневаюсь, что первым Самозванцем был Отрепьев. Он был образован, знал польский и латынь… Откуда бы Отрепьеву знать все это? Нет, тут что-то иное. Думаю, личность Лжедимитрия была известна лишь немногим. Королю польскому, к примеру. Но вряд ли мы доподлинно узнаем, кем был этот человек в действительности.
– Я все же склонен верить в рассказ Карамзина. Хотя всегда могут быть ошибки. Занимаясь архивом Петра Великого, я обнаружил таковую относительно судьбы Якова Долгорукова. Есть и иные погрешности… Мемуаристы подчас противоречат друг другу.
– Ты прочел дневник Петра, как я тебе советовал?
– Разумеется, Ваше Величество. Я прочел все документы, которые удалось найти, не исключая и различные проекты того времени.
– Видел ли ты проект канала между Волгой и Доном? – оживился Государь и, получив утвердительный ответ, продолжил: – Я хочу прорыть этот канал! Это грандиозный замысел, который непременно должно осуществить!
Тема царствования Петра была бесконечной и для Императора, и для Пушкина. В равной степени зная эту эпоху и почитая великого правителя, они всегда подолгу говорили о нем, постепенно переходя к иным страницам истории. В этот раз говорили о Потемкине и Суворове, царе Алексее Михайловиче и валдайских горячих ключах, открытых в 14-м столетии. Александр Сергеевич искренне удивлялся редкой памяти Императора и тому, что ему достало времени столь подробно изучить архив, которым до Карамзина почти никто глубоко не интересовался. Государь восторгался Мининым и полагал Скопина-Шуйского, прозванного Отцом Отечества и отравленного по слухам женой Василия Шуйского, достойным героем для трагедии. Другим таковым героем он считал Ржевского:
– Ржевский – герой: он пожертвовал собственною жизнью для Ляпунова, хотя ненавидел его; он считал его нужным для Отечества.
– А что вы думаете, Ваше Величество, о царевиче Алексее? – задал Пушкин давно волновавший его вопрос.
– Этот несчастный юноша был негодяй, – просто ответил Император. – Петр пожертвовал им для России, долг Государя повелел ему это. Страна, которой управляешь, должна быть дороже семьи. Царь Алексей Михайлович подготовил царствование Петра Великого. Петр следовал уже по данному направлению. Восторжествуй царевна Софья, Россия пропала бы!
– Я хотел бы написать трагедию из жизни царевны Софьи, – поведал Александр Сергеевич об одном из своих замыслов.
– Что ж, я разрешу тебе доступ в кремлевские архивы, включая секретные, где хранятся дела, касающиеся Стрелецкого бунта.
Само собой, коснулись в разговоре и крепостного права, за которое Император весьма порицал Годунова и в оценке которого расходился с Карамзиным, не видя в оном ни исторической, ни экономической необходимости.
– Очень жаль, что Петр сохранил его, следуя примеру Германии, откуда позаимствовал наряду с хорошим многое дурное. Парадокс! Составляя «Табель о рангах», мой великий предок советовался с Лейбницем, и этот философ ни словом ни обмолвился против крепостного права. А Дидро написал проект конституции для моей бабки, и что же? Его советы не остерегли ее от самой крупной ее ошибки – закрепощения крестьян на Украине. Философы не научат царствовать. Моя бабка была умнее этих краснобаев в тех случаях, когда она слушалась своего сердца и здравого смысла. Но в те времена все ловились на их фразы. Они советовали ей освободить крестьян без наделов… Это – безумие! Нельзя освободить крестьян без наделов – это значит разорить их. Нельзя освободить их, не дав достойного выкупа помещикам. Особенно мелким, которые также будут разорены в противном случае. Боюсь, что моего царствования не хватит, чтобы завершить это дело. Оно останется моему сыну. Но мой долг хотя бы подготовить реформу. Я говорил со многими из моих сотрудников, и ни в одном почти не нашел прямого сочувствия, даже и в семействе моем некоторые совершенно противны.
Дойдя до Цепного моста, Император остановился. Вспомнив, спохватился:
– Александра Осиповна хлопотала предо мной о комедии Гоголя. Можешь успокоить его. Если ты находишь у него талант – этого достаточно. Ты не станешь покровительствовать ничему заурядному, ничему, что было бы написано не в надлежащем духе, противном истине и нравственному чувству.
– Я глубоко тронут и польщен вашим доверием, Ваше Величество. Считаю своим долгом признаться вам, что записываю всякий разговор с вами. Однако, обещаю сжечь эти записи перед смертью, если на то будет ваша воля.
– Ты умрешь после меня, – откликнулся Император, – ты молод. Но во всяком случае благодарю тебя. Про наши беседы говори только с людьми верными, например, с Жуковским. Иначе скажут, что ты хочешь влезть ко мне в доверие, что ты ищешь милостей и хочешь интриговать, а это тебе повредит. Я знаю, что у тебя намерения хорошие, но у тебя есть недоброжелатели. Всех тех, с кем я разговариваю и кого отличаю, считают интриганами. Мне известно, что говорят…
Уже не первый раз, беседуя с Государем, Пушкин ловил себя на смутном чувстве тревоги, примешивающимся к искреннему восхищению просвещенностью и искренностью этого человека. А все потому, что человек этот, наделенный великой властью, был наидоверчивейшим из людей, ибо сам отличался исключительной прямотой. И это-то было страшно. Искренний сам, Государь верил в искренность других людей, а те часто обманывали его. За исключением небольшой части общества, Россия была менее просвещена, чем ее Царь. И щемило сердце тревога: вся эта тьма людей недалеких, непоправимо застывших в прошлых десятилетиях, а то и веках, а паче людей без совести, пошлых и мелочных, нечистых на руку интриганов – станут трясиной, затягивающей и топящей все столь необходимые начинания Царя-рыцаря, судящего о других по своей мерке. Высокое благородство последнего было его силой, но и его слабостью. Все же внушало надежду то, что со времен Петра на русском престоле впервые утвердился русский в своем чувстве человек. И как должно было бы теперь сплотиться вокруг него, как сам он призывал в памятную первую встречу – сплотиться всему русскому, честному и разумному и помочь ему поднять Россию на достойную ее высоту, изгладив унижающие ее пороки, унаследованные от прошлых царствований!..
Глава 9.
Саша Апраксин и раньше был частым гостем у Варвары Григорьевны Никольской, а в последний месяц проводил у нее всякую свободную минут. Минут этих у Саши было в избытке, чего нельзя было сказать о Варваре Григорьевне. Образцовая мать, она старалась как можно больше времени проводить с детьми, обучая их, чему могла, не желая всецело доверять образование любимых чад приходящим учителям. При занятиях с учителями она старалась присутствовать также.
Иногда, впрочем, Саше дозволялось присутствовать на уроках. А иногда он участвовал в детских забавах, на ходу придумывая затейливые сказки и игры, импровизируя на фортепиано. Никольская смеялась, глядя на это веселье:
– Вы, Сашенька, большой ребенок!
Но она и сама превращалась в ребенка в такие часы. Раскрасневшаяся, с весело блестящими глазами – как необычайно хороша была эта женщина! Саша любовался ею, с каждым днем чувствуя все большее влечение к ней. Если раньше он любовался Варварой Григорьевной, как тонкий ценитель античной статуей, то теперь жаждал ее губ, ланит, ее полных, мягких и пряно пахнущих рук…
Однажды он играл с детьми в жмурки, и ему выпало водить. Он долго бродил по просторной комнате, безуспешно пытаясь схватить кого-нибудь из маленьких проказников, как вдруг в руках его оказалась совсем иная «дичь». Варвара Григорьевна, отлучившаяся перед тем дать распоряжения по хозяйству, как раз переступила порог детской и оказалась в объятиях Саши… Прикосновение к ней, ощущение ее дыхания буквально опьянили его, но сделав над собой усилие, он тотчас отступил на шаг и, сняв с глаз повязку, принес Никольской извинения.
Та ласково улыбнулась:
– Совсем вы, Сашенька, заигрались! Почитайте-ка нам лучше что-нибудь новое!
От этого тона, этих ободряющих слов у Саши словно крылья вырастали. Возвращаясь домой, он запирался в своем кабинете и работал, работал, работал ночи напролет. Он не мог явиться к Варваре Григорьевне с пустыми руками! Он должен был всякий день удивлять ее, дарить ей стихи и романсы, а через них – свою душу.
Эта женщина обладала поразительной чуткостью. Она так тонко понимала написанное им, ее замечания и суждения были столь точны и мудры, что без совещания с нею Саша уже просто не мог работать.
Конечно, такое положение дел не могло нравиться Ольге. Она ничего не говорила, но, возвращаясь от Никольской, Саша читал в глазах жены молчаливый упрек. И сам он совестился смотреть ей в глаза. Хотя в его отношениях с Варварой Григорьевной не было ничего дурного, но в глазах жены столь близкая дружба не может не вызывать подозрений.
К тому же сама Ольга была слишком занята последнее время – маленький Фединька часто болел. Прошлый месяц она и вовсе прожила у дяди Алексиса в недавно купленном им небольшом имении недалеко от столицы, потому что для здоровья Фединьки лучше был деревенский климат. Фединька, Фединька… Любящие мать и бабка постоянно ворковали с ним и о нем, а Саша чувствовал себя заброшенным. Общество же меланхоличной и все больше уходящей в религию Любы не могло дать ему того душевного жара, того вдохновения, какое дарило общество Никольской.
Ольга, впрочем, оказалась на высоте достоинства и в этой ситуации. Однажды за ужином, на котором не было ни матери, ни сестры, она сказала, видя смущение Саши:
– Ты напрасно постоянно прячешь глаза. Я знаю Варвару Григорьевну и знаю, что эта женщина не способна на дурной поступок, на обман. Я рада, что вы столь дружны с нею. Тебе нужен был такой друг, такая понимающая душа. И я благодарна ей за ее к тебе отношение.
Тронутый до глубины души, Саша не мог найти слов и просто заключил жену в объятья. В ту ночь он впервые с ее приезда ночевал не в своей комнате.
Утром, окрыленный больше обычного, он снова был у Никольской, но откланялся тотчас после обеда, так как Никита Васильевич в этот день возвратился домой рано.
Делать в остальной день было нечего, и Саша отправился к Мишелю, жившему теперь в родительском доме на правах единственного и полновластного хозяина. На лестнице мимо Саши скользнула едва прикрытая девица, а следом навстречу вышел зевающий Борецкий.
– Кажется, у тебя был бурный вечер? – осведомился Саша, обратив внимание на обилие пустых бутылок из-под шампанского в зале, куда они спустились, и потрепанный вид самого князя.
– И ночь тоже… – отозвался Мишель, шмыгая носом и шаря в кармане в поисках носового платка. Вместо него он извлек оттуда женскую подвязку и с досадой швырнул ее в угол.
– Гришка-подлец, шампанского мне и господину Апраксину! – рявкнул он. – И закусить…
– А с девицею что прикажете делать, барин? – осведомился явившийся на зов лакей.
– Да гони ты ее… в шею! – махнул рукой Мишель, развалившись в кресле. – Да, брат, хорошо вчера погусарили! Как в молодые годы!
– Я думал князю Борецкому уже приелось гусарство, – заметил Саша.
– Обрыдло, да… Но, черт возьми, Сандро! Я неделя за неделей кормил вшей в этой клятой Польше! Я ушел от польской пули, ушел от холеры! Я изрубил целые полчища ляхов вот этой вот рукой! Я, видишь ли, одичал и изголодался на войне! Оттого приевшееся прежде не кажется таким уж мерзким.
– Однако же я слышал, будто бы тебе и дом заложить пришлось…
– Про дом – враки! Дом пока еще мой! А все прочее заложено и перезаложено. И за все эти бутылки я не заплатил ни копейки, ибо я нищ! – Мишель рассмеялся. – Но вексель князя Борецкого покуда еще что-то стоит.
Лакей подал вино и легкий завтрак. Похмелившись и закусив, князь оживился.
– Расскажи-ка мне, брат, лучше про себя!
– О чем собственно? – изобразил Саша недоумение, хотя затем лишь и пришел к другу, чтобы поговорить «про себя».
– Что твоя дружба с Варварой Григорьевной?
– О, она ангел! – воскликнул Саша. – Я никогда еще не встречал женщин подобных ей!
– Да ты, я вижу, влюблен по самые уши! – рассмеялся Мишель.
– Полно… – смутился Саша. – Она для меня… как божество! Она прекраснее всех мадонн вместе взятых, и будь я художником, я написал бы с нее новую Мадонну, которая затмила бы всех прочих! Ты знаешь, я завидую ее детям… Это такое счастье – иметь такую мать! Если бы моя мать была таковой…
– Детям… А ее супругу ты не завидуешь?
Саша опустил голову и не ответил.
– По краске, залившей твое лицо, будто бы ты безусый лицеист, вижу, что завидуешь.
– Оставь, Мишель…
– Отчего же оставить? Ведь и она, желая того сама или нет, влюблена в тебя.
– Полно, что ты говоришь! – от такого предположения Сашу даже бросило в жар.
– Знаю, что говорю. Я, брат, умею читать женские сердца…
– Хотя не любил ни одну из женщин!
– Любовь лишает взгляд трезвости. Именно поэтому ты не видишь то, что очевидно мне. Варвара Григорьевна прекрасная женщина, говорю это от души. А ты знаешь, что я нечасто делаю комплименты дамам. Но у этой прекрасной женщины практически нет мужа. Ее муж так занят государственными делами, что семья его почти не видит. Ты часто ли встречался с ним в его доме?
– Почти ни разу. Он либо в департаменте, либо, что гораздо реже, работает у себя в кабинете.
– То-то и оно. А его жена одинока. А ты…
– Что я?
– Знаешь ли, как она говорит о тебе, когда тебя нет рядом? Не знаешь? А я знаю, ибо, как общий ваш друг, удостоен бывал доверия слышать эти слова. И, черт меня раздери, если они уступали возвышенностью твоим дифирамбам в ее честь!
Краска отхлынула от лица Саши, сменившись бледностью:
– Мишель, это не предмет для шуток!
– Совершенно справедливо!
– И ты можешь поклясться, что говоришь правду?
– Клянусь спасением души! – воскликнул Мишель, разливая по бокалам пенящееся вино. – Пью тост за Варвару Григорьевну, женщину ради которой и сам бы я мог покончить с прежней жизнью, не будь душа моя столь черна и будь она свободна!
Опорожнив бокал, князь продолжал:
– Ты простофиля, Сандро. Сколько ты еще собираешься бросать на нее томные взгляды и ласково мяукать? Открой ей свои чувства, не бойся!
– Никогда! – тряхнул головой Саша. – Она жена и мать… И сам я женат и… не могу обойтись подобным образом с Ольгой.
– Мысленно ты уже давно обошелся с нею именно так!
Саша опустил глаза. Мишель был совершенно прав. Его обожествление Никольской нисколько не мешало земному желанию обладать этой женщиной, быть с нею. А теперь ему так уверенно доказывалось, что и она желает того же, что и она любит его.
Осушив подряд два бокала и сразу ободрившись, Саша предался прекрасным мечтам.
– Мы могли бы жить с нею в Италии… Я стал бы писать ее портрет… Мне далеко до Брюллова, но мой «Полдень» был бы не хуже его… Я писал бы песни… Италия создана для творчества. Для музыки, для живописи…
Он говорил, а Мишель с воодушевлением подхватывал, не забывая усердно наполнять бокал гостя. Ни об Ольге, ни о маленьком Фединьке, ни о семье Варвары Григорьевны Саша уже не помнил. Он видел ее одну – прекрасную, как знойный полдень, нежную, распахивающую ему объятья. И это сладчайшее видение рождало в душе решимость не таиться дольше и идти на штурм.
Глава 10.
Трех часов не прошло с того мгновения, когда жандармы вывели Виктора из дверей его дома, и, вот, он уже входил в них свободным человеком. Едва переступив порог, Курский почувствовал неладное. В доме кто-то был. И этот кто-то был чужим. Благоя имел указание немедленно идти к Эжени и оставаться с нею до новых указаний. Но даже если бы слуга по какой-то причине вернулся, его Виктор узнал бы тотчас. Чутьем дикого зверя Курский всегда безошибочно угадывал опасность.
Осторожно, крадучась по-кошачьи бесшумно, переступая скрипучие ступени, кои помнил все наперечет, он стал подниматься по лестнице. Неясный шорох доносился из его кабинета. Прихватив в кухне кочергу за неимением под рукой иного оружия, Виктор приблизился к дверям кабинета и осторожно заглянул внутрь.
В полумраке он увидел горбуна, что-то ищущего, но по старой воровской привычке не брезгующего засунуть в карманы все, что казалось ему сколь-либо ценным.
Как ни увлечен был Гиря своим делом, но чутье его было не менее развито, чем у Курского. Резко подняв голову, он встретился с ним глазами и недобро ухмыльнулся:
– На твою беду тебя так скоро отпустили, барин! – с этими словами он метнул в Виктора нож. «Выпад» этот был столь неожиданным, что для иного мог закончиться фатально. Однако, Курский мгновенно отскочил в сторону и ринулся к горбуну. Тот глухо зарычал:
– Проклятый дьявол! – и перевернув стол под ноги своему противнику, попытался обойти его сзади.
Но не тут-то было. Виктор быстро переменил позицию, вновь оказавшись лицом к лицу с Гирей. Тот побагровел и походил теперь на дикого вепря. Дикий вепрь опаснее для человека, нежели иной хищник, но он глуп, и это оставляет шанс.
Разбойник обладал огромной физической силой, как и многие горбуны, а потому являлся серьезным противником. Виктор отступил на шаг, делая вид, что опасается угрозы. Это немало воодушевило горбуна. И подобно тому, как бык бросается на красное полотнище, развернутое тореадором, он с ревом устремился на Курского. В такой момент задача тореадора вовремя увернуться и воткнуть пику в спину животного.
У Виктора вместо пики была всего лишь кочерга, но ее мощный удар, пришедшийся аккурат по горбу негодяя, мгновенно поверг его на пол, лишив всяческих чувств.
Проворно связав злодея веревкой от портьер за неимением времени искать лучшую, Курский окатил его водой из графина. Горбун открыл налитые кровью глаза и бешено завращал ими:
– Дьявол! Я знал, что лучше не встречаться с тобой!
– Правда. И то, что лучше не переходить мне дорогу, ты знал также, – промолвил Виктор, усаживаясь подле пленника так, что сапоги его почти упирались тому в лицо.
– Я не привык жить на цепи и довольствоваться крохами с барского стола!
– Могу тебе обещать, что впредь этих крох ты не увидишь во веки вечные, – отозвался Курский. – Я считал тебя умнее, Гаврюша. Но ты поставил не на ту лошадь, а за это надо платить. Знаешь, что делают разбойники с теми, кто их предает?
Гиря вздрогнул и попытался разорвать веревки.
– Знаешь. Лучше моего знаешь. Может, даже сам резал язык не в меру болтливому товарищу…
– Я узнал тебя! – вдруг воскликнул горбун. – Теперь я тебя узнал! Ты бежал тогда вместе со мной из тюрьмы! Ты такой же каторжанин, как и я!
– Врешь, я был оклеветан столь же безвинно, как и сейчас. И, как и сейчас, мне была подброшена изобличающая меня улика. Только тогда я не мог защититься, а теперь могу. Что до тебя, то ничего не меняется. Как тогда я смог одолеть тебя, так и теперь. Хотя тогда я был в кандалах, а теперь сухорук.
– Дьявол…
– Ты всегда называл меня так, и я не возражал. От такого хозяина как дьявол можно уйти лишь к одному – к Богу. Но уйти от дьявола к мелкому бесу – это крайне глупо. Неужели ты думал, что справишься с дьяволом?
– Что ты сделаешь со мной? – хрипло спросил горбун.
– Пока я еще не решил окончательно… – Виктор поскреб переносицу. – Если ты не хочешь, чтобы я обошелся с тобой так, как это принято в таких случаях у вашего брата, то расскажешь мне, что здесь делал. И какой приказ дал тебе Борецкий.
– Он приказал мне спалить твой дом, надеясь, что в нем сгорят и бумаги, столь важные для него.
Виктор расхохотался:
– Несчастный идиот! Эти бумаги, из которых лишь несколько были прежде посланы мною в полицию для затравки, Эжени сегодня отнесла следователю, ведущему дело твоего нового хозяина. И уж можешь поверить, что эта гончая не выпустит своей дичи. Однако, если тебе велено было сжечь дом, какого черта ты искал в моем кабинете?
– Я искал бумаги… – еле слышно выдавил Гиря.
– Помилуй Бог! Давно ли ты столь наторел в грамоте, чтобы разобраться в моих бумагах?
– Я думал взять все, а там…
– А там подпоить какого-нибудь писаря и выпытать у него содержание документов. А затем шантажировать ими князя. Не так ли?
Горбун молчал.
– Ты весьма переоценил себя, Гаврюша. Разобраться в финансовых бумагах – это не то же, что грабить бедолаг на большой дороге или балаганить умалишенного для доверчивых старух. Ты, оказывается, ужасно глуп, а я-то считал тебе за хитреца.
Курский резко поднялся с кресла и, повернувшись спиной к пленнику, плеснул в стакан остатки воды из графина. При этом он незаметно высыпал в него бесцветный порошок из украшавшего его руку перстня.
Опустившись на колени подле Гири, он протянул стакан к его губам:
– На, вот, освежись маленько. Я ведь не ваш брат разбойник, чтобы находить наслаждение в истязании себе подобных.
Горбун сделал несколько глотков и повторил свой вопрос:
– Что ты сделаешь со мной?
– С тобой – уже более ничего… – проронил Курский, распрямляясь.
Гиря вдруг напрягся всем телом, лицо его побелело.
– Что ты со мной сделал?! – простонал он слабеющим голосом.
– Ничего особенного. Лишь самое малое из того, что ты заслуживал…
– Ты меня убил…
– Эта смерть легка. Через десять минут все окончится безо всякой боли. Ты просто уснешь. Правда от боли после того я не могу тебя гарантировать. Я думаю, черти с удовольствием исполнят приказание твоего нового хозяина, но в отношении тебя самого. Я же исполню его на этом свете. Этот дом, который тебе велели поджечь, сгорит вместе с твоим телом в тот момент, когда твоя душа будет гореть в аду.
Полный ужаса и ненависти застывший взгляд был ответом Виктору. Он закрыл мертвому горбуну глаза и принялся за исполнение приказания князя Владимира. Через полчаса кабинет его был полностью объят пламенем, которое, вырвавшись на лестницу, стало быстро распространяться по деревянным перекрытиям, охватывая другие помещения.
На улице мгновенно собралась толпа зевак, и в поднявшейся суматохе никто не заметил неприметного худощавого человека в бедном платье ремесленника, которому, видимо, скоро наскучило зрелище горящего дома, и он неспешно отправился по своим делам…
Глава 11.
Как он смел? Неужели она дала ему повод? Видит Бог, никогда и не малейшего… Возомнить, что она, замужняя женщина, мать, может питать какие-то… порочные страсти!
Варвара Григорьевна редко бывала в столь раздраженном настроении. Вот уже полчаса она ходила взад-вперед по своей комнате, не в силах совладать с бурей нахлынувших эмоций.
И теперь этот забывший стыд несчастный стоял перед нею! Ровно, как недавно в гостиной – на коленях, с пылающим взглядом, с бредом безумного на устах! И теперь еще руки горели от поцелуев, которыми он осыпал их, не желая выпускать. Варвара Григорьевна тщательно вымыла их в тазу, засучив рукава платья по локоть. Но даже это не помогло, и она продолжала сгорать от стыда и гнева.
– Варвара Григорьевна, я понимаю, что не должен этого говорить! Но я люблю вас! Вот уже несколько месяцев… Да что там! Вот уже год я вас люблю! Безумно! Как никого и никогда! Все, что я делаю, озарено вами! Все – посвящено вам! Вы мое солнце! Нет, больше солнца… Солнцу не посвящают взятых крепостей. А я хотел бы стать воином, как мой зять, и бросить к вашим ногам покоренные города!
Щеки полыхнули с новой силой, и Варвара Григорьевна приложила к лицу смоченный в воде платок. Говорить так с ней! Как он смел?! Имея такую чудную жену, как Ольга Фердинандовна, сына… О, как жестоко она ошиблась в этом человеке! Неужели в столице все таковы? Все рабы своих похотей? И никому нельзя верить? В Москве было не так. В Москве ее дом всегда был полон людей, и эти люди любили ее чистой, братской, сестринской, дружеской любовью, как и она их.
Варвара Григорьевна всегда тосковала о родном городе с его простодушием и сердечностью. Ей, москвитянке до мозга костей, было холодно и тоскливо в Петербурге. Тем более, что Никита был здесь так занят, что у него почти не оставалось времени на прежние задушевные разговоры, чтения, тихие семейные радости. Но никогда еще так остро не чувствовала она своего одиночества в этой чужой и обманчивой, как ее туманы, столице.
Устав ходить, Варвара Григорьевна опустилась в кресло и глубоко вздохнула. Этот молодой человек, такой талантливый и ранимый, казался ей не таким, как другие, возвышенным. Хотелось поддержать его, ободрить, приласкать матерински… А он принял это дружеское и материнское чувство за иное. Какая глупость!
– Я знаю, что и вы, вы любите меня! Я читаю это в ваших глазах! Слышу в вашем голосе!
– В таком случае вы слепы и глухи! И к тому же безумны, если могли подумать обо мне такое! Кто дал вам право так оскорблять меня? Немедленно покиньте мой дом! Не вынуждайте меня звать слуг и усугублять позор!
В вопросах чести мягкая Варвара Григорьевна была тверда, как сталь. Она видела, какое оглушающее, убийственное действие произвели ее слова на Апраксина. Но в тот момент гнев ее был столь велик, что его побелевшее лицо и отчаянный взгляд не вызвали в ней ни малейшего сочувствия. Перед ней стоял преступник и только.
Теперь же постепенно остывая, Варвара Григорьевна подумала, что, пожалуй, не стоило говорить столь резко. В конце концов, этот молодой человек – поэт, музыкант… А поэты и музыканты – люди зачастую слишком подверженные сильным эмоциям, несдержанные. А у Саши к тому же нервы всегда были точно воспалены… И это горькое его детство, и одинокость… Нет, нехорошо было бить так наотмашь, без жалости. Все, что без жалости делается, неправильно выходит – это Варваре Григорьевне еще покойница-мать говорила. «Людей жалеть надо, Варинька, всех, какие ни есть. Потому как люди же».
А, может, нетрезв он был? Что-то такое было в нем… нездоровое… Или именно нездоров? Не горячка ли? А коли так, то можно ли столь всерьез принимать его слова и так жестоко судить?
В дверь осторожно постучала горничная:
– Барыня, там внизу князь Борецкий. Сказать, что вам нездоровится?
Михаил Львович? Ну, конечно! Пришел оправдывать и защищать друга… Ах, что за день выдался, право! Сказаться ли и впрямь больной?
– Барыня, князь еще сказал, что это очень важно. Что он просто умоляет принять его.
– Скажи, что я спущусь… – вздохнула Варвара Григорьевна.
Матушка всегда говорила: «Никогда не отказывай человеку в помощи, не отказывайся выслушать его. А вдруг тем ты спасешь чью-то жизнь и душу? Пусть тысячи разговоров будут пусты, но ради одной единственной спасенной души можно выслушать миллионы пустых слов».
Необычайно взволнованный князь ожидал ее в гостиной.
– Прошу простить меня за вторжение, – отвесил он галантный поклон, едва Варвара Григорьевна ступила в комнату.
– Что-то случилось, Михаил Львович?
– Боюсь, что может случиться.
– С Александром Афанасьевичем? – негромко спросила Варвара Григорьевна, опустив глаза.
– Что-то произошло меж вами, не так ли?
– Я не желаю об этом говорить, князь! – щеки Никольской вспыхнули, и она сурово взглянула на непрошеного гостя.
– Вам и не нужно, – вздохнул Борецкий. – Он объяснился вам в любви, не так ли? Нет-нет, прошу вас, не сердитесь! Я ведь все понимаю… – Михаил нервно заходил по комнате. – Вы не должны судить его столь строго, Варвара Григорьевна!
– Вы пришли заступаться за вашего друга? Не теряйте напрасно времени!
– Да, пришел! – князь остановился. – Если вы желаете казнить, то казните одного меня, потому что именно я один виноват во всем!
– Вы, Михаил Львович? Чем же вы виноваты?
– Во-первых, именно я просил вас быть ласковее с Сашей, полагая это полезным для него. Однако, я не учел, что для его темперамента такая ласка все равно, что искра для бочонка с порохом! Ваши помыслы были чисты и невинны, но они ненароком зажгли в нем страсть.
– Вы не можете отвечать за чужое неумение владеть своими чувствами или хотя бы соблюдать приличия и не оскорблять дома, в котором был принят, как лучший друг!
– Позвольте мне досказать! Это… я сказал ему, что вы его любите.
– Что?! – вскрикнула потрясенная Никольская.
– Я буду говорить перед вами так, как давно не говорил на исповеди, Варвара Григорьевна, потому что знаю, что ваше чистое и мудрое сердце не оттолкнет кающегося преступника, но помилует его. Вчера у нашего доброго друга было день рождения. Мы, что греха таить, славно погуляли, и Саша остался у меня на ночь. Мы были несколько нетрезвы и чересчур разговорились. Саша говорил о вас в самых восторженных выражениях, но, клянусь спасением души и памятью моей матери, все они были глубоко почтительны. Он говорил, что вы божество для него, что он восхищается вами, как женщиной, как женой, как матерью. Что он завидует вашим детям, ибо будь такая мать у него, жизнь его была бы иной. И, наконец, он признался в своей безнадежной любви к вам… Желая утешить его, я сказал, что несомненно и вы его любите, и он вам дорог. Поверьте, я не вкладывал в эти слова дурного смысла… Но, повторюсь, оба мы были нетрезвы, и, видимо, мои неосторожные слова имели роковые последствия. Простите меня, Варвара Григорьевна. Перед вами дурак и подлец. Можете казнить меня.
– Теперь мне многое становится яснее… – промолвила Никольская. – Я прощаю вас, Михаил Львович, за вашу откровенность…
– Вы святы, как Мадонна, – с поклоном отозвался князь. – Так вчера говорил Саша. И он прав. Однако же я еще не все сказал.
– Что же еще?
– После вашего разговора Саша поехал на квартиру одного нашего с ним знакомца, который несколько дней назад уехал из города проведать стариков-родителей, и заперся там на ключ.
Варвара Григорьевна вздрогнула. Тотчас вспомнился полный отчаяния взгляд, почти безумный вид…
– Боже… И что же? Вы не видели его?
– И даже не слышал. То есть… Я слышал, что он там, внутри. Но ответить мне он так и не пожелал. Варвара Григорьевна, я боюсь за него. Я ведь говорил вам однажды, что он уже пытался свести счеты с жизнью и не один раз!
– Замолчите! – Никольская побледнела. – Почему вы не сломали дверь? – она еле сдержалась, чтобы не закричать. – Почему не позвали Ольгу Фердинандовну?! Зачем вы теряете время здесь?!
– Вы считаете, я мог рассказать о случившемся его жене? Я пришел к вам, потому что вы единственный человек, который может его спасти. Вы нанесли ему эту жестокую рану, и только вы можете исцелить ее! Простите нас обоих! Покройте наши ошибки и низости отзывчивостью вашего чистого сердца!
– Довольно, князь, расточать ваши комплименты! Мне уже дурно от них! Что вы хотите от меня, говорите прямо?
– Я хочу, чтобы вы поехали теперь со мною к нему.
– Как?!
– Вам довольно будет сказать ему, что вы его прощаете за дерзость и по-прежнему числите среди своих друзей, чтобы душа его воскресла из бездны, в которую повергнута теперь. Решайтесь, молю вас! Ведь мы можем приехать слишком поздно!
В висках у Варвары Григорьевны стучало. Меньше всего ей хотелось теперь ехать к одному безумцу в сопровождении другого. Но… что если князь прав? Что если ее жестокие слова возымели столь потрясающее действие на хрупкую душу, что несчастный решится?.. И тогда… Господи, тогда его гибель будет всецело на ее совести! И она никогда, никогда не простит себе!
– Может быть, довольно будет моего письма?
– Ваш голос, – Борецкий сделал на этом слове ударение, – лучшее теперь лекарство. И ваши глаза. Молю вас, Варвара Григорьевна, будьте же милосердны!
Никольская обреченно опустила голову:
– Хорошо, князь, я поеду с вами. Я склонна теперь считать все случившееся утром трагическим недоразумением, и не хочу, чтобы оно имело… дальнейшие последствия.
Рассудив так, Варвара Григорьевна велела подать свою шубу и, в спешке не переменив домашнего платья, покинула вместе с Борецким дом.
Глава 12.
В этот зимний день действительный статский советник Никита Васильевич Никольский был удостоен обедать вместе с Императором, Императрицей и близким кругом Венценосной четы, в который входил и генерал Стратонов. Никита Васильевич всегда высоко ценил доброе расположение к нему Государя, но, по совести, в этот момент он больше желал бы оказаться дома, в кругу своей семьи, на которую за службой оставалось до обидного мало времени. Радея о просвещении общественном, об образовании детей и юношества, он решительно не успевал уделить необходимые часы образованию собственных чад. А кто, скажите на милость, мог наставить их в науках и жизни лучше, чем отец? Чувствовал себя Никольский виноватым перед детьми. Да и перед Варварой Григорьевной… Ведь почти не видит его и, хотя не выговаривает, но тоскует, оказавшись оторванной от привычного московского образа жизни. Никите-то Васильевичу что! Он к этому своему делу рвался исступленно, видя в нем свое главное предназначение. Москву он любил, но в ней и задыхался от невозможности применить своих сил и таланта. А Варя – совсем другое дело. Да и ребятишкам в Москве было бы лучше, что и говорить… Москва – шуба купеческая, сверху пестрая, снизу теплая – никогда замерзнуть не даст. Петербург – форменная шинель…
За обедом кипела оживленная беседа. Солировали, как всегда, не считая самого Государя, Жуковский и «черноокая Россетти». Разговор, само собой, шел о предметах литературных. В иное время не преминул бы и Никольский высказаться по ним, но сейчас он чувствовал себя отчего-то чрезвычайно усталым, а потому предпочитал слушать. Тем более, что послушать было что. Государь рассказывал о своих встречах с Байроном и Гете. С Байроном они сходились в отвращении к регенту, с Гете – в вопросах куда более важных.
– Гете с самых молодых лет был так наблюдателен, что ничто не ускользало от него. Мне нравится больше всего в его романе описание характеров, даже наименее поэтических, и описание жизни немецкого общества. Гете говорил при мне, что он никогда не думал выставлять самоубийство интересным и что он считает самоубийство малодушием. Я был совершенно согласен с ним. Не его вина, если Вертеру подражали и если были настолько сентиментальны и романтичны. Он именно дал в Шарлотте тип женщины с сердцем и нисколько не романтичной, тип добродетельной женщины, не только доброй и благодарной, но вместе с тем очень остроумной и веселой; она остается верная своему жениху и вообще гораздо выше Вертера.
Государь всегда считал, что искусство обязано проповедовать нравственные ценности, выводить героев, воистину достойных подражания. Оттого он высоко ценил Вальтера Скотта и не выносил французский пьес, время от времени шедших на подмостках. Император недоумевал, что хорошего в произведениях, где жены изменяют мужьям, а мужья женам, где из-за этого лгут и убивают, и все это подается, как нечто нормальное, более того – романтическое, достойное всяческого сострадания? Эти фривольные пьески обращались к низменным человеческим страстям, а потому не вызывали у него ничего, кроме отторжения и порицания. Никита Васильевич склонен был соглашаться с этим «пуританским» взглядом. Только вспомнить, сколько юных душ растлили дрянные французские романишки… Нет, Государь определенно прав, искусство должно возвышать человека, вести его за собой вверх, а не тянуть в грязь, обольщая подобно древнему змею, склоняя его принять грехопадение уже отнюдь не тем, чем оно является, но – наоборот – чем-то прекрасным.
От творцов иностранных обратились к своим. Император изволил осведомиться у Александры Осиповны о Пушкине, к которому весьма благоволил, и настоятельно потребовал, чтобы тот оставил ложную скромность и передал ему все то, что пишет и желает печатать ранее доставления Бенкендорфу.
– Пушкин будет очень счастлив, Государь! – запорхали, словно крылья бабочки, длинные ресницы, засветились очи, сведшие с ума целую плеяду русских поэтов. – Он говорил мне, что Ваше Величество набросали на полях его рукописи превосходные мысли и критические замечания, в особенности на «Бориса Годунова».
Никольский скосил взгляд на Стратонова. До сего момента он насилу умел скрыть скуку. Ему, далекому от литературы человеку, малоинтересны были и Байрон, и Гете… Но при упоминании Пушкина что-то ожило в нем, и он весь обратился во внимание. Благо г-жа Россет отнюдь не собиралась быстро оставлять любимую тему. Сейчас она выспросит у Государя все-все, что может быть важно для дорогого Сверчка, а затем перескажет ему этот разговор вместе с Жуковским. Император с удовольствием отвечал ей и даже осведомился сам, какие вещи Пушкина предпочитает Александра Осиповна.
– «Пророка» из мелких вещей и «Полтаву» из крупных.
– «Пророка»? А не сделаете ли вы нам удовольствие прочесть эти стихи?
Государь мог и не спрашивать ответа. Черноокая красавица тотчас исполнила это пожелание. Читала она восхитительно. Слушая ее, Никита Васильевич в очередной раз подумал, что к этой женщине природа была на редкость щедрой, подарив ей кроме внешней красоты, еще и отменный ум, безупречный вкус и чувство слова…
– Я забыл это стихотворение, оно дивно-прекрасное, – промолвил Император, когда немного взволнованная чтением Александра Осиповна умолкла. – Это настоящий пророк!
– Пушкин почерпнул его в Книге Пророка Исаии, дополнив собственными мыслями библейский текст. Он постоянно читает Библию по-славянски.
– Как он прав! – воскликнул Государь. – Какая там поэзия, не говоря уже ни о чем другом! Псалмы, Пророки, книга Иова, Евангелие – все это такая поэзия, до которой далеко величайшим поэтам. Я также очень люблю Деяния Апостолов. Что же до Апокалипсиса, то признаюсь вам, что я в нем не особенно много понимаю, но это также высокопоэтично. Помните ли вы этот текст: «И бысть в небе безмолвие велие»?..
Зимний дворец Никольский покидал вместе со Стратоновым.
– Ты выглядишь усталым, – заметил Юрий, когда они неспешно шли по парку.
– Признаюсь, чувствую себя также.
– Удивлен слышать это. Разве не сбываются твои мечты?
– Как сказать…
Никита Васильевич замедлил шаг, щуря близорукие глаза. Оглядываясь назад, с чистой душой мог сказать он, сделано за эти годы немало. И первые шесть лет правления Николая Павловича можно было назвать поистине золотыми. Взять хотя бы два последних года! Наконец-то осуществилось чаяние еще покойного Императора Александра – было издано Полное Собрание Законов Российской Империи! Сколько бессонных ночей провел Никольский, трудясь над этим важнейшим делом! А Сиротские институты в Петербурге и Москве? А учреждение Архитектурного училища? А открытие Румянцевского музея? Из страны, которая внешнее величие свое вынуждена была заимствовать у Европы, приглашая лучших архитекторов, художников, артистов и музыкантов, утолять свою жажду слова европейскими же сочинениями, Россия на глазах превращалась в страну, которая уже сама несла миру свое слово, свое искусство, чьи гении вот-вот грозили превзойти, а иные и превзошли уже своих заморских учителей! Наконец, уходил в прошлое ученический период доходивших до смешного заимствований. Переплавив внутри себя все, что можно было почерпнуть у наставников, вчерашний ученик уже твердо встал на свой путь и делал по нему первые самостоятельные шаги, обнаруживая самобытность и великолепную палитру дарований. Россия обретала свой Голос. Не голос пушек, но голос лир.
И все-таки Никиту Васильевича терзало чувство, что сделано недостаточно, что время опережает предпринимаемые действия. В области просвещения сделан ряд шагов, но это капля в море для нашей необъятности! А крестьянский вопрос? Почитай, и не начинали еще… И ведь на каждом нужнейшем начинании – непременно частоколом палки в колеса. Застывшая, неповоротливая, не видящая дальше своего носа и кармана бюрократия не желала шевелиться с необходимой скоростью, мертвя все живое…
– Помилуй Бог! Как можно вечно всем быть недовольным? – возмутился Юрий. – Ей-Богу, дружище, ты превращаешься в мизантропа, а это опасно!
– Мне кажется, что и ты не очень-то весел, – заметил Никольский.
– Ты же знаешь, никакие лиры не заменят мне победного грома пушек. И хоть поляки – порядочная дрянь, но мне уже их не хватает.
– Я тебя утешу. Сдается мне, что скоро мы получим новую войну.
– В самом деле? – оживился Стратонов. – Уж не на европейских ли полях, еще не успевших остыть от наших драк с Бонапартом и его ордой?
– Именно там. Государю весьма не нравятся европейские дела.
– Мне тоже они не нравятся, – пожал плечами Стратонов. – Но сказать по чести, друг мой Никита, я не очень-то понимаю, какое нам дело до того, какая шельма в очередной раз взобралась на трон Бурбонов.
– Государь предупреждал Луи-Филиппа, что само его положение, положение монарха, пришедшего к власти путем свержения своего предшественника, опасно для монархического принципа. Принцип погиб. И те, кто помогли ему свергнуть Карла, свергнут и его самого. Пушкин по этому поводу сказал, что, раз избрание короля совершилось благодаря 3-му сословию, главным образом буржуазии, то придет время, и блузники захотят вознести на престол своего кандидата, за этим последует новая революция. Монархический принцип во Франции погиб теперь более, чем в 1791 году.
– И что до этого нам? – вновь спросил Стратонов.
– А то, что Европа – единый организм. И болезнь одной ее части быстро оборачивается болезнями в других. Теперь, вот, это несчастное голландское дело…
Юрий почесал переносицу:
– Я, может быть, солдафон и неуч, но лично мне нет никакого дела, кому в итоге будет принадлежать кусочек под названием Бельгия размером с какой-нибудь наш уезд.
Никита Васильевич бледно улыбнулся:
– В сущности ты прав… Нам не следует слишком увлекаться внешним, ибо наши беды имеют, прежде всего, корень внутренний. Мы без того слишком долго грешили этим. Но ты же знаешь Государя. Для него святы принципы Священного Союза, заложенные его братом. И видя их попрание, он не может оставаться безучастным.
– Да, я это знаю. Я в какой-то степени восхищаюсь этим. Наш Император истинный рыцарь. Во всем без исключения.
– Да, – согласился Никольский. – Но иногда нужно быть чуть-чуть прагматиком. Время крестовых походов прошло. И в нашем мире правят теперь совсем иные силы. И бороться с ними рыцарским мечом – это донкишотство…
– Мне положительно не нравится твое настроение, – заключил Стратонов. – Если Государь прикажет, я с удовольствием еще раз накручу хвосты хоть французам, хоть кому другому.
– Нельзя все время воевать!
– Нельзя. А что делать? Нет, что касается тебя, то тебе всенепременно надо взять отпуск и поехать с семьей в Москву. Ты просто устал. А родной дом, тихие семейные вечера быстро вернут тебе силы.
– Я сам об этом думаю, но никак не выберу времени… Ладно, оставим в покое мое настроение. Я заметил, ты стал интересоваться творчеством нашего славного поэта?
Лицо Юрия при этих словах подернулось легкой печалью.
– Его она мне читала… – проронил тихо.
– Та барышня? Софья?
– Софья Алексеевна… Она и «Пророка» читала мне. Когда услышал его сейчас, сердце заколотилось… И «Полтаву»… Она тоже ее всего больше у Пушкина любит. Ах, Никита, знал бы ты, какая это душа! Я намедни письмо от нее получил и, вот, третий день маюсь с ответом. Знаешь же сам, какой из меня писатель… Теперь хоть будет, о чем написать ей. Ей будет интересно об нынешних беседах почитать…
– А я думаю, ей всего интереснее было бы о тебе читать, – ответил Никольский. – О твоей жизни, мыслях, чувствах…
– А какая моя жизнь, Никита? Казарменная и только…
– Ты балда, Юра, – совсем как в детстве, покачал головой Никита Васильевич. – Зачем бегать своего счастья? Второй год она уже пишет тебе! Да неужто неясно, отчего?
– Довольно, Никита! – остановил его Стратонов. – Тут уж ничего не поправишь.
– Все можно поправить! Ты ли, герой стольких войн, пасуешь перед преградами? Синод дал бы тебе развод, я уверен! Ты заслуживаешь счастья! Хорошей жены! Семейного очага!
– Кому какое счастье я могу дать? Тем более, такой женщине… Нет, моя судьба, знать, родная сестра судьбе незабвенного князя Петра Ивановича. Лишь на войне он был дома, а вне ее не имел где главы преклонить. Так и умер – один, на чужой постели, в чужом доме… И в чужом склепе упокоился. Мне, вероятно, сужден тот же удел. И довольно! Не трави мне больше душу этим, она и без того растравлена.
– Воля твоя, – вздохнул Никольский. – Но ты совершаешь большую ошибку. Как друг, не сказать тебе этого не могу.
– Лучше скажи мне… что там Петруша, – сменил Стратонов тему. О сыне он спрашивал нечасто, и оттого было ясно, что сейчас он готов говорить о чем угодно, кроме Софьи.
– А что Петруша… Молодцом твой Петруша! Настоящий боец. В Корпусе хвалят его.
– Я рад, что он избрал военную стезю. И буду горд, если из мальчонки выйдет достойный воин.
Никольский знал, что Юрий терзается подозрениями относительно своего отцовства. И весть о воинском духе сына не могла не порадовать его. От кого же еще было унаследовать оный мальчику, как не от него?
Простившись с другом у ворот дворца, Никита Васильевич направился к ожидавшему его экипажу. Внезапно к нему приблизился долговязый посыльный.
– Вам велено передать, ваше превосходительство! – сипловатым голосом сказал он, подавая запечатанный конверт, и с поклоном удалился.
Никольский настороженно распечатал письмо и, едва скользнув по первым строкам, сделался белее полотна.
«Если Ваше Превосходительство изволит прогуляться до дома №6, что в Апраксином переулке, то сможет увидеть свою жену с другим мужчиной».
Как и все подобные мерзости, записка была анонимной, но это нисколько не облегчило обрушившейся на сердце тяжести.
– Что-то случилось? От кого это письмо? – раздался рядом голос подошедшего Стратонова.
– Ничего-ничего, – вымученно улыбнулся Никольский, стараясь не выдать волнения. – Пустяки…
– Это из-за пустяков на тебе лица нет?
– Я просто устал и неважно себя чувствую, – отозвался Никита Васильевич, благодарно похлопав друга по плечу. – Надо будет, действительно, взять отпуск…
Скомкав письмо в кулаке, он сел в карету, и та привычно тронулась в направлении Гороховой улицы, где обосновался Никольский тотчас по переезду в столицу. Однако, проклятая записка так и жгла ладонь, а вместе с нею сердце. Конечно, эта чья-то злая шутка, гнусная насмешка клеветника… Варинька неспособна на проступок, на обман! И только человек, не знающий ее, их семьи, мог сочинить подобный навет… Так говорил себе Никита Васильевич, но шипы посеянного подозрения уже глубоко впились в его душу. И ничто не могло вырвать их, кроме явного доказательства абсурдности оного.
На середине пути Никольский постучал тростью о крышу кареты и хрипло крикнул кучеру:
– Голубчик, отвези-ка меня прежде в Апраксин переулок!
Глава 13.
С самого утра вьюжило, нагоняя сон. Что может быть лучше в зимний день, когда за окном валит узорчатыми хлопьями снег, и для того, чтобы почитать книгу, свечу придется зажигать даже в полдень, нежели остаться в теплой постели, укутаться в одеяло и дремать, слушая треск камина и вьюжные заоконные напевы? И ведь, должно быть, есть такие счастливцы и счастливицы, которым удалось провести этот день именно так… Но Эжени к ним не относилась.
Из дома Борецких, в котором, несмотря на разгон прежней прислуги, у нее остались глаза и уши, пришли настораживающие известия. Настораживающие настолько, что, не смущаясь метелью, Эжени сама в крытых санях отправилась к княжескому дому. Из расположенной неподалеку ресторации он был хорошо виден, и, согреваясь горячим чаем, можно было спокойно вести наблюдение. Само собой, Эжени не пожалела грима, чтобы не быть узнанной кем-либо из тех, кто мог видеть ее прежде у покойной княгини. В иной день она отправила бы вместо себя немого Благою или смышленого паренька Илюшку, которого Виктор не так давно взял в услужение для поручений, требующих острого глаза и быстрых ног. Но как назло Илюшка второго дня изрядно замерз и жестоко простудился. Вот и пришлось филерскую работу самой выполнять…
Утешилась Эжени после третьей порции чая, когда увидела покидающего дом князя Михаила. Бросив на стол деньги и, не дожидаясь сдачи, она быстро покинула заведение и, нырнув в подъехавшие сани, устремилась в погоню.
Борецкий спешил на Гороховую, и это совсем не понравилось Эжени. Ей давно внушало подозрение чрезмерное внимание князя к Варваре Григорьевне. Как пить дать задумал змей какую-нибудь гнусность. Нет, этого никак нельзя было допустить. И еще раньше нужно было предупредить Никольскую, вмешаться в эту интригу. Но Виктор был сосредоточен на князе Владимире… А тут еще этот переезд, пожар, арест Виктора, обострение болезни Маши… И все это ложилось не на чьи-нибудь, а на ее, Эжени, плечи.
А сегодня утром агент сообщил ей о разговоре между князем и этим начитавшимся романтических поэм простофилей Сашей. Тут и прорицательницей не надо быть, чтобы два и два сложить. Понял, видать, Михаил, что Варвара Григорьевна не Ева, и змей-искуситель, который покусится на нее, останется посрамленным, и решил опорочить добродетель иначе, используя податливого, как воск, Сашу.
А что же Никольская? Из разговора, переданного Эжени, не следовало ничего уличающего ее. Наоборот. Но Михаил доказывал Апраксину обратное… Врал, чтобы… Чтобы спровоцировать? Вызвать скандал? Ну, конечно! Его цель – скандал! Для него это развлечение убивающей его скуки, а для тех, кого выбрал он актерами в своей пьесе, она грозит обернуться трагедией.
Этот вывод сложился в голове Эжени из мелких кусочков мозаики, когда она сидела в санях у дома на Гороховой, страдая от холода, но опасаясь выйти на улицу и нечаянно обратить на себя внимание.
Снег, между тем, кончился, и в надвигающихся сумерках Эжени увидела две фигуры, поспешно вышедшие из дома Никольских. Михаил и Варвара Григорьевна! Холод сразу сменился жаром. Куда направляются эти двое? Что задумал этот негодяй?
Вновь помчались сани, петляя по улицам, следом за экипажем Борецкого. Тот остановился у дома №6 в Апраксином переулке. Князь галантно помог даме выйти, что-то говоря, затем проводил ее в дом, а сам возвратился в экипаж…
Мороз с приближением вечера усилился, и Эжени не выдержала. Укутав голову старушечьим платком и согнувшись в три погибели, она незаметно выскользнула из саней и стала прогуливаться вдоль дома, ожидая возвращения Никольской и терзаясь догадками, что это все может значить. Ах, когда бы с Варварой Григорьевной поговорить! В глаза ей взглянуть, руки ее коснуться! Тут бы уж для Эжени вся душа ее как открытая книга стала! Только бы не было поздно…
Варвара Григорьевна отсутствовала довольно долго. Но, вот, наконец, дверь распахнулась, и она вышла. А за нею – Саша… Эжени согнулась еще ниже, цепко глядя из-под нависшего над глазами платка на этих двоих и обратившись в слух.
– Я очень рада, Александр Афанасьевич, что утреннее недоразумение исчерпано, – сказала Никольская. – Право, мне было бы жаль нашей дружбы.
– Еще раз прошу великодушно простить меня, Варвара Григорьевна, за мою выходку. Поверьте, я бы скорее дал разрезать себя на куски, чем оскорбить вас. Это все нервы… Иногда со мной бывают подобные… припадки…
– Простите и вы меня вновь за резкость. Вы очень напугали меня… И утром… И потом…
Саша почтительно пожал, но не решился поднести к губам ее руку:
– Я никогда не забуду вашей доброты и снисходительности. Вы ангел, Варвара Григорьевна, и можете быть уверены в моем к вам бесконечном почтении. Я не достоин целовать ваших туфель, а вы подаете мне руку.
Эжени перевела дух. Нет, на воркование любовников этот полный достоинства с обеих сторон разговор нисколько не походил.
Саша помог Варваре Григорьевне сесть в экипаж, из которого почему-то так и не вышел Михаил и, проводив его долгим взглядом, вернулся в дом.
Эжени направилась было к оставленным на углу саням, но вдруг остановилась, как вкопанная, увидев знакомое лицо. Лицо, смертельно бледное и исполненное отчаянной решимости, смотрело неподвижным взглядом из окна кареты, стоявшей с другой стороны дороги, и принадлежало Никите Васильевичу Никольскому.
Так вот оно что! Так вот, значит, зачем все было! Так вот, почему подлец Борецкий не вышел из экипажа! Он знал, что Никольский здесь, и не желал быть увиденным! А знал потому что сам каким-то образом и пригласил его приехать сюда… Пригласил, чтобы Никита Васильевич увидел жену с другим мужчиной, мужчиной, который с некоторых пор стал самым частым гостем в его доме, и подумал… Какой муж, спрашивается, подумал бы иное?
Опущенная штора скрыло лицо Никольского, и его карета медленно поехала прочь.
– А ведь этот несчастный, пожалуй, вызовет простофилю на дуэль! – прошептала Эжени, распрямляясь. – Нужно немедленно остановить его!
Остановить… Хорошо сказать! Но как? Ах, если бы Виктор сейчас был рядом… Послать записку! И не Виктору – это все слишком долго… Стратонову! Объяснить ему все, представившись спутницей Виктора (он поймет), и попросить его немедленно приехать к Никольскому. А самой… Можно ли довериться Ольге Фердинандовне? Нет, не стоит пока вмешивать еще и жену… Довольно ревнивого мужа. Люба! Вот, кто может помочь!
Опустившись на колени, Эжени зачерпнула пригоршню снега и стала что есть мочи тереть им лицо, смывая грим. Подбежав к саням и, бросив в них парик и свое старушечье облаченье, она быстро переоделась в свою предусмотрительно захваченную с собой шубу и меховую шапочку в восточном стиле, попутно давая указания кучеру:
– Сейчас я напишу записку, отвезешь ее генералу Стратонову, что квартирует на Малой Морской улице в доме Калитиной…
– А если генерала не будет дома?
– Тогда исколесишь весь город, пока не отыщешь его!
Писать на морозе – сущее наказание. Выручает только карандаш. Но этот полезнейший инструмент, равно как и бумага, у Эжени всегда был при себе. Написанную по-французски записку она отдала кучеру:
– И смотри – в собственные руки! Если не дай Бог отдашь в чужие, пеняй на себя!
– Полноте, барышня! Мы свое дело знаем – доставим чин чином.
– Смотри! Как генерал записку прочтет, так ты его вези, куда он скажет.
– Слушаюсь, барышня. А вы теперь куда же?
– А мне, голубчик, в другую сторону. Не подведи меня! Гони быстрее!
– Обижайте, барышня!
Кучер хлестнул лошадь, и та резво помчалась прочь, взметая клубы снежной пыли. Замерзшая Эжени направилась в сторону Фонтанки, ища поймать извозчика. На счастье это удалось сделать минут через десять. Беда лишь, что от пронизывающего ветра в открытых санях не защищала ни шуба, ни покрывало, и Эжени с опасением подумала, что назавтра, пожалуй, сляжет следом за Илюшкой…
Ну да это будет только завтра. А пока надо, во что бы то ни стало, предотвратить несчастье.
В комнату Любы горничная проводила Эжени без каких-либо вопросов, зная, что молодая барышня всегда рада видеть эту странную гостью. Это, правда, не помешало ей несколько раз смерить последнюю удивленным взглядом. Что ж, смытый снегом грим, растрепанная прическа и странный туалет должны были вызывать определенное удивление…
Удивлена была и Люба, что-то читавшая, полулежа на оттоманке.
– Мадмуазель Эжени? В столь поздний час?
– Прошу простить меня за вторжение, но это очень важно.
Люба отложила книгу:
– Я вижу это по вашему виду. За вами точно разбойники гнались…
– Если бы за мной гнались разбойники, это было бы мелочью, из-за которой я не стала бы вас тревожить. Но дело касается вашей семьи… И не только…
– Что-то с Сашей, не так ли? – сразу догадалась Люба, и худое лицо ее исказила болезненная гримаса. – Он последнее время почти не бывал дома…
– Люба, я пришла просить вашей помощи. Вы единственная, кто может помочь, – сказала Эжени. – Я вам расскажу все, что знаю.
И она рассказала все, что видела, слышала, и о чем догадалась. Этот рассказ заметно опечалил Любу. Она глубоко вздохнула:
– Одному я рада, что оба они… не виноваты… Что грань не перейдена… Какое же чудовище князь Михаил! Я говорила Саше, что это дурной человек, но он почему-то ужасно к нему привязан. Однако, что же вы хотите от меня, милая Эжени?
– Хочу, чтобы вы всех спасли, – просто ответила Эжени. – Я хочу, чтобы вы теперь поехали со мною к Никите Васильевичу и говорили с ним. Я могла бы поехать одна, но меня он просто не примет. Для него я шарлатанка неизвестного происхождения. А уж в такой момент… Но вам, Люба, он не откажет. Просто по благородству своему не сможет отказать, понимая, сколь это важно для вас, коли вы решились этот путь предпринять. А вы расскажите ему все, что знаете теперь. Я же подтвержу это.
– Хорошо, я поеду с вами, – согласилась Люба. – Не знаю, послушает ли меня Никита Васильевич, но раз вы так считаете, то, стало быть, так нужно. Позовите мою горничную, чтобы она помогла мне одеться, и… приведите в порядок себя.
Глава 14.
Никита уже час как возвратился домой и, вопреки обыкновению не поднявшись в детскую, закрылся у себя в кабинете. Монотонно, совсем не в такт непривычно разбредающимся мыслям, тикали большие настенные часы. Если раньше этот звук лишь помогал ему сосредоточиться, подобно дождю, то теперь раздражал нервы. Никита плеснул в стакан воды из стоявшего на столе графина и несколько секунд вертел в руках его тяжелую крышку. Почему-то захотелось со всей силой швырнуть ее в часы и заставить их замолчать… Или же этот стакан… Бросить его об пол, чтобы разлетелся вдребезги… Или сдавить ладонью, чтобы лопнул, изрезав ее… Нет, не хватит силы. Не та у него рука, не стратоновская… А кровь бы пустить не повредило, а то бьется она в висках, грозя разорвать голову на части. А, может, уж тогда не себе пускать ее? А тому?..
Никольский отхлебнул холодной воды и, раскурив трубку, подошел к окну, за которым мягко и безмятежно, в такт надоедливым часам падал снег. Прежде чем принимать решение, необходимо все оценить трезвым взглядом. Но как сохранить его трезвым, если речь идет о твоей жене? А она встречалась с мужчиной… Тайком. В вечерний час. На его квартире. Безо всяких свидетелей…
Можно было бы раньше заметить… Ведь никто не бывал в этом доме так часто, как этот человек. Никто не проводил столько времени с Варинькой, как он. Никто не проводил… Даже он, Никита. Последнее время и поговорить-то толком не успевалось. Все служба, все дела государственные… А Варинька оставалась одна. В чужом городе, среди чужих людей. И негодяй воспользовался моментом! Увлек ее своими стихами да романсами! И ведь каков подлец! Имея прекрасную жену и сына! Ах, как же раньше не замечал, сколь Варинька благоволит к этому ничтожеству? Всегда радуется ему, всегда ласкова с ним… Каким же нужно быть слепцом и болваном, чтобы не понять…
Однако, возможно ли? Неужто Варя могла пасть так низко? Его всегда любящая, верная, чудная жена? Мать его детей? Хозяйка его дома? Друг всей жизни?.. Нет, немыслимо, невозможно! Чем так обольстил ее проклятый, чтобы она, забыв свой долг и приличия, поехала к нему? И ведь, должно быть, не впервые поехала… Сколько же это длится уже? И длится здесь, под его крышей… Какой позор! Лучше было бы никогда не покидать Москвы…
Нет, нельзя бежать от очевидности, как бы страшна и неприглядна ни была она. Если негодяй оскорбил честь семьи Никольских, то должен ответить за это. Подумать только, а ведь еще вчера Никита был ярым противником дуэлей! Можно подумать, что есть иной способ защитить свою честь в подобных случаях… Однако, это все равно скандал. Гнев Государя, отставка, ссылка, горе детей… Может лучше, забыть все виденное и смириться?
Этой мысли Никольский устыдился настолько, что щеки его вспыхнули. В доме, пропитанном ложью, счастья уже не будет все равно. А оставаться в столице при открывшихся обстоятельствах не представляется возможным. Значит, не должно быть места позорному малодушию! Нужно немедленно послать за Стратоновым, и пусть он устроит все должным образом. И как можно скорее… Как можно скорее! На миг Никите показалось, что он просто задохнется, если уже теперь не пустит кровь своему врагу или же сам не окропит ею подвенечно чистый снег…
За Стратоновым, впрочем, посылать не стоит. Это может вызвать какие-то подозрения Вари… Нужно ехать к нему. Да, так гораздо лучше! Как раз и вдали от этого ставшего ненавистным дома побыть, облегчить сердце…
Он уже собрался кликнуть лакея, когда увидел подъехавшие к дому сани. Из них выпорхнула хрупкая женщина в меховой накидке, которая вместе с кучером спустила на мостовую коляску, в которой сидела свояченица негодяя Люба Реден. Как ни занят был Никита своими тяжкими думами, но такой визит немало удивил его. Ведь парализованная девушка почти не покидала дома, и должно было случиться что-то исключительное…
Обе женщины вошли в дом, и Никита заслышал голоса в приемной. Прокопий, коему строго-настрого было запрещено беспокоить барина, категорически отказывался пропустить нежданных визитерш, те же в свою очередь проявляли большую настойчивость.
Поразмыслив несколько мгновений, Никольский вышел из кабинета.
– Все в порядке, Прокопий, – кивнул он верному слуге, – пропусти. Негоже заставлять дам ждать в передней, – и учтиво поклонился Любе, не уделив внимания ее спутнице, в которой узнал известную шарлатанку Эжени. – Прошу ко мне в кабинет, Любовь Фердинандовна.
– Благодарю вас, – ответила девушка, выглядевшая столь бледной и измученной, что Никите показалось, будто она вот-вот лишится чувств.
– С вами все хорошо, Любовь Фердинандовна? Как вы себя чувствуете? – спросил он с беспокойством.
– Спасибо, Никита Васильевич, слава Богу, – негромко отозвалась Люба, через силу улыбнувшись.
– Не велеть ли чаю?
– Нет-нет, не нужно, – качнула головой девушка, – у меня срочное дело к вам…
– Вижу, что срочное, коли вы решились покинуть дом и навестить меня в такой час… – отозвался Никольский, затворяя дверь кабинета.
Опустившись за стол, он жестом предложил кресло Эжени, но та так и осталась стоять, не произнося ни слова, предоставив говорить Любе.
Той было явно тяжело подбирать слова к непростому разговору, и сильная дрожь левой руки выдавала ее волнение.
– Никита Васильевич, простите нас за столь внезапный и поздний визит… Но дело в том, что мы узнали нечто очень важное. Против вас, вашей семьи устроили злую интригу.
– Вот как? – усмехнулся Никита. – Да, я уже знаю об этом.
– Вы не о том знаете… простите…
– Не о том, мадмуазель Реден? А о чем же?
– Вы сегодня ложь за правду приняли, а настоящий лжи и ее виновника не знаете! Варвара Григорьевна, ваша жена – она ни в чем не виновата…
При этих словах Никольского бросило в жар. Этого еще не хватало! Уже весь Петербург о его позоре знает? Неужто этот чистый, несчастный ребенок пришел выгораживать мужа сестры?
– Простите, а что вам об этом известно, Любовь Фердинандовна? И откуда? – спросил сдержанно, ломая пальцы.
Люба подняла умоляющий взгляд на Эжени – было видно, что у нее больше нет сил говорить.
– Вы позволите, сударь? – в свою очередь спросила та, подняв свои черные, почти не мигающие глаза.
Никите совсем не хотелось слушать эту женщину, но умоляющий взор больной девушки не оставлял ему выбора.
– Я слушаю вас.
– Я была сегодня в том же месте и в тот же час, что и вы.
– Прекрасно! И что же?
– Я знаю, что ни ваша жена, ни тот, кто был с нею пред вами не виноваты.
– Простите, но мои семейные дела вас не касаются. И ваши прорицания меня не интересуют.
– Это не прорицания. Я просто знаю человека, который страстно желал вашу жену, но не имея никакой надежды, решил отомстить ей, воспользовавшись чистотой ее души и доверчивостью своего друга. Он специально устроил их встречу и прислал вам записку, чтобы вы увидели то, чего нет и никогда не было. И не могло быть.
Никита промокнул платком лоб:
– Скажите мне, мадмуазель, почему я должен верить вашему слову?
– Потому что оно правдиво, – спокойно ответила Эжени. – Иначе бы Любовь Фердинандовна не предприняла столь тяжелый для нее путь.
– Насколько я понимаю, мадмуазель Реден знает о произошедшем с ваших слов?
– Эжени говорит правду! – неожиданно громко сказала Люба, выпрямившись в кресле. – И вы должны верить не нам, а Варваре Григорьевне, которая ничем не заслужила низких подозрений! Я знаю, что Саша очень привязан к ней. Возможно, больше, чем это подобает. Но их отношения никогда не переступали грани… Если бы было иначе, я бы поняла… Я слишком хорошо знаю Сашу.
Никита покачал головой. Что могло знать о жизни, о человеческой низости это неотмирное дитя? В глазах ее стоят слезы, она свято верит в то, что говорит… И хочется верить этим светлым глазам, этим словам… Но слова – не ее. Слова – темнокудрой шарлатанки, что привезла ее сюда, зная, что саму ее не пустят и на порог.
– Кто же придумал эту подлость? – спросил Никольский, не глядя на Любу.
– Князь Михаил Борецкий, – отозвалась та.
Князь Михаил… Что ж, этот человек и впрямь на любую гнусность способен – наслышан был о нем Никита. И в доме этом бывал он, набиваясь в близкие друзья. Пожалуй, может и правдой статься то, о чем говорят нежданные гостьи. Однако, все это слова, слова… Хотя бы один факт! Один факт против того, что видел он собственными глазами… Иначе никак не освободить сердца от впившегося в него ядовитого жала.
– Мне бы хотелось верить вам, но…
– И ты должен поверить! – в дверях кабинета внезапно появился Стратонов, позади которого маячил растерянный Прокопий.
Никита знаком велел ему уйти. Юрий же приблизился и повторил уже тише:
– Ты должен поверить этим дамам, Никита.
– Тебе что-то известно? – с робкой надеждой спросил Никольский.
– Достаточно, чтобы поручиться головой за правдивость слов мадмуазель Эжени и Любови Фердинандовны. Моему слову ты можешь поверить?
– Во всяком случае, хотел бы… – после паузы отозвался Никита.
– Скромный ответ для лучшего друга. Полагаю, лучше теперь нам побеседовать наедине, если дамы нас извинят, – при этих словах Стратонов обернулся к Любе и Эжени.
– Конечно, – кивнула Люба. – Слава Богу, что вы пришли. А нам давно пора уходить. Матушка, должно быть, очень волнуется.
– Благодарю вас, Любовь Фердинандовна, за то, что вы сделали для меня и Варвары Григорьевны, – сказал Никита. – Я провожу вас до экипажа.
– Нет-нет, не стоит, – покачала головой девушка. – Мы не хотим мешать вашему разговору с Юрием Александровичем. До свидания, Никита Васильевич! Храни вас Бог!
Когда Эжени увезла Любу, Никольский вопросительно взглянул на Стратонова:
– Может, хоть ты все мне объяснишь?
– Я объясню тебе, Никита, что ты просто осел, – отозвался Юрий. – Как ты мог допустить подобную мысль о Варе? Об этом ангеле во плоти?
– Твой свояк весьма постарался о том!
– Мой свояк всегда был волокитой и слюнтяем! Не собираюсь его защищать. Но единственная женщина, которая полюбила его и приняла на себя подвиг быть с ним – Ольга Фердинандовна.
– А что же Варя?
– Варя? Послушай, Никита, я гораздо лучше разбираюсь в лошадях, чем в женщинах, но могу поручиться, что единственное чувство, которое питает Варя к моему непутевому родственнику – это чувство старшей сестры, матери… А, вот, относительно Борецкого я ведь остерегал тебя, ты помнишь? Этот подлец сломал уже не одну жизнь для своей потехи. Именно он приехал сегодня за Варей и отвез ее в известное тебе место. И одновременно послал записку тебе. А ты и поверил!
– Зачем она поехала с ним?
– Да мало ли, что он мог ей наговорить, зная ее доброту и отзывчивость… Например, что бедный Сандро лежит при смерти в горячке… Друг мой, твоя Варя не знает, что такое Петербург, не знает здешних нравов. Ее простосердечие было просто обмануто. Забудь эту глупость и лучше уделяй ей хоть немного больше времени. Чаще говори с ней, смотри в глаза – и подозрениям не останется места. Ты же не думаешь, надеюсь, что Варя может хладнокровно лгать тебе?
Никита опустил голову:
– Должно быть, ты прав, и я, действительно, осел… Скажи, откуда ты знаешь эту женщину?
– Какую?
– Эжени. Ты ведь головой за ее слова поручился…
– Она друг человека, в котором я уверен, как в самом себе.
– Что за человек?
– Никита, – Стратонов поморщился, – есть вещи, о которых я не могу говорить. Не имею права.
– Очень уж много тайн и загадок в этой истории, – хмуро сказал Никита, наливая себе очередной стакан воды.
В кабинет легонько постучали. Этот стук Никольский знал, и сердце его дрогнуло. Так стучала только Варя.
– Входи, Варинька!
Варя, одетая в светлое домашнее платье, вошла в кабинет и сплеснула руками:
– Юра! Какой гость!
Стратонов поднялся ей навстречу, поцеловал протянутую руку:
– Здравствуй, Варинька! Видеть тебя – всегда радость!
– Никита, что же ты не сказал, что Юра будет к ужину?
– Он нагрянул вдруг…
– Как снег на голову, как всегда, – рассмеялась Варя. – Ну, ничего. Сейчас распоряжусь, чтобы еще один прибор поставили. Ужин будет готов через четверть часа. Не задерживайтесь, а то все остынет.
– Варя, – окликнул Никольский жену и спросил, когда та обернулась: – А где ты была сегодня вечером? Тебя не было дома, когда я вернулся…
Варя чуть поморщилась:
– Глупейшая история, Никитушка. Представь, князь Борецкий нынче приехал ко мне с ужасными вестями об Апраксине. Будто бы он тяжело заболел и желает меня видеть. Я, конечно, сразу собралась и поехала с ним.
– И что, что-то серьезное?
– Слава Богу, нет. Александр Афанасьевич сказал, что ему уже лучше и был весьма смущен тем, что князь столь напугал меня.
– С чего бы князю такие шутки шутить с тобой? – нахмурился Никольский.
Варя пожала плечами:
– Князь странный человек. Мне трудно понять его. Тяжелый человек… – она покачала головой. – В нем что-то темное живет, недоброе. Ну да Бог ему судья. В последнее время он не баловал нас визитами. Надеюсь, что и впредь мне не придется принимать его часто.
Когда Варя ушла, Юрий спросил:
– Я надеюсь, теперь душа твоя спокойна?
– Напрасно надеешься, друг мой, – Никита хрустнул пальцами. – Какой-то мерзавец пытался оклеветать мою жену в моих глазах и разрушить нашу жизнь, а ты хочешь, чтобы я был спокоен?! Ты не можешь себе представить, что я пережил в эти часы!
– Отчего же, легко могу…
– Ах да, прости… Но скажи по чести, как бы ты поступил на моем месте? Облегченно вздохнул и обо всем забыл?
Стратонов промолчал.
– Молчишь? Правильно! Ты бы в тот же вечер надавал подлецу пощечин и вызвал его на дуэль! И пристрелил, не задумываясь!
– Может быть…
– Может быть? А я, значит, должен сделать вид, что ничего не произошло, и по-прежнему встречаться и раскланиваться с этим сукиным сыном?!
– Остынь, Никита Васильич… Борецкий – один из лучших стрелков и фехтовальщиков. А ты, прости, на охоте в одну утку из десяти попадаешь, коли повезет. К тому же ты занимаешь важную должность и не должен нарушать запрета на дуэли. Ты ведь сам всегда был их противником!
– Все твои доводы, Юра, я знаю наперед. И сам привожу себе. Но есть то, что их превосходит.
– Не гневи Государя, Никита.
– Государь – человек чести и любящий муж! Он поймет меня.
Стратонов быстро подошел к Никольскому и с силой тряхнул его за плечи:
– Не дури, прошу тебя! Борецкий убьет тебя! Пожалей хотя бы Варю и детей!
– Довольно, Юра, не трать понапрасну слова. Если ты откажешься быть моим секундантом, я найду других.
Юрий опустился на стол, теребя ус. Помолчав несколько мгновений, ответил:
– Хорошо, друг мой, я стану твоим секундантом, если ты исполнишь два моих условия.
– Каких?
– Во-первых, ни слова Варе.
– Об этом ты мог и не просить. Само собой.
– Во-вторых, отложим окончательное решение до утра.
– Какого черта?! Я все решил!
– Ты сам всегда говорил, что важные решения нужно принимать на свежую и холодную голову. А ты сейчас весь горишь. Если завтра утром ты подтвердишь мне свое безрассудное намерение, я пойду к Борецкому и устрою все надлежащим образом. В противном случае можешь прямо сейчас искать других секундантов.
– Будь по-твоему, – устало махнул рукой Никольский. – Одна ночь ничего не изменит… – взглянув на часы, он добавил. – А теперь отставим это и спустимся в столовую. Нас ждет Варя и ужин.
– Прости, Никита, но на ужин остаться никак не могу. У меня еще есть дела по службе, которые я оставил, поспешив к тебе. Прошу, извинись за меня перед Варей.
– В таком случае, я жду тебя к завтраку, – многозначительно сказал Никита.
– Я непременно буду. Я же обещал.
– Благодарю тебя, дружище. Кроме тебя в этом городе мне решительно не на кого положиться!
Глава 15.
«И слава Богу, что не на кого, – думал Стратонов, покидая дом Никольских. – А то бы ты теперь таких дров наломал…»
В том, что ночь ничего не изменит в решении друга, Юрий не сомневался. Слишком хорошо знал он характер Никиты, его упрямство, столь полезное в делах и столь пагубное в подобных нынешней коллизиях. Драться с Михаилом Борецким! Рубакой и бретером! Сугубо статскому человеку, привыкшему держать в руках перо и бумагу, а не клинок или пистолет. Верная смерть! Сиротство детей, вдовство несчастной Вариньки… Нет, такого исхода Стратонов допустить не мог. И эту ночь выпросил у Никиты с одной лишь целью – предотвратить несчастье.
А предотвратить его лишь одним способом можно было… Кому как не Юрию, сирому в жизни, всего сподручнее разделаться с мерзавцем, который сломал жизнь одному его другу и едва не сделал того же со вторым? Клинок Стратонова не менее остер и боек, и глазу меткости не занимать. Государь, конечно, будет гневен. Но тут прав Никита – узнав суть дела, поймет. Отправит, конечно, на Кавказ. Ну, так Юрий тому только рад будет – душно ему в столичных стенах, постыло.
Неспешно доехав до дома Борецких, Стратонов спешился и, привязав коня, вгляделся о ярко освещенные окна дома. Кутит его сиятельство… Что бы еще делать мог в такой час, мерзавец… Юрий решительно постучал в дверь, и через несколько минут на пороге возникла несуразная фигура лакея в парадной ливрее.
– Проводи-ка меня к своему барину, братец, – велел Стратонов, снимая перчатки.
– Барин беспокоить не велели-с… – пробормотал лакей.
Юрий, не церемонясь дольше, схватил его за ухо и, чуть приподняв, повторил:
– Меня не интересует, что велел, а что не велел твой барин. Веди меня к нему, пока я еще добрый.
Лакей взвыл от боли и покорно повел Стратонова в залу, из которой доносился пьяных хохот и девичий визг. Картина, которую застал Юрий, гораздо лучше подошла бы для какого-нибудь борделя, нежели княжеского дома. В клубах табачного дыма, среди батарей уже опорожненных и еще ожидавших своей очереди бутылок трое весьма нетрезвых господ играли в карты. Играли, по-видимому, не на деньги, а на забившуюся в угол перепуганную девушку, которой на вид было не более пятнадцати лет. Тут же были еще две полуодетые девицы, чей род занятий не вызывал сомнений.
Оттолкнув одну из них, Стратонов шагнул к поднявшемуся ему навстречу Михаилу.
– Ваше превосходительство? Какие гости в моем доме! Не желаете ли присоединиться к игре? – с усмешкой осведомился тот.
– Мы с вами, князь, сыграем в другую игру с более высокой ставкой, – ответил Юрий и дважды ударил Борецкого по щекам перчаткой.
Михаил вспыхнул, в его мутных глазах загорелся недобрый огонек.
– Это вызов?
– Да. И навряд ли мне нужно объяснять вам причину. Полагаю, эти господа согласятся стать вашими секундантами?
Собутыльники князя с готовностью кивнули, едва ли вполне понимая происходящее.
– В таком случае жду их к себе завтра утром для назначения места нашей встречи. Честь имею!
С этими словами Стратонов повернулся, чтобы уйти, но тут почувствовал на себя умоляющий взгляд затравленных глаз, смотревших на него из угла. Сделав шаг к сидевшей там девушке, Юрий быстро взял ее за руку и, подняв, повлек за собой, объявив:
– А ce pauvre enfant пойдет со мной.
– Какого черта?! – воскликнул Михаил, поднимаясь из-за стола.
– Я полагаю, что ваше общество ей не подходит.
– А вот это вас не касается. Эта девка – моя собственность. Я ее купил!
– Хотите сказать, что она ваша крепостная, князь?
– Именно!
По лицу девушки Стратонов понял, что Михаил лжет. Наверняка нашли эту несчастную в каком-нибудь бедняцком квартале, заманили обманом… Мало ли таких, как она.
– Если она ваша крепостная, то обязуюсь заплатить вам долг за нее.
– Мне не нужны ваши деньги, генерал, – отозвался Борецкий, преграждая Стратонову путь. – Прошу вас оставить девку и удалиться!
Юрий взглянул на притихших за столом собутыльников князя. Те были явно не готовы ввязываться в ссору из-за безродной девицы. Лишь едва держащийся на ногах от неумеренных возлияний Борецкий был вне себя от гнева. Не тратя время на бесплодный спор, Юрий отвесил князю еще одну пощечину – на сей раз в полную силу своей крепкой руки. Михаил рухнул на пол.
– Простите, князь. Однако, поединок меж нами – вопрос уже решенный. А значит одним оскорблением меньше, одним больше… – с этими словами Стратонов вышел прочь, уводя за собой девушку.
Уже на улице он накинул на нее свою шинель, усадил перед собой на лошадь, спросил, тронув поводья:
– Как тебя звать, и куда тебя везти?
– Звать Полиною, а деваться мне некуда… – тихо отозвалась девушка.
– Сирота, значит?
Полина кивнула и рассказала, что отец ее, мастеровой, полгода назад помер от холеры, оставив восьмерых малых детей и жену, Полинину мачеху. Именно она, доведенная до отчаяния страшной нищетой, согласилась отдать падчерицу «в услужение» богатому и щедрому господину, который в свою очередь и привез девушку в дом Борецкого, где господа не менее щедрые и богатые устроили большую игру, победитель которой получал право «сорвать первый бутон».
Стратонов зло сплюнул:
– Докатились, нечего сказать… Чтобы у нас в России и такие мерзости завелись! Деды наши про такое слыхом не слыхивали… А теперь кутят, видите ли, наши господа, по последней европейской моде одетые. Наукам из них единицы выучились, а подлостям разным – так все… Что ж мне делать-то с тобой? Не в казармы же везти… Даже валенок у тебя нет, простудишься того гляди…
– Мне хоть куда, лишь бы не назад… – пролепетала Полина.
Юрий вздохнул и, поразмыслив с минуту, решил:
– Сегодня у меня переночуешь – час слишком поздний. А поутру свезу тебя к хорошим людям. Глядишь, возьмут тебя в прислуги. У них детворы полон дом. А ты, небось, с детьми обращаться изрядно умеешь. Вот, и пригодишься барыне в помощь.
– Спасибо вам! – прошептала девушка, утирая дрожащей от холода рукой набежавшие слезы.
Глава 16.
С Варварой Григорьевной все глупо вышло. Постыдно. Наговорил ей Мишель сущих нелепостей, так что не знал Саша, как и оправдаться перед ней и за себя, дурака, и за него. С одной стороны приезд ее и впрямь воскресил его душу из бездны отчаяния, в которую повергли ее утренние суровые слова, а с другой – провалиться бы от стыда! Добро еще, что характер у женщины этой – золотой. Простила и виду не подала, что рассержена. Пожурила матерински за доставленное инкомодите , попросила и впредь бывать у нее да с тем и уехала.
С Мишелем Саша после разругался вдрызг. Ведь кабы ни этот змей-искуситель, никогда бы он не посмел в отношении Варвары Григорьевны бестактности допустить! Хотя что говорить, сам хорош… Повел себя как мальчишка, как тупица первостатейный! Позволить убедить себя в том, что дружеская щедрость прекраснейшей из душ – это беззаконная страсть… И ведь об Олиньке позабыл совсем! Теперь и на глаза-то ей показаться стыдно…
Домой Саша нарочно возвратился поздно, надеясь, что жена будет спать. Ольга и впрямь уже легла, чувствуя себя неважно. Но каково же было удивление Апраксина, когда он обнаружил в гостиной обычно не покидавшую свою комнату Любу. Заметно уставшая, она сидела в своем кресле, укутанная пледом и медленно перебирала в правой руке крупные четки.
Саша растерянно остановился в дверях:
– Люба? Что-то случилось? Почему вы здесь в такой час и совсем одна? – спросил он.
– Все уже спят. Кроме моей горничной, которая ждет меня, чтобы помочь лечь.
– Отчего же вы не ложитесь?
– Я хотела дождаться вас, – тихо ответила Люба и знаком попросила Сашу подойти поближе.
Озадаченный Апраксин подошел к свояченице и, как бывало прежде, опустился на пол подле ее кресла.
– Что случилось, Люба?
– Сегодня человек, которого вы считали своим другом, предал вас, Саша.
– Что вы имеете ввиду?
– Вашу встречу с Варварой Григорьевной видел ее муж, которого кто-то предупредил…
– Что?! – Апраксин побледнел и вскочил на ноги. – Он был там?!
– Был… И хотел вызвать вас на дуэль за нанесенное оскорбление.
Саша покачнулся и рухнул на стоявший неподалеку стул, стиснув руками голову:
– Боже мой, Боже! Какой позор… Какой же я идиот… Нет, это непростительно, непростительно… Что же теперь будет? Нужно поехать к нему, объяснить, принести извинения… Варвара Григорьевна святая! Я не допущу, чтобы ее коснулась хоть тень подозрений!
– Мы уже были у Никиты Васильевича, – отозвалась Люба.
– Вы?..
– Я, Эжени и Юрий Александрович. Мы постарались объяснить ему все… На дуэль он вас не вызовет. Он знает, что во всем виноват Михаил, а вы…
– …Идиот и ничтожество…
Обычно щедрая на слова утешения, Люба на сей раз не стала препятствовать самобичеванию Саши, и он понял, что зашел слишком далеко даже в ее все прощающих глазах. И впрямь слишком… Пока он весь вечер бродил по городу, жалея самого себя, его умирающая свояченица и его зять, оказывается, спасали его жизнь и честь. Конечно, отнюдь не только его, но и Никольских, и Олиньки… Но под угрозу всех их поставил именно он! И это – самый настоящий позор…
– Я все же поеду завтра к Никите Васильевичу, – тихо вымолвил Апраксин. – Расскажу ему всю правду. Повинюсь в собственной глупости. Если надо, на коленях стоять буду… Я не допущу, чтобы у него оставалась хоть тень сомнения.
– Правильно, – кивнула Люба. – Правильно, Сашенька. Это ваш долг.
– Ольга все знает?
– Нет, ничего. И не стоит ей знать. Просто постарайтесь, начиная с завтрашнего дня, вновь быть с нею. С нею, понимаете? Ведь она любит и знает вас, как никто. И она не заслужила того забвения, на которое вы обрекали ее последнее время.
– Я знаю, Люба. Я всегда знал, что недостоин твоей сестры. И никогда не понимал, зачем она связала свою судьбу с таким никчемным и нелепым человеком, как я.
– Вы не никчемный, Сашенька. Ты… сосредоточиться не умеете. Ум ваш парит. И душа себе места не находит… А душу… в узде держать надо. Как коня горячего, а не то беды не миновать.
– Где ж ту узду взять, Люба. Я бы и сам рад сердце свое глупое укротить, да не дается оно!
– А вы Бога просите. И по Божьему закону живите. Чем узда слабая?
– Маловер я, Люба, сами знаете… Где он, Бог? Нет, когда на вас гляжу, да на иных мужей святых, как тот старец саровский, так понимаю, что есть Он, что должно в Его воле жить. А сердце-то к тому пониманию глухо остается. И все-то воля своя выходит… Или уж не знаю чья… Самому тошно от этого, а ничего поделать не могу.
– Так разве же вы пытались? Всерьез? Душу-то, Сашенька, воспитывать надо. Как дитя малое – по шажочку, по шажочку.
– А тоску куда деть? Я ведь, коли в стенах этих затворюсь, так от тоски скоро озлоблюсь, и грех еще хуже будет.
– А старец Серафим, знаете ли, что о тоске да унынии говорит? «Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что, кажется ему, легче бы ему было уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели долее оставаться в этом безотчетно-мучительном состоянии. Надобно спешить выйти из него. Блюдись от духа уныния, ибо от него рождается всякое зло».
– Мудр ваш старец, что и говорить… И рождает же земля таких людей…
– Земля рождает, да небо душу дает. А они над той душой, как над самым нежным цветком пекутся, чтобы Господу должный плод принести.
– Так что же делать-то, чтобы дух этот от себя отогнать? Ведь с ума он меня сводит, Люба. До того, что все вокруг ненавидеть начинаю. А себя – первее всех.
– Молиться надо, Сашенька. Старец мне молитву собственноручно переписал в письме, чтобы читала я ее, когда на сердце печаль найдет. Я прочту ее вам, а вы повторяйте. А лучше потом и сами затвердите.
С этими словами Люба, закрыв глаза начала негромко читать своим слабым, по-детски звонким голосом:
– Владыко Господи небесе и земли, Царю веков! Благоволи отверзти мне дверь покаяния, ибо я в болезни сердца молю Тебя, истинного Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа, света миру. Призри многим Твоим благоутробием и приими моление мое; не отврати его, но прости мне, впавшему во многие прегрешения. Приклони ухо Твое к молению моему, и прости мне все злое, которое соделал я, побежденный моим произволением. Ибо ищу покоя, и не обретаю, потому что совесть моя не прощает меня. Жду мира, и нет во мне мира по причине глубокаго множества беззаконий моих. Услыши, Господи, сердце вопиющее к Тебе, не посмотри на мои злые дела, но призри на болезнь души моей и поспеши уврачевать меня, жестоко уязвленного. Дай мне время покаяния ради благодати человеколюбия Твоего, и избавь меня от бесчестных дел, и не возмерь мне по правде Твоей и не воздай мне достойное по делам моим, чтобы мне не погибнуть совершенно. Услыши, Господи, меня, в отчаянии находящегося. Ибо я, лишенный всякой готовности и всякой мысли ко исправлению себя, припадаю к щедротам Твоим; помилуй меня, поверженного на землю и осужденного за грехи мои. Воззови меня, Владыко, плененного и содержимого моими злыми деяниями и как бы цепями связанного. Ибо Ты един ведаешь разрешать узников, врачевать раны, никому не известные, которые знаешь только Ты, ведающий сокровенное. И потому во всех моих злых болезнях призываю только Тебя – врача всех страждущих, дверь рыдающих вне, путь заблудившихся, свет омраченных, искупителя заключенных, всегда сокращающего десницу Свою и удерживающего гнев Свой, уготованный на грешников, но ради великого человеколюбия, дающего время покаянию. Воссияй мне свет лица Твоего, Владыко, тяжко падшему, скорый в милости и медленный в наказании. И Твоим благоутробием простри мне руку и восставь меня из рва беззаконий моих. Ибо Ты Един Бог наш, не веселящийся погибели грешников и не отвращающий лица Своего от молящегося к Тебе со слезами. Услыши, Господи, глас раба Твоего, вопиющего к Тебе, и яви свет Твой на мне, лишенном света, и даруй мне благодать, чтобы я, не имеющий никакой надежды, всегда надеялся на помощь и силу Твою. Обрати, Господи, плач мой в радость мне, расторгни вретище и препояшь меня веселием. И благоволи, да успокоюсь от вечерних дел моих, и да получу успокоение утреннее, как избранные Твои, Господи, от которых «отбежали болезнь, печаль и воздыхание», и да отверзется мне дверь Царствия Твоего, дабы, вошедше с наслаждающимися светом лица Твоего, Господи, получить мне жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.
Слушая подрагивающий голос свояченицы, Саша вновь опустился рядом с ней на колени, пытаясь вторить непривычным словам. На глаза наворачивались слезы, и он не пытался сдержать их. Когда Люба умолкла, Апраксин прошептал:
– Я обещаю вам, что теперь все будет иначе, что я никогда…
– Не обещайте ничего, Сашенька. Даже Петр, клявшийся быть с Христом, когда все отвернутся от Него, отрекся от Спасителя трижды.
– Хорошо, не стану обещать.
– Пообещайте мне другое кое-что, – попросила Люба, касаясь его руки, лежавшей на поручне ее кресла.
– Все, что скажете. Вы ведь мой Ангел-Хранитель.
– Есть на севере монастырь Валаамский – знаете? Туда покойный Государь ездил – с отшельниками тамошними встречи имел. Так, вот, надо и нам тем святыням поклониться по примеру его и у старцев тамошних благословения и молитв о нас грешных испросить.
– Так ведь дорога туда тяжела очень, – усомнился Саша.
– Что с того? Где свои силы слабы, там Божья поможет. Вот, придет весна, потеплеет, и отправимся. Ведь отправимся же, Сашенька?
– Как скажете, так и будет, – ответил Апраксин, благодарно сжимая в ладонях маленькую, холодную, как лед, руку. – И до того времени, обещаю… – он осекся и поправился: – Постараюсь ничем не огорчать ни вас, ни Ольгу.
– Вот и славно, – Люба бледно улыбнулась. – А теперь позови Марфу. Я за день нынешний хуже, чем от всяких дорог устала.
Когда заспанная Марфа увезла барышню, Саша еще долго сидел в темной гостиной, пытаясь по совету Любы сосредоточиться и привести в порядок растрепанные чувства и мысли. Он клялся себе полностью изменить свою непутевую жизнь и чувствовал себя готовым даже к подвигу, ежели высшие силы призовут его к таковому. Теперь все, решительно все будет по-другому! Он докажет всем, что рано считали его пропащим, что и он может жить достойно и мудро, как подобает мужу и отцу семейства, а не юному вертопраху… Саша так увлекся воображением своей грядущей новой жизни и многочисленными обетами, что, не отерев выступивших от душевного умиления слез, уснул прямо в гостиной, так и не поднявшись в супружескую спальню.
Глава 17.
Почему-то он до последнего был уверен, что карающая длань Правосудия, нависшая над ним, так и не посмеет опуститься. Виданное ли дело, чтобы князя из знатнейшей фамилии, занимающего высокий пост, арестовали и отдали по суд? Доподлинно знал Владимир, что многие судейские на руку не чисты, да и в министерствах многих казнокрадство – не новость. А уж про чиновничество губерний и городов говорить не приходится. Ревизируй их, не ревизируй – все одно воровать будут. Да и ревизоры те ж… Умасли их хорошенько – на все глаза закроют! А на особо ретивых управу тоже найти можно… Вон, капитан Казарский, герой морских викторий, во цвете лет погублен был, когда учинил проверки тыловых контор и складов в черноморских портах, обнаружив злоупотребления высших флотских начальников. Полный сил воин, лишь во цвет лет вошедший, он скончался от неведомой болезни в считанные дни. Видевшие его во гробе, говорили, что тело имело ужасный вид, почернело, раздулось, а волосы отваливались от головы, будто бы то был парик. Верный признак отравления мышьяком. Очень кому-то помешал капитан… Кто бы мог подумать! Турки ничего сделать ему не могли, война ни царапины не оставила, а мирная жизнь убила… И ведь тем, кто убил, это с рук сошло. Даже и не сыскали их, хотя и тело из могилы вырыли и в столицу на экспертизу отвезли, и сам Бенкендорф вел расследование. А все отчего? Оттого, что убийцы имели высокое положение и покровителей…
Какой же, если в сравнении смотреть, с Борецкого спрос? Ну, подумаешь, документы подделывал – мало ли, таких случаев… От должности, пожалуй, отстранят под предлогом благовидным. В худшем случае, на время в родовое имение ушлют. Ничто! Не острог, чай, в сибирской глуши…
Рассуждая так, не спешил Владимир уезжать ни из Петербурга, ни из России. Сбежать – значит, признать вину. Самому на себя показания дать. Нет, не бывать тому! Никакая шельма не заставит князя Борецкого бежать! К тому же шельма давно уже с чертями в аду беседы ведет… Нарочно узнал Владимир – нашли в сгоревшем доме останки человеческие. Одно настораживало – с того времени, как пожар случился, исчез куда-то горбун Гиря. Как знать, не прихватил ли этот подлец документы, Владимиру столь нужные? Такой мерзавец на все способен! Однако же, если и прихватил, то уж на него Борецкий управу найдет. Не велика птица.
Кажется, все верно рассчитал Борецкий, а, вот, ведь поди ж! Где-то просчитался… И понял это, лишь увидев на пороге собственного дома… нет, не выскочку Любезнова, а голубые мундиры Третьего Отделения…
Дело выходило совсем худо. Проклятые бумаги, что так искал уничтожить князь, оказались не где-нибудь, а в руках самого графа Бенкендорфа. И было то полбеды, но выяснилось, что благодаря махинациям, о которых безапелляционно свидетельствовали документы, обогащались не просто какие-то мошенники, но некая организация, связанная в прошлом с приснопамятной Российско-Американской компанией, с заговорщиками, умышлявшими на Престол и Венценосца. И оказывался Борецкий уже не проворовавшимся чиновником, а преступником против Государя, соучастником заговора.
Услышав от непроницаемого Александра Христофоровича это страшное обвинение, Владимир похолодел. Тут уж ссылкой в имение не отделаешься, тут – Сибирь, никак не меньше. Забыв всю гордость княжескую, повалился в ноги главному жандарму:
– Александр Христофорович, не погубите! Богом клянусь, не знал ничего о супостатах! Не умышлял!
– Вору, князь, Богом клясться не престало, – резко ответил Бенкендорф. – Или вы полагаете, что воровство ваше не есть преступление против Государя и Отечества?
– Грешен, сознаюсь, грешен! Тем, что презрел закон и должность свою обратил на пользу себе, а не делу, блюсти которое был поставлен! И готов понести за то всякую кару, каковой найдет меня достойным мой Государь. Но ни о каких заговорах я ничего не знал! Это все изветы моих врагов!
– Вот как? – тонкие губы шефа Третьего Отделения скривились в усмешке. – Стало быть, ваши враги силой заставили вас помогать лицам, чьи помыслы и деятельность направлены на сокрушение Императорской власти? Как же это им удалось? И позвольте узнать, кто же они, эти ваши враги?
– Есть один человек… Я не знаю его настоящего имени, но сам себя он называет Курским. Это страшный человек! Он наверняка состоит в каком-то тайном обществе… Может быть, иллюминат! Это настоящий дьявол, поверьте мне!
– Не поверю, князь, ибо этот человек – друг Императора. И ваши слова против него лишний раз доказывают вашу вину. Кстати, уж не по вашему ли наущению г-ну Курскому подбросили польские прокламации, а затем подожгли его дом?
– Граф, я прошу избавить меня от подобных обвинений! Я дворянин!
– Вы вор и изменник, Владимир Львович. Будь моя воля, я предал бы вас участи других пятерых государственных преступников… Но Государь наш милостив, и, вероятно, проявит снисхождение.
Снисхождение? Двадцать или больше лет острога, которые никогда не пережить? Остаток жизни в кандалах и лишениях?.. Борецкому стало дурно, и он бессильно опустился на стул. Все слова разом прилипли к гортани, все судорожно придумываемые оправдания, еще не слетев с языка, разбивались о похожего на гранитного истукана шефа жандармов, чьи прозрачные глаза смотрели на приговоренного безо всякой жалости. Друг Государя… Курский – друг Государя… Друг… О, будь ты проклят! Будь ты проклят, кто бы ты ни был… Значит, мерзавец не сгорел в огне. Значит, он жив… И теперь празднует победу! Но рано, рано… Не может быть, чтобы не было способа освободиться! Наверняка он есть, и Борецкий найдет его. И тогда трепещи, проклятый негодяй! Тогда ты заплатишь за все и пожалеешь, что огонь не поглотил тебя уже сейчас… Злоба придала Владимиру сил, и, подняв взгляд на Бенкендорфа, он хрипло попросил:
– Прикажите дать мне перо и бумагу. Я хочу написать прошение Его Величеству.
– Извольте, – Александр Христофорович небрежным жестом протянул Владимиру лист бумаги и карандаш. – Только не злоупотребляйте драгоценным временем Его Величества, пускаясь в ненужные подробности. Не забывайте, что ваша вина полностью доказана. И единственное, о чем вы можете просить, это о милости к Вам.
Глава 18.
Месть не врачует ран. Она лишь, подобно восточным снадобьям, дарит пьянящее удовлетворение, дурманит. Но и более того – усмиряет снедающее душу пламя сознанием исполненного долга.
Виктор не отказал себе в удовольствии понаблюдать за тем, как жандармы увозили Владимира Борецкого, расположившись у окна дома напротив. Словно из лучшей театральной ложи ему было видно все: и смертельная бледность князя, и смятение семенившей за ним жены, и растерянность сбежавшейся челяди. Любопытно, из всех этих провожающих хоть одна душа посочувствовала Борецкому? Не себе, а ему? Холопы? Навряд ли… Владимир не был жесток к ним, но его скупость, его бесцветное существование не могли вызывать никаких добрых чувств. Если они и жалеют теперь о чем, то лишь о том, что теперь могут попасть под руку Михаила, а в сравнении с ним барин Владимир Львович и впрямь расчудесным человеком покажется. А жена что же? Смахивает слезу уголком платка… Страшно бедняжке, что отнимут неправедно нажитое, страшно, как жить самой, как дела вести без мужниного догляда. Не привыкла. А до него самого, пожалуй, и дела нет.
Как, однако же, иные люди способны бездарно прожить свою жизнь. Чего не хватало Владимиру? Родовит, состоятелен, умен… Живи и радуйся! Но нет, поглотила душу единственная страсть – стяжательство. Оттого и женился без любви на некрасивой, но богатой девице. А та даже потомства не дала ему. Казалось бы, в отсутствии оного куда еще копить, на что? Но не пускала страсть… В доме лишней свечи зажечь не давал, а от должности своей богател беззаконным способом. Или на тот свет собрался забрать накопленное? Это ли не безумие?
Захлопнулась дверца кареты с опущенными шторами, помчались кони, увозя арестанта навстречу его печальной судьбе. Челядь разбрелась по углам, перешептываясь. Жена несколько минут стояла посреди мостовой, точно окаменев, а затем, разом поникнув, скрылась в доме.
Еще один долг отдан. Еще один счет закрыт. А в душе ни радости, ни торжества… Пусто… Теперь главный долг отдать осталось. А что же дальше? Эта мысль все чаще терзала Виктора. Что будет, когда он закроет все счета? Уйдет смысл жизни… Останется ледяная пустота, от которой нет спасения…
Вспомнилось перекошенное страхом лицо Владимира. Понял, что легко не отделаться ему… В Третьем Отделении шутить не любят. Нечистых на руку чиновников в России пруд пруди, а, вот, государственные изменники – товар совсем иного роду. Виктору немало времени потребовалось, чтобы представить дело именно таким образом. Само собой, никакой тайной организации, деятельности которой якобы помогал Борецкий, не существовало. Это была лишь мистификация, создать которую Виктору, знатоку тайных обществ, было несложно. Да Бенкендорфу и не нужно было чего-то слишком мудреного, чтобы поверить в существование заговора. Память декабрьских событий 1825 года еще слишком жива была. К тому же нужные нити Виктор начал плести заранее. И одна из них вела к почившей в бозе Северо-Американской компании, имевшей самое прямое отношение к бунту на Сенатской площади. Уже одно это название пробуждала у Третьего Отделения охотничий инстинкт.
Князь Владимир отправится в острог, как злоумышленник и изменник. А в чем, собственно, здесь неправда? Разве подлецы, презревшие Правосудие, блюсти которое поставлены, наживающие состояния на попрании Закона, на не отертых слезах обиженных, не злоумышленники и изменники? Да в сто раз большие, чем бедняги из Северного и Южного обществ! Ибо это именно они изнутри разрушают государственную систему, омрачают самый образ верховной власти и возбуждают справедливое негодование горячих душ против существующих порядков. Увы, законы Империи и их применение несовершенны. Оттого, нет понимания равнозначной опасности преступлений откровенных бунтовщиков и тех, кто своей бесчестностью и жадностью, множит их число. Значит, пусть вор и мерзавец отвечает за соучастие в умысле на Императорскую Фамилию. Он получит всего лишь то, что должен получить. И в этом справедливость…
– Идем, Благоя, здесь нам больше нечего делать…
Слуга накинул Виктору на плечи шубу, и тот, не запахивая ее, спустился по лестнице и вышел на улицу, полной грудью вдыхая обжигающий морозный воздух.
– Прогуляемся, Благоя. Сегодня прекрасный день! Скоро весна наступит… – Виктор, прищурившись, посмотрел на яркое солнце, столь редко дарившее щедрость своих лучей столице. – А на юге, должно быть, и теперь все в цвету, тепло… Что если нам поехать туда? Мы засиделись на одном месте, расставляя наши силки и неусыпно выслеживая дичь. Теперь дичь поймана, и мы имеем право на отдых до новой охоты. Как ты считаешь, Благоя?
Слуга согласно кивнул головой.
– Я знал, что ты согласишься. Тебе ведь тоже неуютно в этом промозглом городе. Тебе тоже не хватает тепла, буйства цветущей природы, солнца… Солнца твоей Родины… Оно прекрасно там.
Продолжая этот отвлеченный разговор, Виктор вышел на Невский проспект и остановился, решая, как поступить дальше: продолжить прогулку, не обращая внимания на продрогшего слугу, остановить извозчика или же отправиться в ближайший трактир и отметить закрытие очередного счета бутылкой доброго вина и хорошим завтраком. Он уже склонился к последнему, когда услышал голос Эжени.
Виктор обернулся, и увидеть мчащиеся к нему открытые сани, в которых сидела его темноокая спутница. Такое внезапное появление не сулило добрых вестей. Виктор шагнул к остановившемуся экипажу, из которого еще на ходу выскочила взволнованная Эжени.
– Юрий Александрович через час дерется на дуэли с Михаилом! – задыхаясь, выпалила она.
– Проклятье! – выругался Виктор. – С чего вдруг?!
– Из-за Варвары Григорьевны. Наверное, Никольский хотел вызвать князя…
– …А мой друг Стратонов не нашел лучшего средства помешать этой глупости, нежели свалять дурака самому! Откуда ты узнала о дуэли?
– Слуга из дома Борецких сообщил мне об этом час назад…
– Он указал место?
– В парке на углу Сампсоньевского и Малого Муринского проспекта.
– Место дуэли Новосильцева и Чернова! Благоя! Возвращайся домой, а у нас с мадмуазель Эжени появилось срочное дело! – с этими словами Виктор прыгнул в сани, потянув с собой свою спутницу, и крикнул старику-извозчику: – Гони, что есть мочи, борода! Мы должны успеть! Плачу втрое!
Старик хлестнул свою пару, и та понеслась по улицам, взметая клубы серебряной пыли.
– Втрое или вчетверо, но нам не успеть! – прошептала Эжени, заслоняя рот от ветра ладонью. – Это слишком далеко!
Виктор с силой ударил кулаком по колену:
– Черт понес меня на Невский… Если бы я сразу отправился домой… Но мы должны успеть! Я не прощу себе, если Стратонов погибнет!
– Генерал один из лучших воинов – вы сами не раз говорили об этом! Он ничем не уступает князю в ратном деле!
– В ратном деле Михаил не стоит его мизинца, но дуэль это не ратное дело, Эжени! Дуэль, это когда два человека стреляют друг другу в головы с расстояния в десять шагов! В лучшем случае, повержены будут оба… А в худшем повезет тому, кто подлей… Тот же карточный стол, рулетка – все решает фортуна, а она дама весьма легкого поведения! Почему этот чертов холоп не донес раньше?! Почему?!
– Он не мог отлучиться из дому.
– Свинья! В битое мясо превращу негодяя… Разве за то я плачу ему, чтобы узнавать важнейшие вести в последний миг!
– Остыньте, прошу вас. Юрий Александрович знает, что делает…
– Юрий Александрович знает, что он должен делать, и только, – Виктор закашлялся. – Знает, что должен спасти друга и его семью от негодяя. Помилуй Бог, все его мысли я могу тебе сказать безо всякого прорицания! Ибо они просты, как мысли всякого кристально честного человека… Мало того, что он рискует своей жизнью наиглупейшим образом, он путает мне все карты… Ах, какая жалость, что они стреляются так далеко! Всего лучше было бы не нам ехать туда, а нашим доблестным блюстителям закона! Арестовать обоих и дело с концом! Но ведь растепели будут плестись туда неведомо сколько…
Давно уже не испытывал Виктор такого припадка гнева. И гнев этот был тем сильнее, чем яснее становилась правота Эжени – хоть вдесятеро заплати ямщику, а крылья у его кляч не вырастут. Во всех, даже самых безнадежных ситуациях, Виктор искал выход, и в этом поиске находил успокоение. Но сейчас выхода не было. Была лишь заснеженная дорога и слепящее глаза солнце, и ветер, гудящий в ушах. А где-то два человека уже готовы были сойтись в поединке. Друг и враг. Друг, не имевший права погибнуть, и враг, не имевший право на столь легкую смерть. И нет никакой силы, чтобы помешать им…
Глава 19.
Эта зима не столь скучной выдалась, как прежние. Зачастил в Мураново сосед – Павел Петрович Карамышев. Дотоле едва видели его в родных краях, ибо несколько лет жил Павел Петрович в Германии, где прилежно постигал науки. Остался бы он там и дальше, да занемогла матушка его, Наталья Пантелеймоновна, и пришлось молодому барину вернуться в имение, дабы помочь родительнице.
Скучно было Карамышеву в этом медвежьем углу. Утонченный юноша с изысканными манерами, одетый по последней моде, он непоправимо контрастировал с сельской жизнью. Сперва объехал всех соседей, но они быстро прискучили ему разговорами о вареньях и соленьях и явным желанием обрести в его лице завидного зятя. Затем охотился, изучив все окрестные леса, но и охота надоела привыкшему к светскому образу жизни и европейским столицам молодому человеку. Со скуки занялся хозяйством, но обнаружил, что полученные от немецких профессоров знания о философии, астрономии и прочих мудрых предметах никак не могут ему помочь разобрать путаницу расходных книг, найти общий язык с мужиками и навести в запущенных по болезни матери делах хоть какой-нибудь порядок.
Единственное «развлечение», в котором Павел Петрович оказался постоянен, стали почти ежедневные визиты к «мурановской барышне», которая принимала его радушно и сочетала в себе два замечательных качества: понимала литературу и искусство, легко могла поддержать разговор на эти темы и разбиралась в хозяйственных вопросах.
Софьинька была искренне рада визитам молодого Карамышева. Зима – время тоскливое, особенно когда единственный твой собеседник – старая няня, а тот, о ком томится сердце – далеко и не торопится вспомнить о тебе. В такие вечера милые беседы с учтивым соседом – прекрасный способ развеять хандру. Павел Петрович был человеком весьма любезным и образованным. Он выписывал все журналы и новые книги, выходившие в столицах, и охотно делился ими с Софьинькой. Это благодаря Карамышеву прочла она чудные повести Рудого Панька, над которыми от души смеялась вместе с няней. Что за прелесть были эти малороссийские сказки! И страшно, и весело от них! И дух захватывает, и, когда окончишь читать, кажется, что, вот, сейчас откроешь окно, а за ним совершенно иной мир, полный волшебства…
– Павел Петрович, а не знаете ли вы, кто такой Рудой Панек?
– Простите, Софья Алексеевна, не знаю. Это первая книга его. Должно быть, скоро автор себя объявит.
– Какой, должно быть, удивительный это человек! Что за воображение! Что за небывалый язык!
– Вижу, хохол завоевал ваше сердце. В таком случае, позвольте преподнести вам эту книгу в подарок – пусть и впредь она радует вас.
Такой подарок Софьинька приняла с радостью.
Ей легко было общаться с Павлом Петровичем по сходству вкусов. Безвыездно живя в деревне, она почти не имела собеседников на дорогие ей литературные темы. А Карамышев был в них редким докой и так прекрасно говорил о различных книгах и их авторах… А еще он был талантливым пианистом. И, глядя на его порхающие по клавишам пальцы, Софьинька смутно стыдилась своих рук. Ее руки привыкли к домашней работе, к шитью, к кистям и краскам. Они загрубели и не желали извлекать из старого фортепиано тех божественных звуков, что рождало оно, благодаря Павлу Петровичу.
– И как это вы, Софья Алексеевна, живете в этакой глуши совсем одна? Здесь же с ума сойти можно… Ничего здесь нет, что бы душе просвещенного человека потребно было.
– Некогда мне с ума сходить, Павел Петрович. Имение мое хоть и не велико, а хозяйского глаза требует.
– Неужто вы сами ведете дела с мужиками? Ведь это же чистые мошенники…
– Вести дела с мужиками совсем не сложно. Нужно просто знать их и знать свое имение. А я своих мужиков с детства знаю, как и они меня. Как и сестре моей, мне они верой и правдой служат. Знают, что я их не обижу, лишнего с них не стребую, а, коли нужда приключится, так и помогу, и не подводят меня. Мы же, Павел Петрович, с нашими мужиками и Наполеоново нашествие пережили, и последующую разруху… Вместе мы и в беде, и в радости.
– Сложно мне представить это. Вы такая хрупкая, начитанная… такая… Барышня, одним словом. И мужики…
– Помилуйте, вы на мужиков, словно на зверей каких диких смотрите. Если так смотреть, то и впрямь языка общего не найдешь.
– Наши мужики барышню любят, – вмешивается няня. – На всякий праздник гостинцы несут. Знают ее долю сиротскую, жалеют.
Трудно такие странности понять русскому европейцу, но смотрит с уважением непритворным. Хороший он человек, Павел Петрович, душевный. И няня к нему благоволит. И нетрудно догадаться, что мечтает старая видеть его мужем своей любимицы…
– Вот, интересно, надолго ли Павел-то Петрович в наших краях задержится?
– Как поправится Наталья Пантелеймоновна, так и уедет. Скучно ему у нас, разве не видишь? Только и мечтает скорее вырваться отсюда.
– Худо будет, коли уедет…
– Отчего же худо?
– Оттого, что нет здесь женихов иных. Есть, конечно, еще барчуки, да дурни дурнями, не стоят моей касаточки. А Павел Петрович!.. Такой красивый мужчина, такой обходительный и умный! Сам Бог его сюда послал. И ты ему, видно, по душе. Да и как бы иначе? Ведь ты у меня сокровище.
– С чего ты, няня, это взяла? Просто скучает он, и негде ему больше вечера коротать – вот и ездит.
– И хорошо, что ездит. Глядишь, привыкнет, поймет, что лучшей жены ему не найти… Эх, была бы ты с ним поласковее!
Жалко Софьиньке няню огорчать, потому не возражает. Да что возразить? И впрямь замечательный человек Павел Петрович. Собой хорош – высок, ладен, черты лица столь тонки, что многие барышни позавидовали бы – воду с такого лица пить и только. И галантен, и образован… Да, вот, только не глядят на него Софьинькины глаза. Как лицо его румяное да нежное видит, так и косит их в сторону, а перед ними – совсем иной образ, который никто и ничто из ее сердца вытеснить не может.
– Знаю я, о ком ты думаешь. Все енерал твой тебе грезится… И где он, твой енерал? Писать-то и то забыл тебе…
Может ли быть, чтобы забыл? Нет, не мог он забыть. А, знать, хочет, чтобы она забыла… Да отчего же все за нее решают, о ком думать и кого помнить ей? Тяжела сиротская доля, но одно лишь есть в ней преимущество – никто не решит за нее, с кем ей под венец идти. Тяжко ей одной, но сама себе она хозяйка. Всею жизней сиротской, трудом каждодневным, барышням иным неведомым, заслужила это право свое – самой решать, как жить.
– Вот, помру я – одна останешься. Совсем одна… Ни мужа, ни детей… Несладкая это жизнь. Я-то что, я вас, как родных, растила – в том и утешение мне было. А с тобой что будет? Подумай. Бабий век короток. Увянешь в нашей глуши и кому тогда нужна станешь?
А Павел Петрович все навещал Мураново, привозя то книги, то ноты, то еще что-нибудь, что могло порадовать Софьиньку. Наконец, его матушке стало лучше, и ее выздоровление решено было отметить балом для уездного дворянства. Засуетилась няня:
– Давно пора тебе в люди выходить! Засиделась красавица моя!
– Да мне и выходить-то не в чем, няня… И танцевать я едва умею – стыдно будет.
– Не мели ерунды, не серди меня, старуху! Да ни одна из здешних дурех с касаточкой моей не сравнится! И все они завидовать тебе будут, потому что Павел Петрович будет танцевать только с тобой!
И совсем не хотелось Софьиньке, чтобы все ей завидовали. И танцевать вечер напролет с Павлом Петровичем – также. Он-то, должно быть, танцует не хуже, чем на фортепиано играет, а она… Не хватало еще на ногу наступить ему – опозориться.
А Савельевна уже увлеченно за дело взялась. В город съездила – купила отрез чудного атласа кремового цвета, из старых сундуков кружева достала и сама взялась кроить и шить, изводя Софьиньку постоянными примерками.
Платье было почти готово, а до бала оставалось три дня, когда Софьинька проснулась среди ночи в холодном поту от ужаса. Ей привиделось, будто бы Юрий Александрович смертельно ранен. Как наяву, она видела его в окровавленной сорочке, с прострелянной грудью и белым, как полотно, лицом. Он стоял перед ней, протягивая к ней руку и зовя ее по имени…
Всю оставшуюся ночь Софьинька не находила себе места, а наутро рассказала свой кошмар няне. Та лишь покачала головой, пожевав губами:
– Мало ли что… Погода нынче ночью лютовала, а ты все письма ждешь, тревожишься – вот, и примстилось тебе. Помолись Пресвятой Богородице да забудь.
– Молилась, нянюшка, всю ночь поклоны клала да плакала, а все равно – точно камень на душе. Беда с ним! Сердцем чувствую, беда приключилась! Зовет он меня, нянюшка, к себе зовет!
– Да полно тебе вздор-то молоть! Он и думать забыл о тебе, а ты – зовет! Успокоиться тебе надо. Вон, в церковь съезди, с отцом Никодимом поговори – глядишь, отпустит. А завтра бал…
– Ах, оставь няня! – воскликнула Софьинька. – Не до бала мне теперь… Ехать мне надо!
– Обезумела! Куда еще ехать?!
– В Петербург… Непременно в Петербург! Там друг его живет – у меня и адрес есть… Я лишь узнаю, что с ним, и вернусь…
– Умом ты, что ли, повредилась, в самом деле?! – сплеснула руками няня. – Девица! Одна! В чужой город! В чужой дом! Без приглашения! Да на что же это похоже? Приедешь ты к тому господину и что? Станешь расспрашивать про своего енерала? А у енерала жена, сын! Позор и только! Образумься!
– Не уговаривай, нянюшка. Прости! Я уж решила все. Недаром мне такой сон был послан. Надо ехать.
– Вот, и сестра твоя, покойница, так же всегда говорила. «Я решила!» Дорешалась, бедовая, что в могилке лежит, – старуха всхлипнула. – Обе вы в отца – никого не слушаете!
– Не сердись, няня. Я тебе всякий день писать буду!
– А на что мне письма твои, коли я грамоты не знаю?
– Отца Никодима попросишь или старосту нашего, Елисея. Они тебе прочтут!
– А как же Павел Петрович?! Что я ему скажу?
– Скажешь, что заболела наша троюродная тетушка и срочно позвала меня приехать.
– И лгать не стыдишься! Хоть бы день-то подождала, до после бала-то? Платью-то теперь, пропадать, что ли… – Савельевна всхлипнула. – Все руки исколола, пока шила, чтобы ягодка моя самой красивой была, а ты…
Жаль было старуху обижать, скрепила сердце – всего-то на день отъезд отложить надо… А там – мчаться во весь опор без остановок…
– Хорошо. Я задержусь до завтра. Приготовь все необходимое к отъезду. Я возвращусь от Карамышева, переоденусь и тотчас отправлюсь в путь.
– Хорошо, касаточка моя, – обрадовалась няня. – Все к твоему приезду готово будет. Вот, опять же хоть соберу тебя, как должно. Чай, путь-то неблизкий.
Бал в Карамышевском доме прошел для Софьиньки, как во сне. Нет, она не затерялась в кругу приглашенных, не выдала своего душевного смятения, принуждая себя любезно улыбаться и поддерживать непринужденную беседу, она даже ни разу не наступила на ногу Павлу Петровичу, оказавшемуся превосходным танцовщиком, но никогда в жизни не было ей так тяжело. Разве что в последние дни жизни покойной сестры… А всего тяжелее было, когда Павел Петрович, как-то особенно глядя на нее, сказал тихо:
– Я давно хотел поговорить с вами, Софья Алексеевна… Я скоро уезжаю и не могу дольше откладывать. Позволите ли вы мне объясниться?
Софьинька отшатнулась в смятении и, уже едва владея собой, прошептала лишь:
– Нет-нет, Павел Петрович! Не сейчас… Только не сейчас… Не нужно… – так и оставила растерянного Карамышева, не позволив, чтобы произнес он слова, которых она так боялась, и о которых так мечтала Савельевна.
Она покинула бал раньше других гостей, сославшись на усталость, и поспешила домой, где уже ждал ее заботливо подготовленный экипаж, куда няня поставила полную корзину разной снеди и большой дорожный сундук, в который в последний момент, несмотря на возражения Софьиньки, затолкала и ее бальное платье:
– Все-таки в столицу едешь! Там дамы нарядные, не то что у нас!
Простившись с всхлипывающей и крестящей ее старухой, Софьинька тронулась в дальний путь, впервые покинув родной дом. Она не страшилась ни дороги, ни незнакомого города. Все мысли и чувства ее были теперь обращены к одному человеку. Что-то с ним? Жив ли? Только бы мельком увидеть его… Да что там, только бы узнать, что он жив и здоров… А все прочее… Боже, какая ерунда все прочее!
Глава 20.
Все устроилось ровно так, как рассчитал Стратонов. На другое утро после тяжелого разговора с Никитой к нему явились секунданты Борецкого, с которыми весьма скоро уладили все формальности, ибо обе стороны желали покончить дело как можно быстрее. Проводив не выспавшихся и хмурых после ночных оргий визитеров, Юрий отправился к Никольскому, захватив с собой приободрившуюся Полину. Вдвоем и заявились к Никите, весьма удивив его.
– Вот, друг мой, просьбу к тебе имею, – без обиняков начал Стратонов. – Приюти сиротку. Вчера от дурных людей спас ее, да, вот, идти ей некуда. На улице пропадет, а к себе взять ее, сам понимаешь, не могу.
– Изволь, коли ты просишь… Впрочем, надо Варвару Григорьевну позвать…
Кликнули Варю, и ей Юрий столь же лаконично пояснил суть дела. А та, добрая душа, захлопотала тотчас – как же сиротку не приютить? В московском доме Никольских завсегда много приживалок-старух и девиц-бесприданниц живало, которым неутомимая Варя старалась подыскать хорошую партию. Обласкав бедную девушку, она поспешно увела ее, дабы подобрать ей приличное платье, накормить и выяснить, к какому делу лучше приставить ее.
– Удивил ты меня, брат, – покачал головой Никита. – Где ты нашел ее?
– Сказал ведь – спас от дурных людей. Мачеха ее, чтобы восьмерых младших содержать, продала ее одному подонку.
– Кто таков? За такое ведь и судить можно!
– Имени она не знает, – ответил Стратонов, загодя предупредивший свою протеже, чтобы она не упоминала о доме Борецкого. – Да и кто будет судить высокородного негодяя за обиду безродной сироты? Все равно что в худом обращении с крепостными обвинить…
– О крепостных, да будет тебе известно, сразу несколько законов готовится по Государеву велению. Жестокое с ними обращение воспрещено будет строжайше! Равно как и многое другое.
– Давно пора, – согласился Юрий. – Только сам знаешь, как законы у нас действуют…
– Что поделаешь, на все нужно время. Постепенно, шаг за шагом защищая права крепостных, мы подведем дело к их освобождению. Разумно и взвешенно, подготовив и самих мужиков, и помещиков, создав должную почву для освобождения. Сам знаешь – если слишком натянуть повод, можно легко оказаться на земле.
– Знаю и не думал спорить. Я ведь в делах государственных смыслю мало… У тебя голова светлая, тебе трудиться на этой ниве.
– Ну, это как Бог даст… – ответил Никольский, помрачнев.
– Стало быть, голос разума не восторжествовал в тебе этой ночью?
– Я все решил еще вчера, Юра. И прошу тебя сегодня же отправиться к князю и передать ему мой вызов.
– Будь по-твоему, – вздохнул Стратонов.
Само собой, никакого вызова он не передал, а Никите солгал, сказав, что условия оговорены, и дата назначена. Дату же назвал днем позже, чем должен был состояться его собственный поединок с Борецким.
Погода в избранный для дуэли день выдалась отменной. Столь яркое солнце было редким гостем в Петербурге, отраженное искрящимся снегом оно слепило глаза. Ждать противника не пришлось, князь Михаил приехал точно в назначенное время. Теперь он мало напоминал того разнузданного гуляку, каким застал его Юрий недавно. Видно было, что, по крайней мере, минувший день Борецкий провел в непривычном для себя воздержании и теперь был совершенно собран и хладнокровен.
– А знаете, генерал, что я вам скажу, – произнес он, щуря глаза от солнечного света, – зря вы это затеяли. Я ведь вас убью. И будет дурно… Генерал русской армии убит на дуэли! – князь ухмыльнулся. – А, впрочем, это даже забавно. В генералов стрелять мне еще не приходилось. Так по мелочи – в капитанов да поручиков…
– Не спешите хвастаться шкурой неубитого медведя, князь, – сухо отозвался Стратонов, сбрасывая с плеч шинель.
– Странный вы человек, Юрий Александрович. За честь чужой жены вступаетесь… Честь жены собственной вас, кажется, не столь волновала?
– Кажется, в нашу последнюю встречу я недостаточно обучил вас хорошим манерам? Желаете, чтобы я продолжил?
– Ну, зачем же? Мы ведь здесь собрались разрешить наши разногласия подобающим благородным людям способом.
– Для вас этот способ слишком благородный. Однако, не будем терять время.
– Не будем, – согласился Борецкий.
Ритуальное предложение примириться… Ритуальное оглашение правил дуэли… Выбор пистолетов… И, вот, уже стальной голос одного из секундантов отмеряет, быть может, последние секунды чьей-то жизни…
– Раз! Два! Три!
И ничего более не слышно, кроме этих ледяных цифр… И нет никаких чувств… Нет памяти… Все они остались за неведомой гранью. По пути к месту поединка Стратонов вспоминал совсем иную зимнюю дорогу, далекую… Маленький дом в запущенном парке, ворота, а на дороге тоненькая фигурка, машущая рукой… И голос: «Я буду вас ждать!» Милая, родная Софья Алексеевна, вы, должно быть, и теперь ждете… Ждете обещанного письма, которого не будет, Софья Алексеевна! Не будет, потому что не нужно вам ждать… Не нужно ждать человека, который вам, прекрасной, изумительной, ничего не сможет дать. Человека, который столь глупо прожил жизнь свою, ждать не надо, потому что он и вашу жизнь испортит так же, как и свою.
За те месяцы, что прошли с их встречи, не было дня, когда бы Юрий не вспоминал Софьиньку, не мечтал бы увидеть ее снова, не порывался написать. Но всякий раз запрещал себе. Лишь пару раз несколькими словами ответил на ее послания… Она забудет его, непременно забудет, непременно найдет достойного ее человека. А он… Ему останется самая светлая греза его жизни, дорогое воспоминание, голос хрустальный вдали звучащий – «Я вас буду ждать!» – и взмах руки вослед…
– Восемь! Девять!
Вдали мчащиеся с бешеной скорости сани показались. Но не до них теперь. Пора! Блеснули в лучах огненных направленные друг на друга дула, и два выстрела нарушили благословенную тишину заснеженного парка.
Так и опалило грудь, оборвало что-то внутри. Пошатнулся Стратонов, силясь еще удержаться на ногах, узнать – что же соперник? А тот и сам в снег валился, кропя его темною кровью… Закружились, заплясали деревья перед глазами, и, вот, уже распластался Юрий бесчувственно на ледяном снегу. Последнее, что увидел он, это бегущего к нему Виктора. Вот, уж и склонился он, чертыхаясь, на чем свет стоит:
– Что ты натворил, что?! Какого черта вы возитесь?! Лекаря сюда! Эжени!.. Эжени!!!
И в расплывающемся перед глазами белом свете явилась тень и, также склонившись, прошептала:
– Оставили бы вы черта… Лучше Богу помолитесь. Ему теперь только он помочь может…
Глава 21.
Николай всегда любил долгие прогулки. В экипаже, конные, пешие – любые. Иногда он брал с собой кого-нибудь из приближенных, но чаще прогуливался один. Во время прогулок хорошо размышлялось, а поразмышлять всегда было, о чем. А еще можно было немало любопытного подглядеть в городской жизни, ибо горожане редко узнавали в высоком, статном офицере своего Императора. Иной раз и поговорить по душам удавалось с кем-то из подданных, и нуждающегося оделить, и виновного – к ответу призвать. Случались и вовсе курьезные случаи. Однажды пришлось самолично нетрезвого солдата арестовать и препроводить на гауптвахту. Бедняга до последнего не верил, что перед ним его Царь…
В этот вечер Николаю недолго пришлось мерить шагами набережную в одиночестве. Вскоре к нему присоединился человек, которого он ждал.
– Ну, здравствуй, Половцев… Давненько не виделись.
– Вашему Величеству довольно было позвать меня, если я вам был нужен.
– Мне многие нужны. Только отчего-то все они ставят свои личные дела ваше службы мне. Например, один из моих генералов, нарушив мой запрет, давеча соизволил драться на дуэли. И попробуй только сказать, что ты не знаешь, отчего это вышло.
– Почему я должен об этом знать?
Николай остановился и пристально посмотрел на Половцева:
– Отвечай на вопрос, Половцев. У меня нынче не то настроение, чтобы терпеть чьи-либо увертки. Будь они даже твои.
– Ваше Величество, вы требуете, чтобы я рассказал вам чужие тайны…
– Требую, Половцев, ибо я ненавижу тайны. Они слишком дорого обходятся. Изволь отвечать.
– Хорошо, я расскажу все, что знаю, если вы пообещаете, что это не будет иметь последствий для тех, кто будет упомянут в моем рассказе.
– Ставишь условия Императору? Не забывай, что, если бы не моя охранная грамота, ты был бы сейчас в крепости.
– Если Ваше Величество раскаивается в том, что выдали мне эту грамоту, то я тотчас верну ее вам.
– Знаю, что вернешь, – Николай похлопал Половцева по плечу. – Ты упрям, но честен. Можешь быть уверен, что никто не пострадает от твоего рассказа. Я тебя спрашиваю теперь не как судья, но как старый товарищ твой и Стратонова. Я хочу знать, что произошло.
– Князь Михаил Борецкий устроил низкую интригу в отношении Варвары Никольской, пытаясь оболгать ее в глазах мужа и нанеся тем самым глубокое оскорбление чести последнего. Никита Васильевич посчитал своим долгом ответить на оное подобающим дворянину образом.
– Он почел долгом! – воскликнул Николай. – Его долг разрабатывать законы, делать дело, к которому я его приставил, а не подставлять свою голову под пули!
– Ваше Величество, а как бы поступили вы, если бы речь шла о чести вашей супруги?
– Да будет тебе известно, Половцев, что Император Всероссийский всегда поступает так, как велит ему долг перед Богом и Отечеством.
– А если бы вы не были Императором?
– Тогда бы я исполнил свой долг перед моим Государем. Запомни, Половцев, из всех долгов, которые есть у человека в жизни, нет долга выше, чем долг перед Богом, Отечеством и своим Государем. Впрочем, мои сановники, офицеры и друзья, по-видимому, считают иначе…
– Стратонов не мог допустить, чтобы Никита Васильевич дрался на дуэли с Борецким…
– И вместо того, чтобы исполнить долг верноподданного и рассказать о произошедшем мне, он предпочел совершить глупость вместо своего друга. Прекрасно! Ничего не скажешь!
– Я согласен, Ваше Величество, что Стратонов поступил неверно. И каждый день кляну себя, что не смог ему помешать… Мне не хватило каких-то жалких минут!
– Теперь уже ничего не поправишь, – вздохнул Николай. – Секундантов я посадил в крепость, а потом отошлю из столицы, а состояние самих дуэлянтов таково, что о каре для них думать не приходится… Кстати, что там Стратонов? Есть ли вести?
– Пока все очень скверно, – покачал головой Половцев. – Пуля прошла совсем рядом с сердцем. Если он выживет, это будет чудом…
– Но раз он до сих пор жив с такой раной, то есть надежда?
– Эжени говорит, что надеяться можно только на Бога. Но я, вы знаете – плохой христианин, а потому надеюсь на нее. Когда-то она спасла жизнь мне. Надеюсь, что теперь сможет сделать то же для Юрия.
– Ты так веришь способностям этой женщины?
– Ваше Величество, она уже много лет мой самый близкий и преданный друг, практически мое второе «я». И если я верю ее дару, значит, у меня есть на то весомые причины.
– Вероятно. В чем – в чем, а в легковерии тебя не упрекнешь, – Николай оперся на гранитный парапет набережной, устремив взгляд на еще застывшую, но уже готовую со дня на день взбунтоваться и взорвать ледяные оковы Неву. – Доктора князя Михаила настаивают на его лечении заграницей…
– И вы ему дали разрешение на выезд?! – воскликнул Половцев.
– А что бы ты хотел? Чтобы я отказал в необходимом лечении человеку, чья жизнь сейчас висит на волоске?
– Это не человек… Это… – голос Половцева охрип, а лицо потемнело. Гнев его был столь велик, что он так и не закончил начатой фразы.
– Что у тебя за счета с Борецким? – спросил Николай, всматриваясь в перекошенное лицо старого друга.
– На этот вопрос я не отвечу, Ваше Величество. Скажу лишь, что теперь к ним добавился еще один счет. И Бог мне свидетель, мерзавец заплатит по ним сполна!
– Хочешь по примеру своего друга также совершить какую-нибудь большую глупость?
– Кажется, до сего дня Вашему Величеству не приходилось меня упрекать в недостатке осторожности.
– Напротив, напротив…
– Даю слово, что и не придется. Я не Стратонов, Ваше Величество, и жизнь давно научила меня, что методами, подобающими для людей чести, нельзя бороться с людьми, чести лишенными.
– Вот как? – Николай помолчал, а затем спросил: – А что, Половцев, князь Владимир и впрямь помогал заговорщикам?
В лице Половцева не дрогнул ни один мускул. Как прежде прямо глядя на Государя, он ответил:
– Мне кажется, его арестовал граф Бенкендорф? Разве у Вашего Величества есть основания сомневаться в уликах, найденных Александром Христофоровичем?
– Точнее, услужливо предоставленных ему неким инкогнито… Не знаешь ли ты, Половцев, кто бы это мог быть?
– Откуда же мне знать, Ваше Величество? Я не знаком с агентами Третьего Отделения.
– Стало быть, князь – изменник?
– Я считаю изменником всякого, кто своими бесчестными деяниями бросает тень на Высочайшее Имя.
– Я не люблю лукавства, Половцев, ты это знаешь, – сказал Николай.
– Вы желаете помиловать Борецкого, Ваше Величество?
– Нет, не желаю. Его вина доказана, а я всегда следую закону. Ближайшие годы он проведет в Сибири, лишенный дворянства и всех прав. Ты можешь быть доволен.
– Разумеется, Ваше Величество. Всякий подданный доволен, когда торжествует закон и правда.
– Ступай, Половцев. Позаботься о нашем друге…
– О нем заботится теперь вся семья Никольских.
– Я вызвал с Кавказа его брата. И послал деньги ему на лечение… Как бы то ни было, я люблю его благородство и его самого. И очень надеюсь, что еще смогу обнять его.
– Я надеюсь на то же, Ваше Величество…
– Прощай, Половцев.
– Честь имею, Ваше Величество.
Сухопарая фигура Половцева, словно тень, исчезла в вечернем сумраке. Так и осталась закрыта душа его, мысли… Николай не сомневался, что этот человек, не задумываясь, отдал бы за него жизнь, но поверить ему пережитое, как подобало бы не верноподданному, но другу, он не желал. Знать, осталась дружба где-то в далеком прошлом, в беспечной юности, еще не знавшей предательств… А теперь не верит Половцев никому, и жизнь у него своя, странная и непонятная… А о князе Владимире солгал он. Документы Александру Христофоровичу именно он передал – это ясно. Не сам, конечно, но какая в том важность? Важно, что в свою личную месть уже впутал он самого Государя, а при том не смущается лгать ему, прямо в глаза. С людьми без чести можно расправляться, пренебрегая правилами чести – так он считает… А заодно пренебрегает этими правилами с теми, кому этот упрек уж никак не предъявишь… Хоть бы уж Стратонов с одра своего поднялся. «Вот, подлинно, Израильтянин, в котором нет лукавства!» Горько будет такого человека потерять, ни один другой его места занять не сможет…
Глава 22.
Вот уже который день вся жизнь дома Никольских была прикована к одной единственной комнате, в которой длилась жестокая битва жизни и смерти. Думая о том, что лучший друг может умереть от полученной раны, Никита готов был рвать свои уже порядком поредевшие волосы. Такое горе – и все из-за него! Из-за глупой вдруг проснувшейся гордости! К чему было настаивать на этой проклятой дуэли? Отказал бы подлецу от дома, и дело с концом! Ведь дуэльного пистолета и в руках-то не держал никогда… Чисто бес попутал! Ослепил… А платить за ослепление это Юрию пришлось.
После случившегося должен был Никита рассказать всю правду Варе. Для нее, бедняжки, это, конечно, немалым потрясением стало – с той поры как в воду опущенная ходила, на себя не похожая. Даже дети приутихли, понимая, что случилась беда. А Петруша-крестник, Стратонова сын, плакал горько. Хоть отец никогда не был ласков с ним да и вообще не часто баловал встречами, а любил его Петя, восхищался им.
Целыми днями у одра больного находилась Эжени. Не нравилась Никольскому эта неведомо откуда взявшаяся особа, но он помнил, как в недоброй памяти вечер Юрий сказал, что всецело доверяет ей – значит, были тому причины… Значит, надо принять ее. Кто знает, может, и впрямь владеет она какими-то знаниями и способностями, которые медицине неведомы.
Из Зимнего уже несколько раз приезжали справиться о здравии Стратонова. Беспокоился о нем Государь. Прислал немалую сумму на лечение. Да Никита бы и сам последнее отдал, чтобы только друг любезный на ноги встал… А ему не становилось лучше. Ни врачи помочь не могли, ни Эжени, ни молитвы, всем домом возносимые. Врачи так и вовсе руками развели – странно, де, что, получив такую рану, пациент не умер в тот же день…
В который раз пытался Никольский сосредоточиться на работе с документами, но никак не выходило. Летели тоскливые мысли от рабочего стола прочь – к комнате, за дверями которой лежал недвижимо Юрий.
– Барин, тут вас барышня спрашивает, – сообщил, просунувшись в кабинет, Прокопий.
– Что за барышня?
– Не могу знать. Софья Алексеевна Муранова. Так-с.
– Софья Алексеевна… – Никита нахмурился, пытаясь вспомнить, кого бы из знакомых барышень так величали. – Муранова… Постой, постой… Я, кажется, знаю… – с этими словами он быстро поднялся из-за стола и сам поспешил навстречу гостье.
Та ожидала в приемной. Совсем юная девушка, в благородном лице которой читалась, однако, недюжинная сила воли и решимость. Да без них разве оказалась бы она здесь? Сколько-то верст проделала из имения своего? Лицо-то осунувшееся и глаза воспаленные – должно быть, не одну ночь не смыкала их. Платье дорожное – кажется, и не заехала никуда, так с дроги сюда и направилась.
– Рад познакомиться с вами и приветствовать вас в своем доме, Софья Алексеевна! – обратился Никольский к заметно волновавшейся гостье. – Много наслышан о вас, но не ждал увидеть так вдруг. Однако, как же вы узнали о нашей беде?
При этих словах Муранова вздрогнула, и губы ее побледнели.
– О какой беде? – спросила она едва слышно.
– Разве вы ничего не знаете? – удивился Никольский. – Юрий Александрович тяжело ранен…
Софья Алексеевна пошатнулась, и Никита едва успел подхватить ее, чтобы она не упала.
– Прокопий! Воды! И… соли!
Бережно усадив гостью в кресло, Никольский подал ей воды:
– Простите… Я подумал, что вы приехали, потому что кто-то вам сообщил…
– Сон… – прошептала Софья Алексеевна. – Я видела сон… Что же он? Очень плох?
Жаль было причинять еще большую боль этому прекрасному созданию, но и нельзя же солгать, когда раненый в соседней комнате…
– Увы, рана весьма серьезная.
В кабинет вошла Варя и тепло поприветствовала гостью.
– Вы, должно быть, только что с дороги, Софья Алексеевна? Не окажете ли нам честь остановиться у нас?
Никита мысленно обругал себя: ведь и в голову не пришло предложить гостеприимство, не подумалось, что юной помещице из смоленской глуши негде остановиться в столице, так как никого у нее здесь нет. А Варя, душа золотая, сразу сообразила.
– Нет, что вы! Это неловко…
– Отчего же неловко? Вы не смотрите, что мы в Петербурге. У нас в доме старые-добрые москвитянские традиции – всякому гостю угол найдется. Я велю перенести ваш багаж и приготовить вам комнату. Вам непременно нужно отдохнуть с дороги. Вы выглядите очень уставшей. И чаю! Немедленно чаю!
С этими словами Варя отправилась отдать соответствующие распоряжения, но в самых дверях кабинета ее едва не сбила с ног взволнованная Полина.
– Очнулся! – воскликнула она, сияя. – Юрий Александрович очнулся!
Потрясенный Никита взглянул на Муранову. На глазах той выступили слезы. Она часто закрестилась, беззвучно шепча благодарственные молитвы дрожащими губами. Никольский перевел взгляд на застывшую в дверях жену.
– Чудо… – прошептала та, со значением посмотрев на гостью.
– Чудо… – повторил за ней и Никита.
А та, что, сама того не ведая, принесла в скорбящий дом это чудо, продолжала молиться, глотая беззвучные слезы.
Глава 23.
Величественны и прекрасны пейзажи Русского Севера. Нигде небо не кажется таким необъятным, и нигде не влечет к себе с такой неодолимой силой – так, что дух захватывает, и кружится голова. Север дышит покоем, покоем нездешним, горним. Этот покой струится в холодных, прозрачных водах его озер, застыл в его гранитных склонах и устремленных в небо исполинах – соснах и лиственницах… Этот покой передается душе каждого путешественника, оказавшегося в этих краях.
Бывает, впрочем, Север и иным – когда налетят ледяные ветра, и потемневшие озера возмутятся, кружа угодившие в их волны суда… Именно такой Север более десяти лет назад предстал взору Императора Александра. Вечный странник, он приехал на Валаам по пути из Архангельска, вперед предупредив, что желает посетить обитель, как просто богомолец, чтобы не устраивали ему пышных встреч.
Все же отец настоятель послал встретить Государя эконома монастыря Арсения. Тот сопровождал венценосного путешественника в плавании от Сердоболя до самой обители. В ночь прибытия Александра случилась сильная буря, и Император усомнился, можно ли в такую погоду пускаться в путь.
– И в худшую погоду плавали, – отвечал на то отец эконом. – С Божией помощью.
С Божией помощью… Без помощи этой что возможно человеку? А с нею – все под силу ему. Это чувствовала Люба, с радостью перенося все тяготы путешествия, в коем сопровождали ее Саша и Ольга. Малыша оставили на попечение бабушки и нянек – побоялась Ольга северных ветров. Отговаривала и Любу от риска, но той ветра не страшны были, и счастливо обращала она к ним лицо, полной грудью вдыхая чистейший здешний воздух.
Их судну в бурю попасть не случилось. А, вот, Государю некогда долго пришлось сносить бунт разбуженных грозой волн – так долго, что когда, наконец, пристал к берегу, то, оказалось, что уже никто не ждет его. Даже выставленные в дозор монахи ушли спать, потушив светильники. Лишь лампада в келье схимонаха Николая, служившая маяком, помогла судну добраться до пристани в кромешной мгле.
Большой переполох был в монастыре, когда в ночной час у врат его появился Император. Грянули в колокола, стали скорее будить и облачать старика-игумена Иннокентия, а Александр все ждал, когда двери обители отворятся перед ним. И, вот, наконец, врата открыты, братия встречает Государя под сводами храма многолетием…
Александр воспретил целовать себе руки и земно кланяться, сам же приложился к рукам всех монахов с великим смирением, какого трудно было ожидать от покорителя Европы, властелина шестой части суши… Царь-сфинкс, о нем говорили разное, его боготворили и ненавидели, его поступки противоречили друг другу, он часто должен был играть некую роль и редко позволял себе становиться собой. Когда был собой этот вечный путник, словно самою судьбой гонимый прочь – дальше-дальше, из города в город, из страны в страну? Когда председательствовал в Венском Конгрессе? Или же здесь, на Валааме, выстаивая долгие службы, из которых не пропустил ни одной, несмотря на усталость?
В Вене – был Император. На Валааме – человек. Человек, носивший на сердце большую тяжесть и искавший духовного утешения…
Старые монахи любили рассказывать о том, как посетил их Государь. Памятно им было, как заботливо поднимал он упавшего во время службы старого и хромого монаха, как во время чтения поучения на вопрос сидевшего рядом слепого старца, кто сидит подле него, ответил: «Путешественник».
Как и Императора, чету Апраксиных и Любу принимал настоятель монастыря. Старый Иннокентий давно скончался, и теперь принимал паломников бывший казначей отец Ионафан. Потчевал монастырским вареньем и чаем, расспрашивал сердечно и со вниманием.
– Вам бы к нам в июле или августе приехать, когда сады наши плодоносят. Вот уж когда здесь рай земной!
– Торопились мы, отче. Очень нам нужно об одном человеке помолиться, – ответила Люба. – Божьим чудом остался он жив от смертельной раны, но теперь еще болен сильно.
– Что же, все о нем помолимся, – кивнул игумен. – Как имя вашего болящего?
– Юрий.
Саша опустил голову – знала Люба, что поныне он корит себя за все случившееся, и не менее горячо, чем о Стратонове, молилась и о нем – чтобы дал Господь сил душе слабой, от новых соблазнов уберег ее.
Как ни мечталось Любе все валаамские скиты навестить, но не все подвластно желанию человеческому. По отвесным скалам и одному человеку карабкаться нелегко, а уж калеку на руках тащить – и вовсе дело невозможное. Так, на Святой Остров, где в пещере подвизался преподобный Александр Свирский, Саша один отправился – в сопровождении одного из монахов. Где, как не здесь всего лучше поклониться небесному заступнику своему, попросить помощи и укрепы?
Однако, с преподобным Александром и старейший на Валааме Скит Всех святых был связан. Некогда на его месте стояла уединенная келья Свирского подвижника. Здесь же подвизались совсем недавно старцы Клеопа, Феодор и Леонид. Они были учениками преподобного Паисия Величковского, принесшего на Русь практику духовного окормления и «умной молитвы», и попали на Валаам в 1811 году. Схимонах Феодор, называемый «духовным отцом обновленного иночества на Севере и в средине России», перешел впоследствии в Александро-Свирский монастырь вместе с иеросхимонахом Львом (Леонидом), созидавшим теперь некую новую обитель в Калужской губернии. Учениками Клеопы, Феодора и Леонида были многие валаамские монахи.
О Ските Воскресенском, расположенном в главной гавани Валаама, жило предание, будто бы на заре христианства сюда, на место языческого культа пришел из Новгорода Великого Святой Апостол Андрей Первозванный, просветитель скифских и славянских земель, и, разрушив языческие капища, воздвиг каменный крест. Тогда же Апостол предрек великое будущее Валаама, и это пророчество начало сбываться, когда в 14-м веке пришли на острова Преподобные Сергий и Герман, чьи мощи покоились теперь в Преображенском соборе.
В начале же века 19-го подвизался в скиту иеpосхимонах Никон, чье имя и получила валаамская бухта.
Два этих скита посетила Люба, благоговея и замирая сердцем, а скит Никольский – не удалось. Крут был подъем к «маяку» монастырскому… А Император, хоть и страдал одышкой, одолел его. И огородами прошел до крохотной кельи-часовенки и, согнувшись, пролез в маленькую, больше на лаз звериный похожую дверь, и, сидя на нетесаном табурете, долго говорил с праведным старцем. Тот угостил его тремя репками со своего огорода – всем, чем был богат. Репки были не очищены, и адъютант спросил нож. Но Александр остановил его:
– Я солдат, и буду есть по-солдатски, – и зубами принялся отдирать кожуру от предложенного угощения.
О чем говорили старик-схимник и Всероссийский Самодержец? Лишь одному Богу известно это. Как и то, что происходило в загадочной душе путешественника.
Быстро пролетели благословенные дни, проведенные в святой обители, и пришла пора отправляться в обратный путь. День и на сей раз выдался ясным и тихим. Судно медленно скользило по золотящемуся от рассеянных лучей солнца зеркалу озера, дивная тишина этих мест нарушалась лишь кликами чаек, а прохладный воздух был напитан тонким запахом смолы. Люба, кресло которой Саша выкатил на палубу, как завороженная, смотрела на тающий вдали силуэт обители. Вот, послышался перезвон колоколов, всегда особенной радостью отзывавшийся в сердце, блеснули ослепительно ярко кресты в закатных отблесках… И сама собою полилась из души молитвенная песнь:
– Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя великия ради славы Твоея.
Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грехи мира, помилуй нас.
Вземляй грехи мира, приими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь.
На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки, и в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам!
Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь.
ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА
Пролог
Гнедая кобылка шла по пыльной и словно дымящейся от зноя дороге неспешно, и ее хозяин, молодой рыжеватый хохол нечасто понукал ее хворостиной, пользуясь тем, что седок его, судя по всему, не торопился. По виду седока, ямщик сразу сделал вывод, что господин явно из столиц – в Полтаве, сколь бы ни рядились щеголи, а все одно оставались провинцией. А в барине, хоть одет был он безо всякой вычурности, чувствовалось нечто, чему хохол не мог дать определение, но что заставляло его поглядывать на седока с большим любопытством. Человек сей явно прибыл в Полтаву не по делам службы, ибо тогда бы он непременно суетился и спешил, но и на праздного путешественника не был он похож – последние бывают не в пример веселее и словоохотливее. Странный же господин за время пути не произнес почти ни слова. Он глядел на пышущие южной красотой места, которые они проезжали, но его немигающий взгляд не выражал никаких чувств, точно бы он смотрел внутрь самого себя…
Между тем, господин прекрасно замечал все. В том числе то, что плутоватый хохол завысил цену за путешествие и был заметно доволен тому, что ловко обманул незадачливого путешественника. В разговор же он не вступал оттого, что те сказки, какими потчуют обычно незадачливого путешественника хохлы, не входили в круг его интересов. Господин предпочитал тишину созерцания навязчивой и непременно громкой говорильне. Он и впрямь не спешил, ибо лицо, к которому он направлялся, не ожидало его и в то же время не могло уехать куда-либо, а, значит, опоздать он не мог…
Оценивая наряд барина и ту легкость, с какой извлекал он деньги из кошелька, хохол справедливо рассудил, что господин отнюдь не беден. Вот, только к чему такому барину нанимать его и его клячу? Мог бы заказать приличный экипаж!
Барин и впрямь мог заказать себе хоть дюжину приличных экипажей, но они были не нужны ему сейчас. Ему нравился этот зной, эти томящиеся тяжестью плодов сады и нарядно убранные хаты, это неспешное путешествие… Все это напоминало ему дни его молодости, воспоминания о которых иногда согревали его охладевшую ко всему душу.
Неспешность и умиротворение – характерная черта Малороссии. Они растворены в самом укладе здешнего быта, который годы почти не меняли, в природе, щедрой и благодатной, в протяжных звуках украинских песен… Это умиротворение невольно передавалось путешественнику, ничуть не стремившемуся нарушать его быстрой ездой.
Наконец, показалось село Яковцы, вблизи которого более века назад победоносные русские войска обратили в бегство шведов. Путешественник сделал знак ямщику остановиться и, легко соскочив на землю, объявил к удивлению последнего, что далее пойдет пешком. Хохол покорно развернул свою кобылу и тронулся в обратный путь, изредка озираясь и пытаясь понять, зачем такому барину идти еще невесть сколько пешком да по такой жаре?
Но зной ничуть не утомлял барина. Ему, знавшему пекельное солнце азиатских пустынь, малороссийское солнце казалось ласковым. Дом же, который он искал, должен был располагаться на самом отшибе села, а, следовательно, идти до него оставалось недалеко. При этом путешественник вовсе не хотел, чтобы лишние глаза видели, куда он направляется.
Нужный дом господин нашел почти сразу. Бедная хата на самой окраине села… Да и откуда быть ей богатой, если живет в ней лишь одинокая женщина и ее тринадцатилетняя дочь? Никто в этих краях не знает, кто она, но женщины, завидуя ее вопреки всему не увядшей красоте, злословят, а мужчины на людях сторонятся, а в отсутствии догляда непрочь ухлестнуть за «вдовушкой». Ее странная репутация не позволяет ей наняться в гувернантки, учительницы музыки или французского языка, и весь ее невеликий доход приносит ей ремесло швеи, коим овладела она в совершенстве, безвозвратно потеряв былую красоту рук и испортив зрение…
Когда-то ее звали Анна Дмитриевна Лесникова. Ее отец был помещиком в Пензенской губернии, и до семнадцати лет она росла в беззаботности и неге, придаваясь обычным девичьим мечтам, будоража сердце сладкими грезами переводных романов. Увы, ее жизнь оказалась похожей на очень жестокий роман…
В 17 лет Аннушка осиротела, но на ее счастье у нее уже был жених – преданно любящий ее Михайло Антонович Разуваев. Михайло Антонович был четырнадцатью годами старше невесты. Это был довольно состоятельный по пензенским меркам помещик, человек бесконечно далекий от света и живущий в своем понятном ему мире, ограниченном его собственными владениями, его хозяйством, которое он знал и любил. Пожалуй, был он чрезмерно прост и чужд так называемой романтики, но зато обладал золотым сердцем и кротчайшим характером, столь контрастирующим с его мужественной, грубоватой внешностью. Аннушку Разуваев любил всей душой и готов был выполнять любые ее капризы. Он стал бы без сомнения самым смирным и нежным мужем, но… Аннушка скучала в его обществе, и такая сильная любовь его утомляла ее, ибо она не находила в сердце своем на нее должного ответа и смущалась тому.
В самый день их помолвки в город вошли военные. Приход военных – большое событие для любого провинциального города! Дамы и девицы срочно начинают шить себе новые платья, отчаянно завивать кудри и румянить щеки. В каждом уважающем себя доме непременно устраивается бал. Разуваев, сколь ни далек был от подобных увеселений, также не мог идти против общего веяния, к тому же юная невеста жаждала веселых развлечений.
На том роковом балу она и встретила своего Михаила Второго, которому вскоре предстояло стать первым и единственным. Бравый капитан, герой многочисленных сражений, красавец, каких, пожалуй, не встретить и на страницах романов!.. Разуваев не умел танцевать и простосердечно радовался, что его любимая Аннушка может потешить себя кадрилями и мазурками с другими кавалерами. В тот вечер почти вся ее танцевальная книжка была заполнена Мишелем, который не сводил с нее восхищенных глаз.
Всю ночь Аннушка металась как в бреду – перед ее глазами неотступно стояло лицо Мишеля. А утром она нашла прямо на подоконнике своей комнаты корзину цветов и записку с приглашением на свидание…
Ей было нестерпимо стыдно перед Разуваевым, который с обычным для всего, что он делал, основанием готовился к скорой свадьбе и всякий день старался порадовать свою «любушку» какой-либо безделицей. Но этот стыд уже ничего не мог изменить. Аннушка стала втайне встречаться с Мишелем. Они подолгу гуляли в саду или плавали на лодке по пруду, просто молча сидели на берегу или упоенно говорили о чем-то чудесном – все это было неважно, а важно было лишь то, что всякую минуту, проведенную с этим человеком, она была невероятно счастлива, будто бы жила не на земле, а в ином, невозможном мире.
Лишь одно омрачало счастье Аннушки – неумолимо приближающаяся свадьба и оставление полком Мишеля Пензы. Мишель уговаривал ее оставить жениха и довериться чувству, но ей было так жаль Разуваева, да и довлела воля покойного отца, столь желавшего этого брака. Хотя неужто отец был бы против того, чтобы дочь вышла замуж за блестящего офицера из знатной фамилии?.. Все же у нее не хватало мужества разорвать помолвку, и положение становилось все более нестерпимым.
За две недели до свадьбы в грозовую ночь, в какие нервные натуры затворяют ставни и крестятся на иконы, окно спальни Аннушки оказалось открытым. Она не чувствовала ни холодного ветра, ни капель дождя, а лишь вкус его губ, его дыхание, его объятия. Лишь когда гром ударил с необычайной силой так, что сам дом содрогнулся, Аннушка на мгновение очнулась и задрожала мелкой дрожью. Тогда Мишель быстро затворил окно и подхватил ее, теряющую силы на руки…
Все последующие до рокового дня ночи они проводили вместе. Днем Аннушка не находила себе места, терзаясь укорами совести, не смела поднять глаз на Разуваева, доселе лишь почтительно касавшегося губами кончиков ее пальцев, а ночью забывала обо всем и жаждала лишь одного, чтобы скорее раздался негромкий стук в окно…
Полк покидал Пензу накануне свадьбы, и по этому поводу губернатор устраивал прием. Аннушка была ни жива, ни мертва. И смерть в этот час казалась ей меньшим из зол. Гости наперебой поднимали бокалы за завтрашнюю свадьбу и желали жениху и невесте всех возможных благ, Разуваев веселился и вновь словно не замечал восковой бледности невесты…
Мишель был мрачнее тучи, и Аннушка боялась встретиться с ним взглядом. Однако, он пригласил ее на мазурку…
– Решай: сейчас или никогда! – сказал он.
– Я не могу же в канун свадьбы бросить Разуваева…
– Забудь о своем глупце Разуваеве, который столь увлечен своей скотиной, что даже не видит перемен в тебе! Подумай о нас! Если ты сейчас не уедешь со мной, то больше не увидишь меня никогда!
– Сейчас?! Здесь?! Неужели ты хочешь, чтобы я покрыла его таким позором? Он не заслужил этого!
– Мне нет дела до его позора! Мой эскадрон выступает через полчаса. Решай! Его ты уже предала. Ты уже моя жена, а не его. Решай!
С этими словами Мишель ушел, оставив Аннушку в полном смятении. «Если ты сейчас не уедешь со мной, то больше не увидишь меня никогда!» – этот пульсировавший в голове приговор сводил ее с ума и казался страшнее любой казни. Не чувствуя ног, она вновь заняла место рядом с женихом, вновь слушала поздравления… Но через полчаса за мучительным гулом голосов расслышала цокот копыт за окном. Первый эскадрон выступал в поход…
Весь зал разом исчез. Исчез Разуваев. Исчезла прошлая жизнь. Опрометью Аннушка выбежала на улицу и увидела перед собой сидящего верхом на коне Мишеля. Ни слова не говоря, тот накинул на нее свой плащ и, легко подняв, посадил перед собой.
– Аня! – этот отчаянный крик больно ударил Аннушку по сердцу. Прямо перед конем, уже готовым тронуться в путь, вдруг возникла нескладная во фраке фигура Разуваева. Его бледное лицо было перекошено, глаза полны слез.
– Аннушка, любушка моя, что ты делаешь? Пощади себя! Ведь этот человек тебя погубит! Опомнись!
– Что ты говоришь! – воскликнула она. – Ведь я ему принадлежу! Ему! Да как бы ты меня, такую, завтра в жены взял?!
– Мне все равно! Я любую тебя возьму – лишь бы ты счастлива была!
– А я с ним счастлива! – Аннушка заплакала. Она видела, как прильнули к окнам любопытные, как высыпали многие на улицу, как одни негодуют, а другие потешаются разыгравшейся на их глазах сценой… А Михайло Антонович в своих панталонах белых уже на коленях стоял, молил смиренно:
– Аннушка! Опомнись! Я никогда не упрекну тебя и всегда буду любить!
– Уйдите! Ведь все смеются над вами!
– Что же из того? Это им стыдиться должно, коли они несчастью человеческому смеются. Так мы уедем от них! И никто никогда…
– Довольно комедии, сударь! – крикнул Мишель. – Если угодно вам будет требовать сатисфакции, то я к вашим услугам! А сейчас отойдите с дороги! – с этими словами он хлестнул коня и, едва не сбив Разуваева, помчался во весь опор вослед своему уходящему эскадрону, крепко прижимая к себе рыдающую Аннушку.
Он, действительно, женился на ней, обвенчавшись тайно в крохотной сельской церквушке. Об этом браке никто не должен был знать, ибо его родители никогда бы не приняли оного и лишили бы сына всех прав. Аннушка приняла это спокойно. Ей не нужны были его титулы, положение в обществе – лишь бы быть с ним, лишь бы он любил ее. Что беды в том, чтобы некоторое время скрывать брак? Главное, что он заключен, освящен, и Мишель принадлежит только ей.
Так думала она первый год, в течении которого она ездила с ним по всем гарнизонам, не смущаясь насмешливым и презрительным взглядам. Потом была первая беременность и вынужденная разлука. Полк вновь отправлялся на какие-то учения, а она была вынуждена остаться на снятой Мишелем квартире в глухом захолустье и ждать его возвращения…
Того первого ребенка она потеряла… А возвратившийся Мишель переменился к ней. В его глазах уже не было прежней страсти, и он больше не желал, чтобы она ездила с ним, объясняя это беспокойством о ее здоровье. Но разве могли не дойти до нее больно ранящие слухи, будто у него «в каждом городе по такой жене». Тем не менее еще целых четыре года он время от времени возвращался к ней. Возвращался все реже, все более чужим и грубым. И не любовь была в глазах его, а досада. Досада на нее… И на маленькую Катюшу, их дочь, родившуюся через два года после потери первенца…
Наконец, он не вернулся совсем… Не написал, не прислал больше денег. Славно забыл, что где-то у него есть жена и дочь. Жить дальше, а тем паче растить дочь среди людей, презиравших ее и полагавших ее походной любовницей, к которой, пожалуй, легко можно обратиться за срамным делом, заплатив сколько должно на содержание приплода, было невозможно.
Чтобы оградить дочь от этой грязи, Аннушка с малышкой переехала сперва в один город, затем в другой и, вот, наконец, осела в Яковцах… И хотя никто не знал здесь ее истории, ее репутации, но одинокая, еще довольно молодая женщина с ребенком обречена порождать сплетни. А женщина, упорно отвергающая любые ухаживания – тем более…
Неожиданный визит уже немолодого, хорошо одетого незнакомца, постучавшего в ее дверь набалдашником изящной трости в первые минуты заката, застал Анну Дмитриевну врасплох. Наскоро оправив свое домашнее платье, скрасить бедность которого призвана была оставшаяся от прошлой жизни кашемировая шаль – подарок Мишеля, она отворила дверь, но не впустила гостя в дом, а вышла на крыльцо сама, настороженно вглядываясь в лицо непрошенного визитера. Тот склонился в легком полупоклоне:
– Имею ли я честь видеть перед собой Анну Дмитриевну Лесникову?
Анна вздрогнула. Никто в селе не знал этой ее фамилии. Никто из прежних знакомых не знал, что она жила здесь.
– Вы… ошиблись, сударь… Та женщина, которую вы ищете, давно умерла…
– В самом деле? Для давно почившей вы выглядите просто прекрасно, – заметил незнакомец. – Впрочем, как и я…
– Я не понимаю вас.
– Это пока и не нужно. Позвольте представиться. Меня зовут Виктор Илларионович Курский.
– Я не знаю вас, сударь.
– Без сомнения так.
– Кто вы?
– Я ваш друг, Анна Дмитриевна.
Лицо Анны подернула болезненная гримаса.
– У меня нет друзей, сударь. А те, кто предлагали мне свою дружбу, как это делаете вы сейчас, прекрасно знают, что в этот дом за подобным не приходят! – она хотела захлопнуть дверь, но Курский не позволил ей сделать этого, и легким маневром обогнув ее, оказался в сенях.
– Мне кажется, Анна Дмитриевна, что говорить нам все же лучше здесь, дабы ваши соседи не подумали невесть чего, – сказал он, по-хозяйски оглядывая дом. – Ваша дочь дома?
– Нет. Но должна уже скоро вернуться!
– Это кстати. Значит, мы сможем поговорить наедине.
– Кто вы такой? Что вы хотите?
– Я уже ответил вам, что я ваш друг, – Курский, не ожидая приглашения, прошел в горницу и расположился на стуле, все также озирая цепким взором каждый угол. – Вы совершенно напрасно придали моим словам превратное значение. Я не отношусь к той категории «друзей», к каким вы поспешили меня отнести.
– В таком случае объяснитесь, что означает ваш визит, – уже спокойнее сказала Анна.
– Всенепременно, но прежде прошу вас присесть, – Курский указал на стоявший напротив стул. – Я знаете ли, несколько устал с дороги, чтобы говорить стоя, а в присутствии стоящей дамы…
– Говорите, сударь! – Анна опустилась на стул, отодвинув рукой лежавшее подле на столе шитье. – Прошу лишь короче: у меня очень много работы сегодня.
– Эта работа не подходит вашим нежным рукам, – заметил Курский. – Но еще больше такая жизнь не подходит вашей дочери. Ведь она наследница знатного рода…
– Молчите! – вспыхнула Анна.
– Но вы сами велели говорить?
– Что вы знаете обо мне? Кто вас прислал?
– Меня никто не присылал, а знаю я о вас, если не все, то очень многое. За столько лет поисков всегда узнаешь многое…
– Зачем вы искали меня?
– Чтобы вам помочь.
– Не лгите, сударь. Я уже не наивная семнадцатилетняя девушка, чтобы верить в людское бескорыстие. Которого я, впрочем, и не заслужила…
– Вы – может быть. Но ваша дочь? Она могла бы получить хорошее приданное, положение в обществе…
– О чем вы?.. – Анна резко поднялась.
Курский взмахнул левой рукой и рассмеялся:
– Сядьте, Анна Дмитриевна, сядьте! Опять вы придали моим словам превратное значение!
– Так выражайтесь же яснее, а не заставляйте теряться в догадках!
– Вы правы, – кивнул Курский. – Объясню без обиняков. Причина моего появления здесь состоит в том, что нас с вами кое-что объединяет. Наши жизни были сломаны одним и тем же человеком.
– Мишель… – прошептала Анна, страдальчески поникнув.
– Да. Мишель… – Курский пристукнул тростью. – Человек, который ради своей похоти, готов растоптать все и всех…
– Не говорите так о нем!
– Отчего же? Бросить венчанную жену с ребенком в нищете и унижении – это большая подлость…
– Откуда вы знаете? Ведь о нашем венчании знали только…
– Поп, попадья и попенок-пономарь… Поп давно почил в бозе, а его безутешная вдова – весьма милая и словоохотливая старушка. Мы с нею славно попили чаю с медовыми пряниками.
На мгновение Анне показалось, что перед ней сам дьявол. Ей стало не по себе, и она ничего не ответила. Гость же продолжал:
– Одно в вашей судьбе осталось для меня загадкой. Почему вы, венчанная жена, мать его дитя, не огласили его? Ведь правда на вашей стороне!
– Я поклялась ему, что не раскрою нашей тайны, доколе он сам не сможет раскрыть ее.
– Полагаю, пришло время нарушить эту клятву во имя блага вашей дочери.
Анна подняла усталые глаза на Курского, чье смуглое, остроносое лицо вдруг перестало внушать ей страх.
– Я поняла вас, Виктор Илларионович, – проронила она. – Вы хотите отомстить, а меня сделать орудием вашей мести… Но вы напрасно проделали этот долгий путь и напрасно искали меня. Я не нарушу своего слова.
– Вы, может быть, до сих пор любите его?
– Не знаю… Но он единственный, кого я любила. Ради него я совершила страшное преступленье, предав и опозорив самого доброго и благородного человека на свете. И все, что принимаю я с той поры – я заслужила. Какое же право я имею мстить. Уходите, сударь. Я не помощница вам.
– А знаете ли вы, дорогая Анна Дмитриевна, что ваш ловелас сейчас собирается жениться?
– Как? – поразилась Анна. – Этого не может быть! Ведь он женат!
– Да. Но об этом никто не знает. Ваш супруг разорен, сударыня, и ему очень нужен удачный брак. Женщина, которая имела несчастье дать ему согласие, молодая и богатая вдова. Мать троих прелестных ребятишек. Женщина, смею уверить, благородная и добродетельная. Как по-вашему, Анна Дмитриевна, заслужила ли она быть столь жестоко обманутой? Связать себя узами с двоеженцем и негодяем? Заслужили ли ее дети, чтобы он стал их отчимом и промотал их наследство? Вы храните клятву, данную негодяю, и тем самым позволяете ему разрушать все новые жизни! Разрушенная жизнь благородной вдовы и ее невинных детей будет на вашей совести, если вы не воспрепятствуете преступлению и кощунству!
– Хватит! – вскрикнула Анна. – Хватит… Я никому не хочу зла. Видит Бог, никогда не хотела… Но если все что вы сказали правда…
– Клянусь спасением души и памятью моей дорогой матери, что рассказал вам лишь малую толику злодеяний этого человека, щадя ваше сердце.
Анна несколько раз прошла по комнате, остановилась перед закопченными иконами, сгрудившимися в убранном нарядным рушником красном углу, несколько мгновений смотрела на любимый образ Богоматери Семистрельной.
– Хорошо… – наконец, произнесла она, не оборачиваясь. – Я открою правду, чтобы более ничья жизнь не была сломана. Что я должна делать?
– Вы вместе с дочерью поедете со мной в Петербург. Вы будете жить в хорошем доме, достойном вас. Ваша дочь будет учиться – к ней будут ходить учителя. Князь и его нареченная скоро вернутся из-за границы, дабы обвенчаться на родине. Вот тут-то и должны будете появится вы.
– И поговорить с Мишелем?
– Нет. Ни с ним и ни с его невестой.
– Но с кем же тогда?
– С Государем, Анна Дмитриевна. Государь – единственное Правосудие в России. Таким образом я выполню свое обещание, данное ему… Я обещал не творить бессудных расправ… Что же, пусть он совершит свой суд.
– Вы так хорошо знаете Императора? – удивилась Анна.
– Когда-то Его Величество называл меня своим другом. Если угодно, я могу показать вам бумагу с его подписью.
– Не нужно, я верю вашему слову… Но что же будет дальше?
– Дальше? Дальше преступник отправится проводить оставшиеся ему годы в края далекие от европейских столиц. Его невеста поплачет и утешится и, должно быть, найдет достойную партию. А вы с дочерью отправитесь в солнечную Италию, где призраки прошлого уже не будут столь довлеть над вами и уж точно не испортят будущего вашей дочери, которой я назначу приличную ренту до ее замужества.
– Вы обещаете уж слишком много, Виктор Илларионович… – покачала головой Анна.
– Гораздо меньше, чем мог бы дать вам на самом деле, – ответил Курский. – Но пока не могли бы вы дать мне кое-что?
– Что же могу вам дать я?
– Я бы не отказался от свежего молока и знатного ломтя хлеба. С утра, знаете ли, маковой росинки во рту не было.
Анна невольно улыбнулась:
– Я сейчас соберу на стол, обождите.
– Премного вам благодарен за заботу!
– Когда же нам надлежит отправляться в столицу? – спросила Анна, проворно расставляя на столе всю нехитрую снедь, какая нашлась в ее доме.
– Завтра утром, – ответил Курский и по-мужицки стал пить молоко прямо из маленького глиняного кувшина, который подала ему хозяйка. Заметив ее недоумение, он добавил: – На ночь глядя, я надеюсь, вы не выставите меня за дверь? А поутру за нами приедет экипаж. Так что время собраться у вас с дочерью есть, – с этими словами он отрезал изрядный кусок испеченного лишь утром каравая и несколько ароматных кусочков сала и приступил к сей скромной трапезе с таким видом, будто бы во всю жизнь не ел ничего вкуснее, нисколько не обращая внимания на замешательство Анны.
Глава 1.
Первого февраля 1837 года вся площадь подле придворной Конюшенной церкви была усеяна людьми и экипажами. Это живое человеческое море при иных обстоятельствах могло бы даже испугать, но не в этот день. В этот день оно было спокойно и величественно в своей великой скорби. Кажется, никогда еще в своей истории не видел Петербург столь массового прощания с почившим. И если сама церковь была заполнена знатью, то в окрестных улицах толпились люди вовсе низкого сословия. Свыше тридцати тысяч человек пришло отдать дань памяти своему великому соотечественнику. Эта цифра была тем значительнее, что вначале отпевание должно было проходить в Исаакиевском, но в последний момент оказалось перенесено. Надменные сановники недоумевали, зачем и почему собрались к Конюшенной церкви. Ведь покойник не был ни генералом, ни министром. Он всего лишь «писал стишки». Он всего лишь был Пушкиным…
Пушкин и смерть – эти два слова казались несовместимыми. Пушкин – сама жизнь, сама энергия, само солнце… И вдруг – смерть. Такая внезапная и нелепая… Как могло случиться, что он, прекрасный стрелок, погиб от руки пошлого фата? В голове Александра Апраксина уже три дня не могло сложиться это невозможное. Как и многие, он был до отчаяния потрясен гибелью Пушкина. Теперь он, вместе с Ольгой, теснился в толпе у самого входа в церковь, которая могла вместить слишком мало желающих проститься с убитым гением.
– Почему, почему нужно было отпевать здесь? – сердился Апраксин. – Исаакий вместил бы всех…
– Всех не вместил бы и он, – заметила Ольга.
– И все же!
– Пушкин был придворным, а это придворная церковь.
– К черту! Он презирал мундир, называя его полосатой ливреей! Слава Богу, князь Петр Андреевич не допустил посмертно обрядить его в нее… Он был национальным гением, а не придворным! Неужели это так сложно понять? А жандармы? Зачем здесь эти переодетые обезьяны, занимающие в церкви лучшие места, как самые близкие люди покойного? Что, хотят подслушать заговор на похоронах?!
– Ты же знаешь Катона… Он… настоящий бульдог! Готов слопать всякого, кто угрожает его хозяину, но не умея отличить врагов от друзей, лопает на всякий случай всех.
– И позорит Государя своей глупостью!
– Сашенька, свет мой, успокойся. Здесь не лучшее место для этих разговоров…
Не лучшее место… Пожалуй. На отпевании надо молиться об упокоении души усопшего, но что делать, если в душе вместо молитв лишь вопли бессильной ярости и гнева? Слышал Апраксин, будто бы даже чернь жаждала поквитаться с Дантесом, не допуская, чтобы убийца остался безнаказанным. Хотел отомстить и секундант поэта Данзас… Но Пушкин на смертном одре воспретил ему…
Да и если бы было дело только в глупце Дантесе! Лишь глухой и слепой в петербургском близком ко двору обществе не знал, что Александра Сергеевича старательно доводили до рокового исхода. Назывались разные имена участников подлейшего заговора. Немногие осмеливались называть в числе виновных – канцлера Нессельроде и, в первую очередь, его жену, в салоне которой будто бы и вызрело гнусное дело. Зная саму мадам Нессельроде и дружбу семейства канцлера с голландским посланником Геккерном, приемным отцом Дантеса, поверить в это было вовсе нетрудно.
Барона Геккерна многие не без основания подозревали в мужеложстве. И усыновление им молодого красавца частенько объяснялось именно этим грехом старого негодяя. Роль же, которую сыграл он в несчастной истории, столь ужасно окончившейся, и вовсе была омерзительна.
Все началось с того, что какие-то ничтожества стали присылать Пушкину оскорбительные анонимные письма, в коих жена его обвинялась в неверности, а сам он объявлялся рогоносцем. Письма были написаны на бумаге голландского посольства… Одновременно Дантес буквально преследовал Наталью Николаевну своими назойливыми ухаживаниями.
Беспокоясь о распускаемых сплетнях, сам Государь на одном из балов решил предостеречь последнюю, дабы та была сколь возможно острожной и берегла свою репутацию ради счастья мужа и самой себя. В сущности, Наталья Николаевна, эта очаровательная молодая женщина, в которую трудно было не влюбиться хоть самую малость, вполне следовала этому доброму совету. Разве что чрезмерная открытость подводила ее… Стоило ли в самом деле, зная взрывной характер мужа, его щепетильность в вопросах чести, видя его терзания во все последние месяцы, рассказывать ему о всякой гнусности обоих Геккернов? Не лучше ли было утаить их для его спокойствия?
Хотя, чтобы сносить столько гнусностей молча, нужно иметь огромную выдержку и мудрость. Ведь не только молодой Дантес, но и старый барон склоняли ее к преступлению. Геккерн выступал в качестве сводника своего приемного сына, умолял Наталью Николаевну не отталкивать умирающего к ней любовью юношу, но принять эту любовь и ответить на нее взаимностью.
Ухаживания Дантеса еще в ноябре вынудили Пушкина бросить ему вызов. Старик Геккерн тогда сделал все, чтобы не допустить рокового исхода, обратившись за помощью к друзьям поэта Жуковскому и Вяземскому. Те в свою очередь постарались уладить дело миром. Особенно много хлопотал добрейший Василий Андреевич, сделавшись посредником между враждующими сторонами. Дело завершилось сватовством Дантеса к сестре Натальи Николаевны Екатерине.
Сватовство это было также немалой подлостью, ибо свататься к одной сестре, дабы иметь возможность приблизиться к другой, замужней даме и матери семейства, никак иначе назвать нельзя.
Пушкину тогда пришлось отказаться от дуэли, но мысль о ней уже не покидала его. Апраксин видел в эти месяцы Александра Сергеевича несколько раз. Тот всячески старался сохранять самообладание, но изводящая его изнутри горячка все же временами бросалась в глаза. Его словно била лихорадка, но он приписывал ее нездоровью, порожденному петербургским «медвежьим климатом»…
Отказываясь от дуэли с Дантесом, Пушкин еще не ведал всей гнусной роли старого барона. Узнав же о ней от жены, он принял бесповоротное решение и написал крайне резкое письмо уже не молодому повесе, а самому Геккерну.
«Есть двоякого рода рогоносцы: одни носят рога на самом деле; те знают отлично, как им быть; положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительнее. Я принадлежу к последним», – говорил поэт. Он не мог поступить иначе, не мог допустить поношения чести своей и Натальи Николаевны. Загонщики не оставили выхода поднятой дичи… Впрочем, дуэль дает равные шансы обоим сторонам, если силы их равны. Пушкин уж точно не уступал в меткости Дантесу… И все гнусные умыслы загонщиков могли быть уничтожены одним выстрелом. Но Господь распорядился иначе.
Почему?! Этот вопрос-стон сорвался с губ Апраксина, когда от доктора Даля, доброго друга их семьи, он узнал роковую весть. Даль как раз спешил к раненому Пушкину, которого уже доставили на квартиру с Черной речки, и Александр поехал с ним. В тот горестный вечер в квартире на Мойке собрались многие друзья и знакомые поэта.
Повидавший на своем веку множество смертей на полях сражений и на одрах болезней придворный медик Аренд потрясенно говорил, что никогда еще не встречал такого терпения при таких страданиях.
Да, страдания умирающего были страшны, но в них-то открылось все величие души человека, о коем столь многие имели превратное мнение. В часы своих смертных мук он думал лишь о других. Он не позволял себе кричать от боли и лишь тихо стонал, боясь напугать жену, которую просил ни в чем не винить себя. Он хлопотал перед Государем через Арендта об участи своего секунданта Данзаса. Он, едва внесенный в дом, велел послать соболезнования Гречу, с коим никогда не был дружен – тот хоронил в сей злополучный день умершего от чахотки сына. Он послал прощение своему убийце. Простился с друзьями. Получив записку от Государя, велел передать ему, что, если бы остался жив, весь был бы его. Священник из Конюшенной церкви принял последнюю исповедь поэта…
29 января был день рождения Жуковского. Отныне для Василия Андреевича день сей навсегда станет днем скорби по любимому другу, ученику, к коему всегда относился он с отеческой заботой. Пушкин скончался после полудня. Он не надеялся на выздоровление и смиренно ожидал смерти, не теряя, однако, до последних мгновений столь присущей ему бодрости духа.
Апраксин уехал с Мойки рано утром, не дожидаясь трагического исхода – слишком нестерпимо давящей была атмосфера в доме умирающего, давящая еще и бессилием не изменить даже, но хоть чем-то оказаться полезным. На дворе, где грелись у костра дворники и извозчики, взгляд Александра привлек высокий, закутанный в плащ офицер. Подойдя к костру, он осведомился, о здоровье барина, и, получив неутешительный ответ, скрылся в предутреннем сумраке, сокрушенно качая головой. Что-то показалось Александру в фигуре того офицера до боли знакомым, но он решительно не мог вспомнить, кто бы это мог быть.
Толпа, сгрудившаяся у дверей церкви, зашевелилась. Служба завершилась, и под печальное пение гроб несли к расположенному при храме склепу. Напирая друг на друга, люди стали расступаться, давая дорогу траурной процессии и следуя за ней. Двинулись вместе со всеми и Александр с Ольгою. Внезапно скорбное шествие замерло – дорогу ему преградило распластанное на утоптанном снегу бесчувственное тело. Это был Петр Андреевич Вяземский… 44-летний князь, в молодости заядлый игрок, спустивший отцовское наследство, а ныне государственный служащий, человек весьма иронического склада ума и чуждый сантиментам, он не мог вынести этой страшной потери. К нему, сам захлебываясь слезами, бросился тучный Жуковский. Он долго не мог привести друга в чувство, когда же сознание все же вернулось к князю, с ним сделался припадок. Несчастный Петр Андреевич бился и рыдал на руках Жуковского, не обращая внимания на сбивчивые утешения жены и сына, словно не слыша их…
Возможно, князю оттого было больнее других в эти дни, что он один из немногих знал о будущей дуэли. Он не мог предотвратить ее, ибо прекрасно понимал вопросы чести. Да и Пушкин не внял бы второй раз ничьим уговорам. Но могло ли, даже понимая все это, сердце не терзаться мучительным вопросом: а если все-таки можно было остановить? Хоть силою, хоть позорным обращением к властям – как угодно, но чтобы Сверчок был теперь жив и здрав?! Эта мука не могла не тревожить Петра Андреевича, увеличивая тяжесть потери…
Его все-таки увели, и гроб внесли в склеп. Толпа стала медленно расходиться, вполголоса перешептываясь, всхлипывая. Подле одного из экипажей Александр столкнулся с Варварой Григорьевной. Тепло поздоровались – недоразумение, произошедшее некогда, давно было предано забвению. И хотя прежней тесной дружбы не возобновилось, однако, остались добрые отношения. Варвара Григорьевна приехала на отпевание со старшими детьми – Андрюшей и Юлинькой. Ее муж, как всегда, не смог вырваться со службы. Расцеловавшись с Ольгою, Никольская заботливо осведомилась, ожидает ли их экипаж. Экипажа у Апраксиных не было, и Александр как раз собирался срочно найти извозчика, замечая, что жена продрогла.
– Так прошу вас в мою карету! – радушно пригласила Варвара Григорьевна. – Я с радостью подвезу вас до дома. Мы с детьми подвинемся, и места хватит всем!
Александр нерешительно покосился на Ольгу. Та чуть улыбнулась:
– С благодарностью принимаем ваше предложение. Чувствую, что искать извозчика сегодня придется долго, а я от холода уже почти не чувствую ног.
Апраксин был весьма рад благосклонному решению жены. Хотелось непременно поговорить о случившемся несчастье, узнать у Варвары Григорьевны новости – ведь муж ее был близок к Государю, а, значит, мог знать подробности, неведомые широкому кругу.
Варвара Григорьевна кипела от негодования подлой интригой. Кипела тем более, что сама прихотью негодяя не так давно чуть не оказалась в положении несчастной Натальи Николаевны. И именно Апраксин нечаянно стал орудием интриги против нее. Помня это и до сих пор виноватясь, Александр не без труда принуждал себя больше помалкивать, предоставив говорить дамам.
– Непостижимо! Ведь все эти месяцы мы все, все видели, что происходит! Видели эту бесчестную травлю и не остановили! Мы все виноваты сегодня… – сокрушалась Варвара Григорьевна, теребя в руках вышитый платок.
– Помилуйте, как же можно было остановить? На всякий роток не накинешь платок, – вздохнула Ольга. – Свет живет сплетнями и злословием…
– Вот, на этих-то любителей сплетен и мерзких писем и следовало бы обратить внимание Катону и его подчиненным! Вместо этого он набил ими церковь… – вставил Апраксин.
– Александр Христофорович так и не понял Пушкина. Он продолжал видеть в нем того юного бунтаря, который лишь по Божией милости не очутился на Сенатской площади. А придворные клеветники не волнуют его, если клевещут не на Высочайших особ. Катон охраняет Государя и его семейство. Простые смертные не входят в круг его забот. Даже если эти смертные составляют гордость нашей страны…
– Но Государь мог приказать ему! Мог выслать из страны этого проклятого француза!
– Государь действует в рамках закона, – отозвалась Варвара Григорьевна. – Что бы вы хотели? Чтобы он выпустил указ, запрещающий оскорблять нашего поэта? Да ведь такой указ был бы позорнее самих сплетен!
– Значит, ничего нельзя было изменить… – покачала головой Ольга.
– Если бы кто-нибудь из посвященных сообщил Государю…
– Донес! – воскликнул Апраксин. – Вы же понимаете, Варвара Григорьевна, что это было бы бесчестьем для любого дворянина!
– Бесчестье… Законы… Правила… – Варвара Григорьевна покачала головой. – А в итоге Россия лишилась своего светлейшего ума, своего гения… Вы знаете, моя семья не была родовитой, и мы, дети, воспитывались лишь в страхе Божием… Другие страхи мне кажутся во многом слишком преувеличенными в своем значении. Мой муж, знаю, не согласился бы со мной, но я считаю, что есть правила выше всех этих светских условностей. Мы не должны терять тех, кого любим, лишь из-за чьих-то злых языков. Все это… не так важно… А то, что дети, которым любящий отец собирался сам читать Библию на церковно-славянском, воспитывать их добрыми христианами и верными слугами престола и Отечества, теперь лишились его навсегда – это, действительно, важно. И пускай такое мое суждение многим покажется мещанским…
– Мне не кажется, – вздохнул Александр.
– А я думаю, все разговоры о том, можно ли было что-то изменить, напрасны. Господь все мог изменить. Даже в самую последнюю секунду, не попустить, чтобы ранение оказалось смертельным… Вы не согласны? – заметила Ольга.
Апраксин тяжело вздохнул. Он и сам думал о том же, стоя у Конюшенной церкви… После непродолжительной паузы он осведомился:
– Что говорят при дворе о несчастье?
– Императрица глубоко опечалена, равно как и сам Государь, и Наследник. Наследник приезжал к телу покойного и простился с ним. А Государь приезжал еще раньше…
– Куда? – не понял Александр.
– На Мойку, – тихо отозвалась Варвара Григорьевна. – Сперва посылал справиться других, а ночью поехал сам. Он не поднялся, конечно, на квартиру, а лишь спросил о здоровье барина прислугу…
Апраксин ударил себя ладонью по лбу:
– Так вот, кого я встретил тем утром! Три дня ломал голову, где же я мог видеть этого человека… Но мне и в голову не могло прийти, чтобы Император…
– Он искренне любил и уважал Пушкина. Сейчас он озабочен тем, чтобы сохранить и опубликовать его архив. Долги Александра Сергеевича также будут выплачены из казны. Наталья Николаевна и дети, слава Богу, ни в чем не будут нуждаться.
Карета остановилась возле дома Апраксиных, и Александр, тепло простившись с Варварой Григорьевной, помог жене сойти на землю.
– Приглашаю вас с детьми бывать у нас, – сказала напоследок Никольская, пожимая руку Ольге. – Мы будем всегда вам рады. И вашей сестре, коей я всегда буду обязана.
От этих слов у Апраксина потеплело на сердце, но отвечать он вновь предоставил жене.
– Для нас большая честь ваше приглашение, – ответила та. – И мы с радостью принимаем его и в свою очередь приглашаем вас во всякое время бывать в нашем доме.
– Всегда ваши гости, – с мягкой улыбкой откликнулась Варвара Григорьевна.
Карета уехала, и замерзшая Ольга поспешила войти в дом. Апраксин же еще некоторое время стоял на улице, вглядываясь в чуть подернутое облаками небо. Ему вспомнился взволнованный рассказ Владимира Даля о последних минутах жизни Пушкина
– Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше! Ну, пойдем! – так сказал он перед смертью, уже переходя незримую таинственную черту, бывшему с ним неотлучно все время агонии Далю.
Куда звал он доктора, с коим побратался за сутки до кончины? В какую неведомую остающимся, но уже открывшуюся ему высь? Должно быть, она светла и радостна была, коли он стремился к ней, не страшась и зовя с собою друга… Выше, выше… Всякого ли позовет к себе эта высь? Вряд ли… Небо отверзается лишь душам чистым. Души же гнилые, как у папаши Геккерна, поглотит темная бездна. Вот уж воистину страшная участь и высшее отмщенье…
Глава 2.
– Я имею предчувствие, что умру молодым. Я имел это предчувствие, когда мне не было еще 20-ти лет.
– Почему? У тебя здоровье железное.
– Потому что любимцы богов умирают молодыми. Должно быть, вот по этой причине!.. А между тем я люблю жизнь. Она хороша, она прекрасна. Да, жизнь прекрасна!
Эти давние слова Сверчка вспоминались Лауре все траурные дни, в кои всего тяжелее ей было посещать светские вечера, на которых царил удушливый дух сплетен, двоедушия, человеческой мелочности и низости. Когда Пушкин путешествовал по Кавказу, ни одна пуля не задела его, хотя он в силу характера своего рвался именно туда, где они свистели. На Кавказе не убивают поэтов… На Кавказе поэт – брат дервишу, убить которого считается большим грехом. В Европе, а по следам ее и в России к поэтам относятся совсем иначе…
Юный стихотворец по имени Михаил Лермонтов откликнулся на убийство гневными строфами, обличив высший свет. Государь не любил столь резких выступлений, в них чудилась ему тень бунта, незримо преследовавшая его все годы царствования. Буяна, бывшего к тому в офицерском чине, отправили остудить кровь на Кавказ. Пожалуй, оно и лучше? Может, Кавказ не так опасен для поэтов, как столичные салоны?
Лаура отчаянно скучала по своей оставленной родине. А в эту горькую зиму тоска стала обретать черты болезни, первые признаки которой успели встревожить Императрицу, поручившую свою фрейлину заботам доктора Арендта. Участие Императрицы и немногих друзей согревали и ободряли душу. Из-за границы приходили письма Смирновой и Гоголя, коих особенно не доставало теперь… Хворавшая после тяжелых родов Александра Осиповна уехала в Париж вместе с мужем. Гоголь обосновался в Италии. Для него особенно тяжела была утрата. Он не раз говорил, что пишет он, видя перед собой Пушкина, представляя его реакцию на тот или иной эпизод, фразу… Между тем, именно охлаждение между ним и Александром Сергеевичем подтолкнуло его к отъезду. Пушкин не дал в «Современнике» одной из статей «Гоголька», и тот был весьма огорчен и задет этим. Николай Васильевич всегда был слишком импульсивен, слишком подвержен влиянию настроения. Он писал по несколько вещей сразу, многие оставлял неоконченными, другие безжалостно уничтожал. Его профессорская кафедра всемирной истории, выхлопотанная ему наперекор чинам Жуковским и Плетневым, тешила его недолго. Он с обычной горячностью взялся за дело, жаждая просвещать юношество, его первые лекции произвели настоящий фурор, но на том все и оборвалось… Запал потух, лекции стали серыми и будничными, и вскоре педагогическое поприще было оставлено. С еще большим воодушевлением взялся Гоголь помогать Пушкину в издании журнала. Но первое же расхождение охладило его… Он уехал, и Лаура лишилась общества еще одного успевшего стать ей дорогим человека – человека странного, ранимого, но без сомнений прекрасного… Он часами рассказывал Лауре о родной Малороссии, она же живописала ему красоты Грузии. С ним было отчего-то удивительно легко – как ни с кем другим…
Петербург опустел. И Константин, хотя и выслужил уже чин прапорщика, не спешил подавать в отставку. Гордость! Он возжелал теперь явиться в очах общества не прощеным преступником, женившимся на знатной грузинской княжне и фрейлине Ее Императорского Величества, но героем, достойным взять ее в жены. Разгоравшаяся же война с мюридами давала ему очередной шанс стяжать себе должную воинскую славу. Хотя Константин в каждом письме писал, что эта задержка предпринята им лишь ради нее, Лаура не могла понять этого. Или не сознает он, что пока он ищет своей славы, чтобы бросить оную к ее ногам, ее молодость, столь скоротечная у женщин, уходит, а сама она чахнет от тоски?
Впрочем, одно новое утешение появилось у княжны в последнее время. Государь повелел Глинке организовать придворную капеллу – да так только, чтобы певчие не пели итальянцами. Эта капелла и музыка Глинки – радость, возносящая душу к неведомым высотам. Лаура страстно любила музыку, и русский композитор-самородок стал для нее тем же, что тот самый дервиш для диких горских племен. Вслух такого незамужней барышне не вымолвить, но ведь руки, которые способны извлекать, рождать столь потрясающие душу звуки – целовать лишь и только! И ничего зазорного нет в том… Священникам целуют руки, как посредникам меж людьми и Господом. Но гений, самим Богом избранный, разве не посредник тоже? И избранников таких – единицы на всякий век…
Год назад прогремела «Жизнь за Царя» – первая русская опера. И за нее не в умаление Царю Русскому в ноги бы поклониться – Царю русской музыки… Ныне же с робостью приступал он к еще более значимому – к пушкинскому «Руслану…». Глинка надеялся работать над либретто вместе с Пушкиным, но теперь предстояло поднимать эту задачу уже без него. Но Лаура не сомневалась – опера непременно будет написана! И она будет достойна поэмы.
Этим мартовским утром княжне вновь нездоровилось. Нападал жар, кружилась голова от слабости. Арендт рекомендовал смену климата. Всего лучше, заграницей. Но Лаура не хотела уезжать из России…
До полудня княжна провела в постели, а затем, облачившись в уютный капот, села к фортепиано – потешила душу глинкинским «Я здесь, Инезилья», всплакнула о своем…
– Барышня, там вас барин спрашивают, – доложила вошедшая горничная.
– Скажи, что я никого не принимаю нынче, мне нездоровится.
– Я сказала, но он велел передать вам это, – горничная протянула Лауре массивный перстень, который та тотчас узнала.
– Живо помоги мне одеться и пригласи его! – велела княжна.
Этот человек, которого она не видела со дня прибытия в столицу, не мог вдруг прийти просто с дружеским визитом. Значит, случилось что-то важное!
Самум или Виктор, как именовался он за пределами Востока, ничуть не изменился за то время, что княжна не видела его. Тот же прищур темных глаз, столь пугавший ее вначале, та же кошачья легкость движений, тот же бархатный голос. Разве что первые серебряные нити проредили смоль его шевелюры, но это лишь украсило его.
– Вы стали еще прекраснее, княжна, – чуть улыбнулся гость.
– Не лгите. Доктор Арендт пугает меня чахоткой, где уж тут становиться прекраснее.
– Доктор Арендт не Бог. Он, надо думать, гонит вас в какой-нибудь Эмс, где бледные девицы и их почтенные матроны пьют воды от болезни, называемой скука, и присматривают порядочные партии?
– Как вы недобры! – покачала головой Лаура.
– Я справедлив, и этого достаточно. Людям, живущим простой и естественной жизнью, воды не нужны. Равно как и вам, дорогая княжна.
– Вы лучше Арендта знаете, чем лечить мою болезнь?
– Вы сами это прекрасно знаете. И, знайте, светское лукавство, коему вы здесь обучились, вам не идет.
– Да, – вздохнула Лаура. – Вы, как всегда, правы. Я хочу хотя бы ненадолго вернуться в мой дом, к моему саду, моей реке, моим горам… К моим родителям. И я хочу, чтобы тот, кого я люблю и жду все эти годы, был со мной… Я говорю с вами так откровенно потому что, мне кажется, вы наперед знаете все мои мысли, и бесполезно их скрывать.
– Диагноз верен, – кивнул Виктор. – Так в чем же дело? Надо просто воспользоваться необходимым лекарством и мгновенно поправиться.
– Я вас не понимаю…
– А меж тем, я говорю весьма понятно. Завтра вы попросите Ее Величество отпустить вас проведать родителей и набраться сил в родных краях. А послезавтра я буду иметь честь проводить вас туда, откуда привез несколько лет назад.
– А что же будет там?.. – почти шепотом спросила княжна.
– Ваш бель ами сейчас в Тифлисе. Он тоже был немного нездоров, схватил какую-то местную лихорадку, хотя не писал вам об этом, и начальство временно перевело его в штаб. Здоровье его уже не внушает опасений, и, вероятно, скоро он вернется в действующую армию. Мы, впрочем, еще успеем застать его в Тифлисе и…
– И?..
– Церковь, священник, проход вокруг аналоя… – при этих словах по лицу Виктора пробежала непонятная тень.
– Без дозволения Императора?!
– Император не осудит брак двух любящих сердец. Если бы ваш возлюбленный не был до глупости горд, то уже подал бы в отставку, приехал сюда и Государь исполнил бы давно данное обещание… Но если гора не идет к Магомеду, то Магомеду ничего не остается, верно?
– Вы искуситель…
– Самое мягкое наименование нечистой силы, которое мне приходилось слышать по своему адресу. Вот и делай после этого добро людям!
– Нет-нет, я очень благодарна вам, но неужели нужно ехать так внезапно? Уже послезавтра? Я еще очень слаба…
– Дорога к долгожданной цели развеет вашу слабость. А ехать нужно было еще вчера. Ваш будущий муж мечтает скорее вернуться в свою часть и совершить, наконец, подвиг, который его прославит. Да и у меня довольно других более важных дел, кроме устроения вашего счастья.
– Но отчего вы опять решили помочь нам?
– Оттого, что считаю неправильным, когда две любящие души не могут соединиться. Разлука, милая княжна, похожа на смерть. Перед смертью мы бессильны, но разлуку всегда можно преодолеть.
– В таком случае, почему вы ждали так долго?
– Во-первых, не всякое чувство едва оперившихся юнцов при проверке оказывается любовью. Во-вторых, я ждал действий со стороны вашего жениха. Время стало для вас проверкой. Вас не увлекли соблазны света и возможные выгодные партии, вы остались той же – чистой и верной. Это многого стоит.
– А Константин? Его бездействие не может свидетельствовать о том, что он недостаточно любит меня?
– Он слишком любит вас, моя дорогая, слишком… – отозвался Виктор. – Так любит, что попросту боится.
– Меня?
– Вас. Он боится оказаться недостойным вас. Боится, что вас, утонченную барышню, теперь еще и узнавшую столичное общество, разочарует солдат, почти ничего не знающий, кроме войны.
– Но это совсем не так! – воскликнула Лаура.
– Конечно. И ваша скорая встреча поможет вам обоим убедиться в ваших чувствах, – Виктор улыбнулся и, чуть поклонившись, распорядился: – Теперь я оставлю вас. У вас есть день, чтобы собраться с силами. Возвращайтесь теперь же в постель и не поднимайтесь до завтрашнего утра. А это, – он поставил на чайный столик маленький флакон с зеленоватой жидкостью, – вам передала Эжени. Принимайте по шесть капель утром и перед сном. Это придаст вам сил.
Когда искуситель удалился, княжна в точности исполнила его указания. Однако, лежа в постели, она не могла найти себе места. Ее душа уже летела на юг, через гребень заснеженных гор, в родные края, уже витала вокруг аналоя, уже шептала «да» на вопрос священника… Разум же все еще отказывался поверить в возможность исполнения столь долгожданного чуда.
Глава 3.
Приближающееся кавказское лето в этот год раньше срока раскалило Тифлис своими лучами. Странно, после персидского похода, после жара пустыни не должно ли было здешнее пекло стать привычным и не тяготить северянина? Но отчего-то именно здесь и сейчас донимало оно. То ли последствия подхваченной еще по осени лихорадки продолжали сказываться, то ли штабная рутина навевала лень, а только решительно ничего не хотелось делать в эти дни, а ночью видел прапорщик Стратонов снег… Сугробы московские да горки ледяные, что на святках ставили, да морозы, морозы – наши, русские! Стосковался по родным краям – мочи нет… Уж скорее бы в полк вернуться – там в походах да стычках с горцами не до лени, не до скуки. Не то, что здесь…
Почему-то впервые думалось о Тифлисе почти враждебно. За столько лет русского владычества почти не изменился он в своем азиатском облике. Только в центре города, где располагалась Эриванская площадь, цивилизация взяла свое, и здесь грузинская столица имела уже почти европейский вид. Но сверните с той площади на улицу под названием Армянский базар, и вы очутитесь на самом настоящем восточном базаре. В тесной, неровной улочке громоздились с обеих сторон, наползая друг на друга всевозможные лавки. Здесь шили платья и варили плов, жарили баранину и чеканили серебро, пекли лаваши и брили бороды, ковали лошадей и оправляли оружие… Все это сопровождалось столь характерным для востока шумом множества голосов, от которого у непривычного к тому человека начинала нестерпимо болеть голова. При этом на Армянском базаре никогда не воровали. Кража была здесь делом совершенно неслыханным, невозможным. К торговой улице примыкали три площадки – на одной отдыхали развьюченные и все же вечно чем-то недовольные и надменные верблюды, на другой протяжно кричали сотни груженых углем для мангалов ишаков, третья была заставлена бурдюками с вином.
По сию пору в городе существовала лишь одна гостиница, носившая название «Справедливая Россия». Держал это далекое от чистоты и порядка заведение еврей Соломон. Как-то Константин осведомился у него, отчего он так странно назвал свою гостиницу.
– Оттого, что русские – люди справедливые! И, следовательно, они непременно предпочтут мое благородное заведение мужицким халупам этих жадных бюргеров! – хитро улыбаясь, ответил Соломон.
Стратонов расхохотался. Старый черт, как пить дать, знал, что он не относится к справедливым русским и живет как раз у одного из тех самых жадных бюргеров – трудолюбивых немецких колонистов, приехавших на Кавказ еще при Ермолове. Алексей Петрович расселил их вблизи Тифлиса, на реке Иоре, и около Елисаветполя в колониях: Александердорф, Елизабетталь, Петерсдорф, Мариендорф, Анненфельд и Геленендорф. Десять семейств поселились на берегу Куры у самого города. Ермолов создал все условия для развития этих поселений: он не только предоставил им положенные податные льготы, но и разрешил меж ними общинное самоуправление, вверив общий надзор за ними особому комитету под председательством чиновника-немца, дабы колонизаторы не испытывали никакого давления местных властей.
Трудолюбивые немцы насадили сады, разбили огороды, завели скотину. Теперь из их рук население, привыкшее за большие деньги покупать даже самое необходимое у захвативших всю торговлю армян, получало свежие овощи, мясо, молоко и даже картофель и белый хлеб, вкус которых был доселе неведом Закавказью… Рано утром молодые немки самолично разносили продукты по домам, а затем возвращались к трудам на своих фермах…
Глядя на устройство немецких поселений, Константин не раз грезил о том, чтобы в России русские крестьяне стали жить также… Свободно, самостоятельно решая все свои внутренние дела, защищаемые и всемерно поддерживаемые властью. Ах, как расцвели бы тогда русские деревни! И совсем иной стала бы сама России, укрепившаяся в своих низах, давшая им жить полнокровной жизнью. А ведь эти низы – основа. Большая часть России – мужичье. А дай ты русскому мужику, как тому немцу развернуться, так ведь он не то что сады с огородами, он ведь и сами горы свернет… Но об этих грезах своих молчал Константин. Этакие идеи из уст вчерашнего государственного преступника начальству уж точно не понравились бы. Знал Стратонов, что и теперь иные бессовестные карьеристы норовили доглядывать и подслушивать за бывшими декабристами да писать на них доносы по начальству, да боевым друзьям их намекать, что от таких товарищей лучше держаться в стороне…
Колонистов же Константин полюбил за трудолюбие и незлобивость. Немцы сдавали комнатки в своих домиках, и многие отдавали предпочтение им, а не еврейской гостинице. У «бюргеров» в отличие от нее в комнатках было всегда светло, чисто и опрятно. Да и нехитрая кормежка была не в пример еврейской вкуснее и питательнее.
Последние месяцы Стратонов жил у немца Беринга, две дочери которого явно засиделись в девицах. Обе они были добрейшими и работящими существами, но природа явно поскупилась, трудясь над их внешним обликом… Не красили их и национальные немецкие костюмы, в которых неизменно ходили все колонисты. Немцы, вообще, были весьма патриотичным народом, и браки заключали лишь внутри своей общины, не отдавая дочерей на сторону и, что особенно удивительно, не беря жен со стороны, хотя иные грузинки были куда очаровательнее грубоватых колонисток.
Дома Беринга и пяти его соседей стояли под Авлабарской горой, на которой располагались три массивных казармы, построенных еще при Ермолове и подавлявшие своей громадой унылую смесь бедняцких сакель и землянок, населяемых тифлисскими рабочими. Этот вид не радовал глаз. Зато вид, открывавшийся с другой стороны – на бурную Куру – мог подарить не одну минуту приятных размышлений и мечтаний. Окна комнаты Стратонова выходили как раз на реку. Шум ее волн убаюкивал его с наступлением ночи и вместе со свежестью, даримой водой, врывался в раскрытые окна поутру.
Правда, не во всякую ночь возвращался Константин в свою уютную «келью». Иногда ночевал он в городе у своего доброго приятеля поручика Гусятникова, что исполнял при штабе унылейшую должность писаря и так же, как и Стратонов, рвался в свою часть.
Гусятников снимал комнату в старом городе. Дома здесь были традиционной восточной постройки – большей частью, одноэтажные, с плоскими крышами, огромным количеством окон и дверей и крытыми галереями для защиты от солнца. Они так плотно примыкали друг к другу, что по ним без труда можно было прогуливаться, не касаясь мостовых. Именно так и проводили время ночной прохлады местные жители, после заката высыпавшие из своих домов. Тогда-то начиналась в старом Тифлисе настоящая жизнь. Заунывные звуки грузинских и татарских песен, мерный говор бубнов, смех и гортанная речь – все сливалось под пологом бархатного неба в странную, но чарующую мелодию. А свет разноцветных персидских фонарей! А пестрые платья и жаркие танцы женщин! Это еженочное праздненство нельзя было упустить! И Константин до середины ночи предавался ему, возвращаясь в дом колонистов лишь под утро и оттого отчаянно не высыпаясь…
Этой ночью Стратонов вновь путешествовал по крышам вместе с Гусятниковым. Легко перепрыгивая с одной на другую и раскланиваясь с хозяевами оных, друзья, следуя правилам, избегали лишь те, на которых стояли одни женщины. На них можно было лишь смотреть с почтительного расстояния, разгадывая скрываемую восточными одеждами красоту.
– Ах, Стратонов, все-таки Грузия прекрасна! – говорил поручик, любуясь танцем облаченной в пурпурные одежды девицы.
– А грузинки и того пуще? – улыбнулся Константин, садясь на край крыши и отпивая глоток прохладной воды из взятой с собой фляги.
– Это тебе, пожалуй, известно лучше моего.
– Не береди рану, Федя, – вздохнул Стратонов.
– Рану! Какая-такая рана? Давно бы подал в отставку и ехал к своей красавице-княжне!
– То-то же, что красавице-княжне… Я нищ, как церковная крыса…
– Твой брат генерал и друг Государя!
– И не имеет собственного угла… Нищий прапорщик с клеймом государственного преступника – хороша партия!
– Ты, что ли, хочешь, чтобы она нашла лучшую?
– Молчи! – вспыхнул Константин. – Я желал бы ей лучшей партии. Но найди она такую, я бы искал одной смерти…
– Глупо! – решительно заключил Гусятников. – Что до меня, то я непременно женюсь на какой-нибудь местной красавице и поселюсь с нею здесь.
– В Тифлисе?
– К черту Тифлис! Кахетия! Вот, мой милый, истинная обитель богов! Наши аристократы уезжают любоваться Италией… А что такое Италия в сравнении с Кахетией?
– Ты был в Италии, Федя?
– Нет! И к черту Италию! Я видел Кахетию, и с меня довольно! Эти дома под сводами ореховых деревьев, эти заросли винограда, это…
– …вино, которое однажды ударило тебе в голову…
– Я никогда не пил ничего лучшего, Костя, клянусь! Что может быть лучше, чем жить в этом краю с прекрасной женщиной, возделывать виноградник, пить и продавать лучшее в мире вино…
– О, Гусятников, да ты сибарит!
– Не скрываю этого!
– Зачем тогда ты рвешься в полк? Найди себе достойную партию и приступай к воплощению мечты в жизнь!
– Увы, у меня то же затруднение, что и у тебя. Я беден, друг! И не знатен. Стало быть, нужно заработать либо капитал, либо звание, с которым не совестно было бы посвататься в приличный дом. Впрочем, я еще и не встретил ту, с которой бы пожелал прожить весь век в тени ореховых деревьев и в окружении виноградников… Кто знает, может это она? – поручик кивнул головой на обольстительную плясунью.
– А я бы никогда не променял моей милой Москвы и на десяток Кахетий… – промолвил Стратонов, любуясь переливами персидских фонарей. – Когда бы выйти в отставку да зажить там семьей…
– На что зажить-то? И где?
– Поначалу поселились бы у друга нашей семьи Никольского.
– Это тот, что Государя самого советник, сказывают?
– Он самый. Я вырос в его доме, так что Никита Васильевич не отказал бы мне в гостеприимстве. К тому же сам он с семейством живет в столице. А там я пошел бы служить…
– Кем, Костя? Кем бы ты пошел служить? Оба мы с тобой лучше всего умеем служить Отечеству саблей…
– Я уверен, что смог бы найти себе поприще и в мирной жизни. Мой брат – тот да, родился в мундире. И без мундира и войны для него жизни нет. А я пошел по воинской части лишь из-за скверных наших дел да еще увлекшись его примером…
– Тебе нужно было влюбиться в какую-нибудь московскую розовощекую купеческую дочку. Вот, и было бы счастье!
– Ты циник, Гусятников.
– Я реалист, мой друг. Ты ведь знаешь, реализм нынче входит в моду, вытесняя слащавые сантименты и будоражащую нервы романтику прежних десятилетий? Надо идти в ногу со временем.
– Ты просто еще не любил, мой друг.
– И слава Богу! Говорят, любовь дурно влияет на пищеваренье, а я дорожу своим аппетитом, коим я так знаменит в кругу друзей!
Друзья рассмеялись. Шутки поручика, однако, не могли рассеять тоски Константина. В ночном сумраке, расцвеченном пестрыми огнями, среди множества силуэтов, заполнивших крыши старого города, ему постоянно чудился один-единственный силуэт, которого не могло быть меж этих теней. И один-единственный голос слышался ему, преодолевая дикую симфонию ночного Тифлиса…
В эту ночь Стратонов не остался у Гусятникова. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями о той, которую не могли бы заменить ему все розовощекие и пышущие здоровьем купеческие дочки Первопрестольной. И за что только полюбила она его? И зачем ждет все эти годы? Однако, поехали же жены декабристов за мужьями в сибирскую острожную глушь, оставив решительно все – лишь бы быть с теми, без кого вся жизнь становилась бессмысленной… Что есть все земные будничные расчеты рядом со всепоглощающим чувством? Прах, один прах…
Возвращаться одному ночью из города было не очень-то безопасно – в этих краях никогда не посмели бы срезать кошелек на базаре, зато не упустили бы случая отрезать голову гяуру в укромном месте. Но Константин не боялся. Служба на Кавказе сделала его решительным фаталистом. Кисмет! Если суждено быть зарезанным, как свинье, то не отвертишься, каким бы героем или напротив осторожным человеком ты ни был. А если Бог судил тебе долгую жизнь, то ни одна пуля, ни один клинок тебя не достанет… А Стратонов был отчего-то совершенно уверен, что на его долю Всевышний отпустил немалый срок.
До дома милейшего Беринга он добрался аккурат, когда первые солнечные лучи накинули розовый муар на вершины гор. Дабы не тревожить хозяев, Константин по обыкновению пробрался в свою комнату через окно и… тотчас схватился за кинжал, увидев сидящего в углу его комнаты незнакомца в черкеске. Ночной гость примирительно поднял руку:
– Ну-ну, Константин Александрович, так ли надлежит встречать гостей?
– Ночных татей – именно так!
«Тать» рассмеялся, и этот смех оказался Стратонову хорошо знакомым. В тот же миг гость зажег стоявшую подле него на столике масляную лампу, и Константин тотчас узнал его. Что и говорить, при природной смуглости остроносого лица и смоляной черноте волос, этому человеку ничего не стоило сойти за горца. Черкесска, весьма идущая к его ладной фигуре, лишь довершала сходство.
– Опять вы! – Стратонов в раздражении швырнул кинжал на кровать. – Как прикажете называть вас на этот раз? Курский? Самум? Кавалерович? Или у вас появилось новое имя?
– Вы можете называть меня, как и ваш брат, Виктором, – миролюбиво разрешил гость. – Однако, годы вас не исправили. Вы все тот же неблагодарный невежа…
– Сударь, не забывайте, что я теперь вновь офицер, и за такие слова могу…
– …вызвать на дуэль своего благодетеля? Ну-ну, не кипятитесь. Вы уж однажды пробовали, помните? Ныне мой ответ вам был бы тем же.
– Зачем вы явились сюда?! Кто вас впустил?!
– Нас впустила милейшая Гретхен, любезно указавшая вашу комнату и посоветовавшая подождать. Она сказала, что вы непременно воротитесь к рассвету. Она, между прочим, очень недурно знает ваши привычки… И, кажется, наш приезд не слишком обрадовал ее. Должен заметить, что рассвет – весьма позднее время для возвращения. Откройте секрет: неужели Тифлис уже окончательно развился до европейских городов и обзавелся своим борделем и игорным заведением?
– Да полно вам молоть вздор!
– В таком случае что же? Зазноба? – Виктор лукаво прищурился.
– Прекратите, наконец, испытывать мое терпение! Это вовсе не ваше дело, где я был! Но если угодно, мы с моим товарищем поручиком Густяниковым просто прогуливались по крышам!
– Как романтично! Надо будет мне непременно тоже совершить такую прогулку.
– Какого черта вам нужно, наконец?!
– Говорите тише, господин прапорщик, иначе вас могут услышать!
– Уж не Гретхен ли?
– Нет-с, другая дама. Которая чрезвычайно устала с дороги и была глубоко огорчена вашему отсутствию.
– Какая другая дама? – спросил Константин внезапно севшим голосом.
– Очень хорошо вам знакомая дама. Вы знаете, ей очень надоело ждать, когда вы обрадуете ее своим возвращением, и она решила навестить вас сама.
– Лаура здесь?! – не поверил собственным ушам Стратонов.
– В соседней комнате. Гретхен напоила ее теплым молоком, и теперь она спит.
Константин бросился к двери, но длинная нога Виктора, упершаяся каблуком в дверной косяк, шлагбаумом преградила ему путь.
– Ну-ну, мой молодой друг. Остыньте. Не стоит будить девушку, проделавшую ради вас столь длинный путь. Она заслужила свой отдых, вы не находите?
Стратонов отступил:
– Да, вы правы… Однако… Не знаю, что и сказать… Все в каком-то тумане… Это она попросила вас сопровождать ее?
– Нет, это я предложил ей поехать со мной.
– Зачем?
– Затем, что этот прекрасный цветок начал чахнуть от тоски и одиночества в нашей холодной столице. И это грозило перерасти в серьезную болезнь… Мне нравится княжна. В ней есть все. Ум, благородство, сила, отвага, верность… И вместе с тем большая хрупкость, нежность, ранимость. Вы не заслужили такой женщины, но она вас любит. А вы непозволительно затянули для нее пытку ожиданием.
– Вы правы и теперь. Я не заслужил ее и знаю это. Я благоговею перед ней, понимаете ли вы меня? Я отдал бы за нее всю свою кровь… А больше, – Константин горько усмехнулся, – мне и отдать нечего.
– Это уже не так мало, как вам кажется, – ответил Виктор. – Вы ведь не передумали жениться на Лауре?
– Мог ли я передумать? Можете мне не верить, но все мысли мои были лишь о ней…
– Я вам верю. В таком случае ровно через неделю вас обвенчают в одной старой церкви в двенадцати верстах от Тифлиса. Возьмите несколько дней отпуска, полагаю, начальство вам не откажет?
– Думаю, нет… Но как же… А родители Лауры?
– Им придется смириться.
– Навряд ли они смирятся. Князья совершенно разорены, а такой зять…
– Их дочь получит достойное приданное, и это хотя бы отчасти примирит их.
– Приданное? Какое еще приданное?
– Как вынужденный посаженный отец, я дам за ней достойное ее приданное. Да и Государь обещал…
– Сударь! – вспыхнул Стратонов. – Да сколько же вы еще намерены унижать меня? Вы, значит, сочли, что раз я нищ и сир в этом мире, то вы… то вы…
– Что я? – спокойно переспросил Виктор. – Умерьте вашу гордыню, господин прапорщик. И попытайтесь хорошо понять то, что я вам скажу. Когда-то давно я любил одну женщину, но ее… – он на мгновение запнулся, – убили…
– Убили?..
– Не перебивайте и не задавайте лишних вопросов. С той поры жизнь моя превратилась в ад… Я обрел большое богатство. Огромное, если быть точным. Но оно не дает мне радости… Оно лишь служит моей мести тем, кто когда-то уничтожил меня… Скоро эта месть, наконец, будет завершена, и жизнь моя сделается окончательно пуста. Однако, черт побери, было бы обидно, если бы все, чем я обладаю пошло, лишь на воздаяние за зло, лишь на кару для негодяев… Мне было бы утешительно знать, что мое богатство служило и делу любви, делу добра. Я выкупал невольников-христиан у турок, я старался помогать сиротам и падшим – тем, кому больше некому было помочь… Но буду откровенен – ни к кому из них я не питал любви. Я лишь делал то, что казалось мне справедливым. Я одинок на этом свете, как Агасфер, с которым меня столь часто сравнивают. А княжна Лаура… Я был бы счастлив и горд иметь такую дочь, как она. А потому я хочу, чтобы вне зависимости ни от чего – ни от родителей, ни от вас, чей воинский жребий столь прихотлив, ни от меня, ибо и я не вечен – она была обеспечена.
– Но в каком положении окажусь я? Мужа-нахлебника?
– Иногда лучше меньше думать о собственном «я». Оно не абсолют. Да и зачем вам быть нахлебником? Вы вольны служить и тем обеспечивать семье достаток. Но у Лауры всегда будет оставаться свой небольшой капитал, проценты с которого станут вам подспорьем. Вы порядочный человек, несмотря на свое легкомыслие. Следовательно, я могу быть спокоен, что вы не промотаете эти деньги на скачки и карты.
– Весьма польщен таким доверием, но мне не очень нравится то, как вы распоряжаетесь чужими судьбами, нисколько не интересуясь видами тех, кого вы передвигаете, словно шахматные фигуры по доске.
– Это вы весьма точно определи, – чуть улыбнулся Виктор. – Я и впрямь люблю передвигать живых людей, как шахматные фигуры. Шахматы – прекраснейшая игра, в ней все логично… А жизнь люди портят своими пагубными страстями…
– Уж не возомнили вы себя Богом?
– Не беспокойтесь, я не столь помешан. И признайте все же, что вашими с княжной судьбами я распорядился не так уж и плохо?
Константин немного помолчал, а затем ответил:
– Я был бы и впрямь неблагодарным невежей, если бы стал отрицать это. Без вас мы даже не встретились бы с Лаурой… Я не могу преодолеть предубеждения против вас, не могу вас понять. Но Бог с вами, пускай все будет по-вашему.
Первые лучи восходящего солнца робко заглянули в окно, озарив комнату розовато-золотистым светом.
Виктор приоткрыл дверь, сказал шепотом:
– Ступайте теперь к ней. И подождите. Она, должно быть, скоро проснется. А я с вашего позволения на пару часов воспользуюсь вашей кроватью.
– Хоть на весь оставшийся день! – откликнулся Константин, мгновенно проскользнув мимо него и скрывшись в комнате княжны.
Лаура уснула, даже не раздевшись. Гретхен укрыла ее, уже спящую, одеялом и оставила подле нее едва теплящийся ночник. Лицо княжны было заметно усталым, темные пряди волос разметались по подушке… Солнце, просочившись сквозь неплотно задернутые занавески, как раз остановило свой любопытный взгляд на этом прекрасном лице и, видимо, залюбовалось им так же, как и вошедший Стратонов. Константину безумно хотелось обнять Лауру, покрыть поцелуями ее руки, но он не смел потревожить ее сон. Пусть лучше пробудится сама и увидит его, преданно ожидающего этого пробуждения. Он осторожно задул ночник, опустился на колени подле постели княжны и стал с волнением ждать, придумывая десятки фраз, какие скажет ей, когда она проснется, и в несчетный раз любуясь каждой черточкой милого лица, которое только что ночью витало перед его взором, как призрак, и вдруг волей странного их благодетеля воплотилось наяву…
Глава 4.
Первое путешествие Наследника по необъятным пространствам страны, во владение которой однажды предстояло ему вступить, близилось к концу. Оно началось по весне, сразу после общего экзамена, завершившего образование Александра. Сам Государь начертал инструкции для него, желая, чтобы его сын не по рассказам и книгам узнал Россию, но увидел ее собственными глазами, увидел воочию своих будущих подданных.
Император, в свое время не получивший положенного Наследнику образования, всегда хотел, чтобы преемник его лишен был сего недостатка, а для того весьма заботился о всестороннем просвещении Александра.
Впрочем, на «солдафонский» вкус генерала Стратонова просвещение это было чрезмерным. Император должен быть вождем и солдатом, а не поэтом и романтиком… Жуковский – что и говорить, душа-человек и поэт отменный, но ведь, прости Господи, баба. Добрая, вечно квохчащая над своим питомцем баба. Вместе с высокомудрым и прогрессивно мыслящим Кавелиным, воспитателем Наследника, чему они учили будущего Царя? Не говоря о собственно предметах образования, идеям гуманизма, эфемерным материям и мечтам… Юный Наследник преисполнен был самых благих стремлений и имел душу чувствительную, нежную. Но Стратонов слишком знал, что благие стремления обречены сталкиваться с каменной стеной реального положения дел. И нужно очень серьезную закалку и упорство иметь, чтобы не разбиться о ту стену, но, вооружившись подручными средствами постепенно пробить в ней брешь. Тяжко это будет с нежной-то душой, поэзией воспитанной. Будет та душа страдать и маяться, теряя иллюзии, будет метаться, а с нею-то и все подвластное ей шататься начнет.
Глядя на Александра, вспоминал Юрий его венценосного дядю. Тот тоже вступал на престол полный прекраснодушных мечтаний и надежд. А чем все кончилось? Опустошенностью собственной души и разладом в государстве…
Конечно, среди воспитателей Наследника нет таких прохиндеев, как недоброй памяти Лагарп, но все же гуманисты и поэты не лучшие наставники будущему Царю. Когда бы воспитателем его был покойный Карамзин или любезный друг и брат на всю жизнь Никольский, то можно было бы не беспокоиться. Но Кавелин и милейший Василий Андреевич…
За время путешествия Стратонов порядком устал от обоих. Да и от всего этого придворного «караван-сарая», стремительно кочующего с места на место… И зачем только настоял Государь, чтобы именно ему, Юрию, сопровождать Наследника в его странствии? Одно утешало, сразу по окончании оного Стратонова ожидала действующая армия – то есть Кавказ! Вот, где место для боевого генерала. А в свитах… пусть свитские скучают.
«Радуюсь, что ты ознакомился с частью сердца России и увидел всю цену благословенного сего края, увидел и как там любят свою надежду. Какой важный разительный урок для тебя, которого чистая душа умеет ощущать высокие чувства! Не чувствуешь ли ты в себе новую силу подвизаться на то дело, на которое Бог тебя предназначил? Не любишь ли отныне еще сильнее нашу славную, добрую Родину, нашу матушку Россию? Люби ее нежно; люби ее с гордостью, что ей принадлежен и родиной называть смеешь, ею править будешь, когда Бог сие определит для ее славы, для ее счастия! Молю Бога всякий день в всяком случае, чтобы сподобил тебя на сие великое дело к пользе, чести и славе России…», – писал Император Наследнику. Письма из столицы приходили с большой регулярностью. Государь писал в промежутках между армейскими учениями, насилу выкраивая считанные несколько часов на сон. Он не знал отдыха, как и прежде, хотя здоровье его уже не было так крепко. А, пожалуй, стоило бы и поберечься. Юрий был убежден, что Николаю просто необходимо царствовать как можно дольше. Под его скипетром Россия не узнает сотрясений Европы… Наследник же, возмужав и лучше узнав положение дел, отрезвеет от юношеских мечтаний и тогда, действительно, будет вполне готов править.
Страшно представить себе, что стало бы с Россией, если бы обоснованные опасения Государя перед визитом в приведенную к повиновению Польшу оправдались! Уезжая, Николай написал свое первое завещание, содержание которого было известно лишь немногим. «Три брата у тебя, которым отныне ты служить должен отцом; будь для них тем же, чем был для меня твой дядя Александр Павлович, – писал Император. – Со временем они должны тебе служить верой и правдой; смотри, чтобы были Русские; это значит все, что долг их составит. (…) Будь милостив и доступен ко всем нещастным, но не расточай казны свыше ее способов. С иностранными державами сохраняй доброе согласие, защищай всегда правое дело, не заводи ссор из-за вздору; но поддерживай всегда достоинство России в истинных ее пользах. Не в новых завоеваниях, но в устройстве ее областей отныне должна быть вся твоя забота. (…) Пренебрегай ругательствами и пасквилями, но бойся своей совести».
Боже, сотвори так, чтобы эти заветы Наследнику пришлось выполнять как можно позже…
Имея возможность впервые столь долго и близко наблюдать Александра, Стратонов видел перед собой совершенного еще младенца. С прекрасными задатками, недюжинными знаниями, весьма подчас мудрыми суждениями, и все-таки – ребенка. И это путешествие было ему в радость и веселье. В сущности, никакого почти представления о России и ее народе оно не давало. Что можно узнать о стране, лишь на день-другой останавливаясь в каждом городе? Лишь раскланяться с местной знатью да оглядеть достопримечательности… А народ… Народ, как водится, толпился, благословлял будущего монарха, бежал за его коляскою… А тот с непривычки еще смущался этого и бывал растроган до слез, и клялся, что крепостная несправедливость будет уничтожена. Что если Бог не судит покончить с нею его отцу, то он первым же своим указом избавит Россию от этого позора. Мечты юноши! Прекрасные и пылкие…
Тверь, Новгород, Ростов, Углич, Ярославль, Кострома, Вятка, Тобольск… Так быстро мелькали города и веси, что и не успевалось запомнить всего. Прав был Жуковский, сказав, что такое путешествие есть лишь беглый просмотр содержания книги, чтение которой еще впереди.
Челябинск, Курган, Златоустовский оружейный завод (самая любопытнейшая для Стратонова точка пути), Оренбург, Уральск, Казань, Симбирск, Саратов, Пенза, Тамбов, Воронеж, Тула, Калуга… Здесь присоединились к свите офицеры, участвовавшие в кампании 1812 года. Осмотр памятных мест ее должен бы увенчать странствие. Оживился Юрий, вспоминая славные страницы своей молодости и охотно рассказывая о них Наследнику. В первый день отправились в Вязьму, затем – в Смоленск… Здесь Стратонов попросил Наследника отпустить его на день-другой – проведать имение свояка. Само собой, Александр согласился, и решено было, что генерал догонит его в Малом Ярославце, чтобы затем сопровождать при осмотре Бородинского поля.
В Клюквинку прискакал Стратонов затемно. Старуха-ключница, отворив ему, ахнула:
– Батюшки-святы! Барин! Да почто ж не предупредили вы… Да ведь мы же не ждали совсем…
– Полно, Марфа, – успокоил ее Юрий. – Я проездом здесь. Ночь переночую, а завтра, глядишь, и уеду уже.
– Проездом… – вздохнула Марфа. – Все-то вы, государи мои, проездом… И вы, и барин Александр Афанасьевич… А дому, Юрий Александрович, хозяин нужен. Без хозяина дом – сирота.
Клюквинка и впрямь сиротский вид имела. Избенки мужицкие совсем почернели да в землю вросли, поля кое-где поросли бурьяном, от сада усадебного лишь память осталась – столь одичал он, да и дом, хоть и не велик, а и то наполовину заколочен стоял, и из каждого угла его веяло духом запустения.
Конечно, Марфа была права. Дому хозяин нужен. Сжималось сердце у генерала от увиденной разрухи. А, помнится, сколько прожектов было у Саши, как благоустроить это место! Не человек, а бездонный кладезь неисполнимых проектов… Уехал и позабыл их все. А мужики…
– …двое сбежали этот год. Недород у нас был. И скотины много пало – истинное наказание Господне! Словно испортил какой злодей скотину, – Марфа шмыгнула носом. – Я вам, барин, ужин-то сейчас сготовлю и в господской комнате постелю – она у нас завсегда в чистоте содержится. Мы ведь все ждем, что барин с барыней приедут…
Пожалуй, лучше было приехать зимой. Зимой внешнего убожества не видать. А в самом доме печь натоплена, веселым огоньком встречает. Печь всякий дом гостеприимнее делает. Но не в знойный же июльский вечер топить ее?
– Летошний год, как урожай-то наш пропал, думали – погибель наша пришла. Только барыня Софья Алексеевна и спасла нас сирых, спаси ее Господь!
– Что же барыня?
– Свои амбары открыла и наделила нас. Без нее – пропали бы!
Марфа, кряхтя и вздыхая, расстелила Юрию постель в господской комнате и, оставив его устраиваться, ушла накрывать на стол.
Стратонов сел к стоявшему у окна столу и тяжело вздохнул. И что за глупость, право… Ведь он и приехал сюда лишь с тем, чтобы ее увидеть хотя бы мимолетом, а уж одно имя ее, ключницей оброненное, ранило… Почему жизнь так нелепа? Бедняга Пушкин погиб на дуэли, а он, Стратонов, чья судьба не сулит ему впереди ничего отрадного, выжил, получив рану столь же тяжелую, смертельную по уверениям эскулапов. Знал Юрий – это ее молитвами он на ноги встал. И помнил то мгновение, когда она небесным ангелом сошла к его одру, как самое святое, самое прекрасное в своей жизни.
О своей репутации она не думала, все ее мысли были лишь о нем. Но в доме Никольских никто не упрекнул бы ее «неприличным» поведением. А свет… Софьинька была далека от него. Она не знала света, а свет – ее. И это избавляло Софью Алексеевну от лицемерных условностей.
У Никольских она прожила тогда всю весну – до той поры, пока Юрий смог встать на ноги. Варвара Григорьевна привязалась к ней, как к сестре. Полюбил ее и Никита, и дети. Да и можно ли было не полюбить ее? Не полюбить этого ангела?
На лето она уговорила Юрия перебраться в Клюквинку, здоровая деревенская жизнь в которой должна была помочь его выздоровлению. Стратонов, впрочем, понимал, что есть и другая причина этого настояния – Софьинька боялась оставить на лето без пригляда свое имение. Понимал он и то, что она пренебрежет имением и останется с ним, если он решит остаться в столице. И увещевать, прогонять было бы бесполезно… А прогнать Софью Алексеевну Юрий пытался не раз. Кроме связанного своего положения, гнело его в ту пору и другое – страх остаться калекой. Потерять единственный смысл своей жизни, самого себя. И он не хотел, чтобы Софьинька видела этот страх, не хотел, чтобы она из жалости принесла себя ему в жертву. Он скорее бы свел счеты с жизнью, чем допустил до этого.
Поехать на лето в Клюквинку он все же согласился. Тем более, что к уговорам присоединилась и Варвара Григорьевна. А противостоять двум лучшим женщинам, каких он когда-либо знавал, Юрий не мог.
То лето было прекрасно и мучительно одновременно. Прекрасно тем, что она была рядом, а он чувствовал, как силы, вновь наперекор скепсису эскулапов, возвращаются к нему. Мучительно – совершенным непониманием, как жить дальше.
– Милая Софья Алексеевна, вы знаете, что вы самое святое, что есть в моей жизни. Знаете мои чувства к вам. Но прошу вас: забудьте меня, выходите замуж за человека, достойного вас и будьте счастливы, – сказал он ей однажды.
А она ответила со свойственной ей простотой и легкостью:
– Я буду принадлежать или вам, или Богу – больше никому. Это я давно решила. А лгать всю жизнь я не хочу…
В монастырь Софьинька не ушла. Она жила надеждой, которую так и не смогла воплотить. Юрий решился было развестись с женой и даже через Виктора навел справки о жизни ее заграницей. Но тут возникло препятствие. Екатерина Афанасьевна, верная своей злобе, ничуть не желала развода. При этом, хотя репутация ее была хорошо известна, но прямых улик против нее не было, ибо Катрин всегда была крайне осторожной. Таким образом, бракоразводное дело, решение в котором надлежало принимать господам из Священного Синода, грозило стать долгим и весьма скандальным. И как с таким пятном потом жить сыну Петру? Хотя проклятые черви сомнения все еще точили сердце Стратонова, но явные воинские задатки, все больше проявлявшиеся в мальчике с годами, его жажда пойти по военной стезе, укрепляли Юрия в вере, что Петруша – его сын. И мог ли он испортить его будущность в обществе, опозорив его мать? Виктор, правда, сулил добыть неопровержимые улики своими методами, но от такого рода «помощи» Стратонов отказался категорически.
Так и не удалось сбросить ненавистные цепи… Софьинька, впрочем, ни разу и не вспомнила о них. Юрий чувствовал, что она, будучи сама столь чиста, пошла бы на преступление, чтобы быть с ним. Но не смел он дойти до подобного бесчестья. А потому вновь пришла разлука, еще более невыносимая для обоих, чем прошлая… Все это время они часто писали друг другу. Из писем Софьи Алексеевны Стратонов знал, что она устроила школу для детей крестьян, и постановила по смерти своей дать вольную всем своим крепостным. Могли ли не любить мужики такую барыню? Могли ли окрестные крестьяне не завидовать им? Вот, и Марфа имя ее по-особенному выговаривает. Знать, в трудах своих кипучих забывается она от тоски, как сам Юрий в походах и боях. Теперь, готовясь отбыть на очередную войну, мог ли он не заехать сюда? Не проститься – кто знает, не навсегда ли?..
За спиной Стратонова раздался легкий шорох.
– А, Марфа, ты… Сейчас я приду, – сказал он, не оборачиваясь.
– Это… я… – послышался робкий ответ.
Юрий резко обернулся и вскочил на ноги.
– Софья Алексеевна! Вы! Здесь! В эту самую минуту, что я думал о вас… – он с жаром поднес к губам ее холодные, несмотря на летнюю пору, руки. – Как вы очутились здесь, дорогая моя Софья Алексеевна?
– Я возвращалась из города. Вы же знаете, там были торжества в честь Наследника… Я никогда почти не бываю на праздниках, но я надеялась увидеть вас… Ведь вы писали мне еще зимой, что Государь желает, чтобы вы сопровождали его Августейшего сына. Вас я не увидела и отправилась домой. А проезжая мимо Клюквинки увидела свет в господской комнате и… – Софьинька на мгновение осеклась. – Разве я могла не увидеть вас, Юрий Александрович?
– Ангел мой, если бы вы знали, что вы значите для меня… – проронил Юрий, чувствуя, как перехватывает дыхание от избытка нахлынувших чувств.
– Я знаю, Юрий Александрович, – ее ясные серые глаза смотрели на него прямо. Они были безмятежны, как осенняя гладь пруда в ее усадьбе, но в глубине своей таили неиссякаемую нежность и неисчерпаемую печаль. Глаза осени… А ведь она так молода еще. Ей нет и тридцати… Но в глазах ее – осень. И виной тому он, Юрий Стратонов.
Софьинька осторожно, с какой-то даже робостью опустилась на край видавшего виды «вольтеровского» кресла.
– Мы… так давно не виделись с вами, Юрий Александрович… Кажется, вечность прошла. Так много изменилось…
Стратонов опустился перед ней на колени и сжал ее руку в своих:
– Так ли уж много? Главное, по-прежнему, неизменно. Мы оба несчастны, и я бесконечно виноват перед вами, что не могу сделать вас счастливой, хотя в этом состоит мой долг.
Ее небольшая, трепетная рука коснулась его волос:
– Вы уезжаете, не так ли?
– Откуда вы узнали?
– Вы бы не приехали иначе… Вы приезжаете или когда отправляетесь на войну, или когда возвращаетесь с нее.
– Верно. Потому что прежде чем отправляться на войну надлежит поклониться святыне, дабы получить благословение и защиту, а по возвращении сделать то же, дабы возблагодарить. Моя святыня вы, Софья Алексеевна. Пусть эти слова звучат почти кощунственно, но Бог, читающий в сердцах, меня не осудит за них.
– Я буду молиться за вас, Юрий Александрович. Всякий день. Всякий час. Всякую минуту. Каждой частичкой моей души. Бог знает, что мне ничего больше не нужно – лишь бы вы были живы и здоровы, и хоть изредка иметь весточку от вас.
– Я буду писать вам всякий день, даю вам слово!
– А я буду хранить ваши письма и перечитывать их по многу раз долгими вечерами…
– Как и я ваши… Знаете ли вы, милая Софья Алексеевна, что письма ваши я помню наизусть, потому что ничто не приносило мне большей радости в последние годы, нежели они?
– Вы… однажды просили меня сделать вам подарок, – промолвила Софьинька. – Я постаралась исполнить ваше желание, – с этими словами она извлекла из маленькой сумочки овальный портрет величиной с ладонь. Свой автопортрет, который так хотелось ему всегда иметь при себе.
– Благодарю вас, Софья Алексеевна, за этот драгоценный для меня дар! Теперь этот портрет всегда будет со мной, у самого сердца… Как только удается вам еще находить время на занятие живописью?
– Вы правы, – Софьинька чуть улыбнулась, – мои кисти все чаще остаются заброшенными… Хозяйство требует неотступных забот. Вот и в школе я подчас преподаю сама. Это, знаете ли, большая радость для меня… Эти дети, их глаза, их жажда знаний…
– Вы в самом деле решили в завещании дать вольную своим крепостным?
– Это завещание написано и непреложно. Я так решила. Мои люди не будут обречены ходить по миру. Их дома, их земля – все будет принадлежать им.
– Вы уверены, что это будет им во благо?
– Уверена. Я не знакома с теориями, Юрий Александрович. Вы знаете, что из книг я читаю лишь поэзию, романы и немного историю. Но я видела деревни, свободные от крепостной зависимости. И они благоустроены не в пример большинству помещичьих. Потому что люди верят в себя и работают на себя. В них нет страха, что барин промотается, или наймет паразита-управляющего, а сам укатит в город или заграницу, что, наконец, продаст их на вывоз, оторвав от ставшего родным дома и земли… Пока я жива, моим мужикам нечего страшится. Ну а случись со мной что? Я с детских лет сжилась с ними. Большая часть их детей мои да сестры-покойницы крестники. Как же я могу оставить их на чью-то волю?
– Вы так молоды, а уже думаете о том, что… – закончить фразу у Стратонова не повернулся язык.
– Мои родители и сестра тоже были не стары. Да и ваши тоже… Все мы ходим под Богом и всегда нужно быть готовыми дать перед ним ответ и за себя, и за тех, кто был поставлен Им на нашем пути, и за тех, кто поручен был нашим заботам. Знаете ли, я недавно взяла в свой дом воспитанницу.
– Вы не писали об этом прежде.
– Это случилось совсем недавно. Она сиротка. Отец ее замерз прошлой зимой, будучи во хмелю, а мать этой весной умерла от горячки. Девочка – моя крестница, я и взяла ее на воспитание.
– Какую же судьбу вы ей готовите?
– Я научу ее всему, что знаю сама, дам приличное воспитание… А дальше – что Бог даст. Мы можем лишь мечтать и надеяться…
Стратонов некоторое время молчал. Конечно, ей, как и всякой женщине, хочется семьи, детей… Но время летит, а женский век скоротечен. И с каждым годом надежды тлеют. И, вот, она ищет хоть какую-то замену – хлопочет о крестьянских детях, берет в дом воспитанницу. Сама она с сестрой заменила некогда семью своей любимой няньке Савельевне. А теперь также пытается заполнить пустоту в своем сердце.
– Вы, кажется, продрогли с дороги? Марфа что-то стряпала, и самовар, должно быть, уже вскипел. Не откажетесь ли вы разделить со мною трапезу?
– Против горячего чая я точно не стану возражать, – согласилась Софьинька.
Марфу, кажется, вовсе не удивило присутствие в доме соседской барыни. С того памятного лета старуха знала, что генерала и ее связывает глубокая сердечная привязанность. Но она не была болтлива и умела хранить тайны хозяев столь же ревностно, сколь и вверенные ей ключи от немногочисленных кладовых и шкапов…
За ужином Софья Алексеевна, по-простонародному с блюдечка прихлебывая чай с земляничным вареньем, неожиданно спросила:
– А что Александр Афанасьевич? Здоров ли?
– Слава Богу, как нельзя лучше, – подтвердил Стратонов.
– Не собирается ли в Клюквинку?
– По крайней мере, мне не приходилось слышать о таком желании. Саша – человек до мозга костей городской. Ему противопоказана деревня. А отчего вы вдруг вспомнили о нем?
– Дела в Клюквинке совсем плохи последнее время.
– Марфа говорила что-то об этом.
– Видите ли, Юрий Александрович, мне больно видеть такое запустение… Еще несколько лет, и от Клюквинки останется лишь воспоминание. Дом разрушится, мужики разбредутся, куда глаза глядят.
– Я и сам это вижу, – вздохнул Юрий. – Но что же я могу поделать?
– Как вы полагаете, Александр Афанасьевич согласился бы продать Клюквинку?
– Продать Клюквинку? – удивился Стратонов. – Но кому же?
– Мне, – коротко ответила Софьинька.
– Вы хотите купить эти развалины? – еще больше поразился генерал.
– Я хочу купить имение, которое еще может возродиться, если повести дело с умом.
– Вы теперь невероятно похожи на вашу сестру!
– Правда… – Софьинька чуть улыбнулась. – В детстве мне казалось, что заниматься хозяйственными заботами прескучно, и не могла представить, что смогу не только научиться этому, но и найти в этом интерес.
– Каков же интерес?
– Мне радостно видеть ухоженные дома и сады, живущих в достатке крестьян. А здешние почерневшие избы, здешний обнищавший и голодный люд, распроданные и варварски порубленные леса…
– Из Саши хозяин никудышный, что и говорить…
– Но согласится ли он продать?
– Почему бы и нет? Клюквинка ему не нужна, она ничего не дает ему, наоборот – приходится платить подать за мужиков, хоть их и немного совсем. До отъезда на Кавказ я еще буду в столице и непременно поговорю с ним.
Софья Алексеевна покинула Клюквинку заполночь. Стратонов верхом сопровождал ее коляску до самого дома. Здесь Софьинька взяла с него слово быть у нее непременно к завтраку. Он приехал теперь лишь на день, и она желала, чтобы хотя бы этот, единственный день был отдан ей безраздельно. Того же желал и он сам. Один день иллюзии счастья, которого не может быть… Что ж, пусть не может, пусть. Но останется этот день, останется то незабываемое лето и все те дни, что были прежде… Софьинька сказала бы: «Слава Богу за них!» У Юрия нет ее смирения, но в эту ночь он все же повторит хотя бы устами вслед за ней: «Слава Богу за них!»
Глава 5.
Когда кибитка пересекла российскую границу, пограничные столбы остались позади, а впереди, насколько хватит взора, раскинулось безлюдное и унылое пространство, гордо величаемое Отечеством, у Михаила Борецкого пренеприятнейшим образом закололо в животе. И что за блажь нашла на Елизавету Кирилловну? Венчаться – непременно в России! Жить своим домом – непременно в России! Чтобы дети росли – в России! Как сама она росла… Прихоть балованной барыньки и только… Ну, ничто, ничто. Против первого пункта не поартачишься, а уж, как обвенчают, другой расклад! Тут уж возьмет он ее в кулак! И ноги его не будет больше в этой паршивой стране, где лишился он всего, где никто его не ждет. Хотя… Это, черт побери, было бы неплохо, чтобы никто. Однако, Борецкий знал, что есть некто ожидающий. Конечно, ничто не мешало мерзавцу попытаться нанести удар и заграницей. Но он почему-то ничем не напомнил о своем существовании… Кто знает, может, его и нет вовсе? И это лишь проклятый призрак, рожденный собственным пораженным страхом воображением? Все же возвращение в Россию поселило в душе князя неясную тревогу. Скорее бы уж обвенчаться и тогда прочь, прочь из этой страны…
А барынька радовалась. Умилялась чахлым березкам и прочим приметам Родины! И в окошко показывала детям, от неумолчной трескотни которых у Михаила сводило скулы. Ведь принужден он был ласково улыбаться этим соплякам! Чтобы их маменька была довольна… Впрочем, улыбки и гостинцы не помогали. Щенки все равно дулись и прятались за подол матери или няньки. На счастье нелюбовь детей к будущему отчиму все же не могла поколебать любви Елизаветы Кирилловны к будущему мужу.
Оно, в сущности, и понятно. Ее, красивую девицу из небогатой дворянской семьи просватали шестнадцати лет от роду за Степана Степановича Мелетьева, человека не родовитого, ибо дворянство получил лишь отец его, купец первой гильдии, но безмерно богатого. В сущности, у Степана Степановича был лишь один недостаток – своей юной супруге он годился в почтенные деды. Впрочем, он был еще большой молодец. В первые же пять лет брака Елизавета Кирилловна родила ему троих детей подряд. Эти частые роды могли бы подорвать здоровье молодой женщины, но случилось наоборот – старик, обретший счастье в столь поздние годы, не рассчитал подаренных природой сил и слег, сраженный внезапным ударом.
Для поправки его здоровья все семейство отправилось заграницу, на воды… Там-то и встретил Михаил Елизавету Кирилловну. Он лишь недавно оправился от раны, полученной на дуэли со Стратоновым, получил отставку и тщетно искал, как поправить свое рухнувшее положение. Его немало выручала игра. Борецкий всегда был удачливым игроком, а потому нищета ему не грозила. Однако, обусловленный одною лишь непостоянной фортуной достаток, коего бы с избытком хватило мелкому дворянчику с ничтожными запросами, но никак не могло хватить князю Борецкому, Михаила не устраивал. Женитьба в таком положении виделась ему единственным средством поправления дел. А барынька Мелетьева была, пожалуй, самым лакомым кусочком. Помимо солидного наследства, она была еще весьма недурна собой, даже обольстительна, как всякая молодая хорошенькая женщина, не испытавшая настоящей любви, но жаждущая и подспудно ищущая ее.
Старику Степану Степановичу, по счастью, воды не помогли, и он довольно скоро оставил Елизавету Кирилловну вдовой. К тому времени Борецкий был уже каждодневным гостем дома Мелетьевых и другом сердца его хозяйки. Правда, барынька держала себя в строгости. Несмотря на почти горячечный жар, который Борецкий подчас видел в ее глазах, когда говорил он ей что-нибудь пылкое, она ни разу не позволила ему «лишнего». Даже вкус губ ее он узнал лишь совсем недавно, когда истек срок траура, и она, наконец, позволила ему объясниться и ответила согласием. Столь долгое воздержание было немалым испытанием для князя. Прежде все публичные дома были к его услугам, но в предвкушенье большого куша приходилось соблюдать осторожность. Такая ханжа, пожалуй, могла бы и отказать ему, донеси ей кто, что он проводит ночи в объятьях куртизанок… Приходилось волей-неволей впервые в жизни держать «строгий пост» и изо всех сил стараться соответствовать наивным грезам Елизаветы Кирилловны. На какие только жертвы не пойдешь ради миллиона!
Когда неделю спустя после окончания траура, она приняла его предложение и позволила поцеловать себя, он почувствовал дрожь ее тела и едва подавил в себе желание сорвать с нее одежду и, наконец, взять ее. Да ведь и сама она жаждала этого мгновения – Борецкий слишком хорошо знал женщин, чтобы не видеть это желание в ее влюбленных глазах. Однако, предрассудки мелкой дворяночки оказались сильнее. Елизавета Кирилловна хотела, чтобы все было честь по чести, поэтому и затеяла это нелепое возвращение в Россию…
Михаил не мог противиться, но уже почти ненавидел будущую жену и за это глупейшее решение, и за всю ее глупость вообще. То же, что Елизавета Кирилловна, глупа и ханжа, было для него давно ясно.
Кроме призрака, чье существование было не доказано, существовала и другая угроза, из-за которой Борецкий боялся возвращения в Россию. Если заграницей мало кто был посвящен в его дела, то в столице таких людей хватало с избытком. Не хватало еще ханжествующей барыньке до свадьбы наслушаться от доброхотов подробностей прежней жизни жениха… Правда, Михаил был убежден, что и в этом случае сможет убедить Елизавету Кирилловну в том, что грехи молодости давно остались в прошлом, что он теперь совсем не тот, что встреча с ней перевернула его жизнь… Она, пожалуй, даже растрогалась бы таким преображением Савла в Павла и полюбила бы его еще больше, как творение рук своих. Уж что-что, а убедить влюбленную женщину в том, что ему нужно, для Михаила никогда не было сколь-либо серьезной задачей. Но все же проверять силу собственного убеждения и глупости невесты прежде времени совсем не хотелось.
А ведь он предлагал ей обвенчаться в Европе! Обвенчаться и приехать в Россию, коли уж она так соскучилась по ней, уже мужем и женой. Нет! Втемяшилась в глупую голову глупейшая идея… И не выбьешь ничем…
Борецкий с едва сдерживаемым раздражением посматривал на счастливое лицо своей спутницы. Он отвечал ласковой улыбкой на ее полные любви взгляды, сжимал и время от времени подносил к губам ее руку, а мысленно представлял себе, как вышколит барыньку после свадьбы. И ее, и степаново отродье, которое вовсе надо будет распределить на воспитание соответственно возрасту каждого, чтобы больше не видеть и не слышать их… Можно, пожалуй, терпеть в доме собственных детей, коих Елизавета Кирилловна ему непременно родит – ведь они будут князьями Борецкими! Но купеческим щенкам в их доме делать нечего. А будет барынька артачиться, так на то и муж, чтоб поучить как следует… После венчания никуда не денется – его воля настанет.
Так твердил себе Михаил, а оставленные позади версты неумолимо приближали его к Петербургу. И чем ближе становилась столица, тем неуютнее чувствовал себя князь. Как ни убеждал он себя в том, что призрак, не напоминавший о себе несколько лет, попросту не существует, но зловещая тень словно нависала над творением Петра грозовой тучей, готовой вот-вот метнуть убийственную молнию…
Глава 6.
– Они только что прибыли в столицу! – этот голос, этот тон, каким сообщена была ожидаемая несколько месяцев весть, эти вдруг потемневшие, почти безумные глаза испугали Эжени. Редко она видела Виктора в состоянии такого лихорадочного возбуждения.
– Теперь решится все! – говорил он, не ходя, а почти мечась по комнате, крутя в руке ни в чем не повинную китайскую статуэтку, машинально схваченную им с полки. – Сколько лет я ждал этого часа! Почти целую жизнь… Жизнь! Жизнь, которую отнял у меня этот мерзавец! Нет такой кары, которая могла бы быть равнозначна тому, что он сделал… Все будет слишком мало, слишком ничтожно! Но пусть хотя бы так… Я уничтожу его, уничтожу… И жалею лишь о том, что не могу уничтожить его сто, двести раз!
Звон разбитого об пол болванчика прервал горячечный монолог Виктора, и он остановился, устремив невидящий взгляд на осколки.
– Как и эту несчастную стекляшку можно уничтожить лишь однажды…
– Друг мой, вы меня пугаете. Здоровы ли вы? – с беспокойством спросила Эжени.
– К сожалению, да… – проронил Виктор, раскуривая трубку. – Не бойтесь, моя дорогая, я еще не окончательно сошел с ума. Просто я слишком долго ждал, когда этот негодяй вернется…
Они и впрямь ждали долго. Конечно, Виктор мог бы довершить свою месть и за пределами России, но это нарушило бы его план. А во имя точного исполнения намеченного он готов был жертвовать годами, но ни в коем случае не нарушить изящно сложенной в его изощренном мозгу комбинации.
Виктор истратил огромные деньги, изъездил пол-России, чтобы узнать о своем враге все, что было возможно и даже более того. В сущности, все собранные им сведения были ничем иным, как списком преступлений и гнусностей. Будто князь Михаил и впрямь не человек был, а исчадие ада… Как странно, однако. Ведь человек этот был храбр, и на войне проявил себя отчаянным рубакой. Кажется, годы нашествия двунадесяти языц были единственным светлым пятном в его биографии. Никто не мог укорить Борецкого недостойным поведением на поле брани. Свои ордена он заслужил честно. Отчего же в мирной жизни человек этот превращался в сущего дьявола, главной забавой для которого стало разрушение чужих жизней?
Будучи в Пензе, где когда-то стоял полк князя Михаила, Виктор узнал печальную историю помещика Михайлы Антоновича Разуваева, у которого некий мерзавец похитил невесту накануне венчания. Не стоило труда выяснить имя столь скверным образом отличившегося офицера. Выяснив же его, Виктор срочно вызвал в Пензу Эжени. Вдвоем, под видом супружеской пары, желающей приобрести имение в этих краях, они нанесли визит Разуваеву…
Михайло Антонович так и жил бирюком, не бывая в свете и почти не знаясь с соседями. При этом оказался он человеком весьма открытым и добродушным. Только в глазах его навсегда поселилась какая-то безысходная скорбь. Гостей, столь редко бывающих под его кровом, он принял, как нельзя лучше, любезно показав свои земли, рассказав об особенностях здешнего хозяйства и угостив наславу прекрасным обедом. Эжени поразило, что этот брошенный и опозоренный жених, не стесняясь, держит в гостиной большой портрет своей сбежавшей невесты. То, что девушка, изображенная на портрете, именно Анна Лесникова, она угадала по тем взглядам, которые Разуваев изредка обращал к ней.
Виктор же напрямую полюбопытствовал, что за красавицу запечатлел на холсте неведомый мастер. Михайло Антонович печально вздохнул:
– Если вы не первый день в наших краях, то, вероятно, уже знаете мою невеселую историю… О, не смущайтесь! Люди живут сплетнями, вы не виноваты, что они дошли до ваших ушей.
– Простите, но неужели этот портрет не причиняет вам боли? – спросила Эжени.
– Мне причиняет боль то, что я ничего не знаю об оригинале, – ответил Разуваев. – За эти годы я потратил немало денег на ее поиски. Поверьте, я нанимал отменных ищеек, которые искали ее повсюду. Но увы! Никто ничего не знает о судьбе моей Аннушки, даже того, жива ли она еще… Но я и теперь не прекратил поиски. Я буду искать ее, пока жив.
– Но для чего? – подал голос Виктор.
– А вы не понимаете? – в грубоватом мужицком лице вдруг проступило что-то детское. – Я люблю мою Аннушку. Люблю, как и тогда. Я знаю, что тот человек бросил ее, сделал несчастной… Я хочу спасти ее, вернуть, хочу… чтобы она была счастлива. Только и всего.
– Неужели вы смогли простить ее? – изумилась Эжени.
– За что?! – горячо воскликнул Михайло Антонович. – За то, что она была еще ребенком, не знавшим жизни и людей, а потому доверилась негодяю? Она невинна, поверьте. А виноват больше всех я. Я видел, что с ней происходит неладное, но не желал замечать. Я смотрел на нее, как на балованное дитя… А нужно было просто понять, вовремя протянуть руку и удержать. Я, который был много старше ее и обязан был ее оберегать, тешился глупыми грезами, когда она безвозвратно гибла у меня на глазах… Не преступник ли я после этого? Еще какой преступник! Хуже этого князя…
Из откровенного разговора с Разуваевым Виктор вынес о нем превратное впечатление.
– Это не мужчина, а черт знает что такое, – заключил он, едва сев в карету. – Рохля! Кисель на воде! Растепель! Неудивительно, что молоденькая дурочка сбежала от такого с первым встречным проходимцем с пышными усами и баками…
– Вы не правы, мой друг, – покачала головой Эжени. – Михайло Антонович – чудесный человек. Светлый и чистый. И он по-настоящему любит Анну. Такую любовь редко встретить можно…
– И слава Богу! – желчно отозвался Виктор. – Любит? Так нужно было убить мерзавца или погибнуть самому! Вырвать свою женщину из его рук! Увезти за тридевять земель, если нужно! А что сделал он? Лил горькие слезы перед подлецом и предательницей на виду у всего общества? Хорош, нечего сказать!
– Вы стали слишком зло судить о людях, – покачала головой Эжени. – Ведь он ищет ее столько лет…
– Плохо ищет! Искал бы хорошо – давно бы нашел!
– Вы так уверены?
– Через полгода. Через год максимум вы увидите эту женщину, если только она жива. Думаю, участь ее сложилась самым дурным и естественным образом для женщин, вставших на подобный путь…
Через полгода Виктор уже знал о тайном браке князя Михаила. Разговорить старуху-попадью помогла ему Эжени, употребившая для этого все данные ей природой способности. Венчание Борецкого с Аннушкой поразило ее.
– Зачем же он венчался с нею? – недоумевала она. – Ведь он мог просто потешиться ею и бросить! К чему связывать себя узами? Что это – внезапный приступ благородства?
– Бог с вами, – отмахнулся Виктор. – Борецкий и благородство несовместимы, как вода и масло. Я, знаете ли, знавал одного премерзкого типа, который потехи ради принимал причастие, будучи с похмелья, а затем изблевывал его. Растоптать святыню, надругаться над таинством – в этом же тоже есть особое удовольствие для определенного рода людей! Обвенчавшись с Анной Дмитриевной и запретив оглашать этот брак, оставшись для всего мира свободным и живя в соответствии с тем, он именно надругался над таинством венчания. А теперь собирается повторить это вдругорядь, но уж с выгодой для себя, а не из-за озорства.
Узнав о тесной дружбе Михаила Борецкого и Елизаветы Мелетьевой, Виктор не находил себе места. Ведь успей эта свадьба состояться, и князь вновь обрел бы состояние, все многолетние труды пошли бы прахом! Виктор был готов на все, чтобы не допустить этого. И Анна Дмитриевна должна была стать беспроигрышным козырем в его игре.
Ровно через год после поездки в Пензу никому не ведомая княгиня Борецкая и ее дочь, предстали перед Эжени в Петербурге. Виктор ошибся лишь в одном. Анна Дмитриевна не скатилась по наклонной плоскости, как он прочил о ней, и Эжени увидела перед собой женщину удрученную и прежде времени состаренную заботами, много выстрадавшую, бедную, но не падшую, сохранившую достоинство и все еще красивую.
Для нее и Катюши Виктор нанял квартиру неподалеку от собственной. Мать и дочь сразу получили приличный гардероб и горничную в услужение. К девочке стали ходить учителя, чьей задачей было сделать из дикарки барышню, достойную приличного общества. Попечение об Анне Дмитриевне и Катюше было возложено на Эжени, которая теперь всякий день навещала их.
И, вот, возвратился князь, чего так боялась бедная Аннушка, страдавшая от одной мысли, что ей придется вновь увидеть его и свидетельствовать против него.
– Что вы теперь будете делать? – спросила Эжени немного остывшего Виктора.
– Дадим нашим птичкам расправить перышки… – с недоброй усмешкой отозвался он. – Пусть объявят о своей помолвке, назначат день свадьбы, а накануне все узнают, что князь женат. Для него это будет окончательная погибель!
– А для несчастной Елизаветы Кирилловны? Друг мой, ведь вы накажете и ее! Накажете без вины! Лучше было бы сделать так, как хотела Анна Дмитриевна. Открыться Мелетьевой, чтобы она разорвала помолвку и…
– И этот выродок вновь вышел сухим из воды! – в бешенстве воскликнул Виктор, вскочив со стула. – Нет, моя милая Эжени, этого не будет! В этот раз я утоплю его раз и навсегда, чего бы мне это не стоило!
– Даже несчастья невинных?
– Довольно! Мне нет дела до счастья или несчастья недалекой вдовушки, позволившей окрутить себя нищему негодяю только потому, что он до сих пор хорош собой и тем выгодно контрастирует с ее покойным стариком! Ничего с ней не сделается! Уедет опять заграницу и найдет другого претендента на свои миллионы! Недостатка в них не будет!
Эжени смотрела на бушующего Виктора со смесью страха и жалости. Месть, даже самая справедливая – суть душевная болезнь, и когда она владеет человеком столько лет, то начинает разрушать его, сближая с теми, кому он мстит. Вот теперь он готов был без жалости топтать чужие судьбы ради своей цели, подобно тому, как топтали их Борецкие. И никто и ничто не способно остановить его, ибо кроме мести он не видит и не желает видеть ничего. Он слишком долго шел к ней, вынашивая, шлифуя ее план, чтобы отступить от него во имя чьего-то счастья…
– Что же станет с Анной и Катюшей?
– Они также покинут Россию и ни в чем не будут нуждаться. Я дал слово этой женщине, а свои слова я держу, как вам известно.
– Почему бы вам было сперва не сообщить Михайле Антоновичу, что вы нашли ее? Я много говорила с ней в эти месяцы, она вспоминает о нем с большой теплотой и горько раскаивается в том зле, которое ему причинила. Что если они смогли бы соединиться теперь? Что если для них еще возможно счастье?
– Эжени! – Виктор поморщился. – Такое чувство, что вы стали читать сентиментальные романы, популярные у девиц во времена юности вашей любезной подопечной. Какое счастье может быть у этих двоих? Ни он, ни она не заслужили его. Его может заслужить Китти, если не оступится. Я со своей стороны буду ей помогать. О прочих же глупостях я не желаю слышать!
– Вы стали слишком жестоки…
– И вы мне говорите это после того, как я взял на себя труд съездить в Тифлис, дабы устроить судьбу двух, говоря вашим патетическим слогом, любящих сердец!
– Я лишь хотела сказать, что вы слишком часто стали решать за других их будущее, сообразуясь лишь с собственными понятиями о справедливости и нисколько не беспокоясь об их чувствах и желаниях.
– А я не обязан беспокоиться о чьих-то чувствах и желаниях, – холодно отозвался Виктор. – Я делаю лишь то, что считаю нужным. От прочего прошу меня уволить. И вам, Эжени, я не советую слишком распыляться на чужие счастья и несчастья.
– Простите, но уж не собираетесь ли вы и меня окончательно превратить в свою вещь и распоряжаться даже моими чувствами?
Виктор смягчился и, взяв Эжени за руку, ответил:
– Ни в коей мере. Вы моя драгоценная спутница и добрый гений. Не думайте, что я забыл об этом. В целом мире у меня никого нет, кроме вас, вы это знаете. Простите, если теперь был резок с вами. Вы, должно быть правы, у меня небольшой жар, я позволил ненависти слишком распалить меня… Однако, уже четверть шестого. Я поднимусь к Маше и побуду немного с нею. Как она нынче?
– Новых приступов, слава Богу, не было.
Виктор кивнул и, еще раз извинившись, поднялся к Маше.
Эжени понимала, что к несчастной помешанной он идет теперь, чтобы в очередной раз напитать от нее свою ненависть, утвердиться в своей роли карающего меча – пусть даже секущего неповинные головы вместе с виновными. Его правда, его справедливость, смысл его жизни был заключен в Маше. И эту страшную, больную связь также никто и ничто не могло разорвать…
Недолго думая, Эжени поднялась в свою комнату и, заперев дверь, достала из бюро перо и бумагу. Если он делает лишь то, что должен, то сделает то, что должна, и она… Через несколько мгновений на белом листе появились первые строки, написанные безукоризненным, хотя и быстрым почерком:
«Милостивый государь, Михайло Антонович!
Зная, что Вы уже много лет разыскиваете одну особу, полагаю своим долгом сообщить Вам, что оная ныне находится в Петербурге, но в скором будущем должна покинуть Россию. Не тревожьтесь, она благополучна, сколь можно быть благополучной в ее положении. Вам, должно быть, отрадно будет знать, что, несмотря на выпавший на ее долю позор, она сумела вынести все испытания достойно и, кроме той давней ошибки упрекнуть ее вовсе нечем, ибо она строга и блюдет себя, несмотря на крайнюю бедность, в которой жила до последнего времени, когда мы с нею встретились.
Князь Михаил показал себя в этой несчастной истории не таким вероломным обманщиком, каким мог бы показать. Хоть и тайно, но он обвенчался с Анной Дмитриевной, и их дочь родилась законной княжной Борецкой. Правда, с тех пор князь не вспоминал о существовании жены и ребенка, и Анна Дмитриевна мужественно боролась со всеми невзгодами одна, тяжелым, но честным трудом зарабатывая на жизнь себе и дочери.
Она до сих пор не может простить себя за ту ужасную обиду, которую причинила Вам, и без преувеличения обличает себя за этот грех всякий день, вспоминая о Вас, как о лучшем человеке, какого она когда-либо знала. Она не хотела, чтобы Вы нашли ее, считая себя недостойной вашего прощения. Не знает она и о моем письме, которое, уверена, не позволила бы мне написать. Но я помню ее портрет в Вашей гостиной, Ваши слова о ней, слезы в Ваших глазах, и не смею утаить от вас местонахождение той, что Вы так горячо и преданно любите. Воля Ваша отныне, как поступить с моим письмом. Но я сделала то, что была должна…»
Глава 7.
Если в чем и схож был Государь со своим покойным венценосным братом, так это в пристрастии к путешествиям. Правда, если Александр больше ездил по Европе, озабоченный делами Священного Союза, то Николай вдоль и поперек исколесил Россию. Часто ездил он вовсе без конвоя, под видом простого путешественника с соответствующей подорожной на иное имя. Особенно часто проезжая из Петербурга к прусской границе, Император знал по именам и в лицо и станционных смотрителей, и ямщиков, что возили его. С некоторыми дорогой вел он задушевные беседы, и коли мужики были не робкого десятка, то рубили Царю правду-матку без страха и стеснения, чего, собственно, и добивался венценосный седок.
Однажды заметив, что старый ямщик-поляк Ян отчего-то угрюм и молчалив, Николай спросил его о причине его огорчения. Старик сперва помялся, но, видя ласковое обхождение, объявил, что Государь сделался скуп: если прежде кучерам за царский проезд отпускали по червонцу, то ныне – всего лишь рубль. Император удивился и велел немедленно разобраться, в чем дело. Выяснилось, что деньги, выдаваемые «на чай» ямщикам, бессовестно прикарманивал себе старший камердинер, пользовавшийся большим доверием Николая. Когда виновник бросился перед ним на колени, разгневанный Государь оттолкнул его ногой и, обругав непечатным словом, велел тотчас сослать в Сибирь.
Император желал иметь представление о том, что на самом деле происходит в его стране, чем живут ее люди. Он прекрасно сознавал, что чиновники никогда не представят ему истинной картины положения дел, а потому доверял лишь своим глазам, которых, увы, не хватало на все неизмеримое русское пространство…
Дорога сводила Государя с самыми разными людьми, делившимися с ним своими нуждами и печалями, как с простым смертным. Немало выходило курьезов из этого, но они весьма веселили его.
Чаще всего сопровождали Николая в таких странствиях Бенкендорф и Орлов. А на сей раз Никите Васильевичу это счастье выпало. Правда, счастье это куда как знатно бокам отдавалось… Не привык Никольский к таким поездкам, к многодневной тряске по российским ухабам в коляске. Так и ломало все тело! А Государь посмеивался:
– Что, Никита Васильевич, не по душе тебе, смотрю, кочевая жизнь?
– Не гневитесь, Ваше Величество. Таков уж я домосед и кабинетный работник… И дороги наши прямо ужасны!
– Не греши на наши дороги, – рассмеялся Николай. – В Германии мы с Александром Христофоровичем едва не убились, когда наша коляска перевернулась на тамошних ухабах. А ведь о немцах ходит слава, будто они не в пример нам аккуратны! Много у нас знатоков-то, которые любят твердить, будто бы в Европе благолепие, а мы до сих пор щи лаптем хлебаем… Пожалуй, даже если шею там свернут, так все одно скажут, что порядок там, не то, что у нас. А здесь хоть шишку набьют, крик поднимут – все-то плохо у нас и не так…
– Трудностей и неурядиц хватает везде, – отозвался Никольский, не став напоминать Императору, что, несмотря на скверну дорог немецких, ключицу в прошлом году он сломал именно на Родине – по дороге из Пензы в Тамбов перевернулась его коляска. – Но Россия шаг за шагом преодолевает их. Когда я читаю наших писателей и поэтов, внимаю нашим музыкантам и актерам, я понимаю, что и для нас настал золотой век. Помилуй Бог! Еще в годы моей юности мы принуждены были удовольствоваться переводами да наследием древних. Великий народ практически не имел своего голоса… А теперь?
– Теперь этот голос звучит свободно и сильно, как у певцов нашего дорогого Глинки. Да, кое-чего удалось нам достигнуть за эти двенадцать лет. Но сколько еще впереди!..
В последних словах Государя Никольский расслышал нотку усталости. Необъятные задачи стояли перед Россией, и великая кладь ложилась на плечи того, кто призван был разрешать их. Тем труднее это было, что в огромной стране невозможно оказывалось найти необходимого числа способных и честных людей… Необходимые стране преобразования тормозились, ибо закосневшая бюрократия сознательно противилась им. Но когда бы дело ограничивалось лишь косностью, то было бы полбеды. Беда же настоящая была в бесчестии. Люди, получавшие те или иные должности, не стыдились использовать их к своей личной выгоде, и никакие ревизоры не могли справиться с этой поразившей все и вся заразой.
Год тому назад Государь дозволил Гоголю представить свою пьесу «Ревизор» на сцене Александринского театра. Воистину трудно было написать более острую и злободневную вещь! Никольский был не большой охотник до театров, отдавая предпочтение хорошей книге, но тут аплодировал автору, как безумный. А многие в публике негодовали, как это можно подобное писать и ставить, и ругали автора клеветником. Казалось, что изрядную часть публики составили прототипы пьесы, узнавшие себя и жутко от того рассердившиеся.
И впрямь – гоголевской сатире могли аплодировать лишь люди незапятнанные, и в этом смысле «Ревизор» стал своеобразным лакмусом. Император на премьере и аплодировал: это одно, пожалуй, и не позволило живым «сквозникам» и прочим «ляпкиным-тяпкиным» сжить со свету своего обличителя.
– Сначала я никак не мог вразумить себя, чтобы можно было хвалить кого-нибудь за честность, и меня всегда взрывало, когда ставилось это кому в заслугу, но после пришлось поневоле свыкнуться с этой мыслью. Горько думать, что у нас бывает еще противное, когда я и все мы употребляем столько усилий, чтобы искоренить это зло, – так говорил монарх-рыцарь на двенадцатый год своего правления.
Все же, несмотря на все сопротивление системы, на нечистоплотность многих и многих исполнителей, Россия преображалась на глазах. Три года назад была проложена первая в мире паровая железная дорога на Нижне-Тагильском заводе, а ныне вот-вот должна была открыться железная дорога между столицей и Царским селом. Есть ли страна, которой железные дороги были бы потребны больше, чем России с ее необъятностью? Настанет время, и вся она будет пересечена ими, и больше не придется трястись в колясках, каретах и дилижансах, чтобы попасть из одной губернии в другую… Упорядочивалась и правовая система государства, строго регламентируя права и обязанности различных сословий и племен. Так, кочевники Восточной Сибири впервые получили Свод степных законов, для работы же с законами финляндскими учрежден был специальный Кодификационный комитет. Завершалась подготовка Полицейского и Судебного сельских уставов. К этому добавилась реформа местного самоуправления и небывалое прежде развитие образовательных учреждений. Вот и Училище правоведения создали, чтобы обеспечить страну людьми, знающими и понимающими законы.
А сколько домов и институтов сиротских открыли! В Керчи, Астрахани, Белостоке, Варшаве… А ныне ехали открывать Киевский… Киев вообще был обласкан Государем пуще многих иных городов. Еще с юности он питал симпатию к малороссийскому краю. Будучи Великим Князем, навещал Котляревского, чью «Энеиду» высоко ценил. Если Петербург каждый год обретал новые прекрасные постройки, меняясь на глазах и приобретая, наконец, законченный вид европейской столицы, то Киев явно поспешал догнать его. За несколько лет он обрел Университет, названный именем Святого Владимира, Институт благородных девиц, Киевскую крепость и первый мост через Днепр. Да что говорить! Когда Никольский в первый раз приехал в древнерусскую столицу, то по центру ее протекал ручей, впадавший в болото, ничуть не красившее центр города. Теперь вместо ручья пролегла широкая и ровная улица Крещатик, а болото заменила площадь.
Император отчего-то весьма любил Киев и часто бывал здесь. Он был явно доволен, видя как по манию его руки древняя столица, столь незаслуженно забытая, обретает достойный себя вид. Когда коляска катила по Крещатику, Государь внимательно смотрел по сторонам, придирчиво оценивая, как выполняются его поручения. Подробный осмотр объектов предстоял ему лишь завтра. Николай всегда питал особенную тягу к инженерному и архитектурному делу. Он весьма хорошо разбирался в оном, а потому никогда не ограничивался поверхностным осмотром возводимых сооружений, но входил во все технические подробности производимых работ, замечая недочеты и упущения. Несмотря на усталость, он был оживлен. Как мастер радуется плодам своих трудов, так правитель радуется плодам своей воли.
– Киев будет вовеки благодарен вам, Ваше Величество, – сказал Никита Васильевич, когда они проезжали мимо черно-красного под цвет орденской владимирской ленты Университета.
Николай промолчал. Его мысли были уже далеко отсюда. Может быть, в грозном краю, куда собирался он отправиться после Киева? Если для Никольского сей утомительный вояж завершался в древнерусской столице, откуда он должен был в одиночестве возвратиться в Петербург, то Государя ожидал Кавказ, куда вперед уже был направлен Стратонов. Никите же Васильевичу в краю необузданных горцев делать было решительно нечего.
Когда императорская коляска уже направлялась к дому генерал-губернатора, где Государь имел обыкновение останавливаться, скромно занимая одну из комнат, лошади вдруг испугались и резко рванулись вбок. Кучер едва смог удержать их. Животные испугались белого листа бумаги, которым махала стоявшая на мостовой женщина. Дама была прилично одета, но лицо ее искажало истинное отчаяние.
– Ишь ты! Лошадей перепугала – чуть беды не вышло! Погнать бы ее, Ваше Величество! – сердито заворчал кучер.
– Не нужно никого прогонять, – отозвался Николай и знаком велел просительнице подойти.
Дама, содрогаясь от рыданий, подошла и, присев в реверансе, подала Императору прошение. Тот начал читать, и лицо его сразу изменилось. Оно словно бы почернело, и Государь вдруг резким движением возвратил просительнице бумагу, жестко, почти зло отрезав:
– Ни прощения, ни даже смягчения наказания вашему мужу я дать не могу! – не дожидаясь реакции убитой горем женщины, он крикнул кучеру: – Пошел!
– О ком просила эта женщина, Ваше Величество? – осторожно спросил Никольский, заметив, что от волнения у Императора задрожали руки.
– Это все… друзья по четырнадцатому… – отозвался Николай. Он быстро провел затянутой в белую перчатку ладонью по глазам, и, хотя Никита Васильевич не мог видеть их, почти скрытых козырьком фуражки, но готов был поклясться, что в них стояли слезы.
– Ваше Величество, с вами все хорошо? – встревожился он. – Чем так взволновала вас просьба этой несчастной?
– Ты решительно ничего не понимаешь, Никольский, – со вздохом покачал головой Государь. – Впрочем, ты не был в моей шкуре, а потому не можешь знать, как ужасно не сметь прощать!
– Помилуйте, Ваше Величество, эти люди преступники…
– Вот именно! Если бы они злоумышляли лишь против меня лично, против меня, как человека, чем-то не угодившего им, видит Бог, я простил бы их всех. Но они злоумышляли на Россию! А этого я не имею права прощать, доколе я ее Царь и ее сын… А не иметь права прощать очень тяжело, Никольский.
Эти слова глубоко поразили Никиту Васильевича. Пожалуй, и впрямь этого невозможно понять вполне, не пережив собственным сердцем. Не понять, как разрывается надвое христианская, справедливая и добрая душа, жаждущая прощать, ибо христианину прощение особенно радостно, но не имеющая права на прощение, ибо долг Царя – карать виновных, дабы защитить свое царство, свой народ от злодейских посягновений. И как ни силился Никольский, а не мог вообразить себе той душевной муки, какую приговорен был нести венценосный рыцарь невидимо для сторонних очей.
Глава 8.
Дикие и необузданные племена, для которых набеги являются образом жизни, своеобразным ремеслом, покорить непросто. Однако, чтобы не допускать от них значительного разора, вполне довольно хорошей приграничной стражи и проводимых время от времени карательных экспедиций, принуждающих разбойников считаться с силою.
Беда, однако, если разбойники обретают идею. Разрозненные племенные шайки спаиваются ею в одно целое, и это целое помышляет уже в первую очередь не о грабежах, но о великой цели, во имя которой не только не жаль, но и почетно отдать жизнь, ибо жертва сия будет иметь величайшую из возможных наград.
Еще по возвращении Стратонова с Турецкой войны, его друг Половцев-Курский с тревогой говорил ему, что на Кавказе зарождается опаснейшая сила, которую надлежит задавить в зародыше, иначе позже понадобятся реки крови, чтобы потушить зажженное ею пламя. О том же Виктор, поразительно хорошо знавший восток, лично докладывал Государю. Однако, упокоенный лаврами Персидской кампании князь Паскевич не отнесся с должным вниманием к надвигающейся угрозе, а вскоре и вовсе покинул Кавказ, будучи переброшен на польский фронт.
Среди множества иных забот и угроз была упущена одна из наиболее, быть может, значительных. Имя этой угрозе было мюридизм. Внук ученого Исмаила из селения Гимры, Кази-Магомед, отличавшийся большой набожностью и редкими способностями к учению, принес новое учение на Кавказ. Невероятному успеху оного способствовала сама личность Кази-Муллы, обладавшего великим даром обращения людей в свою веру.
Мюридизм по сути ничем не отличался от магометанства и лишь желал соблюдения его законов во всей чистоте и полноте. Мюрид (в переводе ученик или идущий ко спасению) веровал, что Магомед воздвигает из народа пророков, сохраняющих учение в чистоте, и этим избранникам надлежит повиноваться всем правоверным. На Кавказе и прежде являлись «пророки», умевшие потрясти и увлечь экзальтированную толпу. Однако, то были шарлатаны, искавшие своей славы, власти и выгоды. Кази-Мулла ничего не искал для себя. Он любил уединение и был склонен к созерцанию, во время которого затыкал уши воском, дабы не рассеиваться. Это был искренний фанатик своей веры, именно поэтому его влияние на души горцев оказалось столь велико.
Мюридизм сперва охватил Дагестан, а следом Чечню, а оттуда начал распространяться по всему Кавказу. Магометанство требует борьбы с неверными, и идущие ко спасению не желали терпеть на своих землях владычества гяуров. Так, кавказская война, дотоле носившая характер локальных восстаний, стычек и набегов, сделалась воистину народной и религиозной.
Авторитет Кази-Магомеда на первых порах укрепила и военная удача. Он захватил Аварское ханство и совершил ряд успешных набегов на русскую границу. Это вынудило русское командование снарядить экспедицию в Чечню, дабы показать на чеченцах пример всему Кавказу.
По велению Кази-Муллы три тысячи чеченцев и присланные им в помощь восемьсот конных лезгин затворились в укрепленном ауле Герменчуг, где и были окружены войсками генерала Вельяминова. Силы были неравными. Вельяминов приказал поджечь село. Когда сакли загорелись, оборонявшимся горцам было предложено сдаться, но они отказались, прося русское командование лишь об одной посмертной милости: дать знать их семействам, что они умерли, не покорившись власти неверных. Чеченцы оказались верны своему слову. Все они погибли в огне, принеся себя в жертву священному делу Газавата. Лишь шестеро раненых лезгин чудом уцелели в тот страшный день…
Военное счастье изменило Кази-Магомеду. Вскоре сам он был окружен войсками генерала Розена в родном селении Гимры. Кази-Мулла сражался до последнего вздоха, затворившись в башне с пятнадцатью верными мюридами. Когда большинство учеников пали, он попытался вырваться из окружения с несколькими уцелевшими, но был убит. Тело его после смерти приняло положение молящегося: одна рука лежала на бороде, другая указывала в небо…
Одному из находившихся при Кази-Магомеде до самой его гибели мюридов в тот день непостижимым чудом удалось вырваться из западни. Он был весь изранен сам и изрубил многих русских солдат, но сумел добраться до своих и выжил. Теперь имя этого героя знали даже за пределами Кавказа.
Имам Шамиль был, кажется, еще более неординарной личностью, чем его наставник. Человек острого ума и обширных знаний, львиной отваги и геркулесовой силы, величайшей набожности и немалых политических способностей, он был без сомнения прирожденным вождем. В бою никто не мог одержать над ним верх. Его сила сочеталась с невероятной гибкостью. Говорили, что он мог перепрыгнуть через веревку, которую держали на вытянутых руках двое горцев выше его ростом. Также имам был исключительно талантливым фехтовальщиком.
Несмотря на большую амбициозность и властолюбие, Шамиль после гибели наставника смиренно покорялся избранному имамом Гамзат-беку, не пришедшему на выручку Кази-Мулле в роковой день. Вероломный убийца аварских ханов, он и сам вскоре был убит заговорщиками, во главе которых стоял брат ближайшего сподвижника Шамиля Хаджи-Мурата Осман-Гаджиев…
Заняв, наконец, достойное его место имама, Шамиль энергично взялся за наведение порядка на подконтрольной ему территории. Он строго требовал исполнения законов шариата, некоторые пункты которого, впрочем, изменил, сообразуясь с требованиями времени. Кроме того им был издан собственный кодекс для «низов», немало способствовавший водворению общих правовых норм в среде дотоле дикого народа. Шамиль впервые установил чины, ордена и знаки отличия для своих воинов, организовал верховный совет из известных своею ученостью людей, ставший высшим административным учреждением в его крае. Этот молодой имам был уже не просто военным вождем и религиозным лидером, но государственным деятелем, желавшим построить свое государство правоверных, государство, основанное на заветах, оставленных Пророком.
Его религиозный фанатизм был куда меньше его политических дарований. Фанатик никогда бы не позволил бежавшим в горы русским староверам строить там свои часовни, поддерживать древние храмы и свободно отправлять богослужение. Шамиль позволил, и в окрестностях Веденя возникло несколько раскольничьих скитов, с которых имам не требовал никаких податей.
С таким-то неприятелем предстояло вести переговоры генералу Стратонову. Ко времени прибытия Юрия на Кавказ имам уже укрепил свои силы и обратил свои взоры на сопредельные территории. Главное внимание он сосредоточил на обществе Койсубу, откуда можно было совершать нападения во все стороны: на Шамхальские и Мехтулинские владения, на Аварию и русские сообщения с Хунзахом. На правом берегу Андийского Койсу Шамиль устроил опорный пункт, служивший одновременно и верным убежищем на случай неудачи. Это была укрепленная скала, названная имамом «Ахульго».
У русского командования был шанс пленить Шамиля. Тот попал в окружение в селении Телетле. Сил защищаться у него не было, и один решительный шаг со стороны русских мог решить все, но генерал Фези благополучно провалил это дело, склонившись на предложенный Шамилем через Мирзу-хана Аварского мир. Имам изъявил покорность Государю, обещал прекратить враждебные действия и выдал аманатов. Фези оказалось этого вполне достаточно, чтобы возвратиться восвояси…
Что стоит для правоверного слово, данное гяуру? Как может он всерьез отказаться от враждебных действий, если священный для него закон, данный Пророком, предписывает ему газават? Нужно было вовсе не понимать психологию этой новой войны, чтобы помышлять, что с мюридами можно заключить сколь-либо прочный мир…
Теперь, когда сам Император вознамерился посетить Закавказский край, было решено предложить Шамилю воспользоваться этим случаем, дабы лично прибыть в Тифлис, изъявить верноподданнические чувства и испросить прощения за совершенные проступки. С этим предложением и направлялся Стратонов в Дагестан, заранее предчувствуя, что поездка эта не увенчается успехом.
В отряде, сопровождавшем его, был и брат Константин, чья часть стояла как раз в Северном Дагестане. Юрий давно не видел брата и рад был найти его в полном здравии. Еще отраднее было видеть, что он наконец-то счастлив. Стратонов, разумеется, знал о новом «фокусе» своего друга Виктора, благодаря которому Константин был теперь законным мужем княжны Лауры. После венчания она ненадолго вернулась в столицу, дабы испросить прощения у Императрицы, проститься с нею и теми немногими, кто успел стать ей дорог за годы, проведенные при дворе. Ныне же Лаура жила в родительском доме, ожидая возвращения мужа из очередного похода.
– Когда я выйду в отставку, мы уедем, – делился планами Константин. – Обоснуемся в Москве! Ах, Юра, кабы ты мог знать, как я по Москве стосковался! Снится она мне, брат, как жиду обетованная земля! Каждый закоулок, каждый дом, каждую выбоину на мостовой до дрожи вспоминаю!
– А княжна согласна ли? Не хочется ли ей остаться здесь, в родных краях? – спросил Юрий.
– В Тифлис мы будем приезжать, гостить, – откликнулся Константин. – Хотя… родители Лауры мне вряд ли будут рады.
– Они тебя плохо принимают?
Брат усмехнулся:
– Они соблюдают предписанный этикет, но скрыть неприязни не могут. Кто я для них? Всего тошнее, что их теперь отчасти примиряет со мной приданное, которое дал за Лаурой твой приятель… Противно, черт побери, что он за меня платит! И все одно я для них все что баран какой, которого по какой-то чудовищной прихоти вдруг усадили за их обеденный стол. И ведь, если рассудить, с чего им так заноситься? Они же совершенно разорены… До того, что хотели продать единственную дочь старику! Титул грузинских князей и только…
– Мы, конечно, не князья. Но мы русские дворяне, многие поколения которых верой и правдой служили России на ратном поле, ничем себя не запятнав. И твоей новой родне следовало бы с этим считаться.
– Они станут считаться с тобой, когда увидят тебя в Тифлисе в свите Императора. Кстати, ты обязательно нанеси визит Лауре, когда вернешься!
– Разумеется. Разве я могу не наведать невестку? Ты, небось, хочешь, чтобы я там блеснул, как на параде? – лукаво улыбнулся Юрий.
– И это тоже, – не стал отнекиваться Константин. – Свинство, конечно, за неимением собственных регалий прикрываться заслугами брата…
– Глупо задаваться целью добыть регалии, чтобы доказать что-то твоему тестю.
– Причем здесь он? Я думаю лишь о счастье Лауры!
– А она была бы счастлива, если бы ты был теперь с нею и перестал лезть под пули.
– Ты ли мне говоришь это? – удивился Константин. – Ты, всю жизнь проведший в сражениях, отговариваешь меня от службы?
– Человек, мечтающий о тихой семейной жизни в тихой Москве и имеющий для того прекрасную жену, должен заняться воплощением этой мечты.
– Помилуй Бог! Неужели ты сам не мечтаешь о чем-либо подобном?
Юрий поморщился:
– Мои мечты к делу отношения не имеют…
– Прости, если сболтнул что-то не то. Я, наверное…
– Оставь, – махнул рукой Стратонов. – Расскажи-ка мне лучше про Шамиля.
Константин пожал плечами:
– Да уж ты все сам о нем знаешь… Фези, конечно, настоящий болван, что выпустил его. Нужно было сжечь тот аул, как в свое время сделал Вельяминов, и…
– И на освободившееся место пришел бы другой Шамиль. Мюридизм, Костя, нельзя уничтожить, лишив его вождя. Гибель Кази-Магомеда ведь ничего не изменила. На смену убитому вождю придет другой, и армия ищущих спасения продолжит газават…
– Не скажи, брат. Другой вождь, конечно, придет. Но другого Шамиля – никогда. Если бы тебе удалось сговорить его поехать в Тифлис, если бы этот человек не из хитрости на время, а в самом деле встал на нашу сторону, это изменило бы весь Кавказ! С его умом и влиянием, если бы они служили России, этот край можно было бы сделать благоденствующим.
– Ты прямо восхищаешься этим человеком!
– Почему бы нет? Я слышал рассказы тех, кто видел его в сражении. Достойный враг заслуживает восхищения, если он великий воин, разве нет?
– Несомненно, – согласился Юрий.
– А если хочешь, чтобы я тебе что-то еще о нем рассказал, то, вот, слушай, пожалуй, анекдот! Один черкес, рубя дрова, взял в плен нашего маркитанта – жида. Посадил его на коня позади себя и повез в аул. Жид выхватил у него из-за пояса топор и убил. И поскакал на его лошади, что было мочи, прочь. Но не повезло бедняге. Его схватили другие черкесы и привели прямиком к Шамилю на суд. Шамиль тотчас распорядился наградить семью убитого черкеса, высечь черкеса, поймавшего жида вторично, за то, что сразу не убил его, а жиду сказал: «Прощаю тебя за то, что в первый раз в жизни вижу храброго жида!»
Стратонов рассмеялся:
– Ну уж это явный вымысел!
– Ты так считаешь? Ну-ну! Я, между прочим, того жида-маркитанта лично встречал!
Возразить на это Юрию было нечего, и он лишь покачал головой. Человек, которого он должен был увидеть уже совсем скоро, пробуждал в нем все большее любопытство. Вместе с тем возрастала уверенность, что этот горский вождь уж точно не поедет на поклон и покаяние к Царю неверных. Ведь это, пожалуй, подорвет его авторитет среди своего народа. А этого не допустит ни один честолюбец… Однако, нужно приложить все усилия, чтобы выполнить полученное поручение. Кто знает: если Шамиль так честолюбив, как говорят о нем, так, может, удастся предложить ему какие-то выгоды от поездки в Тифлис, которые могли бы удовлетворить его честолюбие?
Выбирать время и место для переговоров было предоставлено имаму. Он явился на них в сопровождении двухсот вооруженных горцев, что немало превышало свиту Стратонова. Тот, впрочем, не боялся нападения. Как бы ни были вероломны горцы, но едва заключив мир, еще не собравшись вновь с силами, они не станут нападать на царского посланника – слишком жесткой будет в этом случае кара для них.
Шамиля Юрий узнал сразу – единственная зеленая чалма в отряде выдавала его. Не так давно имам установил среди мюридов особые правила ношения этого головного убора, ставшего символом идущих ко спасению. Согласно им, зеленые чалмы носили муллы, желтые – наибы, пестрые – сотенные начальники, черные – палачи, красные – чауши (глашатаи), коричневые – хаджи, люди, совершившие паломничество в Мекку… Всем прочим предписывалось носить белые чалмы.
Юрий с любопытством наблюдал за Шамилем. По виду не скажешь, что этот человек обладает такой выдающейся физической силой и ловкостью. Интересно, впрямь ли он такой отменный фехтовальщик, как его хвалят? Воин категорически вытеснял в Стратонове посла, и он искренне жалел, что вести «бой» придется лишь на словах. А куда бы как лучше скрестить сабли один на один! Юрий считался одним из лучших фехтовальщиков, и его недюжинную силу еще не сокрушили ни лета, ни раны. Оттого имама оценивал он, как потенциального противника в бою, хотя следовало бы заострить внимание на другом…
В простой сакле была расстелена бурка, на которую Шамиль пригласил сесть подле себя своего гостя.
– Я немало слышал о вас, генерал, – сказал он, не менее внимательно изучая своего собеседника. – О вас ходит слава, как о великом воине!
– Моя слава уже начинает блекнуть в сравнении с вашей. По крайней мере, в здешних краях, – отозвался Юрий. – Однако всякая личная слава умножается в лучах славы русского Царя, в величии с которым не сравнится не один властитель мира.
– Верно, так и должно говорить верному воину о своем повелителе, – по губам имама, почти не заметным в густой бороде, скользнула тонкая улыбка.
– Уж не сомневаетесь ли вы в могуществе Императора?
– Если бы я сомневался в нем, то не ответил бы на ваше послание. Русский Царь – великий Царь!
– Отчего бы вам в таком случае не стать его верноподданным? Не служить ему? Вашей вере никто не чинил бы препятствий, ваш уклад жизни не претерпел бы серьезных изменений. Вы же весьма упрочили бы свое положение, ибо ваша собственная немалая сила отныне всегда имела бы поддержку силой России.
– Наша сила, генерал, имеет более значительную поддержку – силу нашего Пророка, – имам благоговейно коснулся руками бороды.
– Вы, однако же, изъявили покорность нашему правительству.
– Я уважаю русского Царя и его солдат. Русские солдаты – храбрые воины.
– Ваши воины не уступают в храбрости нашим. И, верьте слову, как человек, прошедший много войн, я отдаю должное этой храбрости. И мне кажется, что для Кавказа было бы лучше, чтобы наши отважные воины не истребляли друг друга, а, служа одному Царю, устраивали бы порядок на этой много выстрадавшей земле. Я знаю о тех мерах, которые вы принимаете, чтобы в вашей стране господствовал закон. Это ваше стремление получило бы всемерную поддержку нашего правительства.
– Главное, чтобы мои стремления были угодны Аллаху, а не земным владыкам.
– Должен ли я понять ваши слова, как отказ от встречи с Государем?
– Напротив. Я считал бы для себя честью встретиться с русским Царем и совершенно готов ехать в Тифлис хоть теперь вместе с вами, но есть одно препятствие.
– Какое же?
– Я, Кибит-Магома, Ташав-Гаджи и Кади-Абдуррахман поклялись не предпринимать ничего важного без обоюдного согласия. Я не могу ехать в Тифлис без их одобрения, а они не одобряют этого шага.
На худом лице имама было написано глубокое сожаление, но Юрий не поверил ему. Хитрая бестия явно вела свою игру.
– Это ваше окончательное слово? – уточнил, уже зная ответ.
– Это слово моих соправителей, коему я подчиняюсь, – имам приподнял руки, чуть склонив голову на бок. Русским посланникам предлагалось поверить в то, что могущественный Шамиль не смеет сам принимать решений и смиренно покорствует перед волей «дивана»…
– Сожалею о вашем решении, – отозвался Стратонов, поднимаясь с бурки.
Имам легко поднялся следом:
– Сожалею и я, что ваш приезд оказался напрасным.
Нет, этот человек не жалел ни о чем. Его глаза смотрели лукаво и словно затаенно усмехались.
– Отчего же. Я не считаю, что приехал зря. Мне кажется, что нам еще придется встретиться в иной обстановке. Быть может, не однажды. А потому я рад, что теперь знаю Шамиля не только по слухам.
– На все воля Аллаха, – вновь развел руками имам.
– В таком случае прощайте, – сказал Стратонов, протягивая противнику руку.
Шамиль на мгновение заколебался и уже готов был принять ее, но в этот миг к нему подскочил молодой мюрид с горящим взглядом. Он отвел руку имама, горячо высказав, что не должно предводителю правоверных подавать руку гяуру.
– Пес! – грозно рыкнул на него Юрий, не привыкший к подобной наглости, и замахнулся тяжелой тростью на горца, который в ту же секунду выхватил кинжал. Еще мгновение и бешеный мюрид получил бы смертельное оскорбление в виде сбитой с головы чалмы, а Стратонов – смертельный удар в грудь. Однако Шамилю хватило доли этого мгновения, чтобы предотвратить кровопролитие. Одной рукой он удержал трость Юрия, убедившегося в том, что сила его противника отнюдь не была преувеличена, другой – руку своего наиба. Одновременно имам что-то громко и властно крикнул бросившимся было к нему мюридам, и те покорно отступили.
– Прошу вас, генерал, уезжайте, – обратился он к Стратонову, отпустив его трость, но продолжая держать разгоряченного мюрида. – Мои люди слишком вспыльчивы, а мне бы искренне не хотелось, чтобы с вами случилась беда. Прощайте!
– Я переоценил ваших воинов, – с досадой откликнулся Юрий. – Русские воины никогда не ведут себя, как разбойники, а этот пес…
Тут кто-то с силой потянул его за рукав.
– Довольно, ваше превосходительство, черт тебя рази! – прошептал Константин, таща его за рукав прочь из сакли. – Ты что хочешь, чтобы нас здесь перерезали?
– Прощайте! – буркнул Стратонов, следуя за братом.
– Ты, Юра, ведешь себя, как какой-то… поручик! – высказал тот уже на улице.
– Я не привык спускать наглости!
– Сейчас на 12-й год, ты не на своем легендарном мосту, а перед тобой не французы. Если тебе твоя жизнь не дорога, то мне и остальным в отряде она вполне мила. Эти головорезы схожим образом зарезали аварских ханов при Гамзат-беке. Он не собирался их убивать! Просто вышло там какое-то недоразумение, а народец сей горяч, чуть что за ножи хватается! Так и зарезали ханов! Вообще, дипломат из тебя, ваше превосходительство, дрянь…
– В самом деле? Не спорю. Правда, Грибоедов был дипломатом от Бога. Но это ему не помогло, – раздраженно отозвался Стратонов, вскакивая на коня. Он понимал, что брат прав, и лучше было вовремя укротить свой гнев. А теперь из-за вспышки этой должником Шамиля оказался. Окажись рассказы о его ловкости и силе баснями, и лежал бы теперь генерал Стратонов с кинжалом в груди. И отряд его вместе с ним…
– Поди-ка к нему, – велел Константину. – Передай, что я благодарю его за гостеприимство и сожалею о том, что наша встреча оказалась омрачена глупой стычкой.
Брат с готовностью вернулся в саклю Шамиля и возвратился минут через десять.
– Имам приносит тебе извинения за несдержанность своих людей, заверяет в совершенном к тебе уважении и желает благополучного пути, – доложил он, вскакивая в седло. – Я ему тоже высказал уважение от твоего лица. Как-никак, а он спас нас сегодня от своих разбойников.
– А тебе служба на пользу пошла, – покачал головой Юрий. – Ты уж не тот взбалмошный мальчишка, каким был. Не мальчик, но муж, умудренный жизнью.
– Зато тебя ничто не меняет, – звонко рассмеялся Константин. – Ни седина, ни раны, ни эполеты генеральские!
Русский отряд тронулся в обратный путь. Оглянувшись напоследок, словно почувствовав чей-то взгляд, Стратонов увидел вышедшего из сакли Шамиля, смотревшего вслед уезжавшему ни с чем посольству.
– В следующий раз мы встретимся в бою… – тихо произнес Юрий. – Иначе просто не может быть.
Глава 9.
30 октября 1837 года жители столицы толпами стекались к старой полковой церкви Введения у Семеновского плаца. Аристократы и простолюдины, офицеры и статские, мужчины и женщины, старики и младенцы – в этот день всех их объединяло желание собственными глазами увидеть новое чудо – стального коня, везущего много карет! Этот конь должен был отправиться в Царское Село ровно в половине первого дня. Увы, простолюдинам не повезло – их не велели допускать к недавно возведенной станции, но они все же толпились здесь, надеясь увидеть, услышать хоть что-то. Виданное ли дело – такое изобретение! Даже вообразить его – дух захватывает.
Вот, раздался пронзительный гудок – это поезд, в котором расположились благородные господа и дамы, тронулся в путь… В свой первый путь! Семейство Никольских расположилось в самом комфортабельном «берлине» – таких восьмиместных, крытых «карет» с мягкими сидениями в поезде было лишь две. Прочие рассчитаны были на десятерых – «дилижансы», также крытые и мягкие, «шарабаны», представлявшие собой повозки с крышами, и лишенные крыш «вагоны».
В этот день Варвара Григорьевна отмечала день рождения, а потому решено было всей семьей отправиться на дачу и провести там два дня в обществе близких друзей. Заодно и новое чудо техники испытать – то-то радость детям! Так и светились они, в окна высовываясь и махая ехавшим в одном из шарабанов друзьям – детям Апраксиных. Варвара Григорьевна пригласила на свое день рождения всю их семью, включая Любу. Та же взяла с собой свою наперсницу Эжени и ее приехавшего в отпуск подопечного – бывшего воспитанника покойной княгини Борецкой, мичмана Сережу Безыменного.
Стальной конь тронулся в путь. Варвара Григорьевна ласково посмотрела на мужа. Лицо того сияло. Он был одним из тех, кто сразу поддержал Франца фон Герстнера, когда два года тому назад тот представил свой проект Императору. Лишь пять железных дорог до сего дня существовало в мире. Русская стала шестой. Чешский инженер и профессор Венского политехнического института Герстнер, убеждая Государя принять его предложение, упирал на то, что железные дороги позволят быстро перебрасывать войска в любой конец страны. Никита же Васильевич видел в новом изобретение, в первую очередь, экономическую сторону. Он не сомневался, что вложения в проект Герстнера не только окупятся, но принесут огромную прибыль.
Император доводам внял и ровно полтора года назад учредил Общество акционеров для сооружения железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска.
Работа закипела! Через считанные два с половиною месяца уже была готова платформа под навесом для приезжающих и заложен фундамент здания гостиницы. Еще через два месяца заложили вокзал и паровозное депо с поворотным кругом в Царском Селе. А к концу сентября уложили рельсы на расстоянии 22 верст от Павловска и перво-наперво провели пробные поездки на конной тяге от платформы в Павловске до Царского Села.
Первая обкатка «стального коня» состоялась месяц спустя. Его доставили из Англии в разобранном виде, а собрали уже в Царском под неусыпным контролем Герснера. По его требованию паровозы должны были иметь мощность в 40 лошадиных сил и быть в состоянии везти несколько вагонов с тремястами пассажирами со скоростью 40 верст в час. Многие сомневались, что такое возможно. Но, вот, поезд, коим правил сам профессор, легко мчался по рельсам, и Никита Васильевич с торжеством посматривал на часы. Когда впереди показалось Царское, он едва удержался, чтобы не вскочить с места, и с победным видом воскликнул, обращаясь к жене:
– Тридцать пять минут, мадам! Тридцать пять минут! Запомните, дети, этот исторический день для России! Я уже не доживу, но вы непременно будете путешествовать по нашим необъятным пространствам, тратя на это часы, а не дни, как мы! О, когда бы мне увидеть дорогу до Москвы! И до Нижнего… Пушкин мечтал о дороге до Нижнего… И он был прав! Она необходима нам! А потом – Сибирь… Господи, какой необъятный простор для дел!
Поезд остановился. Очередной гудок прозвучал, как звон победных литавр, и Никита Васильевич с редкой для него прытью поспешил к паровозу, дабы обнять и поздравить «дорогого Франца», с которым весьма сдружился за эти два года работы.
Варвара Григорьевна сошла на станцию вместе с детьми. Ее старший сын Андрей, питомец Инженерного училища, заботливо подал руку матери, а бравый кадет Петруша Стратонов, ставший для нее совсем родным – Юлиньке, с младенческих лет вернейшей своей подруге. Правда, не укрылось от внимательного взора: что-то неуловимо менялось в его отношении к ней. Мальчик взрослел. Да и Юлинька из ребенка превращалась на глазах в хорошенькую барышню. И что-то новое, что-то совсем не похожее на детские забавы, пробуждалось в обоих. Впрочем, Юлинька пока – сама безмятежность. На сердце ее легко и весело, как бывает лишь в детские годы. И на Петрушу она смотрит точно так же, как на Андрюшу. Смотрит, как сестра на брата…
– Ах, какое чудесное путешествие! – Варвара Григорьевна быстро обернулась на этот возглас и, радушно улыбнувшись, подала обе руки подошедшему к ней Апраксину.
– Неправда ли? Профессор Герстнер подарил нам настоящее чудо!
– Да! Да! – глаза Александра Афанасьевича заблестели детским восторгом, совсем как у Никиты Васильевича. – Я слышал об этом изобретении Тревитика, но слышать – это одно, а видеть и осязать…
– А мадмуазель Эжени говорит, что не раз ездила на поезде! – подала голос маленькая Ирина, дочь Апраксиных.
– В самом деле, мадмуазель? – живо обратился Саша к приближающейся прорицательнице, катящей перед собой кресло Любы.
– В самом деле, – откликнулась Эжени, останавливаясь. – Я была в Англии спустя несколько лет после того, как Тревитик запустил свой первый паровоз.
– Ах, да! Я совсем забыл, что вы прежде были большой путешественницей! Признаюсь, мадмуазель, я вам бесконечно завидую! Мы с Ольгой Фердинандовной уже который год собираемся посмотреть мир, но покуда так ничего и не видели, кроме России!
– Россия стоит мира, – отозвалась Эжени, поправив теплый плед, коим была укрыта Люба.
Подошла и Ольга со старшим сыном Фединькой и, тепло обнявшись с Варварой Григорьевной, осведомилась, куда же пропал ее муж.
– Должно быть, обсуждают с Герстнером, куда вести следующую дорогу: в Москву или в Нижний, – улыбнулась Никольская. – Пойдемте и мы поблагодарим нашего героя дня.
– Профессор – великий человек! – воскликнул Андрюша. – А за инженерией будущее! Эти «стальные кони» – только начало! Вот увидите, однажды инженеры придумают и стальные крылья!
– Ты, свет мой, непременно придумаешь, – полушутя согласилась мать. – Я в тебя верю!
– Мы верим в тебя, бон фрер! – звонко рассмеялась Юлинька и еще больше развеселилась, когда брат сурово погрозил ей пальцем. Но затем отчего-то смутилась, поймав на себе взгляд юного мичмана, все это время стоявшего позади Эжени и явно чувствовавшего себя случайным гостем на чужом празднике.
Юлиньке Никольской только-только исполнилось пятнадцать. Редкая девушка бывает дурна в эти лета, но и далеко не всякую можно по чести назвать красавицею. Юлинька красавицей не была. Но было в ней что-то большее, чем красота. Она была очень похожа на мать, унаследовав тот русский простонародный тип женственности, который так привлекал многих в Варваре Григорьевне. При этом Юлинька была утонченнее и словно бы воздушнее. Если мать была сама размеренность, то дочь – сама живость. Сама жизнь… Лучик солнца, норовящий заглянуть везде и всюду, озарить и обогреть все и вся. В отличие от многих сверстниц она была чужда романтическим мечтаниям и не бредила модными нарядами. И здесь была несомненная заслуга Варвары Григорьевны, сызмальства приучившей детей к простому жизненному укладу и рачительности. А еще – к жертвенности. Дети Никольских, едва входя в разум, усваивали на примере родителей: лучше не купить себе нового платья, но накормить нищих, лучше питаться скромно, но помогать больным, лучше обойтись без новой куклы, но подарить валенки и полушубок замерзающему мальчонке-сироте… Именно так сделала Юлинька, когда ей было семь лет. Счастье, которое она увидела в глазах того мальчика и его чахоточной матери, стоило, пожалуй, всех самых прекрасных кукол…
Юлинька всегда сопровождала мать, когда та посещала лечебницы, сиротские и странноприимные дома, которым помогала. Две ее сестры всячески избегали подобных посещений – вид больных, увечных и несчастных нагонял на них тоску, они плохо спали потом и теряли аппетит. Юлинька же оставалась бодра и спокойна. Вид чужого страдания не угнетал ее, но пробуждал огромное желание и решимость помочь – всем, чем возможно. А сперва – добрым и ободряющим словом, улыбкой. Веселость никогда не изменяла Юлиньке, и она умела заразить ею даже самых отчаявшихся.
Сейчас она с любопытством наблюдала за Эжени, которую доселе видела мельком лишь раз или два, но зато сколько слышала о ней! О том, что она умеет заговаривать болезни и читать мысли, что в совершенстве знает медицину и многому научилась на Востоке, где как будто бы долго жила. Об этой женщине говорили все, но никто при этом ничего не знал о ней доподлинно. Впрочем, о ее знании медицины уверенно говорил Александр Афанасьевич. Эжени обучала наукам несчастную Любу, желавшую таким образом занять свой досуг. Было заметно, что последняя очень привязана к своей наставнице. Юлиньке страшно хотелось познакомиться с Эжени поближе. А еще лучше – брать у нее уроки. Но отец питал к ней какое-то предубеждение и вряд ли одобрил бы такое желание…
Не мог не вызвать Юлинькиного любопытства и юноша-мичман. Никто не знал, почему «прорицательница» заботится о нем с той поры, как скончалась княгиня Борецкая. Не будь он воспитанником последней, вероятно, не преминули бы предположить худое. Но за невозможностью такого предположения терялись в догадках. Хотя Юлинька не видела ничего загадочного в такой заботе. Одинокая женщина просто привязалась к мальчику-сироте и опекает его, не имея родных детей…
Мичман Сережа не так давно окончил Морской корпус и теперь служил на черноморском флоте. Это все, что знала Юлинька об этом госте, которого никто даже не удосужился представить. Это был высокий, тонкий и гибкий юноша. Продолговатое лицо его было несколько смуглым, а пышные волосы напротив – светло-русыми. Мягкие губы, небольшой, самую малость изогнутый нос, едва заметный пух намечающихся усов… И глаза! Таких глаз Юлинька еще никогда не видела. А если и видела, то только на иконах… У живых людей и не бывает таких… И какие же синие они! Как море, которому он решил посвятить себя… Два моря, а в них – смущение, одиночество и печаль… Эти глаза явно старше их обладателя. Они – ровесники душе, пережившей много горького.
– Сестрица, неприлично так долго рассматривать человека, тем более, мужчину, – укорил ее Петруша. Тон его был шутлив, но в нем чувствовалась легкая досада.
– У него самый красивый мундир, который я видела, и глаза Спаса, который висит у матушки в комнате, – заявила Юлинька.
– Мой мундир не хуже! – фыркнул Петр. – А когда я стану офицером!..
– Тогда и сравним! – рассмеялась Юлинька. – А пока, мон бон фрер, вы еще кадет!
– Вечно бы тебе насмешничать да егозить… – насупился Петруша.
– А тебе лишь бы читать мне нудные нотации. Дорогой брат, тебе не кажется, что для нотаций нам довольно маман и папА?
– Не кажется. Мы с Андреем считаем себя в ответе за тебя.
– Вот горе-то! – Юлинька вновь рассмеялась. – Нет, Андрей, как старший брат, пожалуй, еще и может так считать. Хотя он сущий ребенок, несмотря на талант инженера… Но ты! Мы же едва не в один день родились. А, значит, должны быть заодно и не докучать друг другу укоризнами!
– Предлагаешь мне восхищаться мичманским мундиром и глазами Спаса? – съязвил Петруша.
– Зачем же? Ты можешь, например, восхититься парижским платьем мадмуазель Ивойловой! Посмотри, как оно ей идет! И эта накидка, шляпка…
– Никакая шляпка не изменит того, что у нее рыбье лицо! – отрезал Петр.
– Как это грубо и неблагородно, – покачала головой Юлинька. – Так выражаться о даме будущему офицеру! Ты все равно должен осыпать ее комплиментами – ведь она не виновата, что у нее лицо рыбы!
Тут не удержался от смеха Петр:
– Полно, ма шер. Ты самая очаровательная девушка из всех, кого я знаю. И будь мадмуазель Ивойлова хоть в десять раз красивее, чем она есть, мне нет дела до ее шляпок.
– Эй, сколько можно болтать? Мы сейчас уедем без вас, – подошел к спорщикам разрумянившийся и радостный Андрей. Отец только что представил его Герстнеру, и тот благословил его на новые открытия, не выразив удивления даже бурным фантазиям юноши о «стальных крыльях». Что поделать, все ученые и изобретатели – немного сумасшедшие и немного дети. Даже профессора Венского университета!
Экипажи, ожидавшие у станции Никольских и гостей, дабы отвезти их на дачу, между тем, и впрямь готовы были тронуться в путь. Ждали лишь замешкавшихся Юлиньку и Петрушу. Но, вот, и они сели в коляску вслед за Андреем, и уже не стальные, а самые обыкновенные лошади потрусили по размытой осенними дождями дороге к уютному и любимому Юлинькой китайскому домику, в котором когда-то жил и творил сам Карамзин, а теперь обосновался ее отец…
Юлинька любила бывать в Царском. Парадный, военный, чиновный и словно застегнутый на все пуговицы Петербург был слишком тесен и строг для ее жизнелюбивой натуры. Здесь же, в Царском всегда было легко и весело, и никто не мешал ее приволью. Отец большую часть времени проводил в столице, а мать никогда не угнетала любимую дочь докучными нотациями.
Летние царскосельские месяцы были самыми прекрасными в короткой пока еще жизни Юлиньки. Сколько разных проказ затевалось здесь с неразлучным Петрушей! Сколько веселых игр переиграно! Сколько чудесных книг прочитано в тени деревьев… Почему в городе, в душно натопленных комнатах никогда не читается так упоенно, как под этими деревьями? И почему нельзя поселиться здесь и вовсе не возвращаться в столицу…
Несмотря на ноябрьский холод, она не упустила случая вдоволь побродить по любимым аллеям. Теперь уж точно до лета не увидеть их! Верный Петруша не отлучался от нее ни на шаг, и это почему-то вызывало в ней легкую досаду. К чему такая опека? Ей теперь вовсе не хочется слушать его замечания, что она простынет, что с неба что-то моросит, что ветер слишком холоден… Точно старая няня! А мундир кадетский ему все-таки идет. И уж, конечно, из него выйдет отличный офицер. Так, по крайней мере, уверял папА генерала Стратонова, который отчего-то всегда холодно относился к сыну и сомневался в нем. За это Юлинька была на генерала сердита. Ведь она лучше всех знала, как Петруша любит отца, как переживает его холодность и потому, обижаясь, сам чуждается его, как хочет доказать ему, на что способен, и как важно для него отцовское участие, ободрительное слово. Как важно, чтобы отец верил в него, поддерживал. А отец лишь наблюдал придирчиво, изредка появляясь в его жизни… Эти появления лишь растравляли Петруше душу, и он по отъезде родителя бывал сам не свой. Даже Юлинька не могла сказать уверенно, зачем пошел он в Корпус: искренне чувствовал призвание к ратному делу или вновь хотел что-то доказать отцу?
То ли дело Андрюша. У того все – как по чертежу, его же верной рукой выполненному! Он всегда знал, чего хочет, и колебания были чужды ему. С ним было надежно, как с отцом. Они никогда не позволяли себе оступиться. В обоих приверженность однажды налаженной системе уживалась с горячей мечтательностью, не дававшей этой системе ржаветь. Отец мечтал о преобразовании России, брат – о новых технических достижениях и прорывах. Они могли подолгу спорить, но при этом понимали друг друга с полуслова.
Петруша – совсем другой… Беззащитный… Даже в этом мундирчике своем, с военной выправкой и нарочитой боевитостью. Несмотря на то, что они были погодками, Юлинька всегда относилась к нему, как старшая сестра.
Вернувшись домой после прогулки, Юлинька некоторое время провела в обществе гостей. Однако, она была еще ребенком, а, значит, не могла принимать участия в беседах взрослых. Да и быстро становились те беседы скучны… Забавы же детские уже были неинтересны ей. Петрушу Андрей увел к товарищам – им нужно было обсудить важнейшие мальчишеские дела.
От нечего делать Юлинька решила укрыться в кабинете отца, где любила прятаться еще в детстве. Однако, на сей раз в этом укромном месте ее ждал сюрприз…
Стук упавшей книги об пол, глаза Спаса, в которых промелькнул сперва испуг, а затем облегчение… Он листал какой-то том из отцовского шкафа, когда вошла Юлинька и, должно быть, встревожился, что это сам хозяин.
Юлинька молниеносно подняла упавшую книгу, оказавшуюся «Квентином Дорвардом», протянула ее растерявшемуся молодому человеку:
– Я тоже часто прячусь здесь, – улыбнулась она. – И этот шкаф – мой старый добрый друг. И книги, которые он хранит. Вы увлекаетесь сэром Вальтером?
– Он прекрасно пишет, – откликнулся мичман, ставя книгу на полку. – Простите, я зашел сюда совершенно случайно… Я не должен был… – он хотел уйти, но Юлинька удержала его.
– Куда же вы уходите? Разве кто-то гонит вас отсюда?
– Вы вольны здесь прятаться, вы хозяйка. А я даже и не гость, а случайный захожий…
– Захожий… Какое слово интересное! Не уходите, прошу вас! Давайте считать, что вы мой гость, и я вас пригласила сюда… Показать кабинет самого Николая Михайловича Карамзина! Вы знаете, что прежде моего отца хозяином этого кабинета был Карамзин?
– Нет, я не слышал об этом, – покачал головой мичман.
– В этой комнате, Император Александр Павлович несколько часов беседовал с Николаем Михайловичем перед тем, как отправиться в свою последнюю поездку. Эти стены слышали и помнят тот разговор, которого мы никогда не узнаем… А теперь, вот, они слушают нас. Разве не странно?
– Вероятно, слушать Императора им было интереснее, чем нас, – заметил мичман.
– Им придется потерпеть, – улыбнулся Юлинька. – Скажите, почему вы ушли от гостей? Ведь вы уже офицер и могли бы остаться в гостиной со всеми.
– Я, Юлия Никитична, не привык к таким вечерам, к такому обществу… Я всего лишь безродный воспитанник княгини Борецкой, моей благодетельницы. Все последние годы я провел сперва в Корпусе, а затем в море… Здесь же все люди знатные и при чинах.
– Вам было неуютно среди них? – понимающе спросила Юлинька.
– Да, пожалуй. Эжени напрасно уговорила меня ехать с ней.
– Вовсе не напрасно! Я, например, рада, что вы мой гость!
– Вы очень добры, Юлия Никитична, – с легким поклоном отозвался мичман, все еще не умея преодолеть сковывавшую его робость.
– Мой отец редко бывает в этом кабинете, – сказала Юлинька. – Да и в этом доме… Государственные дела редко отпускают его из столицы. А я всегда приходила сюда и подолгу сидела в его кресле, читая его книги… Ту, что вы взяли теперь, я читала, наверное, четыре или пять раз!
– Прекрасно написано, неправда ли? – оживился мичман.
– Великолепно! Знаете ли, когда я прочла первые романы сэра Вальтера, то моей мечтой было непременно поехать в Шотландию! Я и сейчас об этом мечтаю иногда… Мне даже снилась Шотландия.
– Я вас понимаю. И тоже хотел бы увидеть родину Вальтера Скотта. Может быть, попутный ветер однажды и предоставит мне эту возможность.
– Вы удивительно счастливы!
– Отчего же?
– Как? Ведь вы – морской офицер! А разве есть что-то прекраснее моря?
– Вы были на море?
– Один раз… Два года назад. Если бы вы знали, с какой завистью я смотрела с берега на белые паруса уходящих кораблей! Как я мечтала уплыть на одном из них за горизонт и увидеть весь мир! А вам дана такая возможность… Разве это не счастье?
– Право, не знаю. Эжени видела, кажется, весь мир. Или почти весь… Но, по-моему, она глубоко несчастлива.
– Она просто одинока.
– Как и я. Но вы правы, Юлия Никитична, море – чудо. Когда идешь под парусами, то все невзгоды, все сомнения, все остается на берегу, а в душе пробуждается чувство удивительной свободы. Будто ты и не человек, а птица, чайка, которая кружит вокруг тебя… Прекраснее моря ничего нет, это вы верно сказали.
– Значит, у нас много общего, – радостно заключила Юлинька. – Я слышала, вы служите на Черном море?
– Да.
– А как называется ваш корабль?
– «Силистрия». Это прекрасный корабль! И у нас самый лучший капитан! Павел Степанович Нахимов! – пылко сказал молодой офицер. – Он сейчас, к сожалению, на некоторое время отбыл на лечение заграницу… Но мы все с нетерпением ждем его возвращения!
– Вы бы сделали мне большое удовольствие, если бы рассказали о «Силистрии». В нашем доме моряки почти не бывают, и мне с моей страстью к морю даже не с кем поговорить о нем. Расскажите же, прошу вас!
– Да о чем же рассказывать?
– Например, о вашем первом плавании… О Павле Степановиче…
Юлинька Никольская могла разговорить даже камень – это был один из ее неоспоримых талантов. Теперь она с удовлетворением наблюдала, как преображается застенчивый и молчаливый мичман, получив возможность говорить о дорогих своему сердцу предметах – море, корабле и капитане… В его движениях не осталось ни малейшей скованности, глаза блестели, став оттого еще удивительнее, и речь лилась свободно и живо. Он рассказывал ярко и увлекательно. И Юлинька не слишком преувеличила своей любви к морю, а потому слушала своего нового друга с живейшим интересом. Но было что-то еще, прежде ей не знакомое… Иногда она словно переставала разбирать слова мичмана, но все равно завороженно слушала его. Кажется, заговори он о вовсе посторонних темах, она слушала бы также. А если бы он молчал, то она просто сидела рядом и смотрела на него… И это молчание не сделалось бы для нее скучным. Этот робкий и немного странный молодой офицер, изящный и вместе с тем немного неловкий, словно притягивал ее к себе. Мелькнула мысль о Петруше. Только бы не стал он искать ее по своему обыкновению и не пришел сюда, не нарушил бы того вдруг сотканного невидимыми нитями в этой комнате мира, принадлежащего лишь двоим случайным захожим, объединенным морем…
Глава 10.
Аничков дворец был обителью счастья императорской четы еще в ту благословенную пору, когда Государь был Великим Князем и не подозревал, какая ноша ожидает его в будущем. Неудивительно, что после страшного пожара в Зимнем, случившегося в декабре печального 1837 года, царская семья возвратилась в дом своей молодости.
Восстановительные работы в главной резиденции русских государей шли уже дольше года, но конец их был еще далеко – слишком серьезные разрушения принесло пламя, сполохи которого видели даже в семидесяти верстах от столицы. Но страшнее разрушений были – жертвы. О них не дозволено было знать обществу, они были наглухо заперты в папках с докладами следственной комиссии о трагедии и в памяти очевидцев, которым было наказано молчать.
Виктор был одним из этих очевидцев. Он примчался к Зимнему, когда пожар был в самом разгаре. Несколько раз смело бросался внутрь, дабы спасти людей. Но мало кого было возможно спасти в том аду… Приехавший из театра Государь приказал разбить окна, чтобы находящиеся внутри люди не задохнулись, но свежий воздух лишь раззадорил пламя. Гибли пожарные, гибли запертые в страшной печи гвардейцы… А народ отчаянно лез в здание, выносил из него вещи, но не брал себе, а складывал тут же на снег спасенное «Государево имущество». И молился, гадая, к чему бы такое знамение: ведь не амбар какой горит, а символ Империи!..
Трое суток потребовалось, чтобы потушить пожар полностью. Тогда, отогнав зевак, стали вынимать из-под завалов то, что осталось от погибших под ними людей… Солдаты, участвовавшие в этих горестных работах, говорили потом, что за всю жизнь не видели ничего более страшного, чем сожженные и изувеченные тела своих товарищей. Порядка трех десятков душ унесла та памятная декабрьская ночь. И виной всему был не умысел, ни заговор, а глупое разгильдяйство дворцовой службы… Пожалуй, только подобное разгильдяйство да еще наглое воровство могло конкурировать с заговорами врагов России, с их кознями против нее. Однако, с заговорами и врагами возможно бороться, а разгильдяйство победить нельзя, ибо оно – часть характера, оно – повсюду, где не успел доглядеть острый глаз, где длинная палка не нависла неотвратимой угрозой…
Разрушение Зимнего лишило Виктора той привычной потаенной комнаты, где проходили их редкие встречи с Государем. Ходили слухи, что как раз некая потаенная комната сделалась причиной несчастья – разгоревшееся в ней пламя попросту никто не мог заметить вовремя. Так или иначе, важности теперь уже не было. Под покровом темноты бывший поручик Половцев ступил в стены Аничкова дворца, где доселе был лишь однажды много-много лет назад… Вместе с ним была дрожащая от страха женщина, которую он крепко, почти с жестокостью держал за локоть, словно боясь, что в последний миг она передумает и сбежит, обрушив весь его грандиозный план.
Было раннее утро. Государь всегда поднимался рано, и своих визитеров он уже ждал, хотя явно с неудовольствием: ничего приятного это посещение ему не сулило…
Когда проведший гостей в кабинет Императора офицер удалился, женщина по незаметному знаку Виктора бросилась на колени перед Николаем и, получив милостивое дозволение говорить, принялась со слезами рассказывать свою печальную историю. На Государя она не смотрела, не смела смотреть, сознавая собственную преступность, говорила, как могла коротко, как велел ей Виктор, а потому отрывочно и временами сбивчиво. Однако же, суть ее рассказа была слишком проста, чтобы волнение могло повредить его ясности.
Император слушал женщину молча, но видно было, как каменное лицо его постепенно наливается нехорошим румянцем. Рассказываемая история грехопадения отнюдь не относилась к числу любимых им литературных жанров, а потому вызывала лишь гнев, досаду и раздражение.
Наконец, «исповедь» завершилась.
– Вы все сказали, сударыня? – ледяным тоном осведомился Государь.
Она не ответила, лишь еще ниже уронила голову.
– В таком случае оставьте нас. Я должен поговорить с вашим ходатаем наедине.
Женщина что-то пробормотала и, едва не лишившись чувств, все-таки исполнила, поддерживаемая Виктором, монаршую волю. Теперь Виктор остался с Императором с глазу на глаз.
Николай стоял у стола и ожесточенно барабанил по нему пальцами. Взглянув на Виктора, он резко спросил:
– Я полагаю, тебе излишне сообщать, что князь Борецкий венчается нынешним утром?
– Неподалеку от Павловска, где находится один из домов невесты, и куда уже стекаются многочисленные приглашенные ею гости… – невозмутимо подтвердил Виктор.
Император ударил кулаком по столу:
– Так какого же черта ты ждал до этого часа?! Последнего часа?! – он внимательно посмотрел на стоящего перед ним друга юных лет. – Впрочем, я, кажется, понимаю… Теперь никто уже не успеет остановить эту свадьбу без скандала, теперь даже самый быстрый фельдъегерь не домчится до церкви раньше, чем начнется церемония. Раньше, чем преступление и кощунство будет совершено…
– Да, Ваше Величество, именно таково было мое желание, – ответил Виктор.
Николай подошел к нему почти вплотную и спросил после паузы:
– Зачем? Зачем тебе все это?
– Затем, что если преступление будет совершено, то Ваше правосудие покарает преступника. А если бы я предотвратил его, то кара так и не настигла бы его!
– Твоя ненависть ослепила тебя окончательно!
– Возможно. Но не вы ли, Ваше Величество, требовали от меня, чтобы я не творил самосуда, но просил отмщения у вас? Я лишь исполняю вашу волю.
– Будь добр, Половцев, хотя бы избавить меня от подобных лукавых объяснений. Единственная воля, которая имеет для тебя важность, твоя. Ты привык использовать людей для своих целей… Теперь решил использовать и меня, своего Государя?
– Ваше Величество, я всегда готов был отдать за вас жизнь, а теперь прошу лишь вашего правосудия. Разве это так много, что я заслужил подобные упреки?
– Моего правосудия не надо просить. Оно будет совершено, и князь Михаил, которого ты так ненавидишь, отправится по стопам своего брата. Но несчастная его невеста? За что ты ее решил обречь такому позору и горю? Она-то что тебе сделала?
– Ничего. Она лишь была столь неразумна, что связалась с негодяем, которому не должно быть места на этой земле, а не только в столице и ее окрестностях! – зло бросил Виктор, чувствуя, как правый глаз его начинает подергивать нервный тик, в последнее время приставший к нему.
– И тебе не жаль эту женщину? – спросил Николай. – Хотя к чему и спрашивать… Тебе никого не жаль. Не ее, ни ту, что теперь была здесь, ни…
– Вы правы, Ваше Величество! Мне жаль совсем другую женщину! Одну единственную женщину! Женщину, которую я любил, и которая погибла, не вынеся позора и истязаний, которым подверг ее этот проклятый выродок! – воскликнул Виктор. – Вот, уже двадцать лет я каждую ночь убиваю его в своих кошмарах, смотрю, как капля за каплей сочится гнилая кровь из его тела… Не требуйте от меня ни жалости, ни милосердия, Государь! Я слишком мало видел в жизни того, и другого! А хуже того: если бы я попытался добиться правосудия за то, что навсегда искалечило мою жизнь, то вряд ли преуспел бы. И даже ваша дружба не помогла бы мне в этом. И вы не возразите мне сейчас, потому что знаете, что я говорю правду.
Николай ничего не ответил. Вернувшись за стол, он произнес:
– Михаил Борецкий ответит за преступление, которое ныне свершается с твоего попустительства. Но ведь не станешь и ты возражать, что это ничего не изменит? – Император устремил на Виктора пытливый и вместе с тем печальный, сострадающий взгляд. – Мое правосудие не сможет удовлетворить твоей ненависти. Она так и продолжит сжигать, испепелять тебя… Что ты станешь делать дальше? Что еще придумаешь для отмщения? Чьими еще судьбами и чувствами пожертвуешь?
– Мне нечего вам ответить, Ваше Величество, – едва слышно отозвался Виктор. – Да вы бы и не поняли меня, потому что нельзя понять меня, не зная моего ада…
– Иногда, когда я слушаю тебя, мне кажется, что лучшее, что я мог бы для тебя сделать, это… связать тебя… – покачал головой Николай.
– Не стоит, Ваше Величество, – криво усмехнулся Виктор. – Я еще не настолько безумен. Безумие, к несчастью, не заразно… И тот, кто вынужден с любви и милосердия связывать другого, сам остается в полном рассудке…
– О чем ты?
– Неважно, Государь… Все это неважно, потому что ничего нельзя изменить… Ничего… – последнее он произнес с глухой болью раненого зверя и, подняв глаза на Императора, добавил, взяв себя в руки: – Уже светает. Дозволите ли вы нам с моей протеже удалиться?
– Боишься не успеть к кульминации действа? – угадал Николай. – Ступай. И да не оставит тебя Бог, Половцев…
Виктор низко поклонился Государю и вышел. На душе было невыносимо скверно. «Мое правосудие не сможет удовлетворить твоей ненависти. Она так и продолжит сжигать, испепелять тебя», – так и стучало, звенело в ушах. Да, так и есть… Именно так… И это самое страшное. Страшно носить в душе полыхающий Зимний дворец, который бессильна потушить вся вода петербургских каналов… Никакое отмщенье не зальет это адово пламя. И все же оно должно свершиться!
– Едемте, сударыня! – бросил он ожидавшей его смертельно бледной Анне Дмитриевне.
– Куда?.. – едва слышно проронила она, но, поймав его раздосадованный взгляд, больше не задавала вопросов и покорно последовала за ним – так, точно вел он ее не к справедливому возмездию и последующей безбедной жизни заграницей, а на бойню. Безумная женщина! Такая же безумная, как ее несостоявшийся муж, доселе грезящий о ее возвращении… Ну, да Бог с ними со всеми! Настал решительный час! Сколько лет он шел к нему… И теперь до дрожи в руках казались нетерпимы последние оставшиеся минуты.
Глава 11.
Гости начали съезжаться еще накануне, занимая отведенные для них комнаты в унаследованном Елизаветой Кирилловной от мужа доме. Ей, вдове, матери троих детей, хотелось настоящей пышной свадьбы, настоящего большого праздника – их так давно не было у нее! Мишель, правда, не разделял ее жажды. Все эти месяцы он возвращался к своей излюбленной идее – обвенчаться подальше от столицы, не устраивая никаких помпезных торжеств. Ведь оба они взрослые, много повидавшие люди. К чему эта мишура? Главное, что они любят друг друга. Зачем нужны все эти гости, когда они есть друг у друга?
Елизавета Кирилловна понимала, что будущий муж прав. Но… Она слишком долго жила сперва в тени старика Степана Степановича, а затем – траура по нем. Слишком долго была одинока. А теперь, обретя свое счастье и будучи неприлично богатой, ей хотелось поделиться переполнявшей ее радостью со всем миром! Не пустить пыль в глаза, не покрасоваться перед светским обществом, доселе бывшим для нее чуждым, но чтобы все были свидетелями ее с Мишелем счастья. Она и крепостных не забыла оделить подарочками в честь события знаменательного. И дом, так долго пустовавший, внутри почти полностью велела переделать. Новую жизнь надо начинать красиво и радостно, и при порядке. Отчего-то суеверно казалось ей, что такое начало непременно обеспечит благополучие всем последующим дням.
Было, правда, кое-что, что омрачало Елизавете Кирилловне ее радостные приготовления. Во-первых, дети отчего-то никак не могли привыкнуть к Мишелю, дичились его. Ах, этот детский эгоизм! Видимо, она слишком баловала их, слишком во всем потакала им, когда надо было быть строже, жестче. Дети должны быть покорны родителям, а не становиться деспотами для них. Мишель все эти месяцы, даже годы старался заслужить их доверие и расположение, но ни это, ни увещевания матери не действовали. А так хотелось, чтобы дорогие крошки всецело разделили ее радость! Ну, ничего, время все расставит на свои места. Видя счастье матери, они примирятся и, наконец, привыкнут к Мишелю. И полюбят его! О, они непременно его полюбят!..
Другим огорчением последних месяцев были слухи… Бывая на различных столичных приемах, Елизавета Кирилловна лишний раз убедилась, что людское злоязычие не имеет границ. Каких только сплетен ни ходило о Мишеле! Да разве ж можно всем им было поверить? Конечно, не столь наивна была молодая вдова, чтобы предполагать, что ее избранник, бравый офицер, князь, был небесным ангелом. Без сомнения, много было разного в его прежней жизни. Дурного, в том числе. Мишель, в сущности, и не скрывал того, иногда говоря ей, что она, его светлый ангел, не представляет, что избрала в мужья почти демона. Елизавета Кирилловна лишь смеялась в ответ:
– Значит, ты вновь станешь ангелом рядом со мной!
– Радом с тобой, пожалуй, любой им станет, – отвечал он.
Что поделать, люди грешны и подвержены соблазнам. Особенно, когда вокруг такой простор для греха, когда столько дано, чтобы грешить… Громкий титул, деньги, воинская удаль, красота… А вокруг – столица! Вокруг – свет, живущий по своим, весьма своеобразным законам! А ты молод, холост, ты прошел войну и выжил, кровь твоя кипит, все двери перед тобой открыты… Кто не срывался в пучину страстей в таком положении? Кто мог устоять? И возможно ли винить за это?
И, в конце концов, не все ли равно, что было прежде? Мишель уже не тот молодой и горячий офицер. Он много пережил и, конечно, сильно изменился. Теперь после бурной молодости его счастье – семейный уют с любимой женщиной, женщиной, которая всегда сможет простить и понять, и дать мир его сердцу.
Само собой, Елизавета Кирилловна была уверена, что именно она и есть та самая женщина, и это сознание лишь укрепляло ее и без того бесконечную любовь к будущему мужу, первая искра которой вспыхнула в ее дотоле пустом и вполне хладном сердце еще при жизни Степана Степановича, когда она впервые увидела князя Борецкого.
Теперь, наслушавшись слухов и сплетен, она понимала, отчего Мишель был так неспокоен, когда они возвращались в столицу. Он не хотел, чтобы злословники омрачали ее душу своими черными словами, боялся, что она усомнится в нем, поверив наветам. Но разве могла она усомниться – любя его больше жизни?
Он волновался даже в это утро, будто бы она могла передумать в последний момент, отменить венчание, разорвать все. Елизавета же Кирилловна была безмятежна. Она неспешно и основательно все утро занималась своим туалетом в окружении суетящихся горничных. Платье было заказано в Париже… Конечно, такое бросание денег на ветер дурно, но можно раз в жизни забыть обо всем и ублажить себя, предаться безоглядной радости? А драгоценности! Эти изумруды в обрамлении бриллиантов – что может быть прекраснее?! И волосы, длинные, густые, всегда бывшие гордостью ее, уложить умело… Много, много хлопот у невесты! А горничные знай себе причитали, будто бы отродясь подобной красоты не видели! Ну, пусть, пусть льстят – сегодня ей и эта лесть приятна, и она веселит ее!
Время пролетело незаметно, и вот уже карета подана, и прекрасные белые в яблоках кони мчатся по белоснежному насту, ослепительно сияющему в лучах солнца, которое будто бы радовалось этому дню вместе с невестой.
Церковь полна. Елизавета Кирилловна нарочно пригласила всех, кого могла, не исключая и злословников. Пусть обсуждают теперь блеск свадьбы князя Борецкого, его счастливый брак, а не ошибки, некогда им совершенные…
Мишель был бледен. Кажется, ему и в этот миг казалось, что что-то может случиться, помешать. Она посмотрела на него ласково, как бы обещая, что ничто не помешает их счастью. Он улыбнулся в ответ. Церемония началась.
Ах, как чудно хор пел, будто бы ангелы с небес сошедшие! И батюшка с бородою окладистой и глазами ясными тепло и ласково смотрел. И милые крошки, кажется, наконец, искренне радовались за мать…
Проход вокруг аналоя, кольца… Сейчас батюшка объявит их мужем и женой и…
Вдруг по церкви пронеслось дуновение ледяного ветра, хлопнула дверь, заставив всех присутствующих с тревогой обернуться, и чей-то резкий, звенящий голос выкрикнул:
– Этот человек не может жениться на этой женщине!
Публика охнула.
– Что это значит? – возвысил голос священник, выглядывая поверх голов смутьяна.
А тот уже сам шел к алтарю – высокий сухощавый человек со смуглым, каким-то перекошенным лицом и больными, воспаленными глазами. За собою он не вел, а буквально тащил женщину, лицо которой скрывала вуаль.
– Это значит, – ответил вошедший, остановившись, – что мы не Турция, и многоженство не узаконено в нашей стране.
– Выведите прочь этого безумца сей же час! – воскликнул Мишель.
Но в дверях храма показались солдаты.
– Милостивый государь, извольте объясниться! – потребовал священник.
– Охотно, – кивнул безумец. – Дело в том, что князь Борецкий уже женат. Его жена жива и здорова, а, стало быть, то, что происходит здесь есть ничто иное, как преступление перед Богом и людьми.
Публика охнула вновь.
– Вы лжете! – вскрикнула Елизавета Кирилловна, хватая за руку Мишеля. – Это неправда! Этого не может быть!
В этот момент безмолвная женщина, стоявшая позади страшного человека, сделала шаг вперед и совлекла вуаль.
– Станете ли вы утверждать, милостивый государь, что не знаете меня? – спросила она негромко.
На лице незнакомки была написана такая мука, что Елизавета Кирилловна содрогнулась и отступила от Мишеля, с ужасом глядя то на него, то на ту, что назвалась его женой.
– Я впервые вижу вас, сударыня! – резко ответил он. – Прошу вас немедленно покинуть церковь и не смущать моей невесты и моих гостей.
– Ваша бравада вам не поможет, – ледяным тоном произнес страшный человек. – Есть запись в приходской книге, свидетельствующая о вашем браке с этой особой. А также еще одна – о рождении вашей с нею дочери.
– Это клевета! – завопил Мишель. – Убирайтесь немедленно прочь! – он резко обернулся к Елизавете Кирилловне. – Ангел мой, не слушайте этих людей! Все это чудовищная ложь и козни моих врагов!
– Оставьте, князь. Документы уже лежат на столе у Его Величества. И солдаты, которых вы теперь видите, ожидают вас, дабы проводить на одр куда менее приятный, нежели медовое ложе…
– Прошу вас, довольно! – вырвалось у названной женой Мишеля дамы. Она вдруг упала на колени перед Елизаветой Кирилловной и со слезами прошептала: – Простите меня, сударыня! Ради Христа простите! Я должна была прийти к вам сама, чтобы не допустить до скандала… Простите меня! А я никогда себе не прощу…
– Будь ты проклята, шлюха! – взревел Мишель и замахнулся, чтобы ударить несчастную, однако ее спутник перехватил занесенную руку и отчеканил ледяным тоном:
– Ведите себе достойно, князь, если вам хоть по слухам ведомо, что означает это слово.
– Я убью тебя, мерзавец! – прошипел Мишель, чье лицо приобрело малиновый оттенок. – Клянусь, я убью тебя!
– Вы в Божьем храме, князь! – воскликнул священник.
– Не волнуйтесь, батюшка, он не задержится здесь дольше, – откликнулся страшный человек, продолжая левой, будто бы стальной рукой удерживать разъяренного Михаила. Легкий кивок головы, и двое солдат поспешили к нему.
Гомон потрясенных гостей нарушил звук упавшего тела. Это лишилась чувств, не выдержав творящегося на ее глазах кошмара, Елизавета Кирилловна. К ней с плачем кинулись дети и несколько слуг. Гости же один за другим стали покидать церковь вслед за выведенным из нее силой князем. Вскоре под ее сводами воцарилась тишина, нарушаемая лишь детским плачем да шепотом священника. Несчастную невесту, так и не пришедшую в себя, слуги бережно вынесли через другой вход, дабы уберечь ее от сторонних взглядов, и отвезли домой, где все еще сияло и суетилось в ожидании большего празднества.
Глава 12.
– Худое мы дело сделали, – качала головой Анна, укладывая в дорожные сундуки свои и дочери вещи. – Один грех был у меня, какой не замолить вовеки вечные, а теперь два их сделалось. Прежде одно лицо перед глазами моими стояло, как совесть живая, а теперь два… Я ведь жизнь той женщине искалечила. Сердце ее ранила. А такие раны ничто и никогда исцелить не может. Уж я-то знаю…
Эжени сидела рядом за чайным круглым столиком и с видимым спокойствием раскладывала пасьянс. Однако, Анну не могло обмануть ее кажущееся равнодушие. Сколько раз еще раньше говорили с нею, что дурное задумал Виктор, и соглашалась она, глаза отводила.
– Знаете ли вы, как она теперь? Оправилась ли?
– Ей лучше, но она еще очень плоха. С того дня она слегла в горячке, и доктора не ручались за ее здоровье.
– Какое-то безумие! – Анна опустилась на край кровати и провела рукой по лбу. – Наваждение…
– Вам не в чем упрекать себя, Ани. В этом несчастье лишь два виновных. Злодей и тот, кто из-за злобы его, сам опустился до злого дела, хотя, видит Бог, имеет доброе сердце.
– Не лукавьте, милая Эжени. Я не поверю, что вы также не корите себя.
– Себя? – Эжени отложила карты, тряхнула своей роскошной гривой смоляных волос, не тронутых сединой. Она заплетала и укладывала их, лишь когда выходила на люди. Дома же или среди своих позволяла им свободно ниспадать накидкой по ее худощавой спине. Эта странная женщина говорила, что голова ее хуже работает и устает, если волосы отягощают посторонние предметы вроде заколок. Когда ей случалось врачевать больных, она всегда освобождала от оных свою наделенную удивительным даром голову…
– Себя я виню очень за многое, – произнесла Эжени со вздохом. – Перед вами, моя милая, сидит теперь великая грешница. Ваши грехи ничто в сравнении с моими, поверьте… К тому же у вас дочь. Теперь ее судьба будет счастлива, ей не придется терпеть лишений, в коих протекло ее детство…
– Вы очень любите вашего… простите, я так и не поняла ваших отношений…? – Анна покраснела. – Я, наверное, не должна была спрашивать…
Эжени грустно улыбнулась:
– Наши отношения мудрено понять. Он называет меня спутницей… Это, пожалуй, самое верное определение. Уже много лет я являюсь его спутницей, а он единственной планетой, вокруг которой вращается вся моя жизнь. Это даже не любовь, это что-то… худшее. Как земля не может жить без солнца, так и я не смогла бы жить без него. Я чувствую, если ему угрожает опасность, если он болен, даже если он находится от меня за тысячи верст!
– Когда-то я тоже думала, что не смогу жить без Мишеля. Но прожила без него целую жизнь…
– Поверьте, это ваше счастье. Я долгое время была близка с его покойной матушкой. Я знаю, каким адом была ее жизнь со старым князем. А он был всего лишь анфан терибль в сравнении с младшим сыном.
– Что с ним станет теперь? – тихо спросила Анна.
– Отправится вслед за своим братом в Сибирь. А там, думаю, скоро сойдет с ума и погибнет. Для того, чтобы пережить ссылку, лишения нужно иметь хоть сколь-либо сильную, достойную душу. А его душа не просто сгнила, она прах и нечистоты в крашеном гробу.
– Вы говорите жестоко.
– Я говорю, как есть.
– А с ней что будет?
– Она поправится… Доктора говорят…
– Доктора могут вылечить тело. Но душа женщины никогда не забудет ни боли, ни бесчестья. Я не должна была соглашаться с планом вашего… солнца. Я должна была просто поехать к ней, поговорить…
– И вы бы ничего не доказали, моя милая. Ведь записи из приходских книг хранились у Виктора. А без них ваши слова больше бы походили на бред сумасшедшей ревнивицы, за которую вас непременно приняли бы. Вы ничего не могли изменить, Ани. Успокойтесь и не мучайте себя. Завтра вы с дочерью уедете отсюда, и у вас начнется совсем другая жизнь. Думайте о вашей девочке, о ее будущем, а призраков прошлого оставьте здесь, не везите их с собой.
– Никто не властен оставить своих призраков, Эжени. Где бы мы ни были, они всегда будут с нами, – отозвалась Анна.
Тепло простившись с Эжени до утра, когда они с Виктором должны были прийти, чтобы проводить своих подопечных в далекий путь, Анна упала на колени перед образом Богородицы и заплакала, закрыв лицо руками. Никакие слова Эжени не могли облегчить то неизгладимое чувство вины, что поселилось в ней в тот миг, когда глаза ее встретились с глазами той женщины… В них не было ненависти, но сколько муки! Ужаса! Отчаяния! И мольбы… Мольбы, с которой уже не ожидающий помилования приговоренный отчего-то все еще смотрит на палача. А палачом была она, Анна. Второй раз в своей жизни была палачом… Эти глаза она уже видела. Много лет назад. На совсем другом лице. Лице мужчины, которого она бросала почти перед алтарем, на виду у всех, безжалостно топча и любовь его, и честь. Такие разные лица, а глаза одинаковые!
О, у этой несчастной женщины наверняка такая же чистая и прекрасная душа, как у Разуваева! И вновь она, Анна, так жестоко ранила эту душу. Она и Мишель. Перед алтарем… Неужели это рок ее?
– Царица Небесная, Заступница милосердная, не позволь мне больше ничьей жизни сломать! По рукам, по ногам свяжи, уста мои замкни, но не допусти ничьей судьбы впредь порушить!
Так пластаясь перед святым образом, заклиная, каясь и по-бабьи завывая, не расслышала Анна тяжеловатых и в то же время робких шагов позади себя. Но, вот, донесся до нее всхлип, и дрожащий голос из давным-давно канувшей прошлой жизни произнес:
– Аннушка, ангел мой, не кори себя! Ты не виновата! Я ведь и тогда тебя не винил… Я…
На мгновение ей показалось, что она сходит с ума, что иступленная ее молитва породила такую странную галлюцинацию. Но обернувшись, Анна увидела перед собой… Разуваева. За истекшие годы он сильно постарел и раздобрел, лицо его было мокрым от слез, а глаза… В них не было ни малейшего укора, а все та же любовь, нежность, прощение… И радость встречи.
– Ты ли это, Михайло Антонович, голубчик? – проронила Анна. – Да откуда же ты здесь взялся?
– Я, Аннушка, искал тебя все эти годы. Уже и отчаялся найти… А недавно письмо получил от одной дамы, что однажды заезжала ко мне со своим мужем… Она-то и написала мне, где тебя искать, за что я ей по гроб жизни благодарен буду, хотя и не знаю, кто она…
– Эжени!.. – вырвалось у Анны.
– Эжени?
– Да… Больше никто написать тебе не мог… А я и не знала ничего, не то бы не попустила, чтобы она тревожила тебя. Я смотреть-то на тебя не смею, рук твоих целовать и то не достойна!
Разуваев не стал дольше слушать причитаний Анны, а сам взял ее руки и благоговейно поднес к губам:
– Не хочу я слышать от тебя таких слов, Аннушка. Эжени своим письмом к жизни меня возвратила. Ведь я люблю тебя, ангел мой, как в дни помолвки нашей. И если только согласишься ты, то… то… Я был бы самым счастливым человеком, когда бы ты вновь согласилась стать моей женой!
Анна провела дрожащей рукой по щеке Михайлы Антоновича, проронила с болью:
– Так ведь я с князем обвенчалась, и дочь моя уже скоро сама девицею на выданье станет…
– Я, приехав в столицу, прочитал в газете о скандале… О князе… После содеянного им ты легко будешь избавлена от этих уз. А твоя дочь будет для меня родной. Ведь я одинок, Аннушка. Она станет для меня радостью. Я удочерю ее. Конечно, моя фамилия не княжеская, но более честная, чем та, что принадлежит ей по закону.
– Ты святой, Михайло Антонович! – воскликнула Анна. – Я давно это поняла! Но не знаю, что сказать тебе… Не заслужила я ни прощения твоего, ни имени…
– Я прожил много лет в большом горе, Аннушка. И теперь от тебя одной зависит, провести ли мне в горе остаток жизни или возродиться к счастью. Решать тебе.
Анна почувствовала, что силы оставили ее и, вот-вот, упала бы без чувств, но сильные руки Разуваева подхватили ее, усадили в кресло.
– Ты можешь не решать сейчас же, – произнес он. – Давай сперва поедем к нам домой. Поедем… ко мне… Вы с дочерью побудете моими гостьями, будет время и нам познакомиться с нею… А затем и решишь. Согласна ли?
Анна бессильно уронила голову на плечо стоящего перед ней на коленях Михайлы Антоновича и, обняв его ответила:
– Будь по-твоему. Увози меня, куда хочешь. Буду тебе рабой покорной во всю оставшуюся жизнь…
Маленький глазок в стене бесшумно затворился. В соседней комнате сияющая Эжени обернулась к мрачному Виктору:
– Они еще будут счастливы!
– Не тешьте себя иллюзиями, Эжени. Вы все-таки поступили по-своему и позвали сюда этого… теленка в мужском обличии…
– Я сделала то, что была должна.
– Воля ваша, – Виктор махнул рукой. – Мне, в сущности, все равно, куда поедет теперь эта женщина: в Париж или в Пензу… Счет на имя ее дочери будет действовать, как я и обещал. Все прочее меня более не касается. И уж коли вы взяли на себя роль свахи для этих двоих, то увольте меня от участия в проводах. Мне до изжоги претят сентиментальные сцены!
Эжени не ответила. Она устало вглядывалась в хмурое лицо Виктора и в который раз искала лекарство для его больной души. Что способно исцелить ее? Его месть завершена, хотя он сам не верит в это, считая, что она будет длиться до той поры, пока он и князь живы. Жизнь его сделалась окончательно пуста и беспросветна. В двух кварталах отсюда, в таком же доме, в одной из комнат лежит несчастная сумасшедшая, в которой он продолжает любить ту, которую так жестоко отняли у него. Тяжело и жутко жить в мире человеку, для которого даже небо опустело, и он не обращает к нему взор, гордо уповая лишь на собственные недюжинные силы. Но что могла сказать такой страждущей душе о небе беглая монахиня, бесконечно давно отлучившая себя от Церкви своим преступлением, не смеющая даже переступать порог Божия храма? Как можно спасать чужую душу, когда своя погублена?.. И как спасти свою, если для этого потребуется разлучиться с тем, без кого погибнет она сама, и кто сам без нее погибнет? Слишком непосильные задачи задаешь, Господи… Разуму человеческому, даже чудным даром Твоим не по заслугам наделенному, не разрешить их… А Тебя и молить о том страшно…
Эжени молча подошла к Виктору опустилась на колени, прижалась лбом к его недвижимой правой руке, проронила тихо:
– Я никогда не покину вас, мой дорогой…
– Опять сентиментализм, – покачал головой Виктор, голос которого, однако, потеплел. – Не огорчайтесь моей мизантропией, Эжени. Скоро мы уедем из столицы поближе к солнцу. И, может, драконы аббата Тетю станут там ко мне немного милосерднее. А я не буду столь невыносим в отношении вас…
– Куда же мы поедем?
– В Крым. Я давно полюбил Крым… Он насквозь русский и в то же время подобен центру мира, где пересекаются на своих путях все языцы. А еще там много-много солнца, и море… А море, Эжени, всегда врачевало мои раны.
Глава 13.
С того кошмарного дня, когда ее, полумертвую, из церкви вынесли, вся жизнь точно в тумане проходила. Сперва вовсе в горячке лежала, себя не помнила. То мать в бреду кликала, то мужа-покойника. Того, другого, ни разу не помянула…
Потом сознание как будто возвратилось, да не совсем. Все видела Елизавета Кирилловна, все слышала, а только точно не понимала, не чувствовала. Подойдут дети, по ласке материнской стосковавшиеся – поцелует их, как заведено. Да только так холоден поцелуй, так равнодушны объятия, что ангелочки милые только в расстройство приходят, да на няньку глядят, спрашивая, что это с матушкой поделалось. А та сама слезы по щекам размазывает – жалко ей барыню. Всякий день приходила она, садилась подле, рассказывала о проказах детских, а Елизавета Кирилловна все только вдаль куда-то смотрела да молчала.
Так день за днем шли, пока троюродная тетка, что под Серпуховым жила, не перевезла ее к себе. Аграфена Павловна одинока была. Двоих сыновей ее Господь прибрал, и жила старуха в своем доме в компании такой же старой горничной и двух собак. Узнав о постигшем племянницу горе, Аграфена Павловна самолично пустилась в путь. Характера старухе было не занимать, а потому вся Мелетьевская челядь ее слушаться стала тотчас и беспрекословно. В три дня собрались и, покинув «проклятый дом», покатили всем «табором» в Серпухов. Кое-кого из слуг отослала тетка в другие имения, пока не потребуются, а в своем небольшом домишке поселила лишь Елизавету Кирилловну с горничной да детей с няней.
Дорогу Елизавета Кирилловна помнила ясно, да только и она никакого участия в ней не вызвала. Будто вещь какую, перевезли ее с одного места на другое, а что с того толку? Что изменилось? Покои теперь скромнее и меньше… За окном весеннее солнышко ласково припекает, весело плещась в лужах с взъерошенными воробьями… Да вот еще монастырь, пожалуй. Из окон спальни купола его и колокольня хорошо видны. Спасо-Владычний… В детстве Лиза часто туда на службы ходила, причащалась… Когда колокола его переливистые звонили, даже зимой окна настежь открывала – ничего прекраснее музыки той не знала на свете! А теперь и звон этот не волновал душу. Словно души попросту не стало, тело жило, совершало какие-то привычные, обыденные действия, а душа – что камень. Ни боль, ни радость тронуть не могут ее.
Качали головами тетка да прислуга: чахнет красавица Лизанька, нежилица барыня… И батюшка приходил причащал ее, пытался достучаться до души, от боли пережитой неведомо где от мира укрывшейся, но и ему не удалось то.
Иногда Елизавета Кирилловна выходила на прогулки. Временами за нею увязывалась горничная, но чаще она уходила одна, не желая, чтобы кто-то был рядом, ища одиночества. Так было и в этот день.
Весна уже плавно переходила в лето, даря благоуханье цветов, листвы и разнотравья. Елизавета Кирилловна неспешно прошла к монастырю. Перекрестилась машинально у врат, а входить не стала. С того ужасного дня что-то мешало ей порог церковный переступить, отталкивало прочь. Постояла немного и по обычному кругу своему побрела – вокруг обители, вдоль вековых стен ее.
На горизонте заклубились грозовые тучи, где-то далеко глухо пророкотал гром. Это не остановило Елизавету Кирилловну. Дождь ли, ветер ли – она должна была пройти свой круг. Это странное упорство в вещах маловажных также пришло к ней вместе с болезнью. И теперь надвигающаяся гроза нисколько не пугала ее.
Внезапно что-то привлекло внимание Елизаветы Кирилловны. Последнее время она не замечала практически ничего вокруг себя, но то, что она увидела, было чересчур странным. Маленькая босая старуха с коротко остриженной головой, облаченная в ветхий капот, согнувшись, собирала травы, напевая псалмы. Ее, кажется, тоже ничуть не беспокоила надвигающаяся непогода.
Внезапно старуха разогнулась и, поглядев на Елизавету Кирилловну, сказала:
– Гроза стороной пройдет, а тебе, милая, довольно стороной ходить. Идем-ка со мною!
Елизавета Кирилловна повиновалась и, сама не зная зачем, последовала за травницей. Та привела ее к крохотной избушке, стоявшей неподалеку от монастыря. Три дворовых пса с веселым лаем выскочили ей навстречу. Ласково потрепав каждого, старуха открыла дверь в свое жилище. В первый миг Елизавете Кирилловне сделалось дурно. В натопленной, несмотря на лето, избе царил удушливый смрад. Хозяйка явно не считала нужным прибираться в ней. Весь пол был усыпан объедками, оставленными ее животными (кроме собак, в доме обнаружились еще две кошки). Тут же лежали четыре подстилки, и до Елизаветы Кирилловны не сразу дошло, что одна из них заменяет постель старухе.
– Господи, да почто же у вас так не прибрано? Ведь вонь ужасная! – воскликнула она.
– Что есть, то есть, – согласилась травница. – Так мне то заместо духов заграничных, которыми я когда-то столь обильно себя поливала при дворе. Tout le temps, mon enfant.
Елизавета Кирилловна с недоумением посмотрела на старуху, которая жила в хлеву и говорила на французском, как парижанка.
– Кто вы? – спросила, присаживаясь на край единственного стула.
– Дура Ефросинья, – представилась старуха. – А ты Лизавета Блаженная.
– Блаженная?
– Самая что ни на есть, – Ефросинья опустилась на одну из подстилок, вытянув натруженные, мозолистые ноги. Подбежавший пес стал преданно лизать их.
– Зачем же вы на пол? Здесь так грязно…
– Так и что же, что грязно? Не все мне на перинах пуховых леживать. Теперь вот моя постель.
– Да неужто вы с собаками рядом спите? Зачем же?!
– А это, милая, для того, что я хуже собак, – откликнулась старуха, чуть улыбнувшись беззубым ртом. Лет ей на вид было не меньше девяноста…
Елизавета Кирилловна растерянно озиралась по сторонам. Хозяйка избы-хлева была, по-видимому, безумна, но глаза ее смотрели совершенно ясно, и не было в них ничего говорящего о помешательстве.
– Вижу, не нравятся тебе мои хоромы, – заметила Ефросинья, поднимаясь. – Что ж, и то верно: не по тебе они. Тебе на постели теплой с детками спать должно, а не на рванине с псами. Звери ласки да участия требуют, а что о детях говорить? Ты же боль свою выше всего на свете поставила, тогда как боли настоящей не знаешь. Тот, кто боль настоящую принял, тот ею так упиваться не сумеет. А у тебя страх один. Перед чем страх? Перед болью и стыдом страх… От лукавого это, милая. Страх лишь один в душе человеческой быть должен – Божий.
Старуха распахнула дверь. Снаружи вновь сияло солнце, а ветер утих. Евросинья подала Елизавете Кирилловне мешочек с травами:
– Пей, милая, отвар всякое утро да Господу молись – жизнь к тебе и вернется. А ко мне надумаешь в гости заглянуть, так я тебе всегда рада буду. А теперь ступай с Богом! Скоро вечерня, пора мне поспешать. Помолюсь за тебя да за деток!
Растерянная Елизавета Кирилловна даже не нашлась, что сказать старухе на прощанье. Только поклонилась неловко и, прижимая к груди полученный мешочек, заспешила домой.
Тетку и ее горничную она застала в саду. Аграфена Павловна любила сиживать в тени душистых яблонь, слушая чтение богоугодных книг или занимаясь шитьем. В этот час горничная всегда подавала ей чай со сдобными плюшками, и вместе они подолгу пили его, вспоминая прежние времена, когда обе они были молоды, и жизнь была бойкой и веселой.
Завидев племянницу, Аграфена Павловна окликнула ее:
– Лизанька, свет мой, садись, испей чаю с нами!
Та остановилась в нерешительности и против ожидания направилась к столу. Тетку немало удивило сие: за прожитые под ее кровлей недели племянница слова ни с кем почти не говорила. А тут подошла на зов и чашку из рук Ариши приняла, и смотрела как-то иначе, чем еще поутру – точно впервые видела и сад этот, и тетку, и все-все вокруг.
– Что с тобой, Лизанька? Хорошо ли ты себя чувствуешь? – осведомилась Аграфена Павловна.
– Не знаю… – растерянно отозвалась Елизавета Кирилловна. – Я сейчас старуху одну встретила, странную… Она травы подле монастыря собирала.
– Так это юродивая наша, Ефросинья! – догадалась Ариша. – Уж не испугала ли она вас чем, барыня?
– Нет, не испугала, – покачала головой Елизавета Кирилловна. – Она безумная, верно ли?
– Это как сказать, – улыбнулась Аграфена Павловна. – Может, это мы безумны, а она одна в здравом рассудке.
– Известно ли, кто она? Она говорила со мной по-французски, что-то вспоминала о дворе… Бред какой-то!
– Это-то как раз не бред. Ты, небось, ее за нищенку приняла? А она, мой свет, урожденная княжна Вяземская! Евдокией Григорьевной звалась когда-то.
– Полно, тетушка! Неужто впрямь?
– А ты не хмурься! Ее сам владыка Филарет почитает! А до него владыка Платон о ней попечение имел. Лет шестьдесят тому она выпорхнула из стен Воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре и сделалась фрейлиной самой государыни Екатерины! Скуку ее развлекала с камергером Нарышкиным, что потом директором театров Императорских стал. Александра Васильевича Суворова хорошо знавала и других многих. И князя Светлейшего – Потемкина…
Глаза Елизаветы Кирилловны расширились. Она забыла и о чае, и о булках. В ее голове никак не увязывалась знатная девица, любимица великой Государыни, и древняя старуха, спящая на полу ветхой избы рядом с собаками…
– Что же с ней приключилось потом?
– Да ничего, мой свет. Господь позвал, только и всего. Их три подруги было, что решили от двора с его соблазнами бежать. Для того, чтобы не искали их и не мешали, инсценировали они свою смерть. Платья свои на берегу пруда в Царском Селе оставили, а сами крестьянками обрядились и в Москву отправились. Да только сыскали Евдокию Григорьевну и назад вернули. Императрица, однако, препятствовать ей в служении Богу не стала, подарила облачение иноческое да отпустила с миром.
– И она приехала сюда?
– Нет. Сперва она на скотном дворе Спасо-Суморина монастыря подвизалась. Сменила, стало быть, двор царский на двор скотный… А когда постарела, так к митрополиту Платону обратилась, чтобы благословил ее на подвиг юродства. Владыка благословение дал и определил ее в наш монастырь. Только в монастыре она недолго прожила, ушла в избушку отдельную, там и живет. Когда владыка Филарет к нам приезжает, так Евфросинья его и встречает у врат монастырских и провожает. Она ему руку целует, он – ей. Великой подвижницей он ее считает, свет мой. Да и как иначе? Многим ли такая сила дана, чтобы от неги и роскоши себя в этакую нищету и призрение ввергнуть…
Все три женщины на какое-то время умолкли, пытаясь вместить в своем сознании невместимое – подвиг длиною в жизнь… О таких много написано на страницах святцев. Но то все – где-то, когда-то… А тут – живая подвижница. И не из глуши какой, но из самой высшей знати. Как тут ни подивиться, как ни смолкнуть потрясенно, вглядываясь в глубины души собственной…
– Мама! Мама!
Это дети с прогулки воротились и бежали наперегонки к матери. А она впервые за эти месяцы не осталась сидеть безучастно, а навстречу им бросилась, точно давным-давно не видела. И как после долгой разлуки, обнимала и целовала их, плача. А когда успокоилась, объявила:
– Назавтра к заутрене пойдем. Будем Господу молиться, чтобы простил мои грехи. Люди великие муки терпят, а я от малости в отчаяние впала, имя Божие хулила и от света его отвращалась… Ничего это не будет теперь. Будем жить, как при Степане Степановиче, при батюшке нашем незабвенном – покойно и счастливо.
Сказав так, Елизавета Кирилловна прошла с детьми в дом, а Аграфена Павловна, проводив их взглядом, вздохнула с облегчением и перекрестилась размашисто.
– Знать и впрямь большую силу наша Евфросинья имеет, – сказала Арише. – Раз поговорила с нашей Лизанькой и к жизни воротила. Ты вот что… Завтра пойди к ней. Снеди отнеси какой… Сама-то не станет, а для зверья своего примет. Поклонись от меня в ноги, что спасла нашу красавицу.
– Чуть свет побегу, барыня, – закивала горничная. – Еще до заутрени обернусь! Святая она, как есть святая… Красавица наша совсем здорова. Слава тебе Господи! А то уж мочи не было на нее, горлицу, да на деток, на сироток при живой матери, смотреть!
Солнце склонилось к закату, окрасив землю царственной золотистой багряницей, и вновь запели монастырские колокола, возвещая конец вечерни. И тотчас распахнулись настежь окна Елизаветы Кирилловны во втором этаже теткиного дома. Как когда-то в детстве, вновь хотелось ей чтобы небесная эта песня лилась в ее комнату, в ее пробудившееся от страшного сна сердце.
Глава 14.
Восточным людям доверять нельзя. И нельзя установить с ними сколь-либо прочного мира, ибо они нарушат его в тот же час, как увидят в том выгоду и соберут достаточно сил для набега. Мира на Кавказе можно достичь, лишь разгромив противника окончательно, так, чтобы он не смог уже восстановить силы. Иначе война не будет иметь конца, и кровь будет литься год за годом с перерывами на очередные лживые «замирения». Эту истину поручик Константин Стратонов понял давно. А в это лето очередной раз подтвердилась она. Много ли воды утекло с того дня, как Шамиль заверял русских посланников в своей покорности русскому Царю и обещал впредь не совершать набегов? Но, вот, матерый волк зализал раны и напал на село Иргиной. Нападение, впрочем, не увенчалось большим успехом. Имам повел свое полчище на Аргуани, но был разбит.
Однако, русское командование допустило большую ошибку. Допустило не теперь, а еще раньше – когда не помешало Шамилю укреплять Набатную гору, ставшую ныне почти непреступной крепостью.
Набатная гора или в переводе на аварский Ахульго, была окольцована другими горами: возвышающейся над Сулаком Салатау на севере, Гимринским хребтом на востоке, Андийским – на западе, и Бетлинской грядой – на юго-западе. Северную подошву Ахульго омывала река Андийское Койсу, образуя полуостров, разделенный в свою очередь надвое бурной Ашильтой. Два утеса взмывали ввысь от ее берегов – Старое Ахульго на западе, и Новое Ахульго на востоке. Расположенные на их вершинах одноименные аулы сообщались между собой, благодаря узкому бревенчатому мостику, протянутому над пропастью глубиной в 40 метров.
Над этими величественными утесами высилась еще одна скала – Шулатлулго или Крепостная гора. Лучшего места для боевой позиции представить себе было трудно. Ибо вершина скалы представляла собой стометровую ровную площадку. Мастер Сурхай воздвиг на ней небольшой аул, одна из саклей которого возвышалась над остальными. Сурхаева башня – так с той поры прозвали Шулатлулго. С этой башни, господствующей надо всеми окрестностями, хорошо видно было всякое передвижение русских войск, которые мюриды могли расстреливать безо всякой помехи…
В этой-то крепости и затворился Шамиль со своим войском, их семьями, четырьмя тысячами пленных… Само войско насчитывало лишь тысячу сабель, но, чтобы только добраться до них, нужно было положить немало русских жизней! Имам успел надежно укрепить свой бастион, опоясав его траншеями и окопами, воздвигнув каменные укрепления с бойницами.
Взять Набатную гору надлежало Чеченскому отряду под командованием генерала Граббе. Граббе по праву считался одним из лучших генералов, на которого смело можно было возлагать большие надежды. Павел Христофорович окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус и с шестнадцати лет доблестно служил России, не пропустив ни одной кампании. Прейсиш-Эйлау, Голомин, Фридланд – с этих скорбных для каждого русского сердца страниц начинался его ратный путь. После Тильзита он жил в Кракове, состоя адъютантом генерала Ермолова. В 21 год Граббе, как отличный офицер, был командирован тогдашним военным министром Барклаем-де-Толли военным агентом в Мюнхен.
В канун войны он стал уже адъютантом самого Барклая. До начала открытых сражений генерал направил его в качестве парламентера во французскую армию с тайным поручением разузнать о месте главной французской армии и численности ее. Это рискованное поручение было исполнено Павлом Христофоровичем блестяще, и он лично доложил обо всем виденном Государю.
Граббе участвовал практически во всех значимых сражениях кампании 1812 года. А в 13-м был направлен в партизанский отряд Вальмодена, с которым участвовал в набегах, производимых на разбросанные части французской армии. По завершении же Заграничного похода и возвращении в Россию молодой офицер стал членом Союза Спасения, позже переименованного в Союз Благоденствия. Впрочем, когда тот объявил о своем самоупразднении, Павел Христофорович прекратил всякую подпольную деятельность и не принял никакого участия в декабрьском восстании. Благодаря этому, пробыв четыре месяца под арестом, он был совершенно оправдан.
А дальше вновь были привычные ему поля сражений… Турецкая кампания, Польская, и, вот, наконец, Кавказ… Здесь его Чеченскому отряду была указана лишь общая цель действий. Средства же к достижению оной генерал должен был избирать сам, исходя из обстоятельств. В его распоряжение были предоставлены все военные средства не только Кавказской линии, но и Северного Дагестана, который временно подчинен был ему во всем, что касалось военных действий.
Прежде чем ударить на Шамиля Граббе решил отправиться в Чечню и разгромить ближайшего союзника имама Ташав-Хаджи Эндиреевского, давно тревожащего верные России селения. Подготовку к походу удалось провести в тайне, и русские войска так внезапно подошли к крепости Ташав-Хаджи, что храбрый горец был застигнут спящим. По приказу Граббе крепость была сожжена. Нанеся два крупных поражения чеченцам и придав огню их аулы, Павел Христофорович двинулся на Ахульго.
Все это время Константин изнывал от бездействия. Будучи прикомандирован к Эриванскому полку Карла Карловича Врангеля, он вынужден был оставаться вместе с ним в резерве в то время, как его брат вместе с Граббе готовился к решительной схватке с Шамилем.
И Павел Христофорович, и Стратонов-старший прекрасно понимали, что взять такую природную крепость, как Ахульго, «в лоб» невозможно, а потому предпочтение было отдано осадной тактике.
Перво-наперво решено было овладеть Сурхаевой башней, где укрепилась сотня самых отчаянных мюридов во главе с Али-беком. Более двух недель ушло на осадные работы. Дороги приходилось высекать прямо в скалах, а туры для оружий заполнять камнями за недостачей земли.
Лишь на рассвете 29 июня русские батареи провели артподготовку, открыв огонь по башне, а следом батальоны Апшеронского и Куринского полков с трех сторон ринулись ввысь, карабкаясь по склону, крутизна которого превышала 45 градусов. Несмотря на шквальный огонь, коим были встречены атакующие, солдаты добрались до вершины и вступили в жестокий бой с защитниками башни. В помощь им подоспел батальон Кабардинского полка, но даже общие усилия оказались тщетные – в этот день Сурхаева башня выстояла, хотя многие ее защитники, включая Али-бека, погибли.
Пять дней спустя Павел Христофорович довершил начатое. Русская артиллерия до вечера бомбардировала непокорный утес, и когда с наступлением темноты солдаты поднялись на вершину по ставшему куда более отлогим от попадания ядер и гранат склону, по ним не раздалось ни единого выстрела – все защитники Сурхаевой башни были мертвы.
Теперь предстояло сконцентрировать усилия на самом Ахульго. К вящей радости Константина Павел Христофорович срочно вызвал из Южного Дагестана три батальона пехоты Врангеля с орудиями. Именно колонне Карла Карловича Граббе отводил главный удар в намеченном штурме.
Утром 16 июля русская артиллерия обрушила жестокий огонь на укрепления мюридов. После артподготовки батальоны пошли на приступ. Полковник Врангель сам вел в атаку своих людей. Несмотря на страшные потери от огня горцев, косившего солдат целыми шеренгами, бойцы, воодушевляемые примером своих офицеров, отважно стремились вперед.
Вот, наконец, пробились к боковым башням и сошлись с противником лицом к лицу. Константин побывал во многих битвах с горцами, но такого ожесточенного сопротивления он еще не встречал. На него самого бросились сразу четверо головорезов, которых поручик разбросал в разные стороны, тут же изрубив двоих. Но немедленно на него налетел пятый, дравшийся отчаянно, но не слишком умело для горца. Стратонову не стоило большого труда проткнуть его. Но, когда обливающийся кровью мюрид стал оседать, и с него свалилась чалма, Константину стало не по себе. По плечам сраженного горца рассыпались густые, темные косы… Неумелый мюрид оказался переодетой в черкеску женщиной. Выходит, не только шамилевская тысяча в бой пошла, но и бабы их с ними? Ну и дела! Из баб вояки хоть и не Бог весть какие, но злобы и ярости в них и без воинского умения достанет, чтобы наших душ не один десяток в рай отправить!
А мюриды налетали и налетали со всех сторон, не давая опомниться. И сам уже получил Константин два удара добрых, и уже не мог разобрать в чьей крови он – в своей или вражеской – только знай отбивался на все стороны, не разбирая, кто перед ним, мюрид или ошалевшая от ненависти баба…
Две башни были взяты. Хоть и немалой кровью, а успех достигнут был – теперь бы не остановиться, развить его!
Внезапно что-то пошло не так. Стратонов не сразу понял, отчего смешались русские ряды, и лишь пробиваясь к окруженному и слабеющему от ран Карлу Карловичу, осознал: оставленные в резерве батальоны, вдохновленные героизмом передового, не устояли и бросились на выручку, не дождавшись приказа…
Несчастные! Да разве ж можно по узкому перешейку этому да такой оравой?! Полторы тысячи штыков сгрудилось! Быстро не продвинуться такой массой, застряли, замешкались и, как куры в ощип угодили! Накрыли их мюриды огнем изо всех бойниц и завалов… А те, устилая трупами каждый метр, рванулись вперед, уже забыв обо всем, и во второй ров уперлись, что под перекрестным огнем двух скрытых капониров находился. Захлопнулся капкан! Впереди ров, позади горы трупов, закрывшие путь отхода…
Отбиваясь от наседавших горцев и заслоняя собой тяжело раненого полковника, Константин с ужасом увидел, как в жуткой давке мечущиеся, как загнанные звери, русские солдаты срываются в пропасть. Ими некому командовать! – пронеслась мысль. Выбило в этой бойне большинство офицеров из строя! Выбило, как Карла Карловича, как…
– Слушай мою команду!!! – Константин сам не узнал своего охрипшего голоса. Но голос оказался достаточно зычен, чтобы долететь до сражающихся бойцов.
– Держать строй! Раненых подобрать! Отступаем на нижний гребень!
Имел ли он, поручик, право отдавать подобные приказы в этой сече? Да не все ли равно! Солнце садится, и гибнут, гибнут батальоны бездарно и страшно в кровавом месиве… И уже не могут они идти вперед. И удержать таким геройством взятое не могут. Могут только погибнуть. Все до единого… Но разве может офицер допустить, чтобы просто так, как скот на бойне, погибли солдаты?
– Отступаем на нижний гребень! За мной! Держать строй!
Если превысил полномочия, пусть судят его там, внизу… Но здесь, в этом аду, он спасет остатки батальонов. И эти жизни стоят… погон поручика, кои так долго выслуживал он…
Им все-таки удалось пробиться на нижний гребень, забрав с собой Карла Карловича и часть прочих раненых, кого достало сил унести. Здесь, уже в полутьме, Константин лицом к лицу столкнулся с братом. Юрий с небольшим отрядом спешил к гибнущим батальонам с приказом Граббе отступить…
– Да мы уж и так… – вымолвил Константин, утирая со лба перемешавшуюся с потом кровь. – Все, Ваше превосходительство, батальонов Врангеля больше нет…
– Ты жив – с меня довольно… – дрогнувшим голосом откликнулся Юрий, обнимая его.
– Плагиат… – усмехнулся поручик, вспомнив, что такими славами Кутузов приветствовал Багратиона после Шенграбена. – Ты с объятиями-то полегче… Мне они тоже пару отметин оставили…
Только сейчас Стратонов-младший почувствовал, что тело его сочится кровью многочисленных ран, и силы начинают оставлять его. Юрий тотчас расстелил свой плащ и, уложив на него Константина, велел немедленно позвать лекаря.
– Полно! – отмахнулся поручик. – У лекарей нынче работы с избытком. А я уж давно, что пес стал. Дерут меня в драках другие собаки, а на мне все шрамы сами собой затягиваются.
– Не мели вздор, – прервал его Юрий. – Ты, братец, настоящий герой нынче! Я горжусь тобой. И отец бы гордился. И князь Петр Иванович… О подвиге твоем я Государю самолично доложу. Он знает, что я ради родства на красное слово не способен.
– А я, признаться, готовился под трибунал за нарушение приказа отправиться.
– Трибунал! Да за такой подвиг тебе георгиевский крест с бантом пожалован должен быть! И будет пожалован!
– Бог с ним, с крестом… – махнул рукой Константин, которого в этот момент вдруг начисто перестали волновать награды и звания, о которых он так мечтал еще вчера. – Ты мной гордишься – мне это лучшая награда. Я всегда хотел быть достойным братом генерала Стратонова.
– Балда, – улыбнулся Юрий, покачав головой. – Хоть и герой, а все одно балда.
– Не взыщите, Ваше превосходительство, таким уродился, – рассмеялся в ответ поручик и, закрыв глаза, провалился в глубокий сон, так и не дождавшись разрывающегося между страждущими лекаря.
Глава 15.
Ранения Константина по счастью не оказались серьезными, и через несколько дней он вновь был в строю. Однако, понесенные 16 июля потери ставили под вопрос намеченную стратегию. Вдобавок среди личного состава участились болезни, что всегда является следствием долгих стоянок в местах кровопролитных боев, где сам воздух отравлен трупным ядом. Снабжение столь значительного войска также стало испытывать перебои.
Положение горцев было не лучше. В крепости скопилось множество больных и раненых, пути снабжения были перерезаны русской армией.
Такой расклад заставил Граббе начать переговоры.
– Отправляйтесь к Шамилю и передайте ему условия капитуляции, – таков был приказ Павла Христофоровича. – Кажется, вы уж с ним знакомы.
– Я бы охотнее повел на него наши передовые части! – воскликнул Стратонов.
– Понимаю вас, Юрий Александрович, но мы не можем допустить еще одной бессмысленной бойни.
– Однако, если Шамиль примет условия капитуляции, то это лишь затянет войну! Он вновь поклянется в верности, залижет раны, а через пару лет…
– Вновь начнет разбойничать? – Граббе покачал головой. – Если он примет условия капитуляции, то такой возможности у него не будет.
– В таком случае он не примет их.
– Возможно. Но нужно попробовать. Мы должны думать о наших людях. Мы не можем войти в Ахульго по трупам наших солдат… Не можем допустить, чтобы наша победа стала Пирровой.
Возразить на это было нечего, и Юрий отправился с очередным «посольством» к имаму-бунтовщику. Граббе требовал, чтобы тот отдал своего сына аманатом, а сам со своими мюридами сдался русскому правительству с тем, чтобы то назначило им место жительства и содержание. Все оружие должно было передаться русскому командованию, а оба Ахульго стать на вечные времена землею Императора Всероссийского, на которой горцам не будет дозволено селиться без соответствующего разрешения.
Переговоры, сопровождаемые непрерывной канонадой, длились четыре дня, но, как и следовало ожидать, ни к чему не привели. В планы Шамиля никак не входило быть поселенным в какой-нибудь русской глуши под надзором. Этот человек жаждал власти и верил… Стратонов не мог решить, во что больше верил имам: в того, чьему имени служил, или в самого себя, в свою звезду. А, может, одно не отделялось от другого у человека, считавшего себя избранником своего бога…
17 августа исполнилось желание Стратонова – после неудачи переговоров он повел на штурм три сформированные для оного колонны. Солдаты, уже приноровившиеся к местности, быстро поднялись на скалу, несмотря на град камней и пуль. На передовом укреплении их встречали мюриды под командованием самого Сурхай-кадия. Бились они, как всегда, отчаянно. Никто не искал спасения, и почти все, включая самого Сурхая, нашли в итоге свою смерть на русских штыках. Стратонов закрепился на новых позициях в непосредственной близости от Нового Ахульго и теперь предвкушал финальную битву с самим Шамилем, которая неминуемо должна была завершиться викторией.
Но хитрый имам отнюдь не спешил встретить свою смерть. Теперь уже он пожелал вести переговоры и выслал к генералу Граббе в заложники своего старшего сына Джамалуддина, исполнив таким образом первое требование капитуляции.
– Проклятье! – досадовал Юрий. – Мы могли бы взять крепость за считанные дни, а теперь вновь теряем время, давая разбойникам зализать раны и измыслить какую-нибудь подлость!
– Не кипятись, – Константин был на редкость безмятежен. – Не больно-то им удастся зализать раны в таких условиях.
– Зато придумать какой-нибудь ход, который будет нам дорого стоить, вполне может удаться. Шамиль – это гремучая змея. Один Бог знает, на что способен его изворотливый ум. Он затягивает время и наверняка не напрасно! Поэтому я предпочел бы идти вперед, не останавливаясь, пока этот человек не будет в наших руках живым или мертвым.
– Павел Христофорович – человек на Кавказе новый. Он отличный военачальник, но ему пока не достает знания характера нашего противника, – согласился Константин. – А, признайся, Юра, тебе не терпится взять в плен твоего недавнего визави?
– Скорее, мне не терпится скрестить с ним саблю.
– Не тебе одному…
– Ну-ну, – Стратонов потрепал брата по затылку, – этот противник вам, поручик, покамест не по чину!
Зная воинственный настрой Юрия, на очередные переговоры Граббе отправил генерала Пулло, но и его усилия не увенчались успехом. Шамиль не мог согласиться отдать себя в волю русского правительства и настаивал, чтобы ему было дозволенно жить в горах. Но такой исход означал бы скорее капитуляцию русских. Посему после трехдневного перемирия Павел Христофорович вновь бросил войска на приступ.
22 августа было взято Новое Ахульго, откуда горцы успели поспешно отправить многих женщин и детей в Ахульго Старое… Те же жены, что решили до конца разделить судьбу своих мужей, вновь вышли сражаться с русскими. Сражались они даже без оружия, сражались от отчаяния и от отчаяния же сами бросались на русские штыки. Их вера не позволяла им попасть в руки неверных – вот, почему бились они с таким безумием, ища своей смерти…
Из защитников Нового Ахульго в живых не осталось никого. По взятию аула Граббе приказал Стратонову, ожидавшего своей «партии», идти на штурм Старого Ахульго – последней цитадели Шамиля, где заперся он сам с женой, малолетним сыном, сестрой, несколькими сотнями мюридов и их семьями.
Солдаты были настроены, как нельзя лучше, и шли в бой «на уру». Ворвавшись в крепость, они тотчас опрокинули штыками его защитников. Бой разгорелся в самом ауле. И, пожалуй, во всю свою жизнь не видел Стратонов более безумного сопротивления. В бой бросились даже дети, швырявшие камни в штурмующих. Матери хватали младенцев и, прижимая их к груди, бросались в бездну ущелья, чтобы не попасть в плен. Целые семьи затворялись в своих саклях и предпочитали сгореть заживо, нежели сдаться победителям.
Юрий несколько раз призывал непокорных сложить оружие и вверить себя милости русского правительства, которое уж точно не причинило бы ни малейшего вреда женщинам и детям, но в ответ звучали выстрелы и проклятья. Некоторые мюриды, уже тяжело раненые и истекающие кровью, делали вид, что согласны сдаться. Но когда кто-либо из русских приближался, чтобы принять у них сдаваемое оружие, те из последних сил наносили этим оружием вероломный удар…
Кое-кто из горцев засел в пещерах, вырытых в отвесном берегу Койсу. Наиболее ловкие и смелые солдаты спускались к ним на веревках, чтобы выбить их оттуда. Но эта часть выигранной битвы уже мало интересовала Юрия. С середины боя, когда аул был уже в руках русских, он неустанно искал среди сражающихся Шамиля. Искал и не находил…
Когда-то имам Кази-Магома бился с русскими в полном окружении и пал, попытавшись прорваться из него. Шамиль прорывался тогда вместе с ним и уцелел… Но в этот раз никто не прорывался из крепко сомкнутых русских тисков… И в то же время того, кто был главной целью штурма, не было ни среди многочисленных убитых, ни среди немногих пленных.
Шамиль исчез, словно растворился в воздухе, и этот факт не позволял Стратонову испытать полной радости от созерцания русских знамен, развивавшихся над обеими непреступными башнями-утесами… Несколько дней он самолично допрашивал пленных, но ничего не смог добиться от них. Хотя очень может быть, что они и в самом деле ничего не знали о судьбе своего предводителя…
Армия возвращалась на свои позиции. Она одержала действительно большую викторию, ее солдаты вновь показали себя истинными героями. Но Юрий не чувствовал победы. В канун отхода от Ахульго он с мрачным видом сидел у костра, кляня последнее перемирие. Ведь как чувствовал, что замышляет что-то попавший в западню зверь! Как чувствовал, что нужно скорее двигаться вперед, не дать ему опомниться! А не смог донести этого до Павла Христофоровича… Отличный боевой генерал, он думал о жизнях своих подчиненных, до последнего надеясь сберечь их, склонив Шамиля к капитуляции. Он еще не знал, что такое Шамиль! А Стратонов знал. Еще в ту первую встречу с ним понял…
– Ваше превосходительство, на тебя посмотреть – так мы точно очередной Аустерлиц пережили! – Константин подошел неслышно, сел рядом, беззаботно поигрывая красивым кинжалом, взятым в качестве трофея в последнем бою. – Мы уничтожили все это полчище! Разрушили их укрепления. Может, и самого-то имама в живых нет.
– Он жив, Костя, – покачал головой Юрий. – Я чувствую. Я уверен. А если так, то все прочее уже маловажно… Таких полчищ он наберет сколько угодно – Чечня и Дагестан еще не оскудели головорезами. Помяни мое слово, братец, эта наша победа всего лишь пролог новой большой войны. Он отлежится недолго и вновь поднимет свое знамя в каком-нибудь чеченском ауле. И за ним, чудом спасшимся, пойдут тысячи! И все начнется сызнова… И так кровь, что мы пролили здесь, станет лишь малой долей той крови, которая потребуется, чтобы залить тот пожар, что он разожжет.
– Черт побери, послушать тебя – так впору запить от хандры! Нет уж, довольно! К черту Шамиля, к черту мюридов и всю эту войну. Я выхожу в отставку, Юра, вот что. Я тогда, 16 числа, решил, что если Ахульго возьмем, и башка моя здесь с плеч не слетит, то все – подам прошение об отставке. Не хочу, чтобы моя жена осталась вдовой, а мой будущий сын, не узнавший меня, сиротой.
– Я рад, что ты, наконец, принял это решение, – одобрил Юрий. – Поезжайте с Лаурой в Москву. Вы давно заслужили ваше счастье.
– Ну, а ты, старый вояка? Будешь теперь гоняться по горам за своим Шамилем?
– А на что я еще гожусь? Пока будет воля Государя, чтобы я оставался здесь, буду искать Шамиля и усмирять непокорных. Откроется иной фронт – отправлюсь туда, коли Император прикажет.
Обрисовав этот простой и строго очерченный приказом план, Стратонов подумал о Софьиньке. Эти несколько дней он не писал ей. А, пожалуй, пора. По возвращении к постоянному месту дислокации можно будет, наконец, отправить все те письма, что скопились за месяцы осады. Должно быть, она уже заждалась вестей о нем, как и он о ней… Ангел мой, Софья Алексеевна, как-то вы там живете? Поздорову ли? Как идут ваши дела с Клюквинкой? И зачем-то вам еще и эта ноша!.. Впрочем, вы, без сомнения, возвратите это заброшенное родовое гнездо к жизни, как когда-то вернули того, чье сердце навсегда принадлежит вам, и перед чьими глазами стоит теперь ваш светлый образ, заставляя его забыть войну, Ахульго, проклятого Шамиля и все, и всех…
Глава 16.
Крымским горам далеко до кавказских пронзающих небесный купол пиков. Зато прямо под кручами их то ревет, то бормочет ласково – море! Синее и искрящееся золотом в ясную погоду, и черное, мятежное, страшное – в дни грозовые. Последние дни аккурат таковыми были, и казалось порой, что вздымающиеся ввысь разъяренные волны стремятся дотянуться до замершего на горном уступе, словно вросшего в нависшую над бушующими волнами скалу дома… Но ярость их была напрасна, вновь и вновь разбивались они о многометровый природный фундамент этого странного жилища, рассыпаясь на миллионы брызг, оседая белой гневной пеной…
Дом был невелик, но выстроен умелым зодчим, коего хозяин явно не ограничивал в средствах. Мрамор различных оттенков, винтовая лестница, вырубленная прямо в скале, ажурные барельефы и оконные наличники, оранжерея… Решительно, жилище это отличалось немалой оригинальностью. Проплывавшие вблизи рыбаки могли нередко видеть хозяина, часами просиживавшего на балконе. Иногда компанию ему составляла женщина… Что-либо еще разглядеть на такой высоте было невозможно, а потому довольно любопытных судачили о странном доме и строили различные гипотезы относительно его обитателей.
Женщина много времени проводила в оранжерее, устроенной специально для нее. Ей доставляло удовольствие заботиться о многочисленных цветах и редких овощных культурах. Иногда она пеняла хозяину:
– И зачем нужно было строить этот замок на мертвом камне. Чем вам не угодила земля? На земле я разбила бы чудесный сад, где бы цвели и плодоносили вишни и яблони, благоухал жасмин…
– Эжени, неужто с летами в вас проснулась тяга к ведению хозяйства? Я уже боюсь однажды застать вас за шитьем или варкой варенья!
– Чем вам не угодило варенье? Вам же не мешает, когда я варю свои настои…
– Признаться, не понимаю, для чего вы возитесь с ними? Вы продаете их людям, но ведь в этом нет никакой нужды…
– Для вас – нет. А для них – есть. И для меня – есть. Я не могу целыми днями сидеть на этом балконе, смотреть вдаль и ждать… Чего вы ждете, Виктор?
– Я жду, когда грянет гром, моя дорогая. Вас тянет к земле, а меня манит небо. Мне хорошо здесь, вдали от людей. Жизнь на земле не позволяет отдалиться от них настолько, насколько мне бы хотелось.
– Вам так досадили люди?
– Да, мне досаждает глупость и подлость. А мой жизненный опыт свидетельствует, что они удел большинства человечества.
– Что ж, ожидайте грома… Он скоро грянет, коли вы так его жаждете…
Эжени не помнила, когда в ее душе явилось это ясное предчувствие надвигающегося грома. В Петербурге ли еще или уже здесь, в этом укрытии, воздвигавшемся несколько лет по личному проекту Виктора? Так или иначе, но однажды явившись, это предчувствие уже не покидало ее, угнетая с каждым днем все больше. А теперь еще эта буря, эти страшные косматые тучи, упрямо не желавшие оставить захваченных позиций и уступить место солнцу. И… одиночество. Целыми днями просиживавший на одном месте Виктор сам все больше напоминал мраморное изваяние. А кроме него в доме были лишь безумная Маша и немой Благоя, с печалью наблюдавший мизантропию своего хозяина.
– Что же нам делать, Благоя? – иногда тихо спрашивала его Эжени, когда он помогал ей в оранжерее. – Ведь он… словно каменный гость на этом свете… Ему ничего не нужно, и никто не нужен. Господи, я отдала бы всю мою душу, чтобы возвратить его к жизни, чтобы…
Верный серб с жаром прикладывал руку к груди и кивал головой: он тоже был готов отдать за своего господина душу.
– Но наши души бессильны… Наши молитвы не долетают к престолу Целителя Душ. Потому что мы грешны… В особенности, я… Я даже не имею права обращать свой взор к Нему. Ты лучше меня, много лучше.
С этим Благоя соглашаться не хотел категорически, выражая свое несогласие эмоциональной жестикуляцией.
– В этом доме лишь одна чистая душа… Но эта душа помрачена. Ее молитва спасла бы его, но она его даже не помнит…
Серб печально вздыхал. Он, как и Эжени, предпочел бы вновь странствовать со своим господином по чужим землям, пускаясь в опаснейшие авантюры, нежели сидеть на этой скале и ждать неведомого.
Гром грянул на четвертый день бури. Промокший до нитки Благоя, спускавшийся к подножию горы, куда причалила лодка какого-то отчаянного смельчака, принес Виктору запечатанное письмо. Тот быстро сломал печать и стал читать, бледнея с каждой прочитанной строчкой. Наконец, отбросив бумагу, произнес с каким-то злым торжеством:
– Он все-таки сбежал!
– Князь Михаил?
– Да. Мой агент сообщает, что негодяй ухитрился уйти из-под надзора, и наши безмозглые ищейки, само собой, пока не смогли напасть на его след! Идиоты! – Виктор ударил кулаком по столу. – Они не могут напасть на след! Я не имею вашего дара, Эжени, но, черт побери, даже я знаю, где искать этот след!
– Вы полагаете, он попытается бежать заграницу?
– А вы считаете иначе? Он, конечно, нищ, как церковная крыса, теперь, но он игрок, не забывайте. И шулер… А, значит, голодная смерть ему точно не грозит!
– Он не сбежит заграницу, – тихо промолвила Эжени.
Виктор пристально посмотрел на нее и, нахмурившись, потребовал:
– Ну, говорите, моя дорогая. Клянусь честью, вашему дару в таких делах я доверяю больше, чем догадкам своего ума.
Говорить не хотелось. Резко закружилась, заболела голова, как бывало во мгновенья внезапных наитий, отнимавших все силы. В глазах потемнело, и в сумрачной пелене замелькали неясные силуэты…
– Серпухов! – вымолвила она, оседая на кресло. – Серпухов…
– Что вы говорите, Эжени? Зачем ему ехать туда? Зачем ему ехать к женщине, которая никогда не примет его после такого обмана?
Эжени качнула головой, отпила воды из поданного Благоей стакана:
– Я сказала вам то, что есть… То, что вижу… Не спрашивайте больше…
– Если только он обезумел… Благоя! Немедленно спускай лодку! Мы отплываем немедленно!
– Я еду с вами! – встрепенулась Эжени.
– Нет, мон шер, вы останетесь с Машей.
Что-то оборвалось внутри от этих слов, как от приговора. Стакан выскользнул из похолодевших рук и разбился вдребезги. За окном ослепительно вспыхнула молния. Виктор улыбнулся:
– Ну, вот, и дождались! Теперь все решится окончательно! Нам двоим нет места на этой земле…
Она ничего не смогла сказать ему на прощание, даже перекрестить не хватило мочи. Отрешенным взглядом проследила, как мелькает в бушующих волнах умело правимая Благоей шлюпка, а, когда та исчезла из виду, поднялась к на удивление спокойно спавшей Маше…
Этот человек постучал в ее дом ночью. Тетки Аграфены и ее верной Ариши не было – они еще неделей раньше уехали поклониться Преподобному. Дети уже спали… Зачем она открыла дверь? Почему не заперлась вместо этого на все засовы, не затворила ставни? Неужели лишь оттого, что стало жаль этого несчастного? За то время, что она не видела его, он исхудал и состарился на добрых десять лет. Глаза его блуждали. Он выглядел совершенно больным… И она не смогла оставить его на улице…
– Я вернулся к вам, Елизавета Кирилловна!
От этих слов ей сделалось не по себе.
– Что вам угодно, князь?
– Что мне угодно? – Михаил болезненно усмехнулся. – А разве вы этого не знаете? Мы ведь с вами, ма шер, уже почти открыли новую страницу нашей жизни, когда нас столь грубо прервали…
– Как вы смеете вспоминать об этом? Вы, вероломный обманщик!
– Замолчите! – лицо князя исказила злая гримаса. – И вы еще уверяли меня в вашей любви! Хороша любовь! Поверить первому клеветническому обвинению, поверить интриге и тотчас отречься! Вы даже не вспомнили обо мне во все это время! Даже не справились о том, кого называли своей жизнью! А я думал о вас всякий день! И кто же после этого вероломный обманщик?
– Вы безумны, князь! Ваша жена…
– Моя жена?! Да будет вам известно, что я был уверен в ее смерти! Она исчезла много лет назад, и мои поиски оказались тщетными! Скорее всего, она сбежала со своим любовником! А мой враг нашел ее и использовал, чтобы разрушить наше счастье и мою жизнь! А вы поверили ему, даже не пожелав меня выслушать! Даже не пожелав увидеться со мной!
– После того дня я была больна несколько месяцев и едва не умерла! А не могла увидеться с вами!
– Но и не желали! Не отрицайте, Елизавета Кирилловна! Иначе вы хотя бы написали мне приветное слово в тот ад, куда я был водворен злобой моих врагов и вашим безучастием.
По тому, как лихорадочно говорил Борецкий, как дурно блестели его глаза, Елизавета Кирилловна догадалась, что он не в себе. Однако, было уже поздно…
– Я, однако же, прощаю вас, ма шер. Вы всего лишь слабая женщина… А я люблю вас и верю вашему страданию из-за меня. Теперь все будет иначе! Теперь мы все исправим!
– Что вы хотите этим сказать?
– Та неверная, что чуть не погубила нас, добилась от Святейшего Синода развода со мной, чтобы вновь выйти замуж. Так что теперь ничто не помешает нам соединиться!
– Да ведь вы же бежали из ссылки!
– Бежал! Бежал, чтобы вновь видеть вас, чтобы заключить вас в объятия и назвать женой!
Елизавета Кирилловна в испуге отшатнулась:
– Вы сошли с ума!
– Ах вот, как ты заговорила? – недобро ухмыльнулся Михаил. – Что, никак разлюбить успела? Экие вы быстрые на любовь-то! Сегодня любим одного, завтра – другого? Шлюхи… Все вы шлюхи… Ну, довольно! Больше я не стану обращаться с тобой, как с благородной! Не хочешь быть моей женой подобру, так я свое силой возьму!
Князь резко схватил Елизавету Кирилловну за руку и, притянув к себе, впился сухими губами в ее уста. В этот миг раздался испуганный возглас няни Стеши, что вышла на шум из своей комнаты.
Михаил быстро обернулся к ней и, не выпуская руки своей «невесты», выхватил пистолет:
– Заткнись, дура! – прикрикнул. – А не то убью и тебя, и твою барыню.
Стеша от страха присела на пол, всхлипнула, дрожа всем телом. Князь подтолкнул к лестнице Елизавету Кирилловну:
– Поднимайся живо наверх!
Она повиновалась, отчаянно пытаясь найти выход из создавшегося кошмара. Наверху спали дети, и этот обезумевший человек мог причинить им зло! А он, точно мысли ее читая, как раз дверь в детскую отворил:
– Иди к своим щенкам! – приказал и, повернувшись к Стеше: – Ты тоже! Ну!
Обе женщины, до смерти перепуганные, покорно вошли в комнату. Михаил захлопнул за ними дверь и запер ее на задвижку.
– Откройте сейчас же! – воскликнула Елизавета Кирилловна, бросаясь к двери. – Что вы хотите от меня? Денег? Я дам вам, сколько есть в доме!
– Как же вы скверно думаете обо мне, ма шер… Впрочем, мог ли я ждать чего-то иного от купеческой вдовушки? Нет, мне нужны не деньги. Мне нужны вы! И вы станете моей, потому что иного выхода отсюда у вас не будет!
– Скоро вернется тетушка!
– Надеетесь на помощь? Напрасно! Я даю вам срок до завтрашнего вечера. Если вы согласитесь обвенчаться со мною, то мы уедем с вами и совершим обряд в одной из отдаленных церквушек, после чего отбудем заграницу и будем жить долго и счастливо, как собирались.
– А если я не соглашусь?!
– Тогда ни вы, ни ваши дети не выйдут из этой комнаты никогда. Вы умрете, – прозвучал ответ.
Потрясенная Елизавета Кирилловна бросилась к проснувшимся и перепуганным детям. Пока успокаивала их, услышала странные звуки за оконными ставнями. Бросилась к ним, попыталась открыть и не смогла… Они оказались заколочены снаружи.
– Вы не выйдете из этой комнаты никогда, если не пожелаете исполнить данное мне обещание! – раздался голос снаружи.
– Матушка-барыня, что ж теперь будет? – ахнула няня.
– Успокойся, Стеша, – строго откликнулась Елизавета Кирилловна (не хватало еще, чтобы она своими слезами и причитаниями детей до смерти напугала!). – До завтрашнего вечера есть время. Я уверена, что кто-нибудь обязательно придет нам на выручку! Мы же не в лесу живем… Молись лучше! Бог нас не оставит. А вы, дети, ложитесь спать. Мама рядом. И никто не причинит нам вреда.
Она сказала это так твердо, что дети послушно улеглись в постель, хотя младшенький Боря еще долго всхлипывал. Стеша же бухнулась на колени перед расставленными в углу иконами, озаренными розоватой лампадой, и беззвучно, чтобы не тревожить маленьких ангелочков, стала молиться, скрестив на груди крупные руки и едва заметно раскачиваясь из стороны в сторону.
Елизавета же Кирилловна, сидевшая рядом с Боринькой, в ужасе думала, что прийти к ним на помощь совсем некому. Все знают, что тетка в отъезде, а саму ее почти никто не навещает здесь… Господи, хоть бы старица Евфросинья беду почуяла! Раз уже спасла от погибели, так хоть бы и теперь выручила!
Неблизок путь от Крыма до Серпухова… А к тому досадовал Виктор, что к полувековому рубежу приближаясь уже не так легко дается сутками гнать коня. Конь-то что – коня на всякой станции заменить можно, а себя заменить как? Прежде и в голову мысль такая не приходила, а тут…
– Благоя, неужели к нам подбирается старость?
Вот так неприятное открытие! А, главное, не ко времени… Сидя на балконе нависшего над морем «гнезда мизантропа», все одно, быть ли молодым или древнем старцем. Но когда твой враг может скрыться от тебя и, хуже того, совершить новое злодейство, когда кровь кипит желанием отмщения, когда… О, тут нужны молодые силы! Те силы, которых ни тысячи верст пути, ни кровавая рубка – ничто в мире исчерпать не может!
Верный серб знаками предложил продолжить путь в кибитке, как простые путешественники. Только кибитки не доставало! Кибитка не полетит, как ветер, ее размеренный ход отнимет драгоценное время, а его – нет! Нет! И вновь шпорил Виктор коня – воспоминания о Маше и жажда сквитаться с Борецким прогоняли усталость.
Ну, вот, наконец, и Серпухов… В сгущающемся ночном сумраке показались купола Владычнего монастыря. Виктор остановил коня, перевел дух, сделал несколько глотков вина из притороченной к седлу фляги и передал ее Благое:
– Глотни и ты, мой славный друг. Хоть это и не живая вода, но бодрости нам она придаст.
Почерневший от пыли и усталости серб лишь тяжело вздохнул.
– Знать бы еще, куда ехать теперь… Где дом этой Мелетьевской тетки… Нужно предупредить Елизавету Кирилловну об опасности. Всего лучше, если она вовсе уедет отсюда, не привлекая внимания. А мы останемся и подождем. Если Эжени не ошиблась, а она никогда не ошибается в таких вещах, то мы дождемся незваного гостя… Однако, какая неудача, что на дворе ночь. Не у кого даже дороги спросить! Надо поискать какой-нибудь постоялый двор. Устроить лошадей и заодно узнать, где проживает почтенная Аграфена Павловна.
Рассуждая так, Виктор доехал до монастыря. Внезапно прямо под копыта его коня бросилась странная фигура. Конь заржал и встал на дыбы, так что Виктор едва удержался в седле. Фигура, между тем, выпрямилась и оказалась иссохшей старухой в ветхом капоте и тряпице, неряшливо покрывавшей ее голову.
– Ошалоумела, что ли, старая?! – прикрикнул на нее Виктор.
– Что медлишь, странник? – спросила старуха. – Поспешай! Жарко будет, ох, жарко… Горит, горит все! А ты поспешай! – она закружилась, охаживая себя ладонями. – Жжет! Жжет! Разгорается пламя! Поспешай, странник! Не то поздно будет!
– Да ты что, бабка? Объясни… – начал было Виктор, но тут Благоя с силой толкнул его в бок и куда-то яростно указал рукой. Там, впереди, рвался в темное небо столб дыма. Совсем рядом что-то горело…
– Не может быть… – прошептал Виктор, побледнев. – Неужели он нас опередил…
Он хлестнул коня и помчался в сторону занимающегося пожара. Горел большой двухэтажный бревенчатый дом. Пламя охватывало еще только второй этаж, откуда доносился детский плач и женские крики. Виктор сразу отметил заколоченные окна верхней комнаты и понял, что там заперта несчастная Елизавета Кирилловна с детьми.
– Благоя, найди какую-нибудь лестницу и позови людей. А я иду в дом! У нас мало времени. Это не дом, а дровяной сарай!
С этими славами он устремился к дому, прячась в тени деревьев и высматривая острым глазом каждую мелочь, которая могла бы помочь или помешать ему. Дверь была заперта, а потому ничего не оставалось, как воспользоваться окном веранды. Оказавшись внутри, Виктор явственно расслышал доносящиеся сверху голоса.
– Вы сошли с ума, князь! Отворите немедленно! – кричала женщина, стуча ладонями в запертую дверь.
– Я предупреждал вас, ма шер, что не прощу обмана. Вы, впрочем, еще можете исправить свою ошибку. Я ведь вас люблю, а потому готов простить даже теперь. Согласитесь исполнить данное вами мне слово, и ни вы, ни ваши дети не пострадаете. Поверьте, я отнюдь не хочу причинять вам зла! Но вы, кажется, не верили в серьезность моих намерений, поэтому мне пришлось доказать их вам… Надеюсь, теперь вы понимаете, что я не шучу?
– Да, я понимаю! Откройте же, умоляю вас!
– Нет, не так. Сперва вы попросите прощения и скажете, что любите меня по-прежнему и готовы сочетаться со мной браком. А затем я открою вам, и мы уедем с вами вдвоем! Решайтесь, ангел мой. Пламя уже охватило крышу, и вы можете не успеть…
– Не успеешь ты, мразь, – холодно произнес Виктор, бесшумно поднявшийся по лестнице и совсем неожиданно для помешавшегося Михаила наставивший на него пистолет. – Немедленно отопри дверь!
– И ты здесь… – прошипел Борецкий. – Тебя-то мне и не хватало! Теперь я отправлю тебя в ад!
– Готов сопровождать тебя туда, но прежде ты отпустишь женщину и детей, или я пристрелю тебя, как бешеную собаку!
Михаил отодвинул задвижку, но в этот миг тяжелая пылающая балка упала сверху, отрезая путь в комнату, где была заточена Елизавета Кирилловна.
– Благоя!!! – крикнул, что было сил, Виктор, понимая, что без помощи верного слуги может не успеть вывести из охваченного пламенем дома несчастных пленников. В тот же момент Михаил с удивительной прытью бросился на него, обнажая саблю. Виктор легко увернулся и, также обнажив клинок, ринулся в бой. Их силы были равны. Один был измучен месяцами ссылки, другой – долгой дорогой без отдыха. Но обоих питала ненависть. Впрочем, Борецкому было легче. Его ненависти ничто не развлекало, Виктор же ни на мгновение не забывал о судьбе Елизаветы Кирилловны.
– Кто ты? – прорычал Михаил, стараясь оттеснить противника к лестнице и сбросить его вниз. – Назови свое имя! Я хочу знать его, прежде чем ты сдохнешь!
– Мое имя Половцев! Говорит ли оно что-нибудь твоей памяти?
– Оно не столь славно, чтобы что-либо ей говорить!
– Вот как? Тогда я освежу твою память! Помнишь старуху-вдову, что жила в соседнем с вашим имении? Помнишь, как твой подлец-брат подделал документы, чтобы ваш отец мог отнять ее поместье по бесстыдной тяжбе и оплатить им ваши карточные долги?! Помнишь?!
Борецкий изловчился уколол Виктора в сухую правую руку. Половцев, однако, не почувствовал ни боли, ни потери хлынувшей из раны крови.
– А помнишь крепостную, что была той старухе, как дочь? Помнишь! Помнишь, как ты со своими дружками похитил ее и надругался?! Помнишь, как истязал ее день за днем, доведя до безумия?! Сегодня она будет отмщена! Хотя вся твоя проклятая кровь не стоит ни единой ее слезы…
В доме что-то угрожающе затрещало, отчаянно закричали дети. Этот вопль отрезвил Виктора от мучительных воспоминаний и, выбив из руки князя клинок, он с такой силой ударил его, что тот, перевалившись через поручни, рухнул на пол первого этажа. Заслонив рукой глаза, Виктор прорвался сквозь огонь в комнату Елизаветы Кирилловны. Снаружи уже слышался спасительный стук. Это Благоя, что есть мочи, рубил заколоченные ставни.
– Голубчик, спаситель вы наш! – рухнула на колени перед окровавленным Виктором Мелетьева.
– Бог с вами, сударыня. Вам бы меня проклинать, а не благодарить надо, – отозвался Виктор, устремляясь к окну, чтобы помочь Благое изнутри. – Нужно было просто давным-давно пристрелить этого мерзавца, и тогда бы вы не знали горя…
Ставни распахнулись, а перед дверью обрушилась еще одна балка. Огонь уже плясал по стенам комнаты, перекидывался на мебель. Виктор поспешно сорвал с окна и отбросил прочь вспыхнувшие шторы и, схватив младшего сына Мелетьевой, протянул его показавшемуся в окне Благое. Серб подхватил его и стал спускаться вниз. К дому уже спешили разбуженные люди. Ждали пожарных, хотя очевидно было, что они уже ничем не смогут помочь. Чьи-то руки внизу подхватили мальчика, и Благоя вновь устремился наверх.
В этот миг из-за двери, из-за стены огня грянул выстрел. Раздался пронзительный крик няньки, упавшей на пол. Пуля, по-видимому, адресованная Виктору, попала в ее дебелое тело – она случайно заслонила его, устремившись к иконе, чтобы снять, спасти ее от огня…
Виктор схватил брошенную на пол саблю и вновь, преодолев огненную завесу выскочил на лестницу. Еще один выстрел просвистел в дюйме от его виска. Князь Михаил, придя в себя, готов был продолжать сражение. Готов был и Виктор. Его одежда и волосы дымились, его лицо и руки были обожжены, его рана, которую в суматохе некогда было перевязать, кровоточила, но ярость вновь придала ему сил. К тому же теперь он был спокоен за Елизавету Кирилловну и детей…
– Теперь я вспомнил тебя, Половцев! И тебя, и твою дуру-девку, что строила из себя барышню! Знал бы, что она мне столь дорого станет, нашел бы развлечение подешевле! Хотя… Дешевые развлечения скучны!
– Сегодня ты обретешь вечное развлечение у чертей на сковородке!
Огонь уже охватил весь дом. Снизу раздался крик Елизаветы Кирилловны:
– Господин Половцев, уходите скорее! Крыша сейчас обрушится!
Глаза слезились от дыма и уже почти ничего не видели. Клинки были отброшены, теперь два непримиримых врага схватились врукопашную, катаясь по полу, нанося друг другу удары, забыв о своей жизни и алча лишь одного – смерти противника. Любой ценой. Треск, дым, пламя… Земной ад уже бушевал, готовясь пожрать свои жертвы. Наконец, Виктор оступился и покатился вниз по лестнице, увлекая за собой Борецкого, рухнувшего на него. А дальше… Дальше сверху с треском и грохотом посыпались пылающие доски, и все потонуло в огне.
Маша проснулась в первом часу ночи и внезапно села на постели. Эжени, не спавшая у ее постели, тотчас встрепенулась, опасаясь приступа, но, приглядевшись, поняла: приступа не будет… Лицо страдалицы было необычайно спокойно и светло. Эжени никогда не видела его таким. Даже что-то подобное улыбке скользнуло по бледным губам.
Маша медленно поднялась с постели и шатко подошла к окну, приоткрытому в эту теплую ночь. Постояла чуть-чуть и открыла его настежь, словно хотела вобрать в себя чудо Божиего мира – море, такое же спокойное сейчас, как она, небо, звезды, легкий бриз, наполненный тонкими, неповторимыми ароматами… Сколько лет она не видела этой красоты? Глаза – видели, а душа – нет… И вдруг открылось.
– Как хорошо… – сорвалась едва слышное с уст, десятилетия не извергавших ничего, кроме бреда и проклятий…
Эжени замерла в своем кресле, боясь шелохнуться, напугать страдалицу неосторожным движением, звуком, а еще больше – догадаться, отчего произошла с ней такая перемена.
Маша еще немного постояла у окна, затем вернулась в свою постель, сложила руки крестом и несколько минут лежала так, глядя в залитый лунным светом оконный проем.
– Как хорошо… – повторила вновь и закрыла глаза.
Несколько мгновений Эжени оставалась неподвижна. Затем осторожно поднялась и подошла к больной. Грудь ее более не вздымалась дыханием, а лицо наконец-то лучилось обретенным счастьем. Маша была мертва…
– Ныне отпущаешь рабу твою… – прошептала Эжени, крестясь. И вдруг, как подкошенная, рухнула на колени, вцепилась пальцами в свои густые неприбранные космы, завыла отчаянно:
– Господи, с ним-то что?! С ним?! Господи!!! Смилуйся! Не надо мной, над ним! Спаси его, Господи! Я пред Тобою преступница! Меня покарай! Как угодно! Хоть на место этой несчастной водвори! Хоть в камень неподвижный, бессловесный обрати! Все приму! Только его пощади! Пощади, Господи! Пощади! Пощади!.. Ее страданиями, ее молитвами, что она теперь к Престолу Твоему возносит, пощади!..
Глава 17.
Она никогда не думала, что можно быть такой счастливой и почти разуверилась, что счастье вообще возможно для нее. Конечно, она была несказанно, невыразимо счастлива, когда под сводами древней грузинской церкви, чудом уцелевшей в страшные времена персианских нашествий, старик-священник объявил их мужем и женой… Костя был в своем обычном пехотном мундире, а она – в самом простом и скромном подвенечном платье. Но разве платья имеют значение в такие мгновения?
В тот день они не поехали к родителям – и Костя, и сама она опасалась их гнева. Вернулись в дом добрейших колонистов, где отметили свадьбу добрым вином, свежайшей ветчиной и сыром и другими дарами фермерских угодий. Из гостей были лишь веселый немец-хозяин со своими дочерьми, поручик Гусятников, которого Костя успел пригласить запиской и, конечно же, благодетель. Иначе Лаура теперь не называла этого странного человека. Ее недоверие к нему и даже некоторая боязнь улетучились. Она вдруг всем сердцем поняла, сколь несчастен ее попечитель, несмотря на свое богатство, свою самоуверенность, свою необычайную удачливость, свое могущество… Его несчастье, его боль она со всей остротой ощутила лишь в тот день – за свадебным столом. Оттого, быть может, что впервые была счастлива сама. И хотелось отблагодарить его, поделиться тем счастьем, что стало возможно, благодаря ему. Но на другой день он исчез, как будто и не было его.
– Джинн! – только и развел руками Костя.
Ту ночь они провели в доме колонистов вдвоем. Хозяин с дочерьми ушли к соседям, дабы не мешать молодым. И ничего не было доселе в жизни Лауры прекраснее этой душной, лишь прохладой реки освежаемой ночи. Они наконец-то были вместе! Были одним целым! И этого никто, ничто уже не мог изменить или отнять…
Родители встретили их без особой радости, но и без гнева. Они, как оказалось, были уже предупреждены о свершившимся таинстве. Надо полагать, что и о нежданном приданном дочери – также. Позже мать призналась, что в то утро у них побывал странный русский господин, который сумел быть столь убедителен, что даже отец вынужден был принять его доводы…
Вскоре Костя отбыл в свою часть, и счастье сменилось нескончаемой тревогой. Разве можно быть счастливой, зная, что тот, кто составляет все счастье твоего сердца, всякий день рискует жизнью в сражениях с непокорными горцами? Сколькие молодые жизни унесла уже эта длящаяся год за годом война, то обманчиво затихавшая, то вспыхивавшая вновь! Скольких безутешных вдов и сирот она оставила…
Лаура часто навещала семью Чавчавадзе, особенно много времени проводя с Ниной. Прекрасная княжна так и осталась верна памяти своего погибшего супруга, с коим ее счастье оказалось столь кратким. Заменить этого удивительного человека в ее сердце не мог никто. Лаура восхищалась мужеством, с которым Нина несет выпавший ей крест, и внутренне содрогалась от мысли, что такая горькая участь может постигнуть и ее.
Когда Лаура забеременела, Костя поклялся, что экспедиция «на Шамиля» станет его последним делом на Кавказе, и по ее окончании он выйдет в отставку. Это дало робкую надежду, но и увеличило страх. Ведь и Александр Сергеевич уезжал тогда в свою последнюю «экспедицию», надеясь по возвращении предаться, наконец, тихому семейному счастью и литературному творчеству, на которое ему так обидно не доставало времени. А в итоге несчастной Нине пришлось встречать наглухо закрытый гроб…
Все летние месяцы, что русские войска штурмовали твердыню Ахульго, Лаура не находила себе места и терзалась жестокими ночными кошмарами. Но Бог оказался милостив к ней. Костя вернулся к ней в новом чине и с Георгиевским крестом на груди и сообщил, что подал в отставку. Это был второй счастливейший день в жизни Лауры.
А третий настал недавно, уже в Москве, где под кровлей давно скучавшего без хозяев дома Никольских, в котором прошло детство Кости, появился на свет его сын – Александр Константинович Стратонов.
Мать Лауры настаивала, чтобы дочь осталась до родов в Тифлисе, но княжна видела, как рвется муж в родной город, и не хотела продлевать его разлуки с ним. К тому же с его возвращением она чувствовала себя прекрасно и нисколько не боялась переезда.
Маленький Саша появился на свет через две недели по приезде в Москву, двумя неделями раньше срока. Роды были тяжелыми, но прошли в целом благополучно: ребенок был совершенно здоров, а счастливая мать быстро пошла на поправку. За окном щедро расточала свои краски золотая осень, как-то особенно гармонировавшая с пестротой московских церквей и домов, с ее золотыми куполами.
В эти дни пришла еще одна радостная весть. Приехал Гоголь! Эта новость вмиг облетела обе столицы, перебудоражив все образованное сословие. Ведь после гибели Пушкина место главы русской литературы пустовало. Появлялись новые интересные имена, и среди них особенно выделялось одно – Лермонтов. Его стихами были переполнены литературные журналы, за которыми Лаура привычно и жадно следила, вышел его роман «Герой нашего времени» – вещь, какой еще не было в русской словесности. Молодой поэт служил на Кавказе, и княжна немного сожалела, что Косте и ей не довелось встречаться с ним там. Хотелось посмотреть в глаза этого человека. Кто он, Печорин, как утверждают некоторые? Но нет, того не может быть. Печорин никогда не написал бы чистоструйной молитвы, которую Лаура выписала в свой альбом и затвердила наизусть…
Все же Лермонтов, чья звезда только восходила, не мог занять места Пушкина. Потому так и взволновало всех возвращение автора «Миргорода» и «Ревизора». Вот он – природный наследник! Глава отечественной словесности!
Лаура же взволновалась по иной причине. Николая Васильевича еще с петербургских времен она полюбила самой преданной и чистой дружеской любовью. Ей нередко хотелось увидеться с ним, поговорить, как бывало прежде. Но Рим был так непоправимо далеко!
И, вот, Гоголь в Москве! Его привез Погодин и поселил в своем доме на Девичьем поле. Лаура немедленно отправила туда посыльного с запиской, приглашая Николая Васильевича непременно быть у них с мужем во всякий день. Сама она еще не выходила из дому и лишь недавно стала сходить из своей комнаты вниз.
Дорогой гость прибыл несколько дней спустя ближе к вечеру. С неподдельной радостью приветствовал княжну и ее супруга, само собой, не обделил вниманием и малыша, сердечно поздравив молодую мать. Костя недолго составлял общество гостю, сославшись на неотложные дела. Лаура, однако, поняла, что муж попросту решил не мешать беседе старинных друзей, встретившихся после долгой разлуки, будучи вовсе не знаком с Николаем Васильевичем и весьма поверхностно с его творчеством.
– Что же, – спросила княжна Гоголя, – надеюсь, вы теперь не покинете нас? В России вас так не хватает…
– Боюсь, что не оправдаю ваших надежд, – покачал головой тот. – Верите ли, ужасно не хотелось ехать сюда… А теперь всего более хочется воротиться назад.
– Отчего же? Неужели родина встретила вас так дурно?
– Напротив. Даже слишком радушно… Я искренне радуюсь, встречая многих дорогих друзей, но я не могу здесь… – Гоголь помолчал. – Я должен работать. Должен писать… А здесь для этого нет никакой возможности. Здесь одна суета… На днях милейший Сергей Тимофеевич уговорил меня пойти в театр на моего «Ревизора». Видели ли вы сие представление?
– Я пока еще ничего в Москве не видела, – призналась Лаура.
– Я не смог дождаться конца представления, ушел…
– Неужели постановка столь дурна?
– Дело не в постановке… Мне казалось, что весь зал смотрит не на сцену, а на меня! Они желали, чтобы я сам вышел на эту сцену, что-то сказал…
– И вы сбежали?
– Точное слово! Теперь г-н Загоскин на меня, кажется, сердится… И, знаете, княжна, я верно знаю, что чем дольше я буду оставаться в России, тем больше людей станут на меня сердиться. Пожалуй, в конце концов, на меня ополчатся все, включая самых близких людей!
– Вы преувеличиваете.
– Нисколько… Поймите мое положение. На меня смотрят, как… На пророка или что-то в этом духе! А я ючусь по чужим углам, питаюсь с чужого стола и живу за чужой счет! В России должно служить, иметь поприще и верный заработок, а в противном случае ты из человека превращаешься в какое-то недоразумение, странное и непонятное для всех. Но если я стану служить, то писать уже не смогу. У меня недостанет сил…
– Вы слишком мучаете себя, – заметила Лаура.
– Слишком? – Николай Васильевич печально усмехнулся. – Мои сестры окончили теперь пансион. Их судьбу нужно устраивать. Мое самое большое желание, чтобы они нашли свое, достойное место в этой жизни. И достойных спутников себе. Но даже для того, чтобы привезти их из Петербурга, я вынужден буду одалживаться, не имея надежды отдать долга. И жить моим бедняжкам также придется в людях, пользуясь чьим-то милостивым расположением, чьей-то сердобольностью… А тут все эти ждущие от меня чего-то невероятного взоры! Все эти славословия! В Риме у меня был покой, а здесь о нем не приходится и мечтать.
Печально было слышать Лауре эти горькие слова. Перед ней сидел гениальный писатель, по праву называемый наследником Пушкина, обожаемый читающей Россией… Но вся эта слава не могла дать ему того малого, в чем он нуждался, кажется, более всего – покоя. Не может иметь покоя человек, не имеющий своего угла, обремененный хлопотами о трех младших сестрах, человек, гордый и самолюбивый, но вынужденный постоянно быть у кого-то в долгу. Да не у кого-то, а, пожалуй, у большинства своих знакомых… И добро если знакомые достаточно тактичны, чтобы никаким намеком не напомнить о долге, не взыскать оного требованием какого-либо особого отношения к себе, своим изданиям или чего-то в этом роде. Но много ли наберется таких? Да и если наберется, как не чувствовать себя постоянно должным? Как не сжиматься внутри, когда кто-то из кредиторов обращается с просьбой, которую исполнить претит душе? Как не терзаться угрызениями совести, особенно если совесть чересчур чутка и отягощена изрядной мнительностью? Воистину трагическое положение! Особенно, учитывая то, что поставленный в него ничуть не был в нем повинен. Гоголь не был игроком, чуждался увеселительных заведений, жил, как монах-отшельник…
Лауре вдруг пришла в голову мысль всех счастливых в браке женщин: что Николаю Васильевичу следовало бы подумать не только о партиях для сестер, но найти спутницу себе. Хотя и нелегкая это задача… Особому человеку, гению и жена нужна особая, в своем роде гениальная, ибо быть хорошей женой гению – это тоже большой и редкий талант. Не дай Боже, если она окажется обычной женщиной с обычными капризами и требованиями, пусть даже вполне естественными и законными. Тут нужна женщина необычная, чуткая, мудрая и сильная, которая оградила бы своего гениального мужа от изматывающих его житейских забот, дав ему необходимый домашний уют, заботу и возможность творить без оглядки на мелочную суету…
Однако, это, пожалуй, не женщина, а ангел, – осадила сама себя Лаура. А ангелы на землю спускаются слишком редко… Но появись такое создание, и вся жизнь этого измученного человека могла бы совершенно перемениться. Он обрел бы свой дом, рядом с ним была бы преданная и понимающая душа, заботящаяся о нем. Тяжело человеку, когда некому позаботиться о нем, хотя целая толпа рукоплещет ему и славит его имя. Как порой щедра судьба на грустные парадоксы…
Лауре очень хотелось поделиться с дорогим гостем своим необъятным счастьем, которого хватило бы на десятерых. Она взяла с него слово, что он непременно навестит ее с сестрами по возвращении из Петербурга, пообещав помочь девицам, чем будет в силах. Хотя чем могла помочь сама княжна? Ведь они с мужем тоже жили в чужом доме и пока что за чужой счет. Костя еще не нашел себе службы, и выручали лишь проценты, получаемые с положенной на имя Лауры благодетелем суммы.
Что ж, по крайней мере, некоторые добрые советы и полезные уроки бывшая фрейлина сможет преподать юным выпускницам пансиона. При первых шагах в обществе, в отсутствие старших опытных подруг и матери, которая когда еще приедет из их полтавского имения, им такие наставления точно не будут лишними.
Живые расспросы Лауры о любимых сестрах явно обрадовали Николая Васильевича. Он угадал в них живое участие и неподдельное внимание, которое он редко встречал в подобных важнейших для него предметах. Вместо этого он находил большей частью любопытство к своей персоне, которое его, закрытого по натуре, немало раздражало. Гоголь охотно рассказывал княжне о своих девочках, вспоминая их детские годы, и было заметно, как оттаивал он от этой задушевной и непринужденной беседы. Эта легкость общения, редкая для обоих, была свойственна их отношениям почти с первых дней знакомства, и оба дорожили ею.
Засиделись допоздна. Наконец, гость засобирался уходить. Было заметно, что возвращаться в погодинский дом ему не хочется. Но делать было нечего. Тепло поблагодарив Лауру за чудесный вечер, он обещал бывать у нее как можно чаще.
– В вашем доме так спокойно и уютно, так просто и сердечно… Пусть здесь всегда будет именно так!
– Должно быть, эту атмосферу дом сохранил от своих хозяев, а мы с Костей переняли ее от него.
– И правильно сделали, что переняли. Берегите ее, княжна!
Проводив Николая Васильевича, Лаура поднялась к себе. Она впервые заметила, что ее никогда не стесняет ограниченность собственных средств. Зато неизбежно стесняет нужда чужая. А, вернее сказать, собственная невозможность оной помочь. Что может быть лучше возможности помогать? Возможности, будучи счастлива сама, дарить частичку этого счастья ближним? Только такое капиталовложение, пожалуй, и может вернуть этому холодеющему миру гармонию и теплоту.
Засыпая, она мечтала, какую кипучую благотворительную деятельность развернула бы, если бы вдруг сделалась богатой! Люди должны быть счастливы… Хотя бы чуть-чуть… Непременно должны…
Наутро княжна была разбужена чуть свет. Горничная сообщила, что ее дожидается неведомый посыльный, желающий непременно видеть именно барыню, а не барина. Делать было нечего и, наскоро одевшись, Лаура, с трудом сдерживая зевоту, спустилась к ожидавшему ее. Посыльный низко поклонился княжне, не проронив ни слова, вручил ей небольшую шкатулку из темного малахита с искусным узором на крышке, и, поклонившись еще раз, удалился.
Растерянная и еще не очнувшаяся от сна Лаура не нашлась удержать его и спросить, кем он послан. В шкатулке был ключ, и она тотчас открыла ее. Внутри лежали десять тысяч рублей ассигнациями и короткая записка.
«Примите сей будничный дар от друга, не нашедшего дара лучшего. И извините ему запоздание, с которым он поздравляет вас с рождением Вашего сына». Почерк был Лауре незнаком, а подпись в записке отсутствовала. Однако, она могла поклясться, что дар сей мог прислать лишь один человек – ее так неожиданно исчезнувший благодетель.
– Он точно чародей! – воскликнула княжна. – Кажется, он читает мои мысли даже на расстоянии!
– Читать мысли чистых душ не так сложно, – раздался голос Кости, который, оказывается, уже некоторое время наблюдал за женой, стоя на лестнице. – Хочешь, я тоже прочту их?
– Попробуй, – ласково улыбнулась Лаура.
– Ты сейчас рассуждаешь, на какое бы благое дело употребить свалившиеся с неба деньги. Ведь все истратить на себя даже при нашем неказистом положении было бы грешно, не так ли?
– Ты не согласен с этим?
– Напротив. Я был бы рад, если бы ты употребила так все его деньги…
– В тебе говорит гордость и напрасно. Это дар от чистого сердца, преподнесенный с большим тактом. Я оставлю меньшую часть его на крестины малыша, а остальное… Остальное пусть поможет тому, кто нуждается теперь больше нашего.
– Твой вчерашний гость… – вздохнул Костя, спускаясь вниз.
– Я и впрямь похожа на открытую книгу с большими буквами?
– С очень большими, ангел мой, – Костя с нежностью обнял жену. – Подарок сделан тебе, так что распоряжайся им по своему усмотрению.
– Но я не справлюсь с этой задачей без тебя!
– Чем же я могу помочь?
– Я не хочу, чтобы адресат знал, от кого получит деньги.
– Творите милость свою тайно?
– Не ставьте людей в положение должников, если дорожите дружбой с ними. Я прошу тебя, устрой это как-нибудь.
Костя улыбнулся и, отечески поцеловав Лауру в лоб, пообещал:
– Я готов исполнять все ваши приказания, княжна, и даже принять на себя роль вашего тайного посыльного.
Может, в этом доме и впрямь царит особая атмосфера, передающаяся всем его обитателям? Нужно впитать ее, чтобы она не ушла, даже если придется жить под другим кровом. Хотя она, конечно же, не уйдет… И их дом, каким бы он ни был, будет счастливым. И неважно, сколько комнат в нем будет, сколько блюд будет подаваться к столу… Важно лишь, что в нем будет много любви и много детей. И один из них будет непременно носить имя того отчаянно одинокого человека, благодаря которому все это невероятное счастье стало явью. Это самое малое, чем возможно его отблагодарить…
Глава 18.
Жарким августовским днем на пристани Севастополя появился человек, которого здесь нетерпеливо ожидали долгие месяцы и уже почти не ждали увидеть вновь. Теперь же, видя его, сомневались, он ли перед ними или одна его тень… Тридцатисемилетний капитан и прежде не отличался крепостью сложения. Сухопарый, сутуловатый, он никак не походил на морского волка. В нем как будто не было ничего героического… Однако, все знали, что лучшего командира на русском флоте нет. Знал это и его учитель адмирал Лазарев, добившийся перевода любимого ученика с Балтики под свое крыло – в Севастополь.
Он внушал равное уважение, как офицерам, так и матросами, чьи нужды он так хорошо знал и понимал. Да и не нужды только, а души… Многим ли командирам важна матросская душа? А Павлу Степановичу куда как важна была. Он, чуждый преклонению перед чем-либо иностранным, единственный раз похвалил адмирала Нельсона. Не за талант воинский, не за доблесть, а за то, что дух народный постичь смог и к победам его направить.
Частенько матросы командиров побаивались. Павла Степановича они – любили. Но при этом старались исполнять приказы его, как ничьи другие. Они видели, что капитан сам не знает отдыха целыми сутками, что работает больше последнего матроса и не требует ни от кого больше, чем делает сам. При этом со стороны офицеров никогда не звучало в его адрес упреков в желании выслужиться… Ибо всякому было очевидно, что Нахимов не выслуживается, а служит, отдавая службе всего себя.
На Черноморском флоте в отличие от чопорной приближенной к Адмиралтейству Балтики царил куда более свободный и товарищеский дух. Здесь привычно обращались друг к другу не по званиям, а по имени и отчеству. И в этом не было панибратства, но сыновне-отеческие отношения между командирами и подчиненными. Павел Степанович происходил из семьи небогатого помещика, а потому все достояние его исчерпывалось жалованием, которое он зачастую раздавал нуждающимся семьям матросов.
Мичман Безыменный, попавший на «Силистрию» в одно время с его командиром – когда красавец-корабль сошел со стапелей, проникся к Павлу Степановичу самой сердечной сыновней любовью. Не знавший ни отца, ни матери, он всем сердцем прикипел к не имевшему семьи капитану. Тот также выделял способного и исполнительного юношу, не менее его самого преданного морскому делу.
Однако, их совместная служба вскоре прервалась. Нахимов тяжело заболел и вынужден был уехать на лечение заграницу. Потянулись тоскливые и тревожные месяцы… Болезнь капитана оказалась весьма серьезной, и ни хирурги, ни всевозможные снадобья, ни целебные воды не могли ему помочь. С каждым днем его состояние лишь ухудшалось и, наконец, дошло до того, что он не имел уже сил сам пересечь свою комнату.
Измученный физически и нравственно, капитан ожидал смерти, как избавления, но и смерть не шла к нему, позволив болезни впервые в жизни загнать его в долги, выплатить которые с каждым днем становилось все невозможнее. Павел Степанович тосковал по «Силистрии», по Севастополю, переживал, что из-за затянувшегося лечения его уволят с флота. Что может быть хуже для морской души, чем быть заживо прикованной к одру болезни в каком-нибудь унылом и далеком от моря Карлсбаде?
Чувствуя это, Сережа Безыменный, горячо писал в письме любимому наставнику, чтобы он забыл своих врачей и возвращался в Севастополь, воздух которого непременно станет для него целебным. Конечно, призывы пылкого юноши вряд ли возымели бы влияние на едва живого капитана. Но нашелся врач, который определил, что организм его уже столь отравлен, что лучшее для него лечение – это отдых от всякого лечения. Тут-то и сорвался Нахимов в родную гавань, собрав последние силы…
И, вот, впервые после разлуки ступил на севастопольскую пристань… До предела истощенный, с землистым лицом, почти прозрачный, он старался идти твердым шагом, но было заметно, что время от времени его пошатывает от слабости. Сережа тревожно шел за ним, но не осмеливался поддержать измученного болезнью капитана. Не желает тот слабости своей выказывать, так как же можно показать, что видишь ее столь явственно, что от вида этого сердце сжимается пребольно?
Было раннее утро, и на пристани еще почти никого не было. Нахимов остановился, провел рукой по покрывшемуся испариной лбу.
– Никуда не гожусь… – произнес едва слышно, покачав головой.
– Павел Степанович… – осмелился подать голос Сережа.
Нахимов обернулся. Высокий, стройный мичман возвышался над ним, пыша здоровьем юности. А почти мальчишеское еще лицо страданием искажено было. Капитан вздохнул:
– Да, дорогой Сергей Иванович, тяжело-с. За эти месяцы я понял, что в этом мире ничего нет выше и дороже для человека, чем здоровье. Взгляните-с на меня. Есть и желание, есть и мысль, как сделать, да нет сил. Так куда я годен-с? Решительно никуда-с!
– Полно, Павел Степанович! Ваша «Силистрия» так ждет вас! Вот, пойдем в плавание, и вы сразу лучше себя почувствуете! Я уверен!
Бледные губы капитана дрогнули в грустной улыбке:
– Спасибо вам, Сергей Иванович, на добром слове. Да только, знать, сроки мои сочтены-с. Вы тому не печальтесь чрезмерно. Вам еще на «Силистрии» долго плавать! Вы отличный моряк и непременно однажды дослужитесь до адмирала. А я никак не рассчитываю долее двух лет служить на море… Это именно столько, сколько нужно для расплаты моих догов.
От этих слов хотелось заплакать, но мичман не мальчишка, ему не пристало так распускаться. Но, знать, все чувства Сережи отразились на его лице, и капитан, заметив это, пожалел его:
– Ну, довольно-с я на вас грусти нагнал. Идемте. Я ей-Богу страшно успел соскучиться по моей «Силистрии». И, что бы там ни было впереди, счастлив уже тому-с, что могу вновь видеть Черное море, а не этот треклятый Карлсбад вкупе с Габсбургом и прочими немецкими лечебницами.
– Море и «Силистрия» исцелят вас лучше всех эскулапов! – воскликнула Сережа.
– Ваши слова да Богу в уши, – отозвался капитан и вновь зашагал в сторону бухты, где высились в заревых отблесках гордые мачты севастопольской эскадры, а среди них – «Силистрии», к коей относился он, как к любимому ребенку.
С того дня минуло более полугода. И, вот, «Силистрия» уходила в поход! На Кавказе непокорные горцы захватили два русских форта, и теперь черноморскому флоту надлежало провести десантную операцию, поддержав с моря действия сухопутных сил. Руководил десантируемым русским отрядом генерал-лейтенант Раевский, успевший покрыть себя славой еще на Бородинском поле, где сражался подростком.
Морской частью операции Лазарев, поднявший флаг на «Силистрии», командовал сам, ученикам же своим, Нахимову и Корнилову, он поручил руководить гребными судами, когда отряд Раевского будет спущен на воду.
Мичман Безыменный был счастлив. «Силистрия» покидала порт, отправляясь на славное дело. И на капитанском мостике ее в час отплытия возвышались трое славных флотоводцев – Лазарев, Корнилов и Нахимов… Последний уже не был той колышимой ветром тенью, какой возвратился в Севастополь в августе. Болезнь еще не оставила его, но дыхание Черного моря действовало на капитана воистину животворяще. Он вновь был тем прежним любимым всеми командиром, энергии и распорядительности которого можно было лишь восхищаться. Он за всем следил, все замечал, обо всем успевал позаботиться. И, конечно, вновь работал сутками напролет, не жалея истощенного здоровья.
Новая же экспедиция еще придала ему сил. Впереди было большое и важное дело, настоящая служба Отечеству супротив врагов его – и это бодрило, живило и заставляло глаза капитана по-юношески блестеть. Кажется, не было человека в Севастополе, кто бы не радовался его возвращению, его воскресению. Радовались офицеры, радовались матросы… Последние – особенно. А больше всех торжествовал мичман Безыменной. И выздоровлению любимого командира, и первой большой операции, в которой ему самому надлежало участвовать.
«Дорогая Эжени!
Вы не представляете, как я счастлив теперь! Я никогда-никогда еще не был так счастлив… Мы идем в поход! И я вновь под началом Павла Степановича! На нашей «Силистрии» теперь штаб эскадры. Каждый день я вижу Михаила Петровича и Владимира Алексеевича. И генерала Раевского! Столько славных героев! Когда я смотрю на них, то думаю, что мне никогда не стать таким… Но Павел Степанович вполне серьезно утверждает, что я, если Господь будет ко мне милостив, однажды стану адмиралом. Возможно ли такое, Эжени? А, впрочем, все равно… Мне хорошо быть и мичманом на родной «Силистрии». Я, должно быть, не слишком честолюбив. И одобрение капитана мне радостнее любых наград…»
Берега Севастополя скрылись в тумане. В такие мгновения Сереже казалось, будто бы само тело его осталось там, на земле, а на корабле существует лишь не обремененная ничем душа. Душа окрыленная и свободная, как те чайки, что кружат окрест над волнами… А если вскарабкаться на мачту… Эх, дослужившись до старших чинов, уже не по рангу будет по реям бегать. А жаль! Сережа навсегда запомнил тот восторг, который испытал еще мальчишкой, когда в первом учебном плавании забрался проворнее всех своих товарищей на самый верх мачты. Ни малейшего страха не вызывала в нем эта высота, а лишь упоительное ощущение полета. Бывалые матросы тогда одобрили: «Справный моряк вырастет!»
Вот и вырос… И сам уже команды дает, изредка оглядываясь на капитана, проверяя так самого себя: верно ли делает? А капитан смотрел одобрительно, доволен был распорядительностью молодого офицера и все новые поручения давал ему, испытывая, наставляя.
Летел по воде трехмачтовый красавец-парусник, гордость флота Черноморского и пример всем прочим судам, летел добывать новую победу и славу русскому оружию. И стоявшее в зените солнце приветствовало его, обещая успех начатому походу.
«…Когда мы проучим горцев и вернемся, я непременно возьму отпуск на несколько дней, чтобы навестить вас. У меня ведь никого нет, кроме вас, Эжени. И мне так о многом надо рассказать вам! А в письме… Вы знаете сами, что я никогда не умел порядочно писать. Простите же и теперь за такое краткое письмо. И помолитесь, чтобы Господь был ко мне… нет, ко всем нам! милостив!»
Лейтенант Безыменный
Пролог
Солнце уже входило в силу, озаряя своим бесконечно щедрым в этих краях светом Графскую пристань. Хотя час был довольно ранний, а день самый обычный, люди уже толпились здесь, явно чего-то ожидая. Отставные матросы, старики и старухи, бабы с детьми – все это собрание, являвшее собой портрет коллективной нужды, было весьма молчаливо. Но, вот, точно дуновение ветра, прошелестело из уст в уста заветное имя, люди оживились, вытягивая шеи в том направлении, откуда показалась высокая, сухая фигура, на сутуловатых плечах которой ярко сияли адмиральские эполеты. Следом шел адъютант, уже привычный к подобным встречам. Стоило лишь адмиралу приблизиться, как обитатели Южной бухты, снимая шапки и кланяясь, торопливо окружили его, затараторили наперебой – так, что решительно невозможно было что-либо разобрать.
Адмирал поморщился и, заслонив руками уши, мягко утихомирил толпу:
– Постойте-с, постойте-с! Хором только «ура» кричать надобно, а просьбы излагать надлежит поочередно. Иначе я ничего не пойму-с! Старик, – кивнул он одноногому матросу, – надень шапку и сказывай, какая у тебя нужда.
Тот натянул свой картуз и, выдвинув вперед себя двух малолетних девчушек, отрапортовал:
– Горькие сироты мы с ними остались. А тут, как на грех, в хате нашей крыша продырявилась. А из меня, – стукнул себя костылем по деревянной ноге, – какой нынче плотник?
– Прислать к Позднякову двух плотников, пусть ему помогают, – велел адмирал стоявшему рядом адъютанту.
На глазах старика навернулись слезы:
– Да нешто вы, наш милостивец, меня помните?
– Как же мне, братец, не помнить лучшего маляра и плясуна на корабле «Три святителя»!
Растроганный матрос отошел, уводя своих сироток, а на смену ему спешили уже все новые и новые просители. Адмирал, для которого единственным домом было море, а единственной семьей – матросы, искренне считал, что всякий из них имеет право и на его внимание, и на его кошелек. Кошелек по этой причине всегда бывал пуст, а сам адмирал оставался в долгах.
– Кормилец наш, батюшка, не оставь милостью! Муж мой, что мастером был в рабочем экипаже, Богу душу отдал, ничего после себя не оставил. Хлеба купить и то не на что! – заливисто всхлипывает иссохшая старуха, голова которой покрыта черным платком.
– Дать ей пять рублей!
– Денег нет, Павел Степанович! – развел руками адъютант, уже с некоторой тревогой наблюдавший за очередью жаждущих. В обязанности сего достойного офицера входило заведовать всем скудным адмиральским хозяйством, и, как рачительный управляющий, он всякий раз бывал огорчен столь неумеренной расточительностью.
Старший лейтенант Безыменный понимал его. Он, успев повидать жизнь с разных сторон, мог на глаз определить, кто из просителей попросту злоупотребляет бесконечным добросердечием адмирала, но прекрасно знал, что говорить об этом Нахимову бесполезно. Он не мог отвернуться от протянутой руки, не дав по возможности просимого.
– Как денег нет? Отчего нет-с?
– Так уж все прожиты и розданы! – вновь развел руками адъютант, недобро покосившись на старуху, лицо которой сделалось еще более отчаянно-жалостливым.
– Ну, дайте пока из своих.
Свои адъютант уже также раздал… Пять рублей! Для провинциального города да офицерского жалования – не такая малая сумма! Но деваться некуда – старуха ждет и умоляюще смотрит на милостивца. Тот в свою очередь озирается вокруг и, заметив подошедших к месту действа нескольких молодых офицеров, обратился к ним:
– Господа, дайте мне кто-нибудь взаймы пять рублей!
Безыменный приблизился к адмиралу и протянул старухе пять рублей.
– А, это вы, Сергей Иванович! – приветствовал его адмирал. – Рад вас видеть и приглашаю отзавтракать со мною.
Сергей едва успел возвратиться из кругосветного плавания и теперь вскоре должен был отбыть в отпуск, а потому приглашение адмирала его весьма обрадовало. Он соскучился по своему любимому командиру, к коему питал сыновнюю привязанность, и сожалел бы, если бы пришлось уехать, толком не поговорив с ним.
Павел Степанович совсем недавно был произведен Лазаревым в контр-адмиралы, и, не считая самого Михаила Петровича, в Севастополе не было человека более влиятельного, чем Нахимов. Влияние это зиждилось исключительно на профессиональных и нравственных качествах адмирала. Он, преодолев тяжелую болезнь, снова работал сутками напролет, все знал, во все вникал, ничего не оставлял без внимания. Перед ним робели даже офицеры старшие чином, коим Павел Степанович, невзирая на то, позволял себе делать замечания, заметив какой-либо непорядок.
– Обождите недолго-с, – сказал Нахимов, оставив Сергея в своей каюте, и куда-то удалился. Вернулся он вскорости и протянул Безыменному одолженные пять рублей.
– Помилуйте, Павел Степанович! К чему вы меня такой спешкой обижаете? Ведь до жалования еще далеко.
– Именно-с. Далеко-с, – кивнул адмирал. – А вы, сколь я знаю, теперь в столицу торопитесь? То-то же! В столице на двугривенный не проживешь.
Нахимов был прав. Отдав старухе пять рублей, Сергей с огорчением думал, что придется все же заложить жиду свои часы – подарок милой Эжени…
– Что же, голубчик, кругосветная прогулка не выветрила из вашей головы вздорных намерений? – осведомился Павел Степанович.
Безыменный чуть улыбнулся. Все знали, что у добрейшего адмирала есть одно неистребимое предубеждение: будучи не женат сам и всего себя отдавая службе, он не жаловал женатых офицеров. Оттого, когда кому-либо из молодых его подчиненных приходило в голову «вздорное намерение» жениться, Нахимов тотчас принимал меры и отправлял такового офицера в кругосветное плавание, надеясь, что оно послужит верным средством от навязчивой химеры.
– Путешествия способны выветрить идеи из головы, но не чувства из сердца, – ответил Сергей.
– Стало быть, вернулись с тем же, с чем нас покинули-с?
– Точно так.
– Жаль, – покачал головой адмирал.
– И отчего вы, Павел Степанович, так дурно думаете о женатых офицерах? Вы знаете мою преданность морю. Отчего же вы полагаете, что…
– Нет, нет и нет! Женатый офицер – это уже не офицер. Вы преданы морю, да. И сейчас вы отдаете службе все свои силы, душу отдаете-с! А что же станет, когда обзаведетесь семейством? Душа ваша неминуемо к нему прикрепится.
– Вы бы желали, чтобы офицерский корпус нашего флота сделался чем-то вроде монашеского ордена?
– Я бы желал полной самоотдачи делу от господ офицеров. И только-с.
– Что ж, – печально отозвался Сергей, размешивая в чае поданное варенье, – я могу вас утешить, Павел Степанович. Мне навряд ли суждено стать женатым офицером.
– Отчего же-с?
– Я сир и беден. Даже родителей своих не ведаю. Все, что у меня есть, это служба… А моя Юлинька принадлежит к семейству знатному и высокопоставленному. Ее отец входит в ближний круг самого Государя. И вряд ли такой человек желал бы видеть свою дочь замужем за нищим и безродным лейтенантом…
– Однажды вы, нищий и безродный старший лейтенант, станете прославленным адмиралом, – серьезно сказал Нахимов. – Если, конечно, не наломаете дров…
– Боюсь, что к тому времени та, что я люблю, будет уже чужой женой. Или же уйдет в монастырь, как теперь зарекается.
– Не утешили вы меня, Сергей Иванович, нисколько не утешили-с.
– Отчего же?
– Оттого, что женатый офицер – это пол-офицера, но офицер, одержимый страстью, которую не может осуществить – это еще хуже-с!
– Неужто я так худо служу?
– Служите вы отменно, и, полагаю, капитанский чин получите из первых.
– Покорнейше благодарю, Павел Степанович!
– Благодарить не за что, а к тому преждевременно. Вы теперь в столицу, полагаю-с, к своей избраннице отправитесь?
– Точно так. Только не в столицу. В Москву. Она будет ждать меня там в доме близких друзей.
– Втайне от родителей, выходит дело?
– Пока так.
– Да, такой сановник, какого вы описали, никогда не согласится на столь неравный брак… – вздохнул адмирал, кажется, уже проникшийся сочувствием к Безыменному, несмотря на свое предубеждение. – Разве что родитель ее умеет отличать людей не по чинам и положению, а по таланту, по делам их. Но при дворе это редчайшая добродетель. К тому же, когда вопрос касается собственной семьи-с… – Нахимов махнул рукой. – Что ж, поезжайте с Богом. Судьбы наши нам не ведомы. Может, выпадет вам случай отличиться, и желание ваше исполнится. Об одном прошу: держитесь вашей стези неотступно. Все в жизни переменчиво, а Россия и наша служба ей вечны, доколе мы живы.
– Павел Степанович, вы всегда были моим учителем, примером для меня. Мальчишкой я мечтал стать таким же, как вы. И я могу заверить вас, что от ваших заветов я не отступлюсь никогда, ни флоту нашему, ни долгу перед Отечеством, ни совести своей не изменю.
– Ваше слово вы не нарушали никогда, даже когда были безусым юнцом, – улыбнулся адмирал. – Не сомневаюсь, что и нынешнее сдержите. Поезжайте же к вашей красавице. Раз способна она столь долго ждать вас, не смущаясь соблазнами света, то, во всяком случае, такая преданность заслуживает почтения… Бог да поможет и вам, и ей.
Сергею внезапно почудилось в словах, в тоне адмирала что-то глубоко сокрытое личное. Может, случалось в далекие годы и ему мечтать о той, что для него, бедного офицера, не имевшего за душой ничего, кроме жалования, была недосягаема? И не стала терзать сердца ожиданием, но покорилась судьбе в лице родительской воли? Может, еще и оттого явилось в нем такое предубеждение к офицерским бракам? Однако, задать жегший язык вопрос было никак невозможно и, отблагодарив Павла Степановича за участливую беседу и завтрак, Безыменный откланялся.
В Москву он должен был отбыть на другой день. Письмо Юлиньки пришло накануне, и в нем она извещала, что будет ждать его в Первопрестольной. Они не виделись два года! Два бесконечных года… И все это время он лелеял в памяти образ той девочки, какой он увидел ее в самый первый раз, в Царском, в кабинете Карамзина. Эти сияющие глаза, эта неповторимая легкость и непринужденная веселость, эта влюбленность в море, которое она в ту пору едва видела. Теперь она успела насмотретья на него, прожив с матерью и младшими братьями и сестрами целый месяц в Ялте. Увы, в тот благословенный месяц Сергей лишь однажды смог вырваться со службы, и три дня они украдкой встречались с Юлинькой на берегу. С удивлением припоминалось теперь – в те два дня, точнее, ранних утра, когда побережье было еще пустынным, они почти не говорили друг с другом. Казалось, что без слов все мысли и чувства передаются от сердца к сердцу. А напоследок она сказала:
– Я всегда буду ждать только вас. Как бы далеко вы ни были от меня! Сколько бы преград между нами не стояло!
Тогда он впервые поцеловал ее руки, золотистые от загара, горячие, пахнущие… морем, песком, летом… Она чужда была, эта девочка, заботам о завивании кудрей, духах, модных рюшах и воланах. Ее платье, прическа, манеры всегда были просты, но в то же время редкая девица умела держаться с таким природным достоинством.
Сергею подумалось, что даже Павел Степанович, узнай он Юлиньку, смягчился бы. Помилуй Бог, ведь не будь она девицей, так, пожалуй, сделалась бы добрым моряком! Она много знала о море, о флотском деле. Читала книги и забрасывала Сергея вопросами в письмах, требуя ответов самых обстоятельных. И он отвечал, сколь мог, детально и красочно расписывая ей будни своей службы, происшествия, корабли, людей…
Надо отдать должное родителям Юлиньки – переписке они не препятствовали. Отец был слишком занят государственными делами, а мать никогда не позволяла себе оскорбить дочь недоверием, полагая, что своим детям нужно быть хорошим и мудрым другом, а не надсмотрщиком.
Само собой, «амуры» лейтенанта Безыменного не могли долго оставаться втайне. Вскоре после ялтинских прогулок слухи дошли и до Нахимова. Тот вызвал Сергея к себе и напрямую спросил его, имеет ли он намерение жениться. Сергей, хотя и знал, что последует затем, ответил со всей откровенностью, что влюблен, любим и мечтает соединиться законными узами с предметом своего обожания.
Через две недели корабль уже уносил его прочь от родных берегов, чтобы обогнуть земной шар и остудить пылкие чувства. Безыменный не обиделся тогда на Павла Степановича. Он верил в свои и Юлинькины чувства, но в то же время знал, что теперь им все равно никак невозможно быть вместе. А, значит, ничего не изменится от того, будет ли он в Севастополе или по ту сторону земного шара. Разве что письма станут реже, и их, конечно, будет не хватать. Но зато кругосветное путешествие даст прекрасный опыт и незабываемые впечатления!
В Севастополь Сергей вернулся с повышением в чине. Вид родной гавани растрогал его до слез. Воистину во всем мире не сыскать порта прекраснее, чем Севастополь! А на другой день пришло письмо от Юлиньки, которой еще с предыдущей стоянки отписал он о своем скором возвращении. Теперь сердце его трепетало в предвкушении грядущей встречи. Какой-то будет она? Какой стала Юлинька за эти два года? Сохранилось ли между ними то сердечное понимание, при котором даже слова оказываются не нужны?
В таком радостном волнении и надеждах Сергей шагал по улицам любимого города, мало обращая внимание на прохожих, когда неожиданно услышал свое имя…
Его окликнул пожилой господин весьма потрепанной наружности, показавшейся, однако, Безыменному смутно знакомой.
– Старший лейтенант… – протянул господин, внимательно изучая его, когда Сергей приблизился. – Экий молодец! Жаль матушка не видит – порадовалась бы за воспитанника…
Безыменный вздрогнул, насилу веря глазам:
– Владимир Львович?..
Князь Борецкий чуть усмехнулся. В нем и впрямь трудно было узнать того важного и спесивого господина, редко удостаивавшего надменным взглядом стоящих ниже себя.
– Да-да, юноша, все переменчиво в этой жизни. А Сибирь, она никого не красит. И крепости здоровья не способствует…
– Да я что-то слышал о вашем несчастье, – промолвил Сергей.
– Несчастье? Да! – Борецкий поднял вверх указательный палец. – Несчастье! И у этого несчастья есть имя, руки, ноги… И безумное богатство, которое поставило его над законом и позволило уничтожать чужие жизни.
– О ком вы говорите, князь? – удивился Безыменный.
– Вы не уделите ли мне несколько времени? Я желал бы рассказать вам о великом злодействе, жертвой которого стала вся моя семья… Я знаю, Сережа (вы позволите называть вас так по старой памяти?), мы с вами были совершенно чужими людьми. Я был занят собой и своей службой, и до вас мне не было дела. Но вы ведь не попомните старые обиды старику, который ныне лишен всего и за многие свои грехи заплатил с избытком?
– Помилуйте, от вас я не видел обид, а быть внимательным к найденышу, которого приютила ваша матушка, вы нисколько не были обязаны.
– Я был невнимателен и к ней, что непростительно, – покачал головой Владимир. – Матушка моя была редким человеком, с большим, отзывчивым сердцем. Жаль, что я не понимал ее прежде.
– Княгине я обязан всем и любил ее паче всех на этом свете, – искренне сказал Сергей.
– Я рад это слышать! Вы благородный человек, а, значит, история, которую я вам должен рассказать, тронет ваше сердце. Я ведь именно для того предпринял столь длинный и тяжелый путь, освободившись из ссылки, чтобы вам рассказать, чтобы предупредить… Где бы могли мы поговорить?
Вести князя к себе было немыслимо, и Безыменный пригласил его в ближайший трактир, где вынужден был оплатить своему нежданному гостю обед, за который тот принялся с заметным голодом. Немного удовлетворив оный, Борецкий заговорил:
– Итак, Сережа, вы должны знать, что у нашего семейства был и есть жестокий враг. Когда-то этот человек повздорил с моим покойным братом из-за одной девицы, которая предпочла ему Мишеля. Девица, к сожалению, умерла, и влюбленный в нее безумец обвинил в том моего брата. Конечно, Мишель был дурным человеком, оспаривать это бессмысленно. И я даже допускаю, что наш супостат имел право мстить ему. Но ведь такие вопросы благородные люди решают с пистолетами в руках, стоя друг против друга… Но подлецы действуют иначе и бьют в спину. Бьют не только своим обидчикам, но и их родным. Скажите мне, Сережа, разве это не безумие истребить целую семью из-за греха молодости одного из ее членов?
– Я не совсем понимаю, князь…
– Курский! Так он называет себя. Виктор Курский… Я не знаю, откуда взял этот человек свое чудовищное богатство, но оно дало ему власть даже над… Бенкедорфом!
– Возможно ли?
– После смерти незабвенной матушки и умопомрачения отца я решил узнать, кто преследует мою семью. Я узнал, что этот человек связан с тайным обществом, и сообщил о том жандармам. Негодяя арестовали! Но… выпустили в тот же день! А после этого по клеветническому доносу арестовали меня. И с позором отправили в Сибирь, лишив дворянства, чести – всего! Вы, вот, именуете меня князем, а ведь я никто теперь! Потому что злодей оклеветал меня и погубил… Что ж, мне почти повезло – я жив и свободен… А все мои родные в земле. Даже жена, которая захворала от горя и скончалась, не дождавшись меня… – по морщинистой щеке князя скатилась одинокая слеза. – Брат… Отец… Отец обезумел и умер в какой-то богодельне. Он был… во многом нелепый человек, слабый… Но он не заслуживал такого страшного конца. А мать? Ведь это он, он ускорил ее кончину своими интригами, которыми он посеял разлад в нашем доме, которыми увел отца, соблазнив слабоумного старика заграничной кокоткой! Страшное дело свершилось в нашем доме… Страшное… Я боюсь, что и теперь тот злодей не оставит меня в покое. Ведь он жаждет, чтобы Борецкие исчезли с этого света. Я же… хочу восстановить справедливость! Никто не вернет мне ни чести, ни потерянных лет, ни родных. Но я хочу, Сережа, чтобы они были отомщены, и чтобы старость моя прошла хотя бы в том последнем утешении, что никто не крадется по моим стопам, чтобы растерзать…
– Что же вы хотите от меня? – тихо спросил Безыменный, пораженный рассказом князя.
– Вашей помощи, юноша! – воскликнул князь. – Ведь матушка любила вас, как родного! Будь она жива, то, уверен, сделала бы все, чтобы обеспечить вам возможное положение в обществе. Ведь вы так напоминали ей ее покойного любимого сына, умершего во младенчестве… Разве благородное ваше сердце не говорит вам, что во имя ее памяти злодей должен понести кару?
– Пожалуй, вы правы… – задумчиво отозвался Сергей. – Однако, кто же этот человек? Достаточно ли он еще в силах, чтобы сойтись со мной в открытом бою?
– Вы слишком благородны! Этот негодяй не приемлет честных поединков.
– Что поделать, любых иных не приемлю я. Если он здрав и силен, чтобы держать пистолет, то я готов потребовать у него сатисфакции, если все, что вы говорите, верно.
– Вы не доверяете моим словам? – оскорбился князь.
– Владимир Львович, мы практически с вами не знаем друг друга. Я был мальчишкой, когда произошли все те несчастья, о которых вы говорите. Единственное, что нас объединяет, это светлая память вашей матушки и моей благодетельницы, во имя которой я сделаю все… Но не торопите меня. Дело, о котором вы говорите, слишком серьезно, чтобы я мог ответить тотчас.
– Вы рассудительный человек.
– Пытаюсь им быть.
– Что же, рассуждайте. Я долго ждал и подожду еще. Я квартирую в доме Лавренева, что в самом конце Мичмановского бульвара. Не под именем князя Борецкого, конечно… Под именем подрядчика Львова. Когда готовы будете дать ответ или же пожелаете о чем-то спросить меня, то спрашивайте там. Кстати, злодей также нынче поселился в благословенной Тавриде. Он ныне крив, как и ее покоритель, но, уверен, что стреляет и теперь лучше вашего. В прежние времена таких мастеров, как он было не сыскать. Учтите это, мой благородный друг.
– Благодарю за предупреждение. Я непременно наведаюсь к вам, даю слово. Но прежде дела зовут меня в Москву. Завтра я должен буду ненадолго покинуть Севастополь.
– В отпуск спешите?
– Да. Коли вы здесь искали меня, то, вероятно, знаете, что я лишь теперь вернулся из кругосветного похода и еще не привык ходить по земле, а не по палубе.
– Что же, думаю, за время поездки вы успеете обдумать мой рассказ. Прошу вас также не пожалеть времени и навестить могилу моей несчастной матери. Мне запрещено бывать в столице… А больше никого нет, кому бы сей прах был дорог.
– Об этом долге вы могли мне не напоминать. Хотя я крайне редко бываю в столице, но поклониться княгине не забывал никогда.
– Я рад это слышать, Сережа, и сердечно благодарю вас за память о незабвенной матушке!
Снова скупая слеза вытекла из сухого глаза… Безыменный поспешил проститься с князем. Общество Борецкого и та история, которую возложил он бременем на его совесть, тяготили его. Он отлично помнил скорбные дни болезни и кончины княгини. Помнил, какой скандал предшествовал ей – старый князь решил оставить семью и связать свою жизнь с итальянской певичкой. Неужели в этом был замешан чей-то злой умысел? Дальнейшей судьбы князей он почти не знал. Никто из них не проявлял интереса к воспитаннику покойницы-матери, и лишь ее наперсница Эжени заботилась о нем с той поры. Правду ли говорит этот бывший высокий судейский чиновник или же сам, распаляемый местью, ищет орудия для нее? А тот человек, которому он жаждет отомстить, кто он? Все это нужно хорошенько обдумать. И, во всяком случае, не раньше, чем он увидит ту, чьи глаза чудятся ему всякую ночь, ту, что так долго и преданно ждет его… Никакие призраки прошлого не омрачат этой встречи!
Глава 1.
Ни один мудрейший отец, ни одна кротчайшая мать не смогут остаться на высоте своей мудрости и кротости, если на их глазах любимая дочь вдруг вознамерится «сломать» себе жизнь «мезальянсом». Юлинька Никольская обожала своих родителей, и лгать им было для нее мучительно. Но разве смогут они понять правду? Смогут смириться с тем, что ее избранник – бедный флотский офицер, не ведающий собственных родителей? Юлиньке в ее лета по неписаным законам уже пора было составить чье-либо счастье. Недостатка в поклонниках у нее не было. Молодые люди из знатных семейств, офицеры и статские, они часто приглашались в дом Никольских, и Юлинька со всеми старалась быть любезной, никому, однако, не подавая надежды. Такое положение дел особенно огорчало отца, желавшего для дочери лучшей партии и всякий раз надеявшийся, что очередной претендент все же растопит сердце Юлиньки. Несколько раз он даже сердито выговаривал ей за «непомерную разборчивость», а пуще делился огорчением с матерью, которая, хоть и успокаивала его, защищала дочь, а все же и сама не одобряла той. Мать знала об увлечении Юлиньки, и оно тревожило ее.
– Возможно, твой моряк прекрасный юноша, но ведь ты прекрасно понимаешь, что он не может быть твоим мужем, – высказала однажды прямо.
– Что же следует из этого, матушка?
– Тебе пора забыть это детское увлечение и…
– Матушка, вы любили отца, когда выходили за него замуж?
– О, да! – лицо матери сразу посветлело от счастливого воспоминания.
– Вы сильно любили его. У вас так глаза блестят теперь… Я хочу, матушка, чтобы, когда я буду в ваших летах, мои глаза сияли также, когда моя дочь спросит меня, любила ли я мужа, когда выходила за него.
Мать опечалилась. Она хорошо знала характер Юлиньки, знала, что ее невозможно переубедить в том, что она решила, на нее бесполезно давить, и ей нельзя навязать то, чего сама она не желает.
– Ты… сломаешь себе жизнь…
– Разве я делаю что-то дурное? Я могу заверить вас, матушка, что урон чести нашего семейства я не нанесу никогда. В остальном дозвольте мне слушать свое сердце.
– Но ведь ты останешься одна! – сплеснула руками мать.
– Я никогда не останусь одна, пока есть люди, которым я нужна. А они в нашем горьком мире будут всегда.
В 1844 году принцесса Терезия Васильевна Ольденбургская и Великая Княгиня Александра Николаевна основали в Петербурге одну из первых в России общин сестер и сердобольных вдов, помогавших больным. Идея создания этого заведения принадлежала принцессе Терезии, за год до того побывавшей в детской больнице в Варшаве, где существовала подобная община. Перво-наперво для общины был снят дом подполковницы Сучковой в Рождественской части, в котором разместились 18 принятых на испытание сестер. Полковником Сучковым на свои средства было осуществлено переоборудование дома под Заведение для сестер милосердия из 6 отделений. Одной из этих восемнадцати сестер стала Юлинька, с детства имевшая огромную тягу помогать страждущим. Она часто бывала в гостях у семейства Апраксиных, подолгу беседуя с младшей сестрой Ольги Фердинандовны, Любой. Так, по имени, называли ее все, несмотря на то, что ей давно перевалило за тридцать. В последние годы она была уже полностью неподвижна – лишь речь Божиим чудом была оставлена ей. Дни напролет Люба проводила в молитвах или слушала чтение святых книг. Сестра старалась приглашать к ней людей духовного звания, странников и странниц – всех, с кем страдалица могла поговорить о предметах духовных. Приходили к ней, впрочем, и те, кто нуждался в совете, поддержке и молитвах. Люба принимала всех. И понимала всех… Не было человека, который, придя к ней со своей бедой, не ушел бы от нее не утешенным.
Комната Любы походила на церковь – иконы, лампады, свечи… А на высоком одре, до подбородка укрытая одеялом, в белом платке, в обрамлении которого особенно маленьким казалось изможденное лицо, лежала сама Люба, более походившая на мощи… Говорящие мощи с пронзительными, ясными глазами… Над ее головой висел большой портрет согбенного седовласого старца в подряснике, опирающегося на мотыгу. Его нарисовал по памяти муж Ольги. Это был саровский старец Серафим, молитвами которого некогда вернулась к Любе речь – с тем, как оказалось, чтобы могла она сама теперь словом врачевать людские души.
Но не только за духовным утешением или душевной беседой ходила Юлинька к Любе. Еще будучи в лучшем состоянии здоровья, последняя успела обучиться некоторым наукам, включая медицину. И в личной библиотеке ее, кроме книг духовных, были и ученые труды, занимавшие Юлиньку. Из этих книг и разговоров с Любой и постигала она азы медицинской науки в теории.
К моменту открытия общины она была уже готовой сестрой милосердия. Работа нисколько не страшила ее. С детства бывая с матерью в больницах и странноприимницах, она привыкла видеть самые страшные язвы и раны, самые тяжкие недуги.
В доме Сучкова расположились отделение сестер милосердия, женская больница, пансион, приют, исправительная школа и отделение кающихся. Позже появилась и богадельня для неизлечимых больных. Женская больница принимала у себя бедных больных женщин разных возрастов и званий и, если те были безнадежны, старалась обеспечить им достойный уход. Пансион, приют и детское исправительное отделение принимали только девочек.
Община сестер милосердия имела целью «попечение о бедных больных, утешение скорбящих, приведение на путь истины лиц, предавшихся пороку, воспитание детей бесприютных и исправление детей с дурными наклонностями». В нее принимались вдовы и девицы всех свободных состояний в возрасте от 20 до 40 лет. Сестра милосердия должна была отличаться «набожностью, милосердием, целомудрием, опрятностью, скромностью, добротой, терпением и безусловным повиновением постановлениям».
Обе основательницы общины стали всем сестрам примером служения страждущим. Терезия Васильевна сама кроила и шила одежду детям приюта и школы при общине, привлекала к этому делу и детей своих. Она испрашивала пособия и пожертвования на нужды учреждения и совместно со своим супругом, известным благотворителем принцем Петром Георгиевичем, пожертвовала в общину свыше 50000 рублей из собственных средств. Ни разу не пропустила принцесса своей очереди дежурства у постели больных. К несчастью, это не замедлило сказаться на ее здоровье. Возвращаясь однажды пешком с ночного дежурства в больнице, она простудилась, и ныне развившаяся от этой простуды болезнь вынуждала ее отойти от руководства общиной, дабы не повторить горькую судьбу Александры Николаевны…
Дочь Императора Николая, появившаяся на свет в памятном 1825 году, она всегда казалась хрупким цветком. Любила одиночество, обладала замечательным музыкальным талантом и прекрасным голосом… Ей посчастливилось выйти замуж по любви. Когда красавец-принц Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский, минуя в обход правил старшую сестру, сделал ей предложение, она, не дав ему определенного ответа, пришла в кабинет к отцу и на коленях просила согласиться на этот брак. Великая княжна сказала, что, вопреки правилам этикета, она уже обнадежила принца в возможности их счастья. Государю ничего не оставалось, как дать благословение. Счастливая невеста мечтала, как на новой родине она будет развивать мужа нравственно и духовно, как будет читать с ним Плутарха… Много прекрасных грез рождалось в ее воображении в те дни.
16 января 1844 года Александра Николаевна вышла замуж, а незадолго до свадьбы у нее открылась чахотка… Страшное известие Императору сообщил лейб-медик Мандт, специально приехавший в Англию, где тот в это время находился с визитом. Узнав, что дочь обречена, Николай срочно вернулся в столицу.
Течение болезни усугубило беременность несчастной великой княгини. За три месяца до срока она родила сына, который умер вскоре после рождения, и в тот же день скончалась сама. «Будьте счастливы» – были последние слова Александры Николаевны. Государь плакал над ее гробом, не стесняясь слез. Юлинька знала от отца, что смерть горячо любимой дочери Император счел наказанием свыше за кровь, пролитую в год ее рождения при подавлении декабрьского восстания.
В память об Александре Николаевне Императрица взяла общину под свое покровительство. Пятого сентября 1844 года, накануне сорокового дня со смерти великой княгини, в ней была освящена православная домовая церковь во имя Живоначальной Троицы. Заменить же усопшую на ее едва начатом благородном поприще решилась сестра – великая княгиня Мария Николаевна…
Год работы в общине многому научил Юлиньку, а также укрепил ее. В больнице ее любили и больные, и другие сестры. Ее усердие и знания высоко оценивались. А еще выше оценивалось то, как умела она ободрить, обогреть словом даже самых тяжелых и безнадежных больных.
Даже на даче в Царском Юлинька почти не гостила в этом году – она нужна была в общине. Здесь было ее место. И ни балы, ни рауты, ни иные светские увеселения не влекли ее. Теперь она впервые за это время покинула больных и сестер на продолжительный срок, отбыв в Москву…
Формальный поводом для поездки стало день рождения Танюши – дочери Константина и Лауры Стратоновых и крестницы Юлиньки. Юлинька опасалась, что мать решит поехать с ней. Однако, та маялась докучавшими ей в последние годы болями в спине и не отважилась отправиться в путь по родным ухабистым дорогам. Догадывалась ли она, что дочь едет в Первопрестольную совсем по иной причине?.. Юлинька скрывала это, как могла, а мать ни о чем не спрашивала.
Стратоновы уже который год жили в московском доме Никольских, под кровом которого Юлинька некогда родилась. Странно, однако, в родной дом гостьей приезжать… Хотя встречали ее здесь совсем не как гостью. Лучшая комната – хозяйская – ей отведена была. А зачем, в сущности? Юлиньке уютнее было бы в маленькой угловой, что окнами в переулок выходит… И хлопоты дяди Кости и его жены совсем лишними были. Смущали они Юлиньку, привыкшую к простоте во всем.
А, впрочем, все это такие малости… Главное, что, не считая Любы, только дядя Костя и тетя Лаура ее тайну знают. Они, сами наперекор многим условностям своего счастья добившиеся, могли лучше других понять и ее, и Сережу.
Ах, как долго не было писем от него! Теперь уже не версты разделяли их, но целый океан… Иногда Юлинька подходила к глобусу и, медленно вращая его, пыталась угадать, где теперь Сергей? Тыкала наугад в континенты и портовые города и пыталась представить их. Господи, если бы перенестись туда! Плыть по изумрудным волнам, парить над ними белоснежной чайкой… И быть рядом с Сережей. Иногда ей снился прекрасный фрегат, на полных парусах идущий к серебристой линии горизонта, и на капитанском мостике – Сергей в чине капитана, а рядом – она. И больше никого! Ничего! Море, фрегат, восходящее солнце (ах, какое незабываемое оно, какое величественное, когда поднимается из морских глубин!) и они двое… Это был самый счастливый сон Юлиньки, и, проснувшись, она иногда украдкой плакала в подушку – не то от счастья, не то от огорчения, что все это лишь сон.
Наконец, Сергей вернулся, и Юлинька тотчас дала знать об этом тете Лауре, которая обещала устроить их встречу. Сережа должен был приехать лишь завтра, и вечером осталось время поговорить по душам с понимающей все красавицей-грузинкой.
Княжна Лаура все еще была хороша, хотя после рождения троих ребятишек погрузнела, приблизившись к классическому образу благодетельной матроны. Она, впрочем, была далека от того, чтобы полностью раствориться в своем семейном счастье. Тяга к обществу людей искусства, приобретенная за время службы при дворе, не остыла в ней. И теперь, в Москве, сложилось у нее нечто вроде салона – впрочем, очень скромного и домашнего. Здесь частенько собирались славянофилы, с которыми княжна сошлась особенно тесно. С особенным восхищением говорила она о Хомякове. Неисчислимые таланты этого человека – врача и поэта, изобретателя и богослова, художника и философа – вызывали в горячей дочери Кавказа почти языческое боготворение. Тетя Лаура вела переписку с Гоголем и Глинкой, особенно дорогими ее сердцу еще с петербургских времен, с другими людьми, чьи имена многие произносили восторженным шепотом. Если княжна восхищалась ими, то Юлинька – самой княжной. Умением этой женщины, чья молодость прошла в затворе родительского дома, в далекой Грузии, расположить к себе все мудрое и талантливое, собрать вокруг себя самых незаурядных людей. Одной красоты тут было явно недостаточно. Нужно было самой иметь и ум, и талант, и особенную легкость в общении с людьми.
Все это княжна Лаура имела в избытке и могла бы блистать при дворе и теперь, но двор был ей не нужен. Она любила мужа, детей и свой маленький салон… Юлиньке было любопытно, как относится к последнему дядя Костя. Отставной офицер, он так и не нашел себя в мирной жизни, ибо, как и его брат, умел только воевать. Конечно, он читал книги, но из них разве что романы Вальтера Скотта и загоскинский «Милославский» могли вызвать в нем живой отклик. Театров он избегал, из музыки всем операм и кантатам предпочитал душевную народную песню, бравурный марш да солдатские куплеты, какие иногда сочинял и сам. В салон жены дядя Костя заглядывал лишь ненадолго из обязанности поприветствовать гостей. В сущности, он, герой многочисленных битв, побаивался этих высокоумных господ. Побаивался сказать что-то не то, плохо понимая обсуждаемые предметы, ударить в грязь лицом – ведь жене такой конфуз огорчителен будет!
При этом Стратонов вовсе не был «подкаблучником». Он просто любил свою Лауру – такой, какая она была. И знал, что она бесконечно любит его. Ну, а салон… Всякая женщина развлекает себя по-своему. Можно лишь гордиться, что у его жены столь редкое и почетное развлечение. Сам же дядя Костя едва ли находил довольно развлечений в Москве… Пожалуй, ему бы лучше было жить в деревне – разбирать тяжбы мужиков, охотиться, разводить лошадей или собак… Но деревенек не нажил даже его брат-генерал. Правда, был родительский дом тети Лауры в Тифлисе, где одиноко оканчивала свои дни после смерти мужа ее мать. Но перебираться туда Стратоновы не спешили.
– Мой отец так и не простил мне, что я без его благословения вышла замуж за бедного русского офицера… – говорила княжна с едва уловимым акцентом, удобно устроившись на мягком диване и гладя Юлиньку по голове, которую та склонила ей на колени. – До самой смерти он не сказал со мной почти ни слова. Даже когда Сашеньку привезли к нему. Думала – увидит внука, единственного наследника, и оттает. Нет… Так и умер не простив… Гордый был человек…
– Матушка говорит, что мы с Сережей не можем быть вместе. Я понимаю, что она права, но…
– Право сердце, душенька моя… Сердце! Я не должна была бы поддерживать тебя, ты понимаешь. Мы с Костей по милости твоих родителей живем под их кровом уже столько лет…
– Вы же знаете, что я никогда не позволю себе проступка, не позволю себе бросить тень на имя моих родителей.
– Знаю, поэтому и уговорила Костю дать вам приют на эти дни. Но скажи, ты и в самом деле так уверена в себе? Ведь бывает так, что сильное чувство кружит и самые крепкие головы.
– Я уверена и в себе, и в Сереже.
– Трудной будет ваша судьба, – княжна вздохнула. – Я бы хотела помочь вам, но что я могу? Своим счастьем я обязана одному… чародею, – она чуть улыбнулась. – Ты знаешь, я сначала боялась его до дрожи. Он казался мне самим дьяволом, вездесущим, знающим все и обо всех… А он спас и меня, и Костю, и соединил нас. Иначе ничто бы нам не помогло.
– Если бы ваш чародей помог и нам!
– Если бы я знала, где его искать… – тетя Лаура покачала головой. – Он исчез несколько лет назад, и я ничего не знаю о нем. Надеюсь, что он хотя бы жив, так как счастлив он уж точно быть не может.
– Отчего же так?
– Не знаю, душенька. Знаю только, что человек этот глубоко и неисцелимо несчастлив… – княжна помолчала. – Твоя матушка не знает, зачем ты к нам на самом деле поехала?
– Я не осмелилась сказать.
– Пообещай, что скажешь, когда воротишься. Варвара Григорьевна – женщина мудрая, казнить тебя не станет. А доверием ее небрегать ни тебе, ни нам негоже.
– Я обещаю, я непременно все ей расскажу.
– Правильно, так лучше… А что же Петруша? – вспомнила тетя Лаура о племяннике мужа. – Он-то все таков же к тебе? Не переменился?
– К несчастью, нисколько… Скоро он возвращается в Петербург, и меня это хуже всего страшит. Юрий Александрович отцу лучший друг, жизнь ему спас. Петруша в нашем доме вырос, как родной сын… Если посвататься решит, а я откажу, отец не простит.
– Если откажешь, большую боль причинишь ему. Он тебя любит – это всегда в глаза бросалось.
– А что делать? Я Сереже слово дала, что или с ним буду, или ни с кем… А Петруша мне как брат. Родной, любимый брат. И никак иначе смотреть на него я не могла и не смогу.
– Сложно нам стези наши судьбы переплетают… Уж, казалось бы, все тебе дадено: прекрасная семья, положение, достаток, красота, ум, поклонники на любой самый взыскательный выбор – тебе ли при такой к тебе щедрости счастливой не быть? Так нет же! Не туда глаза и сердце стремятся! А к безродному и бездомному… Что, неужто так хорош он?
– К чему вы о том спрашиваете? Ведь будучи фрейлиной Императрицы, вы тоже могли себе хорошую партию составить. А ждали Константина Александровича…
– Правда твоя. Я бы его ни на какого князя или заморского принца не променяла. Один он в моем сердце был и будет.
– Вот видите…
– Что ж, Бог не без милости. Авось, и сладится все каким-либо чудом неслыханным. Зачем-то же привел Господь этого юношу в твой дом, где ему вовсе не было причины появиться. Терпи, душенька. Терпи, жди и верь.
– А что мне еще осталось? – вздохнула Юлинька.
Ночью она не могла уснуть, утром от волнения едва заставила себя выпить чашечку кофе с молоком и съесть маленький кусочек оставшегося с вечера пирога. Села было к зеркалу, в кой-то веки решив «навести красоту», но не лежала душа к делу этому. Не по душе были Юлиньке ни модные локоны, ни рюши да оборки… Надела простое платье золотистого тона, что особенно шел ей, тщательно расчесала и уложила густые каштановые волосы. Да, вот, пожалуй, медальон еще надеть можно – отцов подарок на восемнадцатилетие. И все, ничего более… Пусть увидит Сергей ее настоящую, какой видел всегда. Интересно, сильно ли она изменилась с их последней встречи? Ведь тогда она еще больше на девочку-подростка походила, а ныне, как говорит отец, невеста на выданье…
Оставив зеркало, Юлинька устроилась в гостиной, окна которой выходили на улицу, и стала напряженно вглядываться в каждый проезжающий экипаж, с замиранием сердца ожидая, что один из них остановится у дверей, и из него выйдет… Господи, частил ли так ее пульс когда-либо еще? Пылали ли щеки так горячо? И какая же мука вот так ждать, не ведая точного часа!.. А что если он и вовсе не приедет сегодня? Ведь дорога не близкая, мог сломаться экипаж, или случиться еще что-то… О, только бы ничего не случилось! Только бы эта пытка ожиданием скорее окончилась!
Наконец, у парадного подъезда остановилась дорожная кибитка, из которой легко выпрыгнул статный молодой человек во флотском мундире. Совсем не изменился! Только тонкие усы, чуть завитые на концах, темнели над губой. Как странно, волосы у него – светлые, как пшеница спелая, а усы почти черные… И брови… А глаза! Господи, с первой минуты и доныне – все в этих глазах-озерах! Глазах-морях! Утонуть в них и забыть обо всем… Сейчас эти глаза почти на ее окно смотрят, но не видят ее, скрывшуюся за занавеской. В них тревога, смущение, всегдашняя печаль и… надежда, мечта…
– Это он, да? – раздался из-за плеча замершей у окна Юлиньки голос княжны. – Красивый молодой человек… Ну, что ж ты оробела? Иди, встречай его. Смотрю, он застенчив, твой «морской волк»…
Сережа, в самом деле, никак не решался позвонить в дверь. Он уже отпустил кибитку, взяв из нее маленький саквояж, составлявший весь его багаж, и теперь переминался с ноги на ногу, разглядывая богатый дом и, видимо, собираясь с духом, чтобы взяться за шнурок колокольчика…
– Иди открой ему, пусть слуги не тревожатся. Открой и веди сюда. Мы чуть позже с Константином Александровичем подойдем познакомиться, чтобы не смущать гостя сразу.
Юлинька с жаром чмокнула княжну в щеку и уже собиралась бежать к двери, но тетя Лаура удержала ее:
– Душенька, ты уже не ребенок. Иди спокойно. И перед тем, как открыть дверь, глубоко вздохни три раза, иначе он подумает, что ты в лихорадке.
Едва сдерживаясь, чтобы не бежать, Юлинька торопливо спустилась в прихожую и, на мгновение остановившись, зажмурилась, поднесла ладони к полыхающим щекам, глубоко вздохнула. В этот миг мелодично запел висевший над дверью колокольчик…
Глава 2.
Дверь распахнулась ровно в ту же секунду, что он дернул за шнурок звонка, с трудом поборов столь не свойственную себе робость. На пороге стояла она… То есть почти она. Уже не девочка, а девушка – крепко сложенная, статная – настоящая московская боярышня. Красива ли она? Он никогда не задавался этим вопросом. Она прекрасна и неповторима – и что еще можно добавить к этому? Пожалуй, искатели изысков сочтут, что девушка слишком проста. Это округлое, как у матери лицо, этот курносый нос и пышущие здоровым румянцем щеки – светской барышне полагается «загадочная» бледность и томность, не так ли? Но тем и прекрасна была Юлинька, что не было в ней ничего от «светской барышни», ничего наносного, искусственного, деланного. Она была, как сама природа. А природе не нужно украшений. На Юлиньке и нет их. Платье простое, волосы каштановые в толстую косу уложены, что, перекинутая через плечо, до самого пояса достает… И ведь насколько лучше эта коса глупых шиньонов…
Вопреки условностям Юлинька сразу подалась вперед и протянула Сергею обе руки:
– Приехал! – выдохнула. Губы ее дрожали в счастливой улыбке, которую она не умела скрыть в угоду «приличиям», а темные глаза сияли. – Голубчик мой, приехал!
Сергей крепко сжал ее ладони. Ему хотелось подхватить девушку на руки, закружить, но он не смел. К тому же догадывался, что из-за окон за их встречей наблюдают.
– Какая же вы стали, Юлинька!.. Как самая прекрасная звезда… Простите, не умею я комплиментов говорить.
– Так и не говорите. Пустых и трескучих комплиментов всегда есть кому наговорить. А одно слово настоящее… Один взгляд настоящий… Ведь больше ничего-ничего не нужно!
Да, ничего… Один ее взгляд, одно ее слово… И все тревоги разом отлегли от сердца. Ничего не переменилось меж ними за время разлуки.
– Но что же это я вас на пороге держу? Проходите же скорее в дом. Вам уж и комната приготовлена. Я сейчас чаю велю… В гостиную…
И уже влекла за собой в дом, по лестнице на второй этаж… На ходу велела лакею отнести чемодан барина в его комнату, а горничной – подать чай с печеньем в гостиную.
В гостиной они оказались одни, что немало порадовало Сергея, ожидавшего немедленного знакомства с семейством Стратоновых.
– Стало быть, это ваш дом? – спросил он, разглядывая висевшие на стенах портреты.
– Да. Под этой крышей родились и выросли несколько поколений моей семьи. А мне пришлось расти уже в столице…
– Вас это огорчает?
– Как может меня это огорчать? Ведь в ином случае мы не встретились бы! А что же вы чай не пьете? Ведь вы с дороги, должно быть, голодны!
Должен был проголодаться, это верно. Да только не чувствовалось того. Не хотелось ни чаю, ни печенья, столь ароматно пахнувшего. А только говорить с нею, смотреть на нее, иногда касаться руки…
– Не тяжело ли вам работать в общине? – спросил Сергей, отметив про себя натруженность Юлинькиных рук, столь не свойственную рукам благородных девиц.
– Ничуть, – живо откликнулась Юлинька. – По правде сказать, я и не знаю, как жила бы теперь без нашей общины. Это была бы очень пустая жизнь, а ничего нет хуже пустоты. Пустота рождает тоску, а тоска – худший из душевных недугов.
– Такой была бы и моя жизнь без моря. Ах, Юлинька, иногда мне хочется сделаться корсаром, похитить вас и увезти куда-нибудь в Новый Свет, – Сергей улыбнулся. – Простите ли вы мне столь дерзкие мечтанья?
– Охотно прощу. Хотя и не поддержу. Вы ведь знаете, что я не могу пойти против моей семьи…
– Я никогда бы и не потребовал от вас такой жертвы.
– Я тоже иногда предаюсь мечтам, но они слишком сказочны, чтобы говорить о них. А недавно мне подумалось, что, если бы вы служили на Балтике, то мы могли бы видеться чаще…
– Возможно, но что бы это изменило? Между нами все равно стояла бы та же преграда… А я никак не могу оставить Севастополь. «Силистрию»… Павла Степановича… Там моя семья, Юлинька. И ее я не могу предать так же, как вы вашу.
– Я понимаю вас. И больше всего мне хотелось бы увидеть столь дорогой вашему, а, значит, и моему сердцу Севастополь!
А уж как бы хотелось этого ему! Здесь, в ее доме, он вновь чувствовал себя случайным гостем. Этот барский дом, это богатое убранство, эти старинные портреты – все ежесекундно напоминало Сергею о той пропасти, что отделяет его от сидевшей рядом с ним возлюбленной. Портреты… Их много в старой гостиной… Интересно, до какого колена изображены здесь достойные представители семейства Никольских? А он лица матери не помнит, имени отца не знает…
Юлинька попросила рассказать о кругосветном плавании.
– Вы теперь весь мир увидели!
– Моряк видит не мир, а бухты, – улыбнулся Сергей. Однако же, просьбу охотно исполнил. Иной моряк, может, и впрямь только бухты видит, но моряк, являющийся одновременно очами любимой женщины, видит значительно больше, нарочно подмечая детали и краски, высматривая то любопытное, что к морскому делу не относится, но будет занимательно для предмета обожания, не упуская случая сойти на берег и хотя бы бегло ознакомиться с достопримечательностями и жителями очередного города, в который занесла судьба. Живому воображению Юлиньки нетрудно было представить описываемые им края. Кажется, она уже воочию видела Амстердам и Глазго, Дувр и Сингапур…
– Я на своем глобусе отмечала ваш маршрут и старалась угадать, в какой день в какой порт причалит ваш корабль…
Глобус подарил ей отец, когда ей было шестнадцать. В доме уже было «земное чрево», по которому приходящий учитель обучал детей азам географии. Но Юлиньке непременно хотелось иметь свой личный глобус. Хоть и смеялся Никита Васильевич странной прихоти дочери, а отказать в ней не мог.
– Этот глобус запирается на ключ, – она показала маленький ключик, висевший у нее на шее. – В нем я храню все ваши письма. Вам непременно писать надо… Вы так… удивительно описываете море!
– Это лишь ваша заслуга. Ведь когда я пишу о море, то вижу перед собой ваши глаза. И они не позволяют мне писать дурно.
Вошедшая горничная доложила, что обед будет подан через полчаса, и что барин Константин Александрович с барыней будут ждать барышню и гостя в столовой. Хотя Сергей был наслышан о непростой истории четы Стратоновых, он все же с некоторой тревогой ожидал встречи с нею. Юлинька, угадав это, подбодрила:
– Не тревожьтесь, они примут вас, как родного!
Это обещание не оказалось преувеличением. Стратоновы оказались людьми радушными и на удивление легкими. Они не задавали досужих вопросов, не приглядывались к гостю с преувеличенным вниманием. Со стороны могло показаться, что Сергей завсегдатай этого дома. Константин Александрович, коему общество молодого офицера было куда ближе бывающих у жены писателей и поэтов, пригубив привезенного из Грузии кахетинского вина, стал вспоминать славные страницы персидского похода и обороны Шуши, во время которой он спас жизнь княжне и таким образом познакомился с нею. Сергей с интересом слушал это повествование и при этом любовался прекрасной грузинкой. Точнее, тем выражением лица, глаз, с которым смотрела она на мужа. В нем было столько не потускневшего от времени чувства, что можно было лишь по-доброму позавидовать Стратонову и порадоваться за их семью.
Взгляд же сидевшей напротив Сергея Юлиньки, казалось, вопрошал: «Ну, что я вам говорила? Разве они не чудесные люди?»
Чудесные, действительно, чудесные… Сергей уже искренне любил их обоих. Он опасался еще, что княжна заведет с ним разговор о литературе. Хотя и не чужд он был книгам, любил их, да все же как вести о сем предмете беседу с дамой, которая была в дружбе с самим Пушкиным? Непременно в грязь лицом ударишь. Но Лаура Стратонова не говорила ни о Пушкине, ни о Глинке, ни об иных своих прославленных знакомых. Она вообще очень мало говорила в этот день, предоставив это мужу. Когда же тот по окончании обеда откланялся и поднялся к себе, княжна немного задержалась. Перевела задумчивый взор с Сергея на Юлиньку, взяла обоих за руки и сказала:
– Не знаю, дорогие мои, что ждет вас впереди, но держитесь друг друга, что бы там ни было. Иначе потом не простите себе… А покуда вы оба в Москве, сходите-ка к Корейше. Может, он что и откроет вам о вас.
– Корейша? Кто это? – полюбопытствовал Сергей.
– Странный человек… – отозвалась Стратонова. – Он живет в Преображенской больнице.
– Сумасшедший? – вскинула брови Юлинька.
– Не знаю, – покачала головой княжна. – Может он и сумасшедший, а только души людские и будущее ему открыты. За то, говорят, и поплатился.
– Это как же? – спросил Сергей.
– Отец его священником был. Кстати, тоже странный человек. Чтобы простым священником стать, от дворянства отказался. Дети по его стопам пошли. Иван, который теперь в Переображенке мается, семинарию окончил и даже академию. Говорят, большим умом его Бог наделил. Да только нелюдим был. Сан не принял. Сперва в духовном училище преподавал, а потом в какой-то день встал посредине занятий, вышел из класса да и ушел.
– Куда?
– По святым местам. В чем был ушел… В Соловецком монастыре жил, затем в Киево-Печорской Лавре подвизался, а после в пустыне Нило-Столобенской. Там-то прозорливость его проявляться стала. Вора из числа братии изобличил. Потом вернулся в родной Смоленск. Опять преподавал, но недолго. Ушел в затвор, да к нему народ повалил с любопытством праздным. Одна девица замуж собиралась, а он угадал, что жених ее – офицер – уже женат. Тот, как узнал о том, бедному Ивану ноги переломал, едва не зашиб. Это еще перед войной было.
– А дальше? – Юлинька уже заметно заинтересовалась судьбой обитателя дома умалишенных.
– Дальше стал он чиновников-казнокрадов обличать, что деньги Государевы, что на восстановление города выделялись, расхищали.
– И они его к сумасшедшим упекли? – догадался Сергей.
– Так и было. Упекли… Только в Смоленске в ту больницу народ ходить начал – целое паломничество к мученику за правду началось. Тут-то его в Москву и отправили. А здесь… Времена-то еще какие были! Это сейчас Преображенка больницей сделалась, а тогда – самая страшная тюрьма. Несчастных держали в подвалах на хлебе и воде, цепями приковывали, поливали водой, потчевали рвотными, пиявок к вискам ставили, делали прожоги на руках…
– Страсти какие! – поразилась Юлинька. – Да это же… средневековье какое-то! Инквизиция!
– Мы, как и твои родители, в доме странников и убогих принимаем. Среди них бывший санитар той больницы был. Он и страшнее рассказывал. Да не хочу уж повторять… Корейша в таком подвале несколько лет просидел. Но и тут прозорливость его известна стала. Пришла к нему однажды жена самого губернатора Голицына и, когда он ей всю правду сказал о том, чего знать никак не мог, то и начались перемены. Прежнее руководство больницы в отставку отправили…
– Их бы на каторгу, а не в отставку! – воскликнул Сергей.
– …а к больным, наконец, стали хоть отчасти по-людски относиться. Ни подвалов, ни цепей, ни прочих ужасов не стало. А Корейше отдельную палату предоставили. Только он все равно на полу да в нечистотах жить предпочитает. К нему теперь посетители ходят. Бедных даром пускают, Корейша их оделяет от тех даров, что состоятельные посетители ему носят. А последние за визит больнице платят на обустройство ее.
– И что же, пророчит? – недоверчиво спросил Сергей.
– Тем, у кого на самом деле нужда и несчастье – да. Ну, а праздных охотников до зрелищ и обругать может и водой облить. Я сама не была у него, а одна из горничных наших, Матрена, ходила. Испугал он ее. Говорит, на зверя дикого похож, смердит.
– «Приятное» зрелище… – усмехнулся Сергей.
– Юродивые редко на вид приятны бывают, – заметила Юлинька. – Непременно надо сходить к этому человеку. Может нас он не станет водой поливать, но скажет, чего нам ожидать.
– А уверена ли ты, что хочешь это знать? – уточнила княжна.
– Хочу, – уверено отозвалась девушка и, взглянув на Сергея, спросила: – А вы? Хотите?
Ее уверенности у него не было, и поход в сумасшедший дом к несчастному похожему на зверя Корейше его не прельщал. Но он уже видел, что Юлинька загорелась этой идеей. Так что же, отпустить ее одну?
– Главное, что этого хотите вы. Стало быть, я буду иметь честь сопровождать вас.
У Юлиньки слово никогда не расходилось с делом. Уже на другое утро запряженная парой коляска везла их на окраину Москвы, где некогда Петр Первый основал парусную фабрику и матросскую слободу. Позже по перемещении фабрики в Новгород, Император поселил в ее здании ветеранов и инвалидов. Он издал указ, согласно которому по данной улице не могли ездить кареты и повозки, дабы ее обитателей ничего не тревожило. Так родилось название улицы – Матросская Тишина…
Ныне здесь были две достопримечательности – казармы Гренадерского саперного батальона и Преображенская больница.
Сергей мало знал Москву, и по ходу поездки с удовольствием слушал рассказы Юлиньки о проезжаемых местах. Нередко ее повествование дополнял пожилой извозчик – большой знаток Первопрестольной. Этот величавый старик, кажется, о каждом храме мог рассказывать часами – какие иконы и святыни в нем имеются, какие чудеса и иные примечательные случаи бывали, какие Божьи люди встречались. Знал он и всех именитых и не очень жителей, знал, какой дом в войну вовсе сгорел и заново отстроен, а какой чудом уцелел, знал, каким нравом обладают хозяева – тот степенный барин, а другой – картежник и пьяница. Хороший извозчик с долголетним стажем знает буквально все и про всех. Чего сам не видал, то седоки расскажут в дороге от скуки. А о чем они умолчат, то другие извозчики поведают во время долгих стоянок в ожидании господ из гостей, театров, рестораций…
Интересный город Москва! Пожалуй, куда колоритнее столицы. Но все ж не сравнится с Севастополем. С Севастополем вообще ни один город в мире не сравнится…
Наконец, добрались до неприметного здания больницы. И зачем идти туда? Поехали бы лучше кататься! Но Юлинька желала знать судьбу. Что ж, воля дамы – закон.
У Корейши в это утро уже были посетители. Какие-то бабы – по виду сами близкие к тому, чтобы стать постояльцами Преображенки. Ивана Яковлевича они почитали святым и говорили о нем с исключительным благоговением. Хотя больничные коридоры были весьма чисты, но их атмосфера, доносившиеся из-за стен звуки, иногда проходившие тени с бессмысленными взглядами – все это производило на Сергея гнетущее впечатление. Хотелось, как можно быстрее, покинуть эти стены.
Наконец, бабы удалились, и Сергей с Юлинькой вошли в просторную палату, в углу которой располагалось нечто, что невозможно было сравнить даже с логовом дикого зверя. Преодолевая отвращение, Сергей присмотрелся: на горочке песка лежало то, что некогда было постелью, а ныне представляло собой груду бурых от грязи и сала, смердящих и изорванных тряпок. А в них завернулся иссохший, плешивый, заросший редкой бородой старик. Трудно было поверить, что когда-то этот человек был учен, кончал академию, учил детей… Хотя он мог ходить и был вполне здрав физически, но лежал, не вставая. Оттого в помещении был до крайности тяжелый дух, который ничем нельзя было перебить. Неподалеку от безумного стояла кружка, в которой лежало несколько монет. Некоторые посетители предпочитали оставлять пожертвования самому Корейше.
– Христос Воскресе, Иван Яковлевич! – поприветствовала Юлинька прорицателя, поклонившись ему.
Тот, словно очнувшись ото сна, перевел тяжелый взгляд на вошедших, долго и пристально смотрел на них, затем поманил к себе девушку. Юлинька приблизилась, и юродивый вдруг поднял худую, как палка, руку и трижды перекрестил ее. После кивнул на Сергея:
– Пусть выйдет.
Это требование покоробило офицера, но просительный взгляд Юлиньки не оставил ему выбора.
– Я подожду вас на улице, если вы не против.
Палату Корейши он покинул с некоторым облегчением. Он не мог преодолеть отвращения к грязному и похожему на зверя безумцу. А тот – не иначе как угадал это и потому выпроводил?.. А Юлиньку благословил тотчас – увидел, что с открытым сердцем она пришла к нему.
В задумчивости брел Сергей по больничным коридорам, как вдруг скрипучий голос тихо окликнул его:
– Сереженька, ты ли?
Сергей остановился, как вкопанный. У стены, в кресле-коляске сидел ветхий старик, укутанный одеялом – лишь левая рука его была свободна и слегка подрагивала. Он смотрел на Сергея слезящимися глазами, пытался протянуть руку, но та не слушалась его.
– Кто вы? – тихо спросил Сергей, нагнувшись к нему и коснувшись беспомощной руки.
– Не узнал? Впрочем, неудивительно… Ты был совсем ребенком… Странно, что я узнал тебя. Ведь ты был ребенком, а теперь… Офицер… А я почему-то узнал, почувствовал… Или Вера Дмитриевна шепнула… Ты знаешь, она ведь одна меня не оставила. Она все время мне что-то говорит, и я отвечаю… Да, точно! Конечно! Это она тебя узнала! Не могла же не узнать своего любимца… И мне шепнула… Мерси, ма шер, мерси…
– Лев Михайлович, неужели это вы?.. – Сергей был потрясен. Старого князя Борецкого все считали давно умершим.
– Я, мон шер ами… А, может, уже и нет…
– Но… как же?.. Как же вы здесь?..
– Нищета, болезнь… Я здесь только недавно… До этого был другой… приют… – князь опустил голову. – Я плачу за свои грехи и за грехи моих сыновей. Наш кредитор оказался очень взыскателен… Когда она уходила, она сказала, что он не успокоится, пока не изведет наш род…
– О ком вы говорите, князь? Кто вам это сказал?
Лицо старика болезненно подернулось:
– Она… Эта страшная женщина… Не спрашивай, прошу тебя! Я не хочу, не хочу вспоминать…
– Но ваш кредитор? Кто он?
– А этого я не знаю… – Лев Михайлович растерянно покачал головой. – Она не сказала, а я все эти годы не могу вспомнить… Я все думал, думал… Но, знаешь, я слишком много зла сделал в своей жизни. А если делаешь много зла, то как потом понять, за какое именно пришло возмездие? Да и не все ли равно… Я, мон шер, сперва ненавидел его за мои муки, а теперь… Теперь нет… Ведь он всего лишь меч карающий… Может, оно и лучше, что моим кредитором оказался человек. Ведь в противном случае я задолжал бы небесному кредитору, а это… – глаза старика расширились, – страшно! Страшно остаться один на один с небесным кредитором!
– Почему вас упекли к сумасшедшим, князь?
– Из-за княгини. Они пытались объяснить мне, что ее нет. А как же нет, если она рядом со мной? Вот и теперь… Ведь ты тоже видишь ее, мон шер? Она так рада тебе! Так рада…
– Я могу чем-то помочь вам, Лев Михайлович?
– Помочь… Не знаю… – старик поежился. – Хотя… Конфеты! Если бы ты прислал мне шоколадных конфет, я был бы тебе очень признателен. Помнишь, когда-то я угощал тебя конфетами? А теперь ты меня угостишь…
Сергей помнил, что князь и впрямь пару раз, будучи в веселом расположении духа, угощал его вкусными конфетами, покупаемыми им у француза-кондитера.
– Конечно, князь. Завтра у вас непременно будут конфеты…
Кроме тех конфет, вспомнить что-либо доброе о Льве Михайловиче Сергей не мог. Он всегда недолюбливал старого князя, негодовал на него за те обиды, что он чинил благодетельнице-барыне своими изменами, за ее слезы и горести. Но теперь ничего кроме жалости больной старик не вызывал у него. Если он и был сумасшедшим, то лишь немного, лишь в той степени, что помогала ему пережить выпавшие ему муки и принимать их с неожиданным для прежнего светского льва смирением. Он видел рядом с собой покойницу-жену, говорил с ней – и за это его считали сумасшедшим. Но Сергей готов был верить, что князь и впрямь видит ее и говорит с нею. Княгиня была ангелом и очень любила его, несмотря ни на что. И, вот, теперь не оставляла несчастного своим попечением…
Пришедший санитар увез князя в палату. Старик тревожно обернулся, попросил еще раз жалобно:
– Не забудь, пожалуйста! Конфеты…
Разве мог Сергей забыть? Завтра же он попросит кого-нибудь из слуг проводить его в лучшую кондитерскую и купит старику лучших конфет, фруктов, пастил… Хоть бы даже на это ушли отложенные на дорогу деньги. В конце концов, можно заложить часы или одолжить у Константина Александровича с тем, чтобы выслать долг с первого же жалования.
Однако, что за кредитор, о котором говорил несчастный князь? Опять этот человек… Значит, Владимир Львович не лгал о нем? Значит, кто-то и впрямь поставил себе целью сжить со свету род Борецких? И первой невинной жертвой его стала добрейшая княгиня, заменившая безродному сироте мать… Однако, это дело нельзя так оставить. В Севастополе непременно нужно будет найти князя Владимира и выспросить у него все. Нужно узнать правду, понять… Пусть сам Сергей не имеет отношения к княжескому семейству, но в нем прошло его детство, в нем он получил воспитание, подобающее благородным детям, а самое главное – любовь и нежность Веры Дмитриевны. А, значит, несчастье, постигшее эту семью, не может быть ему безразлично.
Юлинька нагнала его на крыльце больницы. Она выглядела очень взволнованной, и Сергей с тревогой спросил:
– Я надеюсь, прорицатель вас не обидел?
– Нет, что вы! Он мне руку на голову положил и благословил… А я руку поцеловало у него…
Сергея передернуло. Удивительная девушка! Ему, моряку, и подойти-то к юроду насилу возможно было. А она руку ему целовала… Юлинька заметила его реакцию:
– Сереженька, вы ужасно не правы в отношении Ивана Яковлевича! Он Христа ради принял на себя такой подвиг.
– Простите, Юлинька, я понимаю, что виноват. Но не судите строго. Мне трудно было преломить себя… Помню, покойница-княгиня тоже привечала разных юродивых и блаженных. Некоторых я боялся. И, признаюсь, не смог привыкнуть к ним. Скажите лучше, открыл ли вам Иван Яковлевич что-нибудь сокровенное?
– Он назвал вас моим мужем. Когда вы вышли, сказал: муж и жена – мУка не страшна. МУка перемелется – мукОй обратится.
– Стало быть, муки сулит нам ваш прорицатель?
– Да разве же это важно? – глаза Юлиньки светились. – Главное: муж и жена! Сереженька, мы будем вместе! А все прочее… Что бы ни было, главное, чтобы вместе!
– И то верно! – согласился Сергей, наконец, осмелившись легонько обнять девушку за талию. – Если бы вы знали, Юлинька, как вы прекрасны! И как я люблю вас! Больше всего на свете я люблю море и вас! Павел Степанович счел бы такое равенство изменой морю, но, хотя я бесконечно люблю и его, но тут он был бы не прав, потому что не знает вас!
– Это самое лестное равенство, какое только может быть! – воскликнула девушка. – А мне даже не с чем сравнить мою любовь к вам. Ибо ничего и никого более дорогого, чем вы у меня нет.
Сергею безумно хотелось поцеловать ее, но он удержался от этого порыва, воскликнул весело:
– А не поехать ли нам с вами, Юлия Никитична, кататься? Москва чудесный город, и день сегодня великолепный!
– Поедемте! – радостно согласилась Юлинька.
– А по пути покажете мне порядочную кондитерскую? В этой богадельне я встретил одного несчастного старика, который очень просил купить ему конфет, и я обещал.
– Ну, конечно! Мы купим ему все вкусности, какие найдутся в этой кондитерской!
Так было всегда. Она понимала все с полуслова, подхватывала и, не скупясь, наполняла своим сердечным жаром, своей неиссякаемой энергией. Природа, море, жизнь, солнце – вот, что такое была Юлинька. И без этого солнца все навсегда померкло бы и потеряло смысл…
Извозчик добродушно посмеивался в седую бороду. Он любил, когда его седоками были молодые, счастливые люди, излучавшие радость, не чинящиеся и открытые всем и всему. Резво бежали его каурые лошадки, цокая копытами по московским бульварам и улицам, уже усыпанным золотисто-багряной листвой. Снова девушка рассказывала что-то из детских воспоминаний, а старик дополнял, сам входя во вкус повествования, не скупясь на веселую шутку и нарочно стараясь потешить приглянувшихся седоков. А молодой офицер все больше молчал. Слушал, улыбался, любовался своею спутницею, и только глаза его таили какую-то смутную тревогу, какой-то немой вопрос, задаваемый кому-то неведомому, кого не было рядом…
Глава 3.
Небывало тяжелы выдались для Государя последние два года. Внезапная смерть дочери, смерть графа Бенкендорфа, водянка, изводившая его самого долгие недели, наконец, болезнь Императрицы… Александра Федоровна никогда не отличалась крепостью здоровья и потому уже не в первый раз вынуждена была покидать Августейшего супруга для лечения заграницей. На сей раз Николай проводил ее до Палермо, а затем, под именем графа Романова, отправился в обратный путь. Никита Васильевич сопровождал Государя, и эта поездка была одной из немногих, что не тяготили привыкшего к оседлой жизни Николького, но наоборот – радовала его.
В России теперь уже зима… Холод, пронизывающий до костей и для костей тех, уже отягощенных подагрой, столь немилосердный. А Италия и в эти декабрьские дни солнечна и благодатна. Кажется, в этой стране лето не берет себе отпусков, радуя ее жителей годами напролет.
Правда, Италия нынче была неспокойна. То там, то здесь вспыхивали народные восстания, к коим Государь относился с беспокойством. Любое революционное брожение вызывало в нем инстинктивное напряжение и желание противостоять ему. На этой почве он весьма резко высказал неодобрение действиям герцогов Тосканских, приютивших румынских бунтовщиков, а потому весьма скоро покинул Неаполь и отбыл в Рим.
Здесь ожидала Императора встреча с Папой Григорием XVI, которая не сулила быть легкой, ибо понтифик был весьма раздражен репрессиями русского правительства в отношении польского католического духовенства, которое вместо того, чтобы заниматься делами Божьими, предпочитало дела политические и всемерно раздувало пламя вражды поляков к русским.
Ватикан стал первым местом, куда Николай нанес визит по приезде в Рим. Облаченный в зеленый лейб-казачий мундир, статный, гордый, не удостаивающий взором ни одного из кардиналов, он являл собой воплощенное величие, и Никита Васильевич искренне восхищался им. Природный Царь, как он есть! И всякому встречному довольно взгляда, чтобы понять это. А еще то, что этого человека никак не удастся склонить к уступкам, обольстить ласковыми речами. Русский Государь будет делать лишь то, что почтет необходимым для вверенной ему Богом страны и народа – все прочее не может иметь на него влияния.
Папа Григорий, еще весьма бодрый восьмидесятилетний старик, с показным радушием пригласил высокого гостя в свой кабинет. Понтифика сопровождал его помощник кардинал Актон, служивший также переводчиком. Григорий не стал тратить лишнего времени на светскую беседу и после обмена формальными любезностями тотчас перешел к делу:
– Я вижу Перст Божественного Провидения в том, что ко мне явился лично такой великий и могущественный монарх. Теперь я могу открыть Вашему Величеству глаза на многие притеснения, которыми подчиненные вам власти препятствуют душевному спасению значительного количества ваших подданных, могу довести до вашего слуха истину, которая иначе не дошла бы до престола. Ваше Величество могли убедиться по всем инструкциям, идущим из Рима, что епископам и мирянам при каждом удобном случае внушается воздавать кесарево кесареви…
– Я знаю, что Ваше Святейшество уважает это правило, – учтиво согласился Николай.
– Но, с другой стороны, приличествует, чтобы Государи воздавали Божие Богови…
– И в этом пункте мы вполне сходимся с вами.
– Однако, я с горечью должен заметить, что среди законов, действующих в Империи Вашего Величества, есть такие, которые не согласны с духом истинной монархии и совращают с истинного пути, насилуют совесть верующих…
– Ваше Святейшество, не следует давать веру всему, что говорят люди, – живо откликнулся Государь.
В ответ на это Папа эффектным жестом извлек из-под сутаны заранее приготовленные бумаги, содержавшие сведения о притеснениях в отношении ксендзов и католических монахов, и развернул их перед Николаем, прося обратить на них внимание. Никольский мысленно усмехнулся. Неужели этим театральным эффектом понтифик рассчитывал произвести впечатление на русского Императора? А, впрочем, действительно, произвел… Государь не любит подобных сцен. Тон его тотчас стал сухим, хотя и по-прежнему вежливым:
– Ваше Святейшество можете быть уверены, что, если ваши сведения в самом деле справедливы, то будут приняты надлежащие меры. Я готов делать все, что в пределах моей власти. Однако существуют законы, которые так тесно связаны с основными узаконениями моего государства, что я не могу переделать первые, не становясь в противоречие со вторыми.
– Всякие законы могут быть изменены тем же путем, каким были установлены. Императорские законы может отменить Император!
Справедливо рассуждает Папа и далеко идет. Всего-навсего требует, чтобы русский Император переменил собственные законы, устои своей страны и народа к выгоде католической церкви. Сколь ни лют был грозный Царь Иван Васильевич, а в том, что Папу волком честил, куда как прав был. Волк и есть. Ну, да только и Государь не ягненок. И напрасно старый Григорий взирает с такою значительностью, точно бы ждет, что сейчас перед ним начнут каяться.
– Надеюсь, Ваше Святейшество позволит мне сделать некоторые возражения, – заговорил Николай учтиво. – В России надо различать три разряда католиков: католики, проживающие в собственно России, католики литовских провинций и католики Царства Польского. Отношения к первым поставлены на такую почву, против которой и вы не станете протестовать. Хуже стоит дело в Литве и еще хуже в Польше, где религия служит только маской, за которой скрываются революционные вожделения, где само духовенство более занято земными делами, чем духовными.
– Если у польского духовенства есть некоторые недостатки, то это зависит от того, что центральное церковное управление поставлено в невозможность оказывать на него какое бы то ни было благотворное воздействие. Для примера укажу на Камальдульский монастырь в Кракове. Генеральный прокурор ордена прислал туда визитатора, распоряжения которого до такой степени понравились монахам, что они послали в Рим ходатайство оставить визитатора у них…
– Краков находится за пределами моей власти.
– Конечно, но у монахов в Варшаве могли бы появиться такие же благие результаты, если бы визитаторам из Рима не было запрещено вступать на русскую почву. Благотворное влияние римского престола распространяется даже в Америку.
«Благотворное влияние римского престола» Россия, а, в особенности, жители западных окраин успели не единожды ощутить на себе в полной мере за прошедшие века. Только и не доставало его ныне и без того неспокойному Царству Польскому…
– Местные епископы располагают достаточной силой и могли бы повлиять на улучшение подчиненного им духовенства, если бы сами были благонамереннее, – заметил Государь и неожиданно для Григория перешел в атаку. – Все мои надежды зиждутся теперь на духовной академии, которую я перенес из Вильны в Петербург. В ней воспитывается сорок юношей, которых держат в строгой дисциплине. Ваше Святейшество не забыло, конечно, моего искреннего желания получить для этого заведения ваше благословение и портрет. Правда, я до сих пор не получил еще ответа от вас, но ведь вы, – при этих словах, произнесенных проникновенным тоном, Николай взял Папу за руку, – не откажете в вашем благословении Петербургской академии?
К такому учтивому натиску старый понтифик был не готов и уклончиво ответил, что столь важное дело требует всестороннего обсуждения, и что дурно, когда надзор за преподаванием и воспитанием отнят у епископов и отдан в руки светских лиц.
– Это только временно, – заверил Государь, – и я предлагаю поручить высший надзор епископу Мошлевскому…
– Архиепископ Мошлевский не может перенести свою резиденцию в Петербург без вреда для собственной епархии! – резко возразил Григорий. – Академия в Вильне учреждена с соизволения Священного престола, а в Петербург переведена против его воли! Я не могу дать своего благословения академии, которая основана несогласно с каноническими правилами.
– Что же надо, чтобы удовлетворить требованиям канонических правил? – осведомился Николай.
– Папскую буллу, которая одобряла бы перенесение академии из Вильны в Петербург.
– Так в чем же дело? – изобразил недоумение Император. – В таком случае Ваше Святейшество не откажет мне в этой булле?
– Сперва я должен составить себе ясное представление о новом уставе и порядке преподавания….
– Если я доставлю Вашему Святейшеству все необходимые документы, то вы не станете медлить дальше?
– Посмотрим… – с видимой неохотой отозвался Папа.
В отличие от кардинала Актона, чье лицо все время аудиенции оставалось весьма напряжено, Никольский получал истинное наслаждение от этой сцены. Прав был великий Суворов: быть русским – это, действительно, восторг. Гордость, честь и большое счастье…
Вновь Император, немного раскрасневшийся от трудной беседы, шел по коридорам Ватикана. У выхода, под Бартилиевской колоннадой толпилось множество народа – местных обывателей и приезжих со всех концов земли. Выстроившиеся на ступенях папские гвардейцы и пестро одетые швейцарцы преграждали толпе путь к вызывавшему ее живейшее любопытство русскому монарху. Когда тот появился на лестнице, разноязычный гомон утих, все внимание обратилось к нему. Какой-то пожилой молодцеватый транстеверинец все-таки проскользнул меж зазевавшихся швейцарцев и, увидев перед собой приближающегося Императора, восторженно воскликнул звучным голосом:
– О, как бы хорошо было, если бы ты был наш Государь!
Дальнейший путь Николая лежал в собор Святого Петра. Туда отправились после небольшого отдыха в занимаемых «князем Романовым» апартаментах. Для посещения римской святыни Государь переоделся в статское платье, которое, впрочем, ничуть не уменьшало величавости его фигуры в сравнении с мундиром.
Никита Васильевич никогда прежде не видел чуда римской архитектуры, и огромный храм произвел на него большое впечатление. Можно ли не любить эти древние камни, преображенные гением человеческой мысли и бывшие свидетелями стольких веков? Можно ли не восхищаться ими? Италия, как ни одна другая страна, богата такими памятниками. Страна-музей, с которой контрастирует шумная и пестрая толпа ее жителей и многочисленных гостей.
Государь долго осматривал собор, почти пустой в этот час дня. Даже деревянные будочки, предназначенные для исповеди католиков разных стран, были пусты. Лишь в польской исповеднице Николай заметил облаченную в белые одежды фигуру капуцина. Подойдя к нему, он беседовал с ним некоторое время, облокотившись рукой на выступ будочки. Когда разговор был окончен, монах долго благословлял Императора вслед.
Никто и ничто не мешало этому осмотру великой католической святыни. Лишь группа человек в двадцать, пришедшая вскоре за Императором, бесшумно следовала по его пятам. «Русские», – догадался Никольский. Молодые люди, действительно, оказались русскими. Набравшись смелости, они решились подойти к Государю. Николай приветствовал их милостивым наклоном головы.
– Художники Вашего Величества, – представил подошедших вице-президент академии художеств граф Толстой, сопровождавший Императора.
– Говорят, гуляют шибко, – чуть усмехнувшись, заметил Николай.
– Государь, как работают, так и гуляют, – отозвался граф.
Дальнейший осмотр храма продолжался уже в сопровождении «эскорта». Император то и дело давал распоряжения, списки каких произведений желал бы иметь. А в завершении отметил, что и копию самого храма недурно было бы построить в России.
Художники просили Государя посетить их мастерские и оценить работы. Николай обещал быть к ним на другой день.
– Работайте, мои славные ребята, и трудом и прилежанием поддерживайте честь России! – напутствовал он их.
День выдался довольно утомительным, однако, по осмотре собора Никольский попросил у Императора позволения покинуть его на некоторое время. Этот вечер он намеревался провести в семействе Апраксиных, жившем в Риме последние месяцы. Их первенец Федор сильно простудился минувшей зимой, и доктора, опасаясь за состояние легких мальчика, рекомендовали зиму нынешнюю провести подальше от северной стужи. Александр Апраксин успел свести здесь знакомство с живописцем Ивановым, творчеством и самоотвержением которого восхищался. Никольский также был наслышан об этом художнике, а, главное, имел счастье видеть его картину «Явление Христа Марии Магдалине». После грандиозной брюлловской «Помпеи» эта работа произвела на Никиту Васильевича наибольшее впечатление. Он не поскупился и заказал список оной, который с тех пор висел в его кабинете. Другой список, поменьше, заказал Апраксин, подаривший его своей больной свояченице Любе. Эта копия обрела свое место на стене ее спальни среди других духовных картин и многочисленных икон.
Русская живопись вслед за русской литературой и музыкой обретала свою самобытность, русские художники доказывали, что отныне мир принадлежит не только итальянцам, фламандцам и иным достойным европейским школам, что есть и школа русская, которая несет свое неповторимое слово в живописи.
После «Магдалины» Александр Иванов уже многие годы работал над воистину великим замыслом – огромным полотном, на котором должно было быть запечатлено явление Христа народу. Сотни эскизов были написаны для этой картины. Иванов с пристрастием отыскивал необходимые ему типажи, желая, чтобы ни одна деталь его картины не показалась фальшивой. Ему позировали, кажется, все его знакомые, включая Гоголя. Но замысел был еще очень далек до завершения! Во имя его осуществления художник жертвовал всем. Эта картина стала делом его жизни.
Никольский желал увидеть хотя бы эскизы будущего шедевра, и Апраксин, уже успевший и сам попозировать для одной из фигур, в письме обещал устроить это.
Переодевшись к ужину, уже затемно Никита Васильевич отправился на виллу, где поселились Апраксины, с любопытством рассматривая сквозь окно кареты вечерний Рим. В закатных лучах вечный город казался еще величественнее. Теперь Никольский положительно понимал, почему многие русские творцы предпочитают Италию иным странам. Пожалуй, на склоне лет и сам Никита Васильевич не против был бы провести здесь зиму-другую. Но до такого времени еще долго! Еще слишком много дел осталось в России, и дела эти требуют, пожалуй, не меньшей самоотдачи, чем картина Иванова, хотя в отличие от нее они будничны и не принесут громкой славы. А пока дел непочатый край, и есть еще силы и разум, чтобы заниматься ими, служить России и Государю, о теплых зимах в прекрасной Италии придется забыть. И то сказать: недели две такого блаженства, и Никольский, положительно, взвыл бы от скуки и безделья и, забыв о подагре, помчался бы в занесенную снегом Россию, где еще столько нужно сделать для освобождения крестьян, где только-только начинает развиваться столь необходимое просвещение. А пока, благодаря Государю, у Никиты Васильевича есть несколько солнечных дней для того, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотами Италии.
Глава 4.
Об Италии Александр Апраксин мечтал с самой юности. Мечтал писать знойные пейзажи Флоренции или сочинять музыку в Милане, овеянном гениями Россини, Доницетти и, вот, теперь – Верди, опера которого «Набукко», впервые поставленная три года назад, казалась Александру доселе непревзойденным шедевром в оперном искусстве… Перешагнув сорокалетний рубеж, он так и не нашел своего единственного, главного призвания и продолжал следовать своему переменчивому настроению, то вкладывавшему в его руку кисть, то зовущему к перу, а чаще располагающему к мечтам или же сплину лежа на диване. Предаваться попеременно тому или другому он мог недели напролет, а затем вдруг вскакивал, вдохновленный очередной грандиозной идеей, и развивал кипучую деятельность. Последняя обычно не приносила желаемого результата, и Апраксин быстро остывал к ней, снова погружаясь в рассеянность.
Пожалуй, он так и не увидел бы Италию, если бы ни болезнь Фединьки. Она решила все, и, вот, уже несколько месяцев Александр чуждался покойного дивана, открывая для себя все новые уголки, все новых людей. Фединька имел способности к живописи, и Апраксин впервые столь серьезно занялся сыном. Он брал его с собой на этюды, водил в мастерские художников, позволявших способному мальчику следить за своей работой и дававших ему полезные наставления, показывал шедевры итальянских мастеров. Фединька не унаследовал его вспыльчивого и неровного характера. Наоборот, этот ребенок был для своих лет даже слишком серьезен и основателен. Впрочем, таким он был уже трех лет от роду… Когда другие дети играли и проказили, Фединька мог часами неподвижно стоять или сидеть на одном месте, наблюдая за вызвавшим его любопытство процессом – за стряпней ли на кухне или за живописными упражнениями отца. Мальчик задавал много вопросов, стараясь вникнуть во всякий интересующий его предмет. Эта дотошность подчас изводила и родителей, и гувернантку, и учителей. Здесь Фединька изводил вопросами художников. Те иногда посмеивались, иногда досадовали, но отвечали и, в конце концов, сочли, что у отрока есть и талант, и упорство, а, значит, из него может выйти толк.
Младшие дети тоже радовались итальянскому солнцу. Лишь Ольга Фердинандовна не могла отделаться от тревоги за покинутую в Петербурге сестру. Впервые они разлучились так надолго! И рядом с бедной Любой не осталось никого из родных после смерти матери. Ольга буквально на коленях умоляла сестру ехать с нею, но та отказалась наотрез. И можно ли было не понять этого? Там, в своей комнате-келье, в окружении монахинь и странниц, посещаемая многими ищущими духовного утешения и беседы людьми, она, даже прикованная к своему одру, не чувствует себя одинокой, сознает ежечасно свою нужность на этом свете. А что бы стала делать здесь? Чужие люди, чужой язык, чужая вера… Как ни привязана была Люба к сестре и ее семье, но уехать с ними не могла. Теперь приходили от нее письма, чужой рукой писанные – уверяла в них она, что все хорошо, что Олиньке не о чем волноваться. А Олинька волновалась все равно.
– Как жаль, что пропала Эжени, – вздыхала она иногда. – Если бы она осталась с Любой, я была бы почти спокойна.
Апраксин же был уверен, что со свояченицей ничего не случится. Он слишком хорошо знал, что при всей своей видимой беспомощности она обладает такой внутренней силой, что в сравнении с ней, пожалуй, сам он немощен и убог. Александр писал ей не реже Олиньки, подробно, как и обещал, описывая все, что привелось увидеть в новом краю, прилагал к письмам свои и Фединьки рисунки. Он знал, что эти письма, как ничто иное, не считая молитв, утешают душу Любы.
В Риме Апраксин встретил сестру, с которой не виделся без малого двадцать лет. Отправляясь сюда, он знал, что Катрин живет здесь, но долго не мог решить, стоит ли навестить ее. Видеть сестру не очень-то хотелось – слишком непростыми были их прежние отношения. Тем не менее, Александр все же счел должным наведаться к ней.
Катрин жила в небольшой квартире на севере вечного города, и Апраксин сразу отметил, что район этот не относится к тем, где селятся состоятельные люди. Следовательно, дела у сестры шли неважно. Однако, направляясь к ней, он и представить не мог, насколько «неважны» эти дела.
Дверь Александру открыла служанка-итальянка. Сразу бросилась в глаза вопиющая бедность обстановки жилища прежней светской львицы. Квартира выглядела так, словно хозяйка день за днем продавала все находившиеся в ней вещи. Сестру пришлось ждать весьма долго, и Апраксин уже думал, что она откажется принять его, но вернувшаяся служанка пригласила его войти в комнату хозяйки.
Комната была погружена в полумрак, так как шторы на окнах были опущены. Катрин сидела спиной к окну – так, чтобы лицо ее трудно было разглядеть. Но Александр обладал острым глазом и был поражен переменой, произошедшей с одной из красивейших женщин Петербурга. Ей не было и пятидесяти, но она казалась глубокой старухой. Располневшая, с опухшим, одутловатым лицом, она была, по-видимому, серьезно больна.
– Не нужно подходить ближе, – сказала она своим прежним звучным голосом, когда Апраксин хотел подойти и поцеловать ее руку. – Ближе будет еще страшнее… Я ведь очень уродлива стала, Саша, не так ли?
Александр растерялся. Начал сбивчиво возражать, но сестра остановила:
– Врать и справляться с волнением годы тебя не научили. И ты в отличие от меня почти не изменился… Тебя время пощадило… Наверное, и Ольгу Фердинандовну тоже… Она здесь, с тобой?
– Да, она в Риме. Если позволишь…
– Не позволю. Я никого не принимаю. Не хотела и тебя принимать, да вдруг захотелось напоследок поговорить с кем-то…
– Напоследок?..
– Я скоро умру, мон фрэр. И бедный Жорж, наконец, станет свободен… Как он?
– Служит, как всегда. Теперь на Кавказе. Государь желал видеть его в своей свите, но Юрий предпочел остаться на Кавказе, потому что там война, а в столице для него нет дела.
– Стало быть, и он не изменился, – Катрин вздохнула. – Мог быть свитским генералом, жить на широкую ногу, а вместо этого сражается с горскими варварами… Какая глупость! Если бы не его глупость, все могло бы быть иначе. Мы могли бы жить в Петербурге, и я бы не кончала свои дни в этой дыре, в одиночестве и нищете!
– Нет, Катрин, – покачал головой Апраксин. – Свою судьбу ты выбрала сама. Если бы ты любила его и была ему верна…
– А я его ненавидела… И теперь ненавижу… – проронила сестра. – Солдафон, которому ничего не нужно, кроме баталий. Я всего лишь хотела жить! Легко и весело…
– И что же? Твоя жизнь после побега из России была нелегкой и невеселой?
– Напротив. До последних лет у меня было все, чего я желала. Все, что я люблю… Я люблю танцы, музыку, чтобы вокруг меня были люди, чтобы был праздник! Я жила в Вене, в Париже, в Ницце… И везде вокруг меня был праздник! А потом все кончилось. Праздник требует красоты, а вокруг уродства праздника быть не может.
– Если бы ты осталась в семье, то рядом с тобой были бы родные люди, которые любили бы тебя, заботились бы о тебе. И им не было бы дела до того, красива ты или нет.
– И кто бы был теперь рядом со мной? Мой муж предпочел бы скакать по горам, укрепляя могущество Империи. Ты занят своей семьей и своими мечтами и уж точно бы не стал сидеть возле меня. Ты и так никогда не любил меня, а пробыв день-другой у моего одра, возненавидел бы… Мой сын… – тут Катрин осеклась. – Что он, кстати? Я ничего не знаю о нем…
– Окончил кадетский корпус, зачислен в Лейб-гвардии Кирасирский полк.
– Значит, пошел по стопам Жоржа… И ты думаешь, этот юноша стал бы сидеть у одра больной матери? Даже если и захотел бы, не смог. Потому что служба превыше всего в семействе Стратоновых. А если бы и смог, так я бы не позволила. Нет, Саша, все было бы также мерзко, как и здесь…
– Я могу тебе чем-то помочь? – спросил Александр.
Катрин покачала головой:
– Не приходи сюда больше. И никому не говори обо мне. Когда… я умру, Розита известит тебя. А ты сможешь порадовать его долгожданной от меня свободой…
– Почему ты запрещаешь мне приходить?
– А зачем? Ты, насколько я знаю тебя, всегда боялся смерти, страданий, сторонился всего уродливого… Тебе уже и теперь в тягость находиться здесь, смотреть на меня. А я не нуждаюсь в твоей или чьей-либо еще жалости. Я не хочу, чтобы меня видели такой.
– Но, может, тебе нужны деньги?
– Все, что мне нужно, у меня есть. Прощай, Саша… Петруше передай… А, впрочем, ничего не передавай. Перед ним я виновата. И хорошо, если он не будет вспоминать обо мне вовсе. О такой матери помнить не стоит.
Несмотря на запрет, Апраксин все-таки решительно шагнул к Катрин и, поцеловав ее отекшую руку, удалился. Ему впервые в жизни было до боли жаль сестру. Конечно, она сама виновата в своей беде, она сама предпочла веселую жизнь дорогой куртизанки достойной жизни генеральской жены, матери семейства. Такая невоздержанная жизнь-праздник до срока истощила ее организм и отомстила жестокостью угасания. И все же как жаль! Ведь, что ни говори, а Катрин была так удивительно хороша собой! И этой красоты жаль, как жаль произведения искусства. И бездарно прожитой жизни – жаль. И Петрушу – жаль. И Юрия, столько лет не могущего соединиться с любимой женщиной из-за невозможности без скандала развестись с блудной матерью своего сына. А всего больше жаль, пожалуй, того, что эта, последняя, ни в чем решительно не раскаялась. Даже теперь, от такой муки страдая, винит других в своей беде. Жаль души, себя безвозвратно губящей. И эта погибель куда страшнее внешнего безобразия.
Сестру с того дня он более не видел и не имел от нее вестей. Исполнил и просьбу ничего никому о ней не сообщать. Лишь с Ольгой поделился горечью увиденного да в письме попросил Любу молиться о болящей Екатерине…
Кроме этой встречи ничто не омрачало пребывания в Италии. Осенью стало известно, что в Рим инкогнито пожалует Государь. Художники немало переполошились от этой вести – всем хотелось увидеть монарха, показать ему свои работы, удостоиться высочайшей похвалы. Бороды, конечно же, сбрили, зная, что Император недоверчиво относиться к бородачам, если те принадлежат к образованному сословию. Итальянцы немало потешались, увидев в один прекрасный день наполовину белые лица своих русских друзей. Но те, жадно ловя солнце, которое одно лишь могло исправить положение, гордо ответствовали, что пожертвовали бы ради своего Царя и головами, а не только бородами.
Вскоре Варвара Григорьевна сообщила в письме, что Императора будет сопровождать ее муж. Само собой, поспешили пригласить Никиту Васильевича на ужин. Давнее недоразумение между ним и Александром было давным-давно улажено и предано забвению, а потому дорогого гостя ждали с нетерпением. Хотелось расспросить его и о делах петербургских, и о встрече Государя с Папой, и о многих других предметах. Хотя Никольский, знающий всегда много больше других, бывал весьма скуп на рассказы, но кое-какими вестями и подробностями все же делился.
Он прибыл уже поздним вечером – и Ольга Фердинандовна тотчас велела кухарке разогревать приготовленные кушанья. Гость должен был вполне оценить лучшие блюда итальянской кухни, которые Апраксины успели хорошо узнать.
Никита Васильевич выглядел заметно усталым, но любезно согласился взглянуть на эскизы Фединьки. Отец многочисленного семейства, мог ли он не понимать желания родителей похвалиться успехами любимого сына, коего они едва не потеряли год тому назад?
– Недурно, весьма недурно, – заключил Никольский. – Федор еще очень юн, а рука его, меж тем, уже обнаруживает твердость, глаз остроту. Не говорю о видах и предметах быта, но вот этот набросок портрета танцовщицы очень хорош и неожидан для ребенка.
– Иногда мне кажется, что мой сын старше меня самого, – простосердечно признался Александр. – В нем столько рассудительности, твердости, терпения…
– Видимо, Федор унаследовал характер Ольги Фердинандовны.
– Вы в точности правы. Олинька всегда была такой. Этим она и восхищала меня… Ведь я был совершенным разгильдяем, жил чувствами, страстями… А она – нет. Она всегда знала, чего хочет, всегда умела добиваться своего. Однако же, надеюсь, не польщу себе, если замечу, что склонность к творчеству, талант сын взял от меня. Увы, у меня не хватило характера, чтобы найти призвание, следовать ему, развивать талант. Я вроде как и швец, и жнец, и на дуде игрец – все умею, но ничем не владею в совершенстве. А у Фединьки прекрасное сочетание: мой творческий огонь и твердый характер матери, столь необходимый для преумножения первого. Не сочтите за отцовское тщеславие, но мне кажется, Федя далеко пойдет.
– Вполне возможно, вполне возможно, – согласился Никита Васильевич. – Жаль, что он еще мал годами, а то бы его уже теперь можно было определить в академию. Тем более, как я понял, наши стипендиаты уже шефствуют над ним и делятся тайнами мастерства?
– Да, за это мы им очень благодарны. Они чудесные люди. Иногда я жалею, что мне теперь не двадцать! Я бы счастлив был быть одним из них!
– Позвольте заметить, что вам вряд ли бы достало терпения месяцами корпеть над каким-нибудь шедевром, – чуть улыбнулся Никольский.
– Вы, как всегда, правы. Я решительно не способен сколь-либо продолжительное время заниматься одним и тем же делом. Меня это вгоняет в страшную тоску! Поэтому я так восхищаюсь вами и Ивановым.
– Ивановым – понимаю. Ну, а мной-то отчего? Я вовсе не одним и тем же делом занимаюсь. У меня их не одна дюжина.
– И все же это работа вполне одинакова изо дня в день. И вы столько лет отдаете себя ей! Я бывал в сиротских домах, в училищах, открытых благодаря вам и восхищался! Я ничего не сделал за свою жизнь, надо признать это… А вы…
– Полно, – прервал Никита Васильевич славословия в свой адрес. – Если бы я не приложил к этому руку, то приложил бы кто-то еще. Друг мой, время нельзя остановить. Все это явилось бы у нас и без меня. Может быть, с некоторым запозданием, но явилось бы. Как бы то ни было, я лишь чиновник, исполняющий волю моего монарха. Богом озаренный гений, обрекающий себя на лишения, во имя создания великих шедевров – это совсем иное дело. Правда ли, что вы позировали Александру Андреевичу?
– Да, – Апраксин улыбнулся. – Я был почти наг, прикрыт одним лишь покрывалом. Правда, вряд ли сей мой своеобразный портрет попадет на полотно.
– Отчего же?
– Александр Андреевич счел, что я решительно не похож на еврея! Он, знаете ли, изучил все типажи их лиц и заявил, что моя физиономия ни с одним из них не схожа!
– По-моему, это довольно естественно для русского лица, – рассмеялся Никольский.
– Конечно, но в тот момент я пожалел, что во мне нет ни единой еврейской черточки. Приятно же, черт побери, быть запечатленным на великом шедевре человеческого гения!
– Вы уверены, что это и впрямь будет шедевр?
– Не сомневаюсь. Да и вы не усомнитесь, когда увидите эскизы. Иванов их показывает далеко не всем. Но для вас он с готовностью откроет двери своего святилища. Так что завтра утром сами все увидите.
– Завтра – навряд ли. В полдень я должен буду сопровождать Государя на выставку наших стипендиатов, а потом к восхваляемому Папой Фабрису.
– Фабрис – жалкая бездарность!
– Его Святейшество так не считает.
– У Его Святейшества отсутствует вкус. Завтра вы в этом убедитесь! Он сделался скульптором так же, как и директором Ватикана – через протекцию Папы, покровительствующего своим землякам!
За ужином Никита Васильевич весьма живо описал посещение Государем Папы. Отдав должное всем предложенным блюдам, он охотно остался у Апраксиных на ночь – комнату для него Ольга Фердинандовна приготовила заранее.
Наутро Апраксин, проводив гостя, сам поспешил в палаццо Фарнезино, ни в коем случае не желая пропустить приезд туда Императора. Устраивать выставку работ молодых русских художников в Фарнезино, стены которого расписаны самим Рафаэлем, было крайне странным решением директора Киля, который, кроме того, желал, чтобы и скульпторы привезли на выставку свои произведения, нисколько не считаясь с тем, что статуи могут просто разбиться в дороге. Скульпторы на такое безрассудство не пошли и в большом унынии полагали, что теперь Государь уж точно не оценит их искусства.
Однако, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Император, оставшийся неудовлетворенным выставкой живописных эскизов в Фарнезино, пожелал лично посетить мастерские своих скульпторов. Несмотря на то, что расположены оные были в разных кварталах города, и даже на его окраине, венценосный покровитель не обидел своим посещением никого. Увиденными скульптурными композициями он остался весьма доволен и заказал некоторые из них к величайшей радости авторов.
Дальнейший путь Императора лежал в мастерскую старика Фабриса, работавшего над памятником Торквинию Тассу, более похожим на уродливую карикатуру. Впрочем, сам горе-скульптор иначе оценивал собственное творение и принялся на ломаном французском объяснять высокому гостю содержание не менее уродливых барельефов.
Государь также отвечал на французском, рассеянно роняя:
– Прекрасно! Великолепно… – но не выдерживая учтивости при виде столь вопиющей бездарности, то и дело оборачивался к сопровождавшим его и уже по-русски прибавлял: – Экая мерзость, экая дрянь! Каковы, каковы же у них скульпторы! Да это просто срам!
Старик Фабрис ничего этого не понял и был счастлив царским похвалам. Русские же художники, как и сам Апраксин, едва сдерживали смех.
– Ну, что я вам говорил? – шепнул Александр Никольскому.
– Действительно, дрянь, – согласился Никита Васильевич. – То ли дело нимфы наших стипендиатов… Истинный срам, чтобы в колыбели искусств, где творил Микеланджело, главным скульптором стал подобный бездарь.
После мастерских Государь посетил термы Каракаллы. Сопровождавшие его архитекторы Бенуа, Росси, Каракау и Резанов, также получавшие пенсион из казны, подробно объясняли устройство древних бань.
– Вот как нужно строить! – заметил Николай, указывая на толстые стены развалин. – Посмотрите-ка, какая кладка кирпича, точно акварелью нарисована!
– Это только наружная обшивка, Государь, а внутри все мусор, – возразил Бенуа.
– Не может быть! – воскликнул Император.
– Я пять лет изучаю Рим, Ваше Величество, и ручаюсь за это, – с этими словами Николай Леонтьевич подошел к стене и, найдя небольшое отверстие в кладке, стал разбивать ее подручным камнем. И вправду, из-под нарядной обшивки посыпался мусор…
– Ну, Рим-то вы изучаете, а вот в Петербург приедете и начнете воровать, – взволнованно сказал Государь, для которого вопрос всевозможных хищений давно сделался больным.
Граф Толстой попытался защитить своих подопечных, хорошо понимая, чем и кем на самом деле вызвано раздражение монарха:
– За честность этого поколения, Ваше Величество, я ручаюсь.
– Ручайся за них здесь, старик, но не в Петербурге, – вздохнул Император и продолжил осматривать термы.
Апраксин, хорошо знавший эту достопримечательность, шел немного поодаль, размышляя, до чего же должна дойти повсеместная бесчестность, если Государь, знающий далеко не обо всех вопиющих фактах, теряет свойственное ему самообладание и срывается, едва лишь мысль об этом посещает его. «Ручайся за них здесь…», – в этих словах была и боль, и безысходность. И хотя Император уже вновь пребывал в благодушном настроении, шутил со своими стипендиатами и с интересом слушал их пояснения, но в память Александра врезалась именно та странная сцена: резкий, как от внезапной боли, поворот гордой головы, вдруг потемневшее лицо и брошенное ничем не успевшему провиниться Бенуа: «В Петербург приедете и начнете воровать…» Знать, глубоко вошла заноза эта в царское сердце. И никак не извлечь ее, потому что даже у него, Самодержца, нет власти искоренить людскую подлость. И от сознания своей беспомощности перед нею, вредящей России хуже заговорщиков, он приходит в ярость…
Заключительной точкой в маршруте Императора, меж тем, была объявлена мастерская Иванова. Николай был не менее Никиты Васильевича наслышан о создаваемом шедевре и желал увидеть его собственными глазами.
– Ну, вот, – улыбнулся Апраксин Никольскому, – у вас нашелся куда лучший провожатый к нашему затворнику, нежели я.
Александр Андреевич встретил Государя с исписанным листом бумаги в руках. Он желал зачитать высокому гостю подробное содержание своей грандиозной работы, но Николай остановил его на первых же словах:
– Ты читай про себя, а мне покажи твою картину.
Иванов поспешил исполнить волю Императора, и через несколько мгновений присутствующим предстало колоссальных размеров полотно, от вида которого у Александра, уже прежде удостоенного созерцать этот шедевр, перехватило дух, как в первый раз. Он чувствовал себя частью этой картины, этого вечного сюжета. Одним из тех, что с надеждой, сомнением, страхом, недоверием и еще дюжиной перемешанных меж собою чувств, встречали Того, Чья фигура казалась совсем маленькой, ибо он лишь появился вдали, но именно эта фигура приковывала к себе взор… И еще фигура пророка в верблюжьих одеждах, указывающего на него… Нет, это была не просто картина. Все шедевры Рафаэля, Да Винчи и иных гениев меркли рядом с нею. На ней была сама Жизнь. Будто бы художник сам жил 19 веков назад, сам был в тот день и час у реки Иордан и сам видел Явление…
Апраксин уже не слышал ни вопросов восхищенного Государя, ни ответов Иванова, не замечал ничего вокруг. Он будто бы сам перенесся в показанный гениальным мастером час, слышал шелест листвы и плеск иорданских волн, вдыхал запах пустыни и воды, созерцал в смятении приближающегося Сына Человеческого, хотел броситься навстречу Ему, но робел сделать хотя бы одно движение. Воистину, эта картина сама сделалась Явлением. Явлением Христа народу, ставшему забывать Его, отдаляться от Него…
Глава 5.
Возвращаться домой всегда радостно. Особенно после долгой разлуки. Конечно, большой вопрос, можно ли считать нынешнюю разлуку долгой, но корнет Стратонов ощущал ее именно таковой. Ведь ему доселе ни разу не случалось покидать столицу на сколь-либо продолжительный срок, быть далеко от нее. И, вот, привелось. Лейб-кирасиры Его Величества несколько месяцев оберегали покой Империи на ее западных рубежах. Довольно скучное занятие, если разобраться, когда рубежи эти спокойны, и негде продемонстрировать собственную удаль. Приходится от безделья картежничать, пить вино и всячески «гусарить», чтобы убить время. Петя Стратонов не был большим охотником до таких забав, а потому жаждал или войны, или скорейшего возвращения в столицу. Война как будто уже окрасила горизонт алым пламенем – полыхала восставшая Галиция, Краков, из которого позорно бежали австрийцы, был захвачен мятежниками. Россия не могла оставаться в стороне от событий, развернувшихся прямо у ее границ. К ним были стянуты четыре армейских корпуса, готовых в любой момент перейти на военное положение. Однако, пушки заговорить не спешили, и юный корнет все больше стремился в столицу.
Само собой, в Петербург влекли его не каменные красоты, не близость двора и даже не тепло ставшего родным дома Никольских. Он бесконечно тосковал о Юлиньке, которой хотел сделать предложение сразу по выпуску из Корпуса, но оробел и теперь положительно решил объясниться, вернувшись в столицу.
Три мечты было у Пети – служить в Лейб-гвардии Кирасирском полку, доказать отцу, что он – достойный продолжатель рода Стратоновых, и жениться на Юлиньке Никольской.
Лейб-гвардии Кирасирский Его Императорского Величества полк! Кирасиры Его Величества – как гордо звучало это звание! За ним стояла слава Смоленска и Красного, Семеновских высот Бородина, Кульма и Лейпцига…
Император Николай Павлович лично утвердил внешний облик полка. Лошади должны быть караковыми и темно-гнедыми: 1-й эскадрон – чисто караковые, 2-й эскадрон – вороные, 3-й эскадрон – караковые лысые и белоногие, 4-й эскадрон – караковые, гнедые и бурые. Флюгер на пиках – белым с синим и желтым. Воротники, обшлага, погоны, выпушки, околыши фуражек и конские чепраки – желтыми. У офицеров полка на воротнике колетов была сохранена отмененная в других кирасирских полках пуговица, ибо некогда она спасла жизнь Великому Князю Константину Павловичу – Наместнику в Царстве Польском и Шефу полка: пуля поляка, стрелявшего в Великого Князя, изменила направление, ударившись о пуговицу на воротнике колета Лейб-гвардии Кирасирского полка, в который он был облачен.
Первая мечта Пети исполнилась – он, один из лучших воспитанников Корпуса, блестящий наездник, был зачислен в Лейб-кирасиры. Что до отца, то корнет не видел его с самого выпуска. От Никольских, заменивших ему родителей, Петя с детства был наслышан о славных подвигах Юрия Александровича. Он с восторгом слушал о них и представлял себя на месте отца или рядом с ним. И как же хотелось, чтобы отец рассказал ему все это сам! Чтобы, вернувшись из очередного похода, подхватил на руки, обнял… Чтобы преподал азы воинских искусств, в которых был непревзойденным мастером… Но отец приезжал редко и уезжал вновь. И смотрел всегда как-то странно, испытующе… Гостинцы, правда, привозил, но казалось, будто откупается ими, и на ласку скуп был. От его приездов, всегда столь долгожданных, оставалось у Пети чувство незаслуженной обиды. Он был, точно голодный, которому показали кусок ароматного пирога да и спрятали тотчас, не дав надкусить. Мальчик не мог понять, чем он прогневил родителя, чем так дурен он, что тот сторониться его, так холоден с ним. Иногда спрашивал о том тетю Варю, но ее расплывчатые ответы были неубедительны, и только хуже огорчали Петю. Так и раздвоилась душа: он одновременно боготворил и обожал отца-героя и почти ненавидел того чужого человека, который являлся в его облике…
С годами генерал Стратонов стал мягче к сыну. Его заметно радовали успехи Пети в Корпусе. Когда отец навещал его там, то в глазах его впервые забрезжило участие. Он расспрашивал об изучаемых дисциплинах, давал советы. И все же оставалась невидимая грань, отчужденность, и от этого было больно. К выпуску отец сделал Пете дорогой подарок – собственную саблю, которая была с ним при Бородине.
– Надеюсь, что ты не посрамишь честь этого оружия. Служи Государю и Отечеству столь же доблестно, как служили все в нашем роду, – таково было родительское напутствие.
Нет, в нем не было той отеческой любви, которую Петя столь тщетно искал все свое детство, но было признание, доверие. И оно было дороже любых подарков. Юный корнет поклялся оправдать его. Многие юноши мечтают завоевать славу, но Петя желал большего – завоевать отца.
А еще – Юлиньку… В детстве ближе человека у него не было. Она знала о нем все, как и он о ней. Даже пребывание в Корпусе не нарушило этих отношений. Петя сам не заметил, когда дружба переросла в куда более сильное чувство. Это чувство оказалось упоительным и мучительным одновременно. Пете казалось, что Юлинька стала что-то скрывать от него, не относится к нему серьезно… А он видел только ее. Правда, за время «гусарства» в отдаленных провинциях он успел узнать женщин, но можно ли принимать это в расчет? Это совсем иное… Правда, теперь, возвращаясь в родной город и предвкушая встречу с Юлинькой, Петя немного стыдился недавнего «иного».
В доме Никольских ничего не переменилось за время его отсутствия. Варвара Григорьевна, больше похожая на московскую барыню, нежели на министерскую жену, сама хлопотала по хозяйству и, как прежде, источала вокруг себя любовь и теплоту. Никиты Васильевича по обыкновению не было – дела государственные не отпускали его от себя. И, как назло, не было Юлиньки. Отцовская дочка, она не могла усидеть дома и целыми днями работала в общине, ходя за больными.
Зато неожиданно приключился дома Андрей, прапорщик инженерных войск. Он, всегда бывший для Пети любимым старшим братом, выбежал ему навстречу и заключил в объятья:
– Пьеро! Ну, с возвращением тебя! Наконец-то ты снова с нами!
Он невысок был, Андрей, и, хотя складен фигурой, но не плотен, а потому рослый и сильный Петя легко оторвал его от пола, расцеловал:
– Дружище, как я рад тебе! А что же Юлинька? Скоро ли придет?
– До вечера не жди, – махнул рукой Андрей. – Мы ее теперь только по вечерам и видим. И представь, прежде болтушка болтушкой была. А ныне или молчит, или все о своих страждущих рассказывает.
– А здорова ли она сама?
– Совершенно. Только уж очень переменилась… – Андрей покачал головой. – Нет, ее подвиг меня восхищает, говорю как на духу. Но, как ее брат, я обеспокоен таким фанатизмом. Может, хоть ты вернешь ее на нашу грешную землю.
– Так я прямо теперь поеду к ней! – воскликнул Петя.
– Нет, сейчас ты поедешь со мной, – решительно заявил Андрей.
– Это куда же?
– В салон графа Вильегорского. Я приглашен туда на вечер. Там сегодня будет мой хороший друг. Преоригинальнейший человек! Недавно пополнил число литераторов.
– Но причем здесь я? – пожал плечами Петя.
– А притом, что тебе полезно будет познакомиться с будущим гением нашей словесности!
– Так уж и гением? – с сомнением усмехнулся корнет. – Литераторов нынче пруд пруди.
– Так-то оно так, да не всякого литератора Белинский в новые Гоголи записывает.
– Слушай, Андрюша, не рассердись на мое невежество, но почему меня должно волновать мнение Белинского? Я, если на то пошло, критиков положительно не люблю! Изволь писать сам, а ругать чужое – это паразитический образ жизни.
Андрей звонко расхохотался:
– Ну-ка, ну-ка, повтори! Критики, стало быть, паразиты?
– А то кто ж? – Петя и сам уже начал смеяться. – Паразиты и есть…
Андрей утер выступившие от смеха слеза:
– Я это запомню, а ты не ляпни где-нибудь еще. Этакие суждения годны какой-нибудь ямщицкой морде, но не образованному человеку. А ежели тебе наплевать на мнение критиков, то, полагаю, мнение моей глубокоуважаемой сестрицы тебе не столь безразлично?
– А причем здесь она?
– Притом, что Юлия Никитична изволила целую ночь роман моего бесценного друга читать и плакать над ним навзрыд. Можешь ли себе представить это? Она-то! Каждый день столько горя и боли видящая в общине своей!
– Да что же это за книга, что так ее потрясла? – сразу заинтересовался Петя.
– «Бедные люди», – отозвался Андрей. – Достоевский Федор написал, товарищ мой по училищу. Он еще в те поры к литературе тяготел, литературный кружок организовал… Но все же не думал я, что он в писатели выбьется. Григорович – тот да. Он и училища не кончил, подался в Академию художеств. А Федор кончил… Да только дурака свалял, от службы уволился. Веришь ли, сидит человек в неоплаченной комнате, весь в долгах, без гроша в кармане… Да что там без гроша! Форменным образом без порток! То есть буквально! Того гляди в долговую сволокут в самом что ни на есть неблагородном виде! Хоть впору в Неву головой… А он сидит на постели и пишет. Знать, на тощий желудок и впрямь пишется лучше! И поди ж ты! Экую вещь написал… Некрасов к нему ночью явился восхищения выражать.
Имя Некрасова ничего не говорило Пете, не слишком интересовавшемуся литературой. Да и нисколечко не волновали его восхищения. Иное дело Юлинька…
– Да Бог с ним, с Некрасовым. Повесть-то о чем?
– О любви, брат, – улыбнулся Андрей. – Любви невозможной и безысходной по причине социального положения героев. Одним словом, современная трагедия – только уж без пафоса, без высоких нот. Трагедия земная и будничная. Всякий день такие окрест нас разворачиваются.
– Тебя, я чувствую, она до слез не довела? – усмехнулся Петя, глядя на веселую рябоватую физиономию друга.
– Пьеро, меня, сколь ты помнишь, даже в младенчестве до слез ничто довести не могло.
– Твоя мать всегда считала, что ты груб.
– И она права, – согласился Андрей. – Я так скажу тебе, брат: я безумно жалею подопечных моей сестры, я скорблю с матерями, потерявшими чад… Но, черт побери, я совершенно не вижу повода обливаться слезами по случаю неудавшейся любви.
– Просто ты еще никого не любил! – пылко возразил корнет.
Андрей прищурил свои вечно таящие добродушную усмешку глаза:
– Куда уж нам, скромным инженерам, в этаких делах до кирасир Его Величества! Ты у нас красив, как Бог, и этот мундир пошит, как на тебя – небось, не одной девице голову вскружил?
– Ну, полно! – Петя покраснел. – Черт с тобой, едем к твоему Вильегорскому… Хоть будет, о чем с твоей сестрой поговорить, кроме ее больных… Она ведь даже в письмах только о них пишет.
– Вот это ты прав! – воскликнул Андрей и, хлопнув корнета по плечу, крикнул, чтобы закладывали карету. – А как вернемся, дам тебе ту вещь прочесть. Ты к таким материям всегда куда как более чуток был, чем я. Должно быть, оценишь!
Петя знал Андрея с младенческих лет, но никогда не понимал его вполне. Не понимал, когда тот серьезен, когда шутит. Кажется, серьезно он относился лишь к инженерному делу, к которому имел подлинное призвание. Теперь же, слушая дорогой рассказы друга о его товарище Достоевском, Петя не мог взять в толк отношение Андрея к последнему. Кажется, он вполне искренне любил «смиренника» (так прозвали Федора в училище за тягу к уединению), но в то же время в высшей степени иронично относился и к его творчеству, и к его странностям. Или же нарочно скрывал под маской иронии настоящее отношение? Андрей всегда считал чувствительность пороком для мужчины и собственные чувства хранил глубоко в себе, не позволяя стороннему взгляду заметить их. Что могло соединять его с таким впечатлительным человеком, как Достоевский? Или же просто любопытен был Андрею этот странный человек?
В салон старого Вильегорского Федора пригласил зять графа Соллогуб. После публикации Некрасовым «Бедных людей» автора повести жаждали видеть везде, и Соллогуб буквально потребовал, чтобы редактор «Отечественных записок» Краевский «сыскал ему Достоевского».
– Зовут его теперь везде и всюду, словно медведя зевакам показывают, – с какой-то досадой промолвил Андрей, любезно раскланявшись с хозяином салона и графом Соллогубом.
– Да что ж в том плохого? – пожал плечами Петя, ловя на себе заинтересованные взгляды проходящих мимо дам и мало интересуясь неведомым гением, что с минуту на минуту должен был явиться в этой гостиной.
– А то, что нет им дела ни до него, ни до его сочинений. Он для них развлечение на несколько месяцев и не больше. Причудливый зверь…
– И что же?
Андрей смерил корнет раздраженным взглядом:
– Представь себе человека, который еще вчера сидел больной и без штанов, полагая броситься в Неву в случае неуспеха своего романа от кромешной нищеты. Его превозносят до небес. Он, хотя и теперь нищ, а болен, пожалуй, более прежнего от избытка суеты и впечатлений, его нервам вредных, принят в лучших домах. Все увиваются вокруг него, ищут знакомства, заласкивают. Но что будет, когда новая игрушка им надоест? Ему бы посторониться всей этой праздной публики, поправить здоровье и дела, и работать спокойно над новой вещью… А тут!.. – Андрей махнул рукой. – Нелепый человек… То все жалование отсылает к рождению племянника, не оставив себе ни гроша, то полученные деньги со свистом прогуливает в ресторане, угощая друзей, то раздает деньги всякому забулдыге, который является на прием к его соседу-доктору и умеет складно и слезно пожаловаться на свою нужду. Теперь новая напасть! А ведь мог бы служить, получать жалование, а после службы заниматься литературою…
– Какой педантизм! – рассмеялся Петя. – Ну, отчего же ты не занимаешься литературою после службы?
– Таланта не имею.
– То-то же. Так и не суди об имеющем. Гении-то ведь по своим законам живут.
– Это не законы, а блажь, – жестко заключил Андрей.
Тем не менее, Петя убедился, что тот всерьез беспокоится о своем товарище. От того и ругает его напропалую, за бранью своей тревогу сердечную скрывая.
Наконец, прибыл Достоевский. Невысокий, нервный, с худым, бледным лицом, он, действительно, выглядел нездоровым. А кроме того… нелепым среди этих важных, холеных, разодетых господ и дам. Фрак сидел на нем куце, движения были неровными. Соллогуб представил его тестю и некоторым другим гостям, тотчас хлынувшим к живой достопримечательности. Достоевского заметно смущало столь повышенное внимание. Промокнув выступившие на лбу капельки пота, он шагнул навстречу Андрею, бледно улыбнулся ему:
– И ты здесь, Никольский! Рад видеть тебя…
– А я тебя, хотя предпочел бы встретиться подальше от этого шума. Познакомься, мой ближайший друг детских лет – корнет Петр Стратонов.
– Ах, я так и понял, что это вы, – обернулся Достоевский к Пете. – Никольский много о вас рассказывал.
– Что же обо мне рассказывать? – улыбнулся корнет. – Пока ничем не славен. То ли дело вы! Уж простите великодушно, долго был вдали от столицы, только сегодня вернулся, а оттого не читал вашей повести. Однако, Андрей обещался сегодня же восполнить сие мое упущение.
– Восполню, непременно восполню, – кивнул Андрей и, коснувшись рукой плеча Федора, спросил с беспокойством: – Душа моя, здоров ли ты? На тебе нет лица!
– Ты прав, – слабо отозвался Достоевский, едва справлявшийся с дрожью и становившийся все более бледным. – Мне что-то дурно… Проклятая болезнь… Кажется, новый припадок не за горами.
– Не лучше ли нам уехать? Мы проводим тебя до дома, а уж там Ризенкампф о тебе позаботится.
– Помилуй, не могу же я уйти, едва переступив порог! Неловко…
– Федор Михайлович! – окликнул в этот миг Достоевского Соллогуб. «Новый Гоголь» поспешил навстречу графу, желавшему, по-видимому, познакомить его еще с кем-то из почитателей.
Из глубины зала выплыло видение – самая ослепительная звезда петербургских салонов, несравненная Синявина. Как ни занят был Петя мыслями о Юлиньке, но при виде этой ожившей Венеры не мог сдержать восторженного вздоха. Такую красавицу он видел впервые.
– Где же, где же наш молодой гений? – зазвенел мелодичный голос.
– Вот, позвольте представить вам! – угодливо отозвался Соллогуб. – Федор Михайлович Достоевский собственной персоной! Я обещал вам найти его: вот, пожалуйста!
– Благодарю вас, граф! – Сенявина сияюще улыбнулась Достоевскому. – Я столько слышала о вас! Теперь в петербургском обществе только и разговоров, что о таинственном Достоевском! Теперь…
– Весьма признателен… – едва слышно пробормотал Достоевский. Он хотел поклониться продолжавшей щебетать красавице, но пошатнулся и вдруг упал навзничь. Зал охнул, не понимая, что произошло.
Сенявина поморщилась и, пожав плечами, пошла прочь. Соллогуб бросился следом, рассыпаясь в извинениях:
– О, прошу извинить! Такой конфуз… Но посудите сами, какой мужчина сможет устоять перед вами? Вы просто сразили молодого человека своей красотой!
По углам зашептались, раздались смешки. Кто-то бросил злое «Литературный кумирчик!» – и его подхватили, смеялись открыто.
А Андрей уже хлопотал над своим товарищем, едва слышно поругиваясь. Оглянувшись к подошедшему и растерявшемуся от этой сцены Пете, попросил:
– Вели сейчас подать наш экипаж к самому подъезду. Я отвезу его домой, а ты, пожалуй, возьми извозчика. Я теперь раньше ночи вряд ли возвращусь, а тебе ведь надо застать сестру.
Петя поспешил на улицу выполнять указание. Усадив полубесчувственного литератора в карету, Андрей, прежде чем сесть в нее сам, выругался:
– Вот, говорил же! Говорил, что не кончатся добром эти шатания по салонам! Уйти неловко… Не прийти неловко… Зато теперь так ловко получилось, что на ближайшие недели у всех этих светских бездельников будет новое развлечение – зубоскалить на его счет. Пьеро, друг мой, – Андрей положил обе руки на плечи корнету, – я уже успел понять, что давать умные и правильные советы – дело самое бесполезное. Но тебе я все же дам совет. Никогда не давай волю чувствам, поступай так, как велит рассудок и долг. А сердца наши на беду глупы.
– Ты, Андрюша, словно остерегаешь меня от чего-то, – нахмурился корнет.
Андрей опустил руки, вздохнул устало:
– Я тебя от глупостей остерегаю. Как старший брат, как друг. Хотя уже теперь вижу, что напрасно… И отчего это вы все предпочитаете свои глупости моим мудрым советам, а? Или жизнь вам пресной кажется? – последние слова были сказаны уже шутливым тоном с насмешливой улыбкой, но она не рассеяла возникшей в сердце Пети тревоги. Отчего бы это Андрей взялся остерегать его? Отчего увез из дома и не пустил к Юлиньке? Что-то случилось в ее жизни, о чем брат знает, но не желает сказать?.. При иных обстоятельствах Петя непременно добился бы немедленных разъяснений, но позади, за яркими окнами, веселились гости Вильегорских, а совсем рядом в карете страдал несчастный гений, которого срочно нужно было уложить в постель…
– Завтра утром поговорим, – сказал Андрей, словно прочитав мысли корнета. – А сейчас прощай. Рядом с теми, кто позволяет себе роскошь жить чувствами, должен непременно быть кто-то, кто живет долгом. Иначе плохо будет, – с этими словами он скрылся в карете, велев кучеру гнать в Графский переулок.
Петя еще некоторое время растерянно стоял на мостовой, затем оглянулся, посмотрел на окна дома Вельегорских, в которых мелькали тени гостей, сплюнул зло, припомнив недавний их смех по углам при виде чужой беды. Не зря отец так яростно ненавидит салоны. Не зря добрейшие Никольские, сколь возможно при высоком положении Никиты Васильевича, чуждаются света. Что может быть гнуснее этих лицемерных, никчемных людей, занятых лишь поиском забав и развлечений, заполняющих пустоту их жизни, их душ? Люди ли это вообще?
Однако же, Бог с ними. Есть дела поважнее. Кликнув извозчика, он поспешил домой. Юлинька наверняка уже вернулась из больницы! И теперь он поговорит с ней… Он не будет ждать утра, не будет расспрашивать Андрея с его вечными отшучиваниями. Он просто посмотрит ей в глаза и спросит прямо. Меж ними никогда не было тайн, а была полная искренность, прямота во всем. И в этот раз она также не слукавит, ответит прямо…
Глава 6.
– Барышня час тому назад вернулись и теперь отдыхают в библиотеке, – таков был ответ горничной на вопрос, заданный Петей тотчас по возвращении. – Господа уже отужинали. Не ждали вас так скоро. Прикажете на стол подать?
– Позже, – качнул головой корнет и решительно направился в библиотеку.
Он вошел туда неслышно и в сумраке, рассеянном лишь тремя свечами, оплывавшими в стоявшем на столе массивном бронзовом канделябре, сразу увидел Юлиньку. Она стояла у большого глобуса и, медленно вращая его, время от времени останавливалась, задумчиво водила пальцем по выбранной стране или острову. Девушка немного похудела, но от этого казалась еще прекраснее. Только почему в ее лице печаль? И что так упорно ищет она среди меридиан и параллелей?
– На каком континенте вы теперь путешествуете, сударыня? – окликнул Петя Юлиньку.
Та живо обернулась:
– Петруша! – улыбнулась приветливо, подаваясь навстречу. – А я-то думала, что Андрюша тебя всю ночь не отпустит!
– Пускай бы только попробовал! – Петя поцеловал обе протянутые ему руки. – А ты что же, всякий день теперь возвращаешься столь поздно?
– Почти… Больных много, и каждому забота нужна, каждому надо внимание уделить.
– А другие сестры что же?
– У нас все работают много. Но больные часто просят посидеть с ними именно меня…
– Не удивлен. Тебя даже в детстве звали к себе все, кому не лень, чуть какая хворь приключалась. Говорили, что ты, как кошка, умеешь боль утишить.
– Дело не в этом… Дело в том, что людям мало дать микстуры, перевязать раны. Людям внимание нужно. Понимаешь? Иногда простое слово, участие сердечное лечит лучше микстур.
– Это понятно. Да только разве тебя одной на всех несчастных хватит? Я тревожусь за тебя. Ты выглядишь усталой, похудевшей.
– Не тревожься понапрасну, – Юлинька присела на подоконник, склонила голову на бок. – Я люблю свое дело, и мне хорошо в нашей общине. Матушка говорила, что Андрюша увез тебя к Вильегорским?
– Да… Вздумал познакомить меня со своим другом – писателем.
– С Достоевским?
– Да-да… Андрей сказал, что его повесть произвела на тебя сильное впечатление?
– Огромнейшее! – воскликнула Юлинька. – Так еще никто не писал до него… Никто! И неправда, что он «новый Гоголь». Гоголь другой… Совсем другой… Чудный, но другой. У него чувства, страсти нет. А у Федора Михайловича наоборот – все этим чувством живым пронизано.
– Да уж, оттого, что все пронизано, знать, без чувств и падает при виде красавиц светских… – не смог сдержать раздражения корнет, которому порядком надоели славословия в адрес чудаковатого молодого литератора.
– Что ты говоришь?
– Всего лишь то, чему сейчас был свидетелем, – и Петя рассказал девушке о произошедшем на вечере Вельегорских конфузе.
– Какой ужас! – сплеснула руками Юлинька. – Ведь теперь сплетни пойдут, насмешки… И ничем уже того не остановить!
– Это верно. На каждый роток не накинешь платок. Хотя, знаешь, нет худа без добра. Твой брат прав, когда говорит, что постоянное вращение среди этой салонной публики вредно. А теперь эти салоны окажутся сами собой закрыты для вашего гения.
– Ты становишься жесток, – заметила Юлинька.
– Прости. Просто… – Петя собрался с духом, – я совсем о другом хотел говорить с тобой.
– О чем же?
– Об очень важном деле, – корнет почувствовал, что голос его стал глухим от волнения. – Я… Я еще по выпуску из Корпуса хотел сказать… А уж теперь, когда ехал сюда, так решил, что, как только увижу тебя, так уж непременно и безотлагательно скажу!
– Да что же ты, в самом деле, хочешь мне сказать? – девушка также разволновалась. – И стоит ли теперь? Час уже поздний. Мы оба устали. Может, лучше отложить этот разговор, если он столь важен?
– Нет, не лучше, – отрезал Петя. – Я решил, что объяснюсь сразу, значит, так и будет!
– Ты всегда был очень упрям, – с ласковым укором сказала Юлинька. – Я слушаю тебя.
В самом ли деле не понимала она, о чем он хочет с ней говорить? Да, она была взволнована, но вряд ли больше его словами, чем несчастьем своего дорогого писателя… Она смотрела на корнета прямо, немного удивленно и заметно устало, и в этом взгляде не было ничего похожего на ожидание признания, на чувство… И этот ее тон! Тон любящей сестры – вдруг ставший невыносимым! Может, и впрямь лучше не говорить ничего? Нет, это малодушие! Он должен сказать ей все и услышать ответ. Он так решил. Если бы теперь бокал вина… Или хоть воды холодный – пересохло в горле, как ни на одном экзамене не бывало.
– Мы вместе выросли, Юлинька, и в детстве были, как брат и сестра… Но детство прошло. И теперь все иначе. Вот уже несколько лет, как я не могу видеть в тебе сестру. Понимаешь ли ты меня?!
Девушка опустила голову и молчала.
– Наверное, понимаешь… Не можешь не понимать. Но зачем-то делаешь вид… – теперь, когда чистые ее глаза не смотрели на него, говорить стало легче. – Я люблю тебя, Юлинька. Безумно люблю! Я хочу, чтобы ты стала моей женой, и, клянусь, я все сделаю, чтобы ты была счастлива! Я не тороплю тебя с ответом… Подумай, сколько нужно!
Юлинька встала. Теперь корнет вновь видел ее лицо. И лицо это было мокрым от слез… Тем не менее, она ответила почти ровным голосом:
– Мне не нужно думать, Петруша. Прости меня, если сможешь…
– Ты отказываешь мне?..
– Я не могу выйти за тебя замуж. Ты прав, я все поняла еще раньше и очень боялась этого разговора. Ты… Я очень тебя люблю. Да простит меня Андрюша, люблю больше чем его. Но это совсем другое! Для меня ничего не изменилось с дней нашего детства. И ты – мой самый любимый брат. И ранить тебя для меня худшая из мук…
– Но почему ты отказываешь?! – воскликнул Петя. – Ведь я не противен тебе, нет? Мы знаем друг друга и понимаем с полуслова! А моей любви хватит на двоих! Ты никогда не пожалеешь, если согласишься!
– Оставим этот разговор, – тихо отозвалась Юлинька. – Я не могу дать тебе даже надежды, потому что обманула бы тебя. А лгать тебе я не хочу.
– Значит, есть кто-то, кто стоит между нами? – догадался корнет.
– Есть.
– Вот как… И когда же свадьба?! – голос Пети звенел от бессильной ярости, и он не мог сдержать ее.
– Не тревожься, если не вмешается Чудо, то ее не будет никогда. Прости… Я не могу больше говорить… – с этими словами Юлинька выбежала из библиотеки, оставив корнета в полном смятении.
Он почти рухнул на стоявший в углу диван, стиснул ладонями пылающую голову. Если не вмешается Чудо, не будет никогда… Вот оно что… Любовь, невозможная по причине социального положения… Достоевский… В этот момент взгляд Пети упал на толстую книжку некрасовского альманаха, лежавшего подле дивана на маленьком чайном столике. Рывком схватив его, корнет открыл заложенную страницу. «Бедные люди»! Вот, стало быть, как… Вот, почему на нее такое впечатление произвела басня припадочного сочинителя!.. Да будь проклят и он, и его люди, и тот, что встал между!.. Корнет со злостью швырнул книгу в сторону двери.
– Черт побери! – раздалось оттуда. На пороге стоял Андрей. Легко нагнувшись, он поднял альманах и, аккуратно расправив смявшиеся страницы, поставил его на полку:
– Книгами швыряться неблагородно, – заключил назидательно. – Они не виноваты в прихотях глупых сердец.
Петя ничего не ответил. Андрей открыл единственный в библиотеке запертый на ключ шкафчик и извлек оттуда штоф водки и две рюмки. Поставив их на столик, сел рядом с корнетом.
– Закуски бы надо, – заметил. – Хотя тебе, пожалуй, без надобности…
– Почему ты не сказал мне, что у твоей сестры кто-то есть? – зло спросил Петя.
– Потому что ни ты, ни она не делали меня поверенным своих сердечных дел. И о ее чувствах я знаю столь же по догадкам, как и о твоих.
– Кто он, ты знаешь?
– Не задавай лишних вопросов, лучше выпьем, – Андрей подал корнету наполненную рюмку, которую тот выпил, не чокаясь.
– Почему же это мои вопросы лишние?!
– Потому что, во-первых, я доподлинно ничего не знаю. А, во-вторых, если бы и знал, то тебе бы, дураку, не сказал. Еще только дуэльной истории нам не доставало!
– Я без твоей сестры жить не могу! Можешь ты это понять?!
– Не могу, прости, – Андрей развел руками. – Женщин, слава Богу, хватает вокруг. Выбирай любую, женись и будь счастлив.
– Ты совершенно не понимаешь, о чем говоришь!
– И слава Богу, – Андрей снова наполнил рюмки. – Всегда тебе говорил: не горячись, не спеши! Даже утра подождать не мог! Сразу объясняться полез…
– А что бы изменило твое утро?!
– Пожалуй, в твоем случае и впрямь ничего. Все равно вышел бы отказ и полное расстройство нервов…
– Завтра же съеду из этого дома…
– Вот, матушка-то «обрадуется»!
– Она меня простит. Как и твой отец… Не могу же я оставаться под одной крышей с женщиной, отвергшей меня! Видеть ее всякий день! Лучше уж жить в полку… Или снять квартиру… Или…
– Или?
– Я к отцу уеду, – вдруг решил Петя, и почувствовал, что от этого решения на душе полегчало. Выпил еще рюмку, докончил уверенно: – Завтра же подам рапорт о переводе на Кавказ!
– Пьеро, одумайся, прошу тебя! Хоть раз послушай дружеского совета – не принимай решений сгоряча! Остынь! – взмолился Андрей.
– А чем тебе не по душе мое решение? Отец мой служит на Кавказе, дядя служил много лет. Пора и мне пороху понюхать, – корнет поднялся с дивана. – И к черту все…
– Обещай хотя бы, что не станешь там пули искать, – попросил Андрей, поднимаясь следом. – А ты еще спрашиваешь, отчего я тебе ничего не говорил. Да нешто я мог тебе что-то сказать, зная тебя? Я ведь так и знал, что ты это решишь…
– Не огорчайся, инженер, – усмехнулся Петя. – Головой под пули и сабли горские юрить не стану, будь благонадежен. Но и бегать их не стану также. А все прочее – Божья воля. Я завтра чуть свет уеду. Простись тут за меня со всеми. И сестру береги…
– Какой же ты дурак, Пьеро, какой же дурак… – с горечью покачал головой Андрей и крепко обнял корнета. – Когда-то теперь свидимся вновь, брат названный?
Глава 7.
«Моя дорогая Эжени!
Душа моя в страшном смятении. Недавно я встретил двух человек из моего далекого прошлого. Князя Льва Михайловича и его сына Владимира. Старый князь теперь в доме скорби, в Москве. Думаю, страдания его там были ужасны, но он кажется примиренным со своей участью.
Совсем не то Владимир Львович! Эжени, он рассказал мне о человеке, который уничтожил нашу семью… «Нашу» – смешно звучит в моих устах. Но Вы лучше других знаете, что для меня была княгиня! И, вот, оказывается ее безвременная кончина – самое большое несчастье моей жизни – следствие злодейства, следствие безумной и жестокой мести.
Князь Владимир знает нечто о моем происхождении. Он намекнул мне об этом, но всей тайны не раскрыл. Кажется, он боится, что я не стану помогать ему, узнав правду… Князь человек лукавый и недобрый, и история, рассказанная им казалась мне сперва романической, но встреча с Львом Михайловичем заставила отнестись к ней всерьез.
Я недавно был в Петербурге, на могиле незабвенной княгини. Я поклялся отомстить тому, кто убил ее своей подлой интригой. Эжени, я не знаю, прав ли я, но я не могу иначе. Я найду этого человека и на любом основании истребую у него сатисфакции… Этого требует мой долг перед памятью моей благодетельницы.
Что же до намеков князя открыть мне тайну моего рождения… Мне в голову приходит мысль, что в моих жилах течет кровь Борецких, и именно этим обусловлено отношение ко мне княгини. Может, впрочем, все это лишь плод моей не в меру ныне разыгравшейся фантазии.
Ах, мой добрый друг Эжени, как жаль, что вас теперь нет рядом! Мне теперь очень нужно поговорить с кем-то, нужен совет. А я, как всегда, один. Не могу же я, в самом деле, обращаться со столь деликатным делом к Юлии Никитичне или Адмиралу… Последний, заикнись я ему о своих намерениях, пожалуй, тотчас отправил бы меня в еще одно кругосветное плавание…»
Эжени выронила письмо из дрожащих рук и бессильно облокотилась о спинку вольтеровского кресла. Ей казалось, что из комнаты выкачали весь воздух, она задыхалась. Бедный, бедный мальчик! Ведь она так старалась, чтобы уберечь его от этой несчастной истории, чтобы дать ему будущее, о котором он мечтал… Что же будет теперь? Снова месть? Снова страх?
Собравшись с силами, она взяла с пола письмо и поднялась по винтовой лестнице в башню миниатюрного замка, диковинно смотревшегося на склоне нависшего над морем утеса.
Огромный мастифф встретил ее густым лаем, но, тотчас признав, подбежал и облизал руку. Его хозяин, поглощенный каким-то химическим опытом, даже не повернул головы. Несколько лет назад Благоя привез его сюда едва живого. Тогда верный серб вытащил Виктора из пламени пожара, в котором тот не должен был уцелеть. Его спасло то, что при падении с лестницы князь Михаил Борецкий невольно накрыл его собой, и посыпавшиеся сверху горящие балки пришлись большей частью на него. Благоя, обгоревший сам, успел вытащить хозяина в последний момент – крыша дома обрушилась буквально через несколько секунд, погребя под собой младшего князя.
Виктор был очень плох. Однако, придя на краткий миг в себе, велел везти себя к Эжени…
– Если кто-то и сможет вылечить, то только она, – так он сказал, помня, что много лет назад беглая монахиня, подобранная им на дороге, уже спасла ему жизнь.
В этот раз Эжени не смогла бы спасти его. Его спасла другая… Та, что ушла в тот час, когда он должен был погибнуть в огне. Ушла вместо него. Маша, чье тело покоилось теперь под каменной плитой в подвале этого дома. Там всегда горела лампада и стояли свежие цветы. Не было дня, в который бы Виктор не сходил туда, не сидел рядом с дорогим прахом. Он не слишком верил мистике Эжени, приписывая свое выздоровление ее необыкновенному дару. Она же, напротив, была уверена, что именно безумная Маша спасла жизнь тому, кого любила, когда рассудок ее еще был ясен.
Последняя схватка стоила Виктору глаза и серьезно обожженной правой стороны лица. Если последнее трудно было скрыть, то пропавший глаз заменила собой искусная стеклянная подделка, заказанная в Италии. Ожоги же отчасти скрывала теперь окладистая борода и длинная до плеч шевелюра. Годы и все пережитое добавили в них обильную седину, и в своем новом обличии Виктор походил на древнего затворника-пророка. Живя в затворе, он коротал время за книгами и постигал чудеса химии, которая немало увлекла его. Каждый день он совершал пешие прогулки по горным тропинкам, нередко вместе с Благоей они уходили в море на небольшом паруснике. Людей Виктор упорно не желал видеть, говоря, что они довольно утомили его за прожитые годы.
Тем не менее, он не был бы собой, если бы ограничился лишь этим однообразным досугом, почивая на своем богатстве, подобно скупому рыцарю. Через доверенных людей Виктор начал скупать земли в Новороссийском крае. Дотоле дикие и неприютные, ныне земли сии расцветали год от года, благодаря неустанным трудам генерал-губернатора графа Воронцова. Заступив на эту должность еще в конце правления Александра, Михаил Семенович занялся всесторонним развитием края. Учредив в Одессе Императорское Общество сельского хозяйства, он поощрял развитие садоводства и лесоводства, награждая деньгами и медалями особенно отличившихся. На личные деньги генерал-губернатор скупал в Крыму участки земли и высаживал на них тысячи виноградных лоз и фруктовых деревьев. Его примеру следовали другие состоятельные лица, и, вот, зазеленел чудесным образом степной край! Одесский купец Иван Рубо один посадил за три года на своей земле 250 тысяч кустов винограда, 10 тысяч фруктовых деревьев, 79 тысяч деревьев лесных, засеял их семенами 40 десятин земли.
С подачи и по примеру Воронцова в Крыму стали производить свое оливковое масло и шипучие вино. Наладил Михаил Семенович и внушительный экспорт льняного семени в Англию. На свои средства он закупил в Испании и Саксонии породистых овец, дабы наладить в Крыму, где овцеводство было развито, но давало лишь грубую шерсть, тонкорунное овцеводство. Через кратчайший срок Россия сделалась экспортером высокосортной тонкорунной шерсти. Граф способствовал также развитию коневодства и шелководства.
Такое изобилие сырья потребовало соответствующих промышленных мощностей. Как грибы после дождя, в Новороссии и Бессарабии появились шерстомойные, салотопенные, мукомольные и винокуренные предприятия, а также завод искусственных минеральных вод и завод для рафинирования американского сахарного песка.
В эту ли работу было не включиться Виктору? Он с большой охотой вкладывал деньги в промышленные предприятия, толк в которых знал после долгих странствований по Европе и Америке. Воронцов организовал в Новороссии широкую разведку и разработку угольных месторождений. Одно разработал на собственные средства, а затем безвозмездно передал предприимчивому купцу. Виктору же ничего не нужно было передавать безвозмездно. Его шахты очень скоро стали приносить Новороссии тысячи тонн антрацита, высшего сорта угля, в год. Вскоре добыча угля перекрыла потребность в нем края, и так была ликвидирована зависимость от угля английского. Одновременно были разведаны месторождения железной руды, благодаря чему быстро развилась и металлургическая промышленность.
Уголь был нужен Крыму и Новороссии не только для отопления, но и для новых паровых кораблей. Один из первых русских пароходов вездесущий Михаил Семенович также построил за свой счет в своем имении. Еще в 1825 году пароход «Надежда» ходил по Днепру, привлекая многих зевак. А два года спустя он уже перевозил пассажиров.
В деле строительства паровых судов граф обрел верного единомышленника в лице прежнего командира Черноморского флота адмирала Грейга. Благодаря настойчивости последнего, была принята программа строительства пароходов, катеров, шлюпов и мелких судов, и успевшие сгнить со времен Потемкина верфи вновь были восстановлены и заработали в полную силу. Россия, со времен Екатерины почти не вспоминавшая о своем флоте, остро нуждалась в новых кораблях. Каждый год на рейд выходили все новые пароходы – как военные, так и гражданские. Гражданские, о которых заботился Воронцов, строились не только на николаевских вервях, но и в Петербурге и Англии. Один из них носил имя Михаила Семеновича. Позаботился Воронцов и об устроении новых портов, необходимых для развития торговли.
Граф неустанно заботился о просвещении. Им были открыты ланкастерское и матросское приходское училища, Институт для девиц, училища торговых моряков и восточных языков, училище для глухонемых, Публичная библиотека, первая в Одессе типография, музеи древностей в Одессе и Керчи… Строились, радуя глаз новыми прекрасными домами, бульварами и садами, города. И тут Михаил Семенович также подавал пример, строя собственные дворцы в Алупке и Одессе. Для скорейшей застройки Одессы граф выделял всем желающим землю при условии, что через пять лет на ней должен быть построен многоэтажный жилой дом приличного вида. Так к середине 30-х годов был застроен Приморский бульвар, соединенный с портом дивной лестницей, проект которой по представлению генерал-губернатора утвердил сам Государь.
Так, в считанные годы малолюдная и далекая от цивилизации губерния обратилась в процветающий край Империи – торговую Мекку для купцов всего мира, желанный курорт для знатных вельмож, обетованную землю для археологов и ученых, рай для землепашцев…
Виктор встретился с графом лишь однажды – генерал-губернатор должен бы знать одного из крупнейших землевладельцев и промышленников Новороссии. К тому времени он владел более чем тысячью гектаров земли, на которых были разбиты сады и виноградники, двумя месторождениями железной руды, несколькими шахтами. В Алупке им был построен большой дом, отданный под ремесленное училище для детей-сирот, в Ялте – больница для бедных.
В последнее время Виктор наводил справки о судостроительном деле. Вложения в развитие сельского хозяйства и промышленности лишь приумножили его капитал. Винокуренные и иные заводы не занимали его воображение. То ли дело пароходы! Новые корабли, за которыми, несомненно, близкое будущее флота! Машины – вот, то новое, к чему интересно и полезно приложить ум и средства… Однако, вторжение в эту отрасль потребовало бы от Виктора личного ведения дел, появления на людях. Это останавливало его, и он предпочитал развеивать скуку постижением тайн совершенной химии.
– Вы пришли весьма вовремя, Эжени, – произнес Виктор, не оборачиваясь от своих кипящих и булькающих колб, заслышав знакомые шаги. – Сейчас вы сможете увидеть весьма любопытный опыт.
– Простите, но у меня есть дело много более важное, нежели все ваши опыты, – ответила Эжени.
Виктор задул огонь и, наконец, обернулся, снимая синеватые очки, защищавшие его глаз от слишком ярких вспышек.
– Что случилось? – осведомился он. – У вас такое лицо, будто вы только что встретили приведение.
– Если бы его встретила я, было бы нестрашно. Но приведений встретил Сережа! – с этими словами Эжени протянула Виктору письмо и опустилась на стул. От волнения ее лихорадило.
С каждой прочитанной строчкой лицо Виктора становилось все темнее.
– Проклятые! – прорычал он сквозь зубы, комкая письмо. – Я допустил большую оплошность, позволив князь Вольдемару задержаться на этом свете! Вот, милая Эжени, прямое доказательство того, сколь неоправданны были ваши всегдашние разговоры о милосердии! Ни у одного из них я не отнял жизни! Каков же итог? Один едва не погубил несчастную женщину и невинных детей, а другой… Нет, когда бы он решил прийти и свести со мной счеты сам, то я, пожалуй, простил бы его. Но этот трусливый негодяй желает сквитаться со мной чужими руками, руками достойного молодого человека, который заплатит за его обман своим будущим! Нет, крапивное семя нужно уничтожать до конца, иначе оно вновь и вновь будет давать худые всходы.
– Однако, смерть бедной княгини, действительно, наша вина…
– Вздор! Это вина ее подлеца-мужа! И еще худших подлецов-сыновей!
– Что же делать теперь? Сережа ищет вас, он хочет мстить!
– Успокойтесь, Эжени. Обещаю вам, что с головы вашего протеже не упадет ни один волос. Ему ничего не грозит.
– А вам? Вам?!
– Мне? – Виктор усмехнулся. – По правде говоря, я не против свидеться с Господом Богом. Как маловеру, мне всегда особенно любопытна была эта встреча…
– Оставьте ваши шутки!
– Вы прекрасно знаете, что это не шутки. Я не держусь за мою бренную жизнь с той поры, как счел месть свою завершенной. Впрочем, я ошибся! И дело, оказывается, еще не окончено. А, значит, и на мой счет вы можете не тревожиться. Кажется, вы не раз имели случай убедиться, что я не столь глуп, чтобы позволить убить себя. Тем более князю Вольдемару и этому мальчишке-лейтенанту!
– Так что же вы предпримите? – спросила Эжени уже спокойнее.
– Для начала надо узнать, где теперь этот трусливый мерзавец… – Виктор погладил подошедшего пса. – Ему запрещено селиться в Петербурге и Москве. Значит, он нашел вашего протеже не там. Сдается мне, что князь Вольдемар где-то совсем рядом. А если так, то я найду его скорее, чем мальчишка меня. Кстати, отпишите ему теперь же, постарайтесь остудить горячую голову.
– Что если Владимир Львович расскажет ему о том, что я была вашей шпионкой подле его матери?..
– Странно, что он до сих пор этого не рассказал. Видимо, юноша не упоминал о вас… Что ж, может, стоит и повременить с ответом. Ответ может подхлестнуть Сергея заговорить о вас с Борецким. А нам совсем не нужно, чтобы ваша роль сделалась ему известной…
– Но он ждет моего ответа!
– Эжени, предоставляю вам решить, как лучше быть с вашим протеже. Вы лучше меня знаете его характер. К тому же вы ведь всегда обладали изрядной интуицией, если не сказать больше…
– Сейчас она нема.
– Тогда дайте ей время. Успокойтесь, подумайте. А мы с Благоей покинем вас ненадолго. Придется вновь сойти на грешную землю и выкорчевать тот опасный сорняк, что остался там по моей оплошности.
– Что же, вы убьете его?..
– Уничтожу, – холодно отозвался Виктор. – Каким способом станет ясно, когда я узнаю, где этот негодяй и чем он теперь живет. Свою недавнюю ссылку он будет благословлять и оплакивать, как неоцененную им милость!
Этого ледяного, как лязг стального клинка, тона Эжени не слышала уже несколько лет. Несколько лет, в которые казалось, что отмщение уже позади, что впереди, наконец-то, покой и умиротворение. Все начиналось сызнова… Виктор уже стремительно спустился вниз, уже отдавал распоряжения об отъезде Благое, а Эжени так и сидела в его лаборатории, глядя на брошенное на пол скомканное письмо Сережи. И снова нечем было дышать, снова невыносимым казалось думать, делать что-либо… Шагнув к настежь распахнутому окну, она глубоко вдохнула влажный морской воздух, подставила ветру пылающее лицо. Что-то будет теперь? И как остановить, уберечь Сережу?..
Глава 8.
– Когда-нибудь, мой молодой друг, я объясню вам, отчего покойница-матушка так любила вас…
– Отчего же когда-нибудь, а не теперь?
– Не торопите меня. Есть тайны, о которых трудно говорить. И с которых не стоит вовсе срывать покровы… Однако, я дал вам обещание и сдержу его. Вы узнаете все. Но после, после… Дайте мне время, как дал его вам я.
Этот разговор с князем Борецким не шел у Сергея из головы. Он уверен теперь был, что его связь с княжеским семейством куда теснее, чем милость добрейшей Веры Дмитриевны. Разве уж такой редкий случай, чтобы господа имели бастардов от своих крепостных или иных любовниц низшего сословия? Жуковский был сыном пленной турчанки, и это не помешало ему сделаться высокопоставленной персоной. Должно быть, княгиня, будь она жива, постаралась бы обеспечить положение своего воспитанника, и теперь Сергей был бы не безродным Безыменным, и, кто знает, быть может, имел бы даже право просить руки дочери ближайшего сподвижника Царя…
От этих мыслей мутилось в голове. Днем, на службе, он старался гнать их, ревностно исполняя свой долг, но ночью… Что если он сын одного из князей Борецких? По-видимому, так… Иначе Владимиру Львовичу не было бы так тяжело говорить об этом. Уж не он ли его отец? Очень может быть. В собственном отцовстве признаться всего тяжелее. В законном браке князь не имел потомства и конечно же мог… Хотя в таком случае весьма странная его холодность к Сергею во дни его малолетства. Не имея законных детей, Владимир Львович при всем своем снобизме должен был бы хоть немного интересоваться единственным сыном, желать для него лучшего будущего. Однако, он никогда даже не смотрел в сторону Сергея.
Михаил? В его отцовстве уж точно не было бы ничего удивительного. Этот насквозь порочный человек имел несчетное число любовниц самых разных сословий, а уж сколько случайных женщин побывали в его объятьях, можно было и не пытаться представить. И уж, конечно, такой человек не стал бы обращать внимание на своего бастарда… Таких у него могло быть десяток-другой… Пожалуй, самый вероятный вариант. Хотя и самый неприятный. Уж лучше навсегда остаться Безыменным, чем быть сыном уголовного преступника, под конец жизни сошедшего с ума… А если рассудить с другой стороны, то к чему Владимиру Львовичу таить отцовство брата? Это ни к чему его не обязывает. Или же дело в том, что с подобных тайн не стоит срывать покровы?..
Есть еще старый князь… Но стала бы княгиня так нянчиться с незаконным отпрыском собственного беспутного мужа? Возможно и стала бы. Ведь у нее была добрейшая душа, и она так любила Льва Михайловича, прощая ему все, как большому ребенку. Из всех трех вариантов последний был Сергею наиболее желателен. Во-первых, старый Борецкий единственный не был замаран преступлениями против закона, а, во-вторых, он при всей испорченности своей натуры никогда не был зол, жесток. До крайности испорченный ребенок, который в силу богатства своей семьи имел возможность не взрослеть до старости, удовлетворяя свои капризы. Бывал он иногда и добр, и весел – в такие моменты за этим человеком можно было даже признать очарование, обаяние. Сергей успел запомнить князя в лучшие его годы. Он, хотя и перешагнул тогда полувековой рубеж, но был еще весьма статен, жив, моложав. Всегда щеголем одет, всегда изящен, умеющий прекрасно говорить – истинный светский лев, на которого ровнялись многие подрастающие «львята». Теперь же он, немощный и запертый в доме умалишенных, казался таким просветленным, помудревшим… Пожалуй, Сергей даже смог бы полюбить этого старика, окажись он его отцом. Владимира Львовича не смог бы, не говоря уж о Михаиле.
А старик, должно быть, рад будет обрести заботливого сына. Правда, какой бы из трех вариантов ни оказался верным, решительным образом судьбы Сергея это не изменит. Михаил мертв. Владимир Львович лишен дворянства. А князь признан недееспособным, а, значит, не может признать сына… Значит, остается лишь одна цель – узнать правду. Хотя бы для самого себя. И если кто-то отнял у него семью, то этот кто-то должен за это ответить…
Было еще одно открытие, изводившее Сергея последние дни. Совсем недавно он отправил письмо Эжени, прося ее совета, а вскоре князь Владимир, выдававший имевшиеся у него сведения небольшими дозами, сообщил, что именно Эжени была шпионкой Курского в доме Борецких. Сперва Безыменный не поверил и даже повысил на князя голос, обвиняя его во лжи. Тот, однако, с полным спокойствием привел доводы, доказывающие виновность Эжени…
Стало быть, эта женщина несколько лет пользовалась доверием наивной княгини, чтобы разрушить ее жизнь, ее семью и, наконец, свести ее в могилу… А о нем, Сергее, она проявила такую заботу просто из чувства вины. Замаливала грехи! А он столько лет видел в ней своего доброго ангела! А у него не было никого ближе ее…
Сергею казалось, будто бы он все глубже увязает в какой-то ужасной трясине, где все, решительно все – один сплошной обман, и нет ничего настоящего, чистого. Некому верить…
Ответное письмо Эжени пришло довольно скоро и было каким-то расплывчатым. Однако, суть его сводилась к тому, что не стоит копаться в причиняющем боль прошлом, и не стоит доверять князю Владимиру Львовичу, обиженному человеку с известной репутацией. Боится, что откроется правда? А он так надеялся на ее помощь…
В этот день Сергей впервые сорвался и за пустяковую оплошность наорал на матроса. Срыв не укрылся от доглядчивого глаза Павла Степановича.
– Что же это вы, Сергей Иванович? С матросом этак обращаться никуда не годится. Я вас не узнаю!
Хуже этой укоризны и представить себе ничего нельзя! Покраснел Сергей от стыда под испытующим адмиральским взглядом:
– Простите, Павел Степанович. Неможется что-то, лихорадка бьет. Вот, и сорвался – сам не знаю, как вышло. Больше подобного не повторится!
– Весьма на это надеюсь. Коли лихорадка вас мучит, так сойдите-с на берег, доктору покажитесь. А поднявшись на корабль, извольте-с оставить недомогания за бортом – море нас о них не спросит. Если только дело в лихорадке…
– Точно так, в ней, – поспешно подтвердил Сергей. Ему и впрямь было дурно от избытка тяжелых открытий.
Адмирал, однако же, не слишком поверил заверению. Это Безыменный угадал по его взгляду. Однако, более ни о чем Нахимов не спросил. Лишь пожелал скорее поправиться и отпустил на берег. Должно быть, счел, что причиной всему известная ему несчастная любовь Сергея… Только этого не доставало! Кляня себя последними словами, Безыменный сошел на берег.
Как и просил Владимир Львович, он принес ему письмо Эжени, и тот, внимательно прочтя его, с удовлетворением кивнул:
– Эта женщина станет нашим проводником к злодею! Она одна может привести нас к нему.
– Сомневаюсь, что она захочет.
– Ее желание нам и не нужно. Мы просто выследим ее. Но для этого нужно, чтобы она приехала сюда. Вы должны придумать, что и как написать ей, чтобы она приехала к вам.
– Да что же я напишу? – растерялся Сергей.
– Что угодно! Хоть при смерти скажитесь – главное, чтобы птичка попалась в наши силки! Конечно, я мог бы написать письмо за вас, но вы куда лучше знаете вашу добрую фею, а в письме не должно быть ни тени фальши.
– Как оказалось, я не знаю ее вовсе…
– Увы, мой друг, в мире слишком много лжи и лицемерия. Вы еще молоды, душа ваша чиста – вам еще предстоит узнать изнанку мира и научиться жить с этим знанием.
Вот уж никогда бы не знать… И вправду есть тайны, с которых лучше не срывать покровы. Но если покровы сорваны лишь наполовину, то уже нельзя остановиться – их должно сорвать до конца.
Когда Безыменный вышел из дома, где снимал крохотную квартирку Борецкий, его уже на самом деле лихорадило от волнения. Да и день выдался изнуряюще знойным. Сняв фуражку, Сергей промокнул платком выступивший на лбу пот, расстегнул верхнюю пуговицу мундира. В этот момент его внимание привлек шедший по другой стороне улицы человек. Ему было на вид лет шестьдесят. Длинные с сильной проседью волосы и густая борода обрамляли худое смуглое лицо. Одет незнакомец был в самое простое платье – мужицкая рубаха, препоясанная ремнем, жилет, видавшие виды сапоги… «Наверное, странник… – подумалось Сергею. – Только посоха недостает да мешка. Хотя, если где на постой встал, то к чему ему мешок…»
Странник, видимо, почувствовал на себе пристальный взгляд и повернул голову. Заметив Безыменного, приветливо кивнул ему. Сергей кивнул ответно, и тут почувствовал, что не может ступить и шагу. Голова нестерпимо кружилась. Он прислонился к стене дома, успев заметить, что старик направляется к нему.
– Ваше благородие, что с вами? Вам дурно? – спросил, подойдя.
Вблизи оказалось, что у странника еще довольно моложавое лицо. Хоть и шрамом на правой щеке изуродовано, а все одно весьма привлекательное. И, надо же, глаза разного цвета… Разве бывает такое?
– Вам дурно? Что с вами?
– Нет, ничего… Голова… – пробормотал Сергей.
Старик кому-то махнул рукой, и тотчас подъехала пролетка. Незнакомец помог Безыменному сесть в нее, наказав извозчику:
– Свези, милый, ихнее благородие, куда они скажут. Вишь, занедужили.
Извозчик молча кивнул и тронул поводья. Пролетка тронулась, но Сергей успел расслышать участливое стариковское:
– Поправляйтесь, ваше благородие!
Вот, и не солгал, значит, Павлу Степановичу… И Эжени лгать не придется? Написать, как есть… Ну, почти… Захворал, ни единой живой души рядом… Она, верно, не сможет не откликнуться, приедет. Вот только как вести себя с ней? Как смотреть в глаза, говорить и не подать виду, что ему все известно? Он всего лишь простой моряк, и ему невдомек искусство лицемерия, в котором так сильны и она, и князь… А придется учиться. Тогда князь сможет выследить Эжени, и они раскроют тайну Курского. А после Владимир Львович раскроет и другую тайну, и Сергей узнает, наконец, кто были его родители. И на этом окончится эта проклятая история, и все встанет на свои места… Или почти все…
Глава 9.
Весть о кончине княгини Алерциани грянула, как гром среди ясного неба. Лаура тотчас собралась в Тифлис, а с нею и Константин с детьми. Грустно, однако же, вышло: и тесть, и теща отошли в мир иной, когда дочь была за тысячи верст от них. И хоронили их также в ее отсутствие. Ей же, приехав, оставалось лишь горько плакать над хладными надгробиями фамильного склепа…
Поездка по такому скорбному случаю не из веселых выдалась. Даже дети притихли, понимая состояние матери. Старший, Сашка, и сам горевал о бабушке. В отличие от младших несмышленышей он успел провести с ней немало времени – Лаура навещала родительский дом каждый год, живя в нем месяц-другой.
Несмотря на скорбь о матери, проезжая Пятигорск, она все же сделала остановку, дабы посетить место гибели Лермонтова, почтить его память. Константин сопровождал жену. Он помнил невысокого юношу-поручика, который дважды бывал в салоне Лауры среди других литераторов. Кто бы мог подумать, что ему отпущен столь краткий срок! Пушкин ушел молодым, ушел обидно рано, но поэт, ставший его преемником, погиб почти мальчишкой…
Двадцать семь лет… Сколько бы он мог еще успеть написать! Хотя Константину не по душе пришелся «Герой нашего времени» (подобные праздношатающиеся, надменные господа стоят ли вообще того, чтобы о них писать?), но поэзию Лермонтова он ценил. Особенно поразил его «Валерик». Вот уж поэма – так поэма! Чтобы ту кровавую баню так описать, воистину гением быть надо! И вот же судьба: уцелеть при Валерике и сгинуть от глупой пули на глупой дуэли из-за совершенной глупости…
Хотя в двадцать семь лет Константин ничуть не рассудительнее был. Такая же горячка… Дивно, что живой остался при своем умении в неприятности ввязываться. А Лермонтову не повезло. Князь Вяземский верно заметил: «В нашу поэзию стреляют удачнее нежели в Людовика-Филиппа, второй раз не дают промаха». Второй ли? Пулей дуэльной – может быть, а иными способами…
Вспомнился незабвенный Саша Одоевский. Этот восторженный наивный юноша, поэт по всей сути своей… Добился, чтобы из Сибири разрешил Государь отправиться ему на Кавказ – сражаясь за Отечество, восстанавливать свое доброе имя. Чистая, светлая душа, он сражался славно, но Кавказ был не для него. Он был слишком хрупок для Кавказа… И уже не было в живых его любимого кузена Грибоедова, что всегда пекся о нем и так пытался вытащить его из кружка заговорщиков. Саша погиб не от пули, не от горской сабли, не в сражении. Он умер от малярийной лихорадки тридцати семи (проклятое число!) лет от роду…
Лермонтов, с которым успели они сойтись, с которым близки были своей глубинной печалью о чем-то ведомом только им, посвятил памяти Одоевского стихи:
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!
Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья… Но, безумный –
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил – и бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей, и жизнь иную.
Но он погиб далеко от друзей…
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!
Саше и Михаилу «повезло» – у них хотя бы есть могила. А Бестужев Александр, что не так еще давно славен был, как романист, под псевдонимом «Марлинский»? Едва успев получить производство в подпрапорщики, погиб в стычке с горцами на мысе Адлер в печальном 1837 году. Ему было сорок лет… Тело его так и не нашли.
Дорого, дорого обходятся ошибки юности! Взять хоть несчастного Полежаева! Незаконный сын сосланного в Сибирь за убийство крепостного помещика, он учился в Московском университете. В злосчастном 1825 году под воздействием «Евгения Онегина» написал собственную поэму «Сашка» и угодил с нею под горячую руку… После доноса жандармского полковника Бибикова, что поэма содержит критику порядков в Московском университете и описание нравов университетского студенчества, личным распоряжением Государя Александр был отдан в унтер-офицеры в Бутырский пехотный полк. Обидно, что и говорить! Но несмертельно, из этой «беды» можно было бы выкарабкаться. Но вспыльчивый Полежаев сбежал из полка с целью добраться до Петербурга и ходатайствовать об освобождении от воинской службы. Его, конечно, задержали… Разжаловали в рядовые без выслуги и с лишением личного дворянства – до конца жизни он должен был остаться на военной службе рядовым. Это уже и впрямь горем было, но и тут не без надежды – ходатайства сочувствующих лиц могли бы со временем смягчить Государя, а, значит, и участь поэта. Но… Несчастный запил от тоски и, будучи пьян, оскорбил фельдфебеля. За это он почти год провел в кандалах на гауптвахте в подвале Московских спасских казарм, где получил чахотку, а после был переведен в Московский пехотный полк и отправлен на Кавказ. Здесь юноша отличился в сражениях, был вновь произведен в унтер-офицеры, вместе с полком вернулся в Москву. История могла бы окончиться счастливо: производство Полежаева в офицеры было подписано все в том же 37-м году. Но, увы, узнать о том бедняге было не суждено – в самом начале года 38-го он скончался в госпитале от чахотки, не дожив до тридцати четырех лет…
Грустно и тягостно от этих воспоминаний становилось. Скольких уже нет на этом свете! Славных и безвестных, тех, кого не знал или видел мельком, и тех, с кем не раз хлебали кашу из одного походного котла… Чудо, что не оказался среди них. Кажется, самой судьбой предназначено было голову сложить в какой-нибудь стычке.
Молодость! Вот, теперь еще один юноша ищет беды на свою голову. Петрушка, племянник разлюбезный. Еще с осени, когда Юлинька со своим моряком по Москве каталась, тревожился Константин – знал ведь о чувствах Петра. И хотя симпатичен ему был Безыменный, а все ж огорчительно за племянника. Ведь и он не хуже ничем! И уж к юроду этому, Корейше, не ходи, чтоб предугадать, как отреагирует, узнав, что другой ему предпочтен.
Отреагировал. Вслед за отцом из столицы на Кавказ сбежал! Кровью своей кипящей землю здешнюю орошать… Будет теперь дуры-пули искать или холода сабельного, чтобы сердце горячее остудили… И какого черта в эти годы жизнь дешевле полушки кажется? Сам таким же был, ничего не ценил дешевле собственной головы. Только с годами приходит понимание, что жизнь – Божий дар, которым надо дорожить. Даром этим должно жертвовать, когда требует долг, но не годится разбрасываться, следуя диктату страстей. Но чтобы это понять, нужно прожить жизнь. А многие юнцы просто не успевают этого сделать, летя в самое пламя.
Кавказ нынче самым, что ни на есть, пламенем был. Братец-генерал пророком оказался, когда предсказывал, что Шамиль, которого в Ахульго упустили, весь Кавказ подожжет. Имам, едва зализав раны, не замедлил сделать это.
В 1840 году Чечня отложилась от России, и к ней стали примыкать сопредельные деревни. Чтобы наказать непокорных в Малую Чечню выдвинулся отряд генерала Галафеева. Он-то и был изрублен горцами на реке Валерик. Дальше русские войска несколько лет несли поражение за поражением. Получая письма от брата и боевых друзей, Константин не находил себе места, порывался даже вновь поступить на службу – будто бы это могло что-то изменить.
В 42-м году в Ичкерии потерпела поражение и понесла большие потери экспедиция Граббе. Годом позже Шамиль захватил Аварию, Гергебиль, Мехтулинское ханство… Под аварским селом Унцукулем мюриды истребили пришедший на выручку аварцам русский отряд, десять офицеров во главе с полковником Веселицким были захвачены в плен.
Русских пленников у имама было много. Они выстроили ему просторный деревянный дом в селении Дарго и выполняли многие другие работы. Хуже всего было то, что имаму удалось создать из мюридов настоящую регулярную армию, разделенную на сотни и десятки. Более того, у этой армии появилась артиллерия. Пушки были сперва отбиты у русских войск (неслыханное дело!), но вскоре сами горцы научились отливать и орудия, и ядра. Шамиль устроил пороховые заводы в Ведено, Унцукуле и Гунибе.
Отныне не отряды полудиких варваров противостояли русским войскам, а армия во главе с человеком, наделенным огромным талантом стратега и животным чутьем. Для борьбы с ним в 1844 году Государь назначил на Кавказ нового наместника – графа Воронцова. К этому моменту имам, наконец, понес два поражения, нанесенных ему доблестными генералами Фрейтагом и Пассеком.
Воронцов предпринял экспедицию через Большую Чечню и Андию, рассчитывая стеснить Шамиля в его неприступных убежищах. В 45-м году русские войска с трех сторон двинулись внутрь Дагестана. Узнав об этом и предвидя, что Дарго не удастся отстоять, Шамиль приказал казнить пленных русских офицеров во главе с Веселицким. Это были лишь первые капли крови из тех потоков, которые были пролиты на всем пути воронцовского похода…
Русские войска вынуждены были идти по оврагам, сквозь дремучие ичкерийские леса, самостоятельно прокладывая себе дорогу – и все это под градом неприятельских пуль, уносивших русские жизни на каждом шагу! Старый граф, человек отменной отваги, сам командовал двумя ротами. Его платье было прострелено, рядом с ним пал один из его адъютантов, а еще трое были ранены, но сам он остался невредим. Солдаты говорили, что он заговоренный.
После четырех дней кровопролитного боя Дарго было взято, но Шамиль, как всегда, успел покинуть его. Закрепиться в ауле не было возможности: слишком трудно было доставлять туда боеприпасы и провиант, вдобавок, несмотря на лето, температура стремилась к нулевой отметке, и армия несла потери обмороженными. Однако, прежде чем покинуть недавнюю резиденцию Шамиля, требовалось пополнить запасы продовольствия. Это можно было сделать за счет транспорта, двигавшегося из Андии. Навстречу ему Воронцов отправил целую колонну войск во главе с генералом Клюгенау из расчета, чтобы каждый солдат принес сухарей себе и своему товарищу. Итоги «сухарной экспедиции» были трагичны – она была частично истреблена напавшими горцами. Среди павших оказался и славный генерал Пассек… Вместо сухарей вернувшийся отряд привез с собой множество раненых.
Оценив положение, граф распорядился уничтожить все вьюки и освободить оставшихся лошадей для раненых. Палатки пошли для изготовления обуви для солдат. Собственное имущество командующий также не пощадил, а белье отдал для перевязки искалеченных воинов. Сам шестидесятитрехлетний генерал, знатнейший вельможа Империи спал на голой земле и наряду со своими солдатами грыз сухари.
Тем не менее, обоз с ранеными не позволял идти в обратный путь – на него не достало бы провизии. Оставалось пробиваться вперед – к крепости Герзель-аул, занятой русским гарнизоном. Михаил Семенович заявил, что скорее погибнет со всем отрядом, нежели бросит хоть одного больного.
Казалось, что отряд обречен. Крупный рогатый скот был съеден, войска страдали от голода и жажды. На каждом шагу горцы воздвигали новые завалы, расстреливали отряд из лесной чащи. Беря штурмом завалы, авангард подчас оказывался отрезан от основных сил, и тогда граф лично вел своих людей в бой, восстанавливал связь и заставлял противника отступить. Все участники похода были уверены: если бы не его электризующая всех энергия, его хладнокровие и распорядительность, его твердость и вера, воодушевлявшая солдат и офицеров, отряд бы неминуемо погиб. Уже недалеко от Герзель-аула измученные русские войска были окружены. Но Воронцов успел послать лазутчиков к генералу Фрейгату и тот вовремя подоспел на подмогу. Русские вышли победителями из жестокого боя и все же прорвались к своей крепости.
Вытесненный из Чечни после занятия русскими Аргунского ущелья, Шамиль расположил свою новую резиденцию в Ичкерии, назвав ее Ведено. Ведено на ичкерийском означало то же, что Дарго на чеченском – плоское место… Тем самым имам давал понять, что разрушение одного Дарго ничего не решает. Их у него может быть еще не одно.
Правда, фортуна пока не спешила вновь поворачиваться к Шамилю лицом, и совсем недавно его отряд в 20000 мюридов был разбит при попытке захвата селения Кутиши доблестным князем Бебутовым.
В такую-то горячую пору и случилось собраться в Тифлисе всем Стратоновым. В память об усопшей матери Лаура попросила священника отслужить панихиду в домовой церкви и устроила поминальный обед для узкого круга самых близких людей. Людей этих в Тифлисе совсем мало осталось. Пара старинных приятельниц княгини, Нина Грибоедова, батюшка, служивший панихиду… И приехали, взяв краткие отпуска Юрий с Петром. Если Петрушку Константин только недавно видел – по пути на Кавказ навестил дядьку, то брата года два обнять не случалось.
Немногочисленные гости разъехались скоро. Большей частью, то были люди преклонных лет, уже не жаловавшие продолжительных застолий. Усталая Лаура, проверив, спят ли дети, поднялась к себе. Петр, прискакавший лишь утром и проделавший пред тем долгий путь, также был утомлен и довольно быстро покинул отца и дядю, сморенный сном.
Братья остались наедине и могли теперь говорить обо всем открыто.
– Как ты нашел нашего кирасира? – осведомился Константин, наполняя бокал брата любимым кахетинским вином. – По-моему, из него выйдет бравый воин!
– Он храбр, ловок, силен, – согласился Юрий. – Правда, горяч не в меру. Я просил, чтобы его перевели под мое начало и, полагаю, приказ будет подписан в ближайшие дни.
– Хочешь, чтобы он был рядом?
– Хочу, чтобы он не наделал глупостей. Он расстроен теперь, ты знаешь. А потому дерется с особенным отчаянием. А такое состояние души в бою может оказаться фатальным.
– Однако, вряд ли ты сможешь удержать его от сумасбродств своей генеральской властью. Не можешь же ты попросту не посылать его в опасные места…
– Разумеется. И все же мне так будет спокойнее, – Юрий хрустнул пальцами, немного помолчал. – Признаюсь, я чувствую себя виноватым перед Петром. Я слишком мало уделял ему времени, был слишком холоден с ним… В сущности, все это время я лишь назывался его отцом, а смотрел на него, как на чужого, из-за моих несчастных отношений с его матерью.
– Петруша – истинный Стратонов! – воскликнул Константин. – Он, ей-Богу, страшно похож на тебя в его годы. Такой же храбрец и силач!
– Да-да, – задумчиво произнес Юрий, – теперь я и сам вижу, что ошибался все эти годы в своих сомнениях в его отношении… Он унаследовал наши фамильные черты и в характере, и в лице. Я видел его в бою, Костя, и я был восхищен и счастлив. Горд, что это – мой сын! Он был великолепен… Один изрубил троих набросившихся на него мюридов – последнего, конного, уже будучи сам повергнут с лошади.
– Ты сказал это ему?
– Что?
– Что горд и счастлив иметь такого сына?
– Нет, – вздохнул Юрий.
– Отчего же нет?
– Не знаю сам… Мне трудно говорить с ним, Костя. Слишком много времени упущено, и его вряд ли возможно наверстать.
– А ты предпочитаешь упускать его дальше? Брат, осознав одну ошибку, не умножай ее новой. Вам непременно нужно поговорить по душам. Петр любит тебя и нуждается в тебе. Сейчас после нанесенной ему мадмуазель Никольской раны – особенно. Ты хочешь взять его под свое начало, чтобы уберечь властью генеральской, а здесь нужна власть отцовская. И не власть даже… А участие, понимание.
– Вряд ли и эта власть его остановит. Дорогой Костя, вспомни самого себя! Много ли действовало на тебя слово старшего брата?
– Я всегда уважал твое слово! – развел руками Константин.
– Но поступал по своему произволу.
– Что правда, то правда. И все же согласись, что в нынешнем положении Петра твое участие могло бы повлиять на него хоть отчасти благотворно. Оно бы укрепило и ободрило его!
– Или же наоборот, вызвало бы недоумение. Больше двадцати лет отец практически не обращал на него внимания, и вдруг проснулись родительские чувства!
– Так и что же?
– А его мать?! Ведь не могу же я объяснить ему наших с ней отношений, и моей холодности к нему, ими порожденной!
– А ты попытайся. Я думаю, твоего сына тяготит неизвестность о матери и совершенное непонимание вас обоих.
– Будет лучше, если он узнает, что его мать шлюха? – вспыхнул Юрий. – Что она изменяла мне с каждым встречным, и можно приписать лишь Божиему благодеянию, что единственный ее ребенок родился от законного мужа? Что она сбежала с любовником, предпочтя жизнь куртизанки в европейских столицах?! Лучше уж ничего не знать, чем знать о родной матери такое!
– Лучше. Но лишь в том случае, когда тайна матери не отнимает и отца, обрекая ребенка не сиротство.
– Ребенок уже давно вырос… К тому же, как он должен будет отнестись к отцу, который откроет ему подобную неприглядную правду о матери?
– Необязательно, черт побери, говорить всю правду. Довольно и побега с любовником… Петр, как ты справедливо заметил, уже давно вырос. Кое-что видел и слышал, кое о чем мог догадаться сам. Рано или поздно, он все равно узнает правду о Катрин. И лучше, чтобы он узнал ее от тебя, а не от какого-нибудь злоязычного мизерабля, с которым у нашего кирасира еще и достанет горячности стреляться за честь матери.
– Знаешь, Костя, ты стал не в меру рассудителен, – грустно улыбнулся Юрий. – Это, надо полагать, влияние твоей мудрой супруги?
– Это старость, наверное, – рассмеялся Константин.
– Теперь Лаура унаследовала эту усадьбу. Что вы намерены делать с нею? Продадите или же поселитесь в Тифлисе?
– Жить в Тифлисе я не хочу, – покачал головой Константин. – Я люблю этот город, но он никогда не станет для меня родным. Я природный русак, и здесь душа моя тоскует по родным просторам. Что делать с усадьбой, решать Лауре. Здесь ее дом, здесь похоронены ее родители и все предки. Думаю, ей будет трудно расстаться с ним. Хотя по мне, так всего бы лучше усадьбу продать. Вырученных денег достало бы, чтобы прикупить наконец приличный домишко с деревенькой в одной из близлежащих от Москвы губерний и зажить там славно, не злоупотребляя дольше добротой Никольских. В конце концов, это безнравственно! Моему сыну уже десять лет, а я по сей день не имею своего угла. Да, мы прекрасно живем в московском доме Никиты, но я ни на миг не могу забыть, что это не наш дом, что мы в нем лишь гости. У Никольских дети уже выросли. Может статься, что этот дом понадобится им, их семьям. До сих пор у нас не было никакой возможности купить дом, деревню с мужичками. Если бы не благодеяние известного тебе лица, мы бы и вовсе пошли по миру… В итоге живем дважды нахлебниками. А своя деревенька при умелом хозяйствовании дала бы нам, наконец, свой собственный кусок хлеба. Свой угол и свой кусок хлеба – вот, единственное, чего мне недостает для совершенного счастья!
– Не так мало!
– Но необходимо! Иначе прожив жизнь приживальщиком и нахлебником, я уготовлю такую же участь моим детям. Кстати, если бы родители Лауры оставили при сем прекрасном доме и саде худо-бедно порядочную деревеньку, так и черт с ним, я бы согласился и на Тифлис. Но ведь здесь ничего нет! Этот замок будет только поглощать наши невеликие средства, ничего не давая взамен.
– И здесь ты непривычно рассудителен, – согласился Юрий. – Должен сказать, что я сам не раз думал, что должно иметь свой угол. Но при моей кочевой жизни… – он махнул рукой. – Однако, идея с небольшой усадьбой в какой-нибудь среднерусской губернии мне нравится. Род Стратоновых, слава Богу, преумножается. Мы с тобой выросли и жили до сих пор без кола и двора, но пора это исправить. Я кое-что накопил за эти годы со своего жалования, которое тратил весьма скупо за неимением значительных потребностей. Эти деньги я с радостью употребил бы на покупку дома, который стал бы нашим родовым гнездом.
Константин оживился:
– Да ведь это было бы чудесно! Дай обниму тебя, брат!
– Полно, – улыбнулся Юрий, освобождаясь от объятий. – Пусть Лаура решит, как поступит с родительским домом, а затем ты займешься поиском подходящего угла. На домишко с деревенькой скопленных мной денег достанет.
– Спасибо, мой генерал! Ты только что подарил мне крылья! Однако, несмотря на то, я все же повторю: не поскупись на крылья и для своего сына. Ты нужен ему, поверь моему слову. Последние годы я общался с ним чаще твоего и немного лучше успел его узнать.
– Я подумаю об этом, – пообещал Юрий.
– Тогда выпьем за нашего кирасира! Чтобы бог войны был столь же щедр к нему, как и к нам!
– А бог любви – как к тебе, – докончил генерал, поднимая свой бокал.
Глава 10.
Все получилось, как нельзя лучше. Мальчишка слег с лихорадкой, и ведьма не замедлила приехать на зов. Владимир узнал ее сразу. Есть же люди, для которых время словно остановилось! Высокая, худощавая, в нелепом, перехваченном широким поясом на тонкой талии балахоне и по-бабьи повязанном на голове платке, она привлекала к себе внимание прохожих, но вовсе не смущалась этим. Ей нравилась ее одежда и было решительно все равно, имеет ли она хоть что-либо общее с традиционным платьем, тем более с модой. Та же решительная походка, та же гордо вскинутая голова, те же угли-глаза, прожигающие насквозь… Глаз этих Владимир немного побаивался. Но, в сущности, ему нет никакой нужды смотреть в них. Важно лишь выследить ведьму – она непременно должна привести к Курскому!
Эжени остановилась в обычной гостинице. Слуг с нею не было. Она ни с кем не встречалась, дни напролет проводя у одра Сергея. От него ведьма выходила всякий раз взволнованной и печальной. Так прошла неделя, за время которой мальчишка стал поправляться. И, вот, однажды у самого его дома ее окликнул седовласый бородач… В нем Владимир никогда бы не признал того безупречного джентльмена, в образе которого Курский появился в Петербурге. Однако, поведение Эжени выдало его. Борецкий не мог слышать их разговора, но бородач был явно недоволен присутствием ведьмы в городе. Какое-то время они спорили, а затем сели в подъехавшую пролетку и отправились на окраину города. Владимир, срочно наняв извозчика, последовал за ними.
Он лишился в этой жизни всего, и одно единственное желание снедало его душу – уничтожить человека, разрушившего его жизнь. Но прежде понять, кто он, подтвердить блуждающую в уме догадку. Ни грудная жаба, ни ревматизм, нажитые в ссылке, ни скудость средств не могли остановить его. Со средствами, впрочем, было не вовсе скудно. Кое-что успелось припрятать, сберечь на черный день. Конечно, этих средств было недостаточно, чтобы жить порядочно, но вполне довольно, чтобы посвятить себя розыскам Курского. Нелегко и недешево обошлось напасть на след негодяя. След этот вел в Крым, но здесь терялся. В сущности, отсюда злодей мог уплыть в любой уголок мира, но что-то подсказывало Владимиру, что он где-то недалеко.
А тут наудачу вернулся из плавания мамашин любимец Сереженька! Дурачок-морячок… Развесил уши… Ждал теперь, что Борецкий ему о родителях расскажет. И он расскажет, пожалуй. Какую-нибудь сказку… Не правду же, в самом деле! Еще не доставало правду ему узнать! Надо будет придумать что-нибудь потрогательнее, подушещипательнее – мальчишка, видать, падок на романтические бредни.
Жизнь в Севастополе куда дешевле столичной. Борецкий же жил скромно, наняв маленькую квартирку у вдовицы средних лет, ставшей его кухаркой. Он стал воздержен в пище, не покупал нового платья, предпочитая латать старое – деньги нужны ему были для осуществления мести. Все прочее не имело значения. И, вот, час отмщенья приближался! Пролетка доставила Курского и Эжени к небольшому, весьма убогому на вид дому, расположенному весьма уединенно. Какое-то время они находились внутри, а затем женщина вышла одна, и в том же экипаже отправилась в обратный путь. Владимир уже не преследовал ее. Теперь он знал, где скрывался его враг.
В тот же вечер Борецкий навестил Сергея, уже вставшего с постели и всей душой стремившегося на свой корабль. Рассказал мальчишке, что цель их достигнута, и сообщил, где искать злодея.
– Что же мы теперь будем делать? – смутился тот.
– Сперва вам, разумеется, нужно окрепнуть. У вас руки дрожат, – с неудовольствием отметил Владимир.
– Не беспокойтесь. Через день-другой я буду совершенно здоров.
– Тем лучше. В таком случае я заеду к вам завтра после шести, и мы обсудим положение. Смотрите, чтобы здесь не было вашей ведьмы.
– Я буду один.
– Тогда до завтра, мой друг! Скоро все тайны будут открыты, а злодея постигнет заслуженная кара! Да будет так!
– Да будет так… – со вздохом повторил моряк.
Нет, не рвался мальчишка в бой. Как на повинность, на долг смотрел на дело, к которому был предназначен. Однако же, надо хорошо продумать, как действовать. Курский – дьявольски хитрая бестия, и такому щенку, как этот лейтенант, в зубы просто так не дастся. Нужно действовать наверняка. Что при этом станет с мальчишкой, неважно. Важно, чтобы злодей был мертв. А еще узнать, проверить догадку…
Возвратившись домой уже вечером, Владимир с неудовольствием обнаружил у своей квартирной хозяйки гостью – какую-то страшную, похожую на цыганку старуху. Мавра, женщина еще не старая, очень хотела вновь выйти замуж, и старуха принесла ей какую-то дрянь для придания свежести увядающим прелестям вдовушки.
– Мавра! Подай ужин в мою комнату! – велел Борецкий хозяйке.
– Сейчас, Евгений Павлович, – откликнулась та, назвав Владимира именем, под которым жил он в Севастополе.
Через четверть часа она, разрумяненная и принаряженная, принесла ему на подносе ужин и сообщила, что в эту ночь должна навестить заболевшую приятельницу. Борецкий только усмехнулся, принимаясь за ароматную куриную ногу. Приятельница! Можно подумать, не видал он той «приятельницы» гренадерского роста с рыжими усищами! Таракан какой-то, честное слово… Но Мавра так и льнет к нему и всякий раз бежит к нему по первому зову. Вот, стало быть, для чего цыганку позвала и красоту так старательно наводила… Ну, да что взять с бабы! Какая ей еще в этой жизни радость?
По мере того, как Владимир ел, ему становилось дурно. Выпил пилюли от грудной жабы, распахнул окно настежь, чувствуя нестерпимую духоту. Однако, сделалось только хуже. Борецкий жадно выпил чашку чая и вдруг рухнул на пол. Сознание его было совершенно ясным, но он не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Владимира охватил ужас.
– Мавра! Мавра! – истошно завопил он.
Но вместо Мавры в комнату медленно вошла цыганка. Она какое-то время стояла над Борецким, глядя на него равнодушным взглядом черных, как угли, глаз… Глаза! Он видел эти прожигающие насквозь глаза!
– Кто ты?!
Старуха пододвинула стул, села, стянула с головы седой косматый парик, отклеила уродливый горбатый нос с бородавкой, сбросила на пол цветастую шаль…
– Ты!.. – прохрипел Владимир.
– Не следовало вам, князь, следить за мной, – сказала Эжени. – Тем более не следовало столь жестоко обманывать Сережу.
– И вы еще смеете говорить об обмане?!
– Вы правы, я, должно быть, мало чем лучше вас. Но теперь это не имеет для вас никакого значения.
– Что ты сделала со мной, проклятая отравительница?! – простонал Борецкий.
– Пока ваша хозяйка прихорашивалась, я подсыпала в ваш ужин кое-какие травы.
– Убийца!
– Не преувеличивайте, – холодно отозвалась ведьма. – В отличие от вас и вашего брата я не убийца. Вы останетесь живы, здоровы и даже… обеспечены, если сделаете все так, как я прикажу.
– У вас есть противоядье… – догадался Владимир.
– Есть. Но вы получите его, лишь выполнив мои условия. В противном случае все оставшиеся вам годы вы проведете в нынешнем вашем положении. Вы все будете понимать, слышать, видеть, но не сможете пошевелиться.
– Я смогу донести на вас в полицию!
– Сможете, конечно. Но она никогда не найдет ни меня, ни Виктора. Да и обратное разве облегчило бы вашу собственную участь?
– Что вы хотите от меня? – спросил Борецкий.
– Как ни странно, спасти вас.
– Вы издеваетесь?
– Напротив. Виктор, несомненно, убил бы вас. Но я не хочу больше ни смертей, ни мести. Сегодня утром к берегам Южной Америки отплывает корабль. Вы сядете на него, имея при себе значительный капитал и билет на то имя, под которым живете теперь, и навсегда покинете пределы России. А Сережа получит от вас покаянное письмо, в котором вы рассказываете ему всю правду.
– Какую же правду я должен буду ему рассказать?
– Самую, что ни на есть, истинную, Владимир Львович. О его настоящих родителях, о том чудовищном злодеянии, которое ваш брат, вы и ваш отец совершили против человека, которому вы теперь вознамерились мстить…
– Половцев… – пробормотал Борецкий. – Значит, это на самом деле он!..
– Вот как? Значит, ваша память все-таки подсказала вам имя человека, которого вы уничтожили?
– У меня было довольно времени для воспоминаний его стараниями!
– У меня тоже не было недостатка во времени, но теперь я понимаю, что все это время была слепа. И лишь теперь поняла то, что должна была бы разглядеть много раньше… Итак, вы согласны выполнить мои условия?
– Разве у меня есть выбор?
Ведьма кивнула, поднялась, принесла с кухни стакан воды, и, опустившись на колени, дала Владимиру проглотить какую-то пилюлю.
– Это первое снадобье из двух, что вы должны принять. Оно частично вернет вам способность двигаться, но лишь ненадолго. Для того, чтобы паралич не наступил вновь, став необратимым, вам должно будет принять второе.
– Отчего вы не дадите его мне сразу? – насторожился Борецкий.
– Оттого, что не доверяю вам, – спокойно ответила Эжени. – Второе снадобье вы получите, лишь поднимаясь на трап корабля.
– Вы все предусмотрели, – криво усмехнулся Владимир, с трудом поднимаясь. Он едва чувствовал ноги и руки, но все же кое-как доковылял до стола. Противоядье, действительно, возвращало способность к действию лишь частично.
– Пишите письмо, – приказала ведьма. – А я уложу ваш чемодан. Вам теперь сложно будет с этим справиться.
– Вы очень заботливы! – зло бросил Борецкий.
– Более чем, – ответила Эжени, ставя на стол небольшую шкатулку. Щелчок невидимой кнопочки, и крышка открылась. Владимир зажмурился, не поверив глазам. В шкатулке лежали бриллианты ослепительной чистоты. Борецкий немедленно схватил один из них, поднес к глазам, судорожно сглотнув.
– Это же целое состояние!.. – выдохнул он.
– Их когда-то подарил мне Виктор. Не уверена, что нашла им лучшее применение, но пусть все будет так. Кровь порождает кровь… Кровь должна остановиться… Пишите же. У нас мало времени. Корабль отходит на рассвете.
Что ж, может, все не так уж плохо? Месть бы ничего не дала Владимиру, а, имея такой капитал, он может весьма недурно прожить остаток дней заграницей. Конечно, не в ужасной Южной Америке, а где-нибудь ближе к цивилизации…
Рука слушалась плохо, но Борецкий все же вывел краткое послание Сергею. Эжени внимательно прочла его и, спрятав на груди, велела:
– Теперь одевайтесь. Экипаж нас ждет.
Пока Владимир с трудом натягивал на себя и застегивал жилет и сюртук, ведьма вновь скрылась на кухне. Оттуда она возвратилась с вымытым лицом и аккуратно причесанными волосами, окончательно преобразившись из старой цыганки в Эжени.
– Все же, как вы так скоро нашли меня? Когда успели добыть этот билет на подложное имя? – спросил Борецкий, когда, опираясь на ее руку, спустился на улицу.
– Вы невнимательны, Владимир Львович, – ответила ведьма. – Тот, кого вы решили убить, следит за вами уже три недели, а вы даже не заметили этого. Неужели вы думаете, что мне стоило труда вас найти?
Владимир поежился. Три недели! Этот страшный человек три недели ходит за ним по пятам и мог уже сотню раз отправить его следом за Михаилом!.. Нет, пожалуй, все к лучшему. Еще неизвестно, кто бы довершил свою месть, не вмешайся эта женщина… Лишь бы не обманула с противоядьем! А что если обманет? Что если на корабле его вновь настигнет паралич?..
– А противоядье, оно при вас?
– Боитесь, что я вас обману? – чуть улыбнулась Эжени, махнув рукой стоявшему на другом конце улицы извозчику. – Что ж, это была бы неплохая шутка… Но не бойтесь. Я всегда держу свое слово. Даже в отношении тех, кто этого не заслуживает.
– Вы уж слишком щедры ко мне! Это и настораживает.
– Вы недогадливы. До вас мне нет ни малейшего дела. Я лишь не хочу, чтобы Виктор брал на душу грех, состязаясь с вами в злобе. И не хочу, чтобы ваши интриги, чтобы ваше взаимное мщенье искалечили жизнь Сереже, которого я люблю, как сына.
С этими словами она села вслед за Борецким в подъехавшую коляску, крикнув извозчику:
– В порт и побыстрее!
Глава 11.
В эту ночь он не мог сомкнуть глаз. Лихорадка миновала, оставив после себя лишь тягостную слабость и туман в голове. И то, и другое мешало приведению в порядок перессорившихся друг с другом мыслей и чувств. Все последние дни для Сергея было мучительным общество Эжени. Ее травы значительно поспособствовали его выздоровлению, но ему было бы легче провалиться в горячечный бред, нежели играть с этой женщиной в ту низкую игру, которую поручил ему Владимир Львович. Душа Сергея раздваивалась. Он видел искреннюю заботу и ласку Эжени, и хотел любить ее, как раньше, говорить с ней, не таясь. Но не мог, помня, что она обманула его, обманывала все эти годы. Хотел задать ей все те вопросы, что огнем жгли его сердце, выплеснуть свой гнев, добиться ответа, как она могла быть столь вероломной. Но боялся вновь встретить ложь и сорвать намеченный Борецким план. Оставалось лгать самому… Делать вид, что все осталось по-прежнему, принужденно улыбаться… Нестерпимое лицемерие! Как только люди могут жить так целые годы! Целую жизнь!
И этот князь… Такой же лицемер. Что за план родится в его темной душе? И неужели стать теперь лишь слепым орудием этого плана? Ведь план Борецкого не будет честен, потому что бесчестен сам князь. Значит, опять умножение лжи? Умножение подлости? Нет, так не должно быть. На этот раз все будет по чести, по правде. Довольно сводящей с ума раздвоенности! Люди-оборотни с двумя душами, о которых рассказывали сказки старухи-странницы, оказывается, есть на самом деле. И им легко жить двумя жизнями! Но у простого моряка Безыменного жизнь одна. И душа одна. И поступит он так, как эта единственная душа велит.
В таком разброде, более походя на сомнамбулу, нежели на здравомыслящего человека, Сергей вышел на улицу среди ночи. Свежий ветер, долетавший с моря, немного освежил его. Помилуй Бог, из-за всей этой истории он уже столько времени не поднимался на свой корабль! И впервые был скуп на слова в письмах к Юлиньке, не смея и ей поведать наболевшее… Так не может продолжаться дольше. Иначе и впрямь можно повредиться рассудком. Двоедушная жизнь естественна для оборотней, но для обычных людей раздвоение души – это болезнь.
К черту князя с его планами… К черту Эжени… Сергей не будет больше ждать указаний и объяснений. Он сам положит конец этой истории. И лишь один человек нужен ему для этого…
А ночь – хороша! Светло как днем, благодаря неусыпной луне и мириадам звезд, усеявших небесный океан… Он, хорошо знавший астрономию, всегда любил смотреть на звезды, различать в их лабиринтах контуры знакомых созвездий. Но теперь не смотрели глаза на небо, а все-то – под ноги…
Вот и до центра города дошел – прояснело в голове от прогулки, и бодрость утраченная вернулась. Значит, верно курс взят. А верный курс и несгибаемая воля из самых грозных штормов выведут – и на море, и в жизни.
Заметив возвращавшийся откуда-то запоздно экипаж, Сергей остановил его. Хотя извозчик и его кобылка были уже немало утомлены, все ж удалось сговориться за тройную плату о поездке на окраину города.
– Только не взыщи, барин. Туда я тебя свезу, а обратно – как знаешь, – предупредил извозчик.
– Мне и нужно лишь в одну сторону, – ответил Сергей.
– Припозднился ты, барин, до крали-то своей!
Безыменный пропустил это замечание мимо ушей. Всю дорогу он чувствовал себя спокойно и уверенно, чего уже давно не бывало. До места, названного князем, добрались еще затемно. Заря только-только пробуждалась, окрашивая горизонт робкими лиловыми отсветами.
Отпустив извозчика, Сергей подошел к одинокому дому. Не рыбацкая лачуга, конечно, но все равно жилище весьма убогое. Всего один этаж, крыша кое-как покрыта… Кажется, что дом заброшен, и в нем нет ни души. Однако, князь не мог ошибиться.
Одно из окон было приоткрыто, и Безыменный решительно шагнул к нему. Отступать поздно. Дело должно решиться сегодня! Сергей открыл створки пошире, и легко проник в комнату. Луна как раз в это время скрылась за набежавшей тучей, и Безыменной на несколько мгновений замер, привыкая к темноте.
– А не кажется ли вам, сударь, что в дом гораздо удобнее входить через дверь, нежели через окно? – послышался ровный голос.
Сергей вздрогнул, и в тот же миг комнату осветил огонь вспыхнувшей спички. Спичку держала рука сидящего в глубоком кресле человека, лица которого невозможно было разглядеть. Человек зажег свечу, а затем поднес догорающую спичку к трубке, которую держал во рту.
– Вы?! – Безыменный изумленно отступил на шаг.
Перед ним сидел старик-»странник», который помог ему недавно, когда ему сделалось дурно на улице… Теперь он был одет совсем иначе. Белая шелковая сорочка, светлые панталоны, темно-зеленый бархатный халат… И эта трубка, украшенная затейливой резьбой, и дорогие перстни на руке… Только борода и длинные до плеч волосы, как ни странно, были теми же.
«Странник» зажег еще несколько свеч, и в комнате сделалось светло, как днем. Теперь Сергей мог ясно разглядеть его. Нет, он не стар еще… Смуглое лицо моложаво и было бы даже красиво, если бы не шрам и борода. Красивый изогнутый нос, умные, смотрящие прямо глаза… Глаза разных цветов – вот, дьявольщина!
– Полагаю, любезный Сергей Иванович, вы явились сюда в столь ранний час не с тем, чтобы поблагодарить меня за помощь? – вновь заговорил хозяин. – Вижу, вы уже совсем поправились. Рад этому.
– Вы – Курский? – тихо спросил Сергей.
– Во всяком случае, так меня часто называют последние четверть века.
– Значит, это не ваше настоящее имя…
– Для вас это имеет значение?
– Для меня, как оказалось, имеет значение все, что связано с вами!
– Не преувеличиваете. Скажите лучше, зачем вы пришли?
– Чтобы убить вас или погибнуть самому.
– Вот как? Боюсь, что вам не удастся ни то, ни другое. Видите ли, любезный Сергей Иванович, я дал слово Эжени, что мы оба останемся живы, – Курский чуть улыбнулся и склонил голову набок.
– Она ваша любовница, не так ли?!
– Какая пошлая банальность… Разочарую вас. Эжени всегда была моим бесценным другом, помощницей, но ничем иным. Может быть, вы все-таки желаете что-то еще? Кроме крови?
– Вы так уверены, что вам удастся сдержать слово? – спросил Безыменный, раздраженный насмешливым тоном Курского.
– А вы полагаете, что сможете принудить меня к обратному? Вы же благородный человек, а, стало быть, не станете стрелять в безоружного. Я же пистолета не возьму, так как в противном случае вы неизбежно умрете, чего бы мне не хотелось.
– Меня предупреждали, что вы прекрасный стрелок, – кивнул Сергей. – Я же напротив. Однако, в этой комнате есть другое оружие, – он указала на висевшие на стене сабли.
– Вам очень хочется размяться после болезни? Ну, что ж, попробуйте.
Безыменный снял со стены оба клинка и протянул один из них Курскому:
– Не желаете ли выйти из дома?
– Мне вполне удобно и здесь, – ответил тот, не выпуская изо рта трубку и задумчиво крутя в левой руке саблю.
– Вы левша?
– Можно сказать и так… Что ж, начинайте вашу игру, юноша. Я не буду вам ее портить.
– Позвольте, вы не сочтете должным даже подняться? – возмутился Сергей.
– А зачем? – пожал плечами Курский. – Мне вполне удобно в этом кресле. Нападайте же. Кто знает, может, вам удастся заставить меня встать?
Наглость этого человека переходила все меры. Он был настолько уверен в себе, что даже не считал нужным встать! Посмотрим же! Стрелком Сергей был посредственным, но в фехтовании слыл одним из лучших в корпусе.
Должно быть, со стороны выглядело нелепо, как в полутемной маленькой комнате молодой офицер с саблей бросается в атаку на сидящего перед ним в халате пожилого господина, но Безыменный был слишком разъярен, чтобы оценить ситуацию со стороны.
Его первую атаку Курский отбил с легкостью, даже как будто лениво. Так же произошло и со следующей. Противник не выпускал изо рта трубки, не менял своего положения, лишь левая рука с зажатым в ней клинком делала резкое и точное движение и отражала удар. Так продолжалось четверть часа.
– Вы не устали, Сергей Иванович? – осведомился Курский. – Вы ведь еще не совсем здоровы. Как бы ваша лихорадка не возобновилась. Эжени была бы очень рассержена на меня в этом случае.
– Оставьте ваши издевательства! Защищайтесь!
– Так ведь я и защищаюсь. Однако же, признаюсь, меня немного утомила эта мальчишеская забава, поэтому сейчас я покажу вам мою коронную защиту…
Что произошло дальше, Сергей толком не успел понять. Блеснула в отблесках свечей сабля Курского, и в тот же миг его собственный клинок отлетел в дальний угол комнаты. Безыменный хотел бросится за ним, но сабля противника преградила ему путь:
– Может, все-таки хватит ребячиться? Нападать на человека сразу, не удосужившись даже порядком свести знакомство – это глупо. Спрашиваю еще раз: желаете ли вы что-нибудь, кроме крови?
– Вы правы! Я желаю правды! – воскликнул Безыменный, чувствуя, что Курский при всей его наглости прав, а сам он неуместно распалился.
– А вот это желание мне нравится значительно больше. Но, выходит, вы не доверяете милейшему Владимиру Львовичу?
– С некоторых пор я не доверяю никому!
– И очень правильно делаете! – кивнул Курский. – Послушайте доброго совета, доверять нельзя никому.
– Вы смеетесь? Издеваетесь надо мной?
– Ничуть. Я вполне серьезен. Если вы пришли за правдой, то спрашивайте все, что желаете знать. Даю вам слово чести, что отвечу на них со всей откровенностью.
– Каково ваше настоящее имя?
– Меня зовут Виктор Половцев. Я дворянин и офицер. Верой и правдой служил моему Государю на полях сражений и за их пределами.
– Что же заставило вас оставить карьеру?
– Ложь. Меня обвинили в преступлении, которого я не совершал, люди, боявшиеся что я раскрою их замыслы… Я вынужден был бежать и начать новую жизнь под другим именем.
– И я должен верить вам, что вы не уголовный преступник?
– Мне? Разумеется, нет. Но Государю – безусловно, – Курский кивнул на стоявший рядом письменный стол. – Выдвиньте верхний ящик, в нем вы найдете гербовую бумагу с печатью – ознакомьтесь с нею.
Сергей шагнул к столу и, достав указанный документ, быстро прочел его. Бумага была заверена самим Императором! Безыменный утер выступившие на лбу капли пота. Этот человек, оказывается, имел покровителя в лице самого Царя… Но Государь не стал бы покровительствовать преступнику. Или он обманул и Государя?
– Что еще вы хотите узнать?
– Я хочу узнать, как Эжени помогла вам отправить на тот свет княгиню Борецкую, заменившую мне мать!
– Я не снимаю с себя вины за кончину княгини. Но разве моя вина больше, чем вина ее мужа и сыновей? Разве не они истерзали ее сердце своими безобразиями? Так отчего же вы обвиняете меня?
– Вы сделали так, что старый князь решил оставить семью, что он обезумел!
– Я лишь поставил на его пути искушение, прочее – следствие его собственной распущенности. Или же вы полагаете, что я с пистолетом у виска заставил его учинить тот неслыханный скандал? Что до Эжени, то ее и вовсе не в чем винить. Она была искренне привязана к княгине, утешала ее, как могла, облегчала ее страдания.
– И доносила вам обо всем, что происходило в доме!
– Да, это так. И в этом заключалась ее помощь мне.
– Она помогала вам в вашей мести… Но за что? За что вы так ненавидели Борецких?
– За то, что они отняли у меня все то, что я любил… Мой дом. Мою мать. И мою женщину! Ваш приятель князь Владимир с ведома отца подделал бумаги о том, что мой отец якобы не выплатил старому князю долг. По этой бумаге наше имение перешло в собственность Борецких. Моя мать не выдержала этого горя, ее сразил удар. А женщина, которую я любил… – рука Курского судорожно стиснула трубку. – Она была всего лишь крепостной, но я собирался жениться на ней вопреки всему. Я был под арестом, когда все произошло. Я ничего не знал и ничего не мог сделать…
– Что с ней случилось?
– Князь Михаил увез ее из нашего дома и держал у себя, взаперти, глумясь над ней вместе со своими мерзавцами-дружками. Она сошла с ума после этого! Слышите вы?! Я нашел ее годы спустя в сумасшедшем доме и, забрав оттуда, до самой ее смерти заботился о ней… Только Эжени могла смягчить ее страдания, успокоить ее… И после этого вы, сударь, будете обвинять меня в том, что я уничтожил этот проклятый род?! Да я бы уничтожил их еще тысячу раз…
Он не лгал ни единым словом. Сергей видел это по нервному тику, вдруг исказившему прежде насмешливое лицо Курского, по тому, как задрожала отбросившая трубку рука.
– У вас есть еще вопросы? – спросил он глухо.
Безыменный не отвечал. Он пытался представить себя на месте этого человека, потерявшего все по чьей-то злой и коварной прихоти. Нет, никакие деньги, никакая власть не сможет искупить этого… И всякая месть… оправдана… Если бы кто-то посягнул на Юлиньку… От одной мысли кровь ударяла в голову! А князь – знал ли, кто этот человек? Вполне возможно… Выходит, он просто использовал память о матери, чтобы сделать Сергея своим орудием? И все прочие его рассказы и обещания такая же ложь?
– Прощайте, Половцев… На прочие вопросы вы все равно не сможете дать мне ответы…
– Их смогу дать я, – послышался голос Эжени.
Взволнованная и бледная, она быстро переступила порог комнаты.
– Спектакль продолжается… – раздраженно бросил Курский. – С вашего позволения, Эжени, доигрываете его дуэтом. А меня достаточно утомили предыдущие акты, – он резко поднялся, но его помощница преградила ему путь:
– Я прошу вас остаться, Виктор, потому что то, что я скажу, касается вас в той же мере, что и Сережу.
– Что ж, коли вы о том просите…
– Вы только что рассказали Сергею о несчастной судьбе Маши…
– Оставьте это, Эжени!
– Но вы не рассказали всего!
– Чего же я не рассказал?
– Того, чего не знали сами, и что я должна была бы понять еще много лет назад.
– Говорите яснее. Вы прекрасно знаете, сколь тяжела для меня эта тема, – потребовал Виктор.
– Маша ждала ребенка…
– Черт возьми, Эжени, вам необходимо было вспомнить об этом?!
Сергей невольно зажмурился. Вот, сейчас и откроется, что он сын такого чудовища, как князь Михаил, плод не любви, а отвратительного преступления…
– Дайте же мне договорить, – взмолилась Эжени. – Вы считали, что то был плод насилия, и судьба его осталась неизвестна, но…
– Но?! – лицо Курского напряглось.
– Это был ваш сын, Виктор! Ваш!
– Боже… Что вы несете, Эжени… Вы сошли с ума?!
– И мальчик не умер и не исчез! Княгиня Борецкая, узнав о злодеянии сына, взяла ребенка на воспитание…
– Взяла на воспитание ребенка этого изверга! Причем здесь я?!
– Притом, что вы слепы, Виктор… – Эжени устало опустилась в кресло. – Взгляните на юношу, стоящего перед вами. Неужели он никого вам не напоминает? Еще когда он был мал, мне чудилось в нем что-то неуловимо знакомое. Но и я была слепа тогда…
– Нет, вы не тогда были слепы, а теперь – безумны! – взорвался Курский. – С меня довольно этих бредней! Слышите?! Довольно!
– Если вам недостаточно просто внимательно посмотреть на него, то попросите его расстегнуть мундир и сорочку… Сережа, сделайте это, прошу вас.
– Но зачем? – смутился Сергей.
– Когда вы лежали в лихорадке, а я ухаживала за вами, я впервые увидела родимое пятно на вашей груди. Виктор, посмотрите на него. И можете проклясть меня навеки, если у вас нет такого же. Когда-то я выходила вас от тяжелой раны. И я запомнила его…
Безыменный расстегнул мундир и сорочку. За окном уже поднималось солнце, и в его лучах нетрудно было рассмотреть то пятно, на которое указывала Эжени. Курский приблизился к Сергею и некоторое время пораженно смотрела на него, затем тряхнул головой:
– Нет, это невозможно! Невозможно!
– Это письмо Владимира Борецкого, – Эжени положила на стол вчетверо сложенный листок бумаги. – В нем он рассказывает о том, как его мать нашла рожденного Машей мальчика и взяла его на попечение. Михаил ничего об этом не знал. Как и старый князь. А Владимиру она рассказала всю правду, будучи слишком потрясенной злодеянием младшего сына.
– Она считала ребенка своим внуком… – вымолвил Курский, стиснув зубы. – И пыталась искупить грех своего выродка-сына…
– Разве это важно теперь? Княгиня спасла вашего сына, Виктор, которого в противном случае, возможно, не было бы теперь в живых. Или уж во всяком случае мы никогда бы не нашли его, не узнали о нем. Сережа! – обратилась Эжени к Безыменному. – Когда вы бредили, то вспоминали князя Борецкого, негодовали моему обману и пытались угадать, кто ваш отец… Из этого я поняла, что говорил вам Владимир Львович, поняла и вашу муку. Теперь вы можете быть спокойны. Вы сын прекрасного и достойнейшего человека, которого жестокость собственной судьбы подчас заставляла самого быть жестоким. Но вы не станете упрекать его за это, зная, что пришлось пережить ему и вашей несчастной матери. К тому же вы теперь сами знаете желание мести, с которым вы пришли в этот дом. Ваша мать была чистейшей и замечательной женщиной. Большая часть ее жизни была адом, но даже в этом аду, под гнетом безумия в глубине своего сердца она сохранила любовь к вашему отцу. И вы – плод большой и настоящей любви, пронесенной вашими родителями через всю жизнь.
Слезы катились по бледным щекам Эжени во все время этого монолога. Сергей же не находился, что сказать или сделать. Он не смел поднять глаз на человека, которого час тому назад хотел убить, и который теперь оказывался его отцом. А тот стоял перед ним, точно окаменев, и не сводил с него взгляда. Безыменному хотелось броситься на колени перед Эжени, просить у нее прощенья, целовать ее руки. Но под тяжелым взглядом Курского он и сам точно онемел, не решаясь что-либо сделать. Все произошедшее казалось ему невозможным, похожим на лихорадочный бред. Лежавшее на столе письмо Борецкого отчего-то не вызвало у него желания ознакомиться с ним. Не удостоил его своим вниманием и Курский. Для них обоих было довольно и даже избыточно того, что сказала Эжени…
Сергей, наконец, отважился осторожно взглянуть на Виктора. Теперь он вглядывался в его лицо совсем иначе, чем прежде. А ведь Эжени права… Этот продолговатый овал, этот нос и разрез глаз – все напоминало Безыменному собственные черты. Если бы не эта борода и шрам… Сколько раз в эти мучительные месяцы он сравнивал себя с тремя князьями Борецкими, ища схожесть черт и едва ли находя оное! Неужели все тайны раскрыты?
Эжени встала и, подойдя к Курскому, мягко взяла его за правую руку (только теперь Сергей догадался, что рука эта суха, и именно поэтому его недавний противник отбивался от назойливых атак левой…), склонила голову ему на плечо, сказала вкрадчиво:
– Виктор, очнитесь. Теперь все, действительно, кончилось. Перед вами ваш сын. Ваш и Маши сын… Сын, которым вы можете гордиться. Впереди у вас будет много времени, чтобы познакомиться друг с другом, навестить могилу Маши… И вы сможете сделать вашего сына счастливым и сами, наконец, быть счастливым его счастью. Скажите же ему что-нибудь.
И еще одно открытие сделал Сергей, поняв, как трепетно и преданно любит Эжени этого человека. Любит столько лет! И при этом остается лишь «бесценным другом и помощницей», которой не суждено занять места единственной женщины, которую он любил – несчастной матери Сергея…
От слов Эжени Курский словно бы оттаял. Провел рукой по ее плечу, прошептал по-французски:
– Merci pour tout, mon inestimable ami! Je n'ai jamais de vous rembourser pour ce que vous avez fait pour moi…
Голос его дрогнул, но он тотчас взял себя в руки и, вновь взглянув на растерянного Сергея, произнес:
– Моя жизнь, как уже сказала Эжени, весьма преувеличивающая мои добродетели, была очень жестока, а потому не судите строго мою теперешнюю суровость. Мне трудно сейчас же распахнуть вам объятья и назвать сыном. Думаю, впрочем, и вы не готовы броситься мне на шею… Я хотел бы, чтобы вы хотя бы на несколько дней поехали со мной в наш дом, где похоронена ваша мать. Там, я верю, мы смогли бы узнать друг друга лучше. Я знаю о вас, благодаря Эжени, весьма много. Ну, а вам еще очень многое предстоит обо мне узнать.
Безыменному было также сложно сразу назвать вчерашнего врага отцом.
– Через три дня я должен вернуться к службе, – неуверенно ответил он. – Конечно, я мог бы попросить…
– Не нужно никого просить, – прервал его Курский. – Служба есть служба. Через полчаса Благоя подаст нам завтрак. Через два часа мы покинем бухту Севастополя и сегодня же будем дома. А через три дня вы подниметесь на палубу своего корабля. Если, конечно, ваше здоровье не препятствует вам после нелегкой ночи уже теперь пуститься в путь.
– Мое здоровье сейчас лучше, чем когда бы то ни было! – воскликнул Сергей.
– Прекрасно, – кивнул Курский, опустив руку ему на плечо. – В таком случае отдохните полчаса, а я дам Благое необходимые распоряжения.
С этими словами он быстро вышел из комнаты. Эжени проводила его взглядом, затем подошла к опустившемуся на стул Сергею, крепко обняла его и, поцеловав в голову, сказала:
– Он полюбит вас, мой милый мальчик. И эта любовь, хотя бы отчасти исцелит его душу. Слава Богу! Иначе он погиб бы, запершись в своих горьких воспоминаниях, отвернувшись от жизни… Вы его спасение. А он – ваше. Он исполнит то, что до сего дня было для вас несбыточным. А я… Я буду бесконечно счастлива за вас обоих…
Глава 12.
«После благословений долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства.
Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшей по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей Богом вверенной России.
Но да не будет так!
По заветному примеру наших православных предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе с святой нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших.
Мы удостоверены, что всякий русский, всякий верноподданный наш, ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас: за веру, царя, и отечество и ныне предскажет нам путь к победе, и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем:
«С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!»«
Составление этого опубликованного теперь уже манифеста Николай сперва намеревался поручить барону Корфу, но, будучи до крайности разгневан европейской смутой, написал сам. Корфу же приказал отредактировать готовый текст, что тот и сделал на другой день, заметив лишь:
– Не позволите ли включить в Манифест хотя два слова о дворянстве: оно всегда окружало престол своей преданностью, и особенный призыв от вас польстит лучшему его чувству.
Дворянство… К чему такое подчеркивание в манифесте, обращенному к народу? Николай даже вымарал из черновика фразу «все государственные сословия», сочтя слово «сословие» в сложившихся обстоятельствах неуместным. Но дворянство всегда жаждет персональной лести!
– И где же ты полагал бы сказать о дворянстве?
Корф указал предлагаемое место. Николая трижды перечел его вслух, решительно покачал головой:
– Нет, право, и так очень хорошо; если упоминать отдельно о дворянстве, то прочие сословия могут огорчиться, а ведь это еще не последний Манифест. Вероятно, что за ним скоро будет и второй, уже настоящее воззвание, и тогда останется время обраться к дворянству, а теперь пусть будет, как есть.
Вот и дожил, доцарствовал до событий, которые почти двадцать лет прочил, производя впечатление слабоумного или одержимого навязчивой идеей маньяка. Король Луи-Филипп, бывший герцог Орлеанский взошел на трон в итоге революции 1830 года. Посаженный на престол мятежниками, он обречен был быть свергнутым ими же. Право избрания королей погубило Польшу, и должно было погубить Францию. Николай был уверен, что новый король французов не процарствует и двадцати лет. Те, которые возвели его на престол, возведут и другого. Принцип погиб. Николай предупреждал Карла Х об опасности, но тот не внял ему. В 30-м же он прямо и без ненавистных дипломатических тонкостей написал Луи-Филиппу о том, как расценил его воцарение и как видит перспективы оного… Как хорошо было бы ошибиться в этих предупреждениях! Николай вполне искренне желал блага Франции, желал, чтобы ее новый король смог удержать власть – слишком необходима была эта страна для европейского равновесия. Но уже само избрание герцога Орлеанского навсегда делало уязвимым его положение, как монарха.
Не более двадцати лет… Вот, и исполнилось пророчество! Комедия разыграна и окончательно довершена. 21 февраля Луи-Филипп отрекся от престола, а на другой день во Франции была провозглашена республика. Известие об этом событии омрачило бал у Наследника.
Пушкин предвидел этот исход также. «Это избрание короля совершилось благодаря 3-му сословию, главным образом буржуазии, – говорил он, – но придет время, когда и блузники захотят возвести на престол своего кандидата и возмутятся против министров буржуазии; за этим последует новая революция, это неизбежно! Сеймы и избрания погубили Польшу. Во Франции больше внутренней силы, она постоянно доказывала это с 1789 года, другая страна давно погибла бы. Но новая монархия порочна. Монархический принцип погиб во Франции, исчезла неприкосновенность этой власти и теперь, может быть, более, чем в 1791 году».
Без малого 11 лет, как нет Пушкина… Россия много потеряла, лишившись этого светлого ума. На счастье, новые голоса раздавались – с замечательно ясным пониманием происходящего. Четыре года назад Николай ознакомился с любопытнейшей статьей «Россия и Германия», в которой нашел все свои мысли. Статья была опубликована анонимно и принадлежала, как оказалось, перу дипломата и поэта Федора Тютчева. В ней, в частности, указывалось: «Из нынешнего состояния дел могут проистекать только три, единственно возможные теперь, исхода. Германия, верная союзница России, сохранит свое преобладание в центре Европы, или же это преобладание перейдет в руки Франции. И знаете ли вы, милостивый государь, что уготовило бы для вас это превосходство Франции? Оно означало бы если и не мгновенную смерть, то, по меньшей мере, несомненное истощение германских сил. Остается третий исход, вероятно наиболее желанный для некоторых людей: Германия в союзе с Францией против России… Увы, милостивый государь, такая комбинация была уже испробована в 1812 году и, как вам известно, имела мало успеха. Впрочем, я не думаю, что по прошествии минувших тридцати лет Германия была бы расположена принять условия существования нового Рейнского союза, поскольку всякий тесный альянс с Францией не может быть чем-либо иным для нее. А знаете ли вы, милостивый государь, что разумела делать Россия, когда, вмешавшись в борьбу двух начал, двух великих народностей, оспаривавших друг у друга в течение веков европейский Запад, решила ее в пользу Германии и германского начала? Она хотела раз и навсегда утвердить торжество права, исторической законности над революционным способом действия. Почему же она хотела этого? Потому что право, историческая законность – ее собственное основание, ее особое призвание, главное дело ее будущего, именно права она требует для себя и своих сторонников».
На балу 22 февраля Николай обещал командирам гвардейских полков, что за этих бездельников французов не будет пролито ни одной капли русской крови. Однако, тотчас устремил взор к берегам Рейна: если французы завяжут дело у себя и дадут немцам опомниться, то коммунисты и радикалы между последними легко могут, пожалуй, затеять что-нибудь подобное у себя. И ведь затеяли же! Революционный вал в считанные недели накрыл и Германию, и даже Вену, из которой вынужден был бежать Меттерних! Словно поддавшись неведомой эпидемии, народы один за другим погружались в смуту, и ее мрачный призрак становился все ближе к рубежам России. Медлить дольше было нельзя. Лучше остановить заразу у ворот своего дома, нежели когда она распространится в самих его стенах!
Перед этой угрозой, нависшей над Россией, даже недуги, донимавшие весь прошлый год, позабылись. Николай готов был хоть теперь сам вести свои войска в бой против смутьянов, желавших обрушить все общественные основы.
Тютчев, недреманным оком наблюдавший за нарастающей революционной стихией, писал, в самый корень зря: «Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества.
Факт такого противостояния всем сейчас бросается в глаза, однако отсутствие ума в нашем веке, отупевшем от рассудочных силлогизмов, таково, что нынешнее поколение, живя бок о бок со столь значительным фактом, весьма далеко от понимания его истинного характера и подлинных причин.
До сих пор объяснения ему искали в области сугубо политических идей; пытались определить различия в принципах чисто человеческого порядка. Нет, конечно, распря, разделяющая Революцию и Россию, совершенно иначе связана с более глубокими причинами, которые можно обобщить в двух словах.
Прежде всего Россия – христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. Революция же прежде всего – враг христианства. Антихристианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное свойство. Ее последовательно обновляемые формы и лозунги, даже насилия и преступления – все это частности и случайные подробности. А оживляет ее именно антихристианское начало, дающее ей также (нельзя не признать) столь грозную власть над миром. Кто этого не понимает, тот уже в течение шестидесяти лет присутствует на разыгрывающемся в мире спектакле в качестве слепого зрителя.
Человеческое я, желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не принимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним словом, человеческое я, заменяющее собой Бога, конечно же, не является чем-то новым среди людей; новым становится самовластие человеческого я, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся с его помощью овладеть обществом. Это новшество и получило в 1789 году имя Французской революции.
С того времени Революция во всех своих метаморфозах сохранила верность собственной природе и, видимо, никогда еще не ощущала себя столь сокровенно антихристианской, как в настоящую минуту, присвоив христианский лозунг: братство.
Тысячелетние предчувствия совсем не обманывают. У России, верующей страны, достанет веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своих судеб, не отступит перед своим призванием.
И когда еще призвание России было более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начертал его огненными стрелами на помраченных от бурь Небесах. Запад уходит со сцены, все рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре – Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ею же нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными руками…
И когда над столь громадным крушением мы видим еще более громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу, кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, ее детям, проявлять неверие и малодушие?..»
Может, и впрямь наступает тот исторический момент, к которому все двадцатидвухлетние царствование вело? И мятеж на Сенатской был лишь увертюрой? Предупреждением?.. И самим Богом ему, Николаю, уготовано выступить с крестом и мечом против антихристианских, революционных сил, обрушивших в хаос Запад и, вот, рвущихся в Россию, спасенную от них двадцать два года назад?
Давно не чувствовал Николай такой горячности в крови, такого боевого азарта. Когда бы ни недостаток финансов, который, в конце концов, остудил даже воинственного отца-командира, рвавшегося вести русскую армию в Европу на другой день после известия о падении Луи-Филиппа, то и впрямь следовало бы преподать урок всей этой революционной нечисти, навести порядок в европейском дому…
Но Европа Европою, а нельзя за нею и своих дел запустить. Война будоражит ум и горячит сердце, но дела мирные, все важнейшие начинания последних лет требовали сосредоточенной и неотступной работы. Иначе все прахом пойдет!
Лишь несколько месяцев назад удалось преодолеть еще один этап подготовки освобождения крестьян: Николай законодательно закрепил право крепостных выкупаться на свободу при продаже дворянских имений с публичного торга. Так, шаг за шагом приближалось то, что полагал он одной из главных задач своего правления. Но сколько же таких шагов еще впереди!
А просвещение народное? Общество Географическое основали, институты многочисленные. Будет ли толк с того? Тому ли выучатся юноши? Не оторвутся ли от родных корней в погоне за недосягаемыми звездами? Наук мало… Нужно христианское сознание и преданность Отечеству, нужно, чтобы русские люди выходили из этих заведений. Смогут ли наставники справиться с этой главной задачей?..
В таких размышлениях отправился Николай на собрание петербургского дворянства. О том, отставив дела военные, обратился к собравшимся депутатам – отцам семейств, от которых более, чем от любых наставников, будущность их чад зависела:
– Господа! Внешние враги нам неопасны; все меры приняты, и на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Войска, одушевленные чувством преданности к Престолу и Отечеству, готовы с восторгом встретить мечом нарушителей спокойствия. Из внутренних губерний я получил донесения самые удовлетворительные. Не далее как сегодня возвратились посланные мною туда два адъютанта мои, которые также свидетельствуют об искренней преданности и усердии к Престолу и Отечеству. Но в теперешних трудных обстоятельствах я вас прошу, господа, действовать единодушно. Забудем все неудовольствия, все неприятности одного к другому. Подайте между собою руку дружбы, как братья, как дети родного края, так, чтобы последняя рука дошла до меня, и тогда, под моею главою, будьте уверены, что никакая сила земная нас не потревожит.
В учебных заведениях дух вообще хорош, но прошу вас, родителей, братьев и родственников, наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей. Служите им сами примером благочестия и любви к Царю и Отечеству, направляйте их мысли к добру и, если заметите в них дурные наклонности, старайтесь мерами кротости и убеждением наставить их на прямую дорогу. По неопытности они могут быть вовлечены неблагонадежными людьми к вредным для общества и пагубным для них самих последствиям. Ваш долг, господа следить за ними!
Кивали отцы семейств, смотрели вдумчиво и преданно. Да, вот, только справятся ли с долгом своим? Уследят ли за чадами своими, чьи души так и норовят обольстить велеречивые искусители?..
Глава 13.
– Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр – не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей, – Федор перевел дух. Дыхание у него перехватывало от возбуждения, а глаза лихорадочно блестели, когда он читал это письмо. Письмо Белинского Гоголю… Виссарион Григорьевич был не на шутку разгневан недавно вышедшей книгой прежде любимого писателя. Книга эта, «Выбранные места из переписки с друзьями», являла собой собрание размышлений и поучений на разные темы русской жизни, проникнутых большой религиозностью. Проповедь в устах сатирика показалась многим противоестественной, мысли, высказанные им, несвоевременными, тон – непростительно нравоучительным. Гневались все – западники, социалисты, славянофилы. Уже вовсю честили Гоголя сумасшедшим. Андрей, однако же, слышал от отца с матерью самые высокие оценки «Переписки». Отец полагал, что русским писателям давно уже настала пора прямо говорить о предметах главнейших, выступать в роли древних израильских пророков. Последних, как известно, жестоковыйные израильтяне побивали камнями. То же случилось и с Гоголем. Сам Андрей, впрочем, не сделался поклонником «Выбранных мест». С назидательным тоном их автор явно перегнул палку. Все же не к детям-несмышленышам обращался. Один этот тон уже лишал многих способности до конца разобраться в сути. Тем не менее, злые нападки Белинского претили молодому инженеру.
– Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть, – продолжал с жаром читать Федор. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), – что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута треххвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами!.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные строки… И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться; или – не смею досказать моей мысли…
Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною… Что Вы подобное учение опираете на православную церковь – это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною, церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста…
А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? – Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится – молиться, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности.
Андрей поморщился. И с таким-то отношением к народу русскому люди желают вести его к просвещению, освобождать от тирании? Да ведь они этот народ хуже любого помещика презирают… И какая нужда была Федору читать подобный пасквиль?
Конечно, Достоевский весьма сблизился с Белинским после того досадного конфуза в салоне Вильегорского. Петербургские зубоскалы и друзья-литераторы, как и следовало ждать, тотчас раздули из этого случая анекдот и разнесли его повсюду. Федор сильно переживал из-за случившегося, а вокруг лишь подтрунивали над ним. И только Белинский, не жаловавший светских салонов, пожимал плечами:
– Ну и стоит из-за этого переживать!
Прочие смеялись прямо в глаза Федору. Особенно усердствовал Тургенев. Однажды в салоне Авдотьи Панаевой, любовницы Некрасова, приходившегося ближайшим другом ее мужу, Ивана Сергеевича спросили о здравии прелестной г-жи Виардо, с которой тот состоял в известной всем связи.
– О, это удивительная женщина! И такой невероятный талант! Мы виделись с нею весьма часто. Что и говорить, я не знаю женщины, которая могла бы сравниться с ней! – воскликнул Тургенев.
Авдотья Яковлевна хмыкнула.
– А как поживает господин Виардо? – ехидно полюбопытствовал ее муж.
– О, Полина не обращает на него никакого внимания! Его не существует для нее!
– Помилуйте, Иван Сергеевич, в прошлый раз вы утверждали, что это сущий тиран, что он распоряжается своей женой, как рабыней, и она боится его! Вы уж определитесь… Мне сдается, что вы чересчур идеализируете свою Полину…
– Быть может! Но я, по крайней мере, не имею привычки лишаться чувств при виде светских красавиц, – Тургенев обернулся к Достоевскому. – Вы уж осторожнее, Федор Михайлович! Если перед каждой падать будете, так чего доброго голову разобьете, и мы лишимся удовольствия читать про ваших бедных Макаров! Наша литература потеряет целого гения из-за чьих-то прекрасных глаз!
Вся компания дружно расхохоталась. Достоевский покраснел, вскочил с места и, ни слова не говоря, направился к двери.
– Ох, поглядите-ка, оскорбился! Гений! – крикнул ему вслед Иван Сергеевич. – Только, смотрите, не упадите в обморок, а то еще и Авдотью Яковлевну поставите в неловкое положение!
– Литературный кумирчик! – подхватил Панаев.
Достоевский покинул салон почти бегом.
Белинский, наблюдавший эту сцену, подошел к Тургеневу и, пронизывая своими выпуклыми голубыми глазами, выговорил:
– Зачем это вы, Иван Сергеевич, больного человека подзадориваете?
– А пусть не считает себя гением! – фыркнул Тургенев.
Виссарион Григорьевич только развел руками. Вакханалия на этом не окончилась. Тургенев и Панаев распространили по столице сочиненную Иваном Сергеевичем эпиграмму, из которой в обществе дам можно было привести лишь отрывок вследствие чрезмерной непристойности остальной части:
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ…
Друзья-литераторы дошли даже до того, что стали высмеивать и страшную болезнь Достоевского, которую тот столь старательно пытался скрывать. Ответить на такое бездушное издевательство Федор не умел… Все это привело к его разрыву с «Современником».
– Отчего, отчего вдруг такая перемена? – вопрошал Достоевский, совершенно раздавленный подобной травлей. – Отчего еще вчера они были так добры ко мне, так любезны и предупредительны, а теперь норовят уничтожить меня, уколоть побольнее, растоптать?.. Неужели всему виной этот глупый случай?! Нет, не может быть… Тут большее. Обморок – что? Лишь повод… А причина? Или все их слова, их дружба, их объятия были лицемерием? Нет, быть того не может! Не верю! Ведь все они честные, хорошие люди… Ведь как пишут они! Как радеют о человеколюбии! Сколько слез пролито ими над судьбами несчастных их героев… Разве могут люди, умеющие так писать, так чувствовать, быть жестоки? А если… Если и человеколюбие их – обман? Если то, что пишут они – лишь игра, маскарад?.. А слезы их – всего лишь чернильные слезы? Не верю! Не верю! А Николай Алексеевич? Как он прибежал тогда ночью! Ведь он сам, сам столько пережил, столько перестрадал… Как же он может с такою легкостью теперь причинять страдание другому человеку без всякой к нему жалости?! Необъяснимо! А если все-таки маскарад?.. Тогда в их маскараде отведена мне жалкая роль – роль шута, объекта для их насмешек… Приблизили, чтобы растоптать затем… Нет, этой роли не хочу я! Увольте! Но неужели же все ложь в них? Быть того не может! И отчего именно меня выбрали они мишенью? Или почувствовали, что не найдусь я, что ответить? Не сумею дать им отпор, защититься?.. Но откуда же столько безжалостности в них?..
Что мог ответить на это Андрей? Он, как мог, успокаивал друга, советовал не обращать внимания на издевки бессовестных, глупых и завистливых людей.
– Противно, конечно. Нет слов, как противно. Но черта ли тебе до этих мизераблей? Живи, работай, твори – неужели стоит тратить время и здоровье на эту стаю гиен, щеголяющих собственным бесстыдством? Напиши лучше что-нибудь новое и стоящее – это будет для них лучшим ответом.
Увы, лучший ответ был принят критикой в штыки. Повесть «Двойник» пришлась не по душе даже Виссариону Григорьевичу. А, впрочем, насколько еще интересовала этого маститого критика сама литература? Стремительно приближаясь к своему концу, он все больше сосредотачивался на идейной борьбе, на своей догме. И Федора желал, во что бы то ни стало, обратить в свою «веру». Однажды Андрей стал свидетелем спора Достоевского с Белинским.
– Да, послушайте же вы, наивный вы человек, послушайте и уразумейте: в наше время и в нашем обществе нет и быть не должно никакого иного идеала, кроме социалистического! – кричал, не щадя больных легких критик, сверкая своими выразительными глазами. – Так уразумейте же – социализм, вот что грядет, вот что совершается на земле, вот истинно дело Божие. Социализм ныне – идея идей, альфа и омега, и вера, и знания. Попомните – настанет день, придет время, когда никого не будут жечь, когда преступник как милости будет молить себе казни, и не будет ему казни, но сама жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть… И не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но все люди на земле будут братья, и Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над обновленною землею!
– Да какой же вы атеист, вы-то, может быть, и есть самый что ни на есть истинный христианин, только вот… – начал Достоевский.
– Я социалист и верую в единственное – в социализм, а не во Христа, как вы… А ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком…
– Ну нет! – подал голос кто-то из присутствующих. – Он бы примкнул к движению и стал во главе его!
– Ну да, ну да, – кивнул критик. – Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.
– И все-таки, Виссарион Григорьевич, вы напрасно так… Христос…
– Да оставьте вы Христа, наконец! – вскрикнул Белинский раздраженно. – Вот, скажите мне, глупый вы человек, что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими ближними во Христе, но кто – мне чужие и враги по своему невежеству?! Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч!
– Но каким же образом, отняв у народа Христа, вы желаете приблизить его к вашему идеалу? – недоумевал Федор.
– Через социальность, конечно! Социальность или смерть – вот, мой девиз! Нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью!
Последние слова критика покоробили Достоевского, и он спросил:
– Но возможно ли силой заставить человека быть счастливым? Можно ли ценой пролитой крови сделать людей счастливыми? Неужели вы полагаете, что можно проливать кровь во имя вашей идеи и призрачного всеобщего счастья?
Глаза Белинского загорелись. Прерывисто дыша, он отозвался охрипшим голосом:
– Полагаю! Потому что счастье это – вовсе не призрачное. И во имя его можно проливать кровь тех, кто мешает ему! Да и что, наконец, такое кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов?!..
Надрывный кашель прервал речь неистового Виссариона. Он поднес ко рту испачканный кровью платок и тяжело опустился в кресло. Вошедшая свояченица принесла ему воды, но он лишь замахал на нее руками, чтобы она ушла…
– Ужасно глупая баба… Впрочем, как и ее сестра… – едва слышно сказал критик, утирая рукавом выступившую на лбу испарину.
Отдышавшись, он взял со стола свежий номер «Отечественных записок», где появилась статья Валериана Майкова, занявшего в журнале место Белинского, с такой характеристикой творчества Достоевского: «Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский по преимуществу психологический…».
– Вот, батенька, хвалит вас г-н Майков! Довольны, поди? – с усмешкой обратился он к Федору. – И напрасно! Похвала глупого человека хуже ругани умного.
– Виссарион Григорьевич, да ведь Валериан Николаевич наш, социалист! – заметил один из единомышленников Белинского.
– Дурак он, а не социалист! – заявил критик, задыхаясь и не отнимая от губ платка. – Вы послушайте, послушайте, что он изволит писать! «Свобода – не имеет отечества!» Вот ведь к чему эти абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве хотят приучить наше сознание! Ежели ты патриот, стало быть, ты не гуманен, не цивилизован, не просвещен – не дорос! Одним словом, варвар! А знаете ли вы, что сегодня отрицать национальность – это и значит быть ретроградом и повторять европейские зады? Да, мы долго восхищались всем европейским без разбору только потому, что оно европейское, а не наше, русское, доморощенное. Настало время для России развиваться самобытно, из самой себя. В нас сильна национальная жизнь, и мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль. Народ без национальности, что человек без личности, запомните это, батенька, и хорошенько запомните, если хотите стать всемирным писателем, потому что все великие люди – это прежде всего дети своей страны. Великий человек – всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собой свой народ. И вопреки абстрактным человеколюбцам, космополитическим гуманистам, для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он не может быть великим…
В чем-то «неистовый Виссарион» был прекрасен. Горячность его речей, его искренняя убежденность увлекала даже тогда, когда согласиться с ним было невозможно. Он и впрямь любил Россию, хотя и очень по-своему. В последние свои дни Белинский часто ходил смотреть на строительство Николаевского вокзала, радуясь, что в России начали строиться железные дороги. Он был противником самодержавия, но его природный вкус и чувство достоинства отвратили его от бунтаря и пьяницы Шевченки, когда тот вздумал написать похабные вирши об Императрице. Виссарион Григорьевич всегда поддержал бы идейное обличение, но непотребные хамские выпады, к тому же в адрес женщины не спустил наглому хохлу. Изругал прежестоко и, кажется, единственный раз оказался солидарен с Императором. Он был нищ всю свою жизнь и мог рассчитывать лишь на самого себя. Его жена и дети остались в бедственном положении, а самого критика хоронили на деньги друзей.
Уход Белинского Федор переживал столь болезненно, что слег с очередным припадком. И, вот, теперь это письмо… И то, с чем Достоевский не мог согласиться при жизни Виссариона Григорьевича, теперь читал он с такой страстью, будто то были его собственные убеждения.
На пятницу Петрашевского Андрей пришел впервые. Он знал, что Достоевский уже давно посещает собрания этого кружка, и, с детства имея привычку судить о чем-либо, лишь увидев и потрогав, решил составить мнение о данном обществе лично.
Михаил Васильевич Петрашевский отличался большой экстравагантностью. Он носил широкий плащ альмавиву и цилиндр с четырехугольными полями, всячески привлекал к себе публику запусками фейерверков и раздачей брошюр и произносил вдохновенные речи. Однажды он явился в храм, одетый в женское платье, но плохо спрятал свою черную бороду. Подошедший квартальный обратился к бородатой прихожанке:
– Мне кажется, милостивая государыня, что вы переодетый мужчина.
– А мне кажется, милостивый государь, что вы переодетая женщина! – ответил Петрашевский, выбежал из храма, и, вскочив в карету, уехал.
На пятницах помимо Достоевского, бывали Аполлон Майков и Плещеев, поэт Сергей Дуров и молодой необычайно мрачный чиновник, начинающий литератор – Михаил Салтыков… Строили планы переустройства России, обсуждали различные системы (в кружке было много фурьеристов), спорили… И все стремились к действию! Вот, и теперь, после чтения письма Белинского закипело все. Спорили, требовали, доказывали и рвались хоть теперь менять порядки в России. Да что там в России! В целом мире!
Андрей сидел в самом дальнем углу и молчал. Все это крикливое сборище казалось ему довольно забавным, и он наблюдал за развивавшейся дискуссией, как за театральным представлением. В то же время чувство смутной тревоги не покидало молодого Никольского. Слишком смелые и резкие речи здесь говорились. Найдись среди посетителей пятниц один доносчик, и вся эта компания немедленно оказалась бы под судом. Тем более теперь, когда Европа охвачена революциями, а Государь полон решимости повсеместной борьбы с этой заразой!
Как раз о европейских событиях вспомнил в этот миг Федор:
– На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная! Трещит и сокрушается вековой порядок вещей! Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть! Такое зрелище – урок! Я считаю, что этот кризис исторически необходим в жизни народа как состояние переходное, но которое, может быть, поведет, наконец, за собой лучшее время!
– Знаменитые дела ныне весьма редки не потому, что люди, способные к ним, стали редки, а потому, что неспособные не пускают способных к тем местам, на которых делать такие дела можно, – задумчиво заметил поэт Александр Пальм.
– И в литературе, и в науке то же самое! – подхватили несколько голосов.
– Царь наш вовсе не любит родных сынов Отечества!
– Немцы ни за что не допустят русских ни к какому делу!
– Политические вопросы меня слишком мало занимают, – снова вступил Достоевский. – Я не верю в полезность игры в старые политические формы!
– Во что ж верите?
– Освобождение крестьян, несомненно, будет первым шагом к нашей великой будущности! Нужно не надеяться, а делать что-то, чтобы Царь понял, наконец, что народ – его дети, но взрослые уже дети, достойные свободы. В иной путь я не верю!
– Ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание?
– Так хотя бы через восстание! – воскликнул Федор Михайлович.
Андрей готов был схватиться за голову. Один донос – и Сибирь! Каторга! Понимает ли этот несчастный, что не всякую глупую мысль стоит провозглашать в обществе, в которое может прийти любой человек со двора?! А прочие понимали ли? Вот, уже поляк Ястржембский кричал согласно:
– Да, да! Французы, немцы и прочие нехристи свободны, а русский православный народ в рабстве!
А Петрашевский морщился… Он-то в отличие от покойного Белинского нацию считал помехой в «деле». Обругал бы его Виссарион Григорьевич дураком и был бы прав.
– Чем на низшей ступени своего нравственного, политического или религиозного развития стоит народ, тем резче выказывается его национальность. Только развиваясь, то есть утрачивая свои религиозные признаки, нация может достичь высоты космополитического развития. Россию и русских в этом смысле ждет высокая, великая будущность. Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование, а кончит его вся земля! – таково было резюме Михаила Васильевича.
Ах, какая жалось, что Белинского нет на этом собрании! Вот уж кто объяснил бы «бородатой даме», кто он таков. В кой-то веке и о «неистовом Виссарионе» пожалеешь, глядя на такую шантрапу. А здесь и спорить с Петрашевским порядочно некому. Мальчишки… Витают в пустых мечтах, не имея почвы под ногами, не зная порядком народа, не имея серьезного дела в руках. Восстание! Были уже одни такие радетели о счастье народном – и не чета этим, сплошь боевые офицеры, прошедшие войну. И чем кончилось?
Собрание завершилось, и Андрей поехал с Федором на его квартиру. Достоевский был весьма возбужден только что имевшей место дискуссией.
– Никольский, у меня к тебе важное дело, – шепнул, выходя на улицу. – Свободен ли ты теперь?
Андрей был свободен, а вдобавок считал своим долгом предупредить друга об опасности, коей он себя подвергает. Бессмысленно, конечно, все равно упрямый этот человек сделает по-своему, но смолчать никак нельзя.
За чаем Федор заговорил первым.
– Ты, конечно, уже понял, что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может, – начал он, понизив голос. – А потому из его кружка несколько серьезных людей решили выделиться и образовать особое, тайное общество, с тайной типографией для печатания разных книг и даже журнала. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я. Хочешь ли вступать в это общество восьмым?
– С какой же целью? – осведомился Никольский.
– Конечно, с целью произвести переворот в России!
Андрей поперхнулся и едва не обжег кипятком пальцы.
– Ты сошел с ума? – воскликнул он. – Моя семья всегда была верна престолу! И даже если мне что-то не нравится в существующих порядках, я никогда не восстану против моего Государя!
Федор кивнул:
– Да… я так и думал, что ты именно это ответишь. Я, наверное, не должен был тебе этого предлагать. Полагаю, не нужно говорить, что об этом – ни слова?
– Само собою, – отозвался Андрей. – Однако, вам-то, тебе-то зачем это нужно? Ведь это же все шарлатанство чистой воды! А Петрашевский твой совершеннейший подлец! Для чего же к нему столько народу ходит? Зачем тебе это нужно?
Достоевский вздохнул, отхлебнув горячего чаю, ответил:
– Сам я бываю оттого, что у Петрашевского встречаю и хороших людей, которые у других знакомых не бывают. А народу много у него собирается потому, что у него тепло и свободно. Притом он всегда предлагает ужин. Наконец, у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности, когда выпьет рюмочку винца; а его Петрашевский тоже дает, правда, кислое и скверное, но все-таки дает. Ну, вот к нему и ходит всякий народ…
– Именно, что всякий народ! Бездельники ходят! Шантрапа! Уголья горячие на свои головы собирают! Кто поручится, что среди всякого этого народа не найдется доносчика? Ведь это же государственное преступление, Достоевский! Послушай ты хоть раз доброго совета: не нужно тебе на эти сборища ходить! И на другие, о которых ты сказал, также!
– Может быть, ты и прав… – рассеянно произнес Федор. – Эх, тяжко мне отчего-то, скверно на душе…
– Что ж, бывает. Это пройдет!
– Нет, не пройдет, – мотнул головой Достоевский. – И долго будет мучить меня… Я у Спешнева деньги взял… Понимаешь ли? Пятьсот рублей серебром… Так что я теперь с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уж он человек… – Достоевский безнадежно махнул рукой. – Понимаешь ли ты, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель!
Понимал Андрей, что дело скверно, но оно сквернее скверного было… Спешнев! Вот, оно значит, что! Об этом человеке Федор прежде отзывался крайне скупо, отмечая лишь, что «этот барин не чета Петрашевскому». Дворянин, богач, красавец, имевший магнетическую силу над женскими сердцами, коммунист – таков был Спешнев. Именно этот таинственный аристократ, недавно возвратившийся из Европы, решил отбить у Петрашевского часть его «паствы», посулив горячим головам настоящее дело вместо праздной демагогии «пятниц»…
Мефистофель? Да нет, это не Мефистофель. А очередной сходящий с ума от скуки подлец, которому иные развлечения стали казаться пресными, и он нашел себе новое – восстание! Таких господ и впрямь следует в кандалы заковывать да на рудники сибирские отсылать – скука-то да развеется. А, вот, соблазненных ими – жаль до скрежета зубовного! Вон, у Федора глаза загораются, когда он о Спешневе говорит! Как завороженный, готов идти за ним!
– Помилуй, зачем тебе понадобилось брать у него деньги? – спросил Андрей. – Ты мог бы попросить меня – я бы помог тебе!
– Спасибо, Никольский. Но я и без того уже слишком многим тебе обязан, слишком много должен тебе.
– Брось! – воскликнул Андрей. – Если хочешь, мы теперь же отдадим долг твоему Мефистофилю! А потом ты на время переедешь к нам. Сколько уж раз мы с сестрой приглашали тебя погостить! Да и матушка… Ты бы, наконец, смог спокойно работать, и дела бы твои поправились, и…
– Довольно-довольно, – Федор виновато улыбнулся, покачал головой. – Ты слишком добр ко мне, как и твоя сестра. А денег назад Спешнев не возьмет. У меня теперь перед ним иной долг.
– Дело твое, но позволь тебе заметить, что ты выдумываешь вздор, – ответил Никольский.
Ему, наконец, надоели эти бесполезные уговоры и бесполезные попытки помочь. Талантливый человек и прекрасной души, и неглуп весьма, но без царя в голове, и при том упрям, как тысяча ослов! Любую возможность устроить дела умудряется отвергнуть, а в любой глупости, как эта нынешняя дурная игра с Мефистофелем, усерден, как никто! И что поделать с ним? Невозможно помочь тому, кто сам не желает помощи, не желает помочь себе. Подобное бесплодное занятие не приводит ни к чему, кроме раздражения собственных нервов и опустошению собственной души. Довольно же! Пусть поступает, как считает нужным. Один стержень все же есть у этого прекрасного и нелепого человека – Христос. Доселе, вращаясь среди отвергнувших Его и глумящихся над Ним, он не утратил своей веры. Коли не утратит и впредь, соблазнясь письмами навроде того, что читал нынче с таким вдохновением, так, может, и выйдет еще на дорогу верную. Но только – сам. Не из тех он людей, что чужим опытом и советами жить может. Он свои шишки, свои раны тяжкие получить должен, своим страданием до самой сути дойти…
– Прощай, Достоевский. Если все-таки передумаешь или какая помощь нужна будет, то я всегда твой друг.
Расцеловались на прощанье – словно бы один из них в дальнюю дорогу собирался. А всего-навсего пути разошлись…
Глава 14.
В ту ночь, когда Эжени возвратила ему сына, он не тотчас поверил ей. Глазам, доводам рассудка, столь преобладавшим в нем над всеми прочими чувствами – поверил. Нельзя не поверить очевидности. Но сердце сопротивлялось. Сердце, привыкшее жить во мраке, оградившись ото всего прочным панцирем, точно боялось неожиданно блеснувшего луча солнца, боялось снять кирасу и вновь биться, чувствовать, жить…
Три дня мальчик жил в его доме. Вместе с ним поднимался в башню и спускался в склеп, на могилу матери, петлял по горным тропинкам, разделял шахматные партии… Виктор рассказывал ему о Маше, о своей такой трудной и необычайной жизни, о странствиях… Не рассказывал лишь – о мести. Об этом адском пламени и людях, им порожденных, не хотелось говорить. Впрочем, они напомнили о себе сами. В последний раз… По возвращении в Севастополь узналось, что шхуна, отплывшая от его берегов три дня назад, попала в жестокий шторм и затонула. Кое-кто из бывших на борту смог спастись и был подобран другими судами. Некоторым повезло меньше…
– Это судьба, – прошептала Эжени, прочитав в списках фамилию, под которой жил последние годы князь Владимир Борецкий. – Мне отмщенье, аз воздам…
Судьба… Он хотел убить этого законченного подлеца. И лишь не находил способа. Не ножом же ударить из-за угла! И дуэль – невозможна… Его изворотливый ум вновь изобретал ловушку, смертельный капкан для врага. А Эжени решила врага спасти. Пожертвовав целым состоянием! И что же? Вместе с этим состоянием мерзавец упокоился на морском дне. Теперь игра, действительно, закончена. Но как же сложно привыкнуть к новой жизни…
В те три дня мальчик также рассказывал о себе. Точнее, больше не о себе, а о своих морских походах, о любимой «Силистрии», о Павле Степановиче и… Как же сияли его глаза, когда он говорил о ней! О Юлиньке, дочери Никиты Васильевича… В такие моменты Виктор особенно узнавал в Сергее себя. Когда-то он был таким же. Чистым, исполненным благородных стремлений, влюбленным…
– Твой выбор хорош. Даже превосходен. Никита Васильевич – один из лучших людей, кои мне известны. Равно как и его супруга. Твою прекрасную наяду я, правда, не видел, но не сомневаюсь, что она ровно так хороша, как ты ее описываешь. Она будет тебе прекрасной женой.
– Ее отец не согласится на наш брак, – покачал головой Сергей.
– С лейтенантом Безыменным – несомненно. А с отпрыском старинного дворянского рода Половцевых, верой и правдой служившего Отечеству, наследником многомиллионного состояния – отчего же нет? Полагаю, рад будет счастье дочери устроить.
– Значит вы?.. – мальчик осекся от волнения, а Виктор кивнул:
– Государь давно предлагал мне вернуть мое имя, восстановить меня в правах, но я не стремился к этому. Я жил лишь местью, будущего у моего имени не было все равно… Теперь ты – будущее. А, значит, наше имя должно возродиться. Я сам сделаюсь твоим сватом. Иногда, – он чуть улыбнулся, – эта роль удавалась мне неплохо.
При этих словах мальчик порывисто схватил его руку и поднес к губам. Сердце Виктора дрогнуло, ком подкатил к горлу. Погладив сына по голове, он вздохнул:
– Я не был счастлив в этой жизни. Постарайся же ты наверстать то счастье, что когда-то было отнято у меня.
Виктор всегда держал свое слово. Оставив дом на попечение Эжени, он вместе с верным Благоей отправился в Петербург, который уже не ждал увидеть вновь. Явиться в Зимний, пусть даже и с черного хода, в образе дервиша, было бы явным моветоном. Поэтому Виктор потратил немало времени, вновь превращаясь из затворника в дворянина. Окладистую бороду сменили пышные бакенбарды и усы, волосы также обрели подобающую в порядочном обществе длину. Одежду странника сменил темно-коричневый сюртук, жилет, накрахмаленная сорочка – словом, платье истинного джентльмена, знающего толк в европейской моде. Цилиндр… Перчатки… Трость… Трость, конечно же, не простая – любимая, неизменная, таящая в себе, подобно смертоносному жалу, острый клинок.
В Зимний, однако, Виктор не отправился даже в этом расфранченном виде. Восстановленный после пожара дворец был недостаточно знаком ему, а потому он решил дождаться Государя во время его прогулки. Многое менялось в Империи в эти годы, но неизменными оставались привычки живущего по строгому уставу Самодержца. Виктор давно не видел своего венценосного покровителя и сразу заметил, что тот выглядит усталым. Его статная фигура немного раздобрела, не утратив, впрочем, прежней величественной осанки, под глазами набрякли мешки. Стратонов писал, что Государь в последние годы часто болел, в минувшем году страдал от водянки. А ведь этот по виду богатырь лишь недавно перешагнул полувековой рубеж. Тяжел Мономахов венец…
Виктор приблизился к Николаю и низко поклонился ему:
– Ваше Величество удостоит несколькими минутами своего верного слугу?
– Половцев, тебя ли я вижу? – удивился Государь.
– Не ожидал, что Ваше Величество сразу меня узнает.
– Друг мой, ты не столь состарился, а я еще не утратил памяти, чтобы тебя не узнать. Какими судьбами ты в столице? Надеюсь, ты не собираешься «порадовать» меня известием о каком-нибудь заговоре? Мне, клянусь, хватает бунтовщиков европейских.
– Отнюдь, на сей раз я пришел просить вас о милости для себя.
Николай остановился и с любопытством посмотрел на Виктора:
– О милости? Для себя? И что же ты желаешь? Кажется, все твои ненавистники уже упокоились в могилах…
– Ваше Величество некогда предлагали мне возвратить мое имя.
– Помилуй Бог! Не прошло и четверти века, как ты решился взяться за ум и стать, наконец, самим собой?
– Я нашел своего сына, Ваше Величество. И мой долг – завещать ему незапятнанное имя.
– Сына? У тебя есть сын?
– Как оказалось, есть. Он уже совершенно взрослый и достойный молодой человек, служащий Вашему Величеству на флоте Черноморском.
– Так он моряк?
– Старший лейтенант и на хорошем счету. По-видимому, скоро получит чин капитана.
– Значит, унаследовал твою доблесть. От всего сердца поздравляю тебя, Половцев! – Николай опустил обе руки на плечи Виктора. – Ты мне нынче немалую радость доставил такой вестью. Стало быть, ты желаешь признать этого юношу и дать ему родовое имя?
– Если Ваше Величество не будет возрождать против этого.
Император улыбнулся:
– Возражать мне против того, на чем я сам настаивал? Друг мой, у меня много недостатков, но я всегда себе верен. Твое имя честно, и с твоей стороны было глупо и даже дурно пренебрегать им. И я рад, что ты сам, наконец, это понял. Мы сделаем объявление, удостоверяющее твою личность, твою честность и верную службу Престолу. Что касается твоего имения, что, вероятно, не раз уже было перепродано…
– Бог с вами, Государь, я ничего не прошу, кроме моего имени. Если я захочу возвратить свой дом, то, поверьте, мне не составит труда выкупить его. Но этого я не хочу. Слишком много горьких воспоминаний связано у меня с тем местом…
– Понимаю тебя. Что ж, не тревожься. Можешь считать, что твое имя уже возвращено тебе. И верю, что твой сын не уронит его чести, служа мне столь же верно, как и ты.
– Так и будет, Ваше Величество, – отозвался Виктор с поклоном.
Ждать исполнения Государева обещания пришлось недолго. Очень скоро вышел именной рескрипт, в котором сообщалось о восстановлении в правах Виктора Половцева, в отношении которого, как было установлено, был допущен подлый оговор. В рескрипте также говорилось, что оный Половцев, исполняя под чужим именем важную для Престола службу, неоднократно явил свою верность и отвагу. За упомянутую службу Половцев награждался орденом Святого Владимира.
Настало время навестить будущую родню. Виктор был много наслышан о семействе Никольских от своего друга Стратонова, но судьба ни разу не сводила его с Никитой Васильевичем лично. Теперь он приехал к нему домой, как обычный посетитель, и попросил лакея доложить барину, что Виктор Илларионович Половцев просит принять его. Менее чем через четверть часа он уже переступал порог кабинета Никольского.
Никита Васильевич, круглый, как шар, заметно страдал от установившегося зноя, но это не уменьшало его деловитости. Стол его был завален всевозможными документами, письмами и книгами, разложенными в строгом порядке в соответствии с их предметом, и можно было лишь подивиться, как этот человек столь проворно ориентируется в таком обилии бумаг, как успевает справиться с таким объемом работы. И нетрудно было догадаться, что совсем некстати ему неведомые посетители…
– Прошу извинить меня, Ваше превосходительство, что позволил себе отвлечь вас от ваших трудов.
– Не стоит извиняться, господин Половцев. Признаюсь, я несколько озадачен вашим визитом. На днях ваше имя было у многих на устах при дворе.
– Ах, да, рескрипт…
– Все гадают, кто вы, откуда, и в чем состояла ваша служба.
– И вы также пытаетесь угадать?
– В настоящий момент, я более любопытствую, чем могу быть вам полезен.
– Очень многим, – отозвался Виктор. – Но для начала скажу, что заочно мы с вами знакомы. По крайней мере, я хорошо знаю вас, благодаря нашему общему другу генералу Стратонову.
– Вы близкий друг Юрия? – чуть удивился Никольский.
– С юных лет.
– Постойте… – Никита Васильевич нахмурился. – Кажется, я припоминаю… Когда-то он рассказывал мне о вас. О том, что его друг был оклеветан и погиб… Так, стало быть, это вы?
– Я. Позже он вряд ли что-то говорил вам обо мне, так как был связан словом. Однако, более десяти лет назад мы даже мельком виделись с вами, когда мы с мадмуазель Эжени привезли в ваш дом раненого на дуэли Юрия…
Никольский снял очки и некоторое время смотрел на Виктора:
– Да, теперь я припоминаю и это. Если я не ошибаюсь, в то время вы носили фамилию Курский?
– В то время у меня было много имен, но это уже неважно. Я не стану отнимать у вас время воспоминаниями. Я счел должным немного пояснить вам свою личность, так как мое дело к вам носит сугубо личный характер.
– Чем же я могу вам служить?
– В вашей власти сделать счастливым моего единственного сына, а, значит, и меня.
– Каким же образом?
– Согласившись на его брак с той, кого он безмерно любит, и кто столь же безмерно любит его.
Никита Васильевич отпил несколько глотков воды, спросил с недоумением:
– Господин Половцев, не могли бы вы говорить яснее?
– Извольте. Вот, уже несколько лет ваша дочь Юлия и мой сын Сергей, доселе вынужденный носить фамилию Безыменный, любят друг друга и мечтают соединиться. Но неопределенность положения моего сына, виной которого невольно был я, препятствовала этому союзу. Ныне же препятствие сие устранено милостью Государя, и я поспешил к вам просить руки вашей дочери.
Никольский тяжело поднялся из-за стола, прошелся по кабинету, собираясь с мыслями.
– Постойте-постойте… Вы говорите, что моя Юлинька любит вашего сына? Но этого не может быть! Я ничего не знаю об этом…
– Разумеется. Не могла же она, любя и уважая отца, представить ему в качестве избранника безродного…
Никита Васильевич с подозрением посмотрел на Виктора. Тот понял этот взгляд и улыбнулся:
– Понимаю, у вас закралась мысль, не сумасшедший ли я. Нет, я не сумасшедший. Вспомните, скольким женихам отказала ваша дочь за эти годы. Неужели вы полагаете, что она делала это без причины?
– Да… Даже Петруша Стратонов получил от ворот поворот… – согласился сбитый с толку Никольский. – Вот оно значит что… Значит, в этом доме от меня уже появились тайны… – он покачал головой. – Все же ваше заявление слишком… неожиданно!
– Юлия Никитична теперь дома, если я не ошибаюсь. Вы можете спросить обо всем у нее. Наперед должен сказать, что кроме имени мой сын унаследует от меня немалое состояние, и ваша дочь никогда и ни в чем не будет нуждаться.
– Я не торговец, господин Половцев, – отозвался Никольский. – Для меня важно счастье дочери и только.
– Достойный ответ достойнейшего человека. Иного от вас я и не ждал.
Никольский ничего не ответил. Позвав лакея, он велел ему найти Юлию Никитичну и пригласить ее в кабинет. Девушка появилась вскоре, и Виктор, дотоле несколько раз наблюдавший за ней на улице, впервые увидел будущую невестку вблизи. Да, мальчик не преувеличил. Прекрасна, как утренняя заря над морской гладью. Ничего чопорного, наносного. Сама жизнь… Войдя в кабинет отца, с удивлением и любопытством взглянула на гостя и в ответ на его улыбку тоже улыбнулась, хотя и застенчиво, растерянно. А, улыбнувшись, тотчас покосилась на отца:
– Звали, папинька?
– Звал, звал, – кивнул тот, пристально на нее глядя. – Хочу представить тебя господину Половцеву.
– Рада знакомству с вами, господин Половцев, – девушка сделала полагающийся книксен.
– Ты еще больше обрадуешься, дитя мое, когда узнаешь, кто таков Виктор Илларионович, и зачем он к нам пожаловал.
По лицу Юлиньки пробежала тревога.
– Знаешь, чей он отец? – спросил Никольский, возвращаясь за свой стол и вновь наполняя водой стакан. – Он отец некого Сергея, доселе известного под фамилией Безыменный…
Девушка вздрогнула и с изумлением посмотрела на невозмутимого Виктора.
– Тебе, кажется, хорошо знаком этот юноша?
– Да, папинька… – тихо отозвалась Юлинька.
– Вот, Виктор Илларионович утверждает, что вы с ним любите друг друга. Так ли? Или, может быть, господин Половцев что-то перепутал?
– Так, папинька… – еще тише отозвалась девушка, потупив глаза.
– Стало быть, ты оскорбила Петрушу ради него и желаешь выйти за него замуж?
Щеки Юлиньки зарделись. Она резко подняла лицо и, прямо взглянув на отца, решительно ответила:
– Да, это мое самое большое желание. Простите меня, папинька, что огорчаю вас, что таилась, что мой выбор совсем не таков, как вы бы хотели… Но господин Половцев сказал вам истинную правду!
– Твой выбор… – Никольский покачал головой. – Ты всегда делала, что хотела. Хуже своих братьев… Ну, что ж, радуйся. Виктор Илларионович пришел просить твоей руки для своего сына.
– И что же вы ответите ему, папинька? – задыхаясь от волнения, спросила девушка, невольно молитвенно складывая руки.
Никита Васильевич некоторое время смотрел на замершую в таком положении дочь, хмыкнул:
– А что я должен сказать человеку, которого Государь при мне назвал своим другом, и который знает о моей дочери больше меня самого? Скажу, что хочу хотя бы сперва увидеть жениха!
Юлинька бросилась перед ним на колени:
– Папинька, спасибо вам! Сегодня самый счастливый день в моей жизни! Папинька, простите меня за все огорчения, что я доставляла вам эти годы! Вы самый добрый отец на свете!
– Ну, полно, полно умасливать, – махнул рукой Никольский. – Ступай к матери, расскажи ей о своем счастье. А вы, Виктор Илларионович, – обратился к Половцеву, – на правах будущего родственника оставайтесь-ка у нас нынче обедать. Да-с… И сыну сегодня же отпишите, чтобы приезжал. Знакомиться будем…
Юлинька чмокнула отца в щеку и убежала.
– Предложил бы я вам наливочки по случаю, да врачи запрещают, – сказал Никита Васильевич. – Что ж, пусть так… Признаться, мы с Варварой Григорьевной всего более опасались, что красавица наша так в девицах и состарится. Или в монастыре себя похоронит. Теперь хоть внуков понянчим.
Он так и остался простым московским барином, этот важный петербургский сановник. В делах государственный – тверже стали, дома – мягкий как воск. Наливочку припрятанную он все-таки достал, разлил по стопочкам серебряным:
– Бог с ними с врачами. В конце концов, не каждый день дочь замуж выдаешь… За наших детей! За их будущую счастливую семью!
Глава 15.
Бывшее имение своей матери Петр не видел никогда в жизни. Да и саму мать помнил смутно – сколь ни силился вспомнить, а вставал перед глазами лишь силуэт размытый. Да и зачем помнить ту, что бросила, предала и ни разу не вспомнила за все эти годы… Теперь ее нет. Эта весть, пришедшая из Италии от дяди Сандро, отозвалась в сердце Петра лишь пробуждением старой боли – боли от обиды на мать. Из-за нее и отец все детство смотрел на него, как на чужого, избегал, чтобы лишний раз не вспоминать женщину, столь жестоко оскорбившую его. Чем был виновен сам Петр? Ничем. А, вот, вырос сиротой при живых родителях. Отец лишь на войне, наконец, стал ближе, понятнее. Впервые не исчезал, но, наоборот, как будто искал общества сына, сам заводил с ним беседы. Этих бесед Петру не хватало всю жизнь, но он не спешил откликнуться всем сердцем на вдруг проснувшиеся отцовские чувства. Он пытался понять, отчего явилась столь разительная перемена, и смотрел на родителя с некоторым недоверием.
Однажды отец подошел к нему на бивуаке после очередной стычки с горцами. Была уже ночь, но Петру не спалось. Он любил ночное время: его тишину, нарушаемую лишь треском костров и храпом лошадей, осиянные лунным светом горы, такие таинственные и величественные в ее мерцающих лучах, прочистившийся от дневного зноя воздух… Отцу, как оказалось, не спалось также.
– Я хотел сказать вам, поручик, чтобы вы не рисковали впредь собой так безрассудно, как делали это сегодня, – сказал он.
– Разве в сражениях должно прятаться за спины товарищей, Ваше превосходительство?
– Нет. Но не должно использовать сражения для сведения счетов с неурядицами собственной жизни.
– С чего вы решили, что я свожу какие-то счеты?
– Я наблюдал за вами в боях. И я был бы слеп, если бы не понял этого.
– Прошу простить, Ваше превосходительство, вы отдаете мне приказ, как командир, или делаете отеческое внушение?
– И то, и другое, – отозвался отец. – Вероятно, последнее вы считаете неуместным? Могу вас понять. Родителем для вас я был никаким, за что ныне горько каюсь и не пытаюсь оправдать себя. Ваша мать причинила мне некогда слишком большую боль, и она все эти годы застила мне глаза и леденила сердце, отдаляя от вас. Однако, эта боль как раз дает мне теперь право на внушение вам. Я прожил свою жизнь весьма глупо, если не считать военной карьеры, которая, впрочем, также могла быть более блестящей. И мне бы не хотелось, чтобы вы превзошли меня в этой глупости. Жизнь подчас бывает безумно жестокой насмешницей, с которой трудно примириться. И тогда в пороховом дыму мы ищем Белую даму, чтобы она остудила наши сердца…
– Вы тоже искали ее, не так ли?
– Искал, и не раз, – признался отец. – Представьте себе, в жизни я любил двух женщин. Одна сделала несчастным меня…
– …Моя мать!..
– Другой я изломал жизнь, менее всего желая того. Но… В моем подчинении были люди, за жизни которых я отвечал и которым не смел быть дурным примером. Я служил моему Государю, и службу эту почитал и почитаю выше всего на свете.
– Я понял вас, отец. Вы последовали долгу, который не велел вам искать Белой дамы…
– Да. И мне бы очень хотелось, чтобы вы также следовали ему.
– А счастье? Как быть с ним?
– Счастье – птица, дающаяся не каждому в руки. Но вам в ваши юные лета еще рано полагать себя обойденным им. Посмотрите на вашего дядю! Ему пришлось очень многое вынести, чтобы заслужить свое. Не ищите Белой дамы, любезный сын. Она всегда рядом с нами и знает свой срок. Не искушайте ее без нужды.
Через считанные дни после этого разговора Петр был тяжело ранен в спину пулей навылет при штурме аула Салты. Вот, когда пала стена недоверия к отцу! Достаточно было увидеть глаза, полные страдания и страха, столь несвойственного этому закаленному в боях человеку, когда он ожидал пробуждения сына от эфира, коим усыпил его доктор Пирогов на время операции. Эти глаза было первым, что различил Петр, придя в себя…
Рана была тяжелой и легко могла стоить поручику жизни, но искусство Пирогова оказалось сильнее Белой дамы. Этот чудесный врач специально прибыл на Кавказ, дабы испытать новую методику операций – с применений эфира. Впервые лазарет во время операций не оглашали вопли несчастных больных. Все они погружались в спасительный сон и не чувствовали боли. Солдаты поначалу боялись усыпления, и доктор продемонстрировал действие эфира на себе.
Петр также не чувствовал боли во время операции, но зато потом… Прежестокая горячка и сильнейшие боли измучили его. Но как же утешительно было услышать сказанные взволнованным голосом слова:
– Я люблю тебя, мой милый мальчик, и горжусь тобой! Ты должен жить, должен! Ты все, что у меня есть…
В этих словах впервые звучал голос не командира, но страдающего и любящего отца…
Через некоторое время отец распорядился перевезти Петра в Клюквинку, бывшее имение Апраксиных, ныне принадлежавшее помещице Софье Мурановой, доброй приятельнице отца, дяди Сандро и семейства Никольских.
Софью Алексеевну Петр видел еще ребенком. Отец был тогда тяжело ранен, а она гостила у Варвары Григорьевны и помогала ухаживать за больным. Теперь это была уже немолодая женщина с мягкими, печальными глазами. В ее внешности ничего не выдавало «барина в юбке», как ее называли в этих краях. Трудно было поверить, что эта мягкая, хрупкая с виду женщина с вкрадчивым голосом и неспешной речью обладает непреклонной волей и практическим умом, что она может быть жесткой и суровой, когда того требовало дело.
Всю жизнь она прожила в этой глуши, хлопоча о своих крестьянах, о хозяйстве. Ее семьей стали старуха-няня и приемная дочь Татьяна, покойные родители которой были крепостными. Ни детей, ни мужа… Отчего она не вышла замуж? Этот вопрос явился у Петра после первого же визита Мурановой. Но не тотчас сложилось элементарное уравнение после нескольких недель горячки. А ведь оно и впрямь элементарным было. Вспомнилось отчетливо, как хлопотала Софья Алексеевна у одра отца. И оброненное отцом недавно «другой я изломал жизнь»…
Муранова навещала Петра часто. С нею приезжала и Таня, пригожая девица семнадцати лет. Когда Софья Алексеевна бывала занята, последняя приезжала одна и подолгу просиживала у постели поручика, развлекая его скуку беседой или чтением вслух книг из мурановской библиотеки.
Образованием воспитанницы Софья Алексеевна занималась лично. Девушка в совершенстве знала французский, недурно разбиралась в литературе, играла на фортепиано… Она умела все, что положено уметь воспитанной барышне, а к тому знала толк в делах хозяйственных. Муранова не хотела, чтобы приемная дочь росла белоручкой. «Барышня-крестьянка» – окрестил ее Петр. Ему было легко с этим беззаботным юным созданием. В ее обществе забывались тяжелые мысли, и жизнь поворачивалась приветливой стороной.
Наконец, настал день, когда поручик смог самостоятельно подняться со своего одра. Опираясь на трость, он вышел на балкон и с упоением вдохнул насыщенный ароматом терпких весенних цветов воздух. Голова немного закружилась, но Петр не вернулся в постель. Ему больше не хотелось лежать, но как можно скорее восстановить силы, вскочить верхом на коня и… В этот момент на всхолмье, с которого спускалась дорога к бывшему дому Апраксиных, показался конь… Таня! В коляску она садилась лишь, когда сопровождала Муранову, а без нее предпочитала ездить верхом. Впервые Петр видел, как прекрасно она держится в седле. И захотелось мчаться рядом с ней… Но проклятая рана… Проклятый костыль…
А она уже к дому подъехала и, не дожидаясь конюха, сама на землю спрыгнула, бросила поводья лодырю запоздавшему… А в руках у нее что? Первые полевые цветы! Целая охапка! И вот, она уже на пороге комнаты. Веселая, возбужденная от быстрой скачки… Еще совсем ребенок, но уже и женщина – невысокая, стройная, с густыми пшеничными волосами и глазами – синими-синими, как васильки.
– Вы уже на ногах! Как это прекрасно! Значит, скоро вы будете нашим гостем!
– Я и без того ваш гость, Таня, – засмеялся Петр. – Вы очень быстро гоните свою лошадь. Я теперь буду тревожиться за вас!
– Неужели в самом деле будете?
– Конечно!
– И зря! Сирена – самая умная лошадь. Она никогда меня не сбросит.
– Сирена? Какое странное имя для лошади!
– Это я ее так назвала. Мне нравилось это имя, и когда родился жеребенок, и тетушка сказала, что он мой, я дала ей его.
Охапка цветов заняла свое место в большой вазе, водруженной на стол.
– Спасибо вам, Таня, они чудесные.
– Лето близится, а вы все еще заперты в этой комнате. Мне очень хотелось, чтобы вам досталась хоть частичка его.
– Я постараюсь как можно скорее покинуть мою «тюрьму». Верите ли, я никогда доселе не жил в деревне. А ведь, пожалуй, здесь много замечательного?
– Для того, кто приехал впервые, несомненно! О, я вам все-все покажу! Наши луга, нашу реку, наш лес… Наш лес – настоящее чудо! Самое прекрасное воспоминание моего детства! Меня брал с собой Порфирий, и мы иной раз по целому дню бродили… А потом нянечка хлопотала с нашей «добычей». Солила и сушила на зиму грибы, варила варенье малиновое и черничное… Весело было в детстве!
– Отчего же теперь невесело?
– Тетушка говорит, что, если ребенку можно с крестьянской детворой на речку бегать да в игры разные играть, то взрослой барышне должно вести себя, как подобает, быть серьезной. А серьезной быть скучно…
– Что поделаешь, всему свое время.
– Вот, и осталась мне теперь одна забава дозволенная – прогулки верхом. А когда урожай соберут, будет праздник. На него и сама тетушка всегда приезжает, одаривает всех. На празднике у нас весело всегда. Песни, танцы… Вы, конечно, в столице совсем к другим привыкли, вам, должно быть, наше веселье скучным покажется…
– Мне столичное веселье скучным кажется. А потому я постараюсь непременно выздороветь, чтобы посмотреть здешнее.
– Постарайтесь, Петр Юрьевич! А когда вы нас навестите, я вам тетушкин зимний сад покажу!
– Зимний сад?
– Да, она несколько лет назад завела его. У нас там абрикосы да персики южные растут, лимоны. Это тетушкино увлечение. Она за этим садом сама ухаживает. И я тоже, конечно.
– Ваша тетушка – удивительный человек. Чем больше я узнаю о ней, тем больше ею восхищаюсь.
– Жаль, что здешнее общество не разделяет вашего восхищения. Тетушку здесь никто не понимает, судачат о нас разное… Поэтому мы уединенно живем. К нам гости редко бывают, и мы почти не выезжаем.
– Значит, общество состоит из неумных и завистливых людей, не находящих себе иного развлечения, нежели сплетни. Увы, в столице таких не меньше. Не обращайте на них внимания, Таня.
– То же и тетушка говорит. Но мне все же обидно. За нее – обидно…
Неделю спустя, Петр нанес первый визит Мурановой. Конечно, он еще не мог держаться в седле, и пришлось ехать в коляске, но какое же счастье было после стольких недель затвора вновь созерцать красоту и простор Божьего мира! Прав был отец, когда говорил, что не стоит искать Белую даму! Жизнь не исчерпывается одной, пусть и очень горькой неудачей. Она прекрасна, несмотря ни на что! Прекрасно это небо, эти распаханные поля и нежно-зеленые заливные луга, чудо-лес, сады в бело-розовой дымке благоухающих цветов! И скромный одноэтажный мурановский дом с пристроенным к нему недавно зимним садом… И его хозяйка, строгая и ласковая одновременно… И «барышня-крестьянка», чье лицо никак не может утаить счастья от того, что он, наконец, сам, на своих ногах входит в их дом…
Обедали по-домашнему, не чинясь, вчетвером: Софья Алексеевна, Таня, Петр и старуха-няня, полуглухая, а потому едва обращавшая внимание на беседу. Петр получил письмо от отца, в котором тот сообщал о своем скором приезде. Эта новость обрадовала и Муранову, и Таню.
– Для нас большая радость принимать и вашего отца, и вас, – сказала Софья Алексеевна.
Ее тон не выдал особенного волнения, но глаза потеплели и точно разом помолодели.
– А знаете, тетушка когда-то написала портрет вашего батюшки, – поведала Таня, ведя гостя в зимний сад. – И он до сих пор висит в нашем доме. Однажды я видела генерала, когда он был здесь проездом. Но я еще была мала. Чудесно, что он приедет вновь!
– Да, чудесно, – согласился Петр, любуясь девушкой.
А та уже начала деловито показывать ему выращенные Софьей Алексеевной диковинки. Поручик ровным счетом ничего не понимал в сортах редких фруктов и искусстве их разведения в чужом для них климате, но разве это было важно? Этот грациозный «садовник» с васильковыми глазами был чудеснее всех сладчайших плодов!
– Отчего вы так смотрите на меня, Петр Юрьевич? – Таня немного смутилась от взгляда поручика.
А он не находился, что ответить ей. Лишь взял руку ее и почтительно поднес к губам, а затем, вспомнив строфу из «Онегина», прошептал:
– Дубравы, где в тиши свободы
Встречал я счастьем каждый день,
Ступаю вновь под ваши своды,
Под вашу дружескую тень.
И для меня воскресла радость,
И душу взволновали вновь
Моя потерянная младость,
Тоски мучительная сладость…
– И сердца первая любовь… – докончила Таня, не отнимая руки. – Тетушка часто читает… Я наизусть выучила…
– Вы чудо, Таня… Меня привезли сюда почти мертвого, и, хуже того, не желающего жить. А вы воскресили меня. И, если я теперь стою перед вами, то это заслуга ваша. И если еще через неделю я смогу верхом сопровождать вас во время вашей прогулки – то только благодаря вам, – с этими словами Петр вновь склонился к руке девушки.
– Через неделю я буду ждать вас у старых вязов… Я буду счастлива, если вы сможете меня сопровождать… – прозвучал едва слышно взволнованный ответ…
Глава 16.
Чем дольше живет человек на земле, тем реже становится круг его друзей, с коими мужествовал он в годы младости. Один за другим сходят они за горизонт, оставляя в сердце пустоту, которую нечем заполнить, и унося с собою часть тебя самого. И, вот, на склоне лет, оглядываясь на пройденный путь, видишь ты кресты, коими отмечены его версты…
Девять лет назад вырвала жестокая судьба из жизни славного Дениса Васильевича. Уж, казалось бы, этому ли жизнелюбцу и фавориту фортуны на полях сражений покинуть мир пятидесяти пяти лет от роду от банального апоплексического удара? Казалось он, со своей кипучей энергией, со своим гусарским задором, будет жить до глубокой старости! А иначе взглянув – можно ли сего доблестного гусара, партизана представить дряхлым стариком? Как ни силился Стратонов, а не мог того вообразить.
В последний год жизни Давыдова они вместе хлопотали о перенесении на Бородинское поле праха незабвенного князя Петра Ивановича, чьи бренные останки дотоле покоились в глухом владимирском селе, где так неоправданно рано похитила его смерть. Любимому ученику Суворова, гордости воинства русского – в этом ли Богом забытом углу лежать? Нет! Только на поле Бородинском, славою овеянном и его кровью окропленном!
Денис Васильевич не дожил до церемонии торжественного перезахоронения Багратиона. Но по мистическому стечению обстоятельств прах Давыдова был привезен в Москву для захоронения в Новодевичьем монастыре в тот самый день, когда столица встречала траурный кортеж с гробом князя. Так встретились два великих воина, и Стратонов в глубокой скорби проводил их обоих.
Чем уже становится круг друзей, сверстников, тем радостнее встречи с уцелевшими. В 1844 году Юрий возликовал, узнав о том, что Государь назначил новым кавказским наместником графа Михаила Семеновича Воронцова.
Пожалуй, редкий военачальник был столь же любим и почитаем в армии, как Воронцов. В этом человеке сочетались редко совместимые прекрасные качества: военная доблесть, талант администратора и исключительная мягкость, кротость характера. Эта мягкость, благородство читались во всем облике графа, в чертах его ясного, приветливого, мудрого лица.
Михаил Семенович происходил из знатного рода. Его тетка княгиня Дашкова добывала престол для Екатерины, его дядя был председателем коммерц-коллегии при великой Императрице и канцлером при Александре, его отец – славным воином в первой половине своей жизни и бессменным русским послом в Англии во второй. Семен Романович любил Англию, но это никогда не мешало ему ревностно отстаивать русские интересы, подчас действуя на свой страх и риск. Широко известен был случай предотвращения русским послом войны между Англией и Россией. Когда Лондон, негодуя на взятие Очакова, уже собирался выслать против расширяющей свое могущество Империи свой флот, Воронцов-старший отправился в британский парламент и смог привлечь на сторону России всю оппозицию, а с нею и общественное мнение владычицы морей. Под натиском последнего английское правительство вынуждено было отказаться от своих военных планов.
Граф Михаил вырос в Англии. Матери, бывшей дочерью адмирала Сенявина, он лишился в самом нежном возрасте, а Россию до совершенных лет знал лишь по рассказам и книгам. Семен Романович желал, чтобы его сын получил лучшее европейское образование, каковым считал английское, но при этом приучал Михаила к труду, чтобы тот всегда мог ремеслом заработать свой кусок хлеба, если в России случится революция, и воспитывал его совершенно русским человеком. Русский язык, русская литература, русская история – все это сын русского посланника должен был знать в совершенстве. И, вот, чудо: когда выросший в Англии юноша приехал на родину, то оказалось, что по-русски он говорит лучше, чем многие офранцузившиеся отпрыски знатных фамилий.
Его знания, его не по летам мудрые суждения, умение держать себя, воспитание, благородство и великодушие восхищали всех, кто встречал его в ту пору. Юного графа рекомендовали молодым людям, как безусловный образец для подражания, эталон воспитания.
Само собой, такому человеку нечего было делать среди пустых светских щеголей. Михаил Семенович поступил в Преображенский полк простым поручиком, отказавшись при этом от положенного ему по статскому камергерскому чину звания генерал-майора. Это был первый в истории случай подобного отказа, приведшей к тому, что через несколько лет подобная практика приравнивания статских чинов к армейским была упразднена.
Службу свою Воронцов начал на Кавказе вместе с Александром Христофоровичем Бенкендорфом и под водительством славного князя Цицианова, проникшегося к молодому офицеру отеческой любовью. После Кавказа наступила чреда европейских баталий и, наконец, нашествие Наполеона.
В 1812-м году Михаил Семенович служил под началом князя Багратиона. Обороняя Семеновские флеши на Бородинском поле, он был серьезно ранен и доставлен в свой московский дом. Туда как раз прибыли подводы из владимирского имения Воронцова, дабы везти туда от грядущего разграбления барское имущество. Между тем, Москва была полна раненых солдат и офицеров, которым некуда было деваться. Оценив положение, граф велел оставить неприятелю все ценности, библиотеку и прочее, а на подводах вывезти в Андреевское всех больных и увечных, а также своих дворовых…
В Андреевском спасенные офицеры жили в доме Воронцова, а солдаты – в избах его крестьян. Все получали провиант за графский счет, а по выздоровлении наделялись им всем необходимым – одеждой, провизией, деньгами… Такая щедрость была свойством души Михаила Семеновича. Еще до войны он оплачивал амуницию бедным офицерам своего полка и назначал пенсион их женам из личных средств. А много позже, будучи командующим русским оккупационным корпусом во Франции, совершил и вовсе невероятное. Когда корпусу настало время возвращаться в Россию, граф приказал счесть, какую сумму задолжали г-да офицеры и нижние чины местным жителям. Сумма оказалось грандиозной – 1,5 миллиона рублей. Воронцов продал унаследованное от тетки Дашковой большое и богатое имение и погасил весь долг.
Честь и Родина – эти понятия были для графа превыше всего. Руководствуясь понятиями чести, он, сколь мог, реформировал подчиненные ему воинские соединения, ограничивая телесные наказания, сокращая бессмысленную муштру, требуя уважения к солдату, заботы о нем. И хотя в частях Михаила Семеновича царил образцовый порядок, злые языки укоряли его либерализмом, разрушением дисциплины и прочими «грехами». Какой только клеветы ни возводили на него недоброжелатели и завистники, среди которых был и будущий декабрист Волконский, никогда не упускавший случай очернить имя графа.
Что ж, либерализм в некоторой степени был свойственен благородной душе Михаила Семеновича. Он заботился о своих солдатах, заботился о своих крестьянах… Вослед за отцом и дядей, отменившим в своих владениях барщину и оставившим лишь легкий оброк, он считал крепостное право злом и открыто боролся за улучшение участи крестьян на государственном уровне. Это, однако же, ничуть не помешало ему, узнав о восстании декабристов и проявленной отваге Императора, выразить в письме другу надежду, что «это не кончится без виселицы, и что Государь, который столько собою рисковал и столько уже прощал, хотя ради нас, будет теперь и себя беречь, и м… наказывать». И в то же самое время, за этих последних, когда они, уже получившие воздаяние, прибегали к его заступничеству, граф неустанно ходатайствовал перед Бенкендорфом и Государем. Просил даже за князя Волконского, не припомнив тому всех каверз и наветов…
Александр Воронцова не жаловал. Эта неприязнь привела к тому, что граф фактически оставил армию после возвращения в Россию своего корпуса, который тотчас же был расформирован, как будто бы зараженный вредными идеями. А ведь в армии так надеялись, что этот корпус послужит примером для будущей реформы всего русского войска!
Многие славные воины, отойдя от дел ратных, не могут найти себе достойного дела в мирной жизни. Не мог найти его близкий друг Воронцова Ермолов. Не мог найти Денис Васильевич, которому поэзия все же не могла полностью заменить службы. Михаил Семенович был исключением. На посту генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии он показал себя даровитейшим государственным деятелем. Этот огромный край, дотоле окраинный и необжитый, за более чем двадцатилетнее правление Михаила Семеновича расцвел небывалым образом.
И, вот, теперь под руку новороссийского губернатора был отдан и Кавказ. Никогда в истории в руках одного человека не была сосредоточена власть над такой огромной территорией. В Одессе отъезд любимого губернатора, истинного благодетеля края встретили со слезами, в Тифлисе нового наместника встречали с восторгом, который людям не помешало выразить даже то, что Воронцов, не любивший пышных встреч, по своему обыкновению прибыл ночью.
Ему было шестьдесят три года. Из шести детей он похоронил четверых. Когда в муках умирала его любимая девятилетняя дочь Александрина, он не мог сопровождать ее на лечение в Австрию, так как в Севастополе вспыхнул чумной бунт, толпа растерзала тамошнего градоначальника Столыпина, и Михаилу Семеновичу пришлось срочно мчаться туда, восстанавливать порядок, выявлять и наказывать виновных – не страшась ни толпы, ни заразы…
Мог ли он думать, что на склоне лет ему придется вновь вернуться на воинскую стезю и в тот самый край, где началась она десятилетия назад? За время своего генерал-губернаторства лишь в 1828 году он ненадолго возвращался к ратным делам – Государь призвал его заменить раненого князя Меньшикова, руководившего осадой Варны. Теперь же от него ждали много большего – победы над Шамилем и усмирения непокорного Кавказа!
После Даргинского похода, который граф хотел отложить на год, но не получил на то разрешения, так как операция была замыслена еще до его назначения, Михаил Семенович твердо решил изменить прежнюю стратегию.
– Разбить Шамиля влоб не получится, – говорил он. – Кавказ – не европейские баталии… Здесь совсем иные законы. Настало время войны систематической, которая хотя тихо, но вернее должна в свое время улучшить положение здешних дел. Чтобы одолеть Шамиля, нужно лишить его опоры, лишить среды, которая питает его. Алексей Петрович был прав, когда приводил этот дикий край к цивилизованному виду. Эту-то стратегию и нужно продолжать. Проредить леса, проложить дороги, выстроить свои линии укреплений – и, вот так, основательно, двигаться вперед. А не наскоком, не соразмеряясь с местностью… Эти разбойники скрываются в своих непроходимых лесах, в непреступных горах. И там они всегда будут давать нам фору. Конечно, русский солдат и такие леса, и такие горы одолеет. Но истечет при том кровью. А этого никак нельзя допускать! Во-первых, не достанет сил для решительного последнего удара, как было уже не раз. Во-вторых, дорога кровь русского солдата, чтобы столь нещадно и безоглядно ею эту жестокую землю орошать. Лишившись своих природных крепостей – лесов, окруженный нашими укрепленными линиями – Шамиль уже не сможет так безнаказанно творить свои набеги. А получая всякий раз отпор, теряя на этом людей и территории, он начнет терять самое главное – свою популярность у горских племен, их поддержку. Они перестанут верить в него и выберут сильнейшего – русского Царя.
– Немало времени понадобится для этого, – заметил Стратонов.
– Знаю, друг мой, ты всегда предпочитал действовать напором, – тонко улыбнулся Воронцов. – Но, проведя столько лет в этом краю, разве ты не видишь, что такая тактика не приносит здесь победы?
– Увы, это правда, – согласился Юрий. – Но все же чертовски хочется покончить с Шамилем! А когда понимаешь, что для этого понадобятся годы, невольно впадаешь в уныние…
– Полно брат! Ты моложе меня годами, тебе ли впадать в уныние? Быть может, тебе и суждено будет пленить нашего противника.
– Эту честь я охотно оставлю тебе. И все же огорчительно! Наполеона мы разбили в два года, а за этим собачьим сыном гоняемся по горам уже кой год!
– Эти войны ни к чему сравнивать, они слишком разны. А, вот, гоняться по горам, как ты выразился, мы больше не будем. Мы станем действовать, как опытные охотники. А опытные охотники сперва травят дичь, гонят ее, обкладывают флажками… Это, брат, большая наука.
– Государь огорчен, что все так затягивается.
– Понимаю и сожалею, что не оправдываю вполне его доверие. Однако, выслушав мои доводы, он вынужден был с ними согласиться.
За взятие Дарго Николай возвел Михаила Семеновича в княжеское достоинство и совершенно положился на его опыт, знания и талант. Воронцов взялся за дело со свойственной ему обстоятельностью. Несмотря на прогрессирующую болезнь глаз, он почти беспрерывно ездил по Кавказу, осматривая укрепления, знакомясь с войсками, выявляя и карая беспощадно любые лихоимства, водворяя должный порядок и проводя в жизнь намеченную стратегию. Нередко его сопровождала жена, Елизавета Ксаверьевна, помогавшая мужу в бумажных делах. Годы нисколько не охладили его ревности к службе. И язык не поворачивался назвать стариком этого сухопарого, седовласого генерала с манерами английского лорда, стальной волей многолетнего администратора и отвагой… молодого поручика. Не зря Ермолов пенял ему в письмах, что он не освоил науку старения, не научился хоть немного жалеть себя и экономить силы, чтобы дольше служить благу Отечества. После Даргинского похода многие упрекали Воронцова, что он подвергал себя излишней в нем опасности. Михаил Семенович отвечал, что вовсе не искал ее, это не отвечало бы ни летам его, ни должности, но солдатам и офицерам приятно и ободрительно, когда главный начальник не слишком далеко от них находится. В этом князь был истинным наследником и продолжателем традиций друга и боевого соратника своего отца – великого Суворова.
В новый поход, двумя годами позже, Воронцов также повел свою армию сам. Пришло время очистить от полчищ Шамиля Северный Дагестан, где имам укрепил четыре крупных аула – Ирис, Толитль, Салты и Гергебиль.
Еще осенью 1843 года мюриды захватили Гергебиль, истребив русский гарнизон. Тогда, после двенадцати дней осады, во время последнего приступа горцев несколько оставшихся в живых защитников гарнизона, не желая сдаваться в плен, взорвали свои укрепления. Именно потеря этого стратегического пункта заставила русские войска покинуть Аварию.
Годом позже генерал Пасек сжег Гергебиль, но вернуть его под власть Императора не удалось. И, вот, в 1847 году к аулу подошли войска Воронцова. Однако, взять его не удалось и на этот раз. Под руководством наиба Идриса Гергебиль был обнесен каменной стеной толщиной в 1,5 аршина и 2 сажени высотою, возведены пять башен. Помимо этого, вдоль стен во многих местах были устроены траверсы и блиндажи для защиты от навесного огня. Кроме того, для атакующих была подготовлена многоярусная оборона: «волчьи ямы» и сакли с фальшивыми крышами, в которые проваливались нападавшие. Гарнизон аула-крепости достиг 1700 человек.
Взять столь укрепленную цитадель можно было лишь ценой большой крови. После нескольких неудачных атак Михаил Семенович понял, что Гергебиль можно лишь стереть огнем артиллерии и, избегая ненужных жертв, обратил удар русских войск на менее укрепленный аул Салты. Шамиль срочно перебросил на его оборону Идриса. Там отважный молодой наиб и нашел свою смерть.
Там же чуть не нашел свою долгожданную Белую даму и Петруша. В разгар кровопролитной сечи Стратонов потерял сына из виду. Тот, как всегда, рубился отчаянно, бросаясь в самое пекло и менее всего беспокоясь о сохранности собственной головы. Последнее, что с тревогой и восхищением наблюдал Юрий – как сын отбивается от трех мюридов, держа шашки в обеих руках. Все три противника были повержены, и Петруша ринулся дальше, в гущу боя…
В следующий раз он увидел его уже почти бездыханным. Юрий нашел сына сам. Сверху на него свалился убитый казак. В первый миг показалось, что Петруша мертв. Свет померк в глазах, и сердце оледенело от ужаса. Никогда в своей жизни Стратонов не чувствовал такого парализующего, безумного страха. Но сын еще дышал! Юрий подхватил его, истекающего кровью, понес в лазарет. Первый врач, осмотревший рану, лишь хмуро покачал головой:
– Вряд ли выживет… А если вдруг, то останется калекой…
Стратонов готов был убить произнесшего столь страшные слова эскулапа, но в этот момент подошел недавно прибывший из столицы с предписанием от самого Государя хирург Пирогов. Спокойный, сосредоточенный, он отстранил своего коллегу и, взглянув на «безнадежного» пациента, возразил:
– Зачем же так сразу, Василий Карпович? Молодой, сильный и здоровый организм и не с таким справиться может, если помочь, как должно. Пуля, к счастью, навылет прошла – иначе бы и впрямь худо было.
– Вы спасете его? – хрипло спросил Юрий, готовый молиться на этого врача, как на икону, лишь бы тот хотя бы вернул ему надежду.
– Спасает Господь Бог. А я обработаю и заштопаю рану.
Он ничего не обещал, но в его тоне была такая уверенность, такое спокойствие и бодрость, что Стратонов немного воспрял духом.
Пирогов вложил в лечение Петруши все свое недюжинное врачебное искусство. Через две недели он объявил, что непосредственной угрозы жизни раненого нет, но лечение ему потребуется весьма долгое. Будет ли выздоровление полным, судить рано. Юрий сперва отправил сына в дом Алерциани, где еще жили Константин с семейством, а позже – в Клюквинку, сообщив ненаглядной Софье Алексеевне, что полагается лишь на нее, что никому больше не может доверить заботу о сыне.
С тех пор Стратонов более, чем когда-либо, стремился в Клюквинку. Ему хотелось быть рядом с сыном и не менее того вновь увидеть Софьиньку. Вскоре из Италии пришло известие о кончине Катрин… Узнав об этом, Юрий хотел тотчас же проситься в отпуск, но дела службы задержали его.
Без малого год спустя после взятия Салты Воронцов вновь обратил свой взор на Гергебиль, и в новом походе Стратонову отводилась важная задача по пресечению мюридам путей к отступлению. Уклониться от ее выполнения, оставить в столь важный момент старого боевого товарища и командира Юрий не мог.
В конце июня русская армия в очередной раз подошла к стенам непокорного аула. На этот раз Воронцов не собирался жертвовать русскими жизнями. Дело должна была решить артиллерия. Обороной Гергебиля руководил верный наиб Шамиля Хаджи-Мурат. Помимо укрепления аула, на высоте Ули, расположенной напротив него, наиб поставил редут с крепостным орудием, а вокруг него 30 укрепленных сакель. Крепость была обнесена каменной стеной с оборонительной башней. В этом убежище могли в случае поражения укрыться уцелевшие гергебильцы.
Как ни хороши были укрепления аула-крепости, а против 8 мортир, 11 батарейных и 6 легких орудий – ей ли устоять? Менее чем через сутки смертоносного огня значительная часть стены и самого селения была разрушена, и под прикрытием артиллерии солдаты с саперами смогли подойти к башне у Аймакинского ущелья, где находился резервуар для воды, и подорвать ее.
Страдая от жажды и бомбардировки, горцы вышли из укрепления, но тотчас угадили в засаду: в Аймакинском ущелье и из садов их встретили сверху ружейным огнем, с нижней батареи – картечью. Часть мюридов, попытавшаяся возвратиться в аул, наткнулась на ружейные залпы из башен и сильный картечный огонь из смежных редутов.
7 июля, на третий день осады, Гергебиль пал. Его защитникам пришлось несладко. Теперь уже не они устраивали на каждом шагу засады русским войскам, теперь русские, словно переняв их тактику, поджидали их везде, не давая перевести дух и хоть на миг ощутить себя в безопасности. Останавливаясь при отступлении, чтобы подбирать тела убитых и раненных товарищей, мюриды теряли вдвое больше. Лишь немногим удалось добраться до крепости Ули…
После этой победы Стратонов, наконец, почувствовал себя вправе просить об отпуске. Прошение это было удовлетворено без заминок, и Юрий пустился в путь, везя сыну георгиевский крест, к коему был тот представлен за Салты и личную благодарность князя Михаила Семеновича, не пожалевшего времени выразить оную в кратком личном письме, написанном под его диктовку Елизаветой Ксаверьевной.
Во всю свою жизнь Юрий Стратонов не имел своего угла. Походы, бивуаки, казенные квартиры… Но теперь у него было чувство, что он едет – домой. Так и стояли перед глазами клюквинские да мурановские пейзажи. И дом… Софьинькин дом… Дом, где его, Стратонова, ждут уже столько лет. Ему казалось, что он видит каждую деталь простого убранства этого жилища – вплоть до трещины на старом комоде, стоявшем в углу гостиной. А еще – звуки… Скрип ступенек, шепот листвы за окнами, ворчание старухи Савельевны, сердитое пыхтение самовара… А вот, фортепиано своим нежным голосом заговорило. А это ставни скрипят, двери… Шаркает старухина походка… Огонь трещит в печи, и мурлычет кот, дремлющий в хозяйском кресле… Как наяву все – стоит только глаза прикрыть! И до того ярко, до того маняще, что больно становится, и предательский ком к горлу подкатывает.
Миниатюрный портрет Софьиньки он всегда носил при себе, как бесценную реликвию. Как икону. И во снах, и в мечтах своих видел ее – такой, как в первые самые встречи… Силуэт на крыльце, вослед ему устремленный… И голос вкрадчивый: «Я вас буду ждать! Мы вас будем ждать!»
Человека должен кто-то ждать. Тяжко жить, когда никто и нигде не ждет. Но сколько бесценных своих лет пришлось ждать ее! Вся молодость канула в ту бездну ожидания, а за ней в ту же бездну спешила уже и зрелость… А она – ждала. Видясь в несколько лет раз, эпистолярной мукой оживляя душу и на что-то же – надеясь?..
И, вот, пришло время. Хоть и поздно, а пришло! Получив известие о смерти жены, Юрий почувствовал, что с души его тяжелейший камень упал. Теперь он был свободен. Наконец-то свободен! А, значит, мог пасть к ногам Софьиньки и, покрывая поцелуями ее руки, сделать ей предложение. Эта мысль пьянила уже немолодого генерала, как мальчишку, лишала сна и, несмотря ни на что, казалась… несбыточной. Не осталось никаких препятствий к ее исполнению, а вот же – не верилось, что сон может явью стать…
Софьинька с той поры, как отправил к ней раненого Петрушу, писала чаще обыкновенного, обстоятельно рассказывая о его здравии. На счастье, поправлялся он быстро, на что и надеялся Юрий, понимая, что сыну требуется не только врачебная помощь, но забота, душевное тепло. Прежде таковое всегда находилось в доме Никольских, но теперь его стены могли причинять Петру лишь дополнительную муку. Оставалась Клюквинка и сердечное участие Софьиньки.
Догорал пламенем листвы октябрь, а воздух стал уже прохладен, когда Юрий добрался до ставшей родной Смоленщины. Заехал сперва в Клюквинку, желая обнять сына, но, оказалось, что Петр еще утром ускакал в имение Мурановых. Что ж, и сам спешил туда – очень кстати. Переменив дорожное платье, умывшись и взяв свежего коня, отправился следом.
Въехав в до боли знакомый и все такой же запущенный парк, Стратонов спешился, неспешно пошел по аллее, перебирая дорогие сердцу воспоминания. Вот, и ветлы столетние, развесившие свои могучие кроны над небольшим прудом, показались… Сколько воспоминаний с этим местом связано…
В этот миг до слуха Юрия донесся веселый смех. Различив голос сына, Стратонов привязал коня к дереву и направился в сторону пруда. Очень скоро он различил две фигуры на берегу: Петрушу и юную девушку, по-видимому, Софьинькину воспитанницу. Молодые люди не видели его, скрываемого разросшимся вдоль дороги кустарником, зато Юрий видел их прекрасно. Сын, судя по всему, уже совершенно поправился и беззаботно веселился с Таней. Вот, она надела ему на голову сплетенный из кленовых листьев венок – корону осеннюю, а он руки ее замершие поймал и, согрев дыханием, к губам поднес…
Стратонов не слышал произносимых тихо слов, но вдруг оборвавшимся сердцем угадывал их… А Петр девушку уже к груди прижал и целовал в голову, в лоб. Она не противилась, приникнув к нему. Она была счастлива, как и он…
Чья-то рука мягко коснулась плеча Юрия. Он резко обернулся в смятении от увиденного. Перед ним стояла, кутаясь в теплую накидку, Софьинька. Спокойная, нежная, радостная и печальная одновременно. Глаза ее осенние близоруки стали и щурятся от того, и по лицу морщины тонкими нитями разбежались в разные стороны, как паутина едва заметная… Но и теперь во всей вселенной нет очаровательнее женщины. И роднее – нет…
– Наши дети счастливее нас, – тихо сказала Софьинька. – Они молоды, влюблены, и между ними нет никаких неодолимых теней…
– А что же остается нам?.. – вымолвил Стратонов, чувствуя, как мечта, только-только обретшая черты реальности, вновь разбивается на тысячу осколков – теперь уже навсегда.
Софьинька ласково улыбнулась:
– Нам остается радоваться за них. Петруша говорит, что вернулся к жизни лишь благодаря Тане. А разве может быть что-то важнее этого? Вы сами писали мне, отправляя его к нам, что отдали бы все – лишь бы он был жив и счастлив. Как видите, он жив и счастлив. И моя Таня тоже. Я очень боялась, что ее век будет, как и мой, веком одиночества. Она чудесная девочка, я удочерила ее, воспитала, как дворянку. Она унаследует все, что я имею… Но для благородных молодых людей она так и остается бывшей крепостной.
– Провинциальные дворянчики! Какое понимание эти надменные барчуки имеют о благородстве…
– А теперь я спокойна. Наконец-то в этом доме поселится счастье.
Стратонов взял руки Софьиньки в свои, некоторое время смотрел на дорогое лицо, такое ясное, просветленное…
– Вы ангел, Софья Алексеевна. Я преклоняюсь перед вами и боготворю вас, свет моей жизни…
– Мы ведь даже не поприветствовали друг друга после долгой разлуки, – отозвалась она, не сводя с него глаз. – С той поры, как вы написали, что скоро приедете, я каждый день на дорогу смотрела, все ждала, ждала вас… А сегодня увидела, как вы в ворота въезжаете. И вам навстречу поспешила.
– Я ехал сюда, видя перед собой только вас…
Софьинька опустила глаза. Юрию показалось, что на ресницах ее блеснули слезы. Но через миг опять смотрела она ясно и спокойно, привычно затаив боль.
– Идемте в дом, Юрий Александрович. Не будем им мешать… Они придут к обеду, а пока я напою вас с дороги чаем, и мы поговорим… Я так давно не говорила с вами!
– Я говорю с вами в мыслях всякий день.
– И я тоже. Смотрю на ваш портрет и говорю. Пишу вам письма и говорю… Но говорить вот так, глаза в глаза – все же ни с чем не сравнимая радость. Я так счастлива, что вы приехали!
– А я счастлив вновь быть вашим гостем, Софья Алексеевна.
– Вы не гость, – покачала головой Софьинька. – Вы гораздо-гораздо больше… Гораздо…
С этими словами они направилась к дому. Юрий догнал ее, бережно взял под руку. Не так он представлял это свидание. Не так мечтал встретиться. Не те слова сказать… Но Бог опять распорядился иначе. И она приняла Его волю своим ангельским сердцем, смирилась. И вновь будет ждать… Уже без надежды, а по привычке, потому, что иначе не сможет, потому, что вся жизнь ее этим ожиданием стала. И хочется говорить, кричать ей о любви своей, да нельзя – лишь боль, в обоих сердцах не утихающую, пуще растравлять…
Дети будут счастливы. Дай Бог. Может, так и нужно… Они молоды, у них впереди вся жизнь. И нужно смиренно уступить им дорогу и радоваться их счастью. Счастью Петруши… Он многим виноват перед ним, и, может, за то и платит теперь, жертвуя его счастью долгожданным своим? Но за что Софьиньке мука эта? За то лишь, что она сильна духом и кротка сердцем, а потому может вынести ее?
Глаза ее теперь радостью светятся, в глубине их омуты печали, но они все равно светятся. Оттого лишь, что он, Юрий, рядом. Остается учиться этому смирению и радоваться тому же, чему радуется она. Встрече, взгляду, разговору… Каждому драгоценному мгновению, проведенному вместе.
Глава 17.
Много лет утекло с той поры, когда молодой подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Яков Ростовцев известил Государя Николая Павловича о замысленном против него бунте. После этого карьера его неуклонно шла вверх, хотя и без рывков, своим ходом – в соответствии с заслугами и летами офицера.
После декабрьского мятежа Яков Иванович участвовал в Русско-турецкой войне, где был при осаде Браилова, Шумлы и Варны, затем – в Польской войне, включая штурм Варшавы… В 1835 году он был назначен Начальником Штаба Его Императорского Высочества Главного Начальника Кадетских Корпусов. Воспитание военного юношества оказалось призванием Ростовцева. При нем и под его руководством стал выходить «Журнал для чтения воспитанникам старшего и среднего возрастов Военно-Учебных Заведений». Штабом Его Высочества был разработан проект «систематического уложения по управлению и устройству военно-учебных заведений» и составлено, по поручению Великобританского правительства, на французском языке, «подробное обозрение наших военно-учебных заведений, дворянских, кантонистских и морских». На Якова Ивановича была возложена обязанность инспектирования всех военно-учебных заведений, для чего была составлена подробная инструкция. Им были составлены «Положение о кадетских корпусах» и «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений», где даны были указания: преподавателям – как и чему учить, а директорам – чего требовать от преподавателей и как проверять их деятельность. Кроме того, Ростовцев стал членом Главного Совета женских учебных заведений и членом Комиссии по сокращению переписки в войсках.
Ныне, уже не юный подпоручик, но поседевший и раздобревший генерал-майор восседал на судейском месте рядом с Дубельтом, Гагариным и другими, а перед ним стоял худой, бедно одетый, но гордый и с виду невозмутимый обвиняемый.
– А, любезный Федор Михайлович! – обратился к нему Ростовцев. – В добром ли здравии вы нынче? Не хвораете-с?
– Я вполне здоров, Ваше превосходительство.
– Рад, рад слышать это. О нас довольно, знаете ли, слухов распускают. Не хочется, чтобы злые языки утверждали, что мы погубили талантливого писателя, можно сказать, будущее нашей литературы… Мы ведь не кровопийцы какие-нибудь. Встречаются, конечно, и среди нашего брата скверные люди, но нельзя же по ним всех мерить… Ведь таковые примеры в каждой среде есть. Вы согласны со мною, Федор Михайлович?
– Вполне.
– И отлично-с! Я вижу, мы понимаем с вами друг друга. Я ведь, как не покажется вам странным, весьма уважительно отношусь к вашему брату литератору. К вам, в частности. Ведь я ваших «Бедных людей» имел удовольствие читать. Умно пишете, должен вам сказать! Прямо пронизываете! Да-с… На меня ваш роман произвел отменнейшее впечатление-с…
– Весьма польщен, – отозвался Достоевский.
– Вы, однако же, неразговорчивы, дорогой Федор Михайлович.
– Я с юности угрюм и необщителен.
– Понимаю-с. Вы человек умный и к праздным разговорам несклонны. И правильно-с! Пустая болтовня удел людей недалеких и недаровитых. Вы им не чета. Уж я-то этой братии повидал… Нет, как угодно-с, но не могу я поверить, чтобы человек, написавший «Бедных людей», был заодно с этими порочными людьми. Нет, нет, это невозможно. Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени самого Государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать все дело! Расскажите все, как было, любезный Федор Михайлович! Ведь мы не враги друг другу, мы общее дело делаем, одному горячо любимому Отечеству служим-с! Неужели же не найдем общего языка? На вас имеются, не скрою, существенные улики, но ваша помощь все может переменить в вашу пользу. Государь милостив. Он не желает лишних страданий никому и готов с христианской добротой простить каждого, кто по каким-то причинам заплутал, сбился с пути, но имеет желание вернуться на него… Вы свершили ошибку, это с каждым случается. Так не упорствуйте же в ней. У вас же нет ничего общего с этими окончательно погубившими свои души людьми. Вы искренний и честный человек! Россию-матушку любите, в Бога веруете, а они? Не по пути вам с ними! Исправьте ошибку, пока не поздно, не доставляйте горя ни себе, ни своим близким! Ну-с, что же вы молчите-с?
Федор Михайлович помолчал, посмотрел на следователя исподлобья и ответил негромко, но твердо:
– Я не боюсь улики, ибо никакой донос на свете не отнимет и не прибавит мне ничего; никакой донос не заставит меня быть другим, чем я есть на самом деле. В том ли проявилось мое вольнодумство, что я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать? Но меня всегда оскорбляла эта боязнь слова, скорее способная быть обидой правительству, чем ему приятною…
Если желать лучшего Отечеству – вольнодумство, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец, в этом же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином… Все, чего хотел я, это чтоб не был заглушен ничей голос, и чтобы выслушана была, по возможности, всякая нужда…
«Умный, хитрый, независимый, упрямый…», – таков был вердикт Ростовцева…
Об этой сцене и о мнении раздраженного Якова Ивановича, коего более всего огорчало, что среди заговорщиков оказались бывшие питомцы инспектируемых им военно-учебных заведений, Андрей Никольский узнал от отца, давно и близко дружившего с Ростовцевым.
Новости о деле «петрашевцев» Андрей ловил с великой жадностью и нарастающей тревогой. Он восхищался самообладанием своего друга и яростно негодовал на него за его глупую неосторожность, ругал его последними словами, что не послушал доброго совета и угодил в каземат Алексеевского равелина, и готов был втайне рыдать над его участью.
А, между тем, стоило бы побеспокоиться о своей… Однажды отец возвратился домой бледный и взволнованный и так, чтобы мать не услышала, сказал:
– Завтра сам Государь желает говорить с тобой. Поклянись мне сейчас, что ты не замешан в этом деле!
– Бог с вами, отец! Вам ли не знать моих мыслей?
– После замужества твоей сестрицы я уже ничего не знаю! Клянись мне, Андрей!
– Клянусь, коли вам угодно. Вся моя вина состоит лишь в том, что я один раз случайно оказался на одном из вечеров у Петрашевского.
– Представляю, чего ты там наслушался! И молчал, конечно же!
– Я наслушался глупых криков не способных ни к какому делу людей.
– Это ты завтра объяснишь Государю. Твое имя есть в списках заговорщиков! Государь не пожелал поверить, что ты можешь быть замешан всерьез, и решил не давать хода твоему делу, не поговорив с тобой лично.
– Без сомнения он решил так из дружбы к вам.
– Он решил так, – жестко ответил отец, – единственно по благородству своей души, страшащейся покарать невиновного, но не смеющей миловать тех, кто виновен в действительности. Мальчишки! Думаете, можно все просто взять и перевернуть?! Сломать через колено и враз построить рай на земле?! Во Франции уже были такие крикуны. Они построили кровавый «рай» с гильотиной на площади… Променяли Христа на демона Молоха… И до сих пор несчастный этот народ не может выйти из заколдованного круга революций! И никогда не выйдет! Потому что не дурные порядки сломали, а хребет становой, душу саму. И этого твои приятели хотят для России?
– Они не приятели мне. И я в тот же день высказал свое отношение к их идеям… Но поверьте, отец, среди них нет ни Маратов, ни Робеспьеров. Это праздные болтуны и только!
– Откуда ты можешь знать, чем эти сегодняшние болтуны, кажущиеся смешными, могут оказаться завтра? Конечно, их способностей не хватит на то, чтобы устроить даже отдельно взятую деревню, не то что государство! Но для того, чтобы столкнуть государство с его исторического пути в кровавое безумие, какому не будет конца, крикунов как раз и достанет, если не остановить их вовремя. Они бы и столкнули уже, если бы не мудрость и воля нашего Императора…
– Мне кажется, вы преувеличиваете опасность.
Отец горько усмехнулся:
– Андрей, ты большой знаток всевозможных машин и конструкций, в которых я решительно ничего не смыслю. Но законов истории и политики ты пока не знаешь. Ты можешь оценить опасность новейших пушек для укреплений крепости, но опасность праздных крикунов для государства ты пока не можешь оценить. Со временем, надеюсь, это придет к тебе. А пока поверь моему слову.
Андрей всегда уважал отца, но даже его слова было недостаточно, чтобы просто принять его на веру. Обдумать, рассмотреть всесторонне – непременно. Но принять на веру… Инженер-поручик Никольский ничего не принимал на веру, ища непременно вложить персты в раны. Он не сочувствовал идеям петрашевцев, но ему казалось несоразмерной та важность, какая была придана их делу. Все одно, что стрелять из пушек по ветхим хижинам…
На другой день его принимал Император. Принимал наедине, как делал всегда, когда желал сам разобраться в виновности того или иного обвиняемого.
– Граф Орлов представил мне списки заговорщиков. В нем есть твое имя, – Государь испытующе посмотрел на Андрея.
– Если в этом списке есть все, кто хоть раз в жизни посещал пятницы Петрашевского, то он, вероятно, необъятен. Иные ходили туда даже ради бесплатного ужина…
– И ты в их числе? – в голосе Николая прозвучала ирония.
– Никак нет, Ваше Величество. Я был там лишь однажды. Зашел за компанию с отставным инженер-поручиком Достоевским.
– Один из самых яростных бунтовщиков, если верить донесениям. Он твой друг?
– Да, Ваше Величество.
– И поэтому ты сокрыл то, что услышал на том вечере?
– Ваше Величество, я обычно не пересказываю глупых речей экзальтированных или же попросту ограниченных лиц, относясь к ним не с большим вниманием, чем к базарной брани.
– А надо бы с большим, – заметил Государь. – Единомышленники твоих приятелей уже перевернули с ног на голову всю Европу. А этим господам невтерпеж было повторить их опыт у нас! Ввергнуть Россию в хаос…
– У меня нет приятелей среди заговорщиков, Ваше Величество. Готов поклясться в этом на Библии.
– Кроме одного? – уточнил Николай.
– Кроме одного. Которому я в тот же вечер высказал свое несогласие с услышанным, и с которым с той поры практически не общался.
– Рад это слышать. Было бы куда как скверно, если бы сын Никиты Васильевича оказался среди этой публики! Я люблю твоего отца, всю вашу семью. И не поверил глазам, когда увидел твое имя в списке Орлова.
– Как и мой отец, и вся моя семья, я верен Престолу и почел бы для себя высшим бесчестием нарушить присягу, – твердо сказал Андрей, прямо глядя в глаза Императору.
Этот взгляд и уверенный тон произвели на того благожелательное впечатление.
– Верю тебе, Никольский, – кивнул Государь. – Рад, что не ошибся в тебе, а того пуще, что ты не опозорил имени своего отца. Что ж, служи и впредь честно и избегай сомнительных собраний. Ступай же теперь.
– Ваше Величество, могу ли я спросить, какова будет участь виновных? – осмелился осведомиться Андрей, прежде чем уйти.
– Беспокоишься за своего друга?
– Так точно. Мы учились вместе, и я хорошо знаю его. Это чистейшая и благороднейшая душа. Вина его лишь в том, что он слишком поверил недостойным людям, увлекся их идеями.
– Я читал донесения о том, что он говорил на собраниях и как ведет себя на следствии. И то, и другое представляется мне возмутительным и заслуживающим самого строгого взыскания. То, что он бросил службу, также не подтверждает твоей характеристики.
– Это человек огромного таланта! Уверен, он еще прославит нашу литературу!
– Ну-ну, не решил ли ты пополнить число литературных критиков? Ступай, Никольский, и предоставь дела правосудия правосудию.
Андрей понял, что ходатайствовать за друга в его положении бесполезно. Тревога его не уменьшалась, и совершенно не к кому было обратиться за помощью. Отец, поборник безопасности государства и непримиримый враг революционных идей, наотрез отказался вмешиваться в дело «петрашевцев», даже с Яковом Ивановичем говорить не пожелал. Хотя Ростовцев все равно отказал бы… И по убеждениям, и по досаде на строптивого арестанта.
Осень минула, потекли мрачные зимние дни. Андрей нередко прогуливался по набережной Невы, вглядываясь в мрачный силуэт Петропавловской крепости. Он просил о свидании с Достоевским, но ему было отказано. Брат Федора, также посещавший несколько раз пятницы, был арестован следом за ним, но вскоре отпущен – его невиновность, к счастью, была доказана. Но над Федором и еще несколькими петрашевцами, признанными главными заговорщиками, тучи становились все гуще…
Приговор прозвучал подобно залпу пушки у самого уха. Рас-стрел… Бросилась кровь в голову, затмевая очи. Быть не может! За глупые речи – расстрел?! Ведь они же и сделать ничего не успели в отличие от тех же декабристов! Они только говорили, мечтали, шумели по своим квартирам… И за эту глупость детскую жизни лишить?.. Впервые в жизни поколебалась в душе Андрея верность Престолу, и он решил твердо: если приговор приведут в исполнение, то он тотчас подаст в отставку и уедет вон из России. Нельзя служить Государю, если видишь в нем не Самодержца, а… палача…
Отцу он не сказал ни слова. Впервые не было сил – говорить… Андрей привык таить свои чувства, но сейчас всякое слово выдало бы их. И он молчал. На службе он взял отпуск, сказавшись больным, и теперь почти не покидал своей комнаты. Его затвору никто не мешал. Все в доме понимали, чем вызвана его «болезнь»…
22 декабря Андрей ушел из дома на рассвете. Он знал, что зевак на место казни не пустят, и все же хотел быть там, рядом. Несколько часов он бродил по набережной на ледяном ветру, не чувствуя ни его порывов, ни двадцатиградусного мороза. Он, как исступленный, пытался представить себе драму, происходившую на Семеновском плацу: арестантов, солдат, выстрел… Одевают ли теперь на головы мешки? Завязывают ли глаза? Приковывают ли цепями к столбам или расстреливают просто так?.. Тех, пятерых, вешали… Трое сорвались и их пришлось вешать заново… А партию в двадцать три человека, памятуя неудачный опыт, вешать не решились. Пуля надежнее веревки… Ах, лучше бы самому теперь в арестантской шеренге стоять, той пули дожидаясь, чем гадать так… И жить потом, утратив веру во все то, что еще вчера было свято: в Государя, в Отечество, в собственного отца.
– Андрюша! Андрюша!
Андрей обернулся на зов. По заснеженной мостовой неслись к нему легкие сани, а в них братец младший – Мишель. Соскочил на ходу еще, побежал навстречу, крикнул срывающимся голосом:
– Казнь отменили!
– Отменили? – всколыхнулся Андрей навстречу. – Да верно ли?
– Вернее некуда! Отец теперь от Государя вернулся. Никого казнить не станут. На каторгу сошлют. Государь последние исправления в приговор лично внес. Достоевскому восемь лет каторги заменил четырьмя. А потом – в солдаты с сохранением гражданских прав!
– Каторжным сохранят гражданские права? – удивился Андрей. – Отродясь такого не бывало!
– Так отец сказал. А он только что от Государя! – повторил Мишель, широко улыбаясь.
Андрей перекрестился и глубоко вздохнул. Теперь он всем продрогшим телом ощутил и двадцатиградусный мороз и пронизывающий ветер.
– Ну, и славно, что все так кончилось, – сказал, напуская на себя вид обычной невозмутимости. – Поехали домой. Я что-то чертовски проголодался от этой прогулки!
Он уже зол был на себя за то, что усомнился в Императоре, что позволил себе так непростительно расчувствоваться. Вот еще дурень! Раскис хуже всякой бабы! Отцу и на глаза попадаться совестно. Теперь еще не доставало простуду или того хуже чахотку с этой прогулки получить! Понесла нелегкая… Сидел бы теперь в тепле да чай прихлебывал. Как, однако же, надоели эти распроклятые петербургские холода… Попроситься ли, чтобы перевели на юг? В Крым, к сестрице любимой поближе – чем худо? Вот, пожалуй, первая светлая мысль за последние недели. Пора, ей-Богу, постранствовать. А то недолго и состариться в унылости столичной…
Глава 18.
– Нужно быть деятельным, деятельность великое дело-с, у нее есть большие права. Все можно отнять у человека: славу, значение в обществе; можно приписать ему дурные качества, которые служат ему побудительными двигателями, например, честолюбие, эгоизм, глупость – все, что хотите; одного невозможно отнять – благодетельных последствий деятельности, ежели она направлена на что-нибудь полезное для общества и правительства, – так наставлял Павел Степанович молодых офицеров, приглашенных на обед к адмиральскому столу.
Капитан-лейтенант Половцев также был в числе приглашенных. Он с добродушной иронией наблюдал, как два мичмана, толкая друг друга локтями, высматривают главное блюдо – арбуз! Один вид этого лакомства вызвал на молодых румяных лицах выражение умиления. Ввиду такого пристрастия некоторых провинившихся по приказу адмирала подвергали «страшному» наказанию – лишали арбуза.
В этот день, впрочем, столь «жестокая» кара не ожидала никого, и огромная зеленая ягода, еще не надрезанная, но и без того манящая сладостью скрываемой мякоти, ожидала в скорейшем времени быть уничтоженной безо всякой жалости, как неприятельский редут.
Сергей вспомнил, как и сам, бывало, смотрел на этот чудо-плод таким же взглядом. Много времени с той поры утекло: и чин не тот, и лета, и положение… Воистину чудны дела Твои, Господи! Вчера еще был бедный офицер без роду и имени. А ныне? Отпрыск благородной фамилии, собственная квартира в Севастополе, жена – дочь высокопоставленного вельможи…
Иногда на Сергея находил суеверный страх – не слишком ли многим в один миг одарила его судьба? Отец желал купить им с Юлинькой целый дом, но они наотрез отказались. На что бы была похожа подобная роскошь? Ни один моряк не жил так! Среди собственной команды неловко бы чувствовал себя Сергей, когда бы зажил таким барином. Квартира – иное дело. Юлиньке рожать скоро. Свое приличное жилище необходимо – но и не больше. Сергей не собирался жить за счет отца, считая это недостойным мужчины. Поэтому приняв квартиру в качестве свадебного подарка, постановил категорически – впредь жить лишь на то жалование, что он получает на флоте. Юлинька не возражала. Ей вовсе не нужно было многого. Она была счастлива и жалела лишь о том, что в Севастополе нет общины милосердия, где ей возможно было бы ходить за больными, как в столице.
Впрочем, один больной все же был на ее попечении…
Мысли Юлиньки всегда были созвучны мыслям Сергея. Так же, как и ему, ей пришло в голову тревожное суеверие – за это счастье безграничное не придется ли платить?.. А к тому еще в основе его – столько лет страданий, мести и зла. Решение было принято, почти не сговариваясь, и Сергей объявил о нем отцу, немало опасаясь раздражения последнего:
– Мы решили, что князь Лев Михайлович не должен дольше оставаться в доме скорби. Я знаю, отец, что преступление Борецких чудовищно и не может быть прощено. Но князь Лев Михайлович был повинен в нем менее других. И за свои грехи он уже расплатился сполна многолетним адом, в котором живет теперь. Он не безумен, более того принял свою судьбу и раскаялся в том, что делал прежде. Теперь это всего лишь глубоко несчастный, больной старик. Есть еще одна причина…
– Княгиня, конечно же… – угадал отец, чье лицо оставалось непроницаемым.
– Да, отец. Ей я обязан всем. Она любила меня. А еще она очень любила своего мужа, несмотря на все его измены. Старику теперь чудится, что она всегда рядом с ним, он с нею разговаривает. Признаться, я верю, что она не оставила его. И верю, что ей было бы приятно, если бы в память о ней я позаботился об этом несчастном в его последние дни, дав ему покинуть этот мир человеком, а не умалишенным, в котором едва ли кто-то видит человека.
– Насколько я понимаю, ты все решил?
– Мы с Юлией Никитичной решили.
– Два безумца, нашедших друг друга… Поступайте, как знаете, – махнул рукой отец.
Через несколько дней после этого разговора Сергей вместе с Юлинькой вновь отправились в Преображенскую больницу. Юлинька поспешила к Корейше – благодарить за исполнившееся предсказание, а Сергей – к князю. Старик одиноко сидел в своем кресле и что-то неслышно бормотал, глядя в одну точку. Когда Сергей подошел, он перевел на него взгляд, заулыбался:
– А! Мон шер ами! Как мило, что ты не забыл меня… Ты принес мне конфет?
– Думаю, что приехал сделать нечто лучшее, князь. Я заберу вас отсюда.
– Заберешь? – удивился Лев Михайлович. – Но куда же? Ведь у меня теперь, кажется, ничего нет… Даже одежды своей нет… Ничего, совсем ничего…
– Мы с женой приглашаем вас к нам. Мы позаботимся о вас.
Князь несколько минут молчал. Губы его задрожали, на глазах заблестели слезы.
– Мальчик мой, а ты не снишься мне? Не обманываешь меня?
Сергей опустил ладонь на неподвижную руку Льва Михайловича:
– Мы уедем сегодня же.
– Значит, княгиня меня не обманула… – тихо прошептала князь. – Она недавно сказала мне, что ты придешь и позаботишься обо мне… А я не поверил…
– Княгиня никогда не обманула бы вас.
– Ты прав, мой мальчик, ты, конечно, прав… Она никогда не обманывала! Только я… Только я… – при этих словах старик заплакал.
Сергей сдержал слово и забрал несчастного князя к себе. Отец, узнав об этом, написал, что, если уж двум безумцам так хочется воздать милостью врагу, то он мог бы оплатить достойное содержание князя, и вовсе не нужно было им стеснять себя присутствием больного полоумного старца. Но Сергей не принял этого предложения. Ведь не откупиться же от теней прошлого хотел он отцовскими деньгами, но добровольной жертвой отблагодарить Того, кто послал им с Юлинькой величайшее чудо. Разве можно отблагодарить за такое чужими деньгами? Ведь это было бы совершенным лицемерием…
Конечно, офицерского жалования при такой благотворительности едва-едва хватало Сергею. На него должно было содержать и жену, и князя, и прислугу. Но все же худо-бедно сводили концы с концами. Была бы жена барышней-белоручкой или, того хуже, барышней великосветской – пиши «пропало»! Или в долги бы вошел, или пришлось бы на отцовских хлебах жить. Но Юлинька знала, как вести хозяйство с должной экономией. Отец, конечно, не отказывал себе в удовольствии одарить сына и невестку во всякий праздник, но в гости к ним не наведывался – не желал даже нечаянно встретиться с князем. Потому чаще виделись у него – Сергей старался навещать отца, едва только выдавались свободные дни. Он, конечно, уже любил этого человека, недавно мнившегося врагом. Любил и восхищался им: его волей, умом, ловкостью, необычайной судьбой. И в то же время в присутствии отца всегда чувствовал некоторую тревогу, скованность, неясное напряжение, усиливавшееся, когда тот пронизывал его своим пытливым и точно в душе читающим взглядом. По-другому отец не мог смотреть даже на тех, кого любил и кому доверял.
С Юлинькой он, однако же, сразу поладил. И она легко сошлась с ним, как сходилась со всеми в силу чудного своего характера. Свекор даже показывал ей свои химические опыты, а Эжени помогала постигать тайны медицины.
Недавно из столицы пришло письмо брата Юлиньки Андрея, в котором тот сообщал, что вскоре переводится в Крым, где отныне намерен служить. Жена была счастлива. С братом ее связывали самые крепкие узы, и его присутствие в городе, который пока еще оставался для нее в значительной степени чужим, было кстати. Все же, сколь бы ни сильна была любовь молодых супругов, а нужна родная душа рядом, нужен человек близкий, с которым обо всем говорить, не чинясь, можно. Тем более, когда муж целыми днями пропадает на корабле, а то вовсе должен уходить в плавание.
После женитьбы Сергей с особенным рвением относился к своей службе. Нужно было непременно доказать адмиралу, что его скептицизм в отношении женатых моряков напрасен или, как минимум, имеет исключения. Павел Степанович внимательно наблюдал за ним, по-видимому, догадываясь о его стремлении. Наблюдение это было сперва испытующим, но постепенно становилось все теплее. Наконец, наступил день, когда адмирал вызвал Сергея к себе и, улыбаясь, объявил:
– Поздравляю вас капитан-лейтенантом, Сергей… – запнулся, – …Викторович! И полно уж, наконец, стараться вам дольше меня оставаться на борту-с! Вижу ваше рвение и хвалю его. Однако впредь будьте ревностны, когда того требует служба, а не для того, чтобы доказать мне, что всякое правило-с имеет исключения. Тешу себя надеждой, что вы как раз таковым и являетесь, и флот не потеряет-с в вашем лице одного из лучших офицеров.
– Павел Степанович, флот для меня всегда был и будет превыше всего!
– Ну, полно-с! Верю вам и верю в вас. А теперь ступайте к жене, кланяйтесь ей от меня и порадуйте ее вашим новым в высшей степени заслуженным званием-с.
Это признание, это доверие и этот поклон дорогого стоили, стоили самого производства в очередное звание.
Теперь, на адмиральском обеде, Сергей сидел с ощущением совершенного, почти неприличного счастья.
За обедом адмирал завел беседу о «Морском сборнике», начавшем выходить совсем недавно. Его издание было инициировано Федором Петровичем Литке, чье имя было настоящей легендой для молодых флотских офицеров. В далеком 1817 году на шлюпе знаменитого мореплавателя Василия Головнина «Камчатка» Литке совершил свое первое кругосветное путешествие. Шлюп «Камчатка» пересек Атлантику, обогнул мыс Горн, далее через весь Тихий океан добрался до Камчатки, побывал во всех русских владениях Северной Америки, на Гавайских, Марианских и Молуккских островах, пересек Индийский океан и, обогнув мыс Доброй Надежды, вернулся в Кронштадт. Федор Петрович занимал в команде пост начальника гидрографической экспедиции. Он неустанно занимался самообразованием – изучил английский язык, делал переводы, астрономические наблюдения и вычисления. Позже в ходе самостоятельных научных экспедиций на шестнадцатипушечном бриге «Новая Земля», которые ему поручили по рекомендации Головнина, Литке описал берега Новой Земли, сделал много географических определений мест по берегу Белого моря, исследовал глубины фарватера и опасных отмелей этого моря. В 1828 году была опубликована книга Литке «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля» в 1821—1824 годах», которая принесла ему известность и признание в научном мире.
В 1826 году Федор Петрович уже командиром шлюпа «Сенявин» отправился в новое кругосветное плавание. Экспедиция была самой результативной за всю первую половину 19 века. Занятый историческим и гидрографическим описанием ее результатов, Литке передал часть своих научных материалов академику Э. Ленцу и гельсингфорсскому профессору Гельштрему. Первый напечатал в академических «Мемуарах» «О наклонности и напряжении магнитной стрелки по наблюдениям Литке», второй – «О барометрических и симпиезометрических наблюдениях Литке и о теплоте в тропических климатах». После этого плавания имя Литке сделалось известным всему образованному миру и поставлено в ряду замечательнейших путешественников и мореплавателей века. Сразу после возвращения его произвели в капитаны первого ранга (минуя чин) и наградили орденом Св. Анны II степени. Литке был избран членом-корреспондентом Академии наук и получил Демидовскую премию за описание своих путешествий.
Именно этому замечательному мореплавателю и ученому Государь доверил воспитание своего младшего сына Константина, коему надлежало в будущем возглавить русский флот. 16 лет отдал Литке воспитанию своего августейшего питомца, искренно полюбившего и море, и его.
Когда Великий Князь повзрослел, то помог осуществлению многих прожектов своего учителя. В 1845 году по инициативе Литке было образовано Императорское русское географическое общество, которое возглавил Константин Николаевич. Литке же стал вице-президентом общества. Он также принимал деятельное участие в создании и занятиях Николаевской главной обсерватории, возглавляя Морской ученый комитет,
Издание Федором Петровичем при поддержке Константина Николаевича первого специализированного флотского журнала – «Морского сборника», было приветственно встречено всеми без исключения флотскими офицерами, включая, конечно, и Нахимова. Теперь сетовал адмирал на невнимание к «Сборнику» со стороны всей прочей печати:
– Просматривал я газеты, полученные с последней почтой, думал найти в фельетоне что-нибудь о новой книжке «Морского сборника». Нет ни слова, а как много пишут они пустяков! Споры ни на что не похожи-с; я был заинтересован последним спором, захотел узнать, из чего они бьются, – как скучно ни было, прочел довольно много. Дело вот в чем-с. Один писатель ошибся, слово какое-то неверно написал-с; другой заметил ему это довольно колко, а тот вместо того, чтобы благодарить его за это, давай браниться! И пошла история недели на две; что ни почта, то все новая брань. Нет, право-с эти литераторы непонятный народ-с, не худо бы назначить их хоть в крейсерство у кавказских берегов, месяцев на шесть, а там пусть пишут что следует!
Все присутствующие весело рассмеялись этому предложению. Засмеялся и сам Павел Степанович.
– Да не досадно ли, право-с, – продолжал он, – ведь вот хоть бы «Морской сборник», – радостное явление в литературе! Нужно же поддержать его, указывая на недостатки, исправляя слог не в специальных, а в маленьких литературных статьях. Наши стали бы лучше писать от этого-с.
– Как критиковать начнут, так и охота пропадет писать, – хрипло голосом заметил один из мичманов.
– Не то, не то вы говорите-с: критиковать – значит указывать на достоинства и недостатки литературного труда. Если бы я писал сам, то был бы очень рад, если бы меня исправлял кто-нибудь, а не пишу я потому, что достиг таких лет, когда гораздо приятнее читать то, что молодые пишут, чем самому соперничать с ними.
– У нас и без того хорошо пишут, – отозвался мичман.
– Едва ли так-с. Мне, по крайней мере, кажется, что у нас чего-то недостает: сравните с другими журналами, увидите разницу, иначе и быть не может. Всякое дело идет лучше у того, кто посвятил на него всю свою жизнь. Что же хорошего в нашем журнале, когда он весь покрыт одной краской, когда не видишь в нем сотой доли того разнообразия, которое мы замечаем на службе?
– Да ведь на службе все однообразно, здесь каждый день одно и то же делается!
– Неужели вы не видите-с между офицерами и матросами тысячу различных оттенков в характерах и темпераментах? – изумился Павел Степанович. – Иногда особенности эти свойственны не одному лицу, а целой области, в которой он родился. Я уверен, что между двумя губерниями существует всегда разница в этом отношении, а между двумя областями и подавно. Очень любопытно наблюдать за этими различиями, а в нашей службе это легко: стоит только спрашивать всякого замечательного человека, какой он губернии: через несколько лет подобного упражнения откроется столько нового и замечательного в нашей службе, что она покажется в другом виде. Мало того, что служба представится нам в другом виде, да сами-то мы совсем другое значение получим на службе, когда будем знать, как на кого нужно действовать. Нельзя принять поголовно одинаковую манеру со всеми и в видах поощрения бичевать всех без различия словами и линьками. Подобное однообразие в действиях начальника показывает, что у него нет ничего общего со всеми подчиненными, и что он совершенно не понимает своих соотечественников. А это очень важно. Представьте себе, что вдруг у нас на фрегате сменили бы меня и командира фрегата, а вместо нас назначили бы начальников англичан или французов, таких, одним словом, которые говорят, пожалуй, хорошо по-русски, но не жили никогда в России. Будь они и отличные моряки, а все ничего не выходило бы у них на судах; не умели бы действовать они на наших матросов, вооружили бы их против себя бесплодной строгостью или распустили бы их так, что ни на что не было бы похоже. Мы все были в Корпусе; помните, как редко случалось, чтобы иностранные учителя ладили с нами; это хитрая вещь, причина ей в различии национальностей. Вот вся беда наша в том заключается, что многие молодые люди получают вредное направление от образования, понимаемого в ложном смысле. Это для нашей службы чистая гибель. Конечно, прекрасно говорить на иностранных языках, я против этого ни слова не возражаю и сам охотно занимался ими в свое время, да зачем же прельщаться до такой степени всем чуждым, чтобы своим пренебрегать? Некоторые так увлекаются ложным образованием, что никогда русских журналов не читают и хвастают этим; я это наверно знаю-с. Понятно, что господа эти до такой степени отвыкают от всего русского, что глубоко презирают сближение со своими соотечественниками – простолюдинами. А вы думаете, что матрос не заметит этого? Заметит лучше, чем наш брат. Мы говорить умеем лучше, чем замечать, а последнее – уже их дело; а каково пойдет служба, когда все подчиненные будут наверно знать, что начальники их не любят и презирают их? Вот настоящая причина того, что на многих судах ничего не выходит и что некоторые молодые начальники одним страхом хотят действовать. Могу вас уверить, что так. Страх подчас хорошее дело, да согласитесь, что ненатуральная вещь несколько лет работать напропалую ради страха. Необходимо поощрение сочувствием; нужна любовь к своему делу-с, тогда с нашим лихим народом можно такие дела делать, что просто чудо. Удивляют меня многие молодые офицеры: от русских отстали, к французам не пристали, на англичан также не похожи; своим пренебрегают, чужому завидуют и своих выгод совершенно не понимают. Это никуда не годится.
От этого монолога адмирал заметно разгорячился, щеки его покраснели. Ненадолго он умолк, принявшись за грозящий остыть суп.
– Полагаю, «Морскому сборнику», действительно, не достает пока разнообразия, – согласился с Нахимовым Сергей. – Служба же как раз дает разнообразие. Особенно в походах и сражениях. Помилуй Бог! Ведь корабли наши стоят и на севере, и на юге, и на востоке! Разве одинакова служба в столь разных краях? И корабли разны, и люди… Да, вот, только писателей среди моряков немного, чтобы все оттенки отразить и читателям представить.
– Все неудачи в литературе, – вновь оживился Павел Степанович, – при доказанной опытности писателей происходят от того-с, что все одни и те же лица пишут. Сидит себе человек на одном месте, выпишет из головы все, что в ней было, а там и пойдет молоть себе что попало. Другое дело-с, когда человек описывает то, что он видел, сделал или испытал, и притом поработал довольно над своей статьей, и отделал ее, как следует-с. Боюсь я за «Морской сборник», чтобы с ним не случилась та же оказия-с. Когда возьмутся писать два-три человека каждый месяц по книге, то выйдет ли толк? Нужно всем помогать, особенно вам, молодые люди, вас это должно интересовать больше, чем нашего брата-старика, а выходит обратно-с. Вот, вы, Сергей Викторович, очень дельно-с теперь заметили. А сами? Отчего бы вам не написать что-нибудь для «Сборника»? Вы в многих делах и плаваниях поучаствовать успели-с, довольно видели-с! Отчего бы не взяться описать?
Сергей невзначай рассмеялся.
– И что же это вас так развеселило-с?
– Дело в том, что моя супруга, Юлия Никитична, уже целый год твердит мне, чтобы я занялся подобным литературным творчеством на основании моих писем к ней, – слегка смутившись, признался Сергей.
– Ну, так, вот, хоть жену послушайте, когда адмиральского слова вам мало-с! – развел руками Павел Степанович.
Присутствовавшие офицеры вновь дружно засмеялись.
– Напишите, господин Половцев, роман в письмах, – шутливо предложил кто-то.
Улыбался и сам адмирал, ожидая ответа окончательно смущенного Сергея.
– Что ж, – ответил он, поддаваясь тону общего веселья, – взялся за гуж – не говори, что не дюж. Берусь написать очерк в следующую книжку «Морского сборника»! Но только следуя слову адмиральскому!
БАСТИОНЫ ИМПЕРИИ
Пролог
Светло и утешно переливались монастырские колокола, и в их чудном хоре угадывал чутки слух матери Мастридии густой глас двухсотсемипудового гиганта, что отлит был на заводе Самгина на второй год ее игуменства. Стены древнейшей московской обители надежно оберегали души, решившие укрыться от мирской суеты в их благодатной тишине. Более сорока лет минуло, как в очередное из многочисленных нашествий, пережитых Зачатьевским, выгорела дотла вся Первопрестольная, а обитель, как купина неопалимая, в том пламени уцелела. Уцелели и монахини, не прекращавшие молитву во все время пожара, не покинувшие монастыря, невзирая на опасность, которой подвергали себя. Игумения Доримедонта с сестрами сделала тогда все возможное для сохранения церковных ценностей и порядка в обители. А после войны пришлось восстанавливать порушенное и строить новое…
Многое выстроили за эти годы… Только при матери Аполлинарии, предшественнице Мастридии, церковь Сошествия Святого Духа да богадельный корпус возводить начали. Михаил Доримедонтович Быковский, по благословению митрополита Филарета поднимавший из руин и пепла московские святыни, неустанно трудился над этими зданиями. Их освещение состоялось за год до того, как мать Мастридия сделалась игуменьей.
Велико хозяйство монастырское – ни мгновения свободного не остается. Труд и молитва, молитва и труд… Вот, окончилась служба, а мать игуменью уже посетительница дожидается. Едва переступила Мастридия порог, как та, несмотря на преклонные лета, вспорхнула легко со стула и в ноги ей поверглась…
Матери Мастридии гостья сразу показалась странной. Было ей лет шестьдесят или больше. Иссохшая, смуглая, с морщинистым лицом и пронзительными глазами, она была одета почти монашенкой – балахон темно-синий да такого же цвета убрус. Подняв посетительницу с колен, игуменья пригласила ее сесть, но та покачала головой:
– Не достойна я в вашем присутствии сидеть, матушка. Грех на мне великий. Прошу лишь выслушать меня!
Голос у нее был глуховатый, но звучный и, несмотря на заметное волнение, твердый. Эта женщина явно решилась на какой-то очень важный шаг, и теперь ее лихорадило, и она спешила говорить. Сесть гостья так и не пожелала, а говорила, стоя на коленях и опустив голову. Смотреть в лицо игуменьи ей то ли не доставало духу, то ли боялась она отвлечься от своей исповеди, которую, видимо, много раз повторяла про себя, а потому говорила, не сбиваясь, четко и ясно.
Такая речь не могла принадлежать безумной, но история, рассказанная ею, была настолько невероятной, что мать Мастридия смутилась. Перед ней стояла беглая монахиня, еще в юные годы покинувшая монастырь, порвавшая всякую связь с родными и многие годы скитавшаяся по миру вместе с человеком, одержимым местью, помогая ему в его возмездии…
Окончив свой рассказ, Евгения Дмитриевна резко вскинула голову и впилась своим немигающим взглядом в лицо игуменьи.
– Вы думаете, что я все придумала? Что моя история более похожа на роман, не так ли? – спросила она.
– Признаюсь, что ничего более невероятного мне не приводилось слышать в своей жизни, – откликнулась мать Мастридия.
По сухим губам гостьи скользнула улыбка:
– Вы правы. И я бы на вашем месте усомнилась, что такое возможно. Но видит Бог, что все мной рассказанное – правда. Многие из тех, о ком я говорила, живы и могли бы засвидетельствовать это.
– И тот человек? – осторожно осведомилась игуменья.
– Да, матушка.
– Позвольте задать вопрос…
– Я отвечу на любой ваш вопрос, матушка.
– Что было между вами?
– Ничего, кроме того, о чем я рассказала. Я любила его все эти годы и люблю доныне. Он был смыслом моей жизни. Но более не было ничего… Я была верна своему обету, а он – той, которую любил всю жизнь.
Обратное значительно меньше удивило бы мать Мастридию, и она мысленно попеняла себе, что даже ее, монахиню, прелюбодеяние уже давно не удивляет, а, вот, подобная верность в ситуации, когда мужчина и женщина столько лет вместе, когда женщина влюблена…
– Я понимаю, поверить в банальный побег за любовником значительно проще, – сказала Евгения Дмитриевна, точно прочитав мысли игуменьи.
Мать Мастридия покраснела:
– Простите… Просто в вашей истории все… так необычно… Но скажите, отчего же вы оставили его, если любите?
– На то есть две причины, – отозвалась гостья. – Во-первых, мне все равно скоро пришлось бы оставить его… Навсегда…
– Это знает лишь Господь!..
– Да. Но еще я, – спокойно ответила Евгения Дмитриевна. – Я хорошо разбираюсь в медицине, матушка. Лучше многих лекарей. И я хорошо знаю, что дни мои сочтены. И я не хочу, чтобы он видел мои последние дни… Звери уходят умирать подальше ото всех, чтобы их никто не видел. Я бы ушла так далеко, чтобы остаться вовсе одной. Если бы на мне не лежал грех… Я верю в Бога, мать Мастридия, и в его Страшный Суд. И я не могу предстать на него, не искупив преступления, не вернувшись в лоно Его Церкви… Не могу умереть, как зверь, без покаяния и последнего причастия.
– Это было бы очень страшно!
– Да, страшно! Все эти годы я боялась, чтобы мой час не настал внезапно, и просила Господа дать мне время на покаяние. Я верю, что мои молитвы услышаны, поэтому я здесь.
– А тот человек?
– Раньше я не могла бы покинуть его. Я была ему необходима. У него никого не было, кроме меня. Но теперь у него есть сын, невестка, внуки. И он сможет жить без меня, – при этих словах голос Евгении Дмитриевны дрогнул, и в первый раз за долгий разговор глаза ее затуманили слезы.
– Вам и теперь больно от разлуки с ним…
– Это… самая большая боль для меня… Но я утешена тем, что оставляю его не одного. В противном случае я была бы в совершенном отчаянии. Я пришла в Москву пешком, и теперь мое единственное желание – примириться с Богом, успеть найти путь к Нему. Я должна была посвятить жизнь Богу, но посвятила ее человеку. В этом мое преступление. Но я хочу верить в то, что Бог простит меня, потому что мое падение, возможно, спасло жизнь и душу этого человека.
– Судьбы Господни неисповедимы, – согласилась мать Мастридия, все более убеждаясь, что гостья говорила правду. – Я не могу судить вас. Слишком удивителен ваш путь… И если Бог привел вас в нашу обитель, значит, Он… также не осуждает вас и печется о вашем спасении. Вы хотели бы остаться в наших стенах?
– Если это возможно, матушка.
– Я не могу решить этого. Вы бежали из монастыря и столько лет жили вне Церкви…
– Я готова понести любую епитимью, какая мне будет назначена.
Игуменья покачала головой:
– Епитимью вы уже сами на себя наложили, давным-давно… Я нарочно отправлюсь завтра к владыке Филарету и буду говорить с ним о вас.
– Я всецело вверяю свою судьбу его мудрости и милосердию, – смиренно кивнула Евгения Дмитриевна.
– Верьте, никто лучше него не разрешит вашего дела. Вам лучше будет поехать со мной. Преосвященный, вероятно, пожелает беседовать с вами лично. А теперь я прикажу приготовить для вас комнату, дабы вы могли отдохнуть.
– Спаси вас Господь, мать Мастридия! Я не могла ожидать большего понимания и участия.
– Позвольте спросить еще… Отчего вы пришли именно в нашу обитель?
Евгения Дмитриевна внезапно смутилась.
– Так жребий лег… – отозвалась, опустив глаза.
– Жребий? – поразилась игуменья.
– Да, – подтвердила гостья. – Видите ли, я сперва написала на клочках бумаги названия различных городов, а затем наугад вытащила один – на нем было написано «Москва».
– А потом вы также распорядились с московскими монастырями?..
– Именно. Я понимаю, что способ не лучший… Но как еще мне было решить? Вот уже тридцать лет, как я живу в отрыве от Церкви. Просить совета мне было не у кого. А решать нужно было быстро. Оставалось лишь положиться на волю… Провидения!
– Ваш путь, безусловно, удивителен во всем… Если бы вы написали воспоминания, то они оставили бы позади все романы…
– И стали бы соблазном для юных послушниц?
– Соблазном? Я бы не сказала, что вашей судьбе можно позавидовать.
– Моя судьба… была счастливой, – тихо ответила Евгения Дмитриевна, с видимым трудом поднявшись с колен. – Я была единственной спутницей удивительного человека, человека любимого… Я была нужна ему все эти годы. А что может быть важнее, нежели быть нужной тому, кого любишь?
– Значит, вы ни о чем не жалеете?
– Всегда есть, о чем жалеть. Но… если бы моя жизнь была дана мне вновь, я прожила бы ее также, и никакой иной судьбы я не желаю. Не осудите меня и за это.
Странным светом светились глаза немолодой, истощенной женщины. Можно было легко представить себе, какой была она прежде. Нет, у нее не могло быть обыкновенного пути – ни в монастырских стенах, ни в мире. Слишком не похожей на других была она создана. Кто знает, может, она и в самом деле исполнила свое предназначение через свое падение, поставив на кон… спасение собственной души? Судьбы Божии – как смертным и грешным людям судить? Тайна сия велика есть…
Глава 1.
«Любезный друг и брат Пьеро!
Ты, конечно, уже наслышан о моей севастопольской комедии, и, должно быть, немало удивлен, что я при моем характере и в мои лета вдруг докатился до подобного мальчишества. Хотя… Друг Пьеро, лишь ты и Юлия знаете меня, как никто другой! А при таком совершенстве знания, тебе ли было не разгадать, что лишь мой-то характер и мог послужить причиной всего произошедшего?
Ты знаешь, что я всегда смотрел на женщин свысока (дорогая Юлинька – исключение, ибо я никогда не смотрел на нее, как на женщину) и смеялся над сильными чувствами. Я решительно не допускал мысли сделаться однажды рабом какой-нибудь красотки, вредить сердцу своему и пищеварению глупыми страстями, воспеваемыми нашими поэтами. Читать о чужих страстях бывает, клянусь, презабавно, но избави Боже окунуться в них самому! Так рассуждал я с юных лет и положительно решил прожить жизнь умнее прочих – то есть не поддаваясь никаким страстям и во всем следуя лишь рассудку.
Дорогой Пьеро! Я надменно решил посмеяться над природой, но природа в итоге смеется надо мной. Ты, конечно, знаешь, что я никогда не был тем бесчувственным чурбаном, каким стремился казаться. С сожалением понимал это и я сам, а оттого напирал на видимость… Никому так не доставалось от острого моего языка, как тем, кого более иных любил я. Признаться в добрых чувствах мне было совестно, а, не находя сил изображать равнодушие, я язвил и бранил тех, кто был дорог моему сердцу. Чем больше любил человека, чем больше сочувствовал и беспокоился о нем, тем злее ругал его на людях, так, что можно было подумать, будто я питаю к нему вражду.
Мне нет нужды писать тебе подробно о моих парадоксах. Ты знаешь их, ты сам бывал их жертвою. Представь же теперь, что на моем пути возникла женщина, и, вот, ступив на четвертый десяток лет, я… влип, как последний осел.
Мы познакомились на одном из балов и сперва весьма подружились. Ее живой ум и веселый нрав пришелся мне по душе. Я стал бывать у нее дома. Мы довольно много и непринужденно разговаривали. В общем-то, все было прекрасно до того дня, когда я понял, что влюблен по самые мои ослиные уши. Представь, это осознание оскорбило мою гордость! Ведь я столько лет презирал и отвергал это воспеваемое господами сочинителями чувство! Я решил немедленно истребить в себе его пагубные зачатки и перестал бывать у моей милой графини… Я не отвечал на ее письма, а потом и вовсе, добившись командировки, уехал из города на продолжительное время.
Когда я вернулся в Севастополь, то уже понял, что побег мой от самого себя был напрасен. Я уже готов был смириться с собственным поражением и просить руки моей победительницы. Но тут выяснилось, что она обручилась незадолго до моего возвращения!
Скажи, брат Пьеро, кто виновник такого исхода? Я один! Неужто должна была она ждать человека, который даже не отвечал на ее полные беспокойства строки? Я оскорбил ее своим отношением! Конечно, я понимал это и тогда, но моя проклятая гордость затмила остатки моего хваленого разума. Я любил эту женщину более всего на свете. Я желал видеть ее. Говорить с ней. Говорить о ней! Но не мог же я кричать о любви к ней! И, как глупый школяр, я стал сочинять эпиграммы в ее и ее жениха адрес… Я выплескивал на них свою злобу на самого себя, не переставая безумно любить ее, будучи готов всякий миг умереть за нее! Но мои ядовитые колкости могли сказать ей лишь о ненависти, а никак не о любви…
Само собою, ее нареченный не стал долго терпеть моих выходок и самым джентльменским образом призвал меня к барьеру. Брат Пьеро, этот человек слыл отменным стрелком, а я… Ты знаешь, что я куда лучше обращаюсь с циркулем, нежели с пистолетом. Он, как сторона оскорбленная, стрелял первым. И промахнулся. Глупое мое счастье! Я же и вовсе выстрелил в воздух. Спросишь, почему? Не подумай, что из-за человеколюбия – в тот момент я готов был убить его десять раз. Но я увидел в этом ничтожестве страх. При виде наставленного на себя пистолета он раскис, как последняя баба! А стрелять в размазню… Пьеро, брезгливость превзошла во мне ненависть!
Хотя ни капли крови не пролилось в тот день, но по начальству было донесено о нашей встрече. С него, как со статского, спрос был меньше. Вскоре он с моей графиней и ее семейством отбыл заграницу. А я… Пожалуй, Государь простил бы меня в уважение к отцу и учитывая сугубо постный исход дела. Но я не желал прощения, ибо сам не мог себя простить.
Слава Богу, Отечество наше велико и необъятно, и всегда можно найти в нем угол столь отдаленный, где бы тебя никто не знал, но где, однако же, ты можешь служить своему Государю. И, вот, теперь я на самом краю земли, познаю край дикий и прекрасный…»
– Что это вы, Андрей Никитич, все пишете и пишете? Скоро уж рассветет, а вы и глаз не сомкнули, – послышался ласковый сонный голос.
– С тобой, Матрена, сомкнешь их! – улыбнулся Андрей, отложив недописанное письмо и вглядевшись в полумрак, из которого выступала стыдливо закутанная в одеяло фигура Матрены.
Сыскать ли бабу более щедрую на ласку, нежели вдовая молодка, мужа своего едва успевшая узнать и вовсе не успевшая – полюбить? Матренин муж, камчатский охотник, сгинул тому назад четыре года. Не то замерз, попав в свирепую метель, не то звери дикие растерзали. Поплакала баба, как полагается, да и зажила сама собою… Здесь, в доме отставного штабс-капитана Захарова, где квартировал Андрей, Матрена была кухаркою. А заодно и прочую работу по дому исполняла. Штабс-капитан был уже в преклонных летах и предпочитал бабьему обществу штоф доброй наливки. Дочери Захарова одна за другой вышли замуж. Из них лишь одна по сию пору жила с семейством в Петропавловске, а другие перебрались на «большую землю». Матрена скучала…
Андрей хорошо помнил, как обожгли его зеленые, искрящиеся глаза, едва он переступил порог дома. Хороша была баба… Кабы в этих краях скульпторы были, так пожалуй изваял бы кто с нее Венеру Камчатскую. Вот, только мраморная Венера никогда огня живой не передаст. И растворяющей в себя мягкости – тоже…
Сошлись они легко и скоро. Матрена давно стосковалась без ласки, а Андрей в жарких объятиях ее стремился забыть свою графиню. Хотя последнее куда как непросто было…
Андрей прибыл в Петропавловск в самый разгар работ по строительству военных укреплений города. Кто бы мог подумать, что еще десять лет назад об этой земле в Петербурге едва ли вспоминали! Из всех окраин Империи Камчатка, пожалуй, самой крайней была… Но иные дальнозоркие приметили, что с середины 40-х зачастили в нашу гавань чужестранные китобои. И до того распоясались, что творили различные бесчинства, чувствуя себя хозяевами. Английские суда наведывались в Петропавловск под чужими флагами, явно ведя разведку.
Все изменилось в 1847 году, когда генерал-губернатором Восточной Сибири был назначен молодой, энергичный и дальновидный граф Николай Николаевич Муравьев. Гвардейский офицер, участник турецкой и польской кампаний, герой кавказской войны, к 38 годам он уже получил чин генерал-майора, проявил себя успешным администратором, исполняя обязанности тульского губернатора. Деятельность Николая Николаевича на новом посту была чрезвычайно многогранна. Свою службу в Сибири он начал с предупреждения: «Я не из тех Муравьевых, которых вешали. В случае чего, сам буду вешать!» Как у многих истинных государственных деятелей, суровость сочеталась у него с милосердием. По-настоящему милостив может быть лишь человек твердой воли, милостивость же людей, оной лишенных, чаще всего оказывается элементарной слабостью, ведущей к дурным последствиям. Муравьев облегчал участь декабристов, даже принимал их на службу. Император радовался: «Наконец нашелся человек, который понял меня, понял, что я не ищу личной мести этим людям, а исполняю только государственную необходимость и, удалив преступников отсюда, вовсе не хочу отравлять их участь там». Еще одна мера, предпринятая губернатором, казалась на первый взгляд диковатой, но, в итоге, оправдала себя. Для борьбы с проституцией Муравьев распорядился выдавать женщин легкого поведения замуж за штрафников. Свадьбы проходили так: солдаты и женщины выстраивались по росту друг против друга, затем каждый солдат подходил к стоящей перед ним девке и вел в церковь. После венчания и праздничного стола новобрачные проводили первую брачную ночь в общей казарме, после чего их отправляли на Амур. Получив бесплатно по одной лошади, лес на строительство дома, сохи, бороны, молодожены обзаводились хозяйством и детьми…
Прослышав о справедливом начальнике, к Муравьеву стали со всех сторон приходить жалобы на притеснения и просьбы о защите от лихоимцев. Николай Николаевич рассматривал их лично. «Столица Сибири погрязла в разврате и взяточничестве», – таков был вердикт молодого губернатора. Решительно взявшись за дело, он в короткий срок поставил заслон противозаконной переправке намытого золота в Китай, своей властью отдал под суд погрязших в преступлениях золотопромышленников, уничтожил долговую кабалу, которой головорукие дельцы легко опутали доверчивое население. Своими действиями Муравьев сумел разрушить круговую поруку среди чиновничества, которая многим представлялась непобедимой. Заботился новый губернатор и о народном просвещении, открывая школы и учреждая публичные лекции.
Главным же направлением деятельности Николая Николаевича стало укрепление и защита рубежей вверенной ему территории. Он тотчас по назначении обратил внимание на растущую угрозу нападения иностранцев, в первую очередь британцев, на Камчатку и Приамурье. При его поддержке стали основываться новые русские поселения, а в начале 1854 года он добился у Государя разрешения произвести по Амуру сплав войска. Первый сплав состоялся всего несколько дней назад.
С 1848 года Муравьев занялся строительством военных укреплений в Петропавловске. Летом 1849-го на транспорте «Иртыш» он прибыл в Петропавловский порт, лично осмотрел местность и наметил места строительства новых батарей: на Сигнальном мысе, на Петропавловской косе и у озера Култушного. Кроме того, генерал-губернатор распорядился укрепить Авачинскую губу, так как без этого она могла быть захвачена самой незначительной вражеской эскадрой.
Таким образом, инженер-капитан Никольский прибыл в Петропавловск как нельзя более ко времени. В военных инженерах здесь, как и во многом другом, ощущался значительный недостаток. Да и чему удивляться? Столько лет русское правительство смотрело лишь в западном направлении, по временам оглядываясь на юг, где не давали покоя Империи непокорные кавказские племена… А необъятные пространства Сибири и Дальнего Востока оставлялись без внимания. Да что там лет! Веков! Со времен грозного Царя, когда наши войска сражались с неприятелем в Литве, а беглые «разбойники» атамана Ермака били Кучума и завоевывали для Русского Царства Сибирь…
Добираясь до нового места службы Андрей пересек ее всю и был поражен и необъятностью ее, и суровым величием ее природы, ее красотой и богатством… А что Сибирь для наших столичных «европейцев»? Каторга… Место, куда сослали декабристов… Страшный острожный край…
А Камчатка? Слышали ли они о ней вообще хоть что-то? Сам Андрей ожидал увидеть унылую пустошь, а увидел – чудо. Ни в одном уголке России не найти столь удивительной природы. Леса, реки, синие склоны курящихся сопок, окутанных белым дымом… Андрею страшно хотелось поездить по дивному полуострову, осмотреть все его чудеса, не исключая и знакомства с дикими племенами, что жили в глубине его. Но служба не оставляла времени для праздных путешествий…
Одно печалило Андрея. При поразительном изобилии этой земли и обступавшего ее моря, люди все равно жили бедно и тяжело. А ведь с таким-то богатством, Богом даденным, совсем иначе жить можно! Да, вот, некому иную жизнь устроить… И никому до той жизни дела нет. Вроде и русская земля, а в России, пожалуй, об индейцах Америки поболе знают, нежели о своих камчадалах.
Впервые взялся здесь Андрей вести записи, имея целью когда-нибудь, вернувшись на «большую землю», рассказать о том, какой прекрасный край так несправедливо позабыт нашим «просвещенным» обществом. Матрена, выросшая здесь, была для Андрея бесценным источником сведений о местных обычаях.
– А про меня вы в своей книге напишете? – спросила она, ласково никня к его плечу.
– А тебе я отдельную главу посвящу. Она будет называться «Венера Камчатская»… – тихо отозвался инженер-капитан, обнимая ее.
Сомкнуть глаз этой ночью Андрею и впрямь почти не удалось, но это не поубавило его утренней бодрости. Да и утро куда как бодро началось! Еще только успел приступить Никольский к завтраку, а уж посыльный в окно забарабанил: Василий Степанович срочно вызывает! На ходу чай допив, поспешил Андрей на зов.
Генерал-майор по адмиралтейству Василий Степанович Завойко уже четвертый год управлял Камчаткой, призванный на эту должность Муравьевым. Он происходил из дворян Полтавской губернии, отец его был отставным флотским врачом, штаб-лекарем Николаевского морского госпиталя. В выборе поприща юноша не колебался – его душу влекло одно только море. Службу Завойко начал на Черном море, но, получив звание мичмана, был переведен на Балтийский флот. На корабле «Александр Невский» он участвовал в Наваринском сражении, командуя четырьмя пушками в нижнем деке и будучи начальником первого капральства первого абордажного отряда. Русский фрегат вел бой сразу с тремя кораблями противника, один потопил, другой захватил. За отличие в бою и личную храбрость Василий Степанович был отмечен орденом св. Анны 3-й степени. Позже он служил на корвете «Наварин», на котором в составе эскадры Гейдена принял участие в блокаде Дарданелл, а затем на фрегате «Паллада» под началом Нахимова.
В 1834−1836 гг. Завойко совершил кругосветное путешествие из Кронштадта на Камчатку, еще не ведая, сколь важную роль в ее судьбе предстоит ему сыграть. Далее последовало кругосветное путешествие из Кронштадта к Русской Америке. С 1840 года Василий Степанович был начальником Охотской фактории, обследовал все восточное побережье Охотского моря и Шангарские острова и решил устроить в бухте Аян факторию, так как Охотский порт был менее удобен. За учреждение Аянского порта был награжден орденом св. Анны 2-й степени.
В феврале 1850 года Завойко был назначен исправляющим должность камчатского военного губернатора и командиром Петропавловского порта на Камчатке. Здесь он организовал постройку шхуны «Анадырь», ботов «Алеут» и «Камчадал» и руководил строительством наземных укреплений.
Андрей сразу нашел общий язык с Василием Степановичем, и их совместная работа шла, как нельзя лучше. Отважный моряк оказался на суше весьма распорядительным администратором, решительным и умеющим быстро вникнуть в новое для себя дело.
Этим утром в кабинете камчатского губернатора собрались все его ближайшие сотрудники. Сам генерал-майор выглядел крайне озабоченным. Его сухое, строгое лицо хмурилось, время от времени он начинал разглаживать свои аккуратно подстриженные усы, что служило явным признаком беспокойства.
– Уж не война ли началась, Василий Степанович? – осведомился Андрей.
– Не торопитесь, капитан, – отозвался Завойко, взглянув на него исподлобья. – Вот, все соберутся, тогда и узнаете.
Все собрались минут через десять – заранее взволнованные внезапным приглашением губернатора. Василий Степанович не стал тратить время на предисловия и сразу перешел к главному:
– Вы все помните, что еще в марте я получил письмо от нашего друга – короля Гавайских островов Камеамеа III, в котором он любезно предупреждал нас о том, что Англия и Франция могут напасть на Петропавловск уже этим летом. Сегодня я получил подтверждение этому. Наш генеральный консул в Америке прислал официальное уведомление о начале войны.
– Этого следовало ожидать… – вздохнул Андрей. – Наполеон и Пальмерстон не могли простить нам Синопа. Им нужен был лишь повод. И наша блестящая виктория стала таковым.
– Повод теперь уже не важен, – ответил Завойко. – Важно лишь то, что началась война, а мы не успели подготовиться к ней в должной мере. Я подготовил обращение к населению Камчатки с предупреждением о возможном на нас нападении.
– Это может посеять панику… – послышался осторожный голос.
– Жители Камчатки – не трусы, чтобы впадать в панику при близости врага. А я не лжец, чтобы держать их в неведении об опасности. Куда больше паники будет, если близость врага возвестят нашим людям его пушки, а не мы. Женщин и детей необходимо вывезти в безопасное место. Все мужчины, способные носить оружие, должны быть готовы противостоять неприятелю, не щадя жизни. Петропавловский порт должен быть подготовлен к обороне!
– Порт будет к ней подготовлен, Василий Степанович, – твердо сказал Андрей. – Хотя наши силы едва ли смогут противостоять английской эскадре, если она появится у наших берегов. Наш гарнизон не насчитывает и 250 человек, а пушек у нас и вовсе лишь семь…
– Эскадра появится, Андрей Никитич, непременно появится. Они тоже знают, что у нас мало сил, и будут рассчитывать на легкую победу. И в этом теперь наш единственный шанс.
– В чем же этот шанс?
– Сражение выигрывает тот, кто готов к нему, а не тот, кто идет на него, как на прогулку. Они считают, что взять Петропавловск – всего лишь приятная прогулка. Мы разочаруем их в этом. Наш главный враг теперь – время. Если неприятель поторопится, то его прогулка может увенчаться успехом. Сегодня я затребовал у командования орудия. Будем надеяться, что их успеют прислать прежде появления неприятеля. У нас же теперь две задачи. Успеть завершить строительство главных укреплений порта и сформировать отряды добровольцев – стрелковые и пожарные. Большинство местных жителей – охотники. Обращаться с оружием их учить не нужно. Что же до укреплений, то тут я полагаюсь на вас, Андрей Никитич.
– Клянусь оправдать ваше доверие, Василий Степанович, – Андрей вытянулся по стойке «смирно». – Я не сомкну глаз, не буду знать ни мгновения отдыха, пока береговые батареи не будут возведены. Разрешите приступить к исполнению?
– Ступайте, Андрей Никитич, и помоги вам Бог. И всем нам.
Покинув совещание до его окончания, инженер-капитан Никольский поспешил в порт. Город уже дышал волнением. То там, то здесь толпились встревоженные люди, обсуждавшие обращение губернатора, которое было расклеено повсюду, и немногочисленные грамотные читали его остальным, грамоты не ведающим.
«Я пребываю в твердой решимости, как бы ни многочисленен был враг, сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови; убежден, что флаг Петропавловского порта во всяком случае будет свидетелем подвигов чести и русской доблести!» – эти слова губернатора находили неизменный отклик в сердцах мужчин – от мальчишек до ветхих старцев, не разучившихся еще, однако, держать ружье, но леденили сердца женщин, коим надлежало вместе с детьми покинуть родные дома, мужей, сыновей, не зная наперед, суждено ли будет увидеть их вновь…
Глава 2.
Письмо от сына застало Никиту Васильевича в постели. Как ни крепился, а, вот же, свалила проклятая хворь… И письмо мало утешило. Писано оно было еще в пору мирную, а покуда от Камчатки до столицы дошло, уже пушки загрохотали вовсю… Что-то там будет теперь, в Петропавловске…
Хуже болезни точило Никольского сознание упущенного времени и возможностей. Наши дальневосточные владения! Давно, давно надо было укреплять их… Никита Васильевич целый проект написал, и Государь одобрил его. И Муравьева, с полушага всякое дело понимающего, на годы вперед глядящего, несмотря на молодые для такого крупного поста лета, Никольский Императору рекомендовал. И как же удачно выбрали! Завертелась работа!
Главным делом Николая Николаевича стало укрепление и расширение границ Империи на Востоке и возвращение России Амура, который отошел Китаю по Нерчинскому договору 1689 года. Еще в 1649-1653 годах землепроходец Ерофей Хабаров со своими казаками совершил ряд походов в Приамурье и составил чертеж Амура. Казаками хабаровского отряда была основана там крепость Албазин. За нее вскоре развернулось противостояние, едва не окончившееся войной. Не сумев одолеть сопротивление героически сражавшегося гарнизона крепости, Цинская империя вынуждена была пойти на переговоры с русскими в Нерчинске. Осада непокорной крепости не снималась при этом и во время них. Полуторатысячный гарнизон продолжал сдерживать напор пятнадцатитысячного китайского войска, несмотря на нехватку боеприпасов и провизии. Цины требовали передачи им Албазинского воеводства и большей части Забайкалья, не желая принимать предложения провести границу по Амуру. В этом их поддерживали участвовавшие в переговорах миссионеры-иезуиты, активность которых мешала достижению выгодных для России условий. Согласно подписанному договору, Китаю достались почти все земли по верхнему Амуру, где ликвидировались русские поселения, крепость Албазин подлежала «разорению до основания», граница была проведена по рекам Горбица и Черная, полоса земель к северу от Амура признавалась нейтральной. Более всего интересы России были ущемлены запретом для русских судов ходить по Амуру, что давало огромную выгоду англичанам и французам, избавившимся от конкуренции в рыбном и других промыслах в этом регионе.
После Нерчинского договора Россия как будто охладела к дальневосточным территориям, забыла о них. Курс на сдерживание дальневосточных инициатив преобладал в российской политике вплоть до 40-х годов. По крупному счету, лишь людям, побывавшим в крае, организаторам морских экспедиций представлялось плодотворным продолжение активной политики на Дальнем Востоке. Адмирал Крузенштерн в 1843 году настаивал на отправке посольства в Японию, надеясь на установление с ней прочных торговых связей, от которых ожидал пользу и для Охотско-Камчатского края. Одним из первых, кто заявил о необходимости присоединения амурских земель, был восточно-сибирский генерал-губернатор Руперт, в марте 1846 года подавший записку на Высочайшее имя, в которой указывал: «Амур необходим для восточного края России, как необходимы берега Балтийского моря для западного его края, необходим как для расширения наших торговых связей с Китаем, и вообще с Востоком, как для решительного утверждения Русского флота над северными водами Восточного океана, так и для быстрейшего и правильнейшего развития естественных богатств Восточной Сибири, всего этого огромного пространства земель от верховьев Оби до Восточного океана…»
Значение Дальнего Востока для России, еще до своего отбытия в Сибирь, ясно видел и Муравьев. В этом своем убеждении он заручился поддержкой адмирала Невельского, экспедиции которого исследовали Амур. Невельской, обосновывая необходимость возврата Амура, писал: «Стоит только внимательно взглянуть на карту Сибири, чтобы оценить всю важность этой потери: полоса земли в несколько тысяч верст, удобная для жизни оседлого человека и составляющая собственно Восточную Сибирь, где сосредоточивалось и могло развиться ее народонаселение, а с ним и жизнь края, ограничивается на юге недоступными для сообщения, покрытыми тайгою цепями гор, на севере – ледяными бесконечными тундрами, прилегающими к такому же ледовитому океану; на западе – единственными путями, через которые только и можно наблюдать и направлять ее действия к дальнейшему развитию, наравне с общим развитием нашего отечества, – путями, через которые только и возможно увеличение ее населения; на востоке – опять недоступными для сообщения горами, болотами и тундрами. Все огромные реки, ее орошающие: Лена, Индигирка, Колыма и другие, которые при другом направлении и положении могли бы составить благо для края, – текут в тот же Ледовитый, почти недоступный океан и через те же недоступные для жизни человека пространства. Между тем природа не отказала Восточной Сибири в средствах к этому развитию; она наделила ее и плодородными землями, и здоровым климатом, и внутренними водными сообщениями, связывающими ее более или менее с остальной Россией, и богатствами благородных и других металлов – элементами, обеспечивающими благоденствие жителей Восточной Сибири и ее постепенное и возможное развитие, если только ей открыть путь, посредством которого она могла бы свободно сообщаться с морем. Единственный такой путь представляет собою когда-то потерянная нами река Амур». Исследования Невельского доказали доступность устья реки для больших судов и поставили вопрос о присоединении амурских земель силовым методом к Империи с целью выхода в Тихий океан и предотвращения английской угрозы этим территориям.
Сам адмирал едва не поплатился карьерой за свою службу. Исследование Амура были предприняты им на свой страх и риск, без санкции Петербурга. Узнав об этом, граф Нессельроде пришел в бешенство. Экспедиция Невельского ставила под угрозу наши отношения с Китаем! Нессельроде требовал разжаловать адмирала в рядовые, и тот был немедленно вызван в столицу. Геннадий Иванович прибыл в Петербург, готовясь понести незаслуженное наказание, но Государь, напротив, высоко оценил его «самовольство» и благодарил за столь важное для Империи открытие.
В течение 1851-1853 гг. производились исследования лимана Амура, острова Сахалин, везде были основаны русские поселения. В своих планах по возвращению Амура Муравьев заручился поддержкой Императора.
– Амур должен стать стратегическим каналом для защиты Дальнего Востока, – говорил Николай Николаевич на высочайшей аудиенции.
– Трудно защищать Амур из Кронштадта, – согласился Император.
Ознакомившись на месте с состоянием дальневосточной политики, Муравьев объявил прямо преступным предшествовавший политический курс: «…в последние 35 лет враждебный дух руководствовал всеми нашими действиями в этой стороне! Обвинять моих предшественников, т.е. генерал-губернаторов Восточной Сибири, было бы не справедливо – но грех Сперанскому, ибо тот, кто собирался быть председателем временного правления, не мог не понимать важности Восточного океана…». Николай Николаевич полагал, «что главнейшею заботою и занятием здесь правительства должно бы быть обеспечение естественных границ империи, предмет, который, к сожалению, и Сперанским и до него, и после него оставлен был без всякого внимания». «Соседний многолюдный Китай, бессильный ныне по своему невежеству, легко может сделаться опасным для нас под влиянием и руководством Англичан, Французов, – отмечал он, – и тогда Сибирь перестанет быть Русскою; а в Сибири, кроме золота, важны нам пространства, достаточные для всего излишества земледельческого народонаселения Европейской России на целый век; потеря этих пространств не может вознаградиться никакими победами и завоеваниями в Европе; и, чтоб сохранить Сибирь, необходимо ныне же сохранить и утвердить за нами Камчатку, Сахалин, устья и плавание по Амуру и приобрести прочное влияние на соседний Китай».
11 января 1854 года Император предоставил Муравьеву право вести переговоры с китайским правительством о разграничении восточных окраин и разрешил переправу войска по Амуру, наказав, однако, вести дело так, чтобы оно не привело к войне: «Ну смотри, Муравьев, чтобы и не пахло пороховым дымом! Головой ответишь…» Но Николай Николаевич и сам менее всего стремился к войне. Пройдя три войны, он хорошо знал цену человеческой жизни и ненавидел напрасную кровь. Его политика преследовала цель возвратить Амур сугубо мирным путем…
Когда Никольский узнал о переводе сына на Камчатку, то нисколько не огорчился этому. То, что другие полагали ссылкой в медвежий угол, Никита Васильевич видел совсем иначе. Он мечтал сам побывать в тех краях, но лета и здоровье уже не допускали такого путешествия. Глубоко сознавая их значение для России, Никольский был рад, что хотя бы Андрей узнает наши дальневосточные владения и послужит на благо их.
Счастье, что для этих земель нашлись такие люди, как Муравьев, Невельской, Завойко. Счастье, что воля Государя в стремлении закрепить за Россией столь нужные ей пространства оказалась сильнее вечно тормозящих любое необходимое начинание чиновников и, в первую очередь, канцлера Нессельроде.
От одной мысли о канцлере закололо в боку. Вот уж, если есть у Империи злой гений, так он нашел свое воплощение в этом человеке! Хотя не только в нем… Чувствуя невозможность дольше лежать от распирающих голову мыслей, Никита Васильевич, охая, совлек больное тело с постели и, облачившись в халат, доковылял до письменного стола.
Он никогда не жаловал внешнюю политику… Сколько времени драгоценного и сил уходило на внутреевропейские дрязги… Что нам те дрязги? Варились бы они там в своем соку… В своем бы дому, наконец, порядок навести, своему народу благосостояние и просвещение истинное дать… Нет, свернули себе голову, вечно на Европу озираясь… Священный союз! Это Александрово изобретение всегда раздражало Никольского. Благородство… Идеалы… Какие могут быть идеалы – там?.. Какое истинное и искреннее братство – с нами?
Франц-Иосиф недвусмысленно показал теперь, что все это лишь наши наивные грезы. Совсем недавно спасенный Россией от революции, молодой австрийский Император, которому надлежало бы по гроб жизни быть благодарным Императору русскому, теперь становился в стан врагов его.
Николай горько переживал эту обиду.
– Я жестоко наказан за излишнюю доверчивость по отношению к нашему молодому соседу, – сетовал он. – С первого свидания я почувствовал к нему такую же нежность, как к собственным детям. Мое сердце приняло его с бесконечным доверием, как пятого сына. Ты, друг мой, пытался избавить меня от столь сильного заблуждения, но я несправедливо тогда отнесся к твоим добрым намерениям. Ныне я признаю это и прошу прощения за мое ослепление.
Тоскливо было слушать Никите Васильевичу эти покаянные слова Государя. И оттого, что намерения слишком поздно оказались поняты, но всего более – от жалости к самому царственному рыцарю. Императора Никольский любил всем сердцем. Его благородство, его неистребимая вера в человеческую порядочность восхищала Никиту Васильевича, но и пугала одновременно. Времена рыцарей давно прошли (если и были когда-то – европейская история немного дает таких примеров в политике…), а во времена дельцов наивность обходится по самой дорогой цене. Всем. Простым смертным, царям, царствам…
Болела душа за Россию, и не меньше за ее Государя. От нарастающих в последнее время, как ком, неудач и разочарований, он, еще не достигнув и шестидесяти лет, постарел на глазах. Он старался не подавать виду, сколь тяжело для него создавшееся положение, но и скрыть это невозможно было. Рушилось то, чему он посвятил всю жизнь, то во что свято верил он. И прежняя гордая победительность уступала место сомнениям и горечи. Он походил теперь на затравленного льва, всякий миг ожидающего нового удара… И самому себе не могущего простить, то что угрозы ударов этих просмотрел, недооценил в своей доверчивости…
Если не считать надежд на подлых австрияков, роковая ошибка была совершена год назад… По совести говоря, Никольский вообще не считал нужным бередить вечный конфликт с Турцией. Конечно, балканские христиане нуждались в защите, но… Убежден был Никита Васильевич, что сперва должно было защитить собственных подданных от нищеты, бесправия и лихоимств. Нельзя вечно сражаться да еще преимущественно за чужие интересы… Но христианская совесть Императора требовала защитить угнетаемые православные народы и обеспечить равноправие Православной Церкви в турецких владениях. Был у Государя и свой план, как быстро и твердо поставить на место зарвавшуюся Порту – произвести силами Черноморского флота десантную операцию и взять Константинополь.
Флот Черноморский был в блестящем состоянии, а его боевые адмиралы, несомненно, справились бы с такой задачей. Но тут, как всегда, вмешался Нессельроде со своим вечным страхом, как бы Европа не рассердилась на нас за нашу дерзость. Армейское начальство также не проявило боевого задора. Все убоялись гнева наших западных братьев и друзей… И Императору не достало воли настоять на своем… Прежде волю ту трудно преломить было, но к 60 годам и она перестала быть стальной, как раньше…
И, вот, вместо блестящей операции решили ввести войска в Дунайские княжества, напомнить туркам их место, хорошенечко надрав им хвосты там. И тут казавшаяся безотказной машина дала сбой. Князь Эриванский был уже стар, а его всегдашние старания собрать вокруг себя людей, которые не могли бы затмить его, привели к тому, что во главе наших войск оказались большей частью бездарности, могущие лишь слепо выполнять приказы. Причем не столько приказы Императора, сколь командующего Паскевича… Новая плеяда полководцев забыла суворовские заветы. И, вот, князь Горчаков, имея возможность через день-другой взять Силистрию, снял осаду лишь потому, что Паскевич, находящийся за тридевять земель и не знающий ситуации, отдал этот бессмысленный приказ…
После Синопа Император оживился и словно помолодел. Ему показалось, что удача вновь возвратилась к нам. Но радость была недолгой… Еще в феврале Николай пытался увещевать Франца-Иосифа: «Позволишь ли ты себе, апостольский император, интересы турок сделать своими? Допустит ли это твоя совесть? Произойди это, Россия одна под сенью Святого Креста пойдет к своему святому назначению».
Совесть… Была ли она когда-нибудь у Австрии? Уж не тогда ли, когда исподтишка вредила она Суворову во время Италийского похода? Совесть… В мире забыли это слово, но как же тяжело было вдруг осознать это человеку, для которого слово Совесть было неизменно свято!
Через считанные дни после этого письма Австрия, Пруссия, Англия и Франция подписали в Вене договор об отказе от переговоров с Россией и взаимной поддержке… Менее чем через сорок лет после победы над Наполеоном, после создания Священного Союза против России сложился общеевропейский блок.
11 апреля был оглашен Манифест о войне с коалицией: «Православной ли России опасаться сих угроз! Готовая сокрушить дерзость врагов, уклонится ли она от священной цели, Промыслом Всемогущим ей предназначенной? – Нет!! Россия не забыла Бога! Она ополчилась не за мирские выгоды; она сражается за Веру Христианскую и защиту единоверных своих братий, терзаемых неистовыми врагами. Да познает же все Христианство, что как мыслит Царь Русский, так мыслит, так дышит с Ним вся Русская семья – верный Богу и Единородному Сыну Его, искупителю нашему Иисусу Христу, православный русский народ. За Веру и Христианство подвизаемся! С нами Бог, никто же на ны!»
Могло ли быть что-то выше этих слов? И кто еще из правителей мог бы в нынешнем веке сказать так? Никита Васильевич читал этот манифест с искренним сердечным умилением и слезами.
Однако, несмотря на бодрые слова манифеста, в глазах Государя читалось иное. Боль и тоска поселились в них…
– Может быть, я надену траур по русском флоте, но никогда не буду носить траура по русской чести, – сказал Император покидающему Петербург лорду Сеймуру.
Не победных литавр ждал этот рыцарь, он был заложником своей чести, неотдельной от чести России, и во имя нее должен был принять бой и сражаться до последнего вздоха. А вздох этот уже и чаял он, чаще вспоминая о смерти, о том, что плодов начатых реформ ему уже не увидеть, и завершать их придется его сыну.
Страшно было за Россию, но еще страшнее за ее Царя. Россия переживала всякое, и, сколь бы ни трудна была пришедшая година, переживет и ее, и переживет с честью. Но Государь…
– Прокопий, одеваться! – позвал Никольский слугу, тяжело поднявшись.
– Да куда же это вы, барин? Ведь дохтур запретили… – забеспокоился старый лакей.
– Поеду в министерство. Нет сил дома лежать.
– Да ведь дохтур же… Калистрат Иванович строго-настрого велели лежать! Нельзя вам из дому…
– Нельзя, брат, но надо. Надо, брат, – Никита Васильевич решительно сбросил халат. – Война идет. Работать надо, а не лежать… Вот, даст Бог, прогоним супостата, тогда и бока отлеживать будем да здоровье поправлять.
– Было бы только что поправлять к той поре, – вздохнул лакей, подавая барину сюртук.
Хоть и худо было Никольскому, а менее всего думалось, будет ли что поправлять. Государю теперь, как никогда, преданные и честные люди нужны были. А их у него, Никите ли Васильевичу не знать, на деле куда как немного. Лицемеры да воры кругом… Так неужто теперь оставить его, своими недугами прикрывшись? Ну уж нет. Подождут недуги… А если нет, так помирать лучше на своем посту, в сознании исполненного долга, нежели на постели, мучась от безделья и кляня себя за такое «дезертирство».
– Барыне скажешь, что к ужину вернусь. Скажешь, что почувствовал себя лучше… Пусть не волнуется понапрасну.
Глава 3.
Северные ночи летом, как день, светлы. Чудные это ночи… Нездешний свет с небес струится и отражается в зеркальном безмолвии Белого моря. Осенью оно совсем иным станет, загудит, шугою, для кораблей гибельной, пойдет, а там и застынет, скованное льдом. Но летом, в тихую ночь…
Вот уж не думал Виктор Половцев, что занесет его судьба в соловецкую крепость… Кажется, без малого весь мир видел, а Белого моря доселе не довелось. А жаль было бы с такой красотой разминуться…
– Ты, отец, впрямь ли из благородных? – молодой послушник, поставленный в эту ночь в караул на башне, зевал во весь рот.
– Ты зевай меньше, а то в твой-то рот весь флот английский войдет, – Половцев подкрутил подзорную трубу, вгляделся в подернутую туманом даль. – Что тебе до моего благородства. Ныне я простой странник.
– Говорят, будто ты богат был. Правда ли?
– Тебе что до моего богатства?
– Да уж больно чудно, чтобы от богатства великого в нищету шли.
– А ты что же, в монастырь за сытостью пошел?
Монашек усмехнулся:
– А куда мне идти? Сир я на этом свете, ничего за душой. А здесь… жить можно.
– В монастырь по Божиему зову идти надо, а не затем, чтобы «жить можно».
– Так ты, что ли, Бога ищешь?
– Пожалуй что и так, – отозвался Виктор. – Однажды я разминулся с ним на извилистой дороге, а сейчас думаю – пора бы и встретиться…
Он опустил трубу, облокотился здоровой рукой о стену. Несмотря на годы, он не чувствовал ни усталости, ни хворей. Еще несколько лет тому назад он жил в собственном замке и распоряжался огромным состоянием. Ему принадлежали земли, угольные месторождения и рудники, заводы, верфи… Все свое заграничное имущество Половцев продал, не желая впредь покидать Россию, и вложил деньги в Новороссийский край. Вложения оказались весьма успешны, и состояние «таинственного миллионщика» лишь увеличилось. Но что же было делать с этим состоянием?
Сын Половцева, коего обрел он уже взрослым, состоявшимся человеком, был чужд всякого рода предпринимательству и жил лишь морем. Виктор любил сына, но прекрасно видел, что разделяющие их годы невозможно преодолеть. Сергей был почтителен и искренне привязан к нему, но настоящей близости так и не явилось меж ними.
Даже с невесткой, Юлинькой, легче находил Половцев общий язык. Эта чудная женщина унаследовала от матери умение создать в доме семейную, без принуждения радушную атмосферу. Ласковая, предупредительная и вместе с тем очень сильная и деятельная, она все понимала с полуслова, на все откликалась. С ней Виктор мог обсуждать свои дела. Сергею же они были неинтересны… Разве что покупка верфей встретила его оживленное участие. Только что произведенный в капитаны, он мечтал о новых паровых кораблях, и кроме них не желал и не мог видеть решительно ничего.
Юлинька родила ему двоих ребятишек: Машеньку и Никиту. Внукам Половцев был рад бесконечно. Он не видел, как рос его сын, но, вот, дал Господь внуков понянчить… Так говорила Эжени: «Дал Господь…» Пока она была рядом, все шло своим чередом, все казалось незыблемым. Но, вот, пришел день, когда она ушла… Ушла, не простившись, оставив прощальное письмо и попросив не искать себя.
Виктор понял ее и исполнил просьбу – удержался, чтобы тотчас не броситься на поиски. Но с этого момента вся его жизнь переменилась. Ни сын, ни невестка, ни даже внуки не могли заменить ему той, что была его спутницей столько лет. Лишь она знала всякую мысль его, всякое движение души, понимала без слов, опережала желания, прощала все дурное. Лишь с ней он мог говорить обо всем, доверять все… Она была частью его. Да и не частью даже, а, впервые правде в глаза глядя – половиной… Его одинокий замок, возведенной на скалистом склоне, стал без Эжени пуст и неприютен. Половцев часто вспоминал, что она не любила этот каменный «склеп». Ей так хотелось жить в доме с большим садом, ходить по земле, ухаживать за цветами и какой-нибудь иной ерундой… А он, самый крупный после князя Воронцова землевладелец Новороссии, заставил свою спутницу столько лет жить в этом наскальном гнезде, где она возделывала несколько грядок и клумб в маленькой оранжерее. Ему было удобно жить именно так. А о ней он не думал. Ведь она была только спутницей…
Теперь бы Виктор купил для Эжени дом с самым прекрасным садом, но ее больше не было рядом. Некому стало в минуту тоски положить руку на плечо, сказать вкрадчивое, ободряющее слово. Больше не смотрели на него все понимающие и читающие его сердце, как книгу, глаза.
Первое время Половцев зачастил в дом сына, пытался возиться с внуками, вживаться в роль деда. Но роль давалась плохо… Он чувствовал себя чужим в этой мирной и счастливой семейной жизни, в этом светлом и уютном доме. Целый год Виктор старался заполнить пустоту, возникшую с уходом Эжени, но все было тщетно. Оставалось одно – попробовать осуществить на себе Христово слово: «Раздай все имущество свое нищим и следуй за Мной».
Большую часть своего имущества – земли и производства – Половцев распродал. Лишь небольшую долю переписал он на сына, поручив управляющему следить за делами. Значительная часть вырученных денег была употреблена на строительство странноприимниц, богоделен, сиротских училищ. Следить за всем этим Виктор также поставил специального человека. Остальной капитал до времени был положен в банк, дабы всегда иметь возможность потратить его на то или иное благое начинание. Формулу «раздать все нищим» рациональный ум Половцева все же не принимал. Раздать все сразу, а потом, встретив на пути некую вопиющую нужду или нужнейшее и благороднейшее начинание, не иметь возможности помочь ему? Нет, этак не годится. Этак можно распоряжаться лишь в канун последнего часа, а до него Бог весть сколько еще!
Разделавшись с имущественными вопросами, Виктор вместе с верным Благоей отправился в путь. Старого слугу он хотел оставить у сына, но тот ни за что не захотел разлучаться с хозяином.
Покидая Крым, Половцев не знал точно, куда идти. Да и не все ли равно страннику? Лишь бы идти вперед, всякий день просыпаться на новом месте, видеть новые края и лица и так заполнять пустоту. А там, глядишь, что-то иное откроется в этих скитаниях. Откроет свой лик Тот, Кто позвал Эжени…
В своей жизни Виктор странствовал много. На кораблях, верхом, в каретах и телегах, но никогда еще не приводилось столько ходить пешком. А, оказывается, немало бодрит это! Много губерний обошел Половцев, ночевал и под открытым небом, и на постоялых дворах и в монастырских странноприимницах среди бродяг и калек. Нищета не тяготила его. Для него никогда не имело значения, что есть, во что одеваться…
На одном месте он редко задерживался дольше двух недель. Лишь Соловецкий монастырь не покидал уже четвертый месяц. И тому причиной были не красоты и покой этого дивного места, хотя и завораживало оно, как ни одно другое, но грянувшая война.
Едва сделалось известно об объявлении оной, ясно стало, что англичане непременно придут и в Белое море – вовсе не готовое к такому вторжению. Флота русского здесь не было вовсе, а гарнизон… В самой Соловецкой крепости, не считая монахов, лишь отряд инвалидной команды стоял да десять пушек, а к ним 20 пудов пороха, копья, бердыши и секиры времен Федора Иоанновича. Еще хуже обстояло дело в соседней Коле. Тамошний городничий Шишелов еще в марте в набат ударил: сообщил в рапорте архангельскому военному губернатору Бойлю, что если Англия пожелает направить часть своего флота к северным берегам России, то «город Кола может также не ускользнуть из его внимания легкостью взятия…» Весь гарнизон города составляла еще одна инвалидная команда при 40 годных ружьях и минимальном количестве боеприпасов. Артиллерии не было вовсе. Бойль на просьбу Шишелова прислал еще 100 ружей для добровольцев из жителей Колы и выразил надежду, что они люди отважные и смышленые и свой город от англичан защитят и с таким арсеналом.
Оценив положение дел, Половцев повеселел. Трудности никогда не пугали его и не вгоняли в хандру. Напротив, в нем просыпалась неукротимая жажда деятельности. Сразу по получении известия о начале войны, он предложил свои услуги соловецкому архимандриту Александру. Этот дальновидный человек и сам загодя готовился к возможной угрозе – все монастырские ценности, что так прельщали англичан, были переправлены им в Архангельск. Виктор, некогда бывший капитаном армии Его Величества, прекрасно разбиравшийся в оружии и инженерном деле, был для настоятеля настоящей находкой. Нужно было в срочном порядке обучить не знавших военного дела монахов, наиболее разумно распорядиться невеликими силами инвалидной команды, выбрать наилучшее расположение для орудий… Половцев взялся за дело без промедления. На берегу спешно соорудили батарею с двумя трехфунтовыми пушками, восемь малых разместили в башнях. Инвалиды, прошедшие немало сражений, как один подобрались и стремились выглядеть и действовать молодцевато, сколь могли. На Виктора старые солдаты смотрели с уважением, то и дело норовя называть «превосходительством». Капитан, чья служба завершилась без малого сорок лет назад, был теперь их «генералом», которого слушались беспрекословно.
– Вы бы вздремнули, Ваше превосходительство. Уж сколько дней на ногах. Мы вас спящим и не видели…
– Вздремнешь с вами. Весь флот английский мне прозеваете, – усмехнулся Половцев. – Вот уж не думал, что на старости лет придется опять военным человеком стать… Да еще и превосходительством…
Уже в мае англичане отправили для блокады Белого моря три парохода. Позже к ним прибавилось еще несколько английских и французских кораблей. 5 июня вражеская эскадра появилась у входа в Белое море. Начали с привычного дела – пиратства, захватили несколько купеческих судов, груженных хлебом и рыбой. 22 июня англичане вышли к Мудьюгскому острову, который располагался в Двинской губе Белого моря, вблизи устья Северной Двины, и выслали несколько шлюпок для промера глубин. Однако, они были отогнаны огнем двух пушек прапорщика Балдина и ружейной стрельбой с лодок лейтенанта Тверитинова. Теперь следовало ожидать нападения со дня на день. Оттого и не смыкал Виктор глаз, придирчиво доглядывая за последними приготовлениями к обороне.
– Со времен Алексея Михайловича в наши стены ядра не летели, – вздохнул послушник. – Тогда против раскольников целое войско пришло и монастырь взяло.
– Наше положение значительно лучше в сравнении со староверами.
– Это понятно. Наша-то вера истинная!
Виктор поморщился. Он всегда питал сочувствие к старообрядцам и полагал штурм монастыря царским войском чистым безумием и преступлением. Но вдаваться в историко-религиозные диспуты было не ко времени, а потому Половцев ответил коротко:
– Дело не в вере, а в противнике. Русские войска и теперь взяли бы нашу крепость, но англичане ее не возьмут.
– Почему вы так уверены? У них же корабли, много оружия и людей.
– Потому что они – трусы, – жестко ответил Виктор. – Для того, чтобы взять монастырь, им придется высадить на берег десант, а на это они не пойдут. Они слишком дорожат своими жизнями… Грабить купеческие посудины, жечь и разрушать с безопасного расстояния – это по ним. Но не десант!
– Значит, вы уверены в победе? – обрадовался юнец.
– Разумеется, – улыбнулся Половцев и добавил: – Если, конечно, не будем зевать.
Он вновь взглянул в подзорную трубу и резко выпрямился:
– А ну-ка, брат Акинфей, свистать всех наверх! Кажется, сегодня мы узнаем, почем фунт лиха!
На самом горизонте, из перламутровой дали явственно проступили грозные силуэты двух английских пароходов, державших курс на соловецкую крепость.
– «Миранда» и «Бриск»… – разобрал Виктор названия кораблей. – Ну, что ж, капитан Оманей, познакомимся с вами поближе.
С легкостью молодых лет он быстро спустился по крутой монастырской лестнице и вышел во двор, где уже вовсю суетились монахи и инвалиды. Из бывшего неподалеку леса только что вернулись архимандрит Александр, Благоя и командир инвалидной команды прапорщик Никонович. В ожидании противника они надеялись успеть устроить укрепления за пределами обители.
– Ну, что скажете, Виктор Илларионович? – с беспокойство спросил настоятель.
– Скажу, что скучать нам сегодня не придется, отче, – отозвался Половцев.
В этот момент раздался грозный гул, и первое неприятельское ядро с грохотом ударило в ворота обители.
– Отче, вам лучше уйти отсюда, – заметил Виктор и бросился к береговой батарее. Здесь при двух орудиях находились два унтер-офицера и десять рядовых с охотниками, вооруженными крестьянскими ружьями. С моря батарея была незаметна, и неприятельские суда остановились прямо напротив нее.
– Что делать будем, ваше высокородие? – спросил фейерверкер Друшлевский, выбранный Половцевым для этой главной позиции.
– Не спеши, братец, не спеши, – отозвался Виктор, не отнимая от глаза подзорной трубы. – Ты целься лучше. Пороха у нас немного, так что бить надо точно.
– Да уж ударим, так ударим! – усмехнулся фейерверкер. – А у неприятеля пушечек-то дюже…
– По 15 орудий на каждом корабле, – подтвердил Половцев. – Да ты на их орудия не смотри. Нам важно нашими орудиями верно распорядиться.
Снова вздрогнула выдвинувшаяся вперед «Миранда», окутавшись дымовой завесой, и в тот же миг ударились в монастырские стены очередные ядра.
– Ишь нехристи! – глухо прорычал старый солдат, тяжело осевший на костыль. – Бога не боятся – по святой обители бить!
– Ваше высокородие, не пора ли вжарить басурманам?! – нетерпеливо воскликнул Друшлевский.
Виктор не отвечал. Третий залп был наиболее сильным. Одно из ядер пробило монастырские ворота, другое разорвалось совсем близко от батареи.
– Вы бы, ваше высокородие, побереглись бы… – заметил один из охотников, подавая Половцеву сорванный с его головы картуз.
– Полно, братец, не отлито еще того ядра, чтобы могло меня на голову укоротить… Друшлевский!
– Слушаю, ваше высокородие!
– Хорошо ли видна тебе цель?
– Как на блюдечке, ваше высокородие! – осклабился фейерверкер почерневшими зубами.
– Тогда… пли! – скомандовал Половцев, взмахнув рукой.
Грохнули разом две соловецкие пушки нежданно для противника. Накренилась нахальная «Миранда», надломилась одна из ее надменных мачт.
– Попал! – восторженно воскликнул Друшлевский. – Ваше высокородие, подбили супостата!
– Молодец! Глаз-алмаз у тебя!
Едва встретив отпор, «Миранда» отошла от монастырских стен и, поравнявшись с «Бриском» стала на якорь.
– И что теперь? – спросил меткий фейерверкер.
– Теперь будем ждать, – отозвался Половцев. – До их стоянки наши ядра все равно не долетят, они верно рассчитали расстояние. Пока они будут чиниться, нам тоже надо успеть заделать брешь в наших воротах.
Ночь в обители прошла без сна. Монахи спешно восстанавливали разрушенное бомбардировкой, инвалиды укрепляли позиции и готовились к новой схватке. Охотники расположились в лесу с тем, чтобы если неприятель попробует высадить на берег своих стрелков, оказать им надлежащий прием. Пароходы явно не собирались уходить. Как и предсказывал Половцев, англичане занялись ремонтом поврежденного судна.
– Вечный наш парадокс… Мы из года в год готовимся к войне, воюем то там, то здесь почти непрерывно. Но, вот, приходит война – мы оказываемся к ней не готовы, – сетовал Виктор, медленно цедя крепчайший чай в келье настоятеля. – Наше оружие оказывается устаревшим, наших боеприпасов недостаточно, и все, включая диспозицию, приходится разрабатывать на ходу. Помилуй Бог! Так было даже памятным летом 1812-го… Наш генерал Багратион бомбардировал Петербург предупреждениями о скором нападении Бонапарта, предлагал решительные меры… А в Петербурге верили в Тильзитский мир… Корсиканец уже форсировал Неман, а столица жила в иллюзиях и увеселениях. И что стоило заблаговременно прислать в обитель и на Колу довольно пушек и хоть один батальон, состоящий не из калек?
– Полагаете, не сдюжим против неприятеля без подмоги? – озабоченно спросил архимандрит Александр.
– Сдюжим, отче. Мы всегда – сдюживаем… Вопреки всему. Просто уж очень досадно, что все-то у нас приходится делать – вопреки. И чему – вопреки? Бюрократической глупости, лености и головотяпству. В этой трясине увязает решительно всякое здравое и необходимое начинание… За Соловки я не боюсь, отче. Они не решаться на серьезные действия столь малыми силами. Их силы теперь не здесь, а в Крыму. Вот, за что душа моя болит… Думаю теперь, что не вовремя я подался в бродяги. Может, оказался бы теперь полезен там.
– Но кто бы тогда был полезен здесь? – резонно заметил настоятель. – Вас на Соловки сам Бог привел. У нас же здесь ни одного офицера!
– Может и так, – вздохнул Половцев.
Наутро, когда монахи еще не окончили службу, к стенам обители с парохода-фрегата «Бриск» причалила шлюпка с парламентером от капитана Оманея. Архимандрит Александр в сопровождении нескольких монахов и Виктора вышел ему навстречу. Английский офицер подал настоятелю депешу. Неспешно развернув бумагу, архимандрит Александр начал читать ее.
– Вот, извольте, Виктор Илларионович, – обратился он к Половцеву, – наши гости заявляют, что так как Соловецкий монастырь принял на себя характер крепости и производил стрельбу по английскому флагу, то они требуют безусловной сдачи гарнизона со всеми орудиями, оружием, флагами и военными припасами в течение 6 часов. В противном случае угрожают бомбардировкой крепости. Между прочим, они требуют, чтобы комендант крепости лично сдал свою шпагу.
Виктор любезно улыбнулся и обратился к парламентеру на чистом английском языке:
– Если капитану Оманею угодно, чтобы я отдал ему мою шпагу, то пусть лично сойдет на берег и возьмет ее у меня. Если, конечно, сможет.
Англичанин усмехнулся.
– Переведите ему наш ответ, – попросил настоятель Половцева. – Ваши суда первыми открыли огонь по монастырю, нанеся ему повреждения. Мы были вынуждены отвечать и сделали это лишь после третьего выпущенного вами ядра. О сдаче крепости не может быть и речи.
Виктор перевел ответ архимандрита Александра. Выслушав его, парламентер сообщил, что на английских судах находятся русские пленные, и капитан Оманей желал бы высадить их на берег.
– Мы не можем принять пленных, – отозвался Половцев, – и просим капитана найти другое место для их высадки.
Англичанин вновь надменно ухмыльнулся и объявил, что капитан все равно высадит пленных, после чего удалился.
– А, вот, теперь нам, действительно, придется жарко, – заключил Половцев и крикнул зычно: – Всем занять свои места! К орудиям, братцы! Покажем супостату, как сражаются русские! Если память его коротка, так уж мы напомним и не посрамим ни имени русского, ни Государя, ни веры Православной!
Ответом Виктору было дружное «ура» бывалых солдат и необстрелянных монахов.
– Умрем, а не сдадим крепости! – таков был единодушный ответ всех ее защитников.
– Завтра праздник Казанской Божией матери. Она защитит нас! – воскликнул настоятель, осеняя крестом немногочисленное войско своей крепости.
Подозвав послушника Акинфея, Половцев велел ему срочно бежать в лес к охотникам:
– Передай, чтобы смотрели в оба. Никаких пленных у наших гостей, вероятнее всего, нет. Но высадить своих стрелков под видом оных они могут рискнуть.
– Вы же говорили, что они не пойдут на десант?
– Я и теперь так думаю. Но береженого Бог бережет. Поспеши!
Убежал послушник, а с моря уже гул нарастал. Да не такой, что накануне, а многократно сильнейший…
Англичане сдержали угрозу и обрушили на обитель подлинный огненный смерч. Теперь уже оба судна били по древним стенам из всех своих орудий – ядрами, бомбами, гранатами, картечью… Как ни крепки были стены крепостные, а немалые разрушения нанесла им бомбардировка. Пробило и крышу монастырскую в нескольких местах. Старые, немощные монахи скрылись в подземелье и там горячо молились об избавлении от супостата.
Половцев же и архимандрит Александр оставались под самым огнем, руководя обороной крепости. Монастырь отвечал неприятелю залпами с береговых и башенных орудий. Серьезных повреждений пароходам нанести они не могли, но зато не позволяли им подойти близко к обители. Англичане, боясь оказаться в зоне досягаемости русских ядер, держались на почтительном расстоянии, а потому их огонь не имел той разрушительной силы, какую бы получил, решись капитан Оманей подойти вплотную к монастырю.
Более девяти часов продолжалась бомбардировка. Наконец, убедившись в ее малой результативности и крепости духа защитников, неприятельские корабли отступили. Высадить «пленных» англичане не решились также.
– Трусы, – заключил Половцев, провожая взглядом уходящие суда. – Всей их «храбрости» хватает лишь на то, чтобы бить издалека, в уверенности, что их не настигнет ответ. А сойти на землю и попробовать свои силы в честном поединке… Это удел людей, имеющих понятие о чести, а не пиратов под королевским флагом…
Наступал праздник Казанской Божией матери. Монахи и охотники собрались в Преображенской церкви, вознося благодарственные молитвы за чудесное спасение. Несмотря на жестокий обстрел, в обители не было ни одного убитого.
Половцев же, не смыкавший глаз многие сутки, уснул прямо на дворе, укрывшись какой-то дерюгой. Он проснулся лишь к полудню и увидел подле себя Благою, вопросительно смотревшего на него.
– Что, мой верный друг, ты уже все понял, не так ли? – Виктор улыбнулся.
Старый слуга тяжело вздохнул и покачал головой.
– Понимаю, ты предпочел бы остаться здесь. Но ведь я не препятствую тебе в этом. Ты волен решать сам.
Благоя нахмурился и с видимой укоризной развел руками.
– Значит, тебе придется разделить мою судьбу, – Половцев размял затекшие за время сна члены и поднялся. – Пускаться в путь в праздничный день, говорят, дурно… Что ж, вкусим праздничной трапезы, простимся с отцом настоятелем, испросим его благословения и, помолясь, как пусть и худые, но все-таки христиане, тронемся в путь.
Вопросительным кивком головы старик-серб осведомился, куда на сей раз держит путь его неугомонный хозяин.
– А ты не догадываешься? Мы, Благоя, отправляемся в Колу. Держу пари, что, получив отпор здесь, капитан Оманей направит свою эскадру к ее берегам. И мы можем оказаться полезны тамошним охотникам. Так что в путь, друг мой Благоя! Что ж делать? Придется нам отложить нашу старость, раз нашему Отчеству вновь нужна наша помощь! Ей-Богу, ничто так не бодрит душу и не прибавляет жизненных сил, нежели схватка с неприятелем!
Старый слуга, вероятно, мог бы многое возразить на этот не по летам пламенный монолог своего повздорившего со временем хозяина, но он был нем, а потому мог лишь тяжело вздохнуть и подчиниться своей участи.
Глава 4.
Старость – малоотрадная пора жизни, но особенно досадна бывает она, когда заявляет свои права в тот самый момент, когда более всего нужны силы, энергия, ясность разума.
Если последняя никогда не изменяла князю Воронцову, то силы по минованию семидесятилетнего рубежа стали заметно таять. Ничего не было тяжелее и огорчительнее для этого деятельного и преданного Отечеству человека, нежели оставить свой пост в грозное для России время, в разгар новой большой войны.
– Жертва жизни для меня ничтожна, но служить в тех званиях, которые я ношу, было бы теперь не только бесполезно, но крайне вредно, – признавался он.
– Если бы я мог поменяться местами с тобою, то был бы тому счастлив, – со всей искренностью отвечал на то Стратонов, нарочно приехавший в Тифлис из действующей армии, дабы проводить друга и командира. Михаил Семенович покидал Кавказ после десяти лет правления. Впрочем, он не терял еще надежды вернуться, поправив расстроенное здоровье в Дрездене.
– Полно, придет и твое время, не торопи его, – ласково улыбнулся князь на жертвенные слова Юрия.
Стратонов был немногим моложе его, но еще не чувствовал изнеможения сил. Он, как и в лучшие годы, мог совершать долгие переходы верхом, и рука его в бою не утратила твердости.
– Придет, конечно. Однако, если я уйду в отставку, то будет невеликая потеря. У нас есть Врангель, Бебутов, Барятинский… Тебя же, Михайло Семенович, заменить некем.
– Ну уж и некем! Тот же Барятинский справился бы с тем, чтобы продолжить здесь начатое нами…
– Здесь – быть может. А в Новороссии? Бессарабии? Не умаляй своих заслуг. Никто, кроме тебя, не сможет объять необъятное.
– На все Божья воля. Ты сам знаешь, что я не покинул бы свой пост, если бы не крайность. Меня привыкли везде видеть на Кавказе готовым быть везде и подавать везде пример, и до последних двух-трех лет, когда болезни начали меня одолевать, несмотря на все труды и походы, я еще не чувствовал признаков старости и ездил верхом, как молодой человек и ежегодно показывался, а иногда и два раза в год, во всех частях края, от Ленкорани до Анапы и от Эривани до Кизляра. Теперь я уже на это не способен, уже не могу продолжать с честью для себя и пользою для края…
До 1851 года Михаилу Семеновичу и впрямь удавалось не замечать своих лет. Ему не раз приходилось самому участвовать в схватках с горцами. И всюду он был впереди, отдавал приказания, шутил, улыбался и нюхал табак, точно у себя в кабинете. Однажды, когда после жаркого дела, в ходе которого неприятель несколько раз окружал русский отряд и нанес ему серьезные потери, лишь Воронцов, проведя целый день под градом пуль, не имея ни крошки во рту, сохранял полную невозмутимость и, не обращая внимания на выстрелы затаившихся в придорожных кустах горцев, ехал на своей изнуренной и еле передвигавшей ноги лошади, ободряя остальных. Ему было тогда уже за семьдесят… Если посреди ночи раздавалась тревога, то старый генерал тотчас просыпался, с неизменным спокойствием вынимал шашку и говорил почти весело: «Господа, будем защищаться!» Трудно было не любоваться им в такие моменты.
В 1851–1852 годах Воронцов провел ряд военных операций за рекой Лабой, чтобы лишить непокорных горцев полей и сенокосов. Имам Шамиль отправился из Дагестана в Чечню. В начале 1852 года он собрал большие силы для осуществления своих планов. Начальник левого фланга А.И. Барятинский с 12 тысячами воинов сумел покорить большую часть Чечни, но, направившись к занятому горцами аулу Гурдалы, натолкнулся на главные силы Шамиля и вынужден был отступить. Шамиль, ободренный успехом, решил совершить набег на Сунжу и разорить мирные аулы. Однако, Барятинский разгадал планы имама и ударил по его войску всеми имевшимися силами. Шамиль потерпел полное поражение. Русским оставалось овладеть переправой на реке Мичик. Эта река была последней преградой в наступлении на Чечню.
Барятинский направил небольшой отряд к переправе через реку, а главные силы без боя овладели перевалом через Качкалыковский хребет. По штурмовым лестницам и канатам взбирались егеря на неприступный берег Мичика, втаскивая на своих плечах горные орудия, а в это время другой отряд переправился выше по течению в незащищенном месте и внезапно напал на правый фланг горцев. Атакованные с двух сторон мюриды в панике разбежались, понеся огромные потери – до 500 убитых. Потери Барятинского составили 11 раненых.
Де-факто это было полным разгромом Шамиля. Но начавшаяся война с Турцией не позволила нанести ему последний удар.
В 1853 году Воронцов был уже серьезно болен и собирался испросить отпуск для лечения и необходимого ему отдыха. Находясь в Тифлисе, он не подозревал, что Петербург уже готовится к разрыву отношений с Константинополем и новой войне. Столь «маловажную» информацию Кавказскому наместнику сообщить не потрудились.
Турки сосредотачивали свои силы у Карса, готовясь к нападению, а русское побережье по-прежнему охранял лишь пост Св. Николая – несколько десятков деревянных домов, карантинно-таможенная застава, склад с провиантом и четыре с половиной сотни гарнизона. В ночь на 16 октября 1853 года турки внезапно напали на этот пост. Гарнизон сопротивлялся отчаянно, уцелело лишь три офицера и двадцать четыре солдата.
Встрепенулся в ожидании скорой помощи Шамиль, изготовившийся со своими мюридами атаковать Тифлис. Но не турку устрашить кавказского солдата! 6 ноября тифлисский военный губернатор князь Андронников, не имея ни кавалерии, ни артиллерии, атаковал превосходящие силы противника и, ударив в штыки, обратил его в бегство. А еще две недели спустя князь Бебутов разгромил башибузуков при Башкады-Клар…
За Кавказ Михаил Семенович мог быть в достаточной мере спокоен. Тревожный взор его был обращен теперь к любимой им Новороссии, к Крыму, где сражался его единственный сын, к Одессе, которую 14 апреля бомбардировала англо-французская эскадра. Несколько ядер попали на территорию особняка князя. Огонь успели быстро потушить. Михаил Семенович заблаговременно распорядился спрятать в подземное убежище наиболее ценные рукописи своей уникальной библиотеки. Прочие ценности его волновали крайне мало…
– Мой сын заменяет меня в сию критическую минуту священного долга каждого русского, – говорил князь, и чувствовалось, как велико его желание исполнять этот долг самому. Если бы только Бог дал сил…
– Крым окажется в трудном положении теперь. Если бы тогда, тринадцать лет назад, в Петербурге прислушались к нам! Если бы проложили железную дорогу не до Москвы, а до черноморских берегов! Сейчас бы с легкостью можно было перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления…
– Ты всегда опережаешь время, – покачал головой Стратонов. – Даже нам, твоим боевым соратникам, не под силу бывает угнаться за тобой, а уж столичным бюрократам…
– Нет, не так! Я живу в своем времени, жил в нем всегда. А бюрократы могут стоять на месте десятилетиями… Вот, только у России нет этих десятилетий. И их стояние будет оплачиваться русскими жизнями.
– Полно, не раздражай зазря нервы. Никто не заставил их шевелиться больше, нежели ты!
– Значит, недостаточно заставил… Нам, России, всегда не хватает времени. Да и мне его недостало. Всего больше я теперь опасаюсь, что, если здоровье мое не поправится, и мне не суждено будет воротиться в Тифлис, Государь назначит на мое место Муравьева.
– Он достойный воин и знает Кавказ… – осторожно вступился Стратонов.
– Знает? Нет, друг мой. Кавказ нельзя узнать за один год, который провел здесь Николай Николаевич четверть века назад. Я не оспариваю его безусловного военного таланта, но Кавказа он не знает. А паче того – кавказского солдата, кавказской армии. Души ее. Ты думаешь, он сможет ее понять? Понять все то, что мы делали здесь десять лет? Так вот, поверь моему слову, не поймет! Он слишком закоснел в своих взглядах… Когда бы назначили моего теперешнего сменщика Реада, Барятинского или тебя, душа моя была бы спокойна.
– Какой из меня наместник? – развел руками Юрий. – Я умею лишь воевать, а к гражданскому управлению не способен. Только бы навредил делу.
Михаила Семеновича и Елизавету Ксаверьевну Стратонов проводил до самой кареты. На глаза предательски наворачивались слезы. С этим человеком уходила целая эпоха – не только Кавказа, но русской политической и военной жизни в целом. А еще – значительная часть жизни самого Юрия.
– Знаю, многие будут бранить меня, что я ухожу в такой час, – сказал князь напоследок. – Однако, совесть моя чиста во всем, и прежняя более нежели полувековая моя служба должна удостоверить всякого беспристрастного человека, что я бы не удалился без настоящей совершенной необходимости…
Простившись с Воронцовым, Юрий поспешил назад, в действующую армию, продолжавшую в пух и прах громить башибузуков. Что и говорить, никогда не стоять турку даже близко с русским солдатом! Турки лихи, когда силы их вдесятеро превосходят противника, лихи убивать безоружных, лихи на трусливую подлость и жестокость… В этом отношении горцы несравненно достойнее их. Они, быть может, не уступят туркам в жестокости, но никто не упрекнет их в трусости. Мюриды Шамиля всегда готовы погибнуть и сражаться до последней капли крови, даже если их силы ничтожны. Они – настоящие воины, которых можно ненавидеть, как жестоких врагов, но нельзя не уважать за отвагу. Турок же можно лишь презирать… Трусливые собаки на поводу у Британии, которых спустили с цепи и криками «ату!» натравили на Россию… Псовая охота – любимая забава английской знати… Но погодите, эта охота дорого будет стоит и охотникам, и их псам…
Начало победоносной кампании 1854 года положил разгром турок князем Эристовым у селения Нигоети. Десять неполных русских рот с десятью сотнями гурийской милиции и четырьмя орудиями штыковой атакой наголову разбили 12-тысячный авангард Батумского корпуса под командованием Гасан-бея. Сам Гасан при этом был убит. Следующий удар нанес башибузукам Андронников при Чолоке. Эти сражения заставляли вспомнить славные времена Суворова! Русские войска били многократно превосходящего числом супостата, неся при этом втрое-вчетверо меньшие потери, нежели он.
Блестящая плеяда кавказских генералов и полковников могла лишь с недоумением воспринимать вести о непонятном топтании русских войск на Дунайском фронте. Вести оттуда приводили Стратонова в решительное бешенство. Отрядить бы туда хоть того же умницу Эристова! Или того лучше – барона Карла Карловича Врангеля, оперировавшего ныне на эриванском направлении.
19 июля Карл Карлович со своим отрядом взял турецкую крепость Баязет. Отряд сей насчитывал 5 батальонов и 16 сотен иррегулярной конницы при 12 орудиях. Турки же располагали 9 тысячами пехоты и 7 тысячами кавалерии. Решающий бой состоялся 17 июля на Чингильских высотах. И вновь, как бывало не раз, не выдержали османы русской штыковой атаки. Ни превосходство сил, ни удачно выбранная позиция, ни усталость русских войск после тяжелого и спешного перехода, ни побег 200 милиционеров в самом начале сражения не помогли им. До 2 тысяч турок было убито и ранено, 370 человек взяли в плен. Было захвачено 4 орудия, 6 знамен и 17 значков, много огнестрельного и холодного оружия, лошадей и припасов. Отряд Врангеля потерял около 400 человек убитыми и ранеными. Сам генерал был легко ранен пулей, но до завершения боя даже запретил перевязывать рану.
Полностью деморализованный неприятель бежал, сдав Баязет без боя. Настало время действовать Александропольскому отряду Бебутова, к коему присоединились отряд Стратонова и князь Барятинский.
Василий Осипович Бебутов был ровесником Юрия. Он происходил из древнейшего и знатнейшего армянского рода, многие представители которого покрыли себя славой, состоя на службе грузинских царей. В 1-й кадетский корпус Бебутов был определен по указанию князя Цицианова. Блестяще окончив его, он возвратился на Кавказ и уже скоро отличился в делах против турок и горцев. Здесь, на Кавказе, прошла почти вся служба Василия Осиповича, и вряд ли нашелся бы человек, который лучше бы знал этот край и его людей. Глядя на него, Стратонов часто вспоминал безвременно ушедшего князя Мадатова. Бебутов, впрочем, не имел мадатовского темперамента, столь зажигавшего сердца солдат. Василий Осипович сочетал в себе холодное мужество и осторожность. Он всегда точно знал, когда и где можно и должно рисковать, а когда благоразумнее уклониться от риска. Никакая виктория не могла вскружить голову этого рассудительного стратега, заставить его увлечься и совершить необдуманный шаг. Он всегда точно знал, где должно остановиться, чтобы не обратить победу в поражение. В этом Василий Осипович был весьма схож с Воронцовым.
Ныне, имея в своем распоряжении 22000 человек с 74 орудиями, Бебутов намеревался атаковать главные силы турецкой армии, превышавшие русские втрое и расположившиеся в р-не Карской крепости. На штурм Карса сил у Василия Осиповича не было, а потому рассчитывать на успех можно было лишь в битве за пределами крепости, на которую противника необходимо было вызвать.
20 июня Александропольский корпус остановился между селениями Палдерван и Кюрук-Дара. Здесь, в 15 верстах от неприятеля, русские войска простояли целый месяц. Солдаты и кое-кто из офицеров, особенно, молодых, сетовали на затянувшееся бездействие и жаждали скорейшего боя. Однако, Василий Осипович ждал. Он знал психологию турок, знал, что бездействие русских они непременно примут за слабость и тогда только решаться напасть сами, оставив свои укрепления.
Расчет князя оказался верен. В ночь с 22 на 23 июля турки выступили навстречу русской армии. Сутки спустя корпус Бебутова также перешел в наступление. На рассвете две армии встретились и сразу же стали разворачивать боевые порядки для сражения у горы Караяль.
Понимая значение Караяля, откуда турки могли ударить по флангу его корпуса, Василий Осипович отправил на штурм горы треть своей пехоты и конницы под общим командованием генерала Белявского, сковавшего на себе силы правой колонны противника.
Юрий со своим отрядом находился в центре сражения. Здесь генерал Бриммер сперва подверг неприятеля мощному огню артиллерии, а затем самолично повел в бой Кавказскую гренадерскую бригаду:
– Братцы! Теперь мы подвинемся поближе. Смотри, дружнее работать штыками!
Могучее русское «ура» было ответом генералу. Что это была за атака! Вместе с Бриммером и Барятинским Стратонов, как в славные годы своей молодости, шел навстречу противнику, ведя за собой своих солдат в штыковую! Семи батальонам гренадер противостояли три линии 20 турецких батальонов! Но это неравенство сил лишь упоительнее делало сражение и грядущую победу, в которой не было сомнений!
Юрий никогда не скрывал в сражениях своих генеральских эполет. Будучи фаталистом, он нисколько не смущался тем, что эта сияющая в лучах солнца примета делает его лучшей мишенью. «Пусть видят! Пусть бояться!» – говаривал некогда Мадатов в ответ на упреки в такой же привычке. Пусть и солдаты видят, как сражается бок о бок с ними их генерал. Что может лучше вдохновить подчиненных, чем отвага командира?
В этот раз турки стреляли метко, и уже в начале боя ощутил Стратонов острую боль в правом предплечье. Хлынула горячая кровь из пулевой раны.
– Ваше превосходительство, перевязать бы! – крикнул бывший рядом поручик.
– После победы перевяжут, – отозвался Юрий, стиснув зубы и перехватив шашку в левую, здоровую руку.
Турки бились ожесточенно. Им удалось отбросить от второй линии батальон карабинеров. Стратонов со своими гренадерами бросился на выручку. В глазах туманилось от слабости и дыма, но рука с прежней силой рассекала попадавших под нее врагов. Вот, пал сраженным бедняга поручик… Поредели ряды отважных гренадер, изнемогая в кровавой сече… Но уже третья, последняя линия неприятеля была прорвана…
– Ура! – хрипло воскликнул Юрий.
– Ура! – отозвались уцелевшие гренадеры.
Турки бежали прочь. Справа теснил их Барятинский, чьи два батальона сумели выдержать атаку турецкой кавалерии и обратить в бегство артиллерию противника. В какой-то момент положение князя стало угрожаемым. Турецкие уланы вышли ему в тыл. Заметив это, Бебутов бросил в бой последний резерв – две дворянские дружины собственного конвоя. Турецкая конница была опрокинута.
К 9 часам утра отборные турецкие части трусливо бежали в Карс. Преследовать их Василий Осипович запретил, трезво оценив, что, практически не имеющая конницы и изнемогшая в сражении армия, лишь разобьется о стены крепости, но не сможет взять ее, ворвавшись в ее стены на плечах противника.
Юрий чувствовал себя подстать армии – таким же гордым очередной славной викторией и таким же окровавленным. В этом бою, кроме пулевого ранения, он получил два недурных сабельных удара и, явившись на совет к Бебутову, едва мог держаться на ногах. Василий Осипович живо поднялся ему навстречу, бережно обнял и расцеловал троекратно:
– Герой! – но и покачал головой. – В наши с вами лета, Юрий Александрович, потребно больше хладнокровия. А вы нынче бились, словно сорок лет назад на том прославленном мосту, где вы один уложили дюжину французов.
– Надеюсь, что сегодня турок от моей руки пало не меньше, – ответил Стратонов. – Я и впрямь чувствую себя так, точно этих сорока лет не было!
– И слава Богу, что так! Ваша доблесть сегодня многое решила в нашей победе.
– Много меньше, нежели ваша мудрость.
Юрий был, как всегда, искренен в своем восхищении стратегической дальнозоркостью Василия Осиповича. Сам он, вероятно, теперь же ринулся на Карс и лишь зазря загубил бы солдатские головы в бессмысленной атаке. Хладнокровия недостало бы остановиться. Прав Бебутов, он, как и сорок лет назад, один сплошной напор. Напор, затмевающий стратегию… А сухопарый, почти хрупкий с виду князь, склонив над картой худощавое, горбоносое лицо, уже видит на несколько шагов вперед, уже предугадывает действия противника и рассчитывает свои. Светится лицо быстрой, как стратоновская шашка, мыслью…
– Побеждая, всегда должно уметь вовремя остановиться, – подвел итог победного дня князь. – А Карс теперь от нас никуда не денется. Нужно только подождать.
Стратонов не любил ждать, но понимал правоту Бебутова. Разгром Анатолийской армии, поставивший крест на англо-французских планах захватить Закавказье и лежащие севернее земли, обошелся корпусу в 600 убитых и почти 2500 раненых. И хотя турки потеряли в этой битве не менее 5000 человек, их численное превосходство оставалось велико. Стены Карса с его 40-тысячным гарнизоном были крепким орешком…
Глава 5.
Август – особая пора в жизни природы. Истомленная знойными месяцами, она щедро одаривает плодами и готовится к долгожданному отдохновению. Какая-то особая тишина, умиротворение царит в эти дни в лесу, а сады тонут в сладком яблочном благоухании… Август торжественен, изобилен и прекрасен, но в то же время затаенно печален. Уже закрадываются в его величественное звучание щемящие ноты надвигающейся осени. Кое-где, точно пробуя свои силы, уже касается она листвы золотистой кистью. А по утрам тонет все в молочном тумане… Еще жарко печет полуденное солнце, но ночи становятся все холоднее. А с ними река, в ласковые волны которой уже не бросишься теперь…
Зато в деревне все ободрилось и повеселело, радуясь новому урожаю. Скоро разнесется по улицам упоительный аромат свежего хлеба, и детвора будет уплетать еще теплые горбушки. Такова традиция! А сколько еще праздников в августе! Спасы Медовый и Яблочный, и любимый селянами святой Флор – покровитель лошадей…
С детских лет обожала Таня эту пору, но ныне перехватывала грудь мучительная тоска. Эту тоску гнать бы теперь как можно дальше – хотя бы, пока Петруша рядом – а не удавалось. То, что рядом он – счастье, но как вспомнишь, что счастью этому считанные дни отведены, а после он уедет… Уедет на войну…
Конечно, не впервые уезжал Петруша. Куда больше времени проводил он в сражениях, нежели с женой, но отчего-то никогда с такой силой не тяготило душу предчувствие разлуки.
Самым счастливым годом их жизни был первый год после свадьбы. Петруша тогда еще не оправился от ранения и не мог служить в действующей армии. Жили в любезной Клюквинке. И это было ни с чем несравнимое счастье. Здесь ничто и никто не отнимал у Тани мужа. Он принадлежал лишь ей – так же, как и она ему. И большего ей было не нужно… Лишь бы видеть его, слышать его голос, предугадывать каждое желание и читать в его глазах радость, любовь и благодарность…
Но мужчине не может быть довольно такого тихого домашнего счастья. А Петруше – тем более… Он, как и его отец, рвался в бой. И едва только окреп, поспешил в Петербург, в свой полк. Таня отправилась с ним. Тогда она впервые увидела столицу, но жизнь в ней не прельстила деревенскую «дикарку». Конечно, было интересно полюбоваться неведомыми в глуши красотами, побывать в театре и проехаться на поезде, но на это провинциальное любопытство довольно было месяца. Сам же город ей, крестьянской дочери, привыкшей к деревенской вольнице, оставался глубоко чужд.
Впрочем, это было маловажно… Главное, что рядом был Петруша. Вот, только одно угнетало Таню. Хоть и была она воспитана барышней, хоть и удочерила ее Софья Алексеевна, а все же где ей в свете вращаться среди знатных дам? И чудилось ей, будто Петруша, блестящий офицер любимого Государева полка, на мезальянс пошел, женившись на ней… И теперь с ней, «дикаркой», неловко и в обществе ему показаться. И все уверения мужа, что общество то он глубоко презирает, не могли вполне успокоить ее.
Если Таня тяготилась городской жизнью и вздыхала о своей покинутой глуши, то Петруша стремился от плац-парадов к настоящему делу. Его отец продолжал сражаться с горцами, и он не мог усидеть в столице. Таня всегда знала, что, рано или поздно, муж оставит ее ради войны. И все же это было для нее горьким ударом…
Проводив Петрушу, она вернулась к благодетельнице-барыне Софье Алексеевне. В хлопотах по хозяйству ожидание было не таким тягостным. Но оно сделалось всею жизнью Тани… Муж приезжал в отпуск и снова покидал ее. И самым счастливым временем оказывалось не то, в которое он был рядом, уже отравленное грядущей разлукой, а те дни, между письмом о получении отпуска и приездом Петруши, в которые она жила предвкушением встречи и мечтой о ней.
Была и другая печаль, тяготившая Таню. За несколько лет брака Господь так и не послал им детей. За это она чувствовала себя виноватой перед мужем. К тому же в окружении детей ждать его было бы не так одиноко и страшно…
– Любовь делает нас сильнее, – так говорила тетушка Софья Алексеевна.
Видимо, в ее случае это было именно так. Таня всегда восхищалась силой духа своей покровительницы. Однако, саму ее любовь сделала слабой и ранимой. Все ее мысли и чувства были привязаны к мужу, и без него все казалось пустым, бесцветным и ненужным…
Теперь он ехал рядом с ней верхом с видом озабоченным и огорченным. Дунайская армия, из которой прибыл он, терпела бездарные поражения. Тем временем англо-французская эскадра блокировала Черноморский флот. Главнокомандующий Меньшиков отчего-то был исполнен уверенности, что союзные войска не решатся на наземную операцию в Крыму. Но Петруша вслед за отцом полагал иначе. Именно поэтому он спешил теперь в Крым, будучи уверен, что там скоро будет главный фронт войны.
– Я бы хотела поехать с тобой… – призналась Таня.
– Зачем? – удивился муж. – Нет-нет, мой ангел, я слишком переживал бы за тебя, будь ты рядом. А нет ничего хуже, нежели сражаться с оглядкой. То ли дело, когда знаешь, что самое дорогое, что есть у тебя на этом свете, в безопасности. И ждет тебя…
– Но ведь Юлия осталась в Севастополе с Сергеем… – заметила Таня. – Отправила детей к родителям, а сама осталась с ним…
– Юлия хорошо разбирается в медицине, она осталась, чтобы помогать нашим раненым.
– А я разбираюсь лишь в вареньях и соленьях и совершенно бесполезна…
Петруша рассмеялся и обнял жену:
– И слава Богу! Поэтому ты самая лучшая жена!
– Я завидую ей… – вздохнула Таня. – Лишения, опасности – это все ничто… Страшно, когда тебя нет рядом. Страшно бояться за тебя. А когда ты рядом, все неважно…
Налетевший ветер принес первые капли надвигающегося дождя.
– Как некстати! – покачал головой Петруша.
Они и в самом деле уехали далеко от деревни, углубившись в лес. Дождь быстро расходился и сулил увлекшимся прогулкой путникам вымокнуть до нитки.
– Здесь рядом есть охотничье зимовье, – сказала Таня. – Переждем дождь там!
До зимовья, действительно, было подать рукой, но и этого времени хватило, чтобы промокнуть.
Охотники заметно давно не наведывались в свое скрытое от любопытных глаз пристанище. Петруша быстро развел огонь в очаге и с беспокойством посмотрел на дрожащую от холода жену:
– Ты совсем замерзла, мой ангел, не хватало еще, чтобы ты простудилась. Садись же поближе к огню!
Но Таня не последовала этому совету. Подойдя к мужу, она приникла к нему, уткнулась лицом в грудь:
– Холод – это ничто…
Она на самом деле не чувствовала холода. И все бы отдала, чтобы остаться в этой лачуге навсегда. Чтобы больше ничего, никого… Только он и она… И еще вот так прижаться к нему… Слышать его дыхание, чувствовать тепло… И знать, что он любит ее, что никогда не оставит.
Руки Петруши сомкнулись вокруг ее талии, и, вот, уже жаркие поцелуи покрывали ее лицо, шею, руки…
Бодро отбивал дробь дождь по крыше охотничьего пристанища. Ржали беспокойно привязанные снаружи лошади. Их, мокнущих и не могущих укрыться от стихии, было немного жаль…
Если бы этот дождь не кончался как можно дольше… Но летние ливни обычно порывисты и скоротечны. Он утих скоро, а вместе с ним и ветер, заставлявший тревожно стонать старые ели. Лишь храп ожидающих запропастившихся хозяев коней нарушал воцарившуюся тишину.
– Нам пора возвращаться, – тихо сказал Петруша, приподнимаясь на локте и ласково глядя на жену. – Скоро стемнеет, Софья Алексеевна пошлет нас искать.
Таня села и, обвив руками его шею, попросила:
– Возьми меня с собой. Я не хочу, не могу больше оставаться одна…
– Ты знаешь, мой ангел, я не могу этого сделать. Но я обязательно вернусь. Я же всегда возвращаюсь, и это ты знаешь также. Мы, Стратоновы – любимцы Марса, и он хранит нас во всех сражениях. А когда я вернусь, обещаю, мы с тобой поедем в путешествие… Я возьму отпуск на целый год, и мы поедем с тобой в другие страны… В Италию или Германию… Или куда ты захочешь. И все будут завидовать мне, потому что у меня самая прекрасная и любящая жена… Я очень люблю тебя, Таня. Поэтому мы всегда будем вместе!
Светлело и трепетало сердце от этих нежных слов… Италия, Германия – все это ничто. Главное, чтобы всегда вместе! И, раз Петруша обещает, значит, так и будет. Он вернется, и тогда все изменится, они вместе отправятся путешествовать и будут счастливы, как в первый год после свадьбы. Так непременно будет. Ведь он всегда держит свои обещания…
Глава 6.
Федя Апраксин с детских лет не питал охоты к мальчишеским проказам и любил уединение. В том «повинен» был и рано обнаружившийся в нем талант живописца, совершенствование которого сделалось для мальчика важнее игр, и слабое здоровье, и влияние тетки, долгие десятилетия лежавшей в параличе, но при этом обладавшей удивительной духовной силой, привлекавшей к ней многих искавших утешения и совета людей. С тетей Любой Федя особенно сблизился по возвращении из Италии в последние годы ее жизни. Его первой замеченной знатоками работой стал ее портрет. Юному художнику удалось точно схватить и передать взгляд страдалицы… Эти необычайные, печальные и вместе с тем излучающие свет глаза будто жили своей, отдельной жизнью на неподвижном восковом лице, казавшемся особенно бледным в окладе темно-синего убруса.
– Живая икона! – так сказал о портрете Бенуа…
Именно под влиянием тетки Федя обратился к иконописи, и в ней ощутил свое подлинное призвание. Классицизм с его культом плоти был ему скучен. Хотелось писать душу… Писать Бога… Когда тетя Люба скончалась, он, несмотря на причитания матери и недовольство отца, желавшего, чтобы сын поступил в Академию, отправился в монастырь. Принять постриг юноша был еще не готов, однако лишь монастырские стены давали ему возможность посвятить себя своему призванию.
Под Петербургом, в Стрельне расцветала основанная еще при Анне Иоанновне, но позже пришедшая в значительный упадок обитель – Троице-Сергиева пустынь. В 1834 году ее настоятелем по велению Императора был назначен еще молодой монах архимандрит Игнатий. Назначение оказалось весьма удачным. Монастырь начал быстро восстанавливаться. Братские корпуса были объединены галереей, где новый настоятель устроил трапезную, в хозяйстве, наконец, был наведен порядок, храмы – отремонтированы. Кроме того, отец архимандрит создал в обители прекрасный хор, коим руководил стрельнинский священник и духовный композитор Турчанинов. Советы же хору давал сам Глинка.
Сюда, в эту обитель, и пришел юный послушник Феодор и вскоре был допущен к участию в росписи храмов, восстановлении пострадавших от времени фресок. Отец Игнатий, ставший для юноши наставником во всем, относился к нему с большим теплом. Возможно, оттого, что узнавал в метаниях болезненного послушника самого себя в его годы…
Когда-то Дмитрий Александрович Брянчанинов, отпрыск старинного дворянского рода, получивший блестящее домашнее образование, окончил по воле отца Инженерное училище. Отец мечтал, чтобы его первенец сделал карьеру при дворе, и юный Дмитрий, обладавший замечательным умом и незаурядными способностями, имел к тому все возможности. Инженер-поручик Брянчанинов был на хорошем счету у самого Государя.
Однако, еще с юных лет Дмитрий стремился уйти от мира. Лишь родительская воля препятствовала тому. В училище вместе со своим близким другом Михаилом Чихачевым он часто бывал у монахов Валаамского подворья и Александро-Невской Лавры, серьезно исповедовался, причащался. Товарищи по училищу лишь пожимали плечами, видя такую «неподобающую» светскому человеку набожность, отец гневался и даже жаловался на монахов, сбивающих «с пути» его сына.
Прослужив недолгое время, Дмитрий стал проситься в отставку. Император не понял стремления подающего надежды офицера и направил к нему с увещеваниями своего брата. Великий князь буквально угрожал поручику и так и не удовлетворил его прошения, сочтя оное временной и несерьезной блажью. Неизвестно, как бы сложилась судьба Брянчанинова дальше, если бы в дело не вмешалась болезнь.
Еще в детстве Дмитрий серьезно простудился, и с той поры страдал чахоткой. Обострение недуга помогло ему получить отставку, после чего молодой человек смог полностью посвятить себя Богу. Отец прогневался и отвернулся от него. Мать, подчинявшаяся мужу – также. Несколько лет Брянчанинов с верным Чихачевым кочевал из монастыря в монастырь, ища свое место. Он смиренно выполнял самую тяжелую, черную работу, часто и подолгу болел, несколько раз доходя до полного изнеможения сил.
В 1831 году Дмитрий принял постриг, а уже три года спустя Император призвал своего бывшего офицера на новое поприще – восстановление обители… Государь верно оценил его способности. От отца Брянчанинов унаследовал талант администратора, а инженерное образование дало ему необходимые знания строителя. И то, и другое было нужно Троице-Сергиевой пустыни, пребывавшей в совершенном беспорядке.
Многое было сделано за двадцать лет. И, как водится, нажиты и почитатели, и хулители, возводившие на архимандрита разные клеветы. В конце 40-х к отцу Игнатию пришла литературная известность. В журнале «Библиотека для чтения» вышли его первые статьи… Ко всем прочим своим талантам, настоятель обладал редким даром слова – как устного, так и письменного. Говорил, как писал. Писал, как говорил. Его проповеди были полны глубины и прочувственности, знания человеческого сердца и святоотеческих трудов, изучению коих отец Игнатий уделял много времени с юных лет. Вместе с тем проповеди эти были написаны живым литературным языком, что облегчало восприятие их в сравнении с зачастую вязкими древними текстами.
Имея такого духовного наставника, грешно было искать лучшего, и Федя прижился в Троице-Сергиевой обители. Правда, доктора не одобряли этот выбор. Пораженному тем же недугом, что и отец архимандрит, юному живописцу предписывался теплый, сухой климат. Но Федя не слушал врачей.
Лишь три дня как оправившись от очередного приступа, еще шатаясь от слабости и лихорадки, превозмогая ломоту в суставах, он пришел теперь в церковь, над росписями которой трудился, и принялся за работу.
– Напрасно вы так истощаете свои силы, – послышался голос отца Игнатия. – Здесь сыро и холодно, а вы еще очень больны.
– Нет, отче, я чувствую себя прекрасно! – как можно бодрее отозвался Федя, спускаясь с лесов. Но слабость подвела его и, сойдя на пол, он сильно покачнулся. Настоятель поддержал его:
– У вас жар, и весь лоб в испарине. Умерщвление плоти, к которому мы призваны, не стоит осуществлять с такой не по уму ревностью, или же это может обернуться уже грехом.
– Но ведь вы сами, отче… – слабо возразил Федя. – Вы даже в ледяную воду ныряли, когда запутались сети… Потому что из всех монахов были лучшим пловцом…
– Было такое, правда, – согласился настоятель. – Но так ведь нужно было сети распутывать, и некому было сделать это, кроме меня. А оттого, что вы оставите росписи еще на несколько дней, ничто и никто не пострадает. Когда я в годы моего послушничества бывал тяжко болен, то не только лежал в своей келье, но дважды вынужден был возвращаться в родительский дом, чтобы восстановить силы. Вам их также надлежит восстановить, дабы служить Богу вашим даром. Поэтому ступайте к себе и отдыхайте.
Воля отца архимандрита – закон. Получив благословение, Федя побрел в свою келью. Однако, на монастырском дворе он задержался, заметив новоприбывших странников. Среди обычного странного люда выделялся один человек. Он был одет просто, но очень чисто и аккуратно. В его осанке явно чувствовалась военная выправка, а длинные седые волосы и окладистая борода не могли скрыть благородного лица. Этому необычному бродяге было, должно быть, лет около семидесяти, но его движения были по-юношески легкими. Лишь правая рука его висела неподвижно…
Вокруг странника собралась толпа. Это были и другие бродяги, и монастырские насельники. Федя приблизился и потянул за рукав стоявшего ближе всех к нему послушника Максима:
– Что это здесь за собрание?
– Да ты знаешь ли, кто это? – кивнул Максим на чудного пришельца. – Это тот самый человек, что оборонял Соловки и Колу!
О герое Соловков и Колы, успевшего покинуть Белое море прежде, чем его догнала Государева награда, Федя уже слышал от прохожего люда. Дивно было видеть теперь его самого! Кто бы мог подумать, что он уже так стар!
Странного человека, как оказалось, осаждали просьбами рассказать о славных делах, коим был он участником. Герой отнекивался, тонко улыбаясь и щуря глаз:
– Что рассказывать, братцы. Уж, поди, и без меня вам все изрядно обсказали… Соловки отстояли мы без потерь. А господа пираты в отместку разорили и разграбили деревянную церковь на Заячьем острове, у города Онеги ограбили Крестный монастырь и несколько строений, сожгли деревни Лямицкую и Пушлахты… У последней мужички наши им изрядно бока намяли – пятерых супостатов убили, еще нескольких ранили.
– Простые мужики? Нешто?
– Да вот такие же, как ты. Войск наших там не было. 23 крестьянина во главе с холмогорским окружным начальником министерства имуществ Волковым. И побежали от них господа пираты! Потому что грабить – это одно, а воевать, хоть бы и с мужичьем – совсем иное.
– Вот те и владычица морей!
– Позорники! Трусы!
– А в газетах-то своих они этот разбой за свою победу выдали! – воскликнул Федя, который с началом войны стал весьма пристально следить за событиями на фронте.
– А с Колой что? Верно ли, что ее сожгли дотла?
– Вы бы, братцы, сперва хоть квасу путнику предложили, а потом пытали с пристрастием, – снова улыбнулся старик.
Сразу несколько молодых монахов бросились за квасом. Все, от юноши до старца, от последнего бродяги до отрешенного от мира затворника, жаждали узнать подробности английского варварства и нашего геройства.
Странный человек не стал более отделываться короткими фразами и удовлетворил общее патриотическое любопытства.
9 августа пароходофрегат «Миранда» подошел к берегам Колы. Англичане установили бакены и потребовали безусловной сдачи города, укреплений и гарнизона, угрожая в противном случае уничтожить Колу. Город не имел ни серьезных укреплений, ни артиллерии. Весь его гарнизон составляли 50 человек инвалидной команды. И все же адъютант архангельского военного губернатора, лейтенант флота Андрей Мартынович Бруннер отказался предать Колу неприятелю. Под его командой на защиту города поднялись, как один, все местные жители.
Ночью Бруннер послал охотников снять поставленные англичанами бакены и отвести захваченное ими рыболовецкое судно на новое место. Мещанин Григорий Немчинов и ссыльные Андрей Мишуров и Василий Васильев с успехом выполнили эту задачу.
С 11 августа британские корабли двое суток бомбардировали город. Несколько раз противник пытался высадить десант, посылая к берегу шлюпки с вооруженными людьми, но всякий раз небольшой отряд инвалидов и охотников под началом Бруннера пресекал эти действия. В итоге «цивилизованные» варвары сожгли всю нижнюю деревянную часть города – до ста домов, старинный острог и две церкви – и удалились ни с чем. Жертв среди защитников Колы удалось избежать.
Уже покидая русское Белое море взбешенные пираты попытались напасть на Онегу. Но здесь по первому набату навстречу им вышли 250 горожан, вооруженных ружьями, пиками и баграми. Этого достало, чтобы трусы побоялись штурмовать город.
– Вот и весь сказ, – резюмировал странный человек, сумевший в продолжении всего повествования ни словом не обмолвиться о себе.
В увлечении рассказом никто не заметил появления настоятеля, скромно ставшего позади всех и также слушавшего героя. Когда тот умолк, отец Игнатий подошел к нему:
– Я рад приветствовать вас в нашей обители, господин Половцев!
– Ваше преподобие, – поклонился странник и, получив благословение, ответил: – Для меня честь познакомиться с вами. Удивлен, однако, что вы знаете мое имя.
– Архимандрит Александр писал мне о вас, и мне было нетрудно узнать героя соловецкой обороны, – сказал настоятель.
Вечером чудесный пришелец присутствовал на ужине у отца Игнатия. Федя также был на нем и жадно ловил каждое слово как гостя, так и своего наставника. Гость, как оказалось, был богатым дворянином, лично знавшим самого Государя. Несмотря на разность судеб ему с настоятелем, людям одного круга, знающим воинское дело, глубоко преданным Государю и Отечеству, было легко найти общий язык.
– Настоящая война имеет особенный характер, – говорил настоятель, – в течение ее постепенно открываются взору народов и правительств тайны, которых в начале войны они никак не могли проникнуть. Уже и прежде изумилась Европа, увидев бесцеремонное обращение правительств Английского и Французского с малосильными державами, и варварское обращение их воинов с жителями занятых ими городов. Германия должна желать торжества России и содействовать ему: торжество России есть вместе и торжество Германии. Так это ясно, что мы не удивимся, если на будущую весну увидим Германию, вместе с Россией идущею на Париж, расторгающею злокачественный союз, и потом всю Европу, устремленную для обуздания Англичан – этих бесчеловечных и злохитрых Карфагенян, этих всемирных Алжирцев. По всему видно, что война продлится долго! Решительный исход ее и прочный мир виднеют в самой дали: за периодом расторжения Англо-Французского союза и за побеждением Англии на море. Без последнего события она не перестанет злодействовать и играть благосостоянием вселенной…
– Вы правы, ваше преподобие, – отвечал на это Половцев. – Однако, я вынужден сознаться, что вижу наши перспективы в более мрачных тонах. Германия не пойдет с нами на Париж. К несчастью, этот самый естественный наш союзник в Европе, всегда видел и будет видеть в нас потенциального врага, опасаться нашей огромности и мощи. Этого, в сущности, опасаются все европейские державы. И сколь бы ни были злокозненны они друг в отношении друга, это никогда не помешает им так или иначе соединиться в общей враждебности к нам. Англичане же слишком лукавы, а потому мы навряд ли сможем пустить их ко дну… Ведь сыны мира сего догадливее сынов света. Наш Император, наш народ, наше Отечество всегда стремились действовать по законам Божиим, по правде. Но в иных странах, как бы ни поднимали они на щит свой мнимый honour, этой правды давно нет… Мы можем побеждать в открытом бою, но наши враги неизменно искуснее в боях кабинетных. А сии последние становятся с каждым днем куда более важными и судьбоносными, чем самые крупные сражения.
Ночью Феде не спалось. Лихорадка его улетучилось, но кровь непривычно кипела, а мысль витала далеко от молитв и икон – там, где шли теперь решительные для России битвы. На цыпочках покинув келью, где сном праведника спал Максим, Федя спустился на двор. Ночь была лунная, и это еще больше будоражило воображение. Сев на одну из скамеек, юноша глубоко задумался. Впервые не манила его монашеская стезя, впервые не тянуло в храм – дописывать фреску. Перед глазами вставали сожженные древние церкви Колы, разбитые врата и стены Соловецкой обители… И простые мужики с кольями и ружьями, защищающие свои деревни от английского флота…
– Не спится, юноша?
Федя не заметил, как бесшумно подошел к нему Половцев и остановился, опираясь на длинный посох.
– Вижу, и вам тоже?
– Я уже стар, и мне не нужно много спать. Двух-трех часов мне с избытком хватает.
– Хотел бы я, чтобы и мне их хватало.
– Доживите сперва до моих лет, – улыбнулся странник.
– Знаете, я с отроческих лет хотел быть монахом…
– А теперь вас более манит звон мечей? – угадал Половцев.
– Не знаю… Я никогда не имел тяги к военному делу… Но сейчас! – Федя резко встал. – Я хочу сражаться! Потом можно и в монахи… Но сейчас надо сражаться! Всем!
– Прекрасное и благородное желание, – одобрил странник, располагаясь на скамейке. – Отчего бы нет? В нашей истории есть прекрасный пример Осляби и Пересвета.
– Но какой из меня Пересвет… – вздохнул Федя. – Моя рука привыкла держать карандаш и кисть, а не саблю.
– Вот что, юноша, никогда ничего не решайте в бессонную полнолунную ночь после слишком насыщенного впечатлениями дня. Сейчас вы пойдете спать, утром обдумаете ваши мечты еще раз, спросите совета у вашего наставника…
– А что потом?
– Потом? Если ваше желание окажется твердым, а отец настоятель благословит вас на ратный подвиг, то я обязуюсь сделать все от меня зависящее, дабы избавить вас от напрасной смерти – то есть преподать вам несколько уроков владения теми предметами, к коим ваши нежные руки менее привычны, чем к кистям.
– Вы говорите серьезно?
– Более чем. Я стар, но когда-то я был весьма недурным фехтовальщиком и, не побоюсь быть нескромным, одним из лучших стрелков. Но повторюсь, учить вас я буду лишь в том случае, если ваше желание воевать является действительным вашим стремлением, а не мальчишеской блажью. Война не игра, мой друг. И вы должны хорошенько подумать, для вас ли это занятие.
– Благодарю вас, – ответил Федя. – Я обещаю вам, что серьезно обдумаю мое решение и не стану действовать скоропалительно. Я буду молиться, чтобы Господь открыл мне мой путь.
– В таком случае доброй ночи, юноша. И пусть Господь подскажет вам верное решение, – кивнул Половцев и, легко поднявшись, удалился.
Глава 7.
Если наглость иногда оборачивается вторым счастьем, то самоуверенность оборачивается несчастьем более или менее всегда. Если бы англичане ударили на Петропавловск вскоре по объявлении войны, судьба города была бы, несомненно, плачевной. Но уверенный в ничтожности камчатских укреплений и гарнизона неприятель нападать не спешил.
Между тем, укрепления возводились с изумительной скоростью. Работы шли сутки напролет, и занято на них было практически все население Петропавловска. Оказал противник и еще одну услугу – пропустил к берегам Камчатки 58-пушечный фрегат «Аврору». Корабль только что завершил почти годичное кругосветное плавание и шел на соединение с Тихоокеанской эскадрой адмирала Путятина для ее укрепления. В перуанском порту Кальяо «Аврора» попала в окружение англо-французской эскадры под командой контр-адмиралов Дэвида Прайса и контр-адмирала Фебрие де Пуанта. До объявления войны оставалась неделя, но ее уже ждали. Командир русского фрегата Изыльметьев понял, что попал в ловушку. Он приказал ускорить ремонтные работы, а затем, пользуясь густым туманом, спустил на воду семь десятивесельных шлюпок. Корабль поднял якорь, не поднимая паруса, и шлюпки отбуксировали его в открытое море. Лишь там паруса были подняты, и «Аврора» скрылась в океане…
Позже контр-адмирал Прайс тщетно искал перехватить русский корабль. «Аврора», несмотря на тяжелые повреждения и поразившую всю команду цингу, сумела добраться до берегов Камчатки. К тому моменту от болезни слег и сам капитан-лейтенант Изыльметьев. По прибытии фрегата в Петропавловск Завойко распорядился срочно отправить всех больных на лечение на горячие ключи в деревню Паратунку. Из 196 человек 19 спасти не удалось.
Несмотря на скверное состояние судна и команды, оно стало огромным подспорьем для защиты Камчатки. Снятые с фрегата орудия усилили береговые батареи, а поправившиеся члены экипажа – гарнизон. Вскоре в бухту Петропавловска вошел еще один корабль – бригантина «Двина», доставившая пушки и 350 солдат Сибирского линейного батальона…
Оглядывая все сделанное за минувшие два месяца, Андрей Никольский мог с чистой совестью сказать, что и он, и все защитники города превзошли пределы человеческих возможностей. Инженер-капитан насилу мог узнать себя в том почерневшем от загара, плохо выбритом человеке с впалыми щеками и глазами, что иногда украдкой взглядывал на него из зеркала или водной глади. Не было дня, чтобы спал он дольше трех часов… Спать было некогда. Неприятеля ждали всякий день.
Теперь уж не легкая добыча ждала его… Семь береговых батарей, подковой охватившие порт, орудия, установленные на специально вырубленных в скалах площадках, недоступных для противника, бон , закрывший вход в гавань. «Аврора» и «Двина» стали левыми бортами к выходу из гавани, дабы встретить огнем врага при возможном прорыве. Три стрелковых отряда готовы были отразить десант.
16 августа на горизонте показалась эскадра, насчитывающая шесть неприятельских судов. Пароход «Вираго», маскируясь флагом Соединенных Штатов, прошел для разведки в Авачинскую бухту. Ему навстречу был выслан бот. «Вираго» поспешно ретировался.
Этим утром Андрей тщательно побрился и одел чистую сорочку. Он, как и все, готов был сражаться с неприятелем до последнего вздоха. В жизни можно иногда пренебрегать опрятностью наряда, но для Белой Дамы должно выглядеть достойно. Ибо Белая Дама посещает нас лишь однажды…
– Андрей Никитич…
Андрей вздрогнул и резко обернулся. Перед ним стояла, переминаясь с ноги на ногу, Матрена… Она не уехала из города, как он требовал того, сказав, что стреляет не хуже любого охотника, и, если потребуется, сама пойдет в бой. И на батареи она тоже не перестала приходить, несмотря на все запреты.
– Матрена, что ты здесь делаешь? – рассердился Никольский. – Я ведь запретил тебе приходить! В любой момент может начаться штурм!
– Я… завтрак тебе принесла… И еще увидеть тебя… Сам говоришь: штурм может начаться. Я не могла не прийти…
Вот и рассердись поди на бабу, которая смотрит на тебя моляще, знает, что не то и не так делает, и сама тысячу раз виноватит себя, а удержаться не может…
Корзину на сколоченную наспех табуретку поставила.
– Ты… не гони меня. Знаешь же, что я как собака за тобой…
Дай только слабину перед взглядом этим, и все сикось-накось пойдет. Что взять с бабы! Она сердцем живет. Вражья эскадра у самых берегов города стоит, того гляди ядра посыплются, унося людские жизни, и Бог еще знает, чем все кончится, а бабе – что до того? Ее вся жизнь – в человеке, к которому прикипела она так, что не оторвешь никак. И пусть все вокруг огнем заполыхает, она все равно будет лишь его видеть, лишь о нем хлопотать…
– Вот что, Матрена, ты сейчас вернешься домой и будешь меня ждать, – жестко сказал Андрей, застегивая мундир и прицепляя саблю. – Обещаю, что вернусь, как только отобьем неприятеля.
– Не любишь ты меня, только хандру свою тешишь… – вздохнула Матрена, с покорностью побитой собаки ушла, волоча по земле спавший с плеча нарядный платок в ярких алых цветах.
– Я женюсь на тебе, моя Венера… – тихо сказал ей вслед Никольский.
Почему бы, в самом деле, нет? Мезальянс? Так не все ли равно… Лучше любящая простолюдинка, чем барышня, которой ты не нужен… Жаль было Матрену. За два месяца не видела она от него ласки, не слышала нежного слова. Только прогонял он ее всякий раз, едва появлялась она на той или иной батарее. А она приходила опять. Иногда не приближалась даже, а только смотрела издалека. Не могла не видеть… Не могла с тоской совладать… Но потакни такой тоске, и уже вовсе не уйдет баба с места опасного. Пусть уж лучше тоскует и плачет, но подальше отсюда. А если все обойдется здесь, тогда уж можно будет и о любви подумать да поговорить.
Адмирала Завойко Никольский нашел на Сигнальной батарее.
– Думаю, что сегодня мы, наконец, дождемся гостей, – коротко сказал Василий Степанович.
«Гостей» ждали двумя днями прежде, после первых выстрелов, сделанных вошедшей в Авачинскую губу неприятельской эскадрой. Утром 19 августа корабли стали выстраиваться в боевой порядок, но вдруг вернулись на исходные позиции. Позже они все же предприняли разведку боем, но она не увенчалась успехом. Защитникам Петропавловска даже удалось повредить фрегат «Президент». Теперь же, после неспокойной ночи, полной явных приготовлений к штурму, должно было ожидать решительных действий…
– Вижу, вы наконец-то возвратили себе облик столичного инженера, – чуть улыбнулся Завойко, когда Никольский подошел. – Последнее время вы больше походили на местных охотников.
– Я всегда питал почтение к Белой Даме, Василий Степанович, – отозвался Андрей. – А раз мы рискуем сегодня встретиться с нею, то нужно это почтение засвидетельствовать.
– Полагаю, такая возможность, нам сейчас будет обеспечена, – произнес адмирал, опустив подзорную трубу.
Неприятельские корабли выстроились в боевой порядок, и через считанные минуты раздался первый залп…
Как ни трудились над укреплениями, как ни молили начальство больше оружия прислать, а соотношение сил все же несопоставимым осталось. 80 неприятельских орудий били по Сигнальной и Кладбищенской батареям, а ответить им могло лишь восемь. В огне этого неравного поединка стало ясно: удержать эти две батареи невозможно.
– Ваше превосходительство, покиньте Сигнальную! Если противник захватит укрепления – это поправимо, но если убьют или возьмут в плен вас…
Василий Степанович был человеком решительным и отважным, но здравый смысл никогда не изменял ему. Нужно было распоряжаться резервами, затыкать возникающие в обороне дыры, и пустое самопожертвование губернатора на гибнущей батарее делу помочь нисколько не могло.
Когда Завойко оставил Сигнальную, на душе у Андрея стало спокойнее. Своей жизнью он дорожил мало. Трезво оценив положение, поспешил к раненому лейтенанту Гаврилову. Молодой офицер с кое-как забинтованной головой и ногой охрипшим голосом ободрял своих подчиненных. И они, и он готовы были сложить головы у своих орудий, но ни Андрей, ни адмирал не желали подобных бессмысленных жертв.
– Лейтенант, прикажите вашим людям заклепать орудия!
– Что?! – вскинулся Гаврилов. – Бросить батарею?!
– Лейтенант, посмотрите, в каком состоянии орудия. Они засыпаны землей выше колес! Станки и тали перебиты! Невозможно ни увезти их, ни дольше сдерживать противника! Прикажите заклепать орудия, если вы не хотите, чтобы противник захватил их и использовал затем против нас!
– Отдайте этот приказ сами… – отозвался Гаврилов, приложив ладонь к окровавленной голове.
– Слушай мою команду! – крикнул Андрей, надеясь быть услышанным за грохотом пальбы. – Заклепать орудия! Забрать боеприпасы и идти на соединения с 1-й стрелковой партией!
Горько было артиллеристам своим огнедышащим боевым товарищам закрывать рты и покидать их, онемевших, на произвол неприятеля. Но что было делать? Пушки Сигнальной батареи сделали все, что могли. Теперь оставалось встретить противника на земле и уж тут угостить его и штыком, и пулей.
Истекающий кровью Гаврилов был отправлен в лазарет. Остальной отряд, соединившись со стрелками мичмана Михайлова, перешел на Кошечную батарею, расположенную на косе Кошка. На эту батарею легла теперь основная тяжесть артиллерийского боя. Командовал ею отважный Дмитрий Максутов.
Лейтенанту Максутову было всего 25 лет. Андрей успел хорошо узнать этого молодого и распорядительного офицера и теперь, добравшись до его позиций, обнял, как родного брата:
– Ну, что, Дмитрий Петрович, как полагаете, сдюжим?
Продолговатое лицо Максутова, обрамленное аккуратными темными баками, светилось энергией и верой.
– Сдюжим, Андрей Никитич! Какой у нас выбор? Камчатку, кроме нас, защищать некому!
– На десант решились, черти! – раздался возглас Михайлова.
И верно: порядка полутысячи солдат на гребных судах устремились к покинутой вслед за Сигнальной Кладбищенской батарее.
– Ну и вжарим мы им сейчас!
– Не горячитесь, мичман, – спокойно сказал князь. – У нас не так много пороха и снарядов, и тратить их должно с умом. Бить только наверняка.
Точный глаз Дмитрия Петровича ясно видел, что орудия Кошечной не достанут десант. Все же несколько залпов по вражеским лодкам было произведено. Увы, они оказались безрезультатны, и вскоре над Кладбищенской батареей взвился французский флаг.
Французское торжество подпортили англичане, случайно ударившие в самую середину уже взятой их союзниками батареи. А следом открыли огонь «Аврора» и «Двина». В этот момент пришел приказ Завойко о немедленной контратаке. В нее были брошены все наличные силы – от матросов до охотников-добровольцев. Мичманы Михайлов, Попов и Фесун вместе с поручиком Губаревым во главе 130 бойцов ринулись в штыки на батальон французских десантников. Но те боя не приняли, а немедленно погрузились обратно в свои шлюпки и без единого выстрела трусливо бежали на свои корабли.
Тем временем «Кошечная» вела бой с тремя вражескими фрегатами. Неприятельские ядра большей частью ударялись в фашины и не причиняли батарее серьезного вреда. Русские же орудия отвечали лишь тогда, когда противник подходил на близкое расстояние, желая дать залп всем бортом. Такова была тактика хладнокровного Дмитрия Петровича. Его батарея молчала все время, пока неприятельские суда захлебывались огнем. Его артиллеристы мрачно курили трубки или перебрасывались шутками, когда в воздухе разрывались бомбы, и очередных раненых и убитых уносили с позиций. Но, вот, неприятельское судно приближалось на нужное расстояние, и батарея наносила удар – неизменно точный. Промаха Максутов не давал.
С наступлением вечера бой затих.
– Завтра наверняка за «Аврору» возьмутся, – сказал Никольский, вытирая платком черное от копоти лицо. – Она им теперь – главное препятствие.
– Ничего, наши моряки себя в обиду не дадут, – невозмутимо ответил Дмитрий Петрович, раскуривая трубку.
Выдержке и спокойствию этого молодого офицера можно было и восхититься, и позавидовать. Впрочем, Андрей и сам не испытывал особого волнения. Адмирал в безопасности, Матрена – тоже, противник покуда ни пяди камчатской земли не захватил. Чего же еще надо? За трубкой и простым солдатским ужином беседовали с Максутовым о петербургском житие-бытие да о литературе. Не преминул Никольский похвастать своим знакомством с автором «Бедных людей». Рассказал и о том, как по пути на Камчатку добился разрешения навестить его в Оренбургском остроге. Оренбургский острог… «Бедные люди»… Достоевский… Петербургские салоны… Черт побери, как далеко все это от батареи №2 на косе Кошка, для защитников которых завтра, быть может, настанет последний день! Но почему-то именно об этом, далеком, хотелось теперь говорить…
В эту ночь Андрей впервые за долгое время проспал почти шесть часов. И неприятель не поспешил прервать этот сон. Потрепанный немногочисленными русскими орудиями, он зализывал раны и на новый штурм решился лишь четыре дня спустя – залатав пробоины и схоронив своих мертвецов на острове Крашенинникова.
24 августа удар вражеской эскадры пришелся на Перешеечную и Никольскую батареи. Сигнальная и Кладбищенская вновь отвечали неприятелю – передышка позволила восстановить орудия и укрепления. Но могли ли 10 орудий долго выдерживать натиск двухсот?..
Перешеечную батарею, куда с пятью орудиями перешел Максутов, атаковал фрегат «Форт». Тридцатипушечные залпы каждого борта не оставили здесь живого места. Впрочем, и Дмитрий Петрович был верен себе – французский корабль был серьезно поврежден ответным огнем. Тем не менее, спустя несколько часов из пяти русских пушек лишь одна оставалась исправной. Артиллерийская прислуга была перебита или ранена… Оглушенный очередным взрывом Андрей на какое-то время потерял сознание. Очнувшись он увидел, что Максутов и пара уцелевших бойцов продолжают неравный бой. Дмитрий Петрович, уставший и контуженный, сам наводил последнее орудие.
– Князь, надо уходить! – прохрипел Никольский, с трудом поднимаясь. – Людей… раненых надо уводить…
– Не теперь, Андрей Никитич, – ответил Дмитрий Петрович, не оборачиваясь. – Они наверняка предпримут попытку десанта, и наш долг – помешать им!
Очередной залп ранил суетившегося у пушки матроса. Оттащив его в сторону, Никольский занял его место сам:
– Как инженер я здесь бесполезен, но как солдат, надеюсь, на что-то еще сгожусь!
Максутов чуть улыбнулся. Его красные, воспаленные глаза высматривали цель. И эта цель не заставила себя ждать… Неприятель спустил на воду большой катер с десантом, и тот устремился к берегам Камчатки. Лицо князя напряглось, он впился взглядом в быстро идущую по волнам лодку, мысленно рассчитывая расстояние, на котором ее сможет достать его орудие.
– Ну-с, господа, придется вам охладить ваш пыл в нашем море…
Как ни измучен был Дмитрий Петрович, а глаз его не дал осечки. Единственный залп одинокой пушки – и катер пошел на дно…
– Ура! – раздалось несколько сиплых голосов.
Максутов утер пот со лба:
– Вот, теперь, Андрей Никитич, можно и заклепать нашу боевую подругу…
Однако, сделать этого не успели. Страшно грохнули все тридцать пушек левого борта «Форта», мстившего за своих погибших, и в тот же миг Перешеечную заволокло черным дымом. Никольского отбросило на землю. Из ушей его шла кровь, и он почти ничего не видел. Полуощупью Андрей стал пробираться к пушке, зовя Максутова:
– Дмитрий Петрович! Князь! Вы живы?!
Вокруг полыхало пламя, и стоял оглушительный гул… Никольский не мог понять, новые ли взрывы раздаются, или шумит это в его контуженной голове. У самой пушки он увидел лежащего на земле Максутова. Рука князя была оторвана, и из окровавленного рукава жутко торчал осколок кости. Дмитрий Петрович был без сознания. Забыв о своей контузии, Андрей бросился к другу. Сорвав с себя сорочку, перетянул, как мог, страшную рану. Следовало заклепать орудие, но сделать это было уже некому…
Никольский бережно поднял князя и понес его прочь с батареи Смерти. Дмитрий Максутов исполнил свой долг до конца, исполнил обет всех защитников Камчатки – умереть, если понадобится, но не отдать врагу родных берегов.
Андрей, едва помня себя, сумел донести умирающего друга до лазарета.
– О, да вы и сами ранены! – заметил врач. – Обождите. Как только кто-нибудь освободится…
– К черту, доктор… Позаботьтесь о князе. А на мне и так все заживет, – махнул рукой Никольский.
Зачерпнув ковшом воды из стоявшей неподалеку бадьи, он с жадностью стал пить. Слух его был изрядно притуплен контузией, и стоны раненых почти не долетали до него. В этот момент два мрачных санитара пронесли мимо него носилки с покрытым дерюгой телом. Перед мутным взором мелькнуло странно знакомое алое пятно. Никольский брызнул себе в лицо водой, вгляделся в удаляющуюся процессию и вздрогнул. С носилок свисал край ткани, расшитой алыми цветами…
– Стойте! – закричал Андрей, не слыша собственного голоса.
Подбежав к носилкам, он дрожащей рукой сорвал покров с лица покойницы и на несколько мгновений онемел, не желая верить глазам.
– Матрена… Как же это…
Она лежала неподвижно, такая непривычно холодная и бледная, такая родная и чужая одновременно. Красные цветы ее платка сливались с багровым пятном на груди. Вот, только пятно это не нитками шелковыми вышито было…
– Что, ваше благородие, знакомую узнали? – спросил сочувственно один из санитаров.
– Это… она служила в доме, где я квартирую… Что с ней случилось? – с трудом сохраняя самообладание, спросил Никольский.
– Охотники наши десант отбивали. Так она с ними увязалась. Стреляла, говорят, не хуже мужиков.
– Муж у нее охотник был… И отец… Научили…
– Научили, ваше благородие. Жаль только, самой беречься не научили… Англицкая пуля грудь навылет пробила. Царствие Небесное бабе!
Андрей какое-то время машинально шел следом за носилками. Перед его глазами стояло молящее Матренино лицо, звенели в ушах горькие слова: «Не любишь меня, только тешишься…» А он не возразил, не остановил… Прогнал… Думал, что так для нее безопаснее. А, может, наоборот надо было? Сказать о любви, и во имя любви этой велеть поберечься? Может, тогда бы не стала так отчаянно навстречу вражьим пулям идти? Не бросила бы тоска геройствовать… Если бы знать, если бы предугадать…
– Андрей Никитич, вот вы где! А я уж боялся не увидеть вас живым! – зычный голос Василия Степановича прервал тяжелые думы Никольского. Он поднял голову, посмотрел на сидевшего верхом адмирала.
– Вижу, крепко вам досталось…
– Нет, Ваше превосходительство, самую малость… Максутов умирает…
– Большая потеря, – омрачился Завойко. – Однако, не время теперь о погибших да раненых скорбеть. Его нам достанет после. Андрей Никитич, неприятель высадил основные силы. Озерная батарея сумела задержать их, но они движутся к городу. Я приказал выступить им навстречу всем, кто еще в силах держать оружие. Возьмите под свое начало отряд охотников и отправляйтесь к Никольской сопке. Губарев, Михайлов и другие уже там!
– Будет исполнено, Василий Степанович, – ответил Андрей и, стиснув зубы, добавил. – Они не пройдут.
Никогда в жизни он не чувствовал такого ожесточения. Окровавленный, почти оглохший, в изорванном мундире на голое тело, он вел отряд камчатских охотников на соединение с моряками и солдатами. Примкнули к отряду и некоторые раненые из лазарета. Все, как один, были полны решимости биться с неприятелем до смерти.
Все силы, которые удалось собрать, насчитывали 350 человек. 350 человек против тысячной группировки противника, штуцерным огнем прокладывавшей себе путь к Петропавловску. Но что была эта тысяча для людей, защищавших свою землю, свои семьи, мстивших за своих погибших товарищей?
– Вперед, в атаку! Ура!
И что с того, что в атаку приходится идти вверх по склону? Стояли перед глазами застывшее лицо Матрены и изувеченный Максутов… И что до града пуль и гранат, сыплющихся сверху? Блеснули в солнечном мареве русские штыки! «Постой-ка, брат мусью!» Вот, уже вскарабкался по склону доблестный лейтенант Ангудинов со своим поредевшим отрядом…
– Братцы, за мной! Вперед!
Дрогнули гости незваные. Завсегда им нелюб русский штык! Бросились тикать беспорядочно… А отряды русские уже все высоты заняли и били вслед из ружей. Знатно били! Охотники камчатские белке в глаз попадут, не то что в неприятеля… Парадокс: штыков русских испугались супостаты, а под градом пуль выносить своих раненых и убитых – нет. Падет один, а двое за ним возвращаются. Убьют их, приходят еще четверо. Даже стрелять в этих благородных смельчаков жаль становилось, но война не прощает сентиментальности. Пощади их, и завтра они убьют тебя и тех, что рядом с тобой…
Десантники ретировались на свои корабли, потеряв более половины своего состава. Русским же блестящая контратака обошлась в тридцать четыре жизни…
Со склона сопки, которую занял Никольский со своим отрядом, было видно, как вражеская эскадра отходит от берегов Камчатки. Победоносное «ура» эхом пронеслось по всем склонам, бывшим только что ареной жестокого боя. Закрестились суровые охотники:
– Кажись, на сей раз пронес Господь…
– Братцы, победили! Победили, братцы! – слышалось радостное.
Победили… Отчего же так пусто тогда на душе… Померещилось на окрашенном закатным багрянцем горизонте милое лицо… Живое… Румяное… С горящими, тоскующими, полными любви глазами… Зачем не послушала? Не вернулась домой? Сейчас он поспешил бы к ней… Обнял и сказал… Черт побери, пусть и неправду бы сказал, но ведь и не солгал бы… А теперь и вернуться некуда. В пустой дом, холодный и неприютный – к чему возвращаться?
– Ваше благородие, а, ваше благородие? Никак дурно вам поделалось?
Андрей тряхнул головой:
– Нет-нет, пустяки… Надо Максутова навестить. Вдруг все же выживет…
Глава 8.
От Камчатки до Крыма известия долго шли, а письма – тем паче. Тем отраднее, пусть и с таким запозданием, было получить письмо Андрея, в котором тот в своей обычной небрежной манере рассказывал, как Петропавловск отбил атаку англо-французской эскадры. Небрежен был рассказ, а за небрежностью той тем не менее столькое читалось!.. Завидовал Петр другу. Вот это – дело! Вот это – по-русски! Прогнали супостатов – любо-дорого! И на Кавказе тоже одна победа за другой, вот-вот Карс нашим будет! Отчего ж так не повезло Тавриде благословенной?..
Два месяца находился Петр в действующей в Крыму армии, и с каждым днем возрастала его растерянность. Когда союзники нанесли нам горькое поражение под Альмой, это показалось болезненной и досадной случайностью, которая всенепременно будет исправлена. Однако, ценой той «случайности» стало оставление на произвол судьбы Севастополя! Какой черт дернул командование отвести армию от города, вместо того, чтобы наоборот – к городу отступить и его защищать?..
Не мог постичь этого Петр. И главнокомандующего Меньшикова понять не мог. Князь был человеком большого и острого ума, отважным боевым офицером. Командуя русскими войсками в предыдущую войну с Турцией, он был тяжело ранен под Варной. Этот человек не мог не понимать военной стратегии. Впрочем, может, он был бы внимательнее к оной, если бы на нем не лежало так много иных должностей… И тут тоже заходил Петр в тупик, ища ответа: зачем одному человеку было разом давать столько постов? И когда бы знал все те дела, на кои был поставлен! Но какой же был из него фактический командир Черноморского флота? Из человека сухопутного, флотского дела не ведавшего? Он не мог понять флота. Не мог понять Севастополя. А там не могли понять его и с каждым днем ярились против него все больше, окрестив Изменщиковым.
Конечно, князь не был изменником. Но он в каком-то смысле был хуже того. Он был – равнодушным… Светский человек до мозга костей, надменный и гордый, Меньшиков, кажется, никого не любил и никем не дорожил. О людях, с которыми как будто водил дружбу, заглаза отзывался столь ядовито, что можно было подумать, что они – враги ему. Когда до тех доходили его издевки, они и впрямь становились его врагами… Князь смотрел на всех свысока, кичась своим умом, презирал равных себе по положению, а того больше стоящих ниже. Худородные севастопольские адмиралы, столь чуждые великосветскому обществу, раздражали его. До матросов же и собственных солдат, не евших досыта, ему просто не было дела. А где командующему нет дела до своих подчиненных, там не может быть славных побед. Командующий и его армия должны быть единым организмом, единой душой. В Крыму это были два разных мира, практически враждебных друг другу…
В узком кругу Александр Сергеевич жаловался, что в глазах армии его компрометируют бездарные офицеры, которые достались ему под начало. Однако, кто же мешал подобрать иных офицеров?.. Кто мешал лично вникать в нужды солдат, снизойдя к ним со своего постамента? Холеный барин Меньшиков брезговал заниматься этим.
Желал ли он по-настоящему победы? Желал, конечно, но в меру своего равнодушия. Он не жил этим желанием. Между тем, капризная дама Победа не дается тому, кто не желает ее всем сердцем, не стремится к ней самоотверженно, не готов положить жизнь к ее ногам.
Что может быть трагичнее положения армии, ставшей заложницей равнодушного и нерешительного полководца?
Брошенный на произвол судьбы Севастополь, как мог, защищал себя сам. Повезло, что союзники после Альмы не предприняли сразу решительный штурм почти неукрепленного города. Их медлительность дала время для чуда, совершенного тремя адмиралами, одним инженером и целым городом… Под командованием Корнилова, Нахимова и Истомина весь Севастополь, включая женщин и детей, днем и ночью возводил укрепления, спроектированные гениальным Тотлебеном.
Флот был принесен в жертву обороне города. Синопские победители пошли ко дну в родной гавани, дабы своими деревянными телами закрыть вход в нее неприятелю…
1 октября Севастополь подвергся страшной бомбардировке. Город с честью выдержал ее, но понес тяжелейшую потерю. На Малаховом кургане погиб адмирал Корнилов, бывший душой обороны.
А армия стояла на месте… И вслед за ней Севастополь со своими чудо-адмиралами, чудо-матросами, чудо-инженером сделался заложником равнодушия командующего.
Горечь Альмы немного подсластила атака Липранди на Балаклаву, ставшую опорным пунктом англичан. Этой атакой Александр Сергеевич решил отвлечь противника от Севастополя. Русские войска захватили пять неприятельских редутов, пушки и знамя шотландских стрелков. После этого англичане бросили в контратаку свою прославленную конницу во главе с лордом Кардиганом. Трудно было представить себе более бессмысленного действа – отборная кавалерия ринулась прямо навстречу огню русских пушек и была практически полностью уничтожена им.
Эта славная в тактическом смысле победа была тем не менее стратегической ошибкой Меньшикова. Атака небольшими силами Липранди не могла иметь серьезных последствий ввиду слишком значительного неравенства сил. Потрепав противника, русские войска вынуждены были вернуться на исходные позиции. Противник же, благодаря этой вылазке, смог увидеть свои слабые места и обратить на них самое пристальное внимание.
В 1812 году русская армия долго отступала, отдавая неприятелю все новые города. Офицеры и солдаты дружно роптали на Барклая, считая его изменником. Впоследствии оказалось, что Барклай, пусть и не избежав тактических просчетов, верно избрал основную стратегию. Но Меньшиков не был Барклаем. У него просто не было никакой стратегии. Лишь депеши из Петербурга заставляли его предпринимать какие-то действия.
Усиливающиеся бомбардировки Севастополя и угроза штурма города требовали наконец решительных действий, и Александр Сергеевич принялся за разработку операции по деблокированию города. План Меньшикова был довольно изящен и разумен, но имел два минуса. Во-первых, диспозицию будущего сражения составляли в отсутствии сколь-либо приличных карт окрестностей, на глаз. Во-вторых, командовать войсками был поставлен человек не самых блестящих воинских талантов, имеющий к тому же прескверные отношения с Меншиковым.
Петр успел узнать генерала Данненберга по службе в Дунайской армии. В молодые годы приняв участие в наполеоновских баталиях, позже отличившийся в подавлении польского и венгерского восстаний, в нынешней войне действовал он весьма неудачно, проиграв туркам Ольтеницкую битву. Несмотря на это, именно Петра Андреевича с его корпусом дунайский командующий Горчаков отправил в помощь Крыму. Узнав о таком усилении, Меншиков пришел в крайнее недовольство и прямо заявлял о нежелании иметь Данненберга в числе начальников войск крымской армии.
Тем непонятнее было, отчего при таком отношении именно на этого генерала Александр Сергеевич решил возложить всю ответственность за судьбоносную операцию. Возложив же, на протяжении всей подготовки оной не допустил ни Данненберга, ни других генералов присутствовать при составлении диспозиции и окончательного плана действий. Более того, на первых порах наступления отвечать за него должны были командиры двух ударных отрядов – Соймонов и Павлов. Данненбергу же надлежало возглавить оные после их соединения.
Спрашивается, за что же мог отвечать этот злосчастный генерал, лишенный возможности распоряжаться изначально, не введенный в курс дела и до конца вряд ли сам понимающий пределы своей ответственности? Конечно, будь на месте Петра Андреевича новый Суворов, или Воронцов, или иной выдающийся полководец, он бы успел сам изучить местность, познакомиться с вверенными войсками, наметить свой план действий – во имя победы и Отечества, а не страха ради начальства. Но Данненберг был самым обычным служакой, воспитанным муштрой и регулярством. В нем не было ни искры вождя. Он всего-навсего исполнял приказы в меру своих вполне заурядных способностей…
Иной тип военачальника представлял собой начальник 10-й пехотной дивизии Федор Иванович Соймонов, в отряд которого был определен и Петр, командовавший казачьей сотней.
24 октября русские войска, штаб которых был загодя перенесен в Инкерман, перешли в наступление. Федор Иванович рвался в бой и выступил даже раньше намеченного времени, опередив отряд Павлова, замешкавшийся из-за необходимости восстанавливать по пути разрушенный мост у Инкермана…
Сырым туманным утром неприятель не обратил внимания на шум в русском лагере, и атака оказалась для него внезапной. Первая русская линия с налета захватила вражеское укрепление, заклепав орудия. Егеря опрокинули передовые английские полки бригад Пеннефазера и Буллера. Батальоны Екатеринбургского полка захватили вражескую батарею, заклепали 4 орудия…
Но здесь силы атакующих стали выдыхаться…
– Проклятие! Где же Павлов?.. – глаза генерала Соймонова лихорадочно горели. На его глазах захлебывалась блистательно начатая им атака.
А Павлова не было… И Петр, успевший за два месяца вдоль и поперек изъездить окрестности, догадывался – почему. Карты! Никакая диспозиция не должна составляться без карт! Рисоваться на бумаге без учета специфических особенностей местности! Разве такая диспозиция может знать все овраги и ложбины? Верно оценить проходимость дорог, размытых дождями? Отряд Павлова замешкался, преодолевая эти природные неучтенные барьеры, а авангарду так отчаянно требовалась теперь поддержка!
А ведь мог прийти на выручку Горчаков! Горчаков, который, согласно диспозиции, должен был атаковать своим третьим отрядом главные силы противника, ударив на Сапун-гору! Но не спешил Петр Дмитриевич с атакой. Не получал приказа сверху форсировать, а самовольничать для пользы дела – так не Суворовым рожден был сей горе-полководец, не имевший главного для своей должности – решительности!
И от Данненберга вестей не было. Да и какие могли быть вести? Ведь ему в командование вступать лишь по соединении отрядов, а пока Павлов не пришел – с него взятки-гладки. Как и с князя Изменщикова (впервые всердцах обругал так Петр главнокомандующего). Этот будет иметь в свое оправдание целый список виновных: замешкавшегося Павлова, нерешительного Горчакова, поспешившего Соймонова и бездарного Даннеберга… Уж не для того ли этому столь ненавистному ему генералу и поручил странную роль, чтобы был козел отпущения в случае неудачи? Нет, не об Отечестве радел князь, не о победе. А лишь о том, чтобы при любом исходе свое лицо сохранить… Лощеный подлец!
Петр с казаками отчаянно отбивался от оправившихся от первой неожиданности англичан и проклинал сквозь зубы Меншикова. Ох, попадись бы теперь под руку его светлость…
Расстроенные Егерские полки отхлынули от вражеских укреплений, и тогда Федор Иванович сам бросился вперед них, увлекая солдат за собой в контратаку:
– Братцы! За мной! Вот-вот придет подкрепление! Надо продержаться, братцы! Вперед! Впе…
И оборвался хрипом голос генерала… Ничком упал он в осеннюю слякоть, сраженный меткой английской пулей.
А Павлова все не было… А Горчаков все выжидал…
Другая пуля оцарапала Петру лоб, глаза застилала пелена из крови и пота. Но через эту пелену видно было то, чего бы лучше не видеть… Одного за другим косили английские стрелки русских командиров. Пали ранеными генерал Вильбоя, полковники Пустовойтов и Уважнов-Александров, сражен был командир 10-й артиллерийской бригады Загоскин… Отряд лишился командования и большой части офицеров.
– Отступаем! – взревел Петр, пуще всех англичан и французов вместе взятых ненавидевший в этот миг Меншикова и Горчакова.
Стараясь сохранять порядок в рядах, стали отходить егеря. Их прикрывали солдаты Бутырского и Углицкого полков и артиллерия 17-й бригады. И казаки – единственная сотня кавалеристов в этом несчастливом бою. Впрочем, и не сотня уже. Повыбивало и их из строя.
Внезапно что-то переменилось на линии фронта, ослабел натиск на отступающих, и на фланге перестрелка завязалась… Это авангард павловского отряда с запозданием ударил на врага.
– Братцы, наши! – воскликнул Петр и тут почувствовал резкий удар в грудь. Боли он не ощутил. Только почему-то почернело в глазах, и перехватило дыхание. Выронив шашку, Петр бесчувственно соскользнул с коня.
Когда он открыл глаза, то увидел перед собой до боли знакомое лицо. Именно из-за этого лица он, жаждавший сражаться в стенах Севастополя, остался за его пределами. Он до сих пор боялся ее лица, боялся, что оно сможет всколыхнуть в нем то прежнее, мучительное, чего никогда не хотелось вспоминать. За эти годы он видел ее лишь один раз – на юбилее Варвары Григорьевны, пожелавшей собрать на свой праздник всех дорогих ее большому сердцу людей. Он был с женой, а она с мужем и первенцем… Познакомились, обменялись несколькими ничего не значащими словами… Петр всей душой обожал свою «дикарку», но память имела над ним большую силу, и он избегал искушения. И в тот вечер, и теперь, прибыв в Крым и даже не навестив за два месяца ту, что была когда-то самым родным и близким человеком…
Белый платок сестры милосердия, лицо похудевшее, усталое… А глаза… В них все сострадание, вся нежность мира…
– Ты совсем измучилась, Юлинька…
Он не чувствовал ни ног, ни рук и едва мог дышать, но говорить – хотелось. Более чем когда-либо.
– Мы все измучились, Петруша.
– Бой уже закончился? – спросил Петр, вспомнив о главном и сразу напрягшись.
– Мы отступили… – проронила Юлинька. – Убитых и раненых очень много. Тысячи…
– Это хуже Альмы!
– Тебе нельзя волноваться.
– Оставь! Мне уже можно все… Разве не так? Почему я здесь, в Севастополе? Почему не в нашем лазарете?
– Тебя приняли за мертвого, поэтому не отправили в лазарет. Уже потом, когда собирали мертвецов, случайно заметили, что ты еще жив, и привезли к нам. Так получилось.
– Наверное, получилось правильно.
– Тебе нельзя говорить. Нужно беречь силы.
– Зачем? Бесценная моя… сестра, ведь ты знаешь медицину не хуже врачей. И знаешь, что моя рана смертельна, – Петр пытливо посмотрел в лицо давней возлюбленной. – Молчишь… Отводишь глаза… Ты никогда не умела лгать и не научилась за эти годы. Ты знаешь, что я умру. Зачем же принуждаешь молчать в мои последние часы?..
– Хочешь, я позову священника?
– Пока не хочу. Я не видел тебя так долго, так долго не говорил с тобой. Побудь немного рядом. Поговорим в последний раз… Как брат и сестра, как говорили, когда были детьми…
Юлинька улыбнулась сквозь слезы:
– Я очень часто вспоминаю то время и очень скучала по тебе!
– Не плачь. Лучше расскажи мне о том, как ты жила все эти годы… А я, если успею, расскажу, как жил я…
Юлинька бережно взяла Петра за руку, уткнулась в нее лицом:
– Да, милый, я все расскажу тебе и не оставлю тебя…
Глава 9.
Она говорила долго. Хотя рассказывать было практически нечего. Отчего все романы обычно полны горестей и невзгод? Оттого, по-видимому, что счастливая и благополучная жизнь скучна для описаний. Что описывать, если жена любит мужа, а муж жену, их дети растут здоровыми и веселыми, их дом – полная чаша? Дом Юлиньки был именно таким. И все эти годы она была абсолютно счастлива. Разве что грустно и тревожно бывало, когда Сережа уходил в плавание…
Особенно волновалась она год тому назад, когда эскадра Нахимова ушла искать в по-осеннему бурном море турецкий флот. Уже при первых залпах войны на Кавказе почувствовал угрозу старый князь Воронцов. Еще не сломленным окончательно шамилевским бандам довольно было оказать достаточную помощь, и весь этот край мог отпасть от России – в руки давно рвущимся в эти края «помощникам». Англия и науськиваемая ею Турция не могли упустить такой возможности! Турецкая эскадра уже снабжала оружием повстанцев, курсируя вдоль восточного побережья Кавказа, а в Петербурге еще принимали решения, еще обсуждали обоснованность беспокойств Наместника. И, наконец, отдан был приказ Черноморскому флоту – срочно доставить подкрепления из Крыма на Кавказ за недостатком там войск и положить конец разбою турецких кораблей. Оба этих задания легли на плечи Нахимова.
Для того, чтобы сквозь сентябрьские шторма перебросить необходимые войска адмиралу потребовалась всего лишь неделя. Высадив в Анакрии 16 батальонов пехоты с двумя батареями, адмирал приступил к выполнению второй, значительно более сложной задачи… Неделя за неделей русская эскадра вела поиски турецких кораблей, крейсируя между Сухумом и анатолийским побережьем, и, наконец, обнаружила противника в Синопской бухте. Немного не дождавшись шедшего ему на подмогу адмирала Корнилова, Нахимов принял решение атаковать неприятельскую эскадру…
Какой всеобщий восторг был в Севастополе, когда до него дошла весть о блистательной Синопской победе! Да что в Севастополе – вся Россия торжествовала викторию! А Юлинька радовалась тому, что Сережа возвратится из опасного похода живым и невредимым.
Вернувшихся героев встречали ликованием. Кажется, не ликовал в те дни один единственный человек. Павел Степанович Нахимов… Он уже тогда понял, что Англия и Франция не простят России этой победы и используют ее для прямого вступления в войну. Так и произошло…
Когда флот союзников подошел к берегам Крыма, Сережа категорически настаивал, чтобы Юлинька с детьми уехала в Петербург к родителям. Но она столь же категорически отказалась уезжать. Дети вместе с няней были отправлены к дедушке с бабушкой, а сама Юлинька осталась с мужем в Севастополе.
– Я твоя жена, я сестра милосердия и я люблю этот город. И я никуда не уеду ни из Севастополя, ни от тебя, ни от страждущих, которым нужен будет мой уход, – таков был ее ответ на все настояния Сережи.
Положение медицинских учреждений в Империи всегда оставляло желать лучшего. Что уж говорить о госпиталях военного времени… Здесь не хватало всего: коек, лекарств, перевязочного материала и, конечно, рук. После несчастного сражения при Альме это уже ощутилось со всей остротой. И сразу несколько женщин решились посвятить себя уходу за ранеными.
Среди них была маркитантка Даша Александрова, превратившая свою повозку в маленький пункт помощи, куда отступающие команды приносили своих увечных товарищей. За это девушка была пожалована Государем золотой медалью и 500 рублями. После Альмы Даша стала помогать раненым в севастопольском госпитале. Дочь матроса, оставшаяся сиротой в 15 лет, она не боялась ничего – ни войны, ни самой тяжелой работы.
На другой день после сражения жена прапорщика фельдъегерского корпуса Толузакова Александра Сергеевна с несколькими добровольцами отправилась на поле боя для помощи пострадавшим. После она обращалась за пожертвованиями к севастопольским купцам, а сама стала работать на перевязочном пункте близ самого гиблого места в Севастополе – Малахова кургана…
На другом перевязочном пункте трудилась жена подполковника Хлапонина Елизавета Михайловна. Примеру этих женщин после первой бомбардировки Севастополя последовали и другие жены и сестры ушедших на войну офицеров. Кроме того, солдатские и матросские жены и вдовы получили право содержать у себя на дому раненых и больных в связи с трудностями размещения их в госпиталях.
Этот благородный порыв имел, однако, один недостаток – все добровольные сестры милосердия не имели понятия о медицине. Они могли быть разве что старательными сиделками. Пребывающим же каждый день раненым требовалась квалифицированная помощь.
К скорбному дню Инкермана в госпиталях Севастополя находилось более 10 тысяч раненых, из них около половины были тяжелыми. Эти, последние, брошенные кто на земле, кто на нарах, целыми неделями не были перевязаны и даже прооперированы. Не хватало хлороформа, не хватало корпии… И доктор Ульрихсон, начальник госпиталя на Корабельной стороне, ничего не мог с этим поделать.
После Альмы Юлинька практически не ночевала дома. Ведь из всех женщин она одна знала медицину, могла помочь раненым и чему-то обучить прибывающих доброволиц. Сколько раз в эти безумные дни она вспоминала Эжени! Вот, чьи бы знания и Божий дар в этот ад! Она бы одна стоила десяти сестер… Где теперь Эжени? Жива ли еще? Кто знает… О ней Сережа скучал больше, чем об уехавшем следом отце. Тот, впрочем, раз в месяц присылал письма, дабы о нем не тревожились. А Эжени пропала без следа…
Когда начинались бомбардировки, Юлинька холодела от страха. Она знала привычку адмирала Нахимова спешить на самые опасные участки боя, вдохновляя бойцов своим появлением и с беспредельным фатализмом играя со смертью. Он глядел ей в глаза сквозь подзорную трубу, стоя на самом опасном участке бастиона, привлекая все пули и ядра своими сияющими на солнце золотыми эполетами… Пули смущенно пролетали мимо. Ядра – также… А рядом с Павлом Степановичем неизменно был ставший его адъютантом капитан второго ранга Половцев. Сережа…И как только где-то раздавались взрывы, Юлинька знала, что ее муж теперь именно там. И после каждой бомбардировки она вздрагивала, когда ее звали, с особенной тревогой вглядывалась в приносимых раненых, боясь среди них увидеть Сережу, или же узнать, что…
Теперь и ему не приходилось ночевать дома. Просто потому, что дома больше не было… Очередной снаряд угодил в их квартиру. На счастье, в ту ночь адмирал попросил своего адъютанта заночевать у себя, дабы в очень поздний час тот не тратил время на неблизкую дорогу до дома, сэкономив его для и без того краткого сна.
Иногда Сережа приходил ночевать в госпиталь. Но даже поговорить толком не хватало времени. Муж валился с ног от усталости, а Юлиньку каждый миг звали со всех сторон – раненые, сестры, доктор Ульрихсон…
И она – спешила на зов. Она устала не меньше Сережи, но не желала замечать этого. Ей было легче в этих неусыпных хлопотах. Они притупляли страх… Вернувшись от очередного страждущего, она находила мужа спящим и какое-то время сидела рядом, тихонько целовала и старалась насмотреться и не думать о том, что может больше его не увидеть.
– М-м Половцева! Юлия Никитична! Примите новую партию!..
Новая партия… Что это были за люди! Матросы с обожженными лицами, контуженные, увечные, требующие, чтобы их сразу после перевязки отпустили на их бастионы и угрожающие сбежать, если их не отпустят по-хорошему. Отпускали. И они снова шли к своим пушкам, снова сражались, защищая родной город и умирая за него… А, умирая, спрашивали об одном: жив ли Павел Степанович… На адмирала смотрели они, как на Бога, на первого после Бога. Он и в самом деле был таковым. Неважно, что формально командующим гарнизоном значился старый граф Остен-Сакен. Он и сам понимал, что является таковым лишь по названию. Хозяином Севастополя после гибели Корнилова был один человек – Нахимов. И Сережа, когда приходил в госпиталь, лишь о своем адмирале говорил, отвлекаясь разве что на приходящие из Петербурга письма тещи, сообщающей о здоровье детей…
Писала маминька, впрочем, не только о детях. В последнем письме сообщила она радостную весть: в Крым едет Пирогов, а за ним последуют сестры Крестовоздвиженской общины, организованной Великой Княгиней Еленой Павловной! Елена Павловна обеспечила им медицинскую подготовку к избранному служению, нашла материальные средства и испросила, с большими препятствиями со стороны военного начальства, высочайшее разрешение на отправку сестер на театр войны.
Жена покойного Великого Князя Михаила Павловича, она всегда играла заметную роль в жизни русского общества и по праву считалась умнейшей женщиной своего времени. Елена Павловна обладала энциклопедическими знаниями, была прекрасно образована и одарена тонким чувством изящного. Сам Император, питавший к невестке чувство глубокого уважения, нередко советовался с ней в семейных делах и прислушивался к ее мнению, называя ее «умом нашей семьи».
Великая Княгиня проявляла большой интерес к искусству, покровительствовала русским художникам, музыкантам, писателям. Под влиянием музыкальных вечеров у нее зародилась мысль об учреждении Русского музыкального общества и его органов – консерваторий. За осуществление этой мысли Елена Павловна взялась со свойственной ей пылкостью и настойчивостью, пожертвовав личные средства и даже бриллианты. С конца 1840-х годов по ее инициативе в Михайловском Дворце проводились вечера – «четверги», на которых обсуждались вопросы политики и культуры, литературные новинки.
И вот теперь эта образованнейшая и тонкая женщина, не обращая внимания на косые взгляды общества, в котором служение интеллигентной женщины больным казалось чем-то из ряда вон выходящим, почти неприличным, ежедневно ездила в больницы и своими руками перевязывала кровоточащие раны. Ее Дворец превратился в большой склад вещей и медикаментов. Именно она направила в Севастополь отряд врачей во главе Пироговым. Вместе с Пироговым они уговорили встать во главе Крестовоздвиженской общины дочь бывшего губернатора Петербурга Екатерину Михайловну Бакунину. Именитая аристократка, выросшая в холе и неге, имевшая большое влияние в высших сферах, эта женщина одной из первых с началом войны решила всецело посвятить себя заботе о больных и раненых.
Приезда Пирогова и сестер, некоторых из которых, включая Бакунину, Юлинька знала еще в Петербурге, она ожидала с большим нетерпением и надеждой, не имея больше сил видеть муки несчастных, которым некому было помочь.
О чем же это говорила она?.. Так отвыкла от долгих речей, что потеряла нить своего рассказа… Сколько ночей не спала она? От непривычно долгого сидения закружилась голова… Как странно, она говорила так долго, а никто не позвал ее от одра умирающего…
Умирающего… Вот уж не думала, что придется так свидеться с Петрушей… Юлинька никогда не забывала его и всегда любила, как брата. Радовалась, что он обрел свое счастье, и печалилась, что так и не смог перешагнуть через обиду, так и избегал ее. Даже на семейном празднике в честь дня рождения матушки держался отстраненно. А так хотелось, чтобы вернулось то родство, та дружба, не знавшая секретов, что была меж ними прежде… Юлинька надеялась на время, которое однажды преодолеет отчужденность и холодность. А теперь времени не осталось…
– Сестрица, исполни мою последнюю просьбу…
Она не возразила, видя, как стекленеют его глаза, как дыхание становится все более слабым… Только и могла, что руку холодеющую к губам поднести, глотая слезы.
– Моя жена… Она не должна узнать из чужих рук… Напиши Софье Алексеевне… Мурановой… Все напиши, как есть… Пусть уж она Тане скажет… Первый раз в жизни слово нарушаю. Я ведь поклялся ей вернуться живым…
Он не сказал более ни слова. Юлинька медленно поднялась, поцеловала усопшего в лоб и, закрыв его глаза, прошептала:
– Я все сделаю, как ты сказал, я обещаю тебе…
– Юлинька!
Она с удивлением обернулась на голос мужа. Тот быстро приближался. Юлинька сделала несколько шагов ему навстречу:
– Сережа, откуда ты здесь? Что-то случилось?
Сережа посмотрел на нее с беспокойством:
– Нет, это ты мне скажи, что у тебя случилось? Ты плакала? У тебя все лицо мокрое от слез!
Юлинька вытерла слезы рукавом, бессильно кивнула назад:
– Там… Петруша… Стратонов… Он скончался только что…
Сережа перекрестился:
– Царствие Небесное… – обнял жену. – Ну, тише, тише… Как бы я хотел, чтобы ты была сейчас в Петербурге. Здесь Господне воинство пополняется слишком быстро… Однако, думаю, моя новость немного тебя ободрит.
– Что за новость?
– Пирогов уже в Севастополе и с минуты на минуту будет здесь!
– Помилуй Бог, если бы он приехал днем раньше! Может, ему бы удалось совершить чудо и спасти Петрушу…
Необычный шум снаружи сообщил о прибытии знаменитого хирурга. Вместе с мужем Юлинька поспешила ему навстречу. Николай Иванович был уже в госпитале. То, что он увидел, привело его в негодование.
– Сколько ждут операций эти люди?! Вы что, добиваетесь, чтобы они у вас «выздоравливали», как мухи, как в пьесе г-на Гоголя?!
– У нас не хватает врачей! Мы работаем без отдыха! – оправдывался Ульрихсон.
– Немедленно подготовьте все, и я займусь этими несчастными сам! Да-с! Я прооперирую их всех, даже если для этого мне не придется знать отдыха несколько суток!
Пирогов не любил долгих рассуждений. И тем более не желал теперь вдаваться в выяснения, отчего раненые оказались в столь бедственном положении – нужно было сперва спасти жизни.
– Николай Иванович, я Юлия Никитична Половцева, – представилась Юлинька, – служу сестрой милосердия с первых дней войны, а прежде работала в Покровской общине и изучала медицину.
– Да-да, сударыня, – кивнул Пирогов, – я уже слышал о вас от Павла Степановича и вашего супруга.
– Готова выполнить любые ваши распоряжения.
Николай Иванович внимательно посмотрел на Юлиньку. Его суровое, рассерженное лицо приобрело вдруг сочувственное и ласковое выражение.
– Любые распоряжение, говорите? Извольте. Мое первое распоряжение вам: идите и теперь же проспите не менее шести, а лучше восьми часов. Или вы станете здесь пациенткой.
– Я себя хорошо чувствую…
– Голубушка, вы едва держитесь на ногах и того гляди упадете в обморок. Ступайте и отдохните! А после милости прошу – будете ассистировать мне на операциях, – с этими словами хирург удалился.
Юлинька покачнулась и, если бы Сережа не подхватил ее, упала бы без чувств, как и предугадал Пирогов.
– Вот, – покачал головой муж, – нужно было Николая Ивановича привезти, чтобы хоть он тебя вразумил.
Он понес ее к выходу из госпиталя.
– Куда мы? – слабо спросила Юлинька.
– К Ларионовым на квартиру. Отдохнешь, потом Елизавета Иннокентьевна напоит тебя крепким чаем, и ты сможешь вернуться в эту обитель страданий…
– А ты?..
– А я должен буду еще раньше вернуться к Павлу Степановичу. Я покинул его ненадолго, чтобы сопроводить Николая Ивановича. Он ждет меня.
Ларионов был старинным сослуживцем Сережи. Теперь он, как и другие офицеры, безотлучно находился на одном из бастионов. И ослабевшая, почти бесчувственная Юлинька была поручена заботам его сестры.
Все же она не исполнила в точности указания Пирогова и, едва муж, крепко поцеловав ее на прощанье, ушел, попросила:
– Елизавета Иннокентьевна, миленькая, дайте мне, пожалуйста, перо и бумагу.
– Помилуйте, к чему они вам теперь? Отдохнете, а потом…
– Нет-нет, я обещала… Вот, напишу, а потом уж лягу.
Елизавета Иннокентьевна, разведя руками, принесла просимое. С трудом преодолевая черноту в глазах и дрожь в пальцах, Юлинька принялась выводить мучительные строки:
– Достопочтенная Софья Алексеевна! Прошу великодушно простить меня, что принуждена сообщить вам горестную весть…
Глава 10.
Два стройных клена раскинули свои шатры над могильными крестами. Софьинька посадила их здесь специально, чтобы каждую осень падали на дорогие могилы золотые и багряные сердца… Сердца, отчего-то не разорвавшиеся от боли…
Отец… Мать… Сестрица… Любимая нянюшка… Все они здесь. И скоро добавится к ним еще один крест…
Софьинька сидела на деревянной скамейке, поставленной перед могилами, и плакала. Редко-редко позволяла она себе эту слабость, а теперь менее, чем когда-либо, можно было позволить. В деревне – перед мужиками, что на нее глядели с большим почтением, чем на любого соседского барина – нельзя. Для них она не баба, не хозяйка даже, а Хозяин. Все здесь подчинялось ее воле, ее, хрупкую, маленькую женщину, привыкли видеть неизменно сильной, решительной, твердой, готовой справиться с любой бедой…
Господи! Ты один знаешь, чего стоило это страдающей душе! Прежде знала няня… С нею одной могла Софьинька поговорить по душам, выплакать старухе наболевшее. Но уже три года, как ее нет, и по душам теперь осталось разговаривать лишь с Богом.
А годы, между тем, брали свое. Состарилась Софья Алексеевна… Хотя еще крепка телом, а нет-нет да нападет хворь. То спину не разогнешь, то отдышаться не можешь. А все равно нельзя себе роздыху дать. Два имения под ее рукой, за всем догляд нужен. Управителей честных не сыскать. Даже самый порядочный из их братии непременно однажды окажется шельмой…
Тяжко… Мочи нет, как тяжко… И дома бодриться надо – ради Тани… Одно место и осталось, чтобы волю слезам дать – у могил этих. Ведь никого же не удивит скорбь над дорогим прахом? Здесь слезы естественны и простительны.
Два дня назад из Крыма пришло письмо от Юлии Половцевой, в которой та сообщала о смерти Петруши. Письмо это Софьинька тотчас спрятала. Но что же за мученическая мука была все эти два дня Тане в глаза смотреть! Улыбаться, ободрять, врать, как не врала никогда в жизни…
Ей нельзя теперь правду сказать. Вскоре после отъезда Петруши оказалось, что Таня беременна. То-то была радость! Столько лет этого счастья ждали… Танюша сама не сразу поверила ему и не поспешила написать мужу. Так и не узнал, бедный, что семя его на сей земле останется.
Должно остаться! Таня здоровья была некрепкого. В тягости началась у нее водянка, и врачи велели ей лежать. Всякая нагрузка, всякое потрясение могло погубить и ребенка, и ее саму. Софьинька хорошо знала, что для ее воспитанницы муж значит больше, чем весь вместе взятый мир. Она жила лишь им одним. Как же сказать ей, что его нет?.. И прежде не вынесла бы такого удара, а теперь…
Налетевший ветер высушил слезы. Софьинька устало посмотрела на солнце, ярко светившее сквозь оголенные листобоем ветви. Много было горя в ее жизни, много утрат, много тяжелых дней… Но так тяжело не было никогда. И хоть бы с кем разделить эту ношу! Не с кем…
Не могла не думать Софья Алексеевна и о Стратонове. Знает ли уже Юрий Александрович горестную весть? Как-то перенесет ее? Ах, теперь бы и с ним быть! И его поддержать! Ведь никого не осталось у него, кроме нее… Но между ними, как всегда, нескончаемые версты и кавказский хребет… Не перелетишь на крыльях и крыльями теми не укроешь ни его, далекого, ни несчастную Таню, с которой страшно встречаться взглядом.
Даже когда не стало заменившей ей мать сестры, Софьинька не чувствовала себя такой беспомощной. Тогда она знала, что делать. Учиться вести хозяйство, беречь сестрино наследство. А что теперь?
Нет, слезами делу не поможешь. Какая бы беда ни стряслась, нужно не умножать ее собственным отчаянием, но искать хоть какой-то выход. Чтобы найти выход, сперва нужно определить цель…
Рано или поздно Таня узнает о несчастье. Но нужно, чтобы это случилось именно поздно. Не раньше, чем на свет явится дитя… Так нужно для сохранения его и ее жизни. К тому же, имея на руках долгожданного первенца, Таня обретет новый смысл своего существования. И трагическое известие, быть может, не сломает ее.
Цель ясна. Но как ее достичь? До родов еще без малого полгода. Как полгода скрывать от жены смерть мужа, от которого она всякий день ждет писем и сходит с ума уже от одного их отсутствия?..
А если… Осененная спасительной мыслью, Софьинька резко поднялась и поспешила к дому.
– Что Татьяна Васильевна? – с порога осведомилась она у горничной, поспешившей принять у барыни пальто.
– Почивать изволят-с, – ответила та.
– Это кстати… – прошептала Софьинька и поднялась в спальню воспитанницы.
Шаги ее были все еще легки и, когда нужно, бесшумны, и Таня не услышала их. Софья Алексеевна осторожно открыла комод, достала шкатулку с письмами Петра, вынула одно из последних и, поставив шкатулку на место, поспешила в свою комнату.
В последние годы она все реже бралась за кисти и краски, отдавая предпочтение карандашу и углю, но рука ее осталась по-прежнему твердой и точной. И такой ли руке с грубоватым, размашистым почерком зятя не справиться? Некогда для забавы копировала Софьинька почерк сестры… Давно это было, но неужто теперь не удастся?
Надев очки и взяв бумагу, Софья Алексеевна принялась старательно переписывать письмо Петруши. Сперва подделка давалась плохо, но на четвертый раз копия вышла похожей. Еще бы слова нужные придумать… Все письма мужа Таня читала вслух не по одному разу. Тут уж поневоле запомнишь приметные слова и обороты.
Девятой копией Софьинька осталась довольна. Не отличишь оригинал от подделки… Хорошо, что доктора предписали Тане постельный режим. Хоть не надо ломать голову, чтобы выдавать кого-то за посыльных. В нынешнем положении любая корреспонденция по-любому через руки Софьи Алексеевны проходит.
Немного переведя дух, она написала своей рукой текст будущего письма. На первый раз довольно и совсем короткого будет. Все ж война, некогда много писать. Да и по счастью унаследовал Петруша от отца скупость письменных слов. Длинных писем оба они писать никогда не умели…
Трижды переписала сочиненное, перечла придирчиво. Как будто не отличишь от настоящего… Теперь бы еще запечатать, как подобает… Господи Боже, но как смотреть Тане в глаза, вручая ей подделку? Как сквозь землю не провалиться от собственной лжи?
Откинувшись на спинку кресла, Софьинька посмотрела на портрет Юрия Александровича:
– Друг вы мой бесценный, почему вас опять нету со мной теперь… И почему меня нет рядом с вами… И почему мое сердце все еще выдерживает эту боль? Может быть, для вас одного и выдерживает? Чтобы вашу боль уменьшать… Боже, знает ли кто-нибудь в целом мире, как страшно одиночество в целую жизнь?.. – поднявшись с кресла, она покачала головой. – Впрочем, о чем это я… Сейчас важна лишь Таня, а все прочее… Нет, вру. Сама себе вру… Вы всегда будете для меня важнее всех. И теперь не только свою воспитанницу и ее ребенка я пытаюсь спасти, но и вашего внука. Вашего и – пусть и по названию лишь, а не по крови – моего… Этот ребенок будет жить, даю вам слово. И мое сердце будет биться, пока я буду нужна ему, вам… Бог нас не оставит…
Вновь прокравшись в комнату воспитанницы, Софья Алексеевна вернула в шкатулку «похищенное» письмо. Когда она собиралась уходить, Таня проснулась:
– Это вы, тетушка?
Прежде чем обернуться, Софьинька старательно придала своему лицу веселое выражение:
– Я, радость моя! И с добрыми вестями!
– Письмо?! – заблестели глаза надеждой.
– Твой муж всегда держит слово, – улыбнулась Софья Алексеевна, подавая воспитаннице свою искусную подделку. – А ты все тревожишься! Почитай же и ободрись!
– А вы не хотите послушать, что пишет Петруша?
– Непременно хочу, но позже. Мне нужно распорядиться по хозяйству. Ты же знаешь, сколько у меня хлопот… Я загляну к тебе вечером, и ты прочтешь мне письмо.
Поцеловав Таню, Софьинька вышла в коридор и, едва затворив дверь, приникла лбом к стене. Ее знобило, а к глазам подкатывали предательские слезы. И теперь день за днем одна должна играть эту роль… Улыбаться, писать фальшивые письма, затем слушать их чтение вслух, говорить о мертвом, как о живом, шутить, смеяться… Как же выдержать это, как…
– Барыня, вы дурно себя чувствуете? – обеспокоенно спросила подошедшая горничная.
– Нет, Стеша, нет, – качнула головой Софья Алексеевна. – Просто тревожусь за Татьяну Васильевну… Ты пойди к ней. Она проснулась уже и читает письмо Петра Юрьевича.
– Разве гонец был?
– Был, Стеша, был.
– А я не слышала…
– Главное, что слышала я, – строго сказала Софьинька. – Иди к Татьяне Васильевне и порадуйся вместе с нею. И вообще… будь теперь при ней безотлучно. А по дому Митрофановна справится одна.
– Слушаю, барыня, – кивнула Стеша и скрылась в комнате Тани.
Софьинька устало побрела вниз. Она чувствовала себе опустошенной и разбитой и нравственно, и физически. За окном монотонно стучал тоскливый осенний дождь. И от этого стука еще тошнее становилось на душе.
– Митрофановна, скажи Герасиму, что завтра поутру к отцу Агапиту поедем…
– Слушаю, барыня.
Хоть отцу Агапиту боль излить… А заодно тайком ото всех и панихиду отслужить по новопреставленном…
Глава 11.
Маленький кабинет в нижнем этаже дворца был погружен в полумрак. Николай лежал на своей узкой походной кровати, которую даже в дни болезни не пожелал поменять на более удобное ложе. Никаких перин – только кожаная подушка и шинель вместо одеяла. Как надлежит солдату… Вот и пришел генерал Февраль, на которого столько надежд возлагалось… Да только не за неприятелем пришел, а за ним.
– Что нашли вы вашим инструментом, Мандт? Новые каверны?
Доктор убрал стетоскоп и ответил негромко:
– Хуже. Начало паралича.
Это начиналось как обычный грипп. Может, так и закончилось бы. Но войска уходили в Крым, и долгом Императора было напутствовать идущих на смерть во имя его и России чести. Тот же славный Мандт категорически противился тому, чтобы венценосный пациент ехал в манеж по зимней стуже.
– Ваше Величество, мой долг предупредить вас, что вы очень сильно рискуете, подвергая себя холоду в том состоянии, в каком находятся ваши легкие.
– Скажите, если бы я был простым солдатом, вы обратили внимание на мое нездоровье?
– Будьте уверены, что во всей армии Вашего Величества не найдется врача, который позволил бы солдату в таком положении выписаться из госпиталя!
– Дорогой Мандт, вы исполнили ваш долг, предупредив меня, а я исполню свой и прощусь с этими доблестными солдатами, которые уезжают, чтобы защищать нас!
Это было два дня назад… Значит, Мандт был прав.
– Так когда же вы дадите мне отставку?
– У вас осталось несколько часов, Ваше Величество…
Эти слова не потрясли Николая. Последний год он жил, словно в горячке, подкрепляясь одним – слепой верой в Промысл Всевышнего и смиренной покорностью ему. Да сбудется воля Его и теперь…
– Мандт, как достало у вас духу высказать мне это так решительно?
– Меня побудили к этому, Ваше Величество, следующие причины. Прежде всего и главным образом, я исполняю данное мною обещание. Года полтора тому назад вы мне однажды сказали: «Я требую, чтоб вы мне сказали правду, если б настала та минута в данном случае». К сожалению, Ваше Величество, такая минута настала. Во-вторых, я исполняю горестный долг по отношению к Монарху. Вы еще можете располагать несколькими часами жизни, вы находитесь в полном сознании и знаете, что нет никакой надежды. Эти часы Ваше Величество, конечно, употребите иначе, чем как употребили бы их, если бы не знали положительно, что вас ожидает; по крайней мере, так мне кажется. Наконец, я высказал Вашему Величеству правду, потому что люблю вас и знаю, что вы в состоянии выслушать ее, – доктор старался говорить спокойно, но под конец по щекам его потекли слезы.
– Благодарю вас, – сказал Николай, пожимая ему руку. – Потеряю ли я сознание и не задохнусь ли? – мысль о потери сознания всегда казалась особенно противной, хуже всякой жестокой боли…
– Я надеюсь, что не случится ни того, ни другого. Все пройдет тихо и спокойно.
– Хорошо. Пошлите за моим старшим сыном и не забудьте известить остальных моих детей. Только пощадите Императрицу…
– Ваша дочь, Великая Княгиня Мария Николаевна провела ночь в передней комнате на кожаном диване и находится здесь в настоящую минуту.
– А Никольский – не здесь ли?
– Здесь, Ваше Величество.
– Позовите его ко мне, пока не прибыл Наследник…
Манд удалился, и через несколько мгновений у постели Николая возникла тучная фигура Никиты Васильевича. Лицо его было красно, а из глаз катились слезы, которые он то и дело отирал платком.
– Полно, друг мой, полно, – обратился к нему Николай. – Плакать надо о моих бедных солдатах… Сколько жизней пожертвовано даром… Все это время у меня не было большего желания, как лететь к ним, сражаться с ними…
– Ваши сыновья сражаются за вас!
Николай и Миша приняли боевое крещение под злополучным Инкерманом. Николай считал, что долг его детей быть с армией в трагические для Отечества дни, а, если надо, то и погибнуть в бою, показывая пример солдатам…
– Вот что, Никита Васильевич, Наследник еще молод и порывист. Ты мудр. Мы столько лет работали с тобой бок о бок… Будь ему верным советником, помоги ему. Ему теперь очень нелегко придется. Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить ему царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Я ухожу молиться за Россию… А ты будь опорой ему. Никто лучше тебя не знает положения наших дел.
– Клянусь, что исполню вашу волю, – тихо сказал Никольский и, вновь промокнув глаза, добавил: – Ваше Величество, с вами очень хочет проститься один человек…. Он здесь уже дольше суток.
– Кто это?
– Половцев…
После известия о собственной скорой кончине, принятом столь спокойно, вряд ли что-то еще могло взволновать умирающего Императора. Но, как всегда, нежданное появление старого друга…
– Позови его немедля. А меня… прости. И прощай, Никольский!
Никита Васильевич ничего не ответил. Его душили рыдания. Низко поклонившись, он вышел, а на его месте возник тот, кого Николай менее всех чаял увидеть в этот час. До него доходили слухи, что Половцев подался в странники, от соловецкого настоятеля извещен он был и о подвигах старого друга при обороне монастыря. И, вот, он стоял перед ним… Не в хитоне, не в мужицком рубище и кафтане, а в долгополом темно-синем сюртуке и такого же цвета панталонах. Белоснежная борода его была аккуратно подстрижена, а длинные волосы убраны в косицу, какие носили еще в минувшем веке. Этот странный гость, сутки ожидавший в передней, должно быть привлек к себе немало любопытствующих взглядов придворных.
– Я рад тебе, Половцев, – сказал Николай, протягивая ему руку. – Хотя и не ждал тебя.
– А должно было ждать, Ваше Величество. Разве мог я не проститься с моим Государем…
– Ты давно в столице?
– Четыре дня.
– Видно, сам Бог тебя привел…
– Возможно.
– Знаешь ли ты, что после Соловков я велел искать тебя?
– Для чего?
– Для того, чтобы благодарить и наградить за доблесть.
– А я делал все, чтобы меня никто не нашел.
– Я завидовал тебе, Половцев… Ты мог сражаться с неприятелем, а я оставался здесь, точно в плену. В плену казнокрадов и лицемеров. Ты знаешь, из Крыма мне доносили, будто наши интенданты воруют даже корпию, будто продают ее неприятелю… Неужели это, в самом деле, может быть? Неужели эти люди не остановятся даже перед тем, чтобы погубить собственное Отчество, лишь бы набить карманы? Иногда мне, как в бреду, начинает казаться, что не воруем лишь я да мой сын…
– Государь, у этих людей нет Отечества.
– Ты прав… Их предательство хуже Франца-Иосифа… Но и его, и их ждет Божия кара. Я же теперь могу лишь просить Бога, чтобы он принял меня с миром, – Николай помолчал. – На днях я подписал приказ о производстве твоего сына в следующий чин. Он славно служит… Как все молодцы-моряки… Ты можешь гордиться им.
– Я горжусь и им, и моей невесткой. И жалею лишь о том, что в силу лет не могу сражаться с врагом на бастионах Севастополя.
– Я жалею о том же, что не могу делить участь с моими славными воинами… Однако, Мандт отвел мне несколько часов, а этого маловато, чтобы вести дружеские беседы. Прощай, друг мой!
Половцев опустился на одно колено, поклонился и, коснувшись губами руки Императора, вышел, щелкнув каблуком:
– Прощайте, Ваше Величество!
Николай отметил, что его старый друг даже в своей новой скитальческой жизни сохранил безупречную военную выправку. Воин! Настоящий воин! Во всех своих ипостасях, на всех извивах своего тернистого пути он оставался таковым. И теперь отдал последнюю честь своему Государю, как надлежит рыцарю…
Николай ожидал, что в затворившиеся за Половцевым двери войдет Наследник, но вбежала она… С опухшими от слез глазами, дрожащая… Глупо было распорядиться известить всех и пощадить ее. Разве можно было утаить от нее то, что уже знали все? Бедная, бедная… С первого дня, как он увидел ее, Николай знал, что она добрый гений его жизни. Тяжело было видеть теперь ее страдания, чувствовать, как ее горячие слезы струятся по его руке, к которой с отчаянием приникла она.
– Ты всегда была моим Ангелом-Хранителем, со дня нашей встречи и до последнего часа…
В дверях показался Александр. Николай знаком велел сыну подойти. Следом вошли остальные дети и несколько наиболее приближенных придворных.
– Простись за меня с гвардией, – сказал Император Наследнику. – И со всей армией. И особенно с Севастопольцами. Скажи им, что я и там буду продолжать молиться за них, что я всегда старался работать на благо им. В тех случаях, где это мне не удалось, это случилось не от недостатка доброй воли, а от недостатка знания и умения. Я прошу их простить меня.
– Отец, из Севастополя прибыл с донесением сын князя Меньшикова.
– Эти вещи меня уже не касаются. Прими все депеши сам. И пусть все гвардейские полки соберутся в залах дворца, чтобы присяга была принесена немедленно, как только меня не станет.
Императрица всхлипнула, и Николай ласково погладил ее по руке:
– Путь позовут мадам Робрек, чтобы позаботилась об Императрице, как недавно в Гатчине. Пошлите депешу в Москву, что я умираю и прощаюсь с ней. И отпишите королю прусскому. Передайте ему мою последнюю просьбу, чтобы он всегда помнил завещание своего отца и никогда не изменял союзу с Россией.
– Все будет исполнено, отец, – отозвался Александр, изо всех сил старавшийся выглядеть спокойным.
Николай по очереди благословил всех домочадцев:
– Напоминаю вам о том, о чем я так часто просил вас в жизни: оставайтесь дружны. А теперь мне нужно остаться одному, чтобы подготовиться к последней минуте. Я вас позову, когда наступит время.
– Оставь меня подле себя! – взмолилась Императрица. – Я бы хотела уйти с тобою вместе! Как радостно было бы вместе умереть!
– Не греши, ты должна сохранить себя для детей. Ты будешь для них центром. Пойди соберись с силами, я позову тебя, когда придет время.
Александр и Мария увели мать, поддерживая ее под руки. Остальные вышли следом. Теперь у изголовья Николая остался лишь священник Бажанов. Дышать становилось все тяжелее. Сколько же будет длиться эта отвратительная музыка?.. Кто бы мог подумать, что умирать так трудно…
Бажанов осенил его крестом. Настало время последней исповеди…
– Мне кажется, я никогда не делал зла сознательно… – прошептал Николай.
Глава 12.
7 марта возвращавшемуся от Камчатского люнета на Малахов курган начальнику Корниловского бастиона Владимиру Ивановичу Истомину оторвало голову вражеским ядром… Изувеченное тело погребли в склепе Владимирского собора – рядом с его наставником адмиралом Лазаревым и другом адмиралом Корниловым. Во время панихиды Сергей боялся посмотреть на Павла Степановича, боялся прочесть на его лице мысль, которую уже ясно прочел однажды, над гробом Корнилова. Это была даже не мысль, а твердое знание и решимость. Знание, что на четвертой надгробной плите в этом склепе будет выбито его имя, и решимость – не пережить Севастополя, в возможность спасения которого он не верил никогда.
Над гробом Владимира Алексеевича, бывшего душой обороны в первые недели ее, Нахимов горько плакал, и это были последние его видимые слезы. С того дня он стал хозяином Севастополя. И неважно, что лишь теперь его официально назначили временным военным губернатором полуразрушенного бомбардировками города и начальником Севастопольского порта. Хозяином он стал в роковой день 5 октября, когда на том же Малаховом кургане пал Корнилов.
Хозяин не имел права даже на самую малейшую слабость. Он обязан был стать примером для всех, быть везде и всюду. И хотя не впервой было Павлу Степановичу поспевать везде и всюду и во все вникать самому, а все же велика разница: одно дело поспевать в своем родном морском деле, на корабле, и совсем другое – с тою же верностью и быстротой распоряжаться на суше, в адовом пламени войны.
Морское дело… Корабли… После прошедших месяцев все это казалось призраком иной жизни. Прекрасным призраком… Сердце обливалось кровью при виде того, как уходили под воду красавцы-корабли, пущенные на дно во имя защиты города. Только моряку возможно понять, как нестерпимо это зрелище. Человеку сухопутному корабль – что? Утонул – жаль, конечно, но и не смертельно: новый можно построить, еще лучше. Конечно, дорогое это дело, но и только. Для моряка же корабль – живая душа, друг, которого лелеешь, которым гордишься. И, вот так, собственными руками пустить на дно… Казалось бы, на фоне тысяч погибших матросов, солдат и офицеров и не до парусных друзей должно быть. Ан нет, саднит и саднит эта рана моряцкое сердце.
Но пуще того другое томит… Из трех адмиралов, возглавивших оборону города, остался теперь один. Сам он, казалось, ничего не ценил меньше собственной жизни. «Вот, ежели убьют Тотлебена, Васильчикова или Хрулева, то беда-с. А меня убьют – не беда-с», – так обычно отвечал Павел Степанович на все попытки остеречь его от ненужного риска.
Да, если бы убило кого из них, то большая беда была бы. Сам Промысел свел этих людей в Севастополе. Тотлебена еще в августе прислал из Дунайской армии генерал Горчаков. Меньшиков встретил его насмешливо, указав, что в Севастополе есть целый саперный батальон, и велел уезжать обратно на Дунай. Однако, Тотлебен остался. И именно его искусству и неутомимости обязан был город своими в кратчайший срок возведенными укреплениями, укреплениями, которые достраивали и восстанавливали из руин уже под страшным огнем неприятеля.
Начальника штаба гарнизона генерала Васильчикова также прислал Меньшикову Горчаков – после Альмы. Но «князь Изменщиков» выжил его из армии. Васильчиков вернулся после Инкермана…
Отважный генерал Хрулев, за плечами которого были Польская и Венгерская кампании, приехал в Крым с Дуная раньше, еще в марте 1854 года. Но очень долго способностям этого талантливого командира не дано было проявиться вполне за отсутствием у состоящего при князе Меньшикове генерала необходимой для оперативных действий должности.
Еще одним человеком, гибель которого Нахимов считал большой бедой, был командир Волынского полка генерал Александр Петрович Хрущев. В 1853 году он со своим полком был перевезен из Одессы в Севастополь и в апреле следующего года занял южные бухты. В Альминском сражении Хрущев, находившийся в резерве, с началом общего отступления занял позицию на высотах за Улукуловской долиной и, прикрывая отступление русской армии, много содействовал тому, что оно прошло без паники и организованно. 14 сентября Волынцы совершили блестящую рекогносцировку по направлению к деревне Уве и заняли один из самых опасных пунктов в осажденном городе, 4-й бастион, на площадку которого в иные дни падало до 700 неприятельских снарядов.
В феврале стало известно о планах противника занять расположенный на пути к Малахову кургану пригорок, и оттуда перейти в атаку. Для предотвращения этого плана необходимо было в кратчайшие сроки соорудить укрепления на пригорке. Постройка редутов была поручена Хрущеву и Волынцам. Распорядительный и хладнокровный Александр Петрович под покровом ночи перевел свой отряд через Килен-балку двумя колоннами. Правая колонна, прикрываясь цепью и резервами, заняла пригорок и приступила к постройке Селенгинского редута. В ту же ночь было построено и несколько ложементов. Наутро заметив возводимые под его носом укрепления, неприятель открыл по ним огонь. Но Волынцы продолжали работу. Тогда на третью ночь французы бросились на штурм еще не оснащенного вооружением редута, но были разбиты. Хрущев же, завершив строительство Селенгинского редута, в ста саженях от него возвел еще один – Волынский.
Безусловно, утрата таких людей стала бы жестоким ударом для Севастополя. Но… потеря Нахимова обернулась бы для него гибелью. Но сам адмирал точно не желал понимать этого.
Почти одновременно с гибелью Владимира Ивановича в Крым прибыл новый главнокомандующий и весть о кончине Императора… Князя Меньшикова он отстранил от должности за несколько дней до смерти. Заменить его был призван командующий Дунайской армией князь Горчаков. Имея ввиду «успех» дунайской операции, ожидать каких-то улучшений не приходилось.
А смерть Государя… В городе, где смерть стала средой обитанья, где каждый день приходилось терять друзей и родных, где все защитники его существовали уже в некоем пограничном состоянии между двух миров, уже никого нельзя было потрясти даже уходом Самодержца. Чувства затупились, вытесненные одним лишь долгом и волей – стоять до конца, до последнего часа…
А этот последний час старухой с косой у каждого за плечом маячил. Снова гремела, захлебываясь яростью, канонада. И было, отчего яриться союзникам! Обратилась им «приятная прогулка» месяцами бойни и мора. Сколько приняла крымская земля незваных гостей, русскими пулями, ядрами да штыками, а к тому болезнями унесенных, в эту зиму? Наших, конечно, больше приняла… Да мы привычные, и мы – дома у себя… А союзники, англичане особенно, не привыкли к такому. Если и суждено им Севастополь взять, то долго эта добыча им отрыгиваться будет, подавятся ею стервятники…
Швах… – пролетело ядро, аккурат меж адмиралом и сопровождавшим его Сергеем. Охнул капитан – пробрало со спины так, что плечом не поведешь. А Павел Степанович что же? Обернулись друг к друг одновременно.
– Живы, слава Богу! – с облегчением вздохнул Нахимов, чей сюртук был изорван. – А я уж было подумал, что вас убили-с…
– А я думал, что вас.
– Вы ранены-с?
– Пустяки!
– Тогда продолжим нашу прогулку.
«Прогулка» лежала на Малахов курган. Новый главнокомандующий, посетив его днями, задержался здесь ненадолго, узнав сколь близко расположены позиции неприятеля и увидев их воочию. Для Нахимова же это и впрямь давно стало «прогулкой». Да и для Сергея, неизменно сопровождавшего своего адмирала – также. Фатализм заразителен – особенно, когда живешь в столь своеобразном климате, что вместо града и дождя, на голову сыплются пули да ядра…
Матросы и солдаты увидели сутулую фигуру «Нахименко-бесшабашного», как прозвали они своего кумира, еще издали. Подтянулись, приободрились, заулыбались… Каждый желал показаться молодцом, заслужить одобрительное слово или хотя бы взгляд. Иных из тех, кто был здесь вчера и также бодро приветствовал адмирала, уже приняли в небесные чертоги. Иным из тех, кто теперь желал ему здравия, не суждено было пережить грядущей ночи, а, может, и дожить до нее. Редел гарнизон, непоправимо редел… И патронов со снарядами не доставало, экономили их. Да что там снарядов… На иных присланных солдат рубах не находилось, потому что обмундирование и все прочее довольство по степи разбросано было… Так и геройствовали в шинелях на голое тело. Правда, Павел Степанович, умудрялся найти и рубахи, и сапоги… И следил за кухней, чтобы кормили бойцов сытно. Могли ли не ценить они такой отеческой заботы?
– Ура, Нахимов!
И десятки завороженных глаз следят, как блестя адмиральскими эполетами, поднимается «бесшабашный» на бастион. Офицеры здешние, что за ним следуют, бледны и нервничают – не за себя, конечно, а за хозяина и душу Севастополя. Но Боже упаси сказать ему: «Ваше Высокопревосходительство, не ходите на тот бастион, это опасно!» Только плечом поведет: «Я вас не держу-с!»
Вот, и теперь расположился адмирал на самом опасном месте и смотрел на неприятеля в амбразуру. Может ли быть что-либо опаснее? Чуть видит неприятель, что закрывается в амбразуре свет подошедшим человеком, тотчас штуцерная пуля летит туда.
– Павел Степанович, – почти шепотом обратился Сергей к Нахимову, – отсюда смотреть опасно. Тут уже лишь за сегодня десять человек убито.
– Так что же-с?
– И вас убьют…
Такие шепотом сказанные замечания адмирал принимал охотнее, нежели громко и публично выражаемые за него беспокойства.
– Так что же-с? Можно и с другого места смотреть, – откликнулся, отходя от амбразуры.
В этот день пули вновь пролетели мимо Павла Степановича. Неведомая сила хранила его. А, впрочем, отчего же неведомая? Разве был теперь в России хоть один уголок, где бы не возносили молитвы за него? Православный народ молился за своего героя по церквам и по домам, и сила этих молитв оказывалась сильнее железа и огня… Еще со славных дней Синопской победы из разных концов России приходили адмиралу письма русских людей, желавших лично засвидетельствовать ему свое восхищение. Среди них были князь Вяземский и архимандрит Игнатий (Брянчанинов). «Подвиг Ваш, которым Вы и сподвижники Ваши с высоким самоотвержением подвизаетесь за Россию, обратил к Вам сердца всех Русских. Взоры всех устремлены на Вас; все исполнены надежды, что сама Судьба избрала Вас для совершения дел великих, нужных для Отечества, спасительных для православного, страдающего Востока. Не сочтите ж странным, что пишет к Вам Русский, не имеющий чести быть лично знакомым с Вами», – эти первые строки письма настоятеля Сергиевой пустыни Сергей хорошо запомнил. Павел Степанович ответил на это письмо смиренной благодарностью и просьбой молиться об упокоении души своего наставника адмирала Лазарева. Архимандрит Игнатий прислал также икону святителя Митрофана Воронежского, молитвенника за создаваемый Петром Великим флот и жертвователя на постройку оного. Этой иконой Нахимов очень дорожил.
Теперь на письма почти не оставалось времени. С Малахова кургана, едва успев переменить сюртук, Павел Степанович отправился к князю Горчакову. Сергей не сопровождал его, имея иные поручения. Покончив с ними, он остался дожидаться адмирала у него на квартире. Нахимов возвратился лишь к ночи.
– Вот что, Сергей Викторович, будет у меня к вам поручение-с, – живо сказал он, едва переступив порог. – Если я не ошибаюсь, вашему отцу принадлежали заводы в Екатеринославской губернии?
– Точно так, – отозвался Сергей. – Кое-что и теперь принадлежит, хотя и управляется специально поставленным человеком. Увы, из меня негодный наследник отцовских богатств, я ничего не смыслю в этих делах.
– Зато хорошо смыслите в наших нуждах-с, – заметил Нахимов. – Нам не хватает снарядов. И если в ближайшее время мы не получим их в достаточном количестве, Севастополь погибнет.
– Что я должен делать, Павел Степанович? – Сергей мгновенно забыл о мучающей его боли в плече и весь обратился в слух.
– Поедете теперь же на Луганский завод. Необходимо усилить отливку снарядов и ускорить доставку обозов с ядрами к нам. Чтобы они не шатались по степи при вечном нашем разгильдяйстве, а шли прямым и самым кратким ходом в Севастополь. Я получил для вас у главнокомандующего открытый лист, по которому все власти обязаны оказывать вам полное содействие в возложенном на вас поручении-с. Если встретите препятствия, срочно присылайте эстафету. В казначействе вам выдадут 2000 рублей на расходы-с. Казначей вас ждет. И помните, что от вас зависит судьба Севастополя!
– Я сделаю все от меня зависящее! – кивнул капитан.
– Не сомневаюсь в вас, Сергей Викторович! – Павел Степанович чуть обнял Сергея за плечи, затем отстранился, перекрестил на дорогу: – Ну-с, в добрый путь, и примите мое благословение!
Взяв подорожную и получив у сонного казначея деньги, капитан, прежде чем отправиться в путь, наведался в госпиталь, дабы предупредить жену о своем внезапном отъезде. Юлинька спала в своей крохотной кладовке. Сергей знал, что на сон ей, измученной и исхудавшей за эти страшные месяцы, отведено навряд ли больше часа-другого. Сейчас кто-нибудь из раненых позовет, и сестра Половцева встрепенется и, прогнав ласкового Морфея, поспешит на зов. Капитан пожалел будить жену. С нежностью поцеловав ее в голову и наскоро написав и оставив на видном месте записку, он поспешил на Северную сторону, где уже ждали его лучшие лошади.
Глава 13.
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые.
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые…
Вспомнишь и лица…
– Сволочь Жабокритский! Ну, попадись мне только, Ваше превосходительство! Под трибунал, в каторги, на виселицу пойду, а тебя гада…
– Мишель!..
Пламенный монолог капитана Никольского, сдобренный крепкими словами, сумел перекрыть и адский грохот всех английский батарей, с утра бивших по Малахову кургану, а с трех часов дня направивших раскаленные жерла на Камчатский люнет, и печальную мелодию, которая уже несколько дней неотвязчиво наигрывалась невидимыми руками в душе Феди Апраксина.
Эти руки теперь далеко были. И играли они теперь Высшему Слушателю. Майор Житомирского егерского полка Эраст Агеевич Абаза, написавший ту щемящую сердце мелодию на стихи Тургенева, пал смертью храбрых, обороняя 5-й бастион. Федя не был знаком с ним, но очень любил этот романс, а потому гибель композитора в севастопольском аду потрясла его.
Что делал повелитель нот среди страшной какофонии войны? Защищал Родину… Так же, как вчерашний иконописец Апраксин. Худо-бедно обученный обращению с оружием старым странником, посетившим монастырь, благословленный на ратный подвиг архимандритом Игнатием, он к ужасу отца и матери отправился охотником на войну. Впрочем, отец и мать узнали об этом, когда он уже был в Севастополе. Федя даже не простился с ними, понимая, как будет воспринято его решение. Грешно, конечно, но, решившись положить живот за Отечество, нельзя позволить расхолаживать себя слезами и увещеваниями…
В Севастополе Апраксин был с Юлией Половцевой и ее младшим братом Мишелем Никольским. Последний прибыл в город незадолго до Феди и сразу взял его под свою опеку.
– Мальчишка вы, и зачем вас сюда принесло?! – с недоумением выговорил в первую встречу. – Ведь вас убьют в первом же бою! Штык это вам не карандаш, мой милый Леонардо!
– Я имею право сражаться за Отечество такое же, как и вы.
– Оставьте ваши пафосные речи, я их терпеть не могу. Сражаться за Отечество тоже надо уметь. Я и мой брат Андрей посвятили этому жизнь с малолетства. А вы, вы как собираетесь здесь?
– Клянусь, что докажу вам, что я не мальчишка, и могу быть хорошим солдатом! – вспылил Федя.
– Полно-полно, мой милый инок, – рассмеялся Мишель. – Верю, что вы станете новым Пересветом, но хотя бы на первых порах умоляю: не ищите подвигов и держитесь меня. Каждой стали нужна закалка, а каждому мужеству – опыт.
Никольский-младший Апраксину сразу понравился. Это был простой в общении и лихой в бою офицер. Трудно было поверить, что он происходит из столь высокопоставленной семьи. По-солдатски грубоватый и прямой, он и внешне походил на солдата. Скуластый, с крупными чертами лица и широкой, задорной улыбкой, придававшей ему неуловимое обаяние.
Федя же, вчерашний смиренный послушник, оказался хорошим, исполнительным солдатом. Он читал молитвы над убитыми, не обращая внимания на пули и ядра. Он выносил раненых и ходил за ними. А в бою… Конечно, поединки с почтенным учителем не могли дать достаточной науки. Да и тяжело было… убивать. Распороть живому человеку живот штыком, даже если это враг – что может быть тяжелее? Не хватало Апраксину духу убить. Все существо его восставало против убийства…
Зато полюбил Федя ходить в разведку. Разведка, она не с целью убить проводится, а сведения собрать, «языка» взять… «Языков» севастопольские охотники брать наловчились. Подберутся бесшумно под ночным покровом к неприятельским позициям и с моряцкой ловкостью петлю на зазевавшегося часового набросят. Набросят и тянут к себе бедолагу – словно рыбешку на крючке. А дальше кляп в рот, руки-ноги свяжут и в город добычу, глазами, что того гляди лопнут, вращающую. Многих так переловили. Матрос Кошка, особенно в таких делах прославившийся, бывало, за одну ночь до трех пленных приводил.
Апраксину, понятно, с такой ловкостью петли не набросить. Этому тоже учиться надо. Зато в разведке его талант художника полезен. Кто лучше зарисует вражеские позиции, нежели он со своим даже в темноте по-кошачьи острым глазом и точной рукой?
Правда, не только неприятельские редуты рисовал Федя. Чуть выдавалась минута, набрасывал он портреты Севастопольцев.
– Родина должна помнить лица своих защитников!
Усталые и небритые матросы да солдаты посмеивались:
– Чего нас-то малевать. Ты, вон, Павла Степаныча изобрази!
Но адмирал наотрез не желал, чтобы его «изображали». Впрочем, Апраксин все же улучил момент, и, когда Нахимов долго наблюдал за противником, стоя на бастионе, быстро нарисовал его, в чем немедленно повинился, показав Павлу Степановичу рисунок.
– Разбой-с! – махнул рукой адмирал.
Бывшие рядом матросы дружно захохотали. А Мишель хлопнул Апраксина по плечу:
– Правильно, брат Федор, малюй дальше! Хрулева и Тотлебена не позабудь!
Генерала Хрулева лишь 5 мая назначили начальником 1-го и 2-го отделений оборонительной линии. Это назначение воодушевило защитников Севастополя, ибо Степан Александрович имел репутацию храброго солдатского генерала. С другой стороны, становилось очевидно, что командование ждет решительного штурма – именно поэтому на самый опасный участок назначен такой человек, как Хрулев.
Ждать пришлось всего лишь двадцать дней… 25 мая началась общая бомбардировка Севастополя. И в этот же день Степан Александрович был назначен начальником Корабельной стороны.
Огонь был столь силен, что уже к концу дня с Камчатского люнета стало почти невозможно отстреливаться. Умолк и находившийся позади Малахов курган. Ночью обстрел лишь незначительно ослаб, а утром сделался еще свирепее. Днем стало ясно, что новый французский командующий Пелисье решил сконцентрировать удар на передовых укреплениях Севастополя – возведенных в марте генералом Хрущевым Камчатском люнете, Селенгинском и Волынском редутах. «Три отрока в пещи» – так называли их Севастопольцы…
Теперь эти «отроки» были опустошены вражеским огнем. Но еще ранее их опустошил генерал Жабокрицкий, за три дня до бомбардировки отдавший безумное, но одобренное штабом гарнизона распоряжение, до крайности ослаблявшее в соответствии с новой диспозицией именно те части, что должны были защищать люнет и оба редута…
– Ну, попадись мне, сволочь… – уже почти хрипел от ярости Никольский.
После бомбардировки из восьми сотен защитников осталось в строю не более шести. Укрепления были почти разрушены. А к вечеру погибавшие один за другим смертники – сигнальщики с наблюдательных постов, сообщили о сборе и заметном движении во французских траншеях. Неприятель готовился к штурму обескровленных укреплений! Мишель немедленно отправил гонца к Жабокритскому за распоряжениями. Но тот все еще не вернулся…
Вспомнишь обильные, страстные речи,
Взгляды, так жадно и нежно ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса…
– Гонец!
И вправду показался из дымного мрака гонец на взмыленной лошади, и по лицу уже ясно – хороших вестей не жди…
– Ну, что?! – воскликнул Мишель.
А другие защитники люнета уже обступили посланника, с тем же немым вопросам глядя на него.
– Генерал сказался внезапно больным и уехал на Северную сторону, не оставив распоряжений… – глухо ответил тот, опустив голову, словно стыдясь за недостойное поведение начальствующего лица.
– Измена! Предатель! – раздался ропот.
– Подлец… – прошептал теперь и Федя.
Этот человек обрек на погибель передовые укрепления города, от которых зависела судьба ключевого пункта обороны – Малахова кургана, а с ними восемь сотен жизней их защитников, и трусливо бежал, поняв, что надвигается беда.
– Ну, молитесь Богу, Ваше превосходительство, чтобы меня сегодня убили… – едва слышно процедил почерневший от гнева Мишель. – В противном случае…
Но уже не осталось времени говорить о «противном случае». Неприятель ринулся в атаку – разом на оба редута и люнет. Две полные французские бригады на горстку измученных защитников…
– Ну, держитесь, мой милый богомаз, сейчас будет жарко! – бросил Никольский, выхватив саблю.
– Братцы, Павел Степаныч здесь! – раздался возглас.
И следом грянуло привычное и родное сердцу:
– Ура Нахимову!
Адмирал примчался на люнет, едва узнав о штурме. Соскочив с лошади, он поспешил на вышку. В сопровождавшем его адъютанте Апраксин без труда узнал мужа Юлии капитана Никольского.
Французские гвардейцы и зуавы наступали на редут с трех сторон. Их численность вдесятеро превосходила защитников. Несмотря на отчаянное сопротивление, бой вскоре шел уже на самом люнете.
– В штыки! – воскликнул Нахимов, обнажив кортик и вскочив на банкет. Его высокую, сутулую фигуру было видно теперь отовсюду. Воодушевленные его присутствием и отвагой, матросы и солдаты бились отчаянно. Но силы были слишком неравны. Малахов курган молчал, и лишь три парохода-фрегата, стоявшие в Килен-бухте, еще били по противнику, нанося ему чувствительные потери.
Мишель был, как всегда, неотразим в битве. Его клинок разил врагов на все стороны света с неописуемой яростью. Теснимые отовсюду он и другие уцелевшие защитники, кольцом окружали адмирала. Федя слышал, как Никольский крикнул шурину:
– Половцев! Надо уходить! – он, как и все, боялся теперь не за себя, а за Павла Степановича, который мог быть того гляди убит или взят в плен.
Нахимов сошел с банкета. Он видел уже и сам, что люнет не удержать, и надо пробиваться к Малахову кургану.
В этот миг Апраксин, затянутый в гущу боя и неумело оборонявшийся, почувствовал что-то странное… Он больше не видел сияющей во мгле сабли Мишеля… Еще мгновение, и Федя, инстинктивно ринувшийся вперед, увидел своего старшего товарища и командира распростертого на земле подле одного из орудий. Его грудь была залита кровью, но он был еще жив. Апраксин бросился к нему, забыв о кипящем вокруг бое:
– Капитан… Мишель…
– Знать, помолился сволочь Жабокрицкий, чтобы мне грудь продырявили… – сказал Никольский. – Только не вздумайте теперь вы, мой милый инок, молиться обо мне… Помолитесь после за упокой моей грешной души. А теперь сражайтесь, черт вас побери, и защищайте адмирала! – кровь хлынула из его рта, больше говорить он не мог.
– Но Мишель…
Внезапно Федя увидел занесенную над собой саблю и с никогда прежде не испытанной ненавистью воткнул штык в живот гвардейца. Штык вошел в тело плавно, как нож в масло, но ничего не дрогнуло в душе Апраксина. Он бросил взгляд на Никольского, и по его остекленевшим глазам понял, что все кончено. Отбросив штык, столь непривычный и неудобный для него, Федя схватил саблю капитана и бросился на теснивших матросов зуавов. Со стороны могло показаться, что дух только что почившего Никольского на время вошел в послушника-иконописца. Он бился с отчаянием, бился, в каждом ударе вымещая нестерпимую боль от потери друга.
Ощетинившись и отбивая атаки противника, кучка людей, окруживших адмирала, прокладывала путь к Малахову кургану. Добравшись до крутины, шедшей от него ко второму бастиону, пришлось остановиться, скрывшись за ней. Неприятель, понимая какой ценный пленник может оказаться в их руках, всей мощью навалился на слабое укрепление…
Дело могло кончится совсем скверно, но в самый критический момент в кромешном мраке показался всадник на белом коне. Этот конь был хорошо знаком защитникам 1-й и 2-й линий! На выручку защитникам Камчатского люнета спешил стремительный генерал Хрулев. Приведенные им резервы оттеснили французов, и Нахимов с небольшим отрядом смог добраться до Малахова кургана, откуда тотчас ударили по неприятелю пушки.
– Благодетели мои, в штыки за мной! – раздался возглас бравого генерала.
И как ни истомлены были люди, а этот призыв ободряюще подействовал. Подтянулись и ринулись следом за Степаном Александровичем выручать у супостатов Камчатский люнет… Устремился в обратный путь и Федя. Там, на руинах, остался лежать его друг, тело которого, как и тела других погибших не было возможности забрать при отступлении. А еще… «Война – это когда либо убиваешь ты, либо убивают тебя. В бою враг – не человек. Свое «се человек» ты вспомнишь, когда он будет пленен, ранен или обезоружен. Но с оружием в руках – он только враг, которого ты должен ненавидеть, а не ближний, коего тебя учили возлюбить. А враг должен быть убит, мой милый инок», – так говорил Никольский. Апраксин понимал его правоту, но… продолжал любить ближнего даже во враге. Теперь все изменилось. Его мундир был перепачкан вражеской кровью, но он не испытывал жалости к убитым зуавам и гвардейцам. Он больше не видел лиц тех, кому наносил удары одолженной у мертвого капитана саблей, которой, как оказалось, неплохо научил его владеть соловецкий герой. У врагов нет лиц… На войне нужно уметь не только бесстрашно погибать, но и защищаться, а, защищаясь, убивать врагов…
Хрулевскому отряду удалось штыковой атакой опрокинуть неприятеля и вернуть Камчатский люнет. Разгромленные батареи были завалены телами сотен убитых, но Мишеля Федя нашел сразу. Как он был теперь странно не похож на самого себя… Строгое, неподвижное лицо, которое при жизни было таким подвижным и веселым… Апраксин закрыл другу глаза, перекрестился и стал мысленно читать заупокойную молитву.
На люнет тем временем примчался гонец со срочным донесением о взятии французами Волынского и Селенгинского редутов. Тришкин кафтан нельзя заштопать, когда нет ткани… Всю линию обороны нельзя защитить, когда нет людей…
– За мной, ребята! Нам на помощь уже идет дивизия!
Летел, летел Хрулев со своим тающим отрядом затыкать все новые и новые дыры, а противник уже снова подступал к редуту.
Дивизия! Если бы и впрямь… Да только нет той дивизии. Проклятый Жабокритский, гореть тебе в аду за все погубленные сегодня жизни. И олухам из штаба гарнизона, что диспозицию твою одобрили – вместе с тобой…
Утро туманное, утро седое… Приближалось утро. Да не туманное и не седое, а кроваво-дымное.
Грохот разорвавшегося рядом ядра оглушил Федю. Он попытался подняться, но не удержался на ногах и ничком рухнул на тело Мишеля.
Глава 14.
Ольга Фердинандовна Апраксина-Реден всего лишь на месяц пережила своего любимого сына. Она недомогала весь последний год, но ради мужа и детей крепилась, преодолевая немощи своей исключительной волей. Но известие о гибели Феди сломило ее. Ее первенец, ее гордость, ее надежда… Сколько раз она выхаживала и вымаливала его в дни болезней… И, вот, он был отнят от нее. И она не могла даже проститься с ним…
Их нашли вместе, Михаила и Федора, их тела, лежавшие друг на друге, образовали крест… Хоронили их также вместе. В Севастополе…
У каждой воли, у каждой силы есть свой предел. Когда он оказывается превышен, уже ничто не может помочь. На отпевании Ольга Фердинандовна не проронила ни слезы, и эта бесслезность была страшна. Страшно окаменевшее лицо и застывшие, полные муки глаза…
Весь этот месяц Варвара Григорьевна старалась почти каждый день навещать Апраксину. Да, ее потеря также была тяжела, но все же не настолько. Мишенька посвятил себя служению Отечеству, он был воином и успел принять участие в нескольких кампаниях. И Варвара Григорьевна была готова, что может случиться несчастье. Поэтому известие о гибели сына встретила она стоически. Иное дело несчастная Ольга Фердинандовна… Федя – художник, послушник, ласковый, чуткий, болезненный, – был менее всего создан для кровавых баталий…
К тому же рядом с Варварой Григорьевной были две дочери и средний сын, избравший статское поприще, и двое внуков, никак не позволявших замкнуться в своем горе. Дочь Апраксиных училась в Смольном, младший сын – в Инженерном училище. Конечно, и юной Смолянке было позволено ненадолго покинуть институт, дабы побыть с матерью и оплакать брата, и будущий инженер навещал отчий дом. Но они не могли исцелить рану Ольги Фердинандовны. Варвара Григорьевна всегда замечала, что к старшему сыну она относится с особенной нежностью, даже слишком выделяя его из трех своих детей. Он был первенцем, обладал чудесным талантом и был слаб здоровьем, поэтому заботы матери сосредотачивались на нем. Младшие дети как будто не требовали к себе такого внимания. Теперь прежний недостаток внимания оборачивался взаимной холодностью, какой-то отчужденностью…
Ирина Апраксина, уже несколько лет не покидавшая стен Смольного, вовсе отдалилась от родительского дома, отвыкла от него. Непоседливый Шурка был еще совсем мальчиком, а к тому же изрядным верхолетом. Скорбный вид матери угнетал его, и он не стремился проводить с нею больше времени, предпочитая общество своих друзей по училищу, с коими всегда можно было выдумать какую-нибудь озорную забаву и позабыть всякую тоску.
Не менее Ольги Фердинандовны тревожил Варвару Григорьевну ее муж. В совершенстве зная душу этого до крайности ранимого и столь же непрактичного, далекого от жизни человека, она не представляла, как будет он жить, оставшись один. Все эти годы Ольга Фердинандовна была ему не только женой, но сестрой, матерью, другом – абсолютно всем. На ней лежали все заботы о доме, детях, о нем самом. Она отдала ему всю себя, укрывая его от всех неурядиц слишком жестокого для столь хрупкой натуры мира, давая ему возможность посвящать себя творчеству и столь необходимый ему душевный покой.
Теперь она таяла, подобно восковой свече… Александр Афанасьевич видел и сознавал это, но боялся даже заговорить вслух о болезни жены. Он занялся разбором живописных работ и рисунков сына. Из Севастополя Юлинька прислала ему эскизы, сделанные Федей на войне. Апраксин был одержим идеей устроить посмертную выставку сына, и Варвара Григорьевна взялась ему в том помогать, понимая, что эта работа сейчас отвлекает его от нестерпимой боли двух утрат – свершившейся и неотвратимо грядущей…
И, вот, Ольги Фердинандовны не стало. На ее похоронах Александр Афанасьевич рыдал, как ребенок, и с отчаянием сетовал, что Господь не забрал его вместе с ней. Ириша и Шурка были спокойнее, и им обоим, кажется, было неловко за несдержанность отца. Странная семья… В ней лишь Федя любил всех, и все любили Федю. Мать любила его и мужа… Отец – его и жену… И в них обоих – самого себя: в жене – свою крепость, опору, в сыне – надежду собственных так и не состоявшихся амбиций. Эту дурную сторону своего близкого друга Варвара Григорьевна сознавала хорошо, но закрывала на нее глаза, ценя совсем иные качества Апраксина и жалея его, как большого ребенка, так и не повзрослевшего, несмотря на седины.
Что досталось от этой любви Ирине и младшему Александру? Крохи, которые затем всю жизнь будут терзать их незаслуженной обидой… Они, впрочем, любили мать. Отец же оставался для них почти чужим человеком. Он почти не интересовался ими, они платили ему тем же.
Зная это, Варвара Григорьевна отправилась с похорон вместе с Апраксиным в его опустевший дом. Человек никогда не должен оставаться один на один со своим горем…
– Поезжай, – сказал Никита Васильевич при первых робких словах этого простого довода. – Мы уже старики, ревновать нам поздно, – он усмехнулся, вспомнив давнюю историю. – Если хочешь, можешь пригласить его пожить у нас. Думаю, Александру Афанасьевичу будет тяжело находиться дома после двух столь тяжелых утрат… Не приведи Господи… – перекрестился.
Варвара Григорьевна благодарно пожала руку мужа. Он всегда понимал ее, всегда поддерживал… Только так нечасто удавалось поговорить по душам, побыть вместе, семьей. Даже сейчас, измученный болезнями, он спешил в департамент, спешил в Зимний, работал дома до глубокой ночи. Он дал слово умирающему Государю верно служить его сыну, а молодому Императору теперь так нужны были верные люди.
Уговорить Александра Афанасьевича погостить на даче в Царском было делом несложным. Он согласился сразу, но словно машинально, словно, разом утратив собственную волю, покорно предавался воле той, что оказалась рядом.
В Царском Апраксин сутки напролет проводил лежа в своей комнате. Он почти ничего не ел, не открывал окон, жалуясь, что свет и звуки его раздражают, не выходил на улицу, где бушевало радостными красками не знающее скорбей лето.
– Зачем глазам видеть солнце, если оно погасло в душе… Сияющее на небе, оно словно насмехается над этой черной бездной зла и горя, что именуется землей.
– Твой друг всегда был склонен к мизантропии, но сейчас дело пахнет уже серьезной болезнью, – сделал вывод приехавший на выходные Никита Васильевич. – Впрочем, я его понимаю. Случись что с тобой, я бы тоже повредился рассудком.
Видя, что ее заботы остаются бесплодны, Варвара Григорьевна решилась прибегнуть к последнему средству. Еще несколько лет назад она с младшими дочерьми посетила расположенную неподалеку от Козельска обитель – Оптину пустынь. Туда в последние годы стремились многие ищущие души. Там не раз бывал Гоголь, ставший чадом старца Макария, Хомяков и другие. К оптинским старцам шли за советом и утешением знатные и худородные, нищие и богатые. Ранее мало кому известная обитель в считанные годы сделалась настоящей духовной лечебницей.
Со старцем Макарием Варвара Григорьевна была почти не знакома. Зато в ту поездку удостоилась она быть принятой отцом Антонием, братом оптинского настоятеля игумена Моисея. Братья происходили из семьи благочестивого борисоглебского купца. Этот достойны муж строго соблюдал посты, пел на клиросе, был очень умен и начитан, особенно любил читать Священное Писание, церковную историю, жития святых и исторические книги. Детей сам выучил грамоте, а в училище не отдал, опасаясь, чтобы не было дурного влияния со стороны товарищей или по недосмотру учителя. Мать была женщиной смиренной и милостивой. Ее родной дед, иеродьякон, жил в монастыре, куда каждый день ходила она к обедне. Добрые яблони дали сладчайшие плоды.
Когда будущему отцу Антонию, а в ту пору еще Александру Путилову, было десять лет, два его старших брата ушли в Саровскую пустынь, после чего он также почувствовал призвание к монашеской жизни. После смерти отца он переехал в Москву и стал служить комиссионером у откупщика, а в свободное время посещал церкви и монастыри.
В 1812 году 17-летний юноша попал в плен к французам, но бежал к родным в Ростов. Четыре года спустя он удалился в рославльские леса, где подвизался его брат Тимофей, будущий игумен Моисей. Последний был в 1821 году назначен настоятелем скита, созданного при Оптиной пустыни. Сам он вместе с Антонием и строил тот скит, выбрав место в густом лесу к востоку от монастыря. Здесь воздвигнута была церковь во имя святого Иоанна, Предтечи Господня и братские корпуса.
Вскоре отец Моисей сделался настоятелем Оптиной, а его брат начальником скита. Более ревностного и неутомимого в трудах и молитве монаха не было во всей братии. Это сказалось на здоровье отца Антония. У него открылась тяжелая болезнь ног, причинявшая ему жестокие страдания. Ноги его до колен были покрыты ранами и порой сильно истекали кровью. Об этих муках, однако, невозможно было догадаться, видя приветливое и ясное лицо старца и слыша его оживленную беседу.
Несмотря на недуг, отец Антоний был поставлен настоятелем Малоярославецкого Николаевского монастыря. Им он управлял, зачастую оставаясь прикованным к постели, но при этом был вынужден сам ездить в Москву на сбор пожертвований в пользу обители. Стараниями настоятеля был освящен Преображенский придельный храм, закончен и освящен Никольский храм монастыря. Отец Антоний пользовался любовью и уважением митрополита Московского Филарета, который часто приглашал его к сослужению.
После четырнадцати лет настоятельства старец все же добился увольнения на покой и вернулся в скит Оптиной пустыни. В делах обители он, будучи на покое, участвовать избегал, но всегда находил слова утешения для приходивших к нему за духовной помощью людям. Многие духовные чада получали от него советы письменно. Отец Антоний вел обширную переписку. Снисходительный к человеческим немощам, он всегда успокаивал, а не обличал людей, но своим чутким и сострадательным отношением незаметно приводил их к покаянию.
Этому-то смиренному подвижнику, с коим и прежде состояла в переписке, и написала Варвара Григорьевна о своих тревогах, и получила незамедлительный ответ: приезжать!
Александру Афанасьевичу было решительно все равно, оставаться ли на даче или ехать куда-то. Он потерял интерес к жизни, но с ним и желание противиться чужой непреклонной воле. А воли в делах такого рода мягкой Варваре Григорьевне не занимать было. Конечно, не хотелось надолго покидать мужа и внуков, но нужно было спасать жизнь и душу отчаявшегося человека.
Поручив детей и Никиту Васильевича заботам дочерей, тронулась в дорогу… За весь неблизкий путь до Козельска с Апраксиным едва несколько слов сказали. А путь нелегок выдался! Летний зной уже входил в зенит, а Варвара Григорьевна уже не в тех летах была, чтобы радоваться ему. Но чего не претерпишь ради дела благого…
Во всех обителях, что по дороге встречались, останавливались и заказывали молебны за упокой новопреставленных Ольги, Феодора и Михаила. Но службы не трогали сердца Александра Афанасьевича, он даже избегал их, ожесточившись на Бога…
– Бог отнял у меня отца и мать… Сестру… И, вот, наконец, жену и сына! Словно я злодей или разбойник! Или Иов… Я не хочу быть Иовом! Я всегда терпеть не мог эту книгу… Это его «Бог дал – Бог взял», когда он лишился всей семьи… Это не смирение! Это… Это… Отвратительно!
Эта первая за долгое время желчная вспышка была все же лучше замкнутости в своем горе. Нет боли более разрушительной и опасной, нежели боль, замкнутая в себе. Всякой боли необходим выход, иначе она поглотит душу и самого человека…
В Козельск прибыли ближе к вечеру, но Варвара Григорьевна не стала ждать следующего дня, а велела ехать прямо в обитель. Уже сам скромный вид ее утешительно действовал на душу. До скита шли пешком. Варвара Григорьевна радостно вдыхала смолистый лесной дух, вслушивалась в пение птиц. Она хорошо помнила и тропинку эту, и кельи. Все казалось ей здесь родным, все согревало душу. А пуще всего – близкая встреча с дорогим отцом Антонием.
Батюшка был по обыкновению в своей келье, которую покидал лишь для посещения церковных служб. Его вновь мучили сильнейшие боли, а потому гостей принял он, не поднимаясь. Казавшееся суровым лицо засияло ласковой улыбкой, едва лишь перешагнули они порог:
– Я вас с самого утра поджидаю! – приветствовал.
Варвара Григорьевна опустилась на колени и, приняв благословение, поцеловала старцу руку. Немного растерявшемуся Апраксину ничего не оставалось делать, как последовать ее примеру. Отец Антоний опустил руку на его склоненную голову, сказал мягко:
– Неизъяснимо велика ваша потеря, мужайтесь! Горю вашему мало равных, но Бог не лиходей. Он глубиною мудрости Своей, человеколюбно все строит, и полезное всем подает. По милости Божией сын Ваш взошел ко Господу, сохранив от младенчества чистую душу и положив ее за други своя. Во Царствии Божием ждет его венец. А с ним и супруга ваша теперь неизреченную радость вкушает, вместо мук и скорбей нашего бренного мира. Чрезмерная печаль омрачает ум и лишает человека здравомыслия, а в словах святых – свет Христов просвещающий! Читайте их, и душа ваше вновь узрит солнце во всей ослепительной яркости его!
Варвара Григорьевна слушала старца, как завороженная. Ничего этого она не писала ему, но он знал все – даже о солнце…
Александр Афанасьевич задрожал всем телом и зарыдал, уткнувшись лицом в колени подвижника. Отец Антоний сделал Варваре Григорьевне знак выйти. Настало время той самой глубокой сердечной исповеди, которая, как ничто иное, врачует душевные раны. Варвара Григорьевна еще раз поклонилась старцу и бесшумно удалилась.
Солнце уже медленно клонилось к закату, розовя верхушки могучих сосен и уступая место живительной прохладе. Варвара Григорьевна чуть ослабила узел платка, коим по-бабьи была покрыта ее голова, опустилась на крыльцо и тихо заплакала. На душе было удивительно легко и ясно, а слезы лились сами собой, унося с собой все то, чему сама она не давала выхода все эти горестные недели, посвятив себя заботе о ближних.
Глава 15.
На похоронах Мишеля и Федора Апраксина, видя безутешную скорбь жены, Сергей Половцев впервые допустил кощунственную мысль: а что если прав Горчаков, прав Меньшиков, желавшие оставить Севастополь, но не смевшие дать такой приказ, видя яростное сопротивление защитников? Целые полки уходили в небеса, десятки тысяч людей отдали свои жизни за цитадель, которую все равно не спасти… Оправдано ли это? Не лучше ли было сохранить эти жизни?..
Малодушное суждение капитан тотчас прогнал. Плох воин, бегущий с поля боя, вместо того, чтобы сражаться до последней капли крови… К тому же Севастополь сковывает у своих стен всю мощь европейских держав, изматывая ее. Что было бы, сдай Меньшиков город еще осенью? Вся эта орда хлынула бы дальше, захватывая русские земли. Но пока стоит Севастополь, остальная Россия не услышит бряцанья вражеского оружия…
Из своей командировки Сергей вернулся аккурат накануне падения Камчатского люнета и редутов, которые остались за французами, несмотря на усилия Хрулева. Поездка дала капитану достаточное представление о степени преступного разгильдяйства в тылу, столь дорого обходившегося фронту. На протяжении всей степи, как в Крыму, так и в Екатеринославской губернии, обозы со снарядами шли без контроля и какого-либо порядка. Никто не имел представления об их движении! То там, то здесь встречались брошенные и сломанные телеги, дохлые волы, разбросанные боеприпасы. Ничего не оставалось, как самолично взяться за упорядочивание торжествующего бедлама… Именем главнокомандующего Сергей на каждой станции проводил розыск, требовал оказывать всякое содействие обозам, предоставления и немедленной отправки в Севастополь фур со снарядами. Разосланы были конные разъезды, кои стали отыскивать блуждающие в степи караваны и сводить их в станицы с целью дальнейшей отправки по назначению самым коротким путем. Этой простейшей вещью до сих пор никому не пришло в голову озаботиться. Какое кому дело, что в Севастополе нечем отвечать на ураганные обстрелы противника? Сюда еще не долетели вражеские снаряды, и чиновники при погонах и в статском продолжали жить по законам своей трясины. И в этой трясине увязали обозы с необходимым городу оружием и прочими припасами.
Бумага главнокомандующего свое дело делала. Даже горло срывать в брани жестокой нечасто приходилось. Начальства чиновники боятся пуще ядер неприятельских. За неимением совести и разума, у этих людей одно, кажется, и осталось: страх начальства! Ну, так и поддать жару им! А всего лучше взять бы всю эту ораву тыловую да на Малахов курган отправить, чтобы хоть сутки в шкуре его защитников оказались. Поняли бы, как днем и ночью под огнем существовать, теряя товарищей, да к тому сражаться, да к тому с рассветом возводить из руин то, что за ночь разрушено было…
Нет, никогда не понять боевому офицеру тыловых каналий. И большое самообладание требуется, чтобы говорить учтиво, не роняя достоинства посланника главнокомандующего…
Кое-как наладив розыск и отправку заплутавших обозов, устремился Сергей в Луганск на завод. Хотя был он теперь в собственности Государевой, но отца здесь помнили хорошо, и капитана приняли не как «ревизора», а как своего человека. Старые рабочие нарочно подходили почтение выразить:
– Батюшку вашего помним, как же! Он об нас завсегда печаль имел. Что, жив ли еще кормилец наш? Ну, дай ему Бог здоровья!
Сергею приятно было, что отец оставил по себе столь добрую память. О производстве снарядов заводским много говорить не нужно было. Они готовы были, сколь нужно и возможно, давать, не щадя сил. Было бы на чем отправлять! Фурщиков заинтересовать требуется.
Ну и дела… Совсем отвык капитан от тыловых нравов. Оказывается, чтобы солдатам своим, кровью истекающим, всю Россию уже столько месяцев заслоняющим, помочь, надо «заинтересовать». Отечество, Севастополь, русские герои, на его бастионах сражающиеся – все это ничто. А вот 50 копеек наградных за доставленный в две недели груз… Спрашивается, кто эти фурщики? Русские люди или живодеры? Да черт же с ними, будут им наградные – лишь бы снаряды шли.
Разослали гонцов по окрестностям в поисках подвод с обещанием тем. Сдвинулось дело. Потянулись обозы к израненному городу. И уже не колобродили, как кутята слепые, по степи, уже направляли их путями прямыми.
Убедившись в том, вернулся Сергей в Севастополь, и началась страдная пора…
5 июня, спустя 9 дней после взятия передовых укреплений, французы пошли на штурм. Но русские встретили неприятеля убийственным огнем и отбросили его с громадными потерями. Одновременно шесть судов, коим повезло не быть затопленными, накрыли французские резервные полки, разгромив их.
Несмотря на это, французы продолжили атаки. Они сумели ворваться на батарею Жерве и обратить в бегство оборонявший ее батальон Полтавского полка. Но путь бегущим преградил генерал Хрулев.
– Стой! – крикнул он. – Вам на помощь идет дивизия!
Конечно, никакой дивизии не было в помине. Но Степан Александрович встретил возвращавшихся с работ солдат Севского полка и вместе с ними бросился выручать батарею. Эти 138 человек, вдохновленные любимым командиром, и сыграли роль дивизии, отбросив врага и заплатив за это жизнями 105 человек…
Этот день стоил Севастополю без малого восьмиста убитых. Французы потеряли погибшими две тысячи человек, англичане – четыреста. Это была полная и невероятная победа. Однако, радоваться ей пришлось недолго.
6 июня был тяжело контужен Тотлебен. В тот день французы ворвались на сам Малахов курган, переколов многих командиров. Лишь присутствие Нахимова спасло положение. По его приказу солдаты ударили в штыки и выбили неприятеля. Кроме того, в который раз сыграла спасительную роль придумка Павла Степановича, зародившаяся в его голове еще осенью после разрушения в дни первой бомбардировки города большого моста через Южную бухту. На замену ему адмирал устроил новый, особенный мост, укрепленный… на бочках. По нему-то в решительные часы и переправлялись спешно необходимые подкрепления на многострадальную Корабельную сторону…
Два дня спустя Севастополь лишился Хрулева. При очередной атаке неприятеля он, держа пред собою икону, вновь возглавил теснимые русские части и был ранен в руку. Несмотря на рану, он продолжал руководить обороной Малахова кургана, пока не лишился сознания от сильной кровопотери. Ранение оказалось серьезным. Жизнь генерала была в опасности, и его увезли из осажденного города.
– Да, немного нас остается, – говорил Павел Степанович. – Что ж, так тому и быть. Мы всего лишь часовые-с. Нам смены нет-с и не будет. Мы все здесь умрем.
Это он повторял тем немногим морякам, что в минуту слабости просились на отдых, изнемогая от каждодневной жестокой бойни на бастионах.
– Помните, что вы черноморский моряк-с и защищаете родной город! Мы неприятелю здесь отдадим одни наши трупы и развалины. Нам уходить нельзя-с! Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже готова-с! Я лягу подле моего начальника Михаила Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомин уже там лежат. Они свой долг исполнили, надо и нам исполнять.
Эта неотступная мысль превратилась в своего рода одержимость. Но этой одержимостью заражены были почти все защитники города. Отстоять Севастополь или умереть вместе с ним – таково было общее желание. И неважно, что многие, как и сам адмирал, ясно сознавали, что город обречен. Должно быть, живущим мирной жизнью вдали отсюда людям такой фатализм, такая отчаянная решимость могла показаться безумием. Но не рассудительность трусов, а безумие храбрых пишут самые славные страницы в истории народов, ибо их самоотреченное, отвергающее мир безумие – свято.
С потерей Хрулева и Тотлебена Павел Степанович остался один. Это трагическое одиночество, наполненное скрытым от сторонних глаз ожиданием конца, пугало неотвратимостью скорого исхода. При посещении позиций Сергей не отходил от адмирала ни на шаг, моля Бога лишь об одном: чтобы пуля, назначенная Нахимову, досталась ему, капитану Половцеву…
– Государь дал мне аренду, – с горечью сетовал Павел Степанович по дороге на Малахов курган. – На что она мне? Лучше бы ядер прислали…
Адмирал всегда небрежно относился к царским милостям. На адъютанта покойного Императора, вторично прибывшего к нему передать Государев поцелуй, однажды просто накричал, сорвавшись:
– Опять с поцелуем-с?! Вы мне ядер, ядер пришлите!
– Вероятно, Его Величеству доложили, что все ваше жалование уходит на раненых…
– Да-да, и что семейство мое прозябает в бедности. Польщен-с! В мирное время я, пожалуй, принял бы эту аренду с благодарностью. Не пришлось бы одалживать у собственных офицеров на помощь семьям матросов. Но теперь! О чем они думают, в Петербурге-с? Звания, награды, аренды… А у нас не хватает оружия. И корпии… Кстати, вы не уговорили вашу жену покинуть город?
Как раз накануне Сергей говорил об этом с Юлинькой. Понимая, что трагическая эпопея Севастополя близится к концу, он не желал, чтобы она разделила этот конец. Но Юлинька придерживалась совсем иного мнения на этот счет. Для нее оставить своих раненых было столь же недопустимо, как для Сергея покинуть своего адмирала, а для Нахимова – Севастополь. Даже заклинания детьми, рискующими остаться сиротами, не помогли… Смахнула набежавшие слезы и повторило излюбленное нахимовское:
– Мы же все часовые здесь, и нам смены нет.
А ведь ей и впрямь не было смены. И раненые то и дело звали сестру Половцеву, и Пирогов высоко ценил ее и просил ассистировать при наиболее сложных операциях.
– Отважная женщина, – одобрил адмирал. – Передавайте-с поклон. И доверьтесь Богу, как она.
Что же иное оставалось…
На Корниловском бастионе Нахимова встречало громоподобное «ура!». Едва он соскочил с коня, как солдаты и матросы окружили его.
– Здорово, наши молодцы! – бодро обратился к ним Павел Степанович. – Ну, друзья, я смотрел нашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена! Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю, а за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь, спасибо!
Светлели потемневшие от усталости лица от этого приветливого, ободрительного слова. И от того, что адмирал, как всегда, к каждому обращался по имени, никого не забывая.
Поговорив с матросами, Нахимов направился к банкету у вершины бастиона. Он, как всегда, был верен себе. Шел по открытой площадке, пренебрегая траншеями, а на банкете остановился, оказавшись до пояса открыт беспрестанного свистящим неприятельским пулям.
– Павел Степанович, на бастионе идет церковная служба. Неугодно ли пройти туда? – осторожно предложил бледный от тревоги капитан Керн.
– Я вас не держу-с, – привычно отозвался адмирал, изучая вражеские позиции.
Его высокая, немного согбенная фигура в золотых эполетах была теперь близкой мишенью для французских батарей. Одна из пуль, уже явно прицельная, ударила в мешок возле локтя Нахимова.
– Они сегодня довольно метко стреляют-с, – равнодушно заметил он.
Сергей подошел к адмиралу, подавляя в себе отчаянное желание силой свести его с опасной позиции:
– Павел Степанович, нагнитесь пониже или зайдите за мешки! Они уже узнали вас! Пули так и свистят!
– Не всякая пуля в лоб, – ответил Нахимов и вдруг пошатнулся. Подзорная труба выскользнула из его руки и с грохотом упала. Адмирал судорожно схватился рукой за голову и без единого стона ничком повалился на землю.
В этот момент у Сергея было одно желание: чтобы следующая пуля ударила уже ему в голову. Он с отчаянием бросился на банкет, но капитан Керн мгновенно стащил его оттуда.
– Может, еще удастся спасти… – вымолвил дрожащими губами…
Штуцерная пуля пробила голову Нахимова насквозь, но он был еще жив. Его бережно понесли вниз, чтобы везти на квартиру. Срочно послали за Пироговым…
– Это конец… – отозвался Сергей. – Он нашел свою пулю…
Если кому-то назначена пуля, если она отлита для него, то бесполезно молить небеса, чтобы она была направлена в твою грудь… Для твоей груди отлита другая пуля… А, может быть, ядро, или ледяная сталь штыка. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», – эту пословицу Павел Степанович нередко повторял в ответ на остережения. «Каждый следующий своей судьбе получит в итоге лишь то, что ему назначено. Не больше и не меньше. Судьба, Божий замысел о человеке, должна исполнится… И человек не может противиться», – так говорила Эжени. Эжени! Если бы она была теперь здесь! Может, ее чудесная сила могла бы сотворить невозможное… Хотя она утверждала, что лишь помогает Замыслу и мешает тому, что идет наперекор Ему, а не творит свою или чью-то еще волю.
Павел Степанович всегда был человеком своей судьбы, неотступно следовавшим долгу – а значит, Замыслу о себе. Судьба исполнилась, и скоро он займет место, которое сам себе наметил. Адмирал не увидит гибели своего города… Но как городу пережить его гибель? Как Севастополю перенести эту самую страшную из возможных утрат? Невозможно… У Севастополя отняли надежду. Отняли само сердце. А без сердца нельзя жить. Осталось догореть достойно, не предав памяти Павла Степановича и всех ушедших прежде… Отдать последний долг чести.
Глава 16.
«Досточтимая и бесконечно далекая Аделаида Яковлевна!
Благодарю Вас, что Вы читаете эти строки, вместо того, чтобы разорвать письмо, едва прочтя недостойное имя отправителя, которое не может вызывать в Вашей благородной душе ничего, кроме законного гнева.
Я долго не решался отправить вам это письмо, так как мне, верите или нет, безумно стыдно своего непростительного мальчишества, подлости собственно поведения, ценой которым стало утраченное счастье. Вы были этим счастьем, Аделаида Яковлевна. Но я слишком поздно понял это…
Вы, должно быть, теперь счастливы и покойны рядом с человеком, достойным Вас в отличие от меня. Я ничего о вас не знаю уже два года… И какие два года! Подобные двум десятилетиям…»
Андрей и впрямь чувствовал себя состарившимся на добрых десять лет, а то и на двадцать… Война унесла жизни его любимого брата Мишеля и самого близкого друга, которому одному он иногда поверял сокровенные чувства и мысли, Петра Стратонова. А еще женщины, которую он был почти готов назвать женой. Мать звала его в Петербург, тоскуя после более чем двух лет разлуки, но Андрей не спешил ехать. Обещался, впрочем, навестить к Рождеству, но ненадолго. Столица не манила инженер-капитана Никольского. Он чувствовал, что его место здесь, в прекрасном и еще малоизведанном краю, только начинающим расцветать стараниями таких людей, как Муравьев, Завойко, Невельской…
После отражения атаки неприятельского флота Петропавловск все же пришлось оставить. Приказ об эвакуации порта и гарнизона пришел в начале марта. Все портовые сооружения и дома были разобраны, наиболее ценные части их спрятаны. Местному населению было приказано уйти на север. Казаки во главе с есаулом Мартыновым перешли в поселок в устье реки Авача. Остальной гарнизон, забрав оружие и скарб, погрузился на транспортные суда под охраной фрегата и корвета покинул прекративший существование порт.
Не успели русские корабли отойти, как к берегам Камчатки вновь подошла эскадра союзников, на сей раз имевшая в своем составе пять французских и десять английских кораблей. Противник кипел желанием отомстить за позорное поражение, но пустынное побережье встретило разведчиков могильной тишиной. Русские просто исчезли… Укрепления были срыты, постройки сожжены. На оставшемся от города пепелище невозможно было даже разместиться и использовать порт по назначению.
Взбешенные союзники бросились в погоню, догадавшись, что русская эскадра могла уйти только на юг. Англичане рассчитывали перехватить ее в открытом море и потопить вместе с гарнизоном и жителями.
8 мая в заливе Де-Кастри следовавшая к устью Амура русская эскадра встретила разведывательный отряд неприятеля в составе трех военных кораблей. Адмирал Завойко тотчас открыл по ним огонь. Перестрелка продолжалась до самой ночи, но не имела серьезных последствий для сторон. Однако, противнику удалось запереть русские корабли в бухте. Три неприятельских судна встали на якорь у выхода из нее, ожидая прихода подмоги, которая неминуемо должна была уничтожить слабую русскую флотилию.
Но союзников вновь постигла неудача. Ни французы, ни англичане не знали, что Сахалин – это остров, отделенный от континента судоходным сквозным проливом, а устье Амура вполне удобно для захода океанских кораблей. Это были те самые сведения, которые на свой страх и риск добыл едва не разжалованный за это в рядовые капитан Невельской.
Ночью, под защитным покровом тумана, русская эскадра бесшумно ускользнула из «западни», прошла Татарским проливом и, войдя в устье Амура, стала подниматься вверх по течению реки.
На другой день англичане и французы безуспешно искали ее и еще долго стояли у входа в «бухту», полагая, что исчезнувшие корабли укрылись в глубине оной, и надеясь дождаться, когда голод и холод заставят их выйти из своего убежища и принять бой.
Тем временем русская флотилия бросила якорь возле пограничного поста Николаевский, расположенного на левом берегу Амура. Василий Степанович, назначенный начальником морских сил, находящихся в устье реки Амур, весело обратился к Никольскому, указывая рукой на пустынные окрестные земли:
– Что скажете, Андрей Никитич? Есть, над чем потрудиться, неправда ли?
– И потрудимся! – бодро отозвался инженер-капитан, прищурившись. Он уже видел не пустынные берега с несколькими избами, а целый город, форпост России на Амуре…
Эта величественная река, окруженная дикой природой, очаровала Никольского не меньше Камчатки. Во всем здесь чувствовалась спокойная сила, размеренность, здоровье… Каким муравейником казалась европейская часть России в сравнении с этими необъятными пространствами! Помилуй Бог! Несчастным мужикам не достает земли, люди теснятся в городах, живя и умирая в чудовищных условиях… А огромные территории лежат, не ведая плуга и печного дыма… На тысячи верст – ни души! А ведь как бы зажить здесь можно, когда с умом и трудолюбием подойти…
Трудолюбия и смекалки русскому человеку не занимать. За какие-то два с половиной месяца солдаты, матросы, охотники и эвакуированные жители Петропавловска возвели на Амуре новый портовый город, названный Николаевском.
С другого края России, меж тем, шли вести одна другой горше. После без малого годичной осады, теряя в последний месяц обороны свыше пятиста душ в день, пал Севастополь… Войска союзников были измучены не многим меньше, чем русские, и потому все яснее становилось, что дело идет к горькому для России миру.
«Я надеюсь, бесценная Аделаида Яковлевна, что Вы примите мое сердечное покаяние и простите мне все те досады, что я причинил Вам. Признаюсь, что в эти два года редкий день я не вспоминал о Вас… В последнее же время особенно. Мне иногда ужасно жаль становится, что Вы не видите здешней красоты. Вас, чуткую к природе и всему прекрасному, она, несомненно, пленила бы.
С другой стороны, Вам пришлось бы здесь нелегко. Наш город только начинает свою жизнь, я любуюсь им, как собственным первенцем, и живу при этом в простой избе, и единственная роскошь, отличающая меня от мужика, это денщик, следящий за моим совсем казацким хозяйством. Казацким оттого, что казаку, как говорят, собраться – только подпоясаться. Также и мне…»
С наступлением холодов Андрей, взяв отпуск, отправился в Семипалатинск, где был расквартирован 7-й Сибирский полк, в котором служил рядовым освобожденный с каторги Достоевский. После долгих лет пребывания в остроге «солдатчина» стала большим облегчением, благо местное «высшее общество» было весьма радо знакомству с петербургским писателем, пусть даже и подзабытым теперь – здесь и такой в диковинку. Приглашали в разные дома, где просили прочесть что-нибудь, задавали многочисленные вопросы на самые разные темы, начальство зазывало на чай, разрешили даже квартиру снимать в городе, недалеко от казармы… Нашелся у Федора Михайловича в Семипалатинске и добрейший друг – стряпчий уголовных дел Александр Егорович Врангель. И все же немало тосковал некогда столь прославленный автор «Бедных людей»:
– Вот, уже и тридцать три стукнуло. Христов возраст… И каков же итог? Много утекло воды за четыре года… Тургенев, Гончаров, Островский – все уж сколько шагов вперед сделали. Уже и новые имена появляются… А я, точно призрак прошлого. Ах, если бы достало сил вернуться! Нагнать упущенное! Неужели нет выхода из этой бездны? Не может быть так! Четыре года назад казалось, что и из острога нет выхода. И солдатчина не вечна! Ничего… Страдания душе потребны. Они уравновешивают все на нашей грешной земле, на которой люди не умеют возлюбить ближнего, как им завещано… А страдание приближает к Христу, к Его жертве… И народ подсознательно знает это. Быть может, оттого самая великая и вечная потребность всякой русской души есть страдание…
– Не смотри на Тургенева с Гончаровым, – отвечал Андрей. – Это еще большой вопрос, кто больше потерял в эти четыре года.
– Ты знаешь, я сам подчас думаю, что мертвые годы не напрасно прошли для меня и даже какую-то пользу принесли… Мы в Петербурге боролись за народ, не зная его… А на каторге столкнулись с ним лицом к лицу. И лицо это поглядело на нас вначале с издевкой: что, мол, были баре, а теперь похуже нашего брата сделались? А потом свыклись, притерлись друг к другу… Вначале я видел перед собой лишь разбойников… Но, проведя с ними бок о бок четыре года, отличил в них, наконец, людей. Среди них есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото! Я сжился с ними и потому знаю их порядочно… Только на каторге я и смог узнать хорошо русский народ, так хорошо, как не многие знают… Нет, эти года не прошли для меня бесплодно! Видимо, так нужно было! Сказано ведь – «не оживет, аще не умрет». Быть может, мне было суждено пройти испытание «мертвым домом» с тем, чтобы теперь воскреснуть…
Хоть и давно не виделся Никольский с товарищем по Инженерному училищу, хоть и многое разделило их, а не так изменился Достоевский, и не так близорук стал Андрей, чтобы причину затаенной печали и волнения не разгадать.
– Уж ты не влюблен ли, брат?..
И даже ответа не нужно было. Старый друг, как ребенок, никогда лгать и скрытничать не умел. И избегать неприятностей – тоже… Столько женщин пригожих, так нет же, надо было полюбить жену какого-то местного пьяницы-чиновника, мать малолетнего сына… Само собой, пьяница-чиновник – чудесной души человек, только слабый и несчастный, а она – величайшая страдалица с ангельскою душой…
– Такое изумительное создание в такой грязи… Как это несправедливо! Она так страдает, так страдает! Если б я только хоть чем-нибудь мог помочь ей! Вот, когда нестерпимым делается мое бесправное положение! Как ей возможно связать судьбу с бывшим каторжником, человеком, у которого за душой ничего!
– Она его за муки полюбила, а он ее… То бишь наоборот в твоем случае.
– Опять твои остроты!
– Нет-нет, больше никаких острот, – Андрей махнул рукой. – И самого меня околдовали глаза одной сирены молодой…
– Ты стал писать стихи? – удивился Федор Михайлович.
– Боже упаси. Это друг нашего семейства г-н Апраксин сочинил когда-то… Только я, кроме этих двух строк, ничего не помню. Ты знаешь, что поэзия не моя стихия.
– И кто же твоя сирена?
– Неважно, брат… Я оказался скверным охотником, а посему этой сирене уже никогда не быть моей. Пусть же будет счастлива и не поминает меня недобрым словом за мою непроходимую глупость.
Подняли бокалы за сирен, а затем Андрей слушал декламацию пушкинских стихов в исполнении своего друга. Впрочем, даже Пушкин не восхищал его души. Музыка и поэзия были недоступны абсолютно отсутствующему слуху инженер-капитана, для которого высшей поэзией было строительство укреплений или же иных объектов…
– Попрошу отца, чтобы ходатайствовал за тебя перед Государем! Я в этих диких краях прижился и полюбил их больше всех европейских столиц вместе взятых, а тебе в Петербург надо или в Москву. Писать, работать… Какой из тебя, ей-Богу, солдат: ни Богу свечка, ни черту кочерга.
– Был бы тебе весьма признателен. И впрямь сил нет, как хочется вырваться отсюда!
Возвращаясь обратно, Никольский угодил в метель. И страшна, и чУдна такая погода! Страшно, так как можно ненароком сбиться с пути и пропасть не за грош. Но и чУдно же, чУдно от вида этой снежной круговерти… А лучше еще, когда она стихает, и насколько хватает глаз вокруг – одна лишь белоснежная равнина, самоцветными огнями переливающаяся.
Лошадям по таким сугробам ни за что не пройти, а собачья упряжка бежит проворно. Пожалуй, и веселей мчаться на ней, чем на привычных тройках. Инорядь задремлешь, по ровному насту летя, но и встряхнешься тут же – так и замерзнуть недолго.
«Вряд ли я еще напишу Вам когда-либо, а потому не осудите меня, Аделаида Яковлевна, за дерзость. Третий год жгут меня слова, которые я, глупец, не сказал Вам. И пусть они уже ничего не могут изменить для нас, но я напишу их Вам теперь один-единственный раз… Я люблю вас, Аделаида Яковлевна! Люблю всем сердцем, из которого не смог изгнать Вас, хотя и пытался. Один глупейший человек думал, что любовь – это выдумка поэтов, пока не встретил ту, что смогла обратить в поэта его самого. Этот человек я. Я не умею писать стихов, но, когда я работаю над чем-то важным, то вспоминаю Вас, и Ваш любезный образ вдохновляет меня. Чем больше проходит дней с нашей разлуки, тем сильнее я люблю Вас. Не корите меня за то и знайте, что если когда-нибудь Вам что-то будет нужно, то я всегда готов служить Вам самым преданным и почтительным образом».
Ну, вот, и Николаевск наконец-то. Прямо на ходу соскочив с саней, поспешил Андрей к Василию Степановичу – доложиться о благополучном возвращении. Адмирал встретил его отчего-то с удивлением:
– Никольский? А я не ждал вас нынче.
– Как же? Ведь сегодня последний день моего отпуска…
– Постой-постой, вы заезжали ли к себе?
– Никак нет, прямо с дороги к вам!
– Тогда все ясно! – загадочно улыбнулся Завойко. – Ждут ведь вас, Андрей Никитич. Уже четвертый день. О чем должна известить вас записка, оставленная для вас у вас дома.
– Меня? – поразился Никольский. – Кто меня ждет?
– Дама, – отозвался адмирал. – Молодая, красивая…
У Андрея пересохло в горле:
– Кто она?
– Ее зовут Аделаида Яковлевна.
– Не может быть!
– Отчего же не может? Давеча чая с нею пили. Она сказала, что знала вас в Крыму…
– Да как же она добралась сюда?! – воскликнул Андрей.
– Да, вот, как и вы. На собаках. Якутск, Иркутск… Всю матушку-Сибирь проехала ваша добрая знакомая. Так что вам бы не мне, а ей следовало первый визит отдать.
– Разрешите идти?
– Разумеется! Ваша гостья живет теперь на постоялом дворе. Поспешите туда.
На улице было уже совсем темно, но в этом городе Никольский любой дом и вслепую бы нашел. Аделаида! Здесь! На постоялом дворе! Четвертый день… Это больше походило на горячечный бред, но раз сам адмирал пил с нею чай…
Вот и постоялый двор… Никольский остановился в нескольких шагах от него и перевел дух. На него вдруг напала робость. Что сказать ей при встрече? Как выразить переполняющие душу чувства? И… зачем она приехала?.. Ведь всего этого не может быть… Ведь это какое-то безумие…
– Андрей Никитич, это вы?
От знакомого голоса сердце зашлось. Никольский резко обернулся. Нет, это не наваждение… Она… Аделаида… В шубу укутана так, что лишь нос и глаза видны, но эти глаза каждую ночь смотрели на него во снах месяц за месяцем…
– Аделаида Яковлевна… Как… вы тут?.. – проговорил, не находя слов.
– Я… получила ваше письмо. Сначала хотела сжечь не читая, а потом прочла…
– Я благодарен вам за это…
– Я начала писать вам ответ, а потом… Вы сами написали, что я непременно должна увидеть здешнюю красоту. И я решила увидеть ее и… ответить вам лично.
Никольский вплотную подошел к Аделаиде. Ему очень хотелось взять ее за руку, но руки молодой женщины были спрятаны в большую, пушистую муфту.
– И что же вы ответите мне?
– Тогда, в Крыму, вы очень жестоко обидели меня. Ведь я… любила вас, Андрей Никитич! И ничего не желала так, как стать вашей женой.
– Простите…
– Я думала, что вы посмеялись надо мной и, действительно, хотела выйти замуж за другого человека.
– Хотели? Значит, вы не вышли за него?
– Я не смогла, – помедлив, ответила Аделаида. – Я не умею врать. А притворяться всю жизнь не сумела бы тем более. Я разорвала помолвку и вернулась в Россию. Здесь я получила ваше письмо…
– Я написал его, как только мы пристали к этому берегу…
– А я отправилась в путь через три дня по его прочтении…
– Я люблю вас, Аделаида Яковлевна! – прошептал Андрей, опускаясь на колени перед своей «сиреной». – Во всем мире нет женщины прекраснее вас! Вы можете повелевать мною, я ваш раб отныне!
– И я вас люблю, – чуть слышно ответила Аделаида. – Я также все эти месяцы не могла забыть вас. Каждый день горькие воспоминания воскресали в моей душе, а ваше письмо, наконец, избавило меня от этой мучительной горечи. Оказывается, я страдала не одна…
– Вы страдали по моей вине, а я лишь расплачивался за собственные грехи. Перед вами я преступник.
– Я не хочу вспоминать горечи. Важно лишь то правдивое, что есть меж нами…
– Вы станете моей женой, Аделаида Яковлевна?..
– Я буду счастлива ею стать.
Метель улеглась окончательно, и теперь на безоблачном небе ослепительно сияли звезды, отражаясь голубоватыми искрами в нетронутой подвенечной глади. Андрей поднялся с колен и с благоговением обнял Аделаиду, все еще с трудом веря в то, что казавшееся безвозвратно утраченным счастье вдруг воплотилось в этом суровом и сказочном краю.
Глава 17.
В доме Лауры Стратоновой давно уже не бывало большого числа гостей. Так, заедет кто из соседних помещиков с супругами да девицами на выданье – и разговоры все о вареньях, урожае, лесе… Конечно, осев в небольшой усадьбе Тульской губернии Лаура освоилась с новой ролью помещицы-хозяйки. Но часто-часто находила ностальгия по Москве, по гостиной, в которой собирались милые ее сердцу люди, люди великого таланта и ума… Большинства из них уже нет. Нет Хомякова, Гоголя… Эти две потери особенно в сердце Лауры отозвались – после Пушкина ни одну утрату не ощущала она столь остро. С Гоголем ушла в неведомое частичка ее самой. До сих пор рука нет-нет, а тянулась написать ему. И тотчас с болью вспоминалось: некому писать… Больно было от того еще, что не удалось ни проститься, ни быть рядом в те последние, столь тяжелые для него месяцы. Может, все иначе бы обернулось тогда?.. Ведь он бесконечно одинок был, этот странный, гениальный и ранимый человек. Так и не встретилась на пути его Душа, которая всего его приняла бы и всю себя отдала бы ему. Да и просто близких на склоне пути почти не осталось.
Одни разгневались на «Выбранные места из переписки с друзьями», дойдя до того, что объявили Николая Васильевича повредившимся в рассудке. Другие оказались вдали от него и слишком погружены в собственные заботы. Третьи покинули этот бренный мир…
Он часто жаловался на мучавший его холод. А ведь это не холод крови был, не физический холод, а холод самой жизни… Бездомной и одинокой. Из этого одиночества Николай Васильевич стремился приблизиться к Тому Единственному, подле Которого невозможно ни одиночество, ни пустота, ни холод. Но близость к Нему, Его сердечное постижение – также особый, может быть, самый великий дар. Гоголь искал этот дар на Святой Земле, но и там душа его не стяжала того благодатного огня, что рассеивает все химеры, все страхи и ужасы…
И, вот, того, кто жил вечным странником, вся Москва хоронила, как генерала… А его труд, столь жданный Лаурой, столь заранее любимый ею по отдельным фрагментам, кои Гоголь читал ей, гостя у нее в имении, остался неоконченным…
Писем становилось все меньше. Жуковский, Вяземский, Глинка… Уходящая натура, век, который не возвратить, век, который долгой тенью сходил теперь в могилу за незабвенным Императором. Еще одна жестокая утрата… Лауре посчастливилось не раз бывать в обществе Государя, беседовать с ним, и эти минуты, как драгоценные жемчужины, хранила она в своем сердце.
Провинциальная жизнь не тешит разнообразием красок. Но не это главное… Главное, несмотря на всю литературу, на привычку к обществу – любимый муж, любимые дети… Слава Богу, Сашенька был еще слишком юн для войны. Слава Богу, что Константин не ударился в мальчишество и не устремился на фронт. Хотя порывался не раз, невзирая на скромный чин, столь мало сочетавшийся с его годами… Война! Кажется, у всех Стратоновых это было в крови – по первому трубному зову бросать все и подниматься на защиту Родины… Вот, и у Сашеньки глаза горели, рвался скорее с противником сразиться. Костя определил его в кадетский корпус, и теперь Лаура лишь изредка видела любимого сына.
А Петруша, племянник Костин, погиб… И его двоюродный брат, иконописец, послушник, также… И сын добрейшего Никиты Васильевича… Как же много жестоких утрат эта несчастная война принесла! А теперь она клонилась к концу. Новый Император желал заключить мир. Корреспонденты Лауры негодовали хором. Вяземский, Аксаковы, Анна Тютчева – все они желали продолжения войны и непременной победы. Они были… штатские. Военные смотрели на дело иначе. Вернувшийся из Европы старый и разбитый болезнями князь Воронцов, герой многочисленных викторий, считал необходимым мир. Скрепя зубы, подтверждал в письмах к Косте и Юрий: силы армии истощены, а, главное, вновь требуются преобразования ей, а главное – вожди, вожди, которыми так обеднела она, носители суворовского духа, которые могли бы повести ее к новым победам, а не Инкерману и Альме. Сам Юрий, однако, не желал пережить горечи поражения, оставаясь на посту. В последнем письме он сообщил брату, что подал в отставку, и Государь удовлетворил его прошение…
Уходящий век… Лаура и Константин ожидали, что брат навестит их, но от того до сих пор не было вестей. На фоне потери близких и дорогих людей меркнут иные утраты. Однако, отнюдь немалы были они и у Стратоновки. Жестокий пожар этим летом буквально разорил имение. Многие крестьяне остались без крыш над головами, вдобавок из-за засухи случился неурожай. Приближающиеся холода приводили селян в отчаяние. Некоторые уходили просить подаяния на дорогах. А Константин ничего не мог сделать. Скудных запасов не могло хватить, чтобы пережить зиму такому числу обездоленных. А ведь нужно было еще заново отстроить дома! Пожертвовали для той нужды лесом… Строили мужики сами, но уже заморозки близились, а работы непочатый край остался. Мужики валили лес и строили избы, а сами думали о том, что будут есть сами и их семьи, коли даже барские амбары заполнены добро, если на четверть.
Призрак голода и разорения во весь рост встал над Стратоновкой. И даже рента, получаемая Лаурой, не могла спасти положения. Она могла спасти от голода лишь ее собственную семью, но не Стратоновку. Константин был близок к унынию. Все его труды за несколько лет, в которые превратился он из солдата в рачительного помещика, шли прахом.
Но, как бы ни было тяжко, а гостям в Стратоновке были рады всегда. Ныне гащивали здесь Юлинька с почти оправившимся от ранения мужем. Они спешили в Москву, где ожидали их перебравшиеся в Первопрестольную после вынужденной болезнью отставки Никиты Васильевича старики Никольские и дети, которых Юлинька и Сергей не видели с начала Крымской кампании. В Стратоновке же остановились они лишь на день-другой, дабы немного перевести дух после долгой дороги. Кроме них гостил в имении Александр Апраксин. После гибели старшего сына и смерти жены ему не сиделось на месте. Дочь училась в Смольном, младший сын – в Инженерном училище, и постаревшему поэту было совершенно нечего делать в опустевшем доме. К тому же его денежные средства были весьма стеснены для поездок, к примеру, в любимую им Италию. Оттого хандру и скуку Апраксин заглушал поездками по гостям. Он жил попеременно у Никольских, Стратоновых, у милейшей Мурановой, у иных знакомых, а в промежутках в монастырях – преимущественно в Троице-Сергиевой у архимандрита Игнатия или в полюбившейся Оптиной, а иногда – в Сарове. Потеря сына, на которого он возлагал большие надежды, и жены, бывшей для него неизменной опорой, надломила Апраксина. Он сильно постарел, сделался крайне вспыльчивым, то метал проклятия, то вдруг начинал истово молиться, вспоминая сына и покойницу-свояченицу. Такие перепады настроений характерны для детей и людей с расстроенной душой… Лаура жалела Александра Афанасьевича, и оттого он жил в Стратоновке уже добрых два месяца, подчас немало раздражая издерганного хозяйственными заботами Костю своими настойчивыми и не имевшими ничего общего с жизнью советами…
– И когда только этот несносный человек заскучает у нас и решит осчастливить своим посещением кого-нибудь другого! – сердился Константин.
Лаура мягко успокаивала мужа:
– Мы должны быть терпеливы. Ведь у нас есть наши дети, и мы есть друг у друга. А он потерял в один месяц и жену, и сына. Мы с тобой необыкновенно счастливые, и за это счастье должны благодарить Бога, помогая тем, кто менее счастлив.
– Скоро мы пойдем по миру, моя родная, и наше счастье отправится искать себе иной угол.
– Если и пойдем, то вместе – это уже счастье. А мир – не без добрых людей. Кто-нибудь и на нашу беду откликнется, как мы откликаемся на чужую.
– Уж не очередного ли чуда от своего чародея ты ждешь?
– Я всегда жду чуда. Но мой чародей исчез… Сергей опасается, что его отца уже нет в живых.
Сергей давно не имел от отца никаких известий. Это приводило его к печальному заключению.
– Как-то глупо все… До совершенных лет не ведал я моего родителя и, вот, узнав его на короткий срок, теперь, по-видимому, лишен буду даже могилы его. А также могилы моей второй благодетельницы – Эжени… Остается лишь каменный склеп, где лежит моя несчастная мать, которую я никогда не видел.
– Не спешите хоронить вашего батюшку, – отвечала Лаура. – Я не верю, чтобы он мог уйти без следа. Не такой он человек…
– Мало ли, что может случиться с бродягой… Ведь он же сделался бродягой. Бродягой с миллионным состоянием…
– Да, ваш отец – большой оригинал, – усмехнулся Константин. – Я ведь несколько раз хотел убить его, пылал к нему ненавистью!
– Мне кажется, убить его не смог бы никто, – покачал головой Сергей. – Он заговорен и от пули, и от клинка. Но он стар. А дорога… В дороге может случиться все, что угодно.
– Что вы намерены делать теперь, когда война клонится к концу? – спросил Константин.
Сергей помрачнел. Его посуровевшее, обветренное лицо сделалось жестким.
– Не имею понятия, – он хрустнул пальцами. – Севастопольский флот уничтожен, а сам город во власти неприятеля. Если бы не мое ранение, я бы ответил – сражаться! Хоть бы даже простым солдатом! Как мы сражались при Павле Степановиче… Но пока я не могу вернуться в строй, а когда смогу… Мир того гляди будет заключен, и что делать затем, я не представляю.
– Разве вы не вернетесь на флот? – спросила Лаура.
– На флот? – Сергей горько усмехнулся. – Севастопольского флота нет… Не знаю, смогу ли я служить на ином.
– Непременно сможешь, – вкрадчиво заверила Юлинька, пожимая руку мужа. – Ведь ты не сможешь жить без моря. Мы поедем… в Кронштадт! Или же к Андрею… Я еще не видела Тихого океана! А он, должно быть, так прекрасен!
Лаура любовно посмотрела на молодую женщину. Страшно подумать, сколько пережила она за последний год, а какое в ней прежнее неукротимое жизнелюбие, какая бодрость духа! Солнечная девочка – так звали ее в юные годы. Такой она и осталась. Маленькая частица солнца в женском обличии…
Разгладилось хмурое лицо капитана:
– Пожалуй, Андрея и впрямь проведать должно. Да и Тихий океан… В Кронштадте я не уживусь. Слишком близко к столице, ко всей этой бюрократической глупости. Павел Степанович в свою пору изнемог от нее и перебазировался к Лазареву. А на Тихом, может, и удастся вновь паруса поднять…
– Удивляюсь я всем вашим речам… – подал голос сидевший у камина Апраксин.
Беседа происходила в гостиной стратоновского дома. Эту небольшую, уютную комнату Лаура устроила по своему вкусу, сочетая приличествующую скромным сельским помещикам простоту и изысканность, к которой привыкла она в Петербурге и Москве. Мягкие, пастельные тона стен и мебели, темно-зеленые, тяжелые портьеры, изысканные канделябры и картины с видами дорогой сердцу урожденной княжны Алерциани Грузии… Эти пейзажи успокаивали ее в минуты раздражения. Каждый год она собиралась навестить родные края и показать их дикую красоту младшим детям. Но хозяйственные заботы и нехватка средств препятствовали этому намерению. Старшая дочь, Тамара, обладавшая сильным и красивым голосом, выучилась от матери песням ее родины и иногда пела их на домашних концертах, перемежая с романсами на стихи поэтов, которых некогда Лауре посчастливилось знать…
– Чему же вы удивляетесь? – приподнял бровь Константин.
– А тому, что вы говорите о мире, как о чем-то совершившемся, рассуждаете, как устраивать жизнь после него. Как будто так и должно быть! А ведь это позор и бесчестье – весь этот готовящийся мир! – Александр Афанасьевич резко поднялся, прижал к печной стене свои по-женски изящные, нервно подрагивающие руки. – Неужели вам все равно?! Мы потеряли столько людей, флот, Севастополь… И теперь признать поражение? Проклятая, проклятая эта война! А виной всему деспот с его гордыней! Мнил себя хозяином Европы, посылал армии во все ее концы… Все-то парады! Бряцание оружием! Добряцались! На черта вообще нужно было лезть в эту войну?! Самолюбие! Самолюбие деспота за счет жизни солдат и офицеров! И что теперь?! Что?! Деспот умер, завещав нам позор… Ненавижу!.. А армия! Наша хваленая армия! До чего нужно было довести победительницу Наполеона, чтобы она осрамилась при Альме и Инкермане! Не смогла защитить Россию не от гения Бонапарта и двунадесяти языц, но от его внука и прочей шайки негодяев!
– Я понимаю ваше горе, Александр Афанасьевич, – сдержанно сказал Сергей, – но просил бы вас в моем присутствии не оскорблять ни памяти моего Государя, ни армии. Покойный Император, которому всю жизнь были преданы мой отец и ваш шурин, поступал по велению Чести. И умер он также – с честью. Он не мог пережить поражения России так же, как Павел Степанович не мог пережить падения Севастополя. И бесчестье, что ныне раздаются голоса хулителей, которые еще вчера славили Императора.
– Поражение России! Падение Севастополя! А не ваш ли Государь повинен в этом? Не при нем ли, ни его ли ставленниками была создана эта ужасная система, которая и привела нас к нынешнему позору?!
– В чем вы видите позор? – благородное лицо капитана, которое не мог изуродовать даже еще совсем свежий шрам, казалось спокойным. Но по тому как подергивались его желваки, ясно было, сколь болезненна для него поднятая Апраксиным тема. – На Кавказе армия, которую вы теперь унизили, била турок с суворовской доблестью, взяв у них их непреступные крепости! Карс пал считанные дни назад! Карс! Его взяла армия, которая по-вашему не смогла защитить Россию! На Дальнем Востоке два корабля и ничтожный по численности и вооружению гарнизон смог отбить атаку целой англо-французской эскадры! Не добился враг успеха и на севере, будучи прогнан инвалидными командами да местными мужиками…
– Крым! – вскрикнул Апраксин.
– А что Крым? Мне ли, оборонявшему его от первой минуты до последних дней, вы станете рассказывать о позоре? Вся Европа объединила свои усилия против… крохотного клочка земли – Крыма. Против одного города – Севастополя. Вся Европа! И что же? Почти целый год они не могли с ним ничего поделать. Истощили собственные силы, погубили множество собственных войск… И, вот, наконец, взяли. Город. Можно назвать это поражением, но, как Севастополец, я скажу, что такие поражения стоят иных побед. Мы покрыли наши знамена неувядаемой славой, и наших павших героев будут чествовать не меньше, чем героев 1812 года…
– Но Россия проиграла войну!
– Россия склоняется к миру во имя сбережения дорогих ей жизней русских солдат. И только. Да, Европа будет праздновать свою победу, попутно зализывая раны. Да, наши западники и прочие вольнодумцы будут кричать о нашем поражении, клеймя, как теперь вы, Государя и власть… Но мы, проведшие все это время в сражениях, знаем, что это не так. Нас никто не победил, и наши знамена покрыты славой, а не позором. Поэтому еще раз прошу не оскорблять при мне ни армии нашей, ни Императора.
– Если все так прекрасно, то зачем вообще мы заключаем мир? Отчего бы не продолжить войну и не победить во имя чести России и памяти всех павших? – раздраженно осведомился Александр Афанасьевич.
– Что касается меня, то я… не заключил бы мир, не изгнав неприятеля из Севастополя. Верю, что мы могли бы это сделать, если бы во главе войск оказался достойный главнокомандующий. Такой, как князь Барятинский или генерал Стратонов.
– Но Юрий Александрович, как известно, подал в отставку, и молодой Император ни мгновения не пожалел о его военном опыте и таланте!
– Государь желает мира, – заметила Лаура. – Мир даст ему возможность вернуться к делам внутренним и довершить начатые его отцом преобразования. Это не менее важно, чем видимая победа в войне…
– Видимая победа дает общественный подъем, на волне которого легче проводить реформы. Тот самый подъем, которым так бездарно не воспользовался дядя нынешнего венценосца… Проклятые… Ведь все можно было осуществить еще тогда, и теперь все бы было иначе… Но все увязло в тупости, жлобстве и воровстве…
– Довольно, Александр Афанасьевич, – остановил Апраксина Константин. – С меня достало политических споров во дни моей юности. Мой брат находит мир необходимым, и я доверяю его мнению. А потому довольно споров, пусть наша Тамарушка лучше споет нам что-нибудь.
Вошедшая в этот момент горничная сообщила Лауре, что в имение пришел какой-то бродяга. Ничего необычного в таком явлении не было. В Стратоновке всегда давали ночлег и пищу странному люду. Странноприимная традиция была заведена в московском доме Никольских, и Лаура продолжила ее, перебравшись в деревню.
– Накормить и устроить, как обычно, – коротко распорядилась она. – В дорогу бы дать что, да своим погорельцам уже ничего не осталось…
Горничная ушла, а прибежавшая на зов отца Тамара запела любимого ею Лермонтова… «Слышу ли голос твой» Глинки, «Молитву» и «И скучно, и грустно» Даргомыжского, «Выхожу один я на дорогу» Булахова, «Парус» и «Утес» Рубинштейна… Сколько всего чудного явилось в русской музыке за последние годы! Рубинштейн, Варламов, Алябьев, Даргомыжский… Ноты их новых произведений Лауре присылали из столицы, и Тамара тотчас разучивала их. Девочка жила музыкой, а мать не могла слушать без слез этих дивных песен.
Как раз когда юная певица исполняла «Утес», горничная, появившись в дверях, молча поманила барыню, не желая отвлекать других от прекрасной музыки. Лаура неохотно покинула гостиную:
– Настасья, что случилось? – спросила она.
– Вот, – горничная протянула ей маленький, туго затянутый бархатный мешочек.
– Что это?
– Тот бродяга велел вам передать, – развела руками Настасья.
Лаура удивленно развязала мешочек и ахнула: из него на ее ладонь высыпались несколько крупных бриллиантов…
– Настасья… где тот человек?.. – спросила она севшим от волнения голосом.
– Ушел, – развела руками горничная.
– Как ушел?! Куда?! – вскрикнула Лаура.
– Не знаю. Выпил парного молока, съел хлеба с солью, оставил это и ушел.
– Он ничего не сказал больше?! – Лаура побежала на крыльцо. – Не называл себя?
– Ничего не говорил, – покачала головой семенившая следом Настасья.
На улице было уже сумрачно и сыро от стаявшего по оттепели первого снега. Освещенную тусклым светом взошедшего месяца дорогу окутал белесый туман.
– Ты не видела, в какую сторону он отправился? – спросила Лаура, растерянно озираясь: от ворот усадьбы дорога разделялась натрое, расходясь в разные стороны.
– Так я и не посмотрела…
– Он же не мог уйти далеко… Если заложить коляску, догнать… Но в какую сторону ехать… И почему ты, Настасья, такая невнимательная!
– Простите, барыня, откуда же мне знать…
– А как он выглядел?
– Бродяга как бродяга… Седой, косматый… Но аккуратный и палка у него еще… хорошая такая палка. Должно, денег стоит… А кто он, барыня, а?
– Джинн… – тихо ответила Лаура, сходя с крыльца и безнадежно вглядываясь в сгущающийся туман. – Чародей… Чудо, которое в очередной раз меня спасает…
Из-за окна гостиной доносился звучный голос Тамары, выводивший протяжное и надрывающее душу:
– Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит,
И звезда с звездою говорит…
Где-то совсем рядом по пустынной дороге, озаренной говорящими меж собой звездами, продираясь сквозь туман, шел в неведомую даль одинокий старик, оставивший миллионное состояние, сына и внуков, чтобы найти… Бога и, наконец, примириться с Ним и с самим собой.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
Жду ль чего? жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.
Глава 18.
16 ноября русская армия одержала последнюю победу в несчастливой для России войне – пала крепость Карс. Генерал Стратонов не застал этой виктории, т.к. еще в октябре получил отставку и покинул Кавказ.
Он хотел сделать это еще год назад, когда получил страшную весть о гибели сына. Тяжелая утрата подкосила дотоле казавшееся незыблемым здоровье Юрия. На какое-то время он даже слег, но нашел в себе силы подняться – шла война, и не время было предаваться отчаянию. Сперва одолеть врага, а потом… Лучше бы не было «потом». Лучше бы турецкий ятаган рассек от плеча до бедра в жаркой рубке… Или не лучше? Из Муранова пришло письмо Софьиньки, в котором та сообщила о скором рождении внука… Стало быть, не совсем оставил Господь милостью! Успел Петруша оставить семя свое на этой земле… Когда бы еще мальчуган родился! Уж его бы Юрий вырастил! Уж о нем бы позаботился, как не удосужился о сыне. Всю нерастраченную отцовскую любовь ему бы отдал… Да и внучку бы не обидел ею.
Забрезжил свет в сгустившемся безнадежном мороке. А следом еще один удар настиг. Скончался Государь. И эту потерю горько оплакивал Стратонов, как личную. Для него почивший Император был не просто Царем, но другом юных лет, коего он искренне любил. Меж тем, беда не пришла одна. Успел Государь на пороге смерти сделать назначение, коего так боялся Воронцов и его сподвижники.
На Кавказ прибыл новый Наместник, Николай Николаевич Муравьев. Сей генерал обладал большим военным талантом и мужеством, был верен престолу и Отчеству. Герой баталий 1812 года, Заграничного похода, Русско-персидской, Русско-турецкой войн и иных кампаний… Но для такой должности ему не доставало кругозора и гибкости. Он решительно не понимал и не принимал политики Воронцова, его нововведений, заведенных им правил и, не давая себе труда хотя бы разобраться в них, стремился немедленно переменить, вернуть все лет на двадцать назад…
Новому Наместнику не нравилось благоустройство, в коем видел он одну лишь роскошь, не нравилась сравнительная вольница солдат, не измученных муштрой, но помогающих мирным жителям в полевых работах, не нравились сложившиеся при Воронцове простые и дружеские отношения между начальством и подчиненными, не нравились сотрудники князя… Одним словом, не нравилось и вызывало возмущение абсолютно все. Воронцовский Кавказ показался Муравьеву очагом вольнодумства и сплошного беспорядка. И Николай Николаевич начал наводить свой порядок… Отныне все должны были думать только о службе, не позволяя себе ни шагу в сторону от начальственных распоряжений, всякая инициатива сделалась наказуема. Кавказская армия, это совершенно особое войско, чуждое парадного блеска, но отчаянное в боях, веселое, бесшабашное и полное огня, должна была превратиться в унылое, отравленное регулярством и муштрой подразделение. Все чиновники обязаны были отныне ходить в гражданских мундирах, чего никогда не знавал Кавказ при Воронцове, всегда следившего за сутью, а не за формой.
Новые порядки произвели гнетущее впечатление, и на армию, и на жителей. Но самым возмутительным было то, что Муравьев позволил себе написать письмо Ермолову и в этом сочинении смешать с грязью все многолетние труды Михаила Семеновича и его соратников. Более того, письмо не без воли автора стало достоянием общественности.
«В углу двора обширного и пышного дворца, в коем сегодня ночую, стоит уединенная землянка ваша, как укоризна нынешнему времени. Из землянки вашей, при малых средствах, исходила сила, положившая основание крепости Грозной и покорению Чечни. Ныне средства утроились, учетверились, а все мало да мало! Деятельность вашего времени заменилась бездействием; тратящаяся ныне огромная казна не могла заменить бескорыстного усердия, внушенного вами подчиненным вашим для достижения предназначенной вами цели. Казна сия обратила грозные крепости ваши в города, куда роскошь и удобства жизни привлекли людей сторонних (женатых), все переменилось, обустроилось; с настойчивостью и убеждением в правоте своей требуют войск для защиты; войска обратились в горожан, и простота землянки вашей не поражает ослабевших воинов Кавказа, в коих хотя дух и не исчез, но силы стали немощны», – так писал Муравьев Ермолову, превознося его время и клеймя наследие Воронцова.
Новый Наместник искренне не понимал разницу между временами первого и второго. И, вероятно, не понял, что своим письмом оскорбил не только своего предшественника, но всю Кавказскую армию, а вдобавок совершил поступок, не достойный благородного человека и честного воина, коим он всегда был. Роптали многие, а подполковник князь Святополк-Мирский написал Николаю Николаевичу ответ: «Мы не обманывали Россию в течение четверти века, она смело может гордиться нами и сказать, что нет армии на свете, которая переносила бы столько трудов и лишений сколько кавказская! Нет армии, в которой бы чувство самоотвержения было бы более развито; здесь каждый фронтовой офицер, каждый солдат убежден, что не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, он будет убит или изувечен… а много ли в России кавказских ветеранов? Их там почти нет, кости их разбросаны по целому Кавказу! Кавказский солдат работает много и отстает от фронтового образования, но он не «тягловой крестьянин», потому что он трудится не для частных лиц, а для общей пользы. Что же касается до вопроса землянок и дворцов, то не нам, темным людям, ее разрешать; помню только, что когда меня учили истории, я видел в ней, что завоевание земель и особенно упрочивание оных не делалось всегда одною силою оружия, и что постройка великолепных зданий и распространение цивилизации часто к этому способствовали».
Соратники князя Воронцова стали покидать Кавказ. Одни были уволены новым Наместником, другие уезжали сами. Среди последних был Барятинский, не желавший работать с Муравьевым в той же мере, как тот не хотел видеть его своим начальником штаба.
Стратонов, хотя и приходил в негодование от новых порядков и бестактности Николая Николаевича, с отъездом не спешил. Ему дорога была ставшая для него родной армия, и начатую осаду Карса он желал довести до конца. Между тем, Софьинька сообщила об очередной беде. Родами умерла жена Петруши Таня. Несчастная так и не узнала о своем вдовстве, и тем были облегчены ее последние часы. Она уходила с утешительной надеждой, что муж возвратится и будет растить их столь долгожданное дитя, и не знала, что за неведомой гранью встретится с ним…
Снова всколыхнулся Юрий бросить все и мчаться в Мураново. Слава Богу, мальчик родился здоровым! По желанию Тани его нарекли в честь отца Петром. Стратонову нестерпимо хотелось увидеть внука и утешить Софьиньку, несшую на своих плечах столь тяжкую ношу все эти месяцы и теперь оплакивающую любимую воспитанницу. Но как было оставить осаду?..
В сентябре Муравьев, узнав о падении Севастополя, принял решение штурмовать Карс. Юрий был категорически против. Крепость и без того должна была в скором времени пасть. Для чего же предпринимать штурм и жертвовать русскими жизнями, имея к тому весьма призрачную надежду на успех?
Но Николай Николаевич стоял на своем. Он считал, что осада слишком затянулась и действовать нужно решительнее. Более четверти века назад генерал-майор Муравьев, командуя Кавказской гренадерской резервной бригадой, уже отличился при взятии Карса в 1828 году. Теперь он желал повторить ту блистательную викторию и вернуть крепость, отданную тогда Турции по Андрианопольскому договору.
Это упрямство стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Стратонова. Вслед за Багратионом и Воронцовым он привык беречь своих подчиненных и не считал для себя возможным вести их на заведомо бессмысленную гибель, которая ни к чему не приведет, ибо не тот орешек Карс, чтобы взять его лихой атакой.
Юрий подал в отставку. Штурм состоялся через несколько дней и оправдал его худшие опасения. Турецкий гарнизон под командованием британского полковника сэра Уильяма Уильямса отбил атакующих с огромными для них потерями. Русская армия лишилась до трех тысяч человек, включая двух генералов. После неудачи Муравьеву пришлось вернуться к осадной тактике.
О взятии Карса Стратонов узнал по дороге в Мураново, но воспринял это известие, как что-то далекое и не столь уже важное. Все мысли его были теперь о внуке и бесценной Софье Алексеевне. Лишь бы отпустил Господь еще довольно времени, чтобы воспитать Петрушу-младшего таким же отважным воином, каким был его отец, настоящим Стратоновым…
Ехать пришлось в распутицу, и оттого дорога заняла много времени. Мураново же встретило его снегом и первыми сугробами. Юрий не сразу направился к дому Софьиньки, а сперва свернул к расположенному неподалеку маленькому кладбищу, умножившемуся на одну свежую могилу… Крест на ней еще временный стоял, покуда не осела земля, чтобы поставить добротный, постоянный. Но у подножия его – цветы свежие. Знать, каждый день навещает свою Таню Софья Алексеевна… Худо, что Петрушиной могилы подле нет. Он так и остался в Севастополе. Коли мир заключат, надо будет непременно хлопотать, чтобы перевезти его сюда, чтобы всем вместе быть…
Перекрестился Юрий, вздохнул глубоко, набежавшие слезы сглотнув, и зашагал к дому.
Его увидели из окна. Расслышал Стратонов звонкий вскрик горничной:
– Барыня! Барыня! Генерал приехал!
Генерал еще не взошел на крыльцо, как дверь отварилась. На пороге стояла его Софьинька… Все такая же хрупкая, тонкая, легкая… Только волосы побелели совсем, и на маленьком носу громоздкими кажутся очки, из-под которых смотрят светло-печальные, блестящие от слез глаза.
На руках Софья Алексеевна держала укутанного в одеяла внука.
– Ну, вот, – выдохнула, – познакомься, наконец, с дедушкой, Петенька…
С небывалым трепетом приняв драгоценную ношу, Стратонов вошел в дом, глядя то на удивленное личико ребенка, то на Софьиньку.
– Юрий Александрович, это правда, что вы теперь в отставке и больше от нас не уедете? – отрывисто спросила она.
– Чистая правда, – ответил Стратонов. – Отныне все дни, что мне еще отпущены, всецело принадлежат лишь вам, ставшей светом моей жизни, и нашему внуку. Я виноват перед вами и перед моим покойным сыном. И теперь на склоне лет надеюсь хоть отчасти загладить эту вину. Больше я не покину вас.
– Слава Богу! – воскликнула Софьинька и вдруг рассмеялась. – Простите! Я… Я всю жизнь ждала этой минуты… Всю жизнь мечтала, что однажды вы вернетесь сюда насовсем, и мне больше не придется сходить с ума, ожидая вас и ничего не зная о вас… – с этими словами она уткнулась в плечо Юрия и тихо заплакала. – Помните ли девчонку, что много лет назад сказала, что будет вас ждать? Вы ведь не поверили?
– Ваша правда, не поверил.
– А я точно знала, что буду… Сколько бы ни потребовалось времени, буду ждать вас… И, вот, дождалась…
– Целая жизнь прошла…
– Нет-нет! Она только началась теперь… Моя жизнь… – ответила Софьинька и, утерев слезы, вновь улыбнулась, хлопнула в ладоши: – Стеша! Стеша! Отнеси ребенка в детскую и распорядись, чтобы Дарья скорее подавала обед! У нас великий праздник сегодня…
Так, на закате лет началась новая жизнь, в которой не было битв и ратной славы, но было то, чего Юрий всегда был лишен: дом, тепло очага, любящая, родная душа рядом… Жизнь – жестокая владычица, отнимающая подчас самое дорогое, терзающая, лишающая надежды. Но и она бывает милостива, и она дарит утешение и радость. Надо только ждать, терпеть, никогда не отчаиваться…
Эпилог
Худо оскоромиться в дни поста. А главное стыдно. Перед батюшкой стыдно, перед матерью игуменьей… И ведь второй раз такая оказия у сестры Глафиры! И если бы только она… Поглядишь на других сестер – все, как овечки чистые, а она, Глафира, одна от их стада вечно отбивается. Отчего так? Конечно, в монастырь не своей охотой пришла, а от нищеты да от отца-пропойцы. Куда еще деваться было? В жены никто не возьмет, а одной девице, даже не худого нрава и к рукоделию прилежной, один путь – к позору. Дважды уже чудом убереглась от такого несчастье. Вот и осталось в монастырь податься. А все же и не в том дело… Просто веселая она, Глафира, бесшабашная. И жизнь она любит… Не монастырскую, обычную, мирскую. В Бога верит, и любит его, и кается за всякую оказию со слезами искренними, а ничего с собою поделать не может. Стать ли тут монахиней?
Мать Мария отговаривала Глафиру постриг принимать, говорила, что Богу себя сознательно посвятить надо, а не по принуждению, иначе и беда выйти может. Знала матушка, о чем говорила, сама через такую беду прошла… Но теперь ее нет, почила после болезни долгой, не с кем и поговорить по душам. А душа металась… Скоро уже постриг принимать, и дороги назад не будет. А разве создана она, Глафира, для монашества? Ведь иной раз на службе завидит юношу красивого, и сердце заходится… Грех один…
После службы пришла сестра Глафира на могилу матери Марии и остановилась в удивлении. На скамеечке возле нее сидел высокий, худой старец. Он, видимо, был здесь уже долго, так как легкая метель успела немало запорошить его плащ и шляпу.
– Простите, вы знали ее? – спросила Глафира, подойдя. – Вы ее родственник?
Старик приподнял голову и, не отвечая, осведомился:
– Вы не знаете, почему она взяла это имя? Мария?
– Она носила его когда-то давно… Она была монахиней, но сбежала из монастыря, а в старости покаялась… Только я об этом почти ничего не знаю. Она не рассказывала.
– Мария… А я не знал, что она тоже – Мария… В сущности, я ничего о ней не знал… Урожденная Евгения Дмитриевна Сокольская… Она и впрямь была княжной Сокольской?
– Этого я не знаю. И, наверное, никто не знает, кроме владыки Филарета. Но если она так называла себя, значит, действительно, была княжной…
– Вы еще очень юны, – заметил старик.
– Увы, – вздохнула Глафира.
– По-вашему, юность – несчастье?
– Конечно, если ее приходится проводить в монастырских стенах, не имея призвания к монашеству. Мать Мария говорила, что нельзя обманывать ни Бога, ни себя…
– Она была права. Как, впрочем, всегда.
– После Рождества я должна принять постриг, – посетовала Глафира.
– Должны?
– Да.
– Почему?
– Потому что мне некуда больше идти.
– Неправда, – покачал головой старик, стряхнув снег с полей шляпы. – Человеку всегда есть, куда идти.
– Мужчине – быть может. А девушке, у которой ни отца, ни брата…
– А что вам говорила Эжени?
– Кто?
– Мать Мария?
– Говорила, что нужно слушать сердце, верить Богу и следовать судьбе.
– Золотые слова! И что же говорит ваше чистое сердце?
– Что мне здесь не место… – сокрушенно призналась Глафира.
– Отчего же тогда вы не слушаете его? Или вы не верите Богу?
– Наверное, недостаточно верю… К тому же, как можно следовать судьбе, если ничего о ней не знаешь? Если бы хоть какой-то знак, чтобы я могла понять свой путь!
– Вот что, милое дитя, скажите, вы уверены, что не хотите быть монахиней?
– В этом я уверена…
– В таком случае я вам помогу.
– Вы? – Глафира недоверчиво окинула взглядом бедно одетого незнакомца.
– В Москве теперь живет Никита Васильевич Никольский, друг и ближайший сподвижник почившего Государя. Его милейшая супруга известна своей широкой благотворительностью. В частности, она устраивает достойные партии для бедных девиц-бесприданниц, которым всегда находится угол и дело в ее странноприимном доме. Я отвезу вас к ней, и, можете не сомневаться, судьба ваша будет устроена.
Глафира изумленно смотрела на старика:
– Вы хотите сказать, что знакомы с другом Государя?
– Да, и довольно неплохо, – чуть улыбнулся тот.
– Наверное, ночевали в их странноприимном доме?
– И это тоже, – подтвердил старик. – Но вы излишне любопытны, милое дитя.
– Так все говорят… – виновато вздохнула Глафира.
– Но вы тем не менее правы. Ехать куда-то с неведомым бродягой, наговорившим разных странностей, было бы неосторожно.
– Что же мне делать?
– Ничего. На днях почтенная Варвара Григорьевна Никольская сама навестит вашу обитель и побеседует с вами. Дальнейшее – дело ваше и ее, – старик поднялся. – А теперь позвольте откланяться. Я и без того пробыл здесь слишком долго и порядком продрог.
– Кто она вам? – тихо спросила Глафира, кивнув на могилу матери Марии.
– Спутница… – помолчав, проронил незнакомец. – Просто Спутница… Несколько лет назад ее путь разошелся с моим, и она запретила себя искать.
– А вы?
– Я не смел нарушить ее волю и не искал. Но, как видите, все-таки нашел…
– Сегодня 40 дней, как ее не стало…
– Значит, она позволила себя найти, – сказал старик.
Он еще несколько мгновений смотрел на крест, поклонился ему до земли, сняв шляпу и обнажив красивую голову с длинными, густыми, белыми, как снег волосами, затем приветливо кивнул Глафире и удалился, бросив на прощанье:
– Ждите визита знатной дамы! Верьте Богу и следуйте своей судьбе!
Старик исчез в сгущавшейся снежной заверти, словно призрак. Глафира протерла глаза – уж не наваждение ли все это было? Обернувшись к могиле матери Марии, с удивлением вздрогнула: на ней, в холодном снегу лежали две свежие алые розы, безжалостно заметаемые метелью…






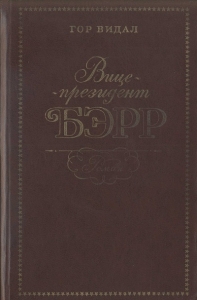
Комментарии к книге «Во имя Чести и России», Елена Владимировна Семёнова
Всего 0 комментариев