Александр Чаковский
― НЕОКОНЧЕННЫЙ ПОРТРЕТ ―
Не может быть мира, если экономические ресурсы… будут брошены на усиленную гонку вооружений, которая лишь углубит подозрения и страхи и поставит под угрозу экономическое процветание всех стран.
Из выступления Ф.-Д. Рузвельта на форуме газеты «Геральд Трибюн». 27 января 1938 г.Я содрогаюсь при мысли, что произойдет с человечеством, в том числе и с нами, если нынешняя война не закончится прочным миром и вспыхнет новая война, когда наши сегодняшние малыши достигнут призывного возраста.
Из речи Ф.-Д. Рузвельта в Конгрессе США. 7 января 1943 г.Две великие страны — Америка и Россия — должны поддерживать нормальные отношения.
Эти слова Ф.-Д. Рузвельта приводит в своих воспоминаниях бывший государственный секретарь США Корделл Хэлл.От автора
Почему я решился написать книгу о Франклине Делано Рузвельте?
Казалось бы, меня должно было остановить хотя бы то, что о нем уже написано сотни томов. Как я, не будучи ученым-политологом, историком-исследователем, никогда не видев Рузвельта, осмелился взяться за такую работу?..
Но написанная мною книга — не исследование политической жизни и деятельности Рузвельта. Моя главная задача — рассказать о его отношении к Советской России, к ее народу. Мне казалось тем более важным написать об этом, что ведь именно Франклин Делано Рузвельт пятьдесят лет назад был инициатором дипломатического признания Советского Союза.
«Юбилейная» книга? Нет, тысячу раз нет! Я решил написать о покойном президенте потому, что, невольно сравнивая Рузвельта с некоторыми из последующих хозяев Белого дома, вижу в нем пример, достойный активного подражания.
За последние годы не один президент США «прославился» своей патологической ненавистью к нашей стране. Америка, затевающая «крестовые походы» против коммунизма, Америка, где днем и ночью убивают мирных граждан и политических деятелей, в том числе президентов, берется диктовать свой образ жизни другим странам, в частности нашей. Америка, попирающая элементарные человеческие права, лицемерно оплакивает судьбу граждан социалистического мира и при этом тратит миллиарды — нет, триллионы! — долларов, чтобы силой оружия поставить нас на колени. Таковы методы и средства, к которым прибегали и продолжают прибегать сегодня некоторые люди, сменяющие друг друга в Белом доме.
Франклин Делано Рузвельт был не похож на них. Преодолев яростное сопротивление американской реакции, он добился дипломатического признания Советской России.
Страна его была нашим союзником в страшные годы борьбы с гитлеризмом. Больной, наполовину парализованный, он пересекал необозримые земные, морские и воздушные пространства, чтобы встретиться со своими соратниками по антифашистской коалиции…
Да, союзники и тогда далеко не во всем были согласны друг с другом. Это вполне естественно для представителей двух разных миров. Но мы никогда не забудем, что Рузвельт восхищался храбростью и силой советских солдат, их патриотизмом. Он мечтал о том времени, когда смолкнут пушки и будет возведен «Дом добрых соседей» — так американский президент называл будущую Организацию Объединенных Наций.
Кем же он все-таки был, Франклин Делано Рузвельт? Может быть, сторонником коммунизма? Может быть, он хотя бы сочувствовал марксистским идеалам?
О нет, он был бесконечно чужд коммунизму. Своей волей, опытом, умением он помог американскому капитализму преодолеть «великую депрессию» конца двадцатых — начала тридцатых годов. В сущности, он стал спасителем капитализма. Он видел античеловеческую, антигуманную природу общества, основанного на частной собственности, видел коррупцию и другие пороки капиталистического строя и тем не менее предпочитал его любому другому. В то же время он был умным человеком, способным заглядывать в будущее и видеть перспективы общественного развития.
Значит, возможно не разделять те или иные политические взгляды, не признавать ту или иную социальную систему, но с уважением относиться к миллионам людей, глубоко ей преданных? Не сочувствовать коммунизму и все-таки стать его союзником, если миру угрожает тотальная смерть?
Да, Рузвельт был капиталистом по воспитанию, по взглядам на жизнь, по социальным симпатиям. Но это не мешало ему строить отношения Соединенных Штатов со Страной Советов на базе добрососедства, уважения и взаимной выгоды. Оставаясь верным сыном капиталистической Америки, Рузвельт был другом Советского Союза.
Некогда американский писатель Синклер Льюис написал роман «У нас это невозможно». В романе описывалось, как в США зарождается, а потом терроризирует страну новая модификация фашизма — американская.
Насколько вероятно подобное в современной Америке, покажет будущее. Во всяком случае, при жизни Рузвельта такого быть не могло.
Всей своей жизнью и деятельностью Рузвельт показал, что возможно другое: мирное сосуществование государств с различными политическими системами.
Вот почему книга об отношении Рузвельта к России, к Советскому Союзу представляется мне сегодня более чем своевременной.
Если бы я не боялся впасть в непростительную фамильярность, я бы сказал, что в этой книге изображен «мой Рузвельт». Таким он возник передо мной из протоколов Тегерана и Ялты. Со страниц бесчисленных книг о нем. Со стен его мемориалов — в Хайд-Парке и Уорм-Спрингз. Из бесед с теми, кто его хорошо знал. Из его речей. Таким он смотрит на меня с портретов, в том числе и с последнего, неоконченного…
Повторяю, это не традиционная книга о жизни и деятельности Рузвельта. Писать такую я не собирался. Перед вами повествование, в сущности, о конце жизни тридцать второго американского президента. К его предыдущей деятельности я буду обращаться лишь в той мере, в какой этого требует мои замысел.
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава первая ЭТО БЫЛ НЕ ОБМОРОК
В то утро — 12 апреля 1945 года — Рузвельт проснулся рано. Первым, пока еще подсознательным ощущением была радость, что он здесь, в своем любимом Уорм-Спрингз, более чем в тысяче миль от Вашингтона.
Это место, расположенное близ Атланты, штат Джорджия, Рузвельт открыл для себя много лет назад. Еще в 1924 году он узнал, что есть на свете заброшенный богом и людьми провинциальный курорт для больных полиомиелитом. В те далекие годы он еще верил, что физические упражнения, в особенности плавание, вернут жизнь его омертвевшим ногам. Уорм-Спрингз славился своими целебными горячими источниками, и Рузвельт надеялся, что они помогут.
Когда он начал купаться в источнике, его мертвые ноги действительно ожили. Улучшение продолжалось довольно долго, но оказалось все же лишь временным. Потом Рузвельт не раз приезжал в Уорм-Спрингз. Но в конце концов понял, что все его усилия тщетны. Он изнурял себя водными процедурами, гимнастикой, руки его стали необыкновенно сильными, железному торсу мог позавидовать любой тяжелоатлет, но ноги… Как и раньше, он передвигался на костылях, потом заковал ноги в специальные ортопедические аппараты — почти пять килограммов металла! Но и в них он мог двигаться лишь с посторонней помощью. В конце концов пришлось прибегнуть к коляске.
Несмотря на разочарование, постигшее его в Уорм-Спрингз, Рузвельт полюбил это место — его тишину, густые сосны, мерное журчание воды… Президент обращал не слишком много внимания на то, что его окружали убогие деревянные постройки. Единственным каменным зданием была старомодная, давно не ремонтированная трехэтажная гостиница. Для Рузвельта выстроили коттедж, вернее, несколько коттеджей, в том числе для гостей и для обслуживающего персонала. В 1927 году усилиями будущего президента был создан лечебный центр для жертв полиомиелита — «Джорджия Уорм-Спрингз Фаундейшен». Как утверждали, Рузвельт затратил на это две трети своего состояния.
…Теперь президент лежал в постели, наслаждаясь мыслью, что он так далеко от Вашингтона. Все было бы ничего, если бы не сильная головная боль. Голова болела, вероятно, оттого, что он плохо спал. По правде говоря, он чувствовал себя усталым и измученным. Совсем недавно он преодолел тысячи миль, посетил Ялту, где участвовал в Конференции руководителей трех союзных держав, которой — Рузвельт был уверен в этом — предстояло обеспечить благополучие послевоенного мира.
Президент надеялся отдохнуть, вернувшись в Вашингтон, но это оказалось нереальным — на него тотчас легло бремя бесчисленных новых забот.
Только теперь ему наконец удалось вырваться в свой любимый Уорм-Спрингз. Здесь он рассчитывал хоть немного прийти в себя.
Сегодня Рузвельт, в сущности, мог бы еще поспать — негр Артур Приттиман, камердинер президента, с вечера предупредил его, что самолет с очередной почтой из Вашингтона задерживается ввиду нелетной погоды. Но хоть президент и не выспался, болезненная тяжесть в затылке мешала ему снова заснуть.
— Артур! — позвал он.
Приттиман появился тотчас же. Он был одним из людей, беззаветно преданных Рузвельту. Вообще все, кто составлял ближайшее окружение президента, были ему преданы. Рузвельт обладал удивительным свойством на всю жизнь привязывать к себе людей.
— Доброе утро, мистер президент! — с улыбкой сказал Приттиман. — Все в порядке?
Жаловаться на головную боль Рузвельт не стал. Об этом тотчас узнал бы врач, — нет, не личный врач президента Росс Макинтайр, а его помощник, молодой кардиолог Говард Брюнн, последнее время сопровождавший президента повсюду. Макинтайр остался в Вашингтоне. Никто в Соединенных Штатах не должен был знать, что президент на неопределенное время покинул столицу. Для миллионов американцев Рузвельт находился по-прежнему там, в Белом-доме, за своим рабочим столом в Овальном кабинете.
— Почта не пришла? — на всякий случай спросил Рузвельт и, не дожидаясь ответа, попросил: — Принеси мне местную газету. И завтрак. Все как обычно: яичницу с беконом и кусочек поджаренного хлеба.
В еде Рузвельт был постоянен и неприхотлив.
— Слушаюсь, сэр, — отозвался Приттиман. Выйдя, он тотчас вернулся с газетой. — Завтрак будет сейчас готов, сэр.
Президент посмотрел на часы. Вставать он не торопился. Люси и Шуматова должны были прийти только после полудня — художницу не устраивало утреннее освещение. Шуматова уже три дня рисовала его акварельный портрет, и каждый день он видел Люси.
После того, как доставят почту, он будет диктовать Грэйс Талли речь, которую ему предстоит произнести на Конференции в Сан-Франциско. Наконец, самое приятное, — обед на лужайке у «Коламбус хайвэй». Главным блюдом будет «барбекью» — мясо, зажаренное на вертеле. На этот раз, кажется, зажарят поросенка.
Быстрым взглядом Рузвельт окинул первую страницу газеты «Атланта конститьюшн». Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что разгром нацистских армий продолжается, что русские на подступах к Вене, а Девятая американская армия в пятидесяти семи милях от Берлина. Гитлеровцы охотно сдаются в плен американцам и англичанам на западе, но продолжают ожесточенно сражаться с войсками Жукова и Конева, которых отделяют от Берлина всего тридцать две мили.
Рузвельт со снисходительно-ироническим чувством подумал о Черчилле, который сейчас, может быть, тоже читает эти сообщения в английских газетах и раздражается по поводу того, что его «балканский вариант» вторжения в Европу так и не состоялся…
Президент пробежал другие страницы газеты и с досадой отметил, что она не опубликовала очередное коммюнике из Белого дома. Несколько таких «камуфляжных» коммюнике было заготовлено заранее, чтобы регулярно печатать их во всех газетах и создавать впечатление, будто Рузвельт пребывает в столице.
Приттиман принес завтрак на маленьком узком столике-подносе, который удобно устанавливался на кровати, привычным движением приподнял голову президента и взбил подушку.
…Потом пришел доктор Брюнн. В руке он держал традиционный кожаный саквояж. На лице врача играла профессиональная улыбка, с которой медики обычно встречают пациентов, заранее внушая им мысль, что у них все в порядке. Как и его непосредственный начальник, главный врач Белого дома Росс Макинтайр, Говард Брюнн хорошо знал своего подопечного. Еще произнося слова приветствия, Брюнн заметил, что губы президента и ногти на пальцах рук отдают легкой синевой.
Доктор выслушал Рузвельта, потом бросил стетоскоп в саквояж и достал аппарат для измерения кровяного давления. Особых перемен в состоянии здоровья президента Брюнн не нашел. Однако он привык судить об этом не только по данным обследования, но и по ряду других специфических признаков. Брюнн заметил, что у президента временами расслабленно отвисала нижняя губа. Иногда создавалось впечатление, что он стал хуже слышать. Раньше Рузвельт был весел, разговорчив и охотно обменивался с врачом мыслями о текущих событиях. Но в последние дни он все чаще был безразличен ко всему, как будто не ощущал прикосновений врача и даже, кажется, не замечал его присутствия. Вообще он чувствовал себя явно хуже. Видимо, сказывалась усталость — результат огромного физического и умственного напряжения, которое не прошло бы бесследно даже для вполне здорового человека.
— Что ж, объективно все в порядке, мистер президент, — подчеркнуто жизнерадостно сказал Брюнн, покончив с измерением давления. — А как вы себя чувствуете? Никаких неприятных ощущений?
Брюнн знал, что президент очень редко жаловался на дурное самочувствие. Казалось, что и тяжелая болезнь никак не повлияла на его дух — обычно Рузвельт держался бодро, часто шутил и смеялся. Его склонность к юмору в самых затруднительных ситуациях была известна всей стране, — так же, как сила воли и ясность ума.
— Итак, ничего неприятного? — повторил свой вопрос Брюнн.
— Все спокойно, док, — ответил Рузвельт и, немного помедлив, добавил: — Вот только побаливает голова.
— Ну, с этим мы быстро справимся, — весело ответил Брюнн, словно желая подчеркнуть, что недомогание такого рода — не столь уж большая беда. — Приподнимите, пожалуйста, голову, мистер президент.
После массажа шейных мышц Рузвельт почувствовал, что боль действительно прекратилась. Он поблагодарил врача и пригласил его на обед. Когда Брюнн ушел, президент позвал Приттимана.
— Будем одеваться, Артур, — сказал он. — Художница еще не приехала?
— Она уже в гостиной, сэр, — ответил камердинер.
— Прекрасно, — сказал Рузвельт. — Значит, все собрались?
— Да, господин президент. Все.
Этот старый негр провел долгие годы возле президента и отлично знал, какой смысл вкладывает его хозяин в короткое слово: «Все». Сегодня Рузвельт имел в виду только одного человека — Люси Разерферд. Именно она летом позапрошлого года привезла к нему в Белый дом свою приятельницу Елизавету Шуматову, художницу русского происхождения. Люси уговорила президента согласиться на несколько сеансов, сказав, что хочет иметь его акварельный портрет.
Когда это было необходимо, Рузвельт умел отказывать министрам, финансовым и индустриальным магнатам, членам своей большой семьи, самому себе, наконец. Только Люси он не мог ни в чем отказать. Эту женщину он полюбил, когда еще был молод, до проклятой болезни. Тогда он мог, как все люди, передвигаться без костылей, без ортопедических футляров, без унизительной помощи сотрудников личной охраны.
Долгие годы он прожил в борьбе с болезнью. Но та давняя любовь, целиком захватившая его, не прошла. О ней знали все люди, близкие к Рузвельту. Узнала и его жена Элеонора. С ней было когда-то тяжелое объяснение. Но с годами Элеонора, кажется, поняла, что даже такой сильный и властный человек, как ее муж, не в состоянии вырвать из сердца эту любовь. Может быть, Элеонора надеялась на то, что ее мужу с каждым днем станет все труднее встречаться с Люси и что это постепенно сведет на нет их отношения.
…В одной из комнат коттеджа были установлены телефоны — в том числе прямой связи с Белым домом и Хайд-Парком. Брюнн разговаривал со своим шефом Макинтайром. За долгую и безупречную медицинскую службу в военно-морском флоте доктору Россу Макинтайру было присвоено звание вице-адмирала. Сейчас Брюнн докладывал ему о только что проведенном утреннем осмотре президента. Из-за тонкой перегородки до секретарей Рузвельта — Билла Хассетта и Грэйс Талли — доносились отдельные слова: «Давление 180 на 110… Со стороны сердца все то же — расширение и шум… Да, сэр. Конечно, сэр…»
…Приняв с помощью Приттимана ванну, Рузвельт одевался. Он знал, что должен быть одет точно так же, как и в предыдущие три дня: темно-серый костюм, красный — «гарвардский» — галстук и темно-синяя с металлическими пряжками накидка. Военные моряки подарили ее президенту много лет назад — такие накидки выдавались офицерам военно-морских сил и на ней особенно настаивала Шуматова. Она сказала, что будущий портрет так и будет называться: «Президент в накидке».
Мысль о том, что ему опять придется в течение часа терпеть суетливую и не в меру разговорчивую художницу, совсем не улыбалась президенту, но идея портрета принадлежала Люси, и этим было все сказано.
Тем не менее Рузвельт с раздражением думал о том, что он снова должен будет вынужденно бездействовать в течение часа и покорно подчиняться всем требованиям художницы («Чуть ниже голову, господин президент… А теперь чуть выше… Нет, не так, поверните, пожалуйста, голову направо…»). Если бы он мог при этом все время глядеть на Люси, которая, как и в прошлые три дня, будет сидеть на кушетке напротив его кресла…
Люси хорошо понимала состояние Рузвельта. Еще перед началом первого сеанса она сказала:
— Постарайтесь отвлечься, господин президент, — на людях она обращалась к нему только так, — думайте о чем-нибудь интересном в важном. Сидите и вспоминайте!..
Легко сказать!
Но Шуматова заверила его, что сегодняшний сеанс — предпоследний. Послезавтра он будет совершенно свободен… Да и сегодня ему предстоит веселый обед, своего рода пикник на лоне природы. На нем, конечно же, будет присутствовать и Люси!
Мысль об этом несколько развеселила президента.
Когда Рузвельт появился в маленькой гостиной, куда Приттиман вкатил его коляску, на лице президента была улыбка.
Как и в предыдущие дни, все женщины были уже в сборе. Маргарет Сакли, кузина президента, склонившаяся над вышиванием, отложила его в сторону. Другая кузина, Лора Делано, меняла воду в вазах с цветами. Шуматова хлопотала возле своего мольберта. На ней был застегнутый на все пуговицы тугой жакет. На левом лацкане его выделялся большой искусственный цветок.
Но президент не замечал этих женщин. Перед ним была Люси Разерферд. Когда она увидела Рузвельта, в ее глазах появился особый, им одним свойственный радостный блеск. Люси сидела на диване, держа сплетенные руки на коленях и напряженно выпрямившись. Как только президент наконец появился, она с облегчением откинулась на спинку дивана.
Почти всем, кто был в комнате, показалось, что хозяин дома весел и любезен. Он, как всегда, приветливо поздоровался с женщинами, шутливо осведомившись насчет поросенка, предназначенного для «барбекью».
С помощью Приттимана Рузвельт перебрался из коляски в свое кресло. Шуматова торопливо надела рабочий халат. На мольберте был туго натянут лист бумаги с почти оконченным портретом президента. Однако художница считала, что работа еще далеко не завершена — ей никак не удавалось найти выражение глаз, как следует высветить лоб, передать цвет «гарвардского» галстука, воспроизвести накидку президента со всеми ее складками. Стул-«тренога» уже был расставлен перед мольбертом, рядом, на низком столике, лежали этюдник, палитра, набор кистей, карандаш, губка, стояла миска с водой…
Говоря по-английски почти без акцепта, Шуматова сказала президенту, что сегодня намерена «помучить» его несколько дольше, чем вчера.
— Только не за счет времени, предназначенного для «барбекью», — шутливо ответил президент. — Поросенок может пережариться.
Художница уселась на свою «треногу» и, прежде чем приняться за работу, пытливым, профессиональным взглядом впилась в лицо президента. Она поняла, что первое впечатление, которое произвел на нее президент, обмануло ее…
Ей хотелось написать Рузвельта таким, каким его знала вся Америка, весь мир: большой, открытый, ясный лоб, чуть удлиненный, лишенный морщин подбородок, участливый и вместе с тем иронический взгляд, легкая улыбка, обнажающая ровные зубы, белые, несмотря на то, что президент был завзятым курильщиком… Она знала: именно таким его всегда видела и любила Люси.
Но сегодня, хотя президент и появился с приветливой улыбкой, хотя он и шутил, Шуматова не могла не заметить, что у него набрякли мешки под глазами, что на губах синева, а в глазах — глубокая, безмерная усталость…
Подчиняясь инстинкту художника, Шуматова невольно стала несколько иначе писать лицо президента, приближая его к тому, которое сейчас наблюдала.
Но тут же она почувствовала, что поступает неверно.
Безвольно опустив кисть, забыв вытереть ее и не замечая, что краска тяжелыми каплями падает на пол, Шуматова думала: «Нет, не такого портрета ждет Люси. Она не захочет, наверняка не захочет, чтобы человек, который для нее дороже всего на свете, был запечатлен в часы своего глубокого заката…»
Шуматова попробовала восстановить тот облик Рузвельта, который, как ей казалось, в общем удался во время первых двух сеансов. Она попросила президента повернуться в четверть оборота к окну, потом — вполоборота. Она вскочила со стула, подбежала к Рузвельту и, бесцеремонно обхватив его голову, попыталась откинуть ее назад, чтобы исчезли морщины на скулах и шее.
Все равно она не видела того, что ей хотелось увидеть. Тогда Шуматова прервала работу над лицом президента и сосредоточилась на галстуке и складках накидки. Она старалась воспроизвести красный цвет галстука и темно-синюю материю накидки с такой же естественностью, как на картинах старых мастеров.
Рузвельт, в свою очередь, почувствовал, что работа у художницы сегодня не клеится.
— Как говорят в Голливуде, — пошутил он, чтобы разрядить обстановку, — я сегодня, кажется, не киногеничен.
— У нас еще есть время — торопливо ответила Шуматова. — Я имею в виду, конечно, мое время, — тут же смущенно поправилась она. — Если господин президент не очень торопится…
— Я никуда не тороплюсь, — на этот раз без улыбки, неожиданно серьезно произнес Рузвельт.
— Разумеется, — подхватила Шуматова. — Ведь вы в отпуске. После такой сверхчеловеческой работы вы имеете полное право…
— Да, я в отпуске, — медленно произнес Рузвельт и, помолчав, добавил: — Люди всегда стремятся использовать свой отпуск прежде, чем подать в отставку.
Он произнес эти слова задумчиво и тихо, но они прозвучали, как отдаленный раскат грома.
Люси с испугом посмотрела на президента.
Маргарет Сакли попыталась обратить слова президента в шутку.
— Ты намерен стать безработным? — добродушно спросила она. — Скучаешь по началу тридцатых?
Президент молчал, полуопустив тяжелые, неестественно набрякшие веки. Казалось, он никого не слышал и ничего не видел.
Но это только казалось… Слова Дэйзи — так президент называл Маргарет Сакли — и в самом деле вернули его мысли к страшному для Америки кризису, разразившемуся в конце двадцатых — начале тридцатых годов.
Дэйзи повторила свой вопрос — она всячески старалась вывести президента из того странно-задумчивого, отрешенного состояния, в которое он неожиданно впал.
— Нет, — покачав головой, сказал Рузвельт, — стать безработным я не собираюсь.
— Что же ты будешь делать? — настойчиво продолжала спрашивать Дэйзи. Она была рада, что все-таки втянула президента хоть в какой-то разговор.
Рузвельт внимательно посмотрел Дэйзи прямо в глаза и очень серьезно сказал:
— Если бы это зависело только от меня, я хотел бы возглавить Организацию Объединенных Наций. Война скоро кончится. Теперь на повестке дня — будущее мира. Впрочем, — Рузвельт улыбнулся, — я еще не уверен, доверят ли мне эту работу.
Все облегченно вздохнули. Президент вновь шутил.
Тем временем в гостиную вошел Билл Хассетт, одни из секретарей президента. В руках у него была груда пакетов, конвертов и бандеролей. Это означало, что почта из Вашингтона наконец пришла. При виде Хассетта Рузвельт сразу оживился. Он вцепился руками в подлокотники кресла, словно собираясь встать на ноги, подался навстречу Хассетту и с улыбкой сказал:
— Наконец-то! Что случилось с тем самолетом?
— В Вашингтоне со вчерашнего дня необычный туман, — ответил Хассетт. — Самолет поднялся, как только появилось небольшое «окно». Я говорил с пилотами.
А я уж подумал, что его преследовали немецкие истребители, — пошутил Рузвельт.
— Им сейчас не до этого, мистер президент, — в тон ему отозвался Хассетт.
— Очень жаль, что это проклятое «окно» все же появилось, — вздохнул Рузвельт. Кивнув на обильную почту, которую все еще держал в руках Хассетт, он добавил: — Здесь одного только чтения на целый час.
Хассетт свалил почту на письменный стол, стоявший позади кресла, в котором сидел президент, вышел из комнаты и через минуту вернулся с невысокой конторкой. Он уставил ее почти вплотную к ногам Рузвельта, поставил на нее чернильницу с тушью, положил рядом ручку, а также несколько пакетов, предварительно отрезав их края длинными ножницами.
Рузвельт углубился в чтение. Шуматова, обрадованная тем, что в ее распоряжении остается еще не менее часа, возобновила работу.
После того, как Рузвельт пробежал глазами содержание первых пакетов, на лице его появилась недовольная гримаса. В одном из конвертов были приказы о назначении почтмейстеров. По американской традиции их должен был назначать сам президент. Некоторые документы Рузвельт подписывал тушью и полным именем, другие — своим знаменитым «Ф. Д. Р.». Хассетт брал бумаги со стола и раскладывал на полу.
— Простите, — сказал он в ответ на полный недоумения взгляд Шуматовой, — но необходимо, чтобы это сырое белье просохло.
«Сырое белье» — так было принято называть официальные бумаги, которые президент подписывал тушью.
Президент подписал одобренный Конгрессом законопроект о предоставлении государственных кредитов одной из корпораций, занимающихся проблемами продовольствия.
Далее шли приказы о награждении солдат и офицеров, отличившихся во время военных операций в Европе. Эти документы президент подписал с особым чувством, полностью начертав свое имя: «Франклин Д. Рузвельт»…
Хассетт продолжал раскладывать на полу «сырое белье» и собирать те бумаги, на которых подпись уже просохла. Он невольно отметил, что в тех случаях, когда президент подписывался полностью, рука его, как и вчера, как будто немного дрожала.
Наконец письменный стол опустел, и на полу уже не осталось ни одного документа. Рузвельт спросил:
— Надеюсь, это все? Газеты я посмотрю позже.
— Вчера вы распорядились, сэр, дать вам на подпись еще одни документ, — ответил Хассетт.
— Какой еще документ? — недовольно спросил Рузвельт. И сразу умолк. Он понял, о чем говорил Хассетт. Это было письмо Сталину — ответ на исполненное обиды послание советского лидера, которое пришло меньше недели назад.
Обида — Рузвельт не мог этого не понимать — была нанесена не только Сталину, но и всему Советскому Союзу. Речь шла о состоявшихся в Берне закулисных переговорах между представителями западных союзников и фашистской Германии. Темой переговоров, которые велись втайне от Советского Союза, фактически была сепаратная капитуляция Германии перед Англией и Америкой.
Ответное письмо Сталину Рузвельт написал еще вчера. Потом изменил редакцию некоторых абзацев. Потом переписал целиком.
Рузвельт знал Сталина не только по переписке, но и по личным встречам — в Тегеране и в Ялте. Он гордился тем, что у него установились пусть не лишенные серьезных разногласий, но все же дружелюбные и даже доверительные отношения с этим человеком, который умел быть резким, прямолинейным, бескомпромиссным и в то же время мягким, даже обаятельным, готовым идти на уступки во имя единства между союзниками.
Сталин олицетворял в глазах Рузвельта и героизм советских солдат, и муки, которые пришлось перенести его народу, и грядущую победу над фашистской Германией. В отношениях с ним Рузвельт видел не только символ единства союзников. Эти отношения подтверждали, что он был прав, когда двенадцать лет назад добился признания Соединенными Штатами Советской России. Ему виделся в этом залог мира и дружбы с Россией и в послевоенное время…
Теперь на отношения с Советским Союзом легла тень недоверия. Отвечая на двусмысленное поведение правительства Америки («бернский» инцидент!), Сталин отказался последовать примеру других стран и прислать на предстоящую Конференцию в Сан-Франциско своего министра иностранных дел. Теперь Россию будет представлять в Сан-Франциско не министр, а посол…
Но как бы то ни было, президенту следовало ответить на письмо Сталина — и как можно скорее.
…Хассетт принес окончательный проект, и Рузвельт, перечитав его, наконец остался доволен. Письмо получилось вежливое и дипломатически тонкое. «Берн» трактовался в нем как мелкий инцидент на фоне того главного, что связывало в этой войне Соединенные Штаты и Советский Союз. Рузвельт принялся читать написанные им строки, которые задавали тон всему письму: «Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении Бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что когда наши войска установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся».
Рузвельт дочитал письмо до конца и тщательно вывел тушью свою полную подпись.
— Отправь! — сказал он Хассетту, протягивая ему письмо.
Потом посмотрел на часы.
— В нашем распоряжении, — обратился он к усердно работавшей своими кистями Шуматовой, — пятнадцать минут. Не больше.
Шуматова пришла в отчаяние. Она все еще билась над складками на накидке президента и цветом его галстука. О лице она на время как бы забыла. Но то, что сейчас сказал президент, испугало ее. Кто знает, согласится ли он позировать ей и завтра?..
Рузвельт посмотрел на Люси. Она приветливо улыбнулась ему в ответ, но тут же заметила, что взгляд Рузвельта неожиданно погас. Президент смотрел теперь не на нее, а куда-то в пустоту. Так смотрят слепые, которых порой трудно отличить от зрячих…
Люси не знала, что в это мгновение голову президента пронзила острая боль. Та же боль в затылке, что и утром, только гораздо сильнее. Люси показалось, что президент сник и сидел в своем кресле совсем не так, как несколько минут назад.
Неугомонная Шуматова тоже заметила это, быстро подошла к Рузвельту и укоризненно сказала:
— Вы опять изменили позу, господин президент.
Она старательно разгладила новые складки появившиеся на накидке, и вернулась на свое место.
— Очень болит голова… — глухо сказал Рузвельт. Он закрыл глаза. Лицо его исказила гримаса страдания. И все же никто еще не понимал, что с ним происходит. Даже когда его рука упала с подлокотника и безвольно свесилась.
Маргарет Сакли спросила:
— Ты что-нибудь уронил?
Президент открыл рот, но не произнес ни звука.
— Франклин, что с тобой?! — с дрожью в голосе воскликнула Люси и подбежала к Рузвельту. Маргарет Сакли отбросила свое вышиванье и тоже вскочила с места.
— Что с тобой?! — уже во весь голос крикнула Люси.
Но Рузвельт был без сознания и только тяжело, с хрипом дышал.
Шуматова бросилась вон из комнаты. Первым, кого она увидела, был Бири, сотрудник охраны президента.
— Врача, врача! — истерически закричала Шуматова. — Скорее врача! У президента обморок.
Глава вторая ЛЕВ И ЛИСИЦА
30 января 1882 года Джеймс Рузвельт записал в своем дневнике: «Без четверти девять моя Салли родила великолепного большого мальчика. Он весит десять фунтов — без одежды».
Это произошло в Хайд-Парке, имении Рузвельтов, расположенном в нескольких десятках километров от Нью-Йорка. Семью Рузвельтов нельзя было назвать очень богатой, но, с точки зрения среднего американца, она считалась, конечно, более чем состоятельной.
Достигнув отрочества, «великолепный большой мальчик» уверенно зашагал по жизни. В конце века он поступил в привилегированную школу в Гротоне, неподалеку от Бостона.
Как учился молодой Рузвельт, каковы были, по мнению учителей, его способности? Учился он неважно. Средняя годовая отметка его в Гротоне выражалась третьей буквой английского алфавита «С» (следующая за ней оценка «Д» считалась уже неудовлетворительной). Впрочем, окончил Франклин Гротонскую школу со средней оценкой «В», что было вовсе не так уж плохо.
Каким он был не в учении, а в частной жизни? Таким же, как и большинство американских юношей его социальной среды. В детстве играл в оловянных солдатиков, возился с сеттером Марксмэном, ездил верхом на подаренном ему отцом пони по имени Дебби, плавал в Гудзоне, собирал марки (эту страсть Рузвельт пронес потом через всю жизнь).
В 1899 году Франклин окончил Гротонскую школу, а в 1900-м поступил в Гарвардский университет. Теперь он оказался совсем рядом с Бостоном, городом американской знати. Достаточно было пересечь реку Чарлз-Ривер, чтобы очутиться среди обстановки, хорошо знакомой Франклину по детству, — если бы родовое имение Рузвельтов Хайд-Парк перенести в Бостон, оно вполне вписалось бы в его архитектурный и социальный климат. Гарвардский студент почти каждое воскресенье пересекал Чарлз-Ривер на пароме или на лодке.
Красивого молодого человека со спортивной выправкой, в красном гарвардском галстуке часто видят швейцары лучших бостонских домов. Он отлично одет, волосы аккуратно расчесаны на прямой пробор, близко поставленные и глубоко сидящие глаза смотрят на всех приветливо и доброжелательно, веселая улыбка невольно вызывает ответную улыбку собеседника…
Молодой Франклин свидетельствует свое почтение тем бостонским семьям, фамилии которых — он хорошо это помнит — не раз называлась в его родном Хайд-Парке.
Кто же он? Делающий светскую карьеру молодой честолюбец? Сноб, ищущий повода при каждом удобном случае упомянуть о своих связях с влиятельными бостонцами?..
Так или иначе, пока еще никто всерьез не интересуется молодым гарвардцем. Прилежно, хотя и не очень глубоко, он изучает все, что полагается по программе университета: английскую и французскую литературу, латынь, геологию, палеонтологию, изящные искусства, элоквенцию.
Впрочем, к абстрактным дисциплинам он не испытывает особого влечения. С несколько большим интересом изучает историю континентальной Европы и своей родной Америки, государственное устройство, законодательство, в особенности валютное, экономику транспорта, банковское дело, американскую систему большого бизнеса, в частности, промышленных и финансовых корпораций.
Какая же сила, какие черты характера впоследствии поставили Рузвельта в ряды «сильных мира сего»? Можно ли сказать, что он усидчиво, детально, глубоко изучал все то, что могло ему пригодиться в его дальнейшей политической деятельности? Нет, нельзя… Не «усидчиво», не «детально» и не «глубоко».
Проклятая буква «С» преследовала молодого Рузвельта на протяжении всех лет его учения в университете.
Будучи четырежды избран на самую высокую должность своей страны, он великолепно разбирался в сложнейших политических ситуациях, в хитросплетениях большого бизнеса, безошибочно рассчитывал «параллелограмм сил» — как в своей стране, так и на международной арене. Где он всему этому научился? В Гарвардском университете? Но именно Рузвельту принадлежат пессимистические строки: «…Я четыре года слушал лекции по экономике, и все, чему меня учили, было неправильно».
В университете читались лекции по психологии. Рузвельт не посетил, кажется, ни одной из них. Всего три недели ходил он и на лекции по философии.
Так кем же все-таки был Рузвельт в свои молодые годы? Ленивцем? Светским шалопаем, ищущим доступа в аристократические цитадели Бостона?
В Гарварде издавалась газета под названием «Гарвард Кримзон». Именно туда, на газетные полосы, а не в унылые академические аудитории влекло молодого Рузвельта. О чем же он писал на страницах этой газеты? Может быть, о результатах научных изысканий, предпринятых в тиши университетской библиотеки?
Нет, это могло заинтересовать сравнительно немногих людей и оставляло Рузвельта равнодушным. Он должен был писать о том, что интересовало — пусть и без достаточно серьезных оснований — миллионы его соотечественников.
Это был прежде всего футбол. Рузвельт регулярно писал редакционные статьи на футбольные темы, упрекал гарвардских футболистов в недостатке боевого духа, в неумении атаковать ворота противника, ехидно советовал им переключиться на европейский футбол, а команду соответственно переименовать в «Сиссиз», то есть «маменькины сынки». Иногда автор, наоборот, брал под защиту свою команду, но зато обрушивался на зрителей, равнодушно относившихся к исходу игры и безмятежно покуривавших сигары и трубки вместо того, чтобы громкими криками поощрять футболистов и звать их к победе.
Летом и осенью Франклин писал о футболе, зимой — о коньках и хоккее…
Итак, будущий профессиональный спортивный обозреватель? Журналист «узкого профиля»?
Нет, почему же? Рузвельт регулярно писал и на другие темы, далекие от спорта, но постоянно интересовавшие студентов: о перегрузке учебного расписания, о благоустройстве тротуаров, о водоснабжении, о мерах на случай пожара…
Окончив Гарвард летом 1904 года, осенью Рузвельт поступил в Школу права Колумбийского университета. Может быть, юриспруденция пробудит в Рузвельте творческий интерес? Может быть, именно здесь он найдет свое подлинное призвание? Может быть, за стенами Школы права ждет Рузвельта карьера выдающегося адвоката, следователя, прокурора?..
Нет, нет и нет! Проклятая буква «С», как Каинова печать равнодушия к любым наукам, незримо венчает чело колумбийского студента-правоведа.
Едва выдержав экзамены, дающие право заниматься юридической практикой, Рузвельт бросил Колумбийский университет. Степени бакалавра юридических наук он так и не получил. С помощью своих влиятельных родственников он поступил клерком в старую, расположенную на Уолл-стрит юридическую фирму «Картер, Ледьард и Милбэрн». В течение первого года службы он должен был работать без жалованья.
Представим себе одного из диккенсовских молодых героев, протирающего штаны в юридической фирме, человека без настоящего и будущего, забитого, вечно нуждающегося, неряшливо одетого, иногда обуреваемого разного рода мечтами и планами, но даже пальцем не шевелящего, чтобы их осуществить…
И вдруг случается чудо. Проклятая буква «С» стирается с широкого, открытого лба молодого, красивого клерка. Завеса, отгораживающая двадцатипятилетнего Франклина от жизни, неожиданно падает. И жизнь эта предстает перед ним не в виде застывших философских учений, светских условностей, религиозных канонов, а скорее в виде одного из детективных романов, которые Рузвельт любил почитывать.
В первый год его службы на долю младшего клерка редко выпадали юридические дела, требовавшие особых знаний, изворотливости, умения предусмотреть ходы противника.
Фирма, в которой служил Рузвельт, защищала интересы корпораций от всяких попыток правительственного вмешательства. «Антитрестовский закон», теоретически направленный против абсолютного господства монополий, но, как правило, игнорируемый ими, был ненавистен владельцам фирмы и рассматривался как покушение чиновного Вашингтона на святая святых капитализма — безграничную свободу частного предпринимательства.
Постоянными клиентами фирмы «Картер, Ледьард и Милбэрн» были гигантские корпорации «Стандард ойл», «Америкэн тобакко компэни». Даже человек, занимавший в фирме такую незначительную должность, как молодой Рузвельт, порой встречался с крупными дельцами, юрисконсультами, адвокатами большого бизнеса.
Но не только эти встречи были своего рода университетами для Рузвельта. Читая всевозможные деловые бумаги, порой просто переписывая их, составляя справки, докладывая их содержание своему шефу, Рузвельт постепенно приобщался к миру бизнеса. Его все больше завораживал этот мир, в котором звенело золото, торжествовали изворотливость и хитрость, замышлялись коммерческие заговоры, плелись интриги. Сугубо юридическая, или, если хотите, политическая деятельность огромного механизма, в котором он был всего лишь винтиком, мало привлекала молодого клерка. Но практическая работа фирмы пробуждала в нем большой интерес. Ведь он имел дело не только с бумагами, не только с проектами договоров, заявлениями в суд, кассациями, секретными соглашениями, текстами адвокатских речей, но нередко и с людьми, которые стояли за всеми этими документами, с живой практикой человеческих взаимоотношений.
Рузвельт с интересом наблюдал за непрерывной войной в мире бизнеса, постигая приемы, которыми пользовались дельцы для саморекламы, для вербовки сторонников, для получения прибылей. Он познавал уловки, к которым прибегали люди, ведущие эту непрерывную войну, проникал в истинную суть отношений между ними, маскировавших под внешним демократизмом железную, безжалостную хватку…
Но постепенно Рузвельт стал все чаще испытывать чувство неудовлетворенности. Он сознавал, что видит лишь незначительную часть мира, в котором живет. Вне поля его зрения остается другой мир, населенный миллионами людей со своими интересами, бесконечно далекими от тех, которыми жила его фирма и ее клиенты.
Может быть, в молодом Рузвельте зародилась неприязнь к миру бизнеса? Может быть, сам факт его существования стал казаться ему несправедливым?
О нет! Ни сейчас, ни позже Рузвельт даже в самых тайных мыслях не протестовал против этого мира и отнюдь не имел желания уничтожить его. Он просто очень рано распознал те пружины, которые приводили в движение механизм большого бизнеса: корысть, полное пренебрежение ко всему тому, из чего нельзя извлечь прибыль, взгляд на рядового человека только как на потенциального покупателя…
Это не нравилось молодому Рузвельту. Он не покушался на основу золотого монумента, воздвигнутого капитализмом. Но ему хотелось предупредить людей об угрозе, таящейся в такой недальновидности. Толстые стены юридической фирмы, в которой он работал, мешали ему окинуть широким взглядом противостоящие друг другу миры имущих и неимущих.
Стремясь объяснить себе, почему он так не удовлетворен своей жизнью, Рузвельт пришел к выводу, что юриспруденция не его призвание. Ему нужно вырваться за пределы замкнутого искусственного уолл-стритовского мирка, надо скорее выйти на широкие просторы подлинной жизни…
Он повзрослел и многому научился. Пусть это было только началом его жизненной школы, но он уже знал, как дельцы проникают в реальную практику большого бизнеса, как овладевают наукой извлечения прибыли и любой другой выгоды, не обязательно денежной. В то же время он выработал собственную манеру обращения с людьми — открытую, привлекательную, истинно демократичную…
Конечно, он еще не обладал умением плести политическую паутину, загадочную, непостижимую для посторонних, наносить стремительные, неожиданные, сокрушительные удары по своим врагам или соперникам. Все это придет позже и в конце концов даст основание одному из проницательных биографов тридцать второго президента Соединенных Штатов назвать его Львом и Лисицей[1] в одном лице…
Но Рузвельт уже пришел к выводу, что ему следовало бы попробовать свои силы на политической арене.
Обаятельный, отнюдь не бедствующий, более или менее образованный молодой человек из хорошей американской семьи, к тому же с определенным жизненным опытом за плечами, имел для этого немало самых разнообразных возможностей.
В стране то и дело происходили какие-нибудь выборы, которым предшествовала длительная борьба двух соперничающих партий — демократической и республиканской…
По традициям своей семьи Рузвельт был демократом. Постоянные гости Хайд-Парка — однокашники «гротонцы», «гарвардцы» и «колумбийцы» — точнее, все те из них, кто по окончании университета посвятил себя политической деятельности, — встретили бывшего редактора гарвардской газеты с распростертыми объятиями.
Он был «свой». Свой по происхождению и воспитанию, да к тому же еще обаятельный, красивый, способный одной своей улыбкой завоевывать сердца людей…
Короче говоря, в 1910 году двадцативосьмилетнему Рузвельту было предложено испытать политическое счастье на предстоящих выборах в законодательное собрание штата Нью-Йорк.
Ни минуты не раздумывая, Рузвельт согласился.
На большом красном «максуэлле», едва ли не единственном автомобиле во всем графстве Датчесс, Рузвельт колесил по избирательному участку.
Еще будучи студентом. Франклин сделал предложение своей дальней родственнице Элеоноре.
В 1905 году они поженились. В мае 1906 года родилась дочь Анна. Затем — в декабре 1907 года — сын Джеймс.
Нередко жены с раздражением относятся к делам мужей, ибо эти дела сплошь и рядом отрывают мужей от семейного очага.
Общественный темперамент Элеоноры Рузвельт — будущее покажет это с особой наглядностью — не очень-то уступал темпераменту мужа. Уже в борьбе Франклина за место на скамье законодателей она все время была рядом с ним, сопровождая его в предвыборных поездках и замирая от страха, когда он внезапно прерывал очередную речь в поисках нужного слова.
По общему мнению, Рузвельт в ту пору был еще весьма посредственным оратором. Со временем он освоит и это искусство. Его высокий баритон зазвучит спокойно и уверенно, паузы будут лишь подчеркивать весомость ударных фраз.
И все же сила молодого Рузвельта была в другом. С первых же шагов своей политической деятельности он поразительно быстро устанавливал контакты с людьми, с необычайной легкостью завоевывал их расположение. Разумеется, многолетняя практика борьбы за власть в США выработала свои заповеди. Рузвельт широко пользовался ими. Вот те из них, которые он особенно хорошо усвоил:
— Не забудь похвалить город, где выступаешь.
— Сумей внушить людям, пришедшим тебя послушать, что они тебе друзья и ты им друг.
— Никогда не веди прямой атаки на соперника. Если можно, вообще не упоминай его фамилии. Однако критикуй то, что соперник предлагает, и обещай то, о чем он умалчивает.
И еще одну заповедь твердо усвоил молодой политик Рузвельт: не переоценивать выступлений с трибуны и уделять особое внимание личным контактам с избирателями. А это была одна из тех наук, которые нельзя просто изучить на чужих примерах. Контакты с людьми должны быть дружескими, но далекими от фамильярности. Заинтересованность в делах собеседника должна производить впечатление неподдельно искренней, чтобы твой потенциальный избиратель не ощутил ни малейшей фальши. Прежде чем хлопать собеседника по плечу со словами «Здорово, Том!», нужно точно знать, с кем имеешь дело. Одному это может показаться развязной выходкой незнакомого человека, а другой может расценить это как сердечное приветствие, которым равный обменивается с равным.
Длительное участие в различных избирательных кампаниях помогает кандидату выработать дежурную улыбку, тембр голоса, манеру пожимать избирателю руку, дружески хлопать его по спине…
И все же… И все же, не обладая врожденным талантом общения с людьми, научиться этому трудно.
Рузвельт обладал таким талантом. Это, естественно, не мешало ему ненавидеть врагов и соперников — тех, кто, преследуя свои корыстолюбивые цели, травил его десятки лет. Но этот врожденный талант помогал ему привязывать к себе людей на всю жизнь.
История буржуазной политики знает много примеров, когда тот или иной политикан с помощью изощренных приемов, опираясь на подкупленную прессу, обретал репутацию друга простых людей. На самом же деле никого он так не презирал, как этих самых простых людей…
Рузвельт, конечно, любил людей. Ему хотелось, чтобы счастливы были все — и богатые и бедные. Он верил в бога и считал частную собственность незыблемым фундаментом американского здания. Но наступит время, и он пойдет на такие меры, которые тысячи алчных, купающихся в золоте людей назовут «социалистическими» и станут травить Рузвельта чуть ли не как агента Москвы…
Однако в ноябре 1910 года до всего этого было еще очень далеко.
Пока что Франклин Делано Рузвельт был избран в сенат штата Нью-Йорк.
Итак — сенатор!
Два года спустя, на следующих выборах в законодательное собрание штата Нью-Йорк, — опять победа!
В ноябре 1912 года президентом Соединенных Штатов избирается кандидат демократической партии Вудро Вильсон. Не проходит и полугода, как Рузвельт — ему недавно исполнилось тридцать лет — назначается помощником министра военно-морского флота. В 1920 году расстается с военно-морским министерством. Его выдвигают кандидатом в вице-президенты. На этот раз — поражение!
В августе 1921 года Рузвельт заболел. Врач Беннетт, которого вызвала Элеонора, успокоил ее, заявив, что это всего лишь простуда. Два-три дня назад Рузвельт ловил рыбу с яхты. Неожиданно потеряв равновесие, он упал в ледяную воду. После этого его знобило, и он ощущал некоторое недомогание. Вскоре Рузвельт отправился с сыновьями на морскую прогулку. Возвращаясь с нее, всей семьей помогал тушить лесной пожар. Затем, чтобы охладиться, выкупался в холодном озере Глен Северн (хотя уже несколько дней продолжал ощущать недомогание). Затем вместе с мальчиками Рузвельт пробежал полторы мили до дому, а потом еще раз выкупался в ледяной воде — теперь уже в океане, в заливе Бэй оф Фанди.
Снова вернувшись домой, он в мокром купальном костюме сел читать почту, после чего испытал сильный озноб.
Чему тут было удивляться? Хорошо еще, что не схватил пневмонию!
Увы, было бы гораздо лучше, если бы дело обошлось воспалением легких.
То, чем заболел Рузвельт, называлось полиомиелитом. Фактически он лишился ног. Некоторое время он еще передвигался на костылях, да и то с посторонней помощью, а потом не мог даже и этого.
Ему не исполнилось еще сорока лет. Он был молод, полон энергии и не собирался сдаваться никому, даже страшной болезни. И все же сначала она привела его в полное смятение. Он обращался за помощью к различным докторам, устно и письменно излагая им историю того, что с ним произошло.
Пожалуй, последней его надеждой был доктор Уильям Эгглстон, выдающийся специалист, живший в штате Южная Каролина.
Излагая Эгглстону историю своего несчастья, Рузвельт писал: «Первые симптомы болезни появились в августе 1921 года, когда я был крайне переутомлен чрезмерной работой. Вечером у меня начался озноб, который не прекращался всю ночь. К утру ослабели коленные мышцы на правой ноге, и она уже не выдерживала моего веса. Вечером начало слабеть левое колено, и утром следующего дня я уже не мог встать. Это сопровождалось температурой сто два градуса (по Фаренгейту), и болевые ощущения были во всем теле. К концу третьего дня были затронуты практически все мышцы ниже грудной клетки. Единственным симптомом выше грудной клетки было ослабление мышц больших пальцев, что лишило меня возможности писать. Особой боли в позвоночнике и ригидности шеи не было.
На протяжении последующих двух недель мочевой пузырь приходилось опорожнять с помощью катетера, и я испытывал некоторые трудности, связанные с контролированием кишечника. Повышенная температура держалась всего лишь шесть или семь дней, но все мышцы, начиная от бедер и ниже, были чрезвычайно чувствительны, и колени приходилось поддерживать подушками. Это состояние крайнего дискомфорта продолжалось около трех недель. Затем меня доставили в нью-йоркскую больницу, а в ноябре наконец перевезли домой. К тому времени я уже мог сидеть в коляске, но мышцы ног продолжали оставаться крайне чувствительными, и эта чувствительность постепенно ослабевала на протяжении шести месяцев: дольше всего ее сохраняли мышцы икр.
Теперь — о лечении. Ошибка была совершена, когда в течение первых десяти дней мои ноги подвергали довольно интенсивному массажу. Этому положил конец доктор Ловетт из Бостона, который был, вне всякого сомнения, величайшим специалистом по детскому параличу.
…В феврале 1922 года на каждую ногу — от бедра до ботинка — приладили подпорки, и я мог стоять и постепенно научился ходить с костылями. Одновременно я начал делать осторожные упражнения — сначала через день, а потом ежедневно.
…Улучшение началось в это время, хотя на протяжении многих месяцев оно было медленным. Летом 1922 года я начал плавать и убедился, что это — лучшее из всех упражнений, потому что ноги становились невесомыми и я мог двигать ими в воде гораздо лучше, чем ожидал. С тех пор, то есть на протяжении последних двух лет, я, насколько это позволяли моя работа и другие обязанности, проводил то же самое лечение. В результате мышцы поразительным образом окрепли, причем улучшение в последние шесть месяцев шло еще быстрее, чем в любой другой отрезок времени.
Я по-прежнему, конечно, ношу подпорки, потому что квадрицепсы все еще недостаточно сильны, чтобы выдержать мой вес. Год назад я мог стоять в пресной воде без подпорок, если уровень воды достигал моего подбородка. Шесть месяцев назад я мог стоять в воде, если она доходила мне до верхней части плеч, а теперь — когда она доходит до подмышек».
Однако никаких новых советов Рузвельт и на этот раз не получил.
Он сам разработал для себя целую систему упражнений. В сочетании с массажем и плаванием они должны были вернуть его ногам подвижность.
Но все оказалось тщетным: в конечном итоге он добился лишь того, что руки его приобрели необычайную силу. Однажды — правда, после полуторачасовой борьбы — ему удалось вытащить из воды солидных размеров акулу.
Приходила ли ему в голову мысль о возможном близком конце? Весьма вероятно. Но характеру его была чужда рефлексия. Лишь один вопрос он не мог себе не задавать: «Хватит ли времени совершить задуманное?» И впоследствии ощущение цейтнота висело над будущим президентом, как дамоклов меч. Не смерти боялся он, а именно этого ощущения.
Потерпев поражение в борьбе с болезнью, Рузвельт сосредоточил всю свою волю и энергию на политической деятельности. Что руководило им? Жажда богатства? Стремление к власти? Мы уже знаем, что к чрезмерному обогащению будущий президент не стремился. Прельщала ли его власть как таковая? Едва ли! Ведь он хорошо помнил изречение: «Сначала ты берешь власть, а потом она захватывает тебя».
Но если власть «захватывается» во имя интересов миллионов людей, — разумеется, в понимании такого человека, как Рузвельт, — то она обретает совершенно иной смысл. Рузвельт считал, что именно ради этих миллионов он должен жить, и жить полноценно.
В 1928 году Рузвельт, уже с парализованными ногами, избирается губернатором штата Нью-Йорк. Два года спустя новый триумф — он переизбран в губернаторы.
Напряженная борьба с болезнью закалила его дух. Когда он в 1932 году баллотировался в президенты, правые газеты трубили на всю Америку, что Рузвельт болен, немощен и что если его изберут, вершить судьбами страны все равно будет не он, а вице-президент, которому по конституции надлежит стать хозяином Белого дома в случае смерти президента.
Казалось бы, как мог парализованный человек привлечь своих избирателей? Что он был в состоянии сделать для них, став президентом?
Рузвельт долго размышлял над тем, какой речью начать свою предвыборную кампанию.
Можно было пойти по пути, давно проторенному буржуазными политиканами, — перечислить несколько недостатков предыдущей администрации, столь очевидных, что с критикой их нельзя не согласиться, а затем, помня о главных нуждах избирателей, дать несколько обещаний, заранее зная, что они не будут выполнены.
От этого пути Рузвельт отказался. Хотя он и нападал на Гувера, но в условиях «великой депрессии» с самого начала было ясно, за что следует критиковать предыдущую администрацию и что нужно обещать избирателям.
Рузвельт поступил иначе. Он решил создать новый «Image», — образ будущего президента, подлинного избранника народа, представителя народа, не на словах, а на деле живущего для народа и во имя его.
Но как создать такой образ? Частыми обращениями к избирателям? Свойским тоном в общении с ними?
Рузвельт и в этом случае поступил по-другому. На каждом шагу он твердил о своей решимости поставить «маленького человека» в центре или точнее — у основания американской жизни.
— Эти тяжелые времена, — сказал Рузвельт, выступая по радио в апреле 1932 года, — требуют создания… планов, которые строятся снизу вверх, а не сверху вниз, планов, которые снова опираются на веру в забытого человека у основания экономической пирамиды.
Эти слова мгновенно запали в душу миллионам простых американцев. Предшественники Рузвельта, несмотря на все свои демагогические заверения, забывали о маленьком, рядовом человеке. Выбрав Рузвельта, Америка изберет президента для простых американцев!..
Провалившийся президент Гувер назвал Рузвельта «хамелеоном на пестром пледе». Эти полные злобы слова потонули в рукоплесканиях, которыми «простая» Америка приветствовала «своего» президента…
В ноябре 1932 года Франклин Делано Рузвельт был избран президентом Соединенных Штатов Америки. 4 марта 1933 года он приступил к исполнению своих новых обязанностей.
Несколько лет спустя большой бизнес снова пошел в наступление на Рузвельта. Президента упрекали в том, что он заставил бизнесменов отдать много денег на осуществление правительственных проектов, мало чем компенсировав такую жертву в дальнейшем. Рузвельт ответил на это сочиненной им притчей: «Летом 1933 года один добропорядочный старый джентльмен в цилиндре упал с набережной в море. Плавать он не умел. Его друг тотчас же прыгнул в воду, спас старика, но цилиндр унесло течением. Придя в чувство, старый джентльмен стал рассыпаться в благодарностях. А теперь — три года спустя — он поносит своего спасителя за то, что ему не удалось вытащить и цилиндр».
Да, на президентских выборах 1932 года Рузвельт победил. Он исколесил всю Америку. Заковав ноги в тяжелые ортопедические аппараты и стоя на задней площадке последнего вагона. Сидя в открытой машине или привставая в ней опять-таки на специальных подпорках. Он произнес сотни речей перед избирателями. Он доказывал, что кризис преодолим, говорил о том, что в богатой Америке богатство распределено с ужасающей несправедливостью. Он призывал к тому, чтобы государство внесло элементы планирования в экономику, требовал увеличения налогов на богатых и создания за этот счет рабочих мест для безработных…
Большой бизнес тотчас объявил Рузвельта коммунистом, стремящимся похоронить капитализм, посягающим на святая святых Америки — свободное предпринимательство и частную собственность.
Но цель, которую ставил перед собой Рузвельт, состояла, конечно, не в том, чтобы похоронить капитализм, а в том, чтобы спасти его. Спасти от самоубийственного разгула и расточительства элиты, от ее недальновидности, от ведущего к катастрофе пренебрежения к нуждам миллионов бедных.
…Теперь о «Новом курсе» Рузвельта уже написаны сотни книг, где подробно рассказано о том, что предприняли новый президент и его «мозговой трест», то есть группа советников, в которую входили опытные политологи, политические журналисты, университетские профессора.
Благодаря энергичным мерам новой администрации, ломавшим всякое сопротивление со стороны большого бизнеса, кризис стал постепенно уменьшаться.
И хотя представители бизнеса продолжали кампанию против Рузвельта, простые американцы понимали, что страной руководит человек с ясным умом и стальной волей.
Если так относились к новому президенту миллионы американцев, никогда не видевшие его в глаза и только слышавшие его выступления по радио, то можно себе представить, как любил его персонал Белого дома. Рузвельт победил на трех выборах, победил и на четвертых… Он привык побеждать и знал, почему побеждает.
Когда демократическая партия впервые выдвинула Рузвельта кандидатом в президенты, Соединенные Штаты напоминали лес, по которому нещадно била артиллерия, а потом прошли чудовищные смерчи и ураганы. Побитые деревья, зияющие воронки от снарядов, бездомные, голодные люди, мародеры, спекулирующие на чужом горе. Первый громовой залп артиллерии кризиса грянул в 1929 году — рухнула финансовая биржа. С тех пор кризис не ослабевал. Теперь, в 1932 году, трудно было подсчитать несметное количество его жертв.
Безработица в стране возросла более чем вдвое. Четверть всей рабочей силы была выброшена на улицу. В Чикаго лишилась работы половина всего работоспособного населения. Свыше миллиона бродяг слонялось по стране без куска хлеба, без крыши над головой, без всякой надежды… В центре Нью-Йорка, в Центральном парке возникли жалкие халупы из досок и рваного гофрированного металла. Люди все громче поговаривали о неизбежности революции. И вдруг перед миллионами отчаявшихся людей появился человек, не обещавший совершись чудо и мгновенно их спасти, но твердо заявивший, что надо принимать решительные меры, и при этом немедленно. Это был не убеленный сединами университетский профессор, не ковбой с двумя пистолетами за поясом и с лассо, которым он брался поймать и вернуть упорхнувшее из Америки счастье.
Этот человек с внешностью рядового интеллигентного американца появился на Чикагском съезде демократической партии. Все знали, что он с трудом добрался из Нью-Йорка до Чикаго. Выступая, он вцепился в края трибуны. Все поняли, что он сделал это не в порыве ораторской страсти, а просто для того, чтобы не упасть.
С трибуны съезда этот человек заявил:
— Я обещаю американскому народу новый курс!
Он предостерегал американцев от паники, призывал их к активным действиям и требовал, чтобы государство реально участвовало в решении экономических проблем. Этому человеку к тому времени уже симпатизировали миллионы простых американцев. Руководители американской индустрии и большого бизнеса поначалу опасались нового курса, объявленного Рузвельтом, его решимости внести элементы государственного планирования в тот хаос, в котором оказалась американская экономика. Теперь наиболее дальновидные из них преодолели свои страхи.
Американцы поверили Рузвельту. И он победил.
Глава третья В УОРМ-СПРИНГЗ!
Хмурым февральским вечером 1945 года военно-морские буксирные катера подтянули американский крейсер «Куинси» к пирсу номер шесть в Ньюпорт Ньюс (штат Виргиния). Президент Франклин Делано Рузвельт вернулся из Ялты в Соединенные Штаты. Традиционная торжественная встреча была отменена. В восемь часов сорок пять минут коляску президента по специальному трапу, сколоченному корабельными мастерами, выкатили на берег. Рузвельт сидел, ссутулившись, надвинув на лоб серую шляпу, зябко кутаясь в свою военно-морскую накидку. В зубах он держал привычный длинный тонкий мундштук из слоновой кости, однако без сигареты. На берегу, под навесом, ждал своего пассажира президентский поезд, в составе которого был вагон под названием «Фердинанд Магеллан».
Встреча состоялась на покрытой желтой травой лужайке с тыльной стороны Белого дома. Назвать эту встречу торжественной было бы трудно — дни отъезда президента в Ялту и его возвращения на родину держались в строжайшей тайне. Рузвельта встречали его жена Элеонора, другие члены семьи, находившиеся в то время в Вашингтоне, а также представители трех родов войск. После того, как президент принял традиционный рапорт военных, а затем поздоровался со своими близкими, Артур Приттиман взялся за спинку коляски и медленно покатил ее к подъезду.
Через несколько минут президент был уже в Овальном кабинете Белого дома.
Дома! Наконец он дома!
Все здесь было на своих местах. На столе по-прежнему стояла дюжина игрушечных осликов — подаренные ему в разное время эмблемы демократической партии. По краям стола расположились фигурки других животных — поросята, собачки, кролик…
По-прежнему ухмылялся, держась за огромный живот, вырезанный из дерева китаец, привычно поблескивали зажигалки, спичечные коробки, вложенные в серебряные футляры, стекла настольных часов и барометра. Справа, у края стола, возвышалась стопка карточек, на которых Рузвельт имел обыкновение делать памятные заметки.
На бюваре стоял мраморный чернильный прибор — его подарили Рузвельту к рождеству 1939 года. Здесь же — «вечные» ручки, остро отточенные карандаши, бутылочка туши, той самой, которой президент пользовался, когда нужно было подписывать особо важные письма и документы.
Рузвельт еще раз внимательно оглядел свой письменный стол, словно стараясь к чему-то придраться, найти какие-нибудь не согласованные с ним перестановки или перемены, и тогда тотчас вызвать Грэйс Талли…
Но все было на своих местах.
На столе лежала стопка документов, которые президенту предстояло прочесть. В специальную рамку был вставлен листок бумаги со списком срочных дел. Составленный клерком Белого дома Морисом Латтой, он возвышался над всем остальным, напоминая президенту о делах, которые не терпели промедления.
Но Рузвельту не хотелось работать. Он отвернулся и от стопки документов и от списка, составленного Латтой. Внимание его привлекли лица сыновей, смотревших на него из красной кожаной рамки. Все они — а их было четверо — сфотографировались в военной форме. Это как бы подчеркивало, что каждый обязан выполнять сейчас свой долг.
Его, Рузвельта, долг состоял в том, чтобы заняться письмами и документами. Но он не хотел работать. Впервые за долгие годы не хотел! Он устал. Ни во время пересечения океана на пути в Ялту, ни во время перелетов, ни в ходе самой Конференции он не ощущал этой усталости, но она незаметно накапливалась и теперь дала о себе знать с неожиданной силой.
Почти автоматически Рузвельт открыл один из ящиков письменного стола. Еще несколько осликов, гашеные марки (хорошо бы поскорее расклеить их по альбомам), эмблема Ирландии — трилистник (кто и когда подарил ее?), коробочка с пилюлями от головной боли…
Он резко задвинул ящик я снова посмотрел на документы. Президент знал, что его воля победит. Пройдут считанные минуты, и он, конечно, начнет работать, и сразу все придет в движение. Тотчас оживет его личный персонал: секретари, помощники, референты, тихо сидящие сейчас в соседних комнатах в ожидании, что президент вызовет кого-нибудь из них, попросит разъяснений или передаст очередной документ, подписанный инициалами «Ф. Д. Р.», которые уже стали историческими…
У президента был отличный, воспитанный им и, главное, беззаветно преданный ему штат ближайших помощников.
Как правило, он не менял людей, и никто не уходил от него по доброй воле.
Давно, очень давно, еще будучи помощником военно-морского министра, Рузвельт стал пользоваться услугами опытных журналистов Стива Эрли и Марвина Макинтайра, однофамильца личного врача президента. Генерал-майор Эдвин М. Уотсон по прозвищу «Па» — ветеран первой мировой войны — появился в Белом доме в начале «рузвельтовской эры» и осуществлял связь между Рузвельтом и военным министерством. Он умер на крейсере «Куинси» по дороге из Ялты. Луис Хау, уродливый, рано облысевший гном, неряшливо одетый, часто немытый, сочетал в себе изощренность профессионального политикана с талантом журналиста и редактора. По словам Эллиота, сына Рузвельта, именно Луис Хау придумал в свое время название «мозговой трест». Да, Хау верно служил президенту — жаль, что его уже нет в живых… Как нет и Марвина Макинтайра… Заменивший его журналист Билл Хассетт из Вермонта, прозванный «Дьяконом» или «Ходячей энциклопедией», был способен ответить, кажется, на любой вопрос.
У президента были преданные ему технические сотрудники. Его личного секретаря Маргарет Лихэнд уважал весь Белый дом. Когда она умерла, на смену ей пришла Грэйс Талли, работавшая раньше под ее началом. Грэйс отлично справлялась со своими новыми обязанностями. Луиза Хэкмайстер по прозвищу «Хэкки» управляла коммутатором Белого дома и умела из тысячи голосов мгновенно узнать единственный, нужный президенту. Дороти Брэйди помогала Грэйс Талли и в случае необходимости заменяла ее.
Все эти люди были беззаветно преданы Рузвельту. Почему? Может быть, они дорожили своей близостью к Белому дому или их прельщало высокое жалованье? Нет! Ведь и о самом Рузвельте говорили, что он вовсе не так уж богат и весьма бережлив. Конечно, бедным его никто не считал. В сентябре 1941 года, после смерти его матери Сары, он стал полным хозяином Хайд-Парка — родового имения семьи Рузвельтов под Нью-Йорком. Помимо полагающихся президенту 75000 долларов ежегодного жалованья, он получал еще 25000 долларов на «представительские расходы». Относительно небогатым можно было его назвать лишь по сравнению с мультимиллионерами большого, бизнеса. Но это вовсе не делало его скупым, хотя о бережливости Рузвельта в Америке ходили легенды, — просто и он сам и жена его Элеонора руководствовались принципом, который он однажды высказал: «Человек должен жить в достатке, но без излишеств».
Рассказывали, что президент Гувер, покидая Белый дом и уступая место Рузвельту, вывез, как это было принято, все лично принадлежавшие ему вещи. То, что осталось, представляло собой полную рухлядь, которую следовало бы немедленно выкинуть. Рузвельт не разрешил выбросить ни одного стула, если на нем еще можно было сидеть, ни одного стола, если на нем еще можно было писать.
Да что там столы и стулья! Некоторые из близких к Белому дому людей по секрету рассказывали, что ни один костюм, ни одно платье, принадлежавшие членам семьи Рузвельтов, никогда не выбрасывались. Сам Рузвельт, его мать Сара и жена Элеонора всякий раз осматривали каждую вещь и определяли, может ли она еще пригодиться… Короче говоря, Рузвельт не бросал денег на ветер. Жалованье, которое получали его сотрудники, вряд ли достойно вознаграждало их за тот огромный труд, который они выполняли.
Что же в таком случае удерживало этих людей в Белом доме? Ведь почти каждый из них, имея за спиной немалый стаж работы в аппарате президента, мог бы занять более ответственное и, главное, гораздо выше оплачиваемое место в каком-нибудь другом государственном учреждении, не говоря уже о частных фирмах.
Много лет назад Рузвельт подарил своим близким сотрудникам золотые запонки. На одной их половинке были выгравированы инициалы «Ф. Д. Р.», на другой — инициалы владельца. Билл Хассетт шутливо назвал обладателей этих запонок «запоночной бандой». Но, конечно, не запонки удерживали людей рядом с президентом.
Что же в конце концов их привлекало? Вероятно, принцип, неизменно провозглашавшийся Рузвельтом: «Если хочешь иметь друзей, умей быть другом сам».
Да, этот девиз имел немаловажное значение, тем более что он осуществлялся практически. Но, может быть, важнее всего была феноменальная личность Франклина Делано Рузвельта, пораженного неизлечимой болезнью и в то же время находившего в себе силы для бурной политической деятельности…
Возвратившись из Ялты, Рузвельт так и не мог заставить себя взяться за документы. Сидя за письменным столом в Овальном кабинете, он не вызывал никого из своих сотрудников.
…Прошла неделя, другая, третья.
Все, кто видел президента накануне отъезда в Советский Союз, с трудом узнавали прежнего Рузвельта.
Его изможденное лицо, полуоткрытый рот, затрудненное дыхание, медленные движения рук — все говорило о том, что состояние здоровья президента резко ухудшилось.
И это действительно было так.
Рузвельт пытался преодолеть физическую слабость, мысленно возвращаясь в далекую Ялту и черпая силы в сознании, что Конференция прошла успешно, что внесен, быть может, решающий вклад в дело мира, что отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами укрепились.
В другое время президент сразу накинулся бы на почту, накопившуюся в Белом доме за время его отсутствия. Почта была огромная. Документы, подготовленные клерком Латтой, вместе с письмами министров, конгрессменов и других политических деятелей, тщательно отобранными Грэйс Талли, образовали внушительную бумажную стопу.
Талли первая обратила внимание на то, с какой неохотой Рузвельт принялся листать документы. То и дело он откидывался на спинку кресла и неподвижно сидел с закрытыми глазами. Дремал? О чем-то размышлял?
…Стопка бумаг на президентском столе лежала нетронутой. Телефоны прямой связи в комнатах секретарей и помощников по-прежнему молчали. Не слышала президентского голоса в телефонной трубке Луиза Хэкмайстер. Но никто из них не догадывался, что президента сковывала не только физическая усталость. Рузвельт чувствовал, что главный источник, из которого он до этого черпал свои силы — успех Ялтинской конференции, — постепенно иссякает. Он не прикасался к документам не только потому, что ему осточертела вашингтонская рутина, требовавшая от него подписи даже на приказах о назначении почтовых чиновников. Он не мог заставить себя взяться за документы еще и потому, что хорошо знал, какой из них лежит сверху и что на него необходимо ответить в первую очередь.
Это было письмо Сталина от 27 марта 1945 года.
Рузвельт, конечно, знал его содержание во всех деталях. Такие письма не откладываются, их читают тотчас по получении.
Прочитав это письмо, Рузвельт испытал самые противоречивые чувства: стыд, неприязнь к Сталину, намерение послать резкий ответ и вместе с тем желание написать так, чтобы свести назревающий конфликт к нулю.
Нет, Рузвельта беспокоила не очередная размолвка со Сталиным, такие размолвки — не без активного участия Черчилля — случались и раньше. В свое время президент расходился с советским лидером и по более важным поводам — например, по вопросу о втором фронте. Но те расхождения имели место в разгар войны, когда победа еще была скрыта от мира клубами порохового дыма. Сейчас война шла к концу. Русские приближались к Берлину. Окончательный разгром Гитлера стал вопросом месяцев, может быть, даже недель. Еще одна, заключительная встреча «большой тройки» — после капитуляции Германии — должна была по замыслу Рузвельта стать как бы началом воплощения в жизнь его заветной идеи: покончить с историей как с летописью бесконечных войн и начать новый, мирный этап развития человечества. Он мечтал о добрых отношениях с Россией, о ликвидации колониализма на земном шаре и торжественном признании Объединенных Наций верховным судьей в решении всех международных конфликтов.
Что же писал Сталин в своем письме американскому президенту? Оно содержало всего три абзаца. Сталин отказывался прислать на предстоящую в Сан-Франциско Конференцию министра иностранных дел Советского Союза. Он извещал Рузвельта, что советскую делегацию возглавит посол СССР в Америке А. А. Громыко. Впрочем, Рузвельт уже знал об этом решении Сталина от самого Громыко.
Это был удар по задуманному Рузвельтом, хотя еще и не построенному зданию Организации Объединенных Наций.
Дело было не в личностях. Президент ценил ум и серьезность посла СССР в США и знал, каким авторитетом он пользуется у советских коммунистов. Может быть, с ним даже легче было бы иметь дело, чем с негибким Молотовым.
Но в данном случае речь шла о престиже. Британскую делегацию было поручено возглавлять министру иностранных дел Антони Идену. Американскую — государственному секретарю Эдуарду Стеттиниусу. На том же уровне должны были возглавляться делегации других стран. Кроме… Судя по письму Сталина, кроме Советского Союза.
Разумеется, это была демонстрация. Письмо Сталина свидетельствовало не только о том, что в «большой тройке» существуют разногласия. Оно содержало невысказанный упрек самому Рузвельту. Американский президент так активно популяризировал идею создания Организации Объединенных Наций, что его намерение приписать себе главную заслугу в этом деле выглядело совершенно очевидным.
Рузвельт не собирался упрашивать Сталина, чтобы он изменил свое решение.
Но он хорошо понимал, что сталинский демарш является не просто капризом, а ответом на обиду, нанесенную не только ему, но и всему Советскому Союзу. В своем ответном послании он намеревался убедить Сталина в том, что «бернский инцидент» является не больше чем «недоразумением». Ведь эти переговоры велись на уровне штабных офицеров невысокого ранга. В Швейцарии, где эти переговоры происходили, будет немедленно произведено расследование, и Советский Союз, конечно же, получит исчерпывающую информацию о его результатах…
Рузвельт тщетно пытался ввести в заблуждение не только Сталина, но и самого себя. Ему было ясно, что причиной глубокой обиды Сталина послужил не только «бернский инцидент».
Дело было серьезнее и глубже. После встречи в Ялте три державы — ее участницы — объявили о ней на весь мир, как о торжестве единства и согласия по всем главным обсуждавшимся вопросам. Но буквально на следующий день после окончания Ялтинской конференции британские и американские газеты начали яростную антисоветскую кампанию. Они пытались внушить народам мира мысль, что по таким, например, вопросам, как будущее Польши, да и других восточноевропейских стран, согласие вовсе не было достигнуто.
Допустим, Сталин мог расценить это как уже привычную антисоветскую газетную истерику.
Но Сталин не мог не знать, кто эту истерику вдохновлял. А вдохновлял ее Уинстон Черчилль.
На столе у президента лежали копии посланий, направленных Черчиллем Сталину. Решения Крымской конференции подвергались в них неприкрытой ревизии, а «бернский инцидент» вообще отрицался. «Похоже что сейчас у нас имеются довольно большие затруднения с тех пор, как мы расстались в Ялте, — писал Черчилль, — но я полностью уверен, — лицемерно добавлял он, — что все они были бы развеяны, если бы мы могли встретиться вновь».
По просьбе Черчилля Рузвельт отправил Сталину свою переписку с английским премьером. В ней президент фактически поддерживал своего британского союзника. Тем самым Рузвельт скомпрометировал себя в глазах Сталина.
Теперь душу Рузвельта раздирали мучительные противоречия. По правде говоря, он вовсе не был так уж заинтересован в том, чтобы победа Советского Союза над Гитлером полностью обеспечивала безопасность Страны Советов в послевоенное время. Но, будучи умным и логически мыслящим человеком, он понимал, что, ведя переговоры о послевоенном положении России, нельзя забывать о той страшной цене, которую ей пришлось заплатить за свою победу. Он пытался останавливать Черчилля, когда тот, казалось бы, глядя вперед, на самом деле мечтал о возврате к прошлому.
Вместе с тем Рузвельт, очевидно, был бы не прочь с помощью Черчилля вырвать у большевиков хоть часть их завоеваний. Пусть это будет не «санитарный кордон», размышлял про себя Рузвельт, а хотя бы «потенциальный барьер», своего рода «предполье», которое можно было бы использовать при первой надобности.
Но размышлять про себя — это одно, а мириться с непростительно бестактными демаршами Черчилля — совсем другое…
О, как Рузвельт ненавидел в эти минуты Черчилля! За высокомерие, за помпезность, за неумение и, главное, нежелание скрывать свои антидемократические взгляды, за напыщенные фразы о том, что, став премьером британской империи, он не желает «председательствовать» на ее «ликвидации»… Черчилль не переставал кричать на весь мир, что Британия не отдаст ни одну из своих колоний, он пытался реставрировать империалистический лозунг «Правь, Британия!»… И все это буквально на следующий день после Ялтинской конференции, где тот же Черчилль оглушал всех тостами в честь победы Советской России и называл Сталина «великим»!
Рузвельт всегда считал британского премьера непомерно самоуверенным и самовлюбленным. Но что было делать? Оба они принадлежали к одному и тому же лагерю и, разумеется, нуждались друг в друге.
Рузвельт чувствовал, что должен сделать какой-то шаг, который отделил бы его от Черчилля. Нет, не отделил, но хотя бы подчеркнул разницу между ними. Но какой именно шаг? Публично осудить Черчилля он не мог. Это означало бы крах коалиции. Конфиденциально выразить Сталину свое мнение о «старике» Рузвельт тоже не мог. Это было бы предательством. К тому же оно быстро получило бы огласку. Что же оставалось делать?
Рузвельт вызвал Сэма Розенмана — верного помощника, работавшего с ним с конца двадцатых годов. Розенману чаще других поручалось готовить проекты речей президента.
Рузвельт хотел, чтобы вместе с Розенманом пришел Гопкинс, один из самых доверенных советников президента, но Гаррн был все еще болен — в Алжире, по пути из Ялты, он был вынужден перебраться с крейсера «Куинси» на самолет, чтобы поскорее достичь Америки и лечь в больницу.
— Прочти это, Сэм, — сказал Рузвельт Розенману, когда тот появился в Овальном кабинете.
Он стал вставлять очередную сигарету в свой длинный мундштук, одновременно наблюдая за выражением глаз Розенмана.
Но разглядеть ему ничего не удалось — близорукий Розенман почти касался бумаги стеклами своего пенсне.
Наконец, прочитав послание, он положил его на стол и спросил:
— Вы хотите, чтобы я подготовил ответ, мистер президент?
— Я хочу, чтобы сначала мы обменялись мнениями, — раздраженно ответил Рузвельт. — Как, по-твоему, следует относиться к посланию дяди Джо? Совсем недавно мы расстались друзьями. А это письмо пропитано желчью. Что сие означает? То, что Сталин писал его в плохом настроении, или то, что это конец искренности и прямоты, которые установились между нами? Сядь, не возвышайся надо мной, словно египетская пирамида.
— Это сложный вопрос, мистер президент. Если кто-нибудь и может дать более или менее правильный ответ, то это вы сами.
— Не говори загадками!
— А я и не говорю загадками. Никто лучше вас не может сказать, остались ли вы сейчас, когда победа русских близка, таким же другом России, каким были в разгар войны. И заинтересован ли Сталин в вашей дружбе сегодня так же, как и в ту пору, когда он нуждался во втором фронте, ленд-лизе и так далее. Короче говоря, речь идет о том, насколько ваши взгляды на будущее мира, на роль Америки и России в послевоенном устройстве сблизились и насколько отдалились. Я понимаю, вы в состоянии ответить только на тот вопрос, который относится прямо к вам. К сожалению, мы не можем сделать так, чтобы Сталин появился здесь и ответил на вопрос, относящийся к нему…
— Не валяй дурака, Сэм, — хмурясь, произнес Рузвельт. — Я содрогаюсь при мысли, что произойдет с человечеством, если вторая мировая война не закончится прочным миром. Ведь когда сегодняшние дети достигнут призывного возраста, может вспыхнуть новая война…
Розенман покорно опустил голову. Эти слова были ему хорошо знакомы — по требованию президента он включил их в речь, которую Рузвельт произнес в конгрессе в начале 1943 года.
— Вы уверены, что Сталин также вдохновлен идеями послевоенной дружбы в мире? — спросил Розенман.
— Не играй роль Черчилля, Сэм! Я уже в Ялте устал от его самоуверенного скептицизма.
— Я играю роль Гарримана.
Рузвельт понял, что имеет в виду Розенман. Аверелл Гарриман, назначенный послом США в Москве в 1943 году, отличался лояльностью к Советскому Союзу, что немало помогало Рузвельту проводить в конгрессе решения о помощи сражающейся России. Но теперь Гарриман прислал в государственный департамент доклад, в котором высказывал сомнения по поводу того, как поведут себя русские после победы.
— Ты считаешь, что письмо Сталина свидетельствует о правоте Гарримана? А что, если Сталин просто обижен нашими действиями и как союзник и просто как человек? Короче говоря, — сам оборвал себя Рузвельт, — я не знаю, что ответить ему и в каком тоне.
— Вы хотите, чтобы я набросал проект ответа?
— Нет… — после короткой паузы ответил Рузвельт, — я должен подумать сам. В конце концов ведь это я получаю семьдесят пять тысяч в год, — добавил он с усмешкой. — Словом, извини меня, Сэм, но я еще должен подумать.
…Уезжая из Ялты, Рузвельт считал, что дружеские или по крайней мере лояльные отношения между Соединенными Штатами и Советской Россией, несмотря на все существующие разногласия, обеспечивают будущий мир. Он не сомневался, что и Сталин думает так же. Однако вскоре после того, как главы трех держав покинули Крым, между ними возникли острые противоречия, и прежде всего по польскому вопросу. Черчилль бомбардировал Рузвельта письмами и телеграммами. Он настаивал, чтобы союзники отправили Сталину энергичное послание, в котором обвинили бы Советский Союз в том, что он не выполняет ялтинское соглашение относительно Польши. Конечно, Рузвельт был слишком умен и проницателен, чтобы не понимать, каковы истинные мотивы тревоги Черчилля. «Польский вопрос» был для Черчилля прежде всего «английским вопросом». Что бы там ни было решено в Ялте, английский премьер добивался реорганизации существующего Временного правительства Польши, а еще лучше — замены его эмигрантским, почти неприкрыто антисоветским «правительством», которое все еще функционировало в Лондоне. Черчилль хотел бы восстановить довоенный «санитарный кордон» на западных границах России, чего нельзя было достичь, не подчинив Польшу английскому влиянию.
Черчилль денно и нощно твердил о том, что над Польшей нависла угроза «большевизации». Эта перспектива, конечно же, не улыбалась и американскому президенту. Но он никогда не был таким яростным антикоммунистом, как Черчилль. Решительно расходясь с Советами во взглядах на социальный строй, на образ жизни, на религию, Рузвельт считал наивным, да и просто несправедливым требовать от страны, которая понесла такие жертвы в борьбе за свое существование, чтобы она отказалась от всех плодов победы, завоеванных ее народом.
Так считал Рузвельт. Но Черчилль рассуждал иначе. Над ним витал призрак распадающейся британской империи. Английские газеты писали не о важности союза с Советами, а о том, что необходимо приостановить продвижение советских войск в Европе. Английским газетам вторили американские. Больше всего разговоров было о Польше. Газеты играли на национальном самолюбии нескольких миллионов поляков, проживавших в Соединенных Штатах. Им всячески внушалось, что Советский Союз собирается вернуться к политике царской России, лишить Польшу политической самостоятельности, которой она якобы обладала до войны.
В первые годы его президентства американские газеты обвиняли Рузвельта в том, что он намеревается превратить Соединенные Штаты в коммунистическое государство. Теперь они обвиняли его в тайном сговоре со Сталиным, в неоправданных уступках ему. В молодые годы Рузвельт относительно спокойно переносил наладки, даже травлю. Теперь, когда он устал и был измучен болезнью, несправедливые газетные наскоки лишали его сна и покоя.
Рузвельт вялым, безнадежным взглядом обвел свой кабинет, чтобы хоть как-нибудь отвлечься от лежавших перед ним бумаг.
Со стен на него по-прежнему смотрели картины с изображенными на них речными и морскими пейзажами. На одной из картин — в большой раме — по Гудзону плыл старинный пакетбот.
На полу, справа от письменного стола, стояла, как всегда, красная миска, из которой президент любил самолично кормить своего шотландского терьера Фалу. Рядом валялись носок, набитый тряпьем, красный резиновый мяч — любимые игрушки Фалы.
«Может быть, заняться другими бумагами?» — подумал Рузвельт. Их было предостаточно. Но президент не мог перейти к второстепенному, не покончив с главным. А как покончить с ним, президент не знал. Как объяснить Сталину, что ему, Рузвельту, подчас приходится совмещать несовместимое, что он искренне хочет создать такую послевоенную Америку, которая служила бы всему миру примером для подражания и в то же время никому не навязывала своего примера ни угрозами, ни тем более силой…
Как объяснить Сталину, что он, Рузвельт, не может не считаться с существующим в Америке могущественным кланом, который ради сегодняшней выгоды, не раздумывая, пожертвует будущим не только своей страны, но и всего мира…
В разные годы жизни Рузвельта газеты множество раз писали о нем как о самоуверенном «боссе», называли его диктатором…
Был ли тридцать второй президент Соединенных Штатов Америки самоуверенным человеком?
Скорее всего, да. Ему всегда казалось, что он видит людей насквозь, мгновенно разгадывает их истинные помыслы, имеет право каждый раз поступать по-своему.
Считал ли Рузвельт себя диктатором или мессией, ниспосланным на землю для того, чтобы вести людей по пути, который известен только ему одному?
Подобная мания величия была чужда Рузвельту.
История знает выдающихся философов, но ей известны также выдающиеся прагматики. Именно таким выдающимся прагматиком и был Франклин Делано Рузвельт. Его прагматизм нередко совпадал с велениями Истории. Это означало, что президент был наделен исключительной способностью верно оценивать соотношение сил на внутренней и международной арене, быть справедливым, если, конечно, эта справедливость не противоречила интересам тех социальных институтов, в духе которых он воспитывался с детства.
Рузвельт никогда не считал себя мессией. Он просто верил в то, что сама История предоставила ему возможность улучшить жизнь миллионов американцев. Чтобы не упустить эту возможность, он считал своим долгом добиваться мира и взаимопонимания на земле.
Но сейчас Рузвельт никак не мог найти правильного решения. Как он должен поступить? Передать инициативу Черчиллю? Но это означало бы превратить конфликт со Сталиным в окончательно неразрешимый, закрепить его на долгие годы. Прямо и честно признать правоту Сталина? Но, помимо удара по собственному самолюбию, это значило бы вступить в острый и также неразрешимый конфликт с Черчиллем…
Наутро первым появился в спальне президента вице-адмирал Росс Макинтайр.
Президентов США всегда обслуживали военные врачи. Почему? Во-первых, им не платили гонорара. Во-вторых, на военного врача можно было спокойно положиться: он хранил в тайне все сведения о здоровье его пациента. По специальности Макинтайр был отоларингологом, но Рузвельт ценил его широкий медицинский кругозор. К тому же вице-адмирал мог привлекать дли консультации любого из военных врачей.
Невысокий, плотный человек в мундире военно-морских сил, в огромной, сияющей золотом фуражке, улыбаясь, откозырял президенту.
— Хэлло, док! — дружелюбно приветствовал его Рузвельт.
— Доброе утро, мистер президент, — ответил Макинтайр, снимая и кладя фуражку на невысокую тумбочку. Затем он присел на край кровати.
Последовало рутинное обследование: измерение пульса, кровяного давления, выслушивание стетоскопом.
— Все более или менее в норме, сэр, — сказал Макинтайр. — Есть ли какие-нибудь особые жалобы?
— Мне кажется… Со мной что-то происходит. Не знаю, что именно… — тихо произнес Рузвельт.
— Наконец-то вы пришли к такому выводу, сэр. Вам необходим длительный отдых.
— Но я должен в ближайшее время поехать в Сан-Франциско. Готовится полет в Лондон. Кроме того, я собираюсь побывать на Дальнем Востоке.
— А на Луну, сэр, вы не собираетесь? На Марс?
— Не шутите, док. Я хочу своими глазами увидеть разгром Японии.
— Категорически настаиваю, чтобы вы отменили все свои планы.
— Не могу!
— А я, пользуясь своим правом врача, настаиваю, — твердым генеральским голосом сказал Макинтайр.
— Док, вы знаете анекдот про одного вашего коллегу?
— Я знаю кучу анекдотов про врачей. Какой вы имеете в виду?
— Пациент жаловался на плохой слух. «Выпиваешь?» — спросил врач. «Прикладываюсь». — «Так вот, если не хочешь совсем оглохнуть, кончай пить». — «Док — ответил больной, — мне куда больше нравится то, что я пью, чем то, что я слышу». Лучше уж я буду работать, а не бездельничать, — с улыбкой добавил Рузвельт.
— Но вы нездоровы!
— Не надо меня пугать, док. Я отлично знаю, что никаких органических заболеваний у меня нет.
— Тем не менее вы на грани нервного срыва, — нахмурившись, возразил врач. — Переутомление имеет токсический эффект.
— У вас есть средство против переутомления для президента Соединенных Штатов? — насмешливо спросил Рузвельт.
— Для Франклина Делано Рузвельта есть.
— Как называется это средство?
— Отдых. Скажем, в Уорм-Спрингз.
— В Джорджии? Вы с ума сошли, адмирал! — резко сказал Рузвельт. — Не забывайте, что, кроме всего прочего, я должен принять здесь, в Вашингтоне, президента Филиппин. Я обещал ему…
— Ваше здоровье дороже всех Филиппин в мире! Мало ли что вы кому-нибудь обещали!
— А как вы думаете, док, — помолчав спросил Рузвельт, — этот филиппинец согласится приехать в Уорм-Спрингз?
— Он отправится в Сахару, если вы там окажетесь, сэр… Но я не понимаю, зачем он вам понадобился?
— Он мне очень нужен, док… — задумчиво произнес Рузвельт. — Очень, очень нужен!..
…Зачем же был нужен Рузвельту филиппинский президент?
После того, как американские войска освободили острова от японской оккупации, новый президент Филиппин Серхио Осменья хотел получить из рук президента США давно планировавшийся статут независимости, Америка еще в 1934 году предоставила Филиппинам автономию. Но теперь настало время предоставить им полную государственную независимость. Филиппины будут первой колонией в мире, американской колонией, которая получит независимость из рук Америки! Это станет известно всему миру! Весь мир будет говорить: «Черчилль — старый империалист. Он хочет восстановить рабство миллионов людей. Сталин — красный. Кто их знает, этих красных! Может быть, она и в самом деле хотят превратить Восточную Европу в свою колонию! Но Америка!.. Но Рузвельт!.. Вот у кого теперь чистые руки! Вот кто освобождает свою бывшую колонию и тем самым показывает пример всему миру!»
Поэтому Рузвельту и нужен был филиппинский президент, поэтому Рузвельт и обещал принять его в Вашингтоне.
…Позавтракав в постели, президент распорядился, чтобы его побрили, одели, пересадили из кровати в коляску и доставили в Овальный кабинет.
С десяти часов утра обычно начинался прием посетителей. И сейчас президента ожидали в приемной два министра, несколько генералов из Комитета начальников штабов.
Но Рузвельт, казалось, забыл об их существовании. Оказавшись в своем кабинете, он снова попытался взяться за дела.
Он писал. Перечитывал, рвал исписанные листки, бросал их в корзину. Начинал снова…
Это был проект послания Сталину.
Поручая своим помощникам написать проект того или иного документа, Рузвельт привык четко высказывать мысли, которые должны были лечь в его основу. Представленный ему текст он всегда тщательно редактировал, вписывал фразы, добавлял целые абзацы. Нередко он требовал, чтобы все было в корне переработано.
Но содержание документа он с самого начала формулировал точно и ясно. На этот же раз он не мог определить главную идею предполагаемого послания. Даже мысленно, даже наедине с самим собой.
Простота и человечность сочетались в характере Франклина Делано Рузвельта с хитростью, точнее — изощренностью, столь необходимой для того, чтобы выбрать наиболее верный и выгодный путь в политических джунглях такой страны, как Соединенные Штаты Америки. Откровенность соседствовала со скрытностью, демократизм — с властностью. Искреннему желанию видеть простых людей Америки процветающими и счастливыми противостояла забота о благополучии большого бизнеса. Рузвельт был как бы слугой двух господ — американского народа и американских монополий.
Да, он хитрил, далеко не всегда говорил то, что думает, создавал выгодные ему политические коллизии, вступал в соглашения и даже в сделки с людьми, которых презирал. Но на предательство, на удар ножом в спину Рузвельт был неспособен.
Теперь, заставляя себя работать над ответом Сталину, он тщетно пытался совместить несовместимое. Открыто, без обиняков, признать, что Сталин был прав, президенту по-прежнему не позволяли гордость и самолюбие. А обвинить Сталина в том, что он нарушает ялтинские решения о Польше, высказать обиду на советского лидера, отказавшегося послать в Сан-Франциско своего министра иностранных дел, и при этом умолчать о «бернском инциденте» Рузвельту не позволяла совесть.
В душе президента как бы жили и ожесточенно спорили друг с другом два человека.
Один всем сердцем сочувствовал России, истекавшей кровью в борьбе против общего врага, России, принесшей неисчислимые жертвы на алтарь уже близкой теперь победы, России, которую столько раз обманывали, обещая открытие второго фронта. Этот человек полностью осознавал правомерность стремления русских обеспечить безопасность своей страны на послевоенное время…
Но другой человек ожесточенно поддерживал Черчилля, упорно повторял заклинание о «коммунистической угрозе», об опасности «большевизации» Европы…
С одной стороны, Рузвельт, ознаменовавший свое первое президентство признанием Советской России, Рузвельт, ненавидевший гитлеровский фашизм, Рузвельт, восхищавшийся героизмом и мощью Красной Армии, Рузвельт, воздававший должное Сталину и в Тегеране и в Ялте, не сомневавшийся в преданности Сталина единству союзников и в военное и в послевоенное время…
И с другой стороны, Рузвельт, родившийся в Хайд-Парке, ученик привилегированной Гротонской школы, студент аристократического Гарвардского университета, Рузвельт, с молоком матери впитавший мысль об опасности «безбожного коммунизма»…
Схватка этих двух людей в душе президента на сей раз закончилась вничью. Рузвельт решил отложить работу над посланием. Он откинулся на спинку кресла и постарался забыть обо всем — о Ялте, о Сталине, о Черчилле, о Польше, о Европе, вообще обо всем на свете.
Но это ему не удавалось. Наверное, Макинтайр прав: надо отдохнуть, а то и в самом деле можно дождаться нервного срыва…
И вдруг неожиданная мысль пришла в голову президента. Его внимание привлек прибор, стоявший на письменном столе. Президент видел его каждый день, постоянно пользовался им, привык к нему, как к любому другому предмету в Овальном кабинете.
Это был селектор.
Достаточно было нажать одну из круглых цветных кнопок на белой панели селектора, как нужный Рузвельту сотрудник аппарата немедленно являлся в Овальный кабинет.
В последнее время президент как будто забыл об этом приборе. И вдруг… Неожиданно, быть может, даже для самого себя он резким движением опустил на кнопки ладони обеих рук…
Первым явился Стив Эрли. Обязанности его состояли в том, чтобы поддерживать связь с прессой. Потом пришли секретари президента Билл Хассетт и Грэйс Талли. Пришла даже Лила Стайлз, которая ведала исходящей почтой президента, а вслед за ней Мэри Ибэн, составлявшая каталоги гигантского количества книг, которые Рузвельт получал в подарок от авторов и издательств.
Торопливо вошла «главная красавица» Белого дома Дороти Брэйди, помогавшая и порой сменявшая Грэйс Талли, за ней появился Морис Латта. Последним пришел Росс Макинтайр. Как и когда вошел Майк Рилли, никто не заметил. Он работал с 1935 года сотрудником личной охраны президента, а в декабре 1941 года — после ухода в отставку полковника Эда Старлинга, возглавлявшего охрану, — занял его должность.
Не пришла только Луиза Хэкмайстер: она не могла оставить коммутатор Белого дома.
Расселись без протокола. Некоторое время Рузвельт молча смотрел на собравшихся. Его взгляд был печален. О чем он думал? Может быть, о том, что среди собравшихся нет ни «Па», как он ласково называл своего недавно скончавшегося друга — генерала Уотсона, ни Маргарет Лихэнд, которая была секретарем Рузвельта с 1920 года…
Но, вспоминая отсутствующих, Рузвельт даже мысленно не произносил слово «смерть». «Па» и Маргарет не умерли. Вообще никто не умирает. Люди уходят с поста. По возрасту. По болезни. Чтобы уступить место тем, кто успел себя зарекомендовать и пришел им на смену. Уходят куда-то и смотрят издалека, как работают их преемники. Радуются их успехам. Сожалеют о промахах. Безмолвно соревнуются в своей любви и преданности президенту.
Мистика? Никакой мистики! Просто Рузвельт хотел верить, что преданные ему люди уходят, но не умирают. Во всяком случае, умирают не до конца…
Каждый из сотрудников президента был уверен, что вызов относился только к нему. Оказавшись в Овальном кабинете, люди с недоумением переглядывались и бросали тревожные взгляды на сумрачное лицо президента.
— Друзья мои, я хотел бы поговорить с вами, — сказал Рузвельт, когда все расселись. — Я информировал конгресс и кабинет министров об итогах Ялтинской конференции. Как вам известно, итоги эти, в общем, вполне удовлетворительны и внушают надежду, что наш тройственный союз будет продолжаться и в мирные дни. Но война еще не кончена. Кроме того, между союзниками, точнее, между нами и Россией, возникли некоторые… ну, скажем, недоразумения. Они не касаются конечных целей войны — тут мы едины. Речь идет о некоторых вопросах стратегии и тактики…
Рузвельт говорил подчеркнуто звонко, скорее тенором, чем характерным дли него высоким баритоном. Кто знает, может быть, он хотел этим продемонстрировать, что по-прежнему бодр и силен…
В кабинете стояла абсолютная тишина. Затаили дыхание женщины. Стараясь быть незаметным, как бы вдавился в стену Майк Рилли. Он слушал президента и в то же время ловил каждый звук, доносившийся с Пенсильвании-авеню, на которой располагался Белый дом.
— Сейчас я вдруг вспомнил, — продолжал президент, и на лице его впервые за все эти дни появилась широкая улыбка, — о давно забытой нашей традиции. Те, кто пришел к нам недавно, могут не знать, что называлась она «Детский час».
Рузвельт сделал паузу. По улыбкам одних людей было ясно, что они хорошо понимают, о чем говорит президент. Другие смотрели на него вопросительно.
— В былые времена мы регулярно собирались здесь, чтобы свободно поговорить о чем угодно. Помните? О политике. О поведении того или иного сотрудника. Каждый мог попросить совета, касающегося не только его служебных обязанностей, но и личной жизни. Но… времена изменились, и мы перестали собираться… Перестали!.. — с грустью повторил президент. — Словно забыли, что мы одна семья. Кто из вас, например, помнит, когда состоялся последний «Детский час»?
— В 1936 году, — тихо сказала Грэйс Талли.
— Грэйс, детка, у тебя память… шахматистки! — пошутил Рузвельт. — Но так легко ты не отделаешься, раз уж подала голос. Попробуй-ка вспомнить, о чем мы говорили во время последнего «Детского часа»!
— Кажется, вы хотели предупредить нас, — неуверенно произнесла Талли, — чтобы мы, пользуясь доступом к служебным материалам Белого дома, начисто исключили всякую утечку информации.
— Разве для этого был повод? — все с той же улыбкой спросил Рузвельт.
— Что вы, господин президент! — раздался чей-то возмущенный голос.
— Нет, нет, друзья, я собрал вас не для того, чтобы вспоминать давние прегрешения, даже если они и были… Я собрал вас, чтобы посоветоваться с вами. При этом я жду полной искренности. Искренности и прямоты, несмотря ни на что.
Рузвельт помолчал.
— Должен признаться вам, друзья, что я чувствую, как внимательно вы наблюдаете за мной после возвращения из Ялты. А я — не скрою от вас — столь же внимательно наблюдаю, как вы наблюдаете за мной. Так вот, скажите прямо и откровенно: видите ли вы во мне какие-нибудь перемены? Кое-что я вижу и сам. Мне, например, не очень хочется работать. Эту груду бумаг, — Рузвельт обвел руками свой стол, — я должен был по крайней мере хотя бы прочитать уже несколько дней назад… Каждый день я стараюсь заставить себя работать. Думаю, что уж сегодня-то все будет в порядке. Мой друг Артур Приттиман переносит меня с постели в коляску, привозит сюда, усаживает за стол и… уходит. Но я знаю, что он не ушел. В дверную щелку он смотрит, бросаюсь ли я на бумаги, как проголодавшийся лев, или следую примеру Фалы, а мой пес, как вы знаете, кусочка не проглотит, если он ему не по вкусу.
Президент снова сделал паузу и тихо постучал пустым мундштуком по пачке сигарет.
— Хочу открыть вам секрет, — продолжал он. — Вы знаете, что я могу заснуть почти сразу же после того, как лягу в постель. Я давно приучил себя к этому. Но я приучил себя и к другому. Когда я лежу с закрытыми глазами, может показаться, что я сплю. Но на самом деле я не сплю. Я подвожу краткие итоги дня. Если я сознаю, что кое-что из намеченного не сделано, да к тому же по моей вине, это меня угнетает. Все говорят, что я самоуверенный человек. Не буду этого отрицать. Вы помните, нет такого бранного слова, которого не произносили бы по моему адресу. Это было еще в те времена, когда мы начали проводить «Новый курс». Продажная пресса называла меня «красным», «радиопоп» Кофлин истерически кричал на всю страну, что я личный представитель дьявола на земле. Впоследствии Гитлер именовал меня выжившим из ума паралитиком и евреем — Розенфельдом. Но, несмотря ни на что, мы побеждали. А сейчас мы — накануне великой победы над самым страшным врагом мира, демократии и самого господа бога. Поддаться усталости в эти дни — значит оказаться предателем. Предателем своей страны, миллионов простых американцев, четыре раза отдававших мне свои голоса. Предателем по отношению к вам, людям, без которых я не мог бы делать то, что делал на благо Америки. Вот я и хочу спросить вас, друзья мои, замечаете ли вы во мне какие-нибудь перемены? Изменился ли я к худшему? Пусть не обижается мой ученый друг доктор Макинтайр. Вы знаете, Росс, как я ценю ваши советы. Но сейчас я нуждаюсь не в медике, а просто в людях, знающих меня многие годы. В людях, которые никогда не лгали мне и которым я никогда не лгал. Мне нужен ваш откровенный и прямой ответ. Я слушаю вас, друзья.
Рузвельт умолк и тяжело откинулся на спинку кресла.
Все молчали.
Да и что они могли сказать? Разве не видели они, как изменился президент? Сколько новых морщин появилось на его лице. Как дрожала его рука, когда сжимала перо. Как терял былую звонкость голос.
Каждый, кто видел президента сразу после ночного сна, будь то Приттиман, Макинтайр или кто-нибудь другой, боялся устремленных на него по возвращении взглядов, в которых можно было прочесть только один вопрос: «Как он сегодня?!»
Нельзя же было всякий раз хитрить, притворяться, отвечать, что сегодня президент улыбался совсем как всегда и особенно весело задал свой обычный утренний вопрос: «Ну, что у нас на завтрак?» (хотя меню завтрака всегда оставалось одним и тем же).
И те, кто только что видел президента, и те, кто слушал их притворно бодрые ответы, знали: это была неправда.
Что же люди могли сказать Рузвельту сейчас? Лгать президенту они не хотели. Но откровенно ответить на его вопрос значило бы нанести ему, может быть, смертельный удар.
И вдруг в тишине прозвучал негромкий мужской голос. Неожиданно для всех заговорил Морис Латта. В его добросовестности и преданности Рузвельту никто не сомневался, но по роду занятий этого человека, напоминающего президенту об очередном нерешенном деле, его в шутку прозвали «главным мучителем президента». Что же он намерен сказать сейчас?
— Господин президент, — невозмутимо произнес Латта, — я позволю себе напомнить об одном не выполненном вами обещании…
После всего только что сказанного президентом слова Лапы прозвучали почти как издевательство.
— Видите ли, сэр, — продолжал Латта, — некоторое время назад вы дали личное обещание… И до сих пор его не выполнили.
— Какое еще, к дьяволу, обещание?! — возмутился Рузвельт. Бледное лицо его покраснело. — Ты хочешь, чтобы я работал и днем и ночью?..
— Выполнить это обещание ночью невозможно, — хладнокровно возразил Латта. — Это можно сделать только днем. Словом, речь идет о вашем портрете. Вы дали обещание художнице Шуматовой…
— Своих обещаний я не забываю, — сдержанно сказал Рузвельт. — Но я задал прямой вопрос и хочу, чтобы мне на него ответили. Прямо и коротко.
В разговор вступила Грэйс Талли. Пока говорил Рузвельт, она все время что-то писала.
— Я хотела бы ответить вам, господин президент, — сказала Талли.
— Я слушаю тебя. Грэйс, — с готовностью отозвался Рузвельт.
— Да, господин президент, вы выглядите несколько хуже, чем прежде. Но почему это так, можете объяснить лучше всего вы сами.
— Каким образом?
— Пока вы говорили, я кое-что подсчитала. За два месяца вы проделали путь длиною в четырнадцать тысяч миль. Точнее: тринадцать тысяч восемьсот сорок две мили. Передвижения в коляске не в счет, но их тоже не следует забывать. Могло ли это пройти бесследно для вашего здоровья? Я уж не говорю о том сверхчеловеческом напряжении, которого потребовала от вас ялтинская встреча. А до нее — тегеранская. Благодарите бога, что вы не подцепили там чуму или тиф. Но от усталости вас не может уберечь даже сам господь бог. Ваша болезнь, господин президент, называется очень просто: переутомление. Может быть, вам и впрямь следует отвлечься и дать заработать миссис Шуматовой.
Произнося последнюю фразу, Талли с особой пристальностью смотрела на президента. Рузвельт не выдержал этого взгляда и отвернулся. Он понял Грэйс. Все собравшиеся тоже поняли, что, в сущности, она предложила.
— Спасибо, друзья, — глухо сказал президент. — Вы были откровенны со мной. Я имею в виду и тех, кто говорил, и тех, кто молчал. Спасибо. Вы свободны.
…Рузвельт снова остался один. Но теперь он не испытывал такого мучительного состояния, как в минувшие дни. Радостное предчувствие охватило его. Шуматова, конечно, приедет в Уорм-Спрингз по первому его вызову. Он и в самом деле согласился позировать ей. Но вместе с художницей приедет туда еще одна женщина — та, которая познакомила его с Шуматовой, та, которая просила его позировать ей, — Люси! Люси Разерферд! Она наверняка приедет вместе с Шуматовой! Встреча с ней исцелит его, вдохнет в него силы, сделает прежним энергичным, жизнелюбивым Рузвельтом!
Это лекарство не числится в медицинских справочниках, но о нем вспомнили все, кто только что был в Овальном кабинете. Они ничего не сказали об этом. Промолчали из неизменно присущего им чувства такта.
Но достаточно было и того, что слова «Уорм-Спрингз» здесь подразумевались. Рузвельт понял это. Макинтайр был прав, советуя ему ехать на отдых именно в Уорм-Спрингз! Он поедет, поедет туда! Пусть упаковывают все те документы, с которыми он не мог справиться здесь. Пусть готовят поезд! Пусть грузят в него любимый президентский синий «форд» с ручным управлением, который создает у президента ощущение того, что он способен передвигаться без посторонней помощи. Пусть готовятся к отъезду постоянные сотрудники президента. В Уорм-Спрингз он обретет новые силы и как президент и как человек.
В Уорм-Спрингз!
Глава четвертая ПРИТЧА О ЦАРЕ СОЛОМОНЕ
В Уорм-Спрингз президент приехал 30 марта 1945 года. Президентский поезд проследовал с востока на юг, от Вашингтона до штата Джорджия, к Атланте, а оттуда в Уорм-Спрингз. Поезд состоял из пяти вагонов. В одном из них ехали Рузвельт, а также люди, без помощи которых он не мог бы подняться с постели. В другом — врач, секретари и трое корреспондентов. В остальных вагонах расположилась охрана президента, а на замыкавших поезд грузовых платформах — автомобили и мотоциклы.
У президента были странные, серьезные и вместе с тем иронически-шутливые отношения с охраной.
Разумеется, он хотел быть уверен в том, что его надежно охраняют. Здравый смысл подсказывал Рузвельту, что и в дни кризиса и особенно в военное время, когда в США было немало немецких и японских агентов, попытки покушения на президента США более чем вероятны. Вместе с тем он любил скрываться от своей охраны, водить ее за нос, не допускать, чтобы за ним постоянно следили.
Рузвельт знал, что в Уорм-Спрингз, в отдалении и от Белого дома и от Хайд-Парка, он сумеет увидеться с Люси…
На какие только уловки не пускался он все эти годы, чтобы хоть на час, хоть на несколько минут встретиться с женщиной, которую любил и которая любила его. Когда Рузвельт совершал очередную поездку по стране, Люси ждала его специального поезда на каком-нибудь тихом разъезде или возле опушки леса. Как только поезд останавливался, машина, за рулем которой сидела Люси, тотчас устремлялась к президентскому вагону. Иногда бывало наоборот: президентскую коляску подкатывали к машине Люси.
Да, обо всем этом знали, не могли не знать секретари Рузвельта, люди, которые его непосредственно окружали. Более широкий круг людей жадно ловил слухи. Никто из тех, кто знал правду, никогда не открыл бы ее постороннему человеку. Не потому, что за это можно было лишиться должности или подвергнуться наказанию. Люди из ближайшего окружения Рузвельта преклонялись перед страстной любовью могучего инвалида к этой привлекательной женщине с живыми, веселыми глазами, которые как бы зажигались изнутри, когда она смотрела на президента…
…Рузвельт распорядился, чтобы его отъезд в Уорм-Спрингз содержался в тайне. По политическим соображениям. Накануне отъезда день в Белом доме прошел как обычно. Рузвельт приказал камердинеру разбудить его утром точно в восемь часов тридцать минут. Исполнив приказание, камердинер принес президенту утренние газеты. Президент просмотрел их, потом позавтракал в постели. Затем, все еще в постели, он подумал о том, как не хватает ему Гарри Гопкинса самого близкого его советника по политическим вопросам. Рузвельт знал, что многие не любят Гопкинса. После того, как Гарри в самом начале войны побывал в Кремле, антисоветски настроенные представители большого бизнеса называли его «серым кардиналом», оказывающим магическое влияние на главу государства. Когда наиболее реакционные круги Соединенных Штатов травили Рузвельта, они не забывали вылить ушат помоев и на Гопкинса.
Рузвельт не знал, что ему уже никогда не придется увидеть своего ближайшего друга — Гопкинс лежал в больнице и пережил президента меньше чем на год.
Потом президенту помогли встать, надеть пижаму, перенесли в коляску. Парикмахер побрил его. Рузвельт принял ванну. Затем его уложили на длинный узкий стол. Массажист Фокс сделал президенту массаж, потом включил висевшую над столом лампу. Рузвельт три минуты пролежал под ультрафиолетовыми лучами, покуривая и при этом иронически поглядывая на своего личного врача. Росс Макинтайр уже давно настаивал, чтобы президент отказался от курения или по крайней мере резко сократил его. Рузвельт был не в состоянии сделать ни то, ни другое, но зато он решил последовать советам Макинтайра и наконец отдохнуть.
— Вы меня убедили, док, — с наигранным сожалением сказал он врачу. — Мне действительно необходим отдых. Для этого надо уехать из Вашингтона. Короче говоря, я отправляюсь в Уорм-Спрингз.
…Когда Рузвельт ехал по железной дороге, блокировались все разъезды. Когда выступал в каком-нибудь клубе — все ведущие к нему уличные или шоссейные дороги. Это не вязалось с тем представлением о характере Рузвельта, которое выработали простые американцы, считавшие президента открытым, лишенным подозрительности, жизнерадостным человеком.
Постороннему наблюдателю, если бы он мог постоянно видеть Рузвельта, показались бы странными заботы президента о секретности — не той, которая естественна для человека, занимающего высший пост великой державы, а какой-то нарочитой, напоминавшей голливудские приключенческие фильмы или детективные романы; Рузвельт любил читать их перед сном. Секретность стала своего рода хобби президента. Он относился к ней с таким же детским интересом, как к коллекционированию марок.
Кстати, альбомы с марками также были погружены в специальный, особо охраняемый вагон в президентском поезде вместе с важными документами и еще не прочитанной почтой. В Уорм-Спрингз президент предполагал не только отдыхать, купаться в горячих источниках, совершать автомобильные прогулки по живописным окрестностям, не только рассматривать свои любимые марки, но и работать. Президент верил, что в Уорм-Спрингз он сразу обретет былую работоспособность. Правда, его несколько раздражала необходимость позировать Шуматовой. Решив ехать в Уорм-Спрингз, он, однако, дал знать Люси, что ждет художницу в «Маленьком Белом доме».
При мысли о Люси раздражение тотчас сменялось радостью. Приезд Шуматовой был прекрасным поводом для того, чтобы Люси появилась в Уорм-Спрингз. Находясь в Белом доме, он редко виделся с ней — только в тех случаях, когда Элеонора уезжала. О свидании в Хайд-Парке нечего было и думать. Имя Люси не упоминалось в доме Рузвельта после того, как Элеонора случайно обнаружила в спальне мужа пачку писем от Люси — как давно это было! — и после ссоры, которая едва не закончилась разводом.
Можно ли назвать отношения Рузвельта и Люси Мерсер, служившей когда-то личным секретарем жены президента, просто «романом». Может быть, это было бы уместно тридцать лет назад, когда молодой, здоровый помощник военно-морского министра Рузвельт стал ухаживать за Люси. Они виделись тайно. Иногда катались на яхте по Потомаку. В этих случаях близкий друг будущего президента, английский дипломат Найджел Лоу играл роль кавалера Люси, а Рузвельт делал вид, что организует речные путешествия специально для них. Но когда Элеонора нашла письма Люси, уход мисс Мерсер из Хайд-Парка стал неизбежным.
А потом?.. Потом одинокая молодая женщина поступила гувернанткой в дом богатого старика Уинтропа Разерферда. А затем… Затем долго болевшая жена Разерферда умерла, и Люси стала миссис Разерферд.
Прочтя в газетах об этом браке, Элеонора с удовлетворением написала своей свекрови: «Вы читали, что Люси Мерсер вышла замуж за старого Уинти?»
Казалось, этот брак покончил со всеми подозрениями Элеоноры, тем более что вскоре после него страшная и, как оказалось, неизлечимая болезнь лишила Рузвельта способности самостоятельно передвигаться. И все же Рузвельту и Люси время от времени удавалось встречаться. Иногда президент наносил, так сказать, светский визит в поместье Разерфердов (по иронии судьбы оно называлось «Транкуилити» — «Спокойствие»…). Не сводя глаз с Люси, Рузвельт разговаривал о разных пустяках с ее мужем…
Знала ли об этих визитах Элеонора? Трудно сказать. Может быть, после того, как муж заболел, ее беспокойство улеглось.
Продолжала ли жена инвалида по-прежнему любить его? Очевидно, да. Но в соответствии со своим характером. Элеонора Рузвельт была энергичной и властной женщиной. Любовь ее к мужу определялась прежде всего уверенностью, что она нужна Рузвельту не только как человеку, но и как президенту. Она действительно делала все, что было в ее силах, чтобы помочь мужу выполнять его нелегкие обязанности.
Не надеясь на секретарей, она регулярно читала газеты и журналы, чтобы обратить внимание президента на ту или иную статью. Перед официальными обедами в Белом доме Элеонора всегда участвовала в составлении списка приглашенных, собирала подробную информацию о каждом из них и заблаговременно сообщала ее мужу. Под салфеткой у прибора Рузвельта всегда лежал написанный рукой Элеоноры перечень гостей с короткой, иногда состоявшей из двух-трех слов характеристикой каждого. Президенту ничего не стоило, незаметно взглянув на эту «шпаргалку», обратиться к человеку, которого он видел первый раз в жизни, с любезным вопросом: «Как дела на ваших заводах, мой дорогой мистер Хэммонд?», «Как успехи вашего сына в Гарварде, мой дорогой Чарльз?»…
И все же он продолжал видеться с Люси. Обычно ему помогала в этом Маргарет Лихэнд. В течение многих лет она была преданным секретарем президента. Дети Рузвельта, когда были маленькими, называли ее «Мисси», а люди, окружавшие президента, прозвали «Мисси» за ее ум, энергию, властность «Гопкинсом в юбке».
Сразившая Рузвельта болезнь была и ее горем. Помогая ему видеться с Люси, она сознавала, что участвует не в мелкой любовной интрижке, а предоставляет своему любимому боссу одну из немногих земных радостей, оставленных ему судьбой. Рузвельт доверял ей беспредельно. Только при ней он говорил по телефону с Люси по-английски. Но в прошлом году «Мисси» умерла. Инсульт.
Президент доверял и другим своим секретарям. Грэйс Талли, Дороти Брэйди тоже были хорошо осведомлены об отношениях Рузвельта и Люси, но все же при них президент предпочитал вести телефонные разговоры с Люси по-французски.
Из членов семьи президент доверял свою тайну — впрочем, уже давно раскрытую, — лишь дочери Анне. Она, может быть, больше, чем другие, понимала душевную драму отца. Когда тот робко спрашивал дочь: «Ничего, если я приглашу к обеду старого друга?» — Анна, прекрасно понимая, о ком идет речь, сразу соглашалась и брала на себя роль хозяйки.
…30 марта президентский поезд прибыл в Уорм-Спрингз.
Этот курортный городок по численности населения и по размерам даже отдаленно не напоминал не только Вашингтон ила Нью-Йорк, но даже столицу штата Джорджия Атланту. Тем не менее Майк Ралли всегда предпринимал весьма строгие охранные меры.
Конечно, это не было похоже на поездку, скажем, по Нью-Йорку. Там впереди «кадиллака» с президентом всегда мчалась другая машина с охранниками и местными полицейскими. Кроме того, за «кадиллаком» следовала еще одна машина, тоже с сотрудниками охраны.
Здесь кортеж, как правило, двигался медленно. Сотрудники охраны просто бежали рядом или вскакивали на подножки машин, если автомобиль президента увеличивал скорость. Рядом с Рузвельтом обычно сидел Рилли.
Еще в самом начале пути, едва поезд выехал из Вашингтона, президент вызвал Рилли в сказал:
— Вот что, Майк, будь другом, на все время нашей поездки отмени свои гала-представления. Я хочу почувствовать себя обычным, простым американцем, а не римским папой.
— Не могу обещать, сэр, — коротко ответил начальник охраны.
— То есть как это не можешь? — раздраженно воскликнул Рузвельт. — В конце концов кто из нас президент, главнокомандующий и все такое прочее? Кто распоряжается в стране?
— Вы, мистер президент, — без улыбки ответил Рилли, — Конечно, вы. Но я распоряжаюсь тем, за что отвечаю я, и только я. Перед Америкой и самим господом богом. Я, а не вы. Я отвечаю за вашу жизнь, мистер президент.
— Кто может сейчас на нее покуситься? — с нарочитым пренебрежением сказал Рузвельт. — Гитлер? Но он при последнем издыхании и думает сейчас не о том, чтобы покушаться на мою жизнь, а о том, как спасти свою. Послушай, парень, я уверен, что, глядя на твои полицейские парады, даже самый благонамеренный американец, наверное, испытает желание перехитрить тебя.
— Мистер президент, — обиженно возразил Риллн. — Могу ли я рассказать вам об эпизоде, о котором до сих пор не считал нужным сообщать?
— Валяй, — недовольно ответил Рузвельт. — Что там еще? Япошки или немцы послали во Флориду подводную лодку, чтобы похитить меня?
— Нет, все было проще, сэр. Вы, конечно, помните, что в свое время вы надеялись вытащить Сталина в Касабланку, а не ехать к нему в Тегеран. «Касабланкский план» считался важнейшей государственной тайной.
— С тех пор прошло два года.
— Бывают такие факты, сэр, которые не имеют давности. О них надо помнить и знать, что они могут повториться. — Рилли сделал ударение на последнем слове. — Так вот, однажды меня разыскала в Белом доме Хэкки и сказала, что какой-то тип рвется поговорить со мной по телефону и твердит, что это очень важно. Знаете, что он мне сказал? «Послушай, ты тот самый Рилли, который ведает охраной Белого дома?» — «Ну, допустим, я». — «Так вот, ты большой босс, а я обыкновенный таксист. Скажи мне, это правда, что президент собирается в Касабланку?» У меня даже дыхание перехватило. Я крикнул в трубку: «Жми немедленно ко мне!» Ведь устроить покушение на президента во время подобного путешествия было бы не так уж трудно. Прежде всего я спросил таксиста, откуда он все это знает. «Э-э, парень, — ответил тот, — чего только мы, таксисты, не знаем! Вчера в мою машину сели две расфуфыренные бабы. Одна говорит другой: „Ты знаешь, что президент собирается в Касабланку?“» Когда я услышал это, — продолжал Рилли, — у меня кровь в жилах заледенела. Потом я выяснил, что одна из этих «баб» была — кто бы вы думали? — родственница мистера Черчилля! Поэтому, мистер президент, условимся раз и навсегда: об Америке заботитесь вы, а о вашей жизни — я.
— Ладно, убедил, — буркнул Рузвельт, — Но дай слово, что до предела сократишь свои парады.
— Слушаюсь, сэр! — сказал Рилли и, по-военному повернувшись на каблуке, направился к выходу из вагона. Потом вдруг остановился и внимательно поглядел на Фалу, разлегшегося на ковре.
— У Фалы новый ошейник, — сказал Рилли. — Когда он появился?
— Черт побери, его только вчера купила Анна. Динамита в нем нет.
К станции Уорм-Спрингс была проложена короткая железнодорожная ветка. По обе стороны тянулся лес. Слева из-за деревьев виднелись фермерские домики, справа было небольшое кладбище с маленькой приземистой церковью. По мере приближения к Уорм-Спрингз домики выглядели более опрятно, но все же это были жилища людей ниже среднего достатка. Кирпичных домов почти не встречалось — может быть, всего два-три. Фермерские домики чередовались с пустырями, деревьями и зарослями кустарника. Президента перенесли в его любимый «форд» с ручным управлением. В нем Рузвельт, сидя за рулем, любил совершать поездки по окрестностям. Те, кто его сопровождает, тоже занимают своя места в машинах. Президентский кортеж двинулся по направлению к «Маленькому Белому дому».
Рузвельт наблюдал за дорогой, с радостью отмечая, что помнит решительно все. Вот эта дорога — направо — ведет к аптеке. Эта — к госпиталю. Сейчас будет полицейское ограждение, зона президента. Ничего массивного, внушительного. Никаких зданий казарменного типа. Все ограждение — белые узкие доски, прибитые к столбам. Никаких высоких заборов.
При виде президентского кортежа один из трех полицейских торопливо распахивает ворота и приветливо козыряет.
Наконец «форд» Рузвельта въезжает в президентскую зону. До «Маленького Белого дома» остается несколько десятков метров. Это одноэтажный дощатый коттедж, выкрашенный белой краской. В центре — крыльцо под треугольной крышей, которую поддерживают две тонкие деревянные колонны. Под крышей — синего цвета фонарь. По обе стороны крыльца большие, почти во всю длину стен окна, прикрытые темными решетчатыми ставнями. На покатой крыше — четырехугольная труба.
В Уорм-Спрингз ничто не напоминало аристократический Хайд-Парк, и это радовало Рузвельта, хотя Хайд-Парк он очень любил. Но здесь президент испытывал чувство свободы, радостного раскрепощения. Он не терпел помпезности и давно отменил многие протокольные условности на официальных приемах, например, фраки, в которых ранее принято было являться. И все же в Белом доме он вынужден был во многом считаться с традициями, а в Хайд-Парке помещичья роскошь семьи Рузвельта была неизбежной.
Резиденция Рузвельта в Уорм-Спрингз представляла собой группу непрезентабельных деревянных коттеджей дачного типа. Одни из них предназначался для самого президента вместе с его камердинером, поваром, лакеем. В других коттеджах располагались коммутатор, узел прямой связи с Белым домом и Хайд-Парком, секретари, сотрудники охраны, врач, журналисты.
Неподалеку от президентского коттеджа голубел большой бассейн, все время пополнявшийся свежей водой из горячих источников.
Артур Приттиман привычным движением обхватил Рузвельта и пересадил из автомобиля в специальную коляску. По дому он катил коляску медленно, понимая, как приятно президенту любоваться знакомыми стенами.
Они миновали большую, прихожую. Рузвельт оглядел ее придирчивым взглядом. Все было по-прежнему. Почти всю противоположную стену занимали дверь в сад и окно, прикрытое белой занавеской. У окна запасная коляска. По одну сторону коляски полукруглый письменный столик, по другую — обыкновенный жесткий стул. Слева небольшой комод с несколькими ящиками, на комоде лампа под белым абажуром. Стены прихожей, пол, потолок светло-коричневого цвета, этот цвет вообще господствовал в «Маленьком Белом доме». Коричневая мебель, коричневая обивка немногочисленных мягких кресел, коричневая кровать в спальной президента…
…Когда Рузвельта перенесли в кабинет и, усадив в кресло, оставили одного, он почувствовал, что наконец может вздохнуть полной грудью.
Президент был в хорошем настроении. Все радовало его: и видневшееся в окне безмятежно-голубое небо, и слегка покачивающиеся от легкого, теплого ветерка кроны деревьев, и вся любезная его сердцу обстановка «Маленького Белого дома».
Через несколько минут вошла Грэйс Талли. Она осведомилась, не нужно ли чего-нибудь ее боссу.
— Нужно! — быстро ответил Рузвельт и многозначительно посмотрел на Грэйс.
Талли молча кивнула и вышла из комнаты. Она знала, что нужно Рузвельту. Президент, конечно же, с нетерпением ждал телефонного разговора с Люси.
Талли приказала немедленно разыскать миссис Разерферд и соединить ее по телефону с «Маленьким Белым домом».
Прошло минут десять, прежде чем Талли снова вошла в кабинет Рузвельта и коротко сказала:
— У телефона, сэр.
Рузвельт схватил трубку одного из двух телефонов, стоявших на его письменном столе. Грэйс быстро вышла из комнаты.
…Никто не знает о чем говорили эти люди, разделенные многими милями, но неизменно близкие друг другу. Когда через некоторое время президент снова вызвал Талли, его изможденное лицо счастливо улыбалось.
— Она приедет девятого, — сказал Рузвельт. Талли знала, что президент согласился позировать художнице. Люси должна была привезти Шуматову в Уорм-Спрингз. Приличия следовало соблюдать.
— Что происходит в нашей священной обители? — весело осведомился президент. — Тебе удалось повидать кого-либо из аборигенов?
— Я еще ничего не успела узнать, — ответила Талли. — Разве только то, что в воскресенье, в одиннадцать часов, в церкви состоится пасхальная обедня. Священник, видимо, узнал о вашем приезде и на всякий случай позвонил рано утром.
— Мы поедем в церковь, — решительно сказал президент. «Разве мне удалось бы приехать сюда без воли на то всемогущего бога? — подумал он. — Разве не должен я поблагодарить всевышнего за то, что оказался здесь, вижу это небо, чувствую на своем лице легкое прикосновение ветерка и знаю, теперь уже точно знаю, что всего лишь неделя с небольшим отделяет меня от свидания с Люси?..»
— Мы поедем! Я, Дэйзи и Полли. Предупреди их, — еще более настойчиво сказал президент.
Многие люди, окружавшие Рузвельта, имели прозвища, подчас совершенно необъяснимые. Тетей Полли звали одну из кузин президента — Лору Делано.
…Каждое утро Рузвельт внимательно прочитывал почту. Ее доставляли на самолете из Вашингтона в Форт Беннинг, расположенный недалеко от города Каламбус в сорока милях от Уорм-Спрингз, а оттуда на военной машине, под охраной другой машины, полной агентов секретной службы, везли в резиденцию Рузвельта. Правда, к обдумыванию ответа на послание Сталина от 3 апреля президент приступил не сразу. Должно было пройти двое суток, чтобы Рузвельт почувствовал себя в силах написать достойный ответ.
На следующий день после приезда он с утра принялся за почту, потом приказал отвезти себя на кухню, потом в комнату служанок и весело болтал с ними, выспрашивая местные новости. Кто-то сказал, что на будущей неделе в Уорм-Спрингз, разумеется за пределами президентской зоны, состоится традиционное народное представление. Будут исполняться негритянские песни под аккомпанемент банджо, а «энд-мэны» — так называли самодеятельных актеров, исполнявших роли комиков-клоунов, — будут развлекать местных жителей и курортников. На празднике выступит один из любимых музыкантов президента — Грэм Джексон, поющий под аккордеон негритянские «спиричуэлз». Узнав обо всем этом, президент объявил, что обязательно поедет туда. От него сочли нужным скрыть, что все участники праздника должны были внести на его организацию по два с половиной доллара…
После ленча президент приказал усадить его в открытый «форд» и отправился осматривать окрестности.
Вернувшись, Рузвельт заявил, что готов принять нового президента Филиппин Серхио Осменью, уже несколько дней тщетно ожидавшего встречи с президентом США в Вашингтоне. Он приказал сообщить в Белый дом, чтобы филиппинцу предоставили самолет и привезли его в Уорм-Спрингз.
…Сотрудники охраны сбились с ног. Ворвавшись в старомодный ветхий трехэтажный отель, окруженный папоротниками в кадках и снабженный вентиляторами, чтобы жильцы не так мучились от жары, они обследовали все его помещения, включая жилые комнаты. На недоуменные вопросы обитателей гостиницы они ничего не отвечали.
В тот же день у входа в отель появились три сверкающих «кадиллака». Первая машина промчалась на несколько десятков метров дальше и, не сбавляя хода, скрипя тормозами, с шиком развернулась и перекрыла подход к отелю. Вторая остановилась вплотную к подъезду. Третья перекрыла дорогу к гостинице с противоположной стороны.
Всем обитателям отеля было приказано оставаться в своих номерах и не подходить к окнам. Однако все они, конечно, приникли к окнам, стараясь оставаться не замеченными извне.
Они увидели, как из второй машины выскочили двое военных в какой-то чужеземной форме, затем вышли еще двое — в штатском. Все они издали походили на негров. Один из двоих в штатском — седой, темнокожий человек — медленно, как бы с трудом преодолел несколько метров, отделявших его от входа в отель. Военные слегка поддерживали его под руки. Разумеется, никто из жильцов не знал, что это был президент Филиппин Серхио Осменья со своими адъютантами и личным врачом. Президент недавно перенес серьезную операцию.
Через некоторое время гости вновь появились у входа в отель, сели в ожидавшие их машины и уехали. Обитатели гостиницы бросились к портье, чтобы удовлетворить наконец свое любопытство. Портье с гордостью показал им чистый лист регистрационной книги, где филиппинский президент расписался, полностью указав свое звание, имя и зачем-то поставив после него имя своей матери.
Озадаченные жильцы долго гадали, каким образом и для чего оказался здесь заокеанский гость. В конце концов они пришли к выводу, что его приезд имеет некую связь с продолжавшейся американо-японской войной. Однако понять, зачем он приехал сюда, в Уорм-Спрингз, они никак не могли.
Правда, среди обитателей отеля распространился слух, что кто-то на днях видел Рузвельта в церкви. Но этот слух опровергался газетами, которые ежедневно печатали коммюнике и заявления президента, свидетельствующие о том, что он по-прежнему пребывает в Белом доме.
Рузвельт приказал хранить свой отъезд в глубокой тайне. Журналисты, сопровождавшие президента, обязались все свои сообщения о деятельности президента в Уорм-Спрингз помечать словами: «Белый дом, Вашингтон, Д.К.» то есть «дистрикт Колумбия» (федеральный округ, в котором находится столица Соединенных Штатов). Что же касается печатавшихся в газетах рутинных сообщений о президенте, то они были в необходимом количестве заранее заготовлены его секретарями и согласованы с ним.
Накануне того дня, когда Рузвельту предстояло встретиться с президентом Филиппин, он получил отличный подарок: из Белого дома ему сообщили, что Советский Союз денонсировал свой договор о нейтралитете с Японией.
Рузвельт радостно хлопнул в ладоши.
— Я всегда говорил, что на русских можно положиться! — сказал он Биллу Хассетту, который принес радостное известие.
— Насколько я знаю, мистер Черчилль придерживается иного мнения, сэр, — возразил Хассетт таким тоном, что нельзя было понять, осуждает он Черчилля или просто напоминает президенту о позиции британского премьера.
— К черту! — с раздражением воскликнул Рузвельт, но тут же изменил тон и заговорил спокойно, как бы размышляя вслух: — Сталин сделал смелый шаг. Не каждый решился бы на это в его положении. Ведь все его основные армии продолжают сражаться на западе. Что будет, если японцы истолкуют денонсацию договора как прямую угрозу со стороны Советского Союза и бросят свои войска, находящиеся сейчас в Китае, через Маньчжурию на север, к русской границе?
Немного помолчав, он добавил:
— Как можно говорить после этого, что Сталин не соблюдает ялтинские решения?..
В эту минуту президент осуждал себя за то, что еще совсем недавно поддался все-таки влиянию Черчилля, что на него все же сумели оказать известное давление правые газеты, которые он всегда презирал.
Вообще-то Рузвельт старался поддерживать хорошие отношения с прессой. Журналистам, аккредитованным при Белом доме, он постоянно внушал мысль, что они являются «элитой» и возвышаются над остальной пишущей братией. Если эта последняя все время нуждается в дешевых сенсациях, чтобы хоть как-то прокормиться, то корреспонденты, работающие при Белом доме, могут позволить себе роскошь писать правду и поддерживать усилия президента, стремящегося превратить Америку в страну благоденствия. Если тот или иной журналист получал повышение по службе и представлять его газету в Белом доме поручалось кому-нибудь другому, Рузвельт никогда не забывал выразить уходящему свое сочувствие. В присутствии других журналистов он говорил:
— Значит, покидаешь нас? Но не расстраивайся. Я убежден, что это временное понижение. Я верю в тебя…
…Рузвельт проклинал те газеты, которые не хотели видеть, что в Ялте ему удалось добиться главного — по основным вопросам поддержать лояльные отношения между Западом и Востоком. Эти газеты всячески пытались опорочить крымскую встречу.
Президент с удовлетворением подумал о том, что в своем предыдущем послании — ответе на письмо советского лидера по поводу «бернского инцидента», он не стал отвечать на обвинения контробвинениями. Теперь ему предстояло ответить на еще более резкое послание Сталина, выражающего недовольство сепаратными переговорами в Берне. А ответ все еще не подготовлен… Итак, прочь все сомнения, все колебания!
Рузвельт решил сегодня же написать Сталину письмо, в котором, не вступая в полемику, заверить его в честности и надежности американского союзника.
Утром следующего дня Рузвельту предстояло принять филиппинского президента. Он знал, зачем Серхио Осменья приехал в Вашингтон. Речь шла о предоставлении Филиппинам независимости. В свое время Рузвельт уже дал принципиальное согласие на это.
Сохранить прямое подчинение Филиппин Америке после того, как эти острова были освобождены от японской оккупации, означало бы восстановить филиппинцев против своих освободителей. Соединенные Штаты должны предоставить Филиппинам государственную независимость, сохранив при этом — разумеется не столь уж явно! — экономическую зависимость Филиппин от США. Это продемонстрирует перед всем миром готовность американского правительства содействовать ликвидации колониальной системы. Филиппинцы будут благословлять Белый дом и президента Рузвельта, сначала освободивших их от японской тирании, а теперь даривших им полную свободу…
Новому филиппинскому президенту Серхио Осменье было, конечно, известно, что предоставление независимости Филиппинам предусматривалось соответствующими законоположениями еще в 1935 году. Тогда была установлена даже точная дата предоставления независимости — 4 июля 1946 года. Поэтому Осменья и совершил воздушный прыжок через океан, стремясь поскорее встретиться с Рузвельтом.
Президент США не сомневался, что одной из характерных особенностей послевоенного мира должна быть ликвидация всевозможных колоний, протекторатов, опек и т. д. и т. п. Он осуждал тщетные попытки Черчилля закрепить навечно господство Британии над такой огромной страной, как Индия, и над многими другими, менее значительными «колониями» и «доминионами» — от Британского Северного Борнео до Золотого берега, от Ямайки до Фолклендских островов, от Бирмы до Британской Гвианы.
Мысли президента обратились к боям, которые все еще гремели на Дальнем Востоке. В отличие от европейской войны конца им еще не было видно. По повторному заверению Комитета начальников штабов и по донесениям адмирала Нимитца, командовавшего Тихоокеанским флотом, высадка на основные японские острова обошлась бы в миллион американских жизней.
Однако если русские действительно вступят в войну с Японией… Тогда быстрая победа будет обеспечена.
Мысленно произнося это «если» — его очень часто упоминали Пеги и Макартур, — Рузвельт не без раздражения подумал: «Почему „если“? Почему нужно подозревать русских в том, что они не выполнят хранимый пока в глубокой тайне специальный пункт ялтинских решений?»
До сих пор русских подозревать было не в чем. Не они начали войну с Гитлером — на них напали, их вынудили обороняться. Не колониальные интересы диктовали им стратегию и тактику в Европе. Было бы нелепо требовать от них, чтобы они согласились восстановить довоенный «санитарный кордон» — долг любого правительства заботиться о безопасности своей страны. Да и вступив в войну с Японией, русские не просто помогут своему американскому союзнику. Разве Япония не применяла оружие против Советского Союза? Разве не было кровавых столкновений на Халхин-Голе и в районе озера Хасан? Разве японские армии не были постоянной угрозой советским границам на Дальнем Востоке? Что же касается предусмотренного в Ялте возвращения Советскому Союзу южной части Сахалина и прилегающих к нему островов, то оно лишь восстановит попранную справедливость. Ведь эти территории были незаконно отторгнуты от России после русско-японской войны, разразившейся в начале этого века.
Позиция Черчилля?.. Что ж, этот выдающийся британец, первым в Европе принявший вызов Гитлера, недаром обеспокоен продвижением русских армий на запад. Победы русских действительно создают объективную угрозу имперским интересам Великобритании. Но оценит ли грядущая История эти интересы как справедливые?..
Так размышлял Рузвельт, получив известие о денонсации русскими своего договора с Японией и ожидая встречи с президентом Филиппин.
Он встретился с Серхио Осменьей за ленчем 5 апреля 1945 года.
Подробно и с дрожью в голосе рассказывал еще не оправившийся после операции филиппинский президент о муках, перенесенных народом Филиппин во время японской оккупации, о варварском разрушении японскими войсками Манилы.
Как и предполагал Рузвельт. Осменья добивался того, чтобы американский президент ускорил предоставление независимости Филиппинам. Это подняло бы дух филиппинского народа, дало бы ему силы быстрее восстановить все то, что разрушили оккупанты. Разумеется, Рузвельт ничего не сказал своему собеседнику о ялтинской секретной договоренности, но дал ему понять, что дальневосточный вопрос должен быть решен «в комплексе». Такое решение оградит Филиппины от любой попытки японцев вновь оккупировать страну. Пока что Филиппинам выгодно, чтобы американцы считали их как бы частью своей территории и относились к их безопасности так же, как к безопасности Флориды или Калифорнии.
Тем не менее Рузвельт согласился сделать все возможное, чтобы ускорить решение вопроса о независимости Филиппин. Сознавая, что продолжение беседы не принесет уже ничего нового, он спросил Осменью, не возражает ли тот против небольшой совместной пресс-конференции. Сообщив о своей встрече, подчеркнул Рузвельт, они еще раз покажут японцам, что Соединенные Штаты кровно заинтересованы в будущем Филиппин.
Приехавшие в Уорм-Спрингз корреспонденты уже безрезультатно штурмовали отель, где короткое время пробыл Осменья. Ничего толком не узнав, разочарованные, вернулись они в свой коттедж. Когда их неожиданно вызвали в «Маленький Белый дом», они отправились туда без промедления.
Это была 998-я по счету и… последняя пресс-конференция Рузвельта. Необычность ее заключалась в том, что она состоялась не во вторник или в пятницу, как обычно в Белом доме, а в четверг.
Приглашенные в тесную гостиную президента журналисты увидели Рузвельта в большом коричневом кожаном кресле и рядом с ним темнокожего седого филиппинца. У ног Рузвельта пристроился Фала.
В углу кабинета сидела с раскрытым блокнотом в руках Дороти Брэйди, дежурная секретарша президента.
— Я хочу, — начал Рузвельт, — представить вам моего друга президента Филиппин мистера Серхио Осменью… — Хитро улыбнувшись, он добавил: — Я думаю, нет необходимости напоминать вам, что эта встреча происходит в Вашингтоне, в Белом доме, в Овальном кабинете.
Рузвельт немного помолчал, взял сигарету из пачки «Кэмел», лежавшей на маленьком столике справа от президентского кресла, вставил ее в мундштук и закурил.
— Мне хочется, — продолжал он, — чтобы вы, как и я, услышали от президента о тех варварских разрушениях, которые произвели на Филиппинах японские оккупанты, чьи действия ничем не отличаются от действий Гитлера.
Когда Рузвельт представлял его журналистам, Осменья широко улыбался, но при упоминании о японцах невольно нахмурился.
Рассказывая журналистам об ужасах японской оккупации, Осменья говорил долго. Рузвельт, мгновенно определявший, как корреспонденты воспринимают его собственные выступления на пресс-конференциях, заметил, что журналисты перестали записывать слова филиппинца и нетерпеливо заерзали на своих стульях.
О положении на Филиппинах они знали из газетных сообщений: при американских войсках, освобождавших острова, было немало представителей прессы. Журналистов интересовала лишь сама встреча президентов. Только она и заслуживала внимания. После того как Осменья наконец умолк, Рузвельт — опять с улыбкой — стряхнул пепел своей сигареты прямо на пол и произнес:
— Вопросы?..
— Мистер президент — по привычке поднимая руку, обратился к Рузвельту один из журналистов, — я позволю себе задать вопрос, который, правда, так же далек от Филиппин, как мы от Белого дома…
Последние слова журналист произнес с нарочитой усмешкой заговорщика, и Рузвельту это не понравилось.
— Я хочу спросить, — продолжал журналист, — правда ли, что, по договоренности в Ялте, Россия получит три голоса в Объединенных Нациях вместо одного? Как вы знаете, мистер президент, это один из тех вопросов, которые волнуют сейчас нашу прессу.
Вопрос задал Роберт Никсон, корреспондент агентства Интернэшнл Ньюс Сервис, и он показался Рузвельту несколько нелояльным, если не прямо провокационным. Никсон был одним из трех корреспондентов, которым президент доверял и брал их с собой, куда бы ни ехал. Этих трех журналистов он пригласил и в Уорм-Спрингз.
Все они были тесно связаны с президентом и любили его. Роберт Никсон как-то раз публично заявил, что для президента характерны человеческая теплота, находчивость, ярко выраженное чувство юмора и то, что в газетном ремесле называется «нюхом на новости». Ему, вероятно, следовало бы сказать точнее; «нюхом на то, каких новостей жаждут корреспонденты».
Это вовсе не означало, что президент заигрывал с представителями прессы. Если Рузвельт считал, что журналисты хотят поставить его в тупик, он просто набрасывался на них, как лев. Одного из них он как-то раз назвал «хроническим лжецом». Другому посоветовал надеть «дурацкий колпак и постоять в углу».
Тем не менее Рузвельт был прав, говоря: «Я всегда терял друзей, но у меня всегда были друзья». Трое журналистов, приглашенных сейчас в президентский коттедж, конечно же, принадлежали к числу его друзей. Рузвельт знал это. Но вопрос Никсона вызвал у него раздражение, так как относился к тому ялтинскому решению, за которое президента особенно резко критиковали правые американские газеты.
— Это правда, — невозмутимо ответил Рузвельт.
— Но в коммюнике Конференции об этом нет ни слова! — воскликнул другой журналист.
— И это правда, — ответил Рузвельт. Под укоризненным взглядом Брэйди он снова потянулся к пачке сигарет.
— Но почему? На месте американского президента я бы протестовал против такого ущемления интересов Соединенных Штатов!
— Я очень сожалею, но американский народ и, смею думать, господь бог предпочли видеть на этом месте меня, а не вас, — с добродушной иронией ответил Рузвельт. — Российская Федерация, Украина и Белоруссия, — продолжал он уже серьезно, — главные по значению республики в составе Советского государства. Они больше всех остальных пострадали от гитлеровского нашествия. Кроме того, эти республики граничат с иностранными государствами. Короче говоря, я не вижу ничего предосудительного в том, что Украина и Белоруссия наряду с Российской Федерацией станут членами ООН.
— Интересно, что подумал бы Сталин, если бы вы предложили ему, чтобы Соединенные Штаты получили три голоса в ООН, — съехидничал Мерримэн Смит из Юнайтед Пресс.
— Что он подумал бы, я не знаю, — резко ответил Рузвельт. — А вот что он заявил в ответ на такое предложение, я слышал собственными ушами.
— Что же именно?
— Пожал плечами и сказал, что возражать бы не стал.
— Но в коммюнике… — начал было Мерримэн Смит.
— В коммюнике, — прервал его Рузвельт, — нет ни слова о нормах представительства в Организации Объединенных Наций. Это предстоит решить предстоящей Конференции в Сан-Франциско. Однако не буду скрывать: мы обещали поддержать просьбу русских.
— А Черчилль? Какова его позиция? — спросил Гарри Оливер из Ассошиэйтед Пресс.
— Вы, кажется, представляете себе моего друга сэра Уинстона как человека, готового возражать против любого предложения, если его внесут русские? Перефразируя Марка Твена, позволю себе заметить, что слухи о несговорчивости Черчилля сильно преувеличены.
— Следовательно, Украина и Белоруссия будут полноправными членами Организации?
— Вы, кажется, представляете себе эту Организацию как аристократический клуб, члены которого принимают решения, а гости только при сем присутствуют? Не забудьте, что это будет Организация Объединенных, а не разъединенных наций, — внушительно произнес Рузвельт. — Любое государство — Франция, Великобритания или Соединенные Штаты — будет иметь в нем такие же права, как, скажем, Филиппины.
— Филиппины?! До сих пор мы не знали, что есть такое самостоятельное государство! — чуть ли не в один голос вскричали журналисты.
— Скоро узнаете. Как, по-вашему, о чем мы беседовали здесь с моим филиппинским коллегой?
— Значит, вы решили…
— Никаких пояснений! — категорически сказал Рузвельт и любезно добавил: — Насколько я понимаю, вопросов больше нет. Благодарю вас, джентльмены!
После того как пресс-конференция закончилась и журналисты разошлись, президент попросил Дороти Брэйди, чтобы она пригласила к нему Генри Моргентау.
Министра финансов, как одного из своих доверенных лиц, президент взял с собой в Уорм-Спрингз.
У Моргентау был огромный лысый лоб — лысина доходила почти до затылка, — а на тонких губах всегда блуждала грустно-ироническая улыбка.
Впрочем, некоторые называли ее угодливой. О Моргентау говорили, что президент ценил его не только за большие знания в сфере экономике и финансов, но и за услужливость, готовность во всем соглашаться со своим боссом, никогда с ним не спорить. Министра называли «yes-man», то есть человеком, который всегда и во всем поддакивает своему боссу.
Особенно недолюбливал Моргентау министр внутренних дел Икес. Он, кажется, не упускал ни одного случая, чтобы не попытаться унизить главного финансиста в глазах президента.
Но Рузвельт не обращал внимания на все эти наветы. Вскоре после того как Моргентау умело и с тактом (хотя и по прямой подсказке Рузвельта) обеспечил в 1933 году организационную сторону признания Советской России, президент сделал его министром финансов. Этот пост Моргентау занимал и поныне.
— Почему ты не был на пресс-конференции? — недовольно спросил Рузвельт, как только Моргентау появился.
— Я полагал, что у министра финансов есть другие обязанности, — с вежливым полупоклоном ответил Моргентау. — Связь с прессой не моя сфера.
— Да, ты министр финансов, — подтвердил Рузвельт, — но финансы в Америке — это все. Чем ты занимался в то время, как я отдувался перед представителями четвертого сословия, уверенными, что пресса командует миром?
— Все тем же, сэр. Работал над докладом.
— Каким?.. — начал было Рузвельт, но сразу осекся. Из-за этой возни с Осменьей, а потом с журналистами он и впрямь забыл, что сам поручил Моргентау разработать подробный доклад-предложение.
Речь шла о том, чтобы сформулировать одну из кардинальных мыслей президента, связанных с судьбой послевоенной Германии.
Здесь Рузвельт был жесток и непримирим. Германия должна перестать существовать, вопреки намерениям Сталина. Она будет расчленена на мелкие государства.
Репарации, Версальский договор, новое правительство?.. Но разве эти и многие другие «штрафные» меры, предпринятые после первой мировой войны, помешали Германии через пятнадцать лет стать адом с дьяволом Гитлером во главе? Разве не та же Германия, сохраненная как единое государство, развязала новую, вторую мировую войну?
Нет, после окончательной победы над Германией ее надо уничтожить как государство. Этот план Рузвельт разработал при прямом участии Моргентау.
Президент знал, что Черчилль согласен с ним, хотя у него были свои соображения относительно числа и границ новых германских карликовых государств.
Но Сталин… Сталин был против. В Ялте он не раз говорил, что такое расчленение породит реваншизм, и, как казалось Рузвельту, назойливо повторял, что «…гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается». Чего же хотел бы Сталин? Чтобы его преемники заплатили в будущем еще многими миллионами человеческих жизней за снисходительность по отношению к побежденной Германии?!
Если Сталин не видел этого страшного будущего, то перед глазами Рузвельта оно стояло как реальная угроза.
В Ялте вопрос так и не был решен. Очевидно, его придется обсуждать из следующем совещании «большой тройки» уже после капитуляции гитлеровского государства. Но к такому новому совещанию необходимо подготовить план, разработанный во всех деталях. Огромная работа!
Ею и занимался Моргентау, активный сторонник расчленения Германии.
Рузвельт мгновенно вспомнил все это и уже совсем другим тоном спросил:
— В каком же состоянии сейчас план Моргентау?
— План президента Рузвельта, — возразил министр финансов.
— Проще называть его «планом Моргентау», — сказал Рузвельт. В голосе президента министру финансов послышалось недовольство, причина которого была ему еще не ясна.
— Я не настолько значительная личность, чтобы войти в историю, — смиренно сказал Моргентау.
— А с моей личностью и так уже слишком многое связано, — резко возразил Рузвельт. — Германия должна быть расчленена, — решительно сказал он. — Но я не хочу, чтобы моим именем пугали маленьких немцев. Короли, — уже с улыбкой добавил президент, — делают только добро. Зло совершают министры.
И вдруг… вдруг с Моргентау что-то произошло. Годами он не осмеливался сколько-нибудь серьезно возражать президенту. Его ничуть не смущало, что за ним закрепилась репутация человека, который всегда соглашается с Рузвельтом. За доверие президента он был готов заплатить и более высокую цену.
Но сейчас Моргентау подумал: «Мне уже за пятьдесят. Я всегда и во всем поддерживал президента. И с этим его планом вполне согласен. Но до каких пор президент будет скрывать от меня свое сокровенные мысли?»
Говорят, что однажды стреляет даже незаряженное ружье. Этот случай произошел: помимо желания его владельца, ружье неожиданно выстрелило…
— Господин президент, если это не секрет, сэр, я позволю себе почтительно вас спросить…
— Брось эти нелепые церемонии, Генри, — прервал его Рузвельт, — ты знаешь, что от тебя у меня тайн нет.
— А от самого себя? — тихо сказал Моргентау.
— Что ты имеешь в виду? — настороженно спросил Рузвельт.
— Очень немногое, сэр. Я хочу лишь знать, не раздирают, — нет, это не то слово! — не тревожат ли вас самого некоторые противоречия? Здесь… Внутри…
Моргентау ткнул себя пальцем в грудь.
— Ты не пастор, Генри, а я не на исповеди. Какие противоречия?
— Я знаю, вы обещали ускорить предоставление независимости Филиппинам и предали анафеме колониализм вообще. Но разве вы не чтите память своего родственника Теодора Рузвельта, не видите в нем примера для подражания? Вы не раз публично давали высокую оценку Теодору. Но хвалить Теодора Рузвельта — значит ценить «большую дубинку»?..
Наступила пауза.
— Не хочешь ли послушать библейскую притчу, Генри? — неожиданно спросил Рузвельт.
— С удовольствием, сэр. Но меня ждут неотложные дела… — не без обиды ответил Моргентау.
— Библия всегда помогает работать, — наставительно сказал Рузвельт. — Кстати, может быть, в этой притче заключен и ответ на вопрос, который ты мне задал. Так вот послушай. К царю Соломону приходит старик и говорит: «О, мудрый царь Соломон, дай мне совет. Как скажешь, так я и поступлю». Говорят, Соломон был демократ, — с хитрой усмешкой заметил Рузвельт, — и некогда не отказывал простым людям в мудрых советах. «Я хочу развестись с женой», — говорит старик. «Но почему? В таком возрасте?» «В нем-то как раз и дело, — говорит старик. Моя жена — мегера. Она отравила всю мою жизнь. Мне семьдесят лет. Сколько еще лет определил мне Иегова жить на этой грешной земле? День? Неделю? Год? Ну пусть немного побольше. Это оставшееся время я хочу прожить спокойно. Лучше ад, чем такая жизнь…» Соломон думал недолго. Он даже не посоветовался со своими министрами, — были же они у него! Подумав, он сказал: «Ты прав».
— В чем же тут соль? — с недоумением спросил Моргентау.
— Через час к Соломону прибегает жена старика, — не отвечая на вопрос Моргентау, продолжал Рузвельт, — и, как полагалось в те времена, раздирает на себе одежды и кричит: «О, великий царь Соломон! Как ты мог допустить такую несправедливость?! Я отдала этому человеку свои лучшие годы. Он взял меня в жены восемнадцатилетней девушкой и оказался извергом, скупцом и развратником. Теперь, когда я состарилась он хочет выгнать меня из дома. И ты благословляешь его на это! Но я не дам ему развода, нет!» На этот раз Соломон подумал уже несколько дольше и наконец изрек: «Ты права». Когда обрадованная старуха убежала, один из министров, слышавший эти разговоры, сказал: «О, царь Соломон! Ты мудр, но я не могу постичь твою мудрость- Старик хочет развестись, и ты считаешь, что он прав. Старуха не хочет развода, но, по-твоему, и она права». На этот раз Соломон думал очень долго. А потом глубокомысленно изрек: «И ты прав, мой министр… финансов Генри!»
— Но ничего подобного в Библии нет! — вскричал Моргентау.
— По-моему, тоже. Я много раз перечитывал эту книгу, — с усмешкой отозвался Рузвельт. — Очевидно, это апокриф, а может быть, и просто анекдот. Но если такая ситуация не описана в Библии, значит ли это, что ее не может быть в жизни?..
Теперь Рузвельт уже не улыбался. Его лицо выражало глубокую сосредоточенность.
— Вы хотите сказать, сэр, — после паузы спросил Моргентау, — что есть противоречия, заложенные в нас самих?
— И в самой жизни, Генри. Особенно в нашей, американской жизни…
— «Красные» добавили бы: в американской капиталистической жизни, — усмехнулся Моргентау.
— Я не «красный», ты это прекрасно знаешь. В худшем случае я… «розовый». Но говорят, что розовый цвет признак здоровья, — блеснув пенсне, сказал Рузвельт. — А теперь иди, работай, мой друг, — добавил он. — Я устал.
Глава пятая СТРАШНЕЕ ВСЕГО — БОЯТЬСЯ СТРАХА
День шел за днем, и все они были похожи друг на друга.
С утра президент работал над почтой. Если Хассетт не подкладывал ему что-нибудь сверхэкстренное (на это указывал прикрепленный к уголку бумаги красный «флажок»), то Рузвельт обычно начинал с ходатайств о помиловании или снижении срока наказания заключенным.
«Эти не могут ждать!» — говорил себе президент.
Он далеко не был либералом по отношению к грабителям и убийцам. Но в причины таких преступлений, как, например, воровство, каждый раз тщательно вникал, особенно если они совершались неимущими людьми. Трагедия минувшего кризиса жила в памяти президента.
Беспощаден он был к продавцам наркотиков. Почему? Считал ли он, что наркотики подрывают духовное здоровье нации и что нет преступления тяжелее? Или уже тогда предвидел, что со временем вся его страна превратится в своего рода гигантскую «опиумокурильню» и хотел это предотвратить?..
После окончания работы над почтой следовал ленч. Затем Рузвельт садился в свой «форд» и ехал на прогулку. Для секретарей и помощников президента наступало свободное время. Бассейн президента был в их полном распоряжении. Каждый занимался чем хотел. Талли, Брэйди, Хассетт и Брюнн резвились в воде, как молодые дельфины. Маргарет Сакли вязала или вышивала. Другая кузина президента — Лора Делано, если президент не брал ее с собой, отправлялась одна в лес. Пожалуй, только Луиза Хэкмайстер оставалась на своем посту.
Хэкки отлично готовила коктейль «Манхэттен» — любимый напиток президента. Один-два бокала этого коктейля Рузвельт выпивал ежедневно.
Хэкки знала, что, возвращаясь с прогулки, президент остановит машину у коттеджа, где помещался коммутатор, и она должна встретить его, держа «шейкер» со взбитым коктейлем в одной руке в бокал в другой. Пока президент будет пить, она расскажет ему, кто звонил во время его прогулки.
Словом, Рузвельт отдыхал, и это, казалось, не могло не отразиться на его состоянии.
И все же… И все же каждый раз, когда Рузвельт отправлялся на прогулку и когда возвращался с нее, Грэйс Талли незаметно окидывала президента внимательным, испытующим взглядом, стараясь определить, как он себя чувствует.
Все окружавшие его люди, включая доктора Брюнна, считали, что неделя, которую президент провел в Уорм-Спрингз, пошла ему на пользу и что состояние его на глазах улучшалось. Под ярким солнцем Джорджии Рузвельт загорел, и пепельно-серый цвет его лица сменился смуглым. Президент улыбался — в Вашингтоне это случалось теперь не так уж часто. Он старался шутить, как в былые годы.
Но Талли все время казалось, что Рузвельт держится иначе не потому, что его состояние действительно улучшилось, а потому, что он с нетерпением ждет Люси и старается быть «в форме» к ее приезду.
От преданного взгляда Талли не могло скрыться, что, несмотря на все внешние перемены, президент был очень слаб. Силы его не восстанавливались или восстанавливались очень медленно. Она видела, как неохотно обращается Рузвельт к очередной стопке бумаг на письменном столе, как дрожат — правда, менее заметно, чем раньше, его руки, как устало откидывается он на спинку своего кресла, прочитав три-четыре документа…
Чтобы поднять его настроение, Талли доставала очередной конверт с марками, присланными президенту почтовым ведомством. При виде новых марок президент оживлялся, хватал со стола лупу и долго разглядывал сокровища, которым предстояло пополнить его коллекцию…
6 апреля, ознакомившись с почтой, президент долго сидел молча с хмурым и сосредоточенным видом. Он только что перечитал доклад американского посла в Москве.
Рузвельт высоко ценил Гарримана. Будучи миллионером, Гарриман мало заботился о личной карьере на государственной службе и вел себя так, как подсказывал ему здравый смысл. Немалую роль играл в этом и присущий ему независимый характер. Никто, разумеется, не мог заподозрить его в симпатиях к коммунизму. Но с самого начала воины он доброжелательно и с сочувствием относился к России. Став в 1943 году послом Америки в СССР, как уполномоченный президента США, вел переговоры со Сталиным, касающиеся помощи России, был сторонником скорейшего открытия второго фронта…
В начале войны американские газеты, как, впрочем, и многие советники президента, были убеждены в том, что Советский Союз не выдержит обрушившегося на него удара и будет очень скоро побежден.
Тогда Рузвельт послал в Москву Гарри Гопкинса, поручив ему лично убедиться в том, насколько Россия, несмотря ни на какие жертвы, способна сражаться с врагом, а убедившись в этом, предложить Сталину помощь, как в вооружении, так и в материалах, необходимых для военной промышленности.
Но все это было в прошлом. Сейчас, когда окончательный разгром гитлеровской Германии стал делом одного, максимум двух месяцев, Рузвельта больше всего заботило будущее. Как оно сложится? Мирные отношения с Россией Рузвельт воспринимал как историческую необходимость, — никакой альтернативы он не видел.
Черчилль пророчествовал, что основной целью России после победы будет «большевизация» Европы и неотложная задача Америки и Великобритании состоит в том, чтобы любыми средствами это предотвратить.
Мрачные пророчества Черчилля не проходили бесследно для Рузвельта, но он все же не мог поверить, в особенности после двух встреч со Сталиным, тегеранской и ялтинской, что у Советского Союза появятся после войны другие первоочередные интересы, кроме стремления как можно скорее восстановить все то, что разрушено, сожжено, втоптано в землю гитлеровцами.
Рузвельт высоко ценил таланты Черчилля — военный, дипломатический, литературный и многие другие. Но с упрямством своего ближайшего союзника он никак не мог примириться. Да, Черчилль первым принял вызов Гитлера и первым протянул руку России, когда ее постигла беда. Но во всем другом, касающемся Советского Союза и лично Сталина, английский премьер-министр нередко проявлял поистине поразительное упорство.
Зная, что от победы России во многом зависит судьба Англии, Черчилль тем не менее без конца оттягивал открытие второго фронта. Кроме всего прочего, Рузвельта раздражала самоуверенность британского премьера, кажется, вообразившего, что ему дано остановить ход истории. Война воспринималась им как досадный перебой, а после победы он намеревался восстановить все, чем обладала довоенная Великобритания, и конечно же, воссоздать «санитарный кордон» вокруг России.
Рузвельт считал Черчилля «возбудимым и опасным». Он решил не приводить никаких встреч с ним до Ялты, если в них не будет участвовать Сталин. А Черчилль, наоборот, всячески убеждал Рузвельта встретиться вдвоем, втайне от Сталина, предлагая для этой секретной встречи то Мальту, то какое-нибудь другое место.
Надо ли говорить, что Рузвельт был гораздо ближе к Черчиллю, чем к Сталину? Классовые законы неумолимы! И тем не менее их глобальные цели были разными. «Правь, Британия!» — эти строки английской шовинистической песни, в сущности, определяли пафос всей деятельности Уинстона Черчилля. Излюбленные же идеи Рузвельта были открыто высказаны им в его последнем Послании конгрессу «О положении в стране».
Сегодня, после того как он перечитал доклад Гарримана, у него появилось непреодолимое желание тотчас возобновить в памяти каждую строку этого своего Послания. Рузвельт вызвал Хассетта и велел ему принести папку, где оно лежало.
В Послании было одно место, которое казалось Рузвельту особенно важным. Откинув свою накидку, Рузвельт положил листки на колени и прочел вслух: «В сфере внешней политики мы намерены держаться вместе с Объединенными Нациями — не только во имя войны, но и во имя победы, ради которой ведется эта война. Нас объединила не только общая опасность, но и общая надежда. Наше сообщество — это сообщество не правительств, а народов; надежда же народов — мир… Создать этот мир народов будет нелегко. Мы обманываем сами себя, если считаем, что капитуляция вражеских армий обеспечит мир, к которому мы стремимся. Безоговорочная капитуляция армий наших врагов — это первый и необходимый шаг, но только первый шаг…»
— Вы меня звали, сэр? — вдруг раздался голос Хассетта.
— Я никого не звал, — недовольно откликнулся Рузвельт.
— Мне показалось, что я слышал ваш голос.
— Тебе это не показалось. Я действительно разговаривал.
— Но с кем?
— С самим собой. С Америкой… С миром, с человечеством, черт подери! Оставь меня в покое!
Едва заметно пожав плечами, Хассетт поспешил удалиться.
«…Чем ближе мы к победе над нашими врагами, тем глубже мы осознаем разногласия между победителями, — продолжал читать Послание Рузвельт. — Мы не должны допустить, чтобы эти разногласия разделили нас и заслонили от нас наши более важные общие и долговременные интересы: выиграть войну и обеспечить мир. Международное сотрудничество, на котором должен основываться прочный мир — это не улица с односторонним движением. Страны, как и отдельные люди, не всегда видят или думают одинаково, и международному сотрудничеству и прогрессу не способствует ни одна страна, считающая, что у нее монополия на мудрость или добродетель».
Это Послание Рузвельт готовил с особой тщательностью.
Своим «редакторам» — Шервуду, Розенману и другим — он сказал, что Послание должно быть коротким, объяснил, что не сможет долго простоять на ногах, что подготовленную речь из трех тысяч слов он не в силах произнести.
И все же, превозмогая боль, обливаясь потом, он произнес речь, состоящую не из трех, а из восьми тысяч слов…
Соображения Гарримана о том, какой может быть послевоенная внешняя политика России, заставили Рузвельта вспомнить мрачные предсказания Черчилля. Гарриман подтверждал, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами в рамках Организации Объединенных Наций. Вместе с тем он предсказывал, что Советский Союз примет все меры, необходимые для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, подчинив себе граничащие с ним государства. Этой цели, утверждал Гарриман, Россия будет добиваться путем «инфильтрации» в пограничные страны с помощью их коммунистических партий.
Подтверждение того, что СССР готов сотрудничать с США в Организации Объединенных Наций, радовало президента. Но все остальное огорчало и раздражало. Он привык верить своему послу в Москве. Однако на этот раз доклад Гарримана имел антисоветски-пропагандистский оттенок, будто был написан под влиянием парламентских выступлений Черчилля.
Стремление американцев обеспечить безопасность своей страны Рузвельт считал бы вполне естественным, но когда такое стремление проявляют русские, да к тому же «красные» русские, то, может быть, Гарриман все-таки прав?..
Убежденный в том, что капиталистический образ жизни «от бога», а коммунистический — если не от дьявола, то во всяком случае от сил, противостоящих всевышнему, Рузвельт был не в состоянии понять закономерности общественного развития. Ему казалось, что будущий образ жизни народов Восточной Европы зависит только от Сталина. В прошлом Рузвельт много раз повторял и про себя и публично известную фразу Торо, что наиболее опасный вид страха — тот, когда человек боится самого страха. Но сейчас именно он безотчетно боялся страха, порожденного им самим…
Перечитав доклад Гарримана, Рузвельт подумал, что этот доклад дает много поводов, чтобы отвечать на послания Сталина в более резкой форме и при этом касаться отнюдь не только «бернского инцидента». Но сейчас у президента не было сил вдумываться во все эти детали.
…Теперь уже не только Грэйс Талли, не только Билл Хассетт и Дороти Брэйди, не только Говард Брюнн, но и камердинер Артур Приттиман и массажист Джордж Фокс с тревогой переговаривались между собой, когда президент уезжал на прогулку. Хассетт с печалью говорил, что жить его любимому боссу, видимо, осталось не очень долго. Брюнн, как бы оправдываясь, замечал, что медицина пока еще, к сожалению, бессильна победить гипертонию, расширение сердца и общий атеросклероз — болезни, которыми страдал президент. Фокс сокрушался по поводу того, что раньше дряблыми были только ноги президента, а теперь такими же дряблыми становятся и руки….
И в то же время все надеялись, что в ближайшие дни в состоянии президента произойдет резкая перемена к лучшему. Не высказывая этого вслух, каждый связывал свои надежды с приездом Люси Разерферд.
Ближайшим окружением президента владела какая то почти мистическая вера в то, что само присутствие этой приветливой, постоянно улыбающейся женщины, излечит президента от всех его прогрессирующих недугов.
Рузвельту казалось, что время тянется бесконечно долго. Он старался больше заниматься делами. Чтобы поддерживать легенду о своем пребывании в Белом доме, президент должен был в течение первой половины дня читать десятки документов и либо подписывать их полным именем, либо ставить на них свое знаменитое «Ф. Д. Р.». Хорошо еще, что это были главным образом обычные, рутинные бумаги, не требовавшие большой затраты умственных сил и личного пребывания в Белом доме.
Из Вашингтона Рузвельту переслали специальным самолетом новые послания Сталина. Они были написаны в резком, категорическом тоне. Рузвельт понимал, что, отправляя ему эти послания, Сталин видел перед собой Черчилля, в первую очередь заинтересованного в том, чтобы сорвать ялтинские решения.
Что же содержали письма, адресованные «Лично и секретно от премьера И.В. Сталина президенту г-ну Ф. Рузвельту»?
Одно касалось Польши. В нем Сталин обвинял послов США и Англии в том, что они отошли от решений Крымской конференции. На Конференции, напоминал Сталин, было решено считать нынешнее Временное польское правительство ядром нового Правительства национального единства. Между тем послы США и Англии игнорируют это решение, «ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лондона и Временным правительством Польши». «При этом дело дошло до того, — продолжал Сталин, — что г. Гарриман заявил в Московской комиссии: возможно, что ни один из членов Временного правительства не попадет в состав Польского правительства национального единства». Высказывая свое возмущение по этому поводу, Сталин подробно, по пунктам перечислял все решения, принятые в Ялте в связи с вопросом о Польше.
Другое письмо касалось «бернского инцидента». 5 апреля Черчилль сделал неловкую попытку объяснить всю эту неприятную историю, но с характерным для него макиавеллизмом послал свое «объяснение» не Сталину, а Рузвельту. Он был уверен, что Рузвельт ответит в духе, выгодном для западных союзников, и тогда оба письма будут отправлены в Кремль как «единое его, Черчилля и Рузвельта, мнение с целью информации». Рузвельт сразу же понял, что над таким ответом Сталин просто посмеется. Черчилль знал о бернских переговорах, а Рузвельт, дескать, был в полном неведении… Наивно и неумно!
Отвечая Черчиллю, Рузвельт, конечно, понимал, что английский премьер использует его письмо в полемике со Сталиным.
Но Сталин явно раскусил этот маневр и ответил не Черчиллю, а самому Рузвельту.
Письмо Сталина было проникнуто гневной язвительностью.
«Мы, русские, — писал он, — думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника.
…Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече».
В этих сдержанных словах таился уничижающий смысл: Сталин почти открыто обвинял Черчилля и его, Рузвельта, в предательстве. В своем письме Сталину Черчилль оправдывался тем, что в Швейцарии представители США и Англии пытались всего лишь проверить полномочия представителя командующего гитлеровскими войсками в Италии фельдмаршала Кессельринга. Этих беспомощных оправданий Сталин просто не касался.
После продолжительного раздумья Рузвельт продиктовал короткое письмо Черчиллю. В нем он давал понять Лондону, что своими неуклюжими маневрами английское правительство может серьезно осложнить послевоенные отношения между союзниками. А это означало бы серьезную угрозу для дела послевоенного мира, дела, которое Рузвельт теперь считал главным в своей жизни.
Кто же был последовательнее в своем отношении к Советской России — Черчилль или Рузвельт?
Поклонник формальной логики, очевидно, сказал бы, что Черчилль. Он послал свои войска в Россию, когда там произошла революция. Его слова о том, что нужно «задушить коммунизм в колыбели» стали крылатыми, их подхватили антикоммунисты всего мира. Славу и подлинное признание народов принесли Черчиллю те дни, когда он протянул руку помощи сражающейся России, хотя сделано это было не из любви к русским, а в страхе за будущее Великобритании. Но каковы были его последующие действия? Бесконечные проволочки с открытием второго фронта, тщетные попытки открыть его не в Западной Европе, что повело бы к скорейшему разгрому вермахта, а на Балканах, дабы остановить проникновение советских войск в Восточную Европу… В этих своих действиях Черчилль был тогда вполне последователен. В этом ему трудно было отказать и теперь, накануне победы. Он стремился любыми средствами, пусть даже с помощью пленных гитлеровских войск, задержать продвижение Красной Армии на Запад. Маниакальное стремление восстановить английское лидерство в Европе не давало Черчиллю покоя. Он фактически спровоцировал трагическое прошлогоднее восстание в Варшаве в тщетной надежде, что если случится чудо и почти безоружные поляки изгонят из польской столицы немецкие танковые и моторизованные войска, то удастся в течение двух-трех часов перебросить туда на самолете из Лондона польское эмигрантское правительство, уже упаковавшее чемоданы и мечтавшее о варшавском Бельведере.
В Ялте было решено ликвидировать это правительство и создать в Польше новое, на основе коалиции демократических сил. Черчилль стремился сорвать это решение. Он был убежденным и последовательным империалистом. На его глазах происходил закат Британской империи, с которым он не хотел и не мог мириться.
Франклин Делано Рузвельт тоже был сыном своего века и — главное — своего класса. Он никогда всерьез не думал, что в послевоенном «Доме добрых соседей» Манила, Богота или Бангкок будут играть такую же роль, как Вашингтон. Лидерство Соединенных Штатов представлялось ему бесспорным и несомненным. Но на его глазах разваливался «третий рейх». Развал этот, по существу, начался сразу же после того, как его фюрер попробовал силой оружия подкрепить свои претензии на мировое господство.
Президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт, дядя Элеоноры, на заре века хотел править миром с помощью «большой дубинки», хотя и предпочитал держать ее в «мягких перчатках».
После всего, что произошло в последние годы, «большая дубинка», как бы она ни выглядела и ни называлась, наверняка вызвала бы у народов отвращение, желание вырвать ее и обратить против того, кто ею замахнулся.
А «мягкие перчатки» необходимы… Что же касается «большой дубинки», то можно вооружиться чем-нибудь и посильнее. Рузвельт, конечно, знал об исследованиях известного датского физика Нильса Бора. Итальянский физик Энрико Ферми, эмигрировавший в Америку еще в 1939 году, тщетно пытался заинтересовать своими работами американское министерство военно-морского флота. В том же 1939 году финансист Александр Сакс явился к Рузвельту с письмом знаменитого Эйнштейна. Из этого письма следовало, что, расщепив атом, можно высвободить энергию колоссальной силы и, следовательно, создать страшное оружие.
Далекий от точных наук вообще и от физики в частности, Рузвельт весело спросил Сакса:
— Что ты там затеваешь с этой бомбой?
Но чем подробнее Сакс разъяснял президенту смысл расщеплении атомного ядра, тем рассеяннее слушал его Рузвельт.
— Алекс, — сказал он, прервав Сакса, — тебе известно, что мои школьные и университетские отметки редко поднимались выше буквы «С»? Неужели ты думаешь, что я теперь в состоянии разобраться в этой абракадабре?
Но Сакс заявил президенту, что ученые фашистской Германии Отто Ган и Фриц Штрассман уже раскрыли секрет атомной бомбы и заняты сейчас ее созданием. Рузвельт задумался… Нет, он не жаждал обладать такой бомбой, но то, что ею может обладать Гитлер, встревожило его.
И хотя идея создать оружие, способное в течение нескольких секунд уничтожить сотни тысяч людей, казалась Рузвельту отвратительной, он дал указание вести работу в этом направлении.
Как бы то не было, от врага надо защищаться. Чувствовал ли он, что его жизни суждено оборваться не через годы и даже не через месяцы, а спустя считанные дни?
Он привык бороться со своей физической немощью и продолжал эту борьбу. По настоянию Макинтайра и Брюнна несколько сократил курение — раньше он выкуривал по две пачки сигарет «Кэмел» в день.
Все внимание Рузвельта было поглощено теперь грядущим послевоенным миром. Отказаться от мыслей о нем он не мог бы, даже если бы знал, что ему не суждено этот мир увидеть.
Покончив с почтой из Вашингтона, а иногда и не дочитав ее, он добирался в своей коляске до другого стола… Здесь были разложены материалы, связанные с предстоящей Конференцией в Сан-Франциско.
Рузвельт любил своих детей, но с того времени, когда он понял, что Гитлер проиграл войну окончательно и бесповоротно, любимым детищем его стала идея «Дома добрых соседей». Воплотить в жизнь эту идею значило для президента — создать Организацию Объединенных Наций.
Думая о предстоящей Конференции в Сан-Франциско, Рузвельт хотел сам предусмотреть все, начиная от обеспечения безопасности делегатов вплоть до размещения их в зале заседаний. Он отмахнулся от Хассетта, напомнившего ему о том, что президенту предстоит выступить с традиционной речью в День Джефферсона и что до этого дня осталось меньше недели.
Рузвельт самым тщательным образом готовился к любому из своих публичных выступлений. Но теперь, ожидая приезда Шуматовой и Люси, он поручил подготовить проект своей речи ко Дню Джефферсона национальному комитету демократической партии. Проект ему прислали, но он его отверг и распорядился привлечь к работе над ним Сэма Розенмана. Однако того не было в Вашингтоне. Он вел в Лондоне переговоры о переброске части американского продовольствия из Англии на европейский континент.
— Тогда пусть речью займется Боб, — сказал он Хассетту. Он имел в виду Роберта Шервуда, писателя, который также входил в узкую группу доверенных лиц президента, работавших над проектами его речей.
Отредактированный Шервудом проект вновь не удовлетворил его. Президент подумал, что хорошо было бы послать документ Гопкинсу. Но верный помощник Рузвельта по-прежнему был тяжело болен. Раздраженный тем, что его отрывают от любимого занятия, президент приказал убрать со стола бумаги, связанные с Сан-Франциско, и сам взялся за подготовку речи. Дрожащей рукой он правил многие абзацы, многое вычеркивал, многое вписывал вновь. Перечитывая речь, убеждался, что она ему по-прежнему не нравится.
Наконец он резким движением отодвинул от себя рукопись и, вызвав Хассетта, сказал:
— У меня ничего не выходит. Я устал. Поработай над речью еще и ты. И скажи, чтобы вывели машину. Проветрюсь, подышу немного воздухом.
Прогулка, предпринимаемая в неурочный час, немного удивила Хассетта. Однако он предупредил Майка Рилли и позвонил в гараж, чтобы президенту подали его «форд».
Рилли заметил, что если раньше президент выбирал для своих автомобильных прогулок самые разнообразные маршруты, то теперь предпочитал лишь один: к горе Пайн Маунтин, возвышавшейся над Уорм-Спрингз, над его коттеджами, сельскими домиками, над лесами и озерами. Поднявшись на гору, президент выключал двигатель, ставил машину на тормоз и долго сидел молча, вглядываясь в даль.
Что виделось ему в пустынной и безмолвной дали? Родной Хайд-Парк? Разоренная Европа? Кровоточащая, но не потерявшая, а удвоившая свою богатырскую силу Россия? Или здание его воплощенной мечты — «Дом добрых соседей»?
А может быть, даже его, не склонного к рефлексии, волевого, жизнерадостного человека, уверенного в своих силах прагматика, посещала в эти минуты роковая мысль о том, что вряд ли ему суждено достроить этот «Дом»?..
Согласно Конституции США, в случае смерти президента или неспособности управлять страной, место его автоматически занимает вице-президент…
Значит, Трумэн? Странно, но Рузвельт толком даже не знал этого человека, хотя, учитывая сложную ситуацию в демократической партии, был вынужден предложить на последних выборах его кандидатуру на пост вице-президента. Особого доверия к нему Рузвельт не испытывал. Он знал, что Трумэн энергичен, связан со многими промышленными магнатами, что его кандидатуру решительно поддерживает национальный комитет демократической партии.
Но каковы взгляды Трумэна на будущее мира? Ведь это он заявил, что было бы отлично, если бы Россия и Германия взаимно обескровили друг друга! Признал ли бы он в 1933 году Россию? Вступил ли бы с ней в военный союз? Как повел бы себя на месте президента США в Тегеране и Ялте?..
До сих пор Рузвельта все это просто не интересовало. Трумэн никогда не входил в круг его доверенных лиц, да и к должности вице-президента Рузвельт относился как к чисто представительской. Пусть председательствует в сенате — это вице-президенту полагается, пусть иногда присутствует на заседаниях кабинета министров…
Нет, вряд ли, сидя в своем «форде», Рузвельт размышлял о Трумэне. Несмотря на болезнь, на чудовищное переутомление, Рузвельт не мог себе представить, что настанет время, когда его, Рузвельта, не будет на земле.
Более того, он всегда верил, что завтрашний день будет для него гораздо лучше вчерашнего. Верил в это вопреки мнению врачей. Теперь и он сам и те, кто его окружал, верили в это особенно горячо. Все были убеждены, что Люси Разерферд, до приезда которой оставались считанные дни, сотворит чудо.
Не образ ли этой женщины возникал перед глазами президента, когда он сидел в своей машине, на вершине горы, вглядываясь в пустынную даль?..
Глава шестая ПУТЕШЕСТВИЕ МЫСЛИ
С утра президент был в каком-то трансе. Он не стал читать очередную почту, не перебрался к столу, где лежали бумаги, связанные с Сан-Франциско. Все свое внимание он сосредоточил на каминных часах, глядя на них почти безотрывно. Иногда спрашивал Хассетта или Талли, который час, — ему казалось, что те, каминные, часы отстают.
Никогда еще время не тянулось для Рузвельта так медленно, даже в те дни, когда он ожидал результатов голосования на очередных президентских выборах…
Какой-то невидимый враг незаметно придерживал стрелки часов, и они едва-едва двигались по фарфоровому циферблату.
В три часа пополудни Майк Рилли вошел в кабинет президента и доложил, что машина подана.
Президент рванулся вперед, больно ударился грудью о край стола и раздраженно воскликнул:
— Так поедем же! Почему мы не едем?!
Рилли позвал Приттимана. Вдвоем они усадили Рузвельта в коляску и покатили ее к выходу.
Президентский «форд» стоял между двумя машинами с охранниками. Как только появилась коляска с президентом, первая машина двинулась вперед и остановилась метрах в ста поодаль. Вторая на несколько десятков метров отъехала назад — президент не любил, когда охрана его «зажимала».
Рузвельта перенесли на шоферское сиденье «форда». Рилли уселся рядом. Президент повернул ключ зажигания, включая мотор. Вскоре все три машины выехали на шоссейную дорогу. Они миновали маленькие городки — Манчестер и Вудлэнд и направились к Тэлботтону, близ которого шоссе номер «44» пересекалось с шоссе номер «208».
Неожиданно президент подался вперед, почтя ложась грудью на рулевое колесо: он увидел неясный еще силуэт большого автомобиля, стоявшего у пересечения дорог. Это был «кадиллак» с открытым верхом. Рузвельт знал, что это ее машина.
Еще не различая стоявшую во весь рост в «кадиллаке» Люси, но уже угадывая очертания ее фигуры, Рузвельт высоко поднял руку и приветливо помахал ею…
Первая машина с охраной увеличила скорость, промчалась мимо «кадиллака» и остановилась на почтительном расстоянии от него. Другая замерла как вкопанная. Рузвельт на своем «форде» почти вплотную подъехал к «кадиллаку».
Дверь машины открылась, и высокая стройная женщина вышла из нее и поспешно направилась к «форду».
Рилли тотчас освободил место рядом с Рузвельтом и приветствовал Люсн, на что она ответила ему любезной улыбкой.
Спустя еще несколько мгновений Люси Разерферд опустилась на сиденье «форда» рядом с президентом, молча положила руки ему на плечи и притянула его к себе…
Им было совершенно безразлично, видит ли их кто-нибудь сейчас. Все, кто мог их видеть, давно знали, что ни болезнь, ни время, ни светские условности, — ничто не могло разрушить то непреходящее чувство, которое эти уже далеко не молодые люди питали друг к другу.
Для Люси в этом чувстве сосредоточилось все самое лучшее, что дала ей жизнь.
О нет, она вовсе не была золушкой, которую некогда увидел у себя на балу принц Франклин. Отец Люси был аристократом, а мать — светской женщиной, как говорили, самой красивой в Вашингтоне.
Финансовое положение родителей Люси к концу их жизни ухудшилось, но они все же успели дать дочери первоклассное образование, при этом европейское: Люси обучалась неподалеку от Вены, наставницей ее была графиня Хензенштамм.
К счастью для Люси, ни светская жизнь, ни европейское образование, которым в то время мало кто мог похвастаться, не отвратили ее от труда. Обстоятельства сложились так, что она стала секретарем Элеоноры Рузвельт, жены будущего президента США. Познакомившись с молодой и очень привлекательной Люси Мерсер, Рузвельт полюбил ее горячо и на всю жизнь.
Элеонора Рузвельт была требовательной, деятельной женщиной, участвовала в десятках общественных организаций. Муж с уважением относился к ее знаниям и обширным связям. А Элеонора сразу оценила своего секретаря, молоденькую, умную и интеллигентную женщину. Вскоре Люси стала ей просто необходима. Между тем чувство, которое Рузвельт питал к обаятельной Люси Мерсер, развивалось и крепло.
Затем он стал президентом огромной страны, раздираемой внутренними противоречиями. Ему приходилось примирять непримиримое, отбиваться от многочисленных наветов, с садистской жестокостью распространяемых подкупленными журналистами, получать удары от людей, которые по справедливости должны были бы его благодарить. Он вел страну в будущее, постоянно слыша вопли о том, что ведет ее к пропасти…
Полного счастья и спокойствия Рузвельт не находил и в семье, хотя любил ее, любил детей, любил — скорее уважал — жену…
Ни его государственная деятельность, ни семья, ни короткие часы отдыха, когда Рузвельт совершал автомобильные прогулки, плавал в бассейне или склонялся с лупой в руке над очередной почтовой маркой, не давали ему того, на что имеет право каждый, — ощущения человеческого счастья.
Только мысли о Люси, только редкие свидания с ней помогали Рузвельту чувствовать себя просто человеком, перенестись, пусть на короткие часы, пусть на мгновения, в обетованный уголок его души. И Люси любила Рузвельта не менее горячо, чем он ее. Франклин был для нее прежде всего личностью, человеком с большой буквы. Она разделяла его взгляды на мир, на жизнь и на смерть.
…Никто и никогда не узнает, о чем разговаривали сейчас Рузвельт и женщина, занимавшая такое место в его сердце.
Они были поглощены друг другом и даже не заметили, что из машины, в которой приехала Люси, вышла плотного сложения женщина в синем жакете — художница Елизавета Шуматова. Некоторое время она стояла в нерешительности. В «кадиллаке» остался фотограф Николас Роббинс, сидевший за рулем. В газетных и журнальных архивах он собрал для Шуматовой бесчисленное количество снимков президента. Здесь, в Уорм-Спрингз, он должен был сам фотографировать Рузвельта — художница опасалась, что президент не сможет уделить ей достаточно времени, и полагала, что снимки, сделанные Роббинсом, помогут ей в работе.
Рилли сел на место Шуматовой, рядом с Роббинсом — он понимал, что президент не захочет, чтобы в его машине ехал кто-то третий. Однако Шуматова, модная художница, избалованная вниманием «сильных мира сего», портреты которых она рисовала, после короткого раздумья решительно направилась к «форду», на ходу приветствуя президента.
Не ожидая приглашения, она уселась в салоне вместе с президентом и Люси. Земля обетованная, на которой только что блаженствовал Рузвельт, мгновенно исчезла, он снова оказался в мире реальности.
Рузвельт любезно поздоровался с Шуматовой и осведомился о ее самочувствии. Потом включил мотор. Тотчас пришли в движение машины охраны. Президентский кортеж развернулся на перекрестке шоссейных дорог и направился в Уорм-Спрингз.
К работе над ответом Сталину на его два письма от 7 апреля Рузвельт так и не приступал.
Он чувствовал, что внутренне все еще не готов к нему.
Написать формальное письмо, касающееся «бернского инцидента» или подтверждающее ялтинские решения о Польше, не составило бы для Рузвельта особого труда. Но он хотел разъяснить Сталину, что тот недооценивает готовность американцев честно сражаться бок о бок с советскими войсками. Понять это Сталину, как предполагал Рузвельт, мешали идейные разногласия с западными союзниками, и он выискивал причины для необоснованных упреков.
Изложить все это в рамках ответов на вопросы, затронутые Сталиным, было невозможно.
Но Рузвельту хотелось вырваться за эти рамки.
Торопился ли он потому, что реально оценивал свое физическое состояние, понимал, что жить ему осталось недолго, и хотел подготовить все для того, чтобы его излюбленная мысль восторжествовала, даже если сам он перестанет существовать?
Или и в данном случае он оставался прежде всего человеком дела?
Чувствуя приближение конца, классический капиталист не предается рефлексии, не опускает рук, не ждет покорно смерти, но, наоборот, денно и нощно работает над завершением своих земных дел, пишет и переписывает завещание, охваченный желанием предусмотреть все, что представляется ему наиболее важным. Привыкший загребать деньги при жизни, он расписывает все так, словно хочет обеспечить не только семье, но и самому себе те же доходы и на том свете.
Рузвельта поглощали мысли совсем иного рода. Он размышлял вовсе не о своем личном состоянии и не о благополучии семьи.
И не о своей посмертной славе размышлял Рузвельт в эти дни, которым суждено было стать последними в его жизни.
Президент размышлял о будущем Америки.
Нет, он не мечтал ни о каких коренных социальных переменах. Пусть американцы продолжают обогащаться! Но Рузвельт понимал, что непомерное обогащение идет рука об руку с жаждой власти, а чрезмерная власть рождает мечту о мировом господстве. Гитлер показал всему миру, как это происходит.
Теперь Гитлер фактически разгромлен. Но ведь еще кто-то из древних пришел к выводу, что опыт предыдущего поколения никогда ничему не научил последующее… А ведь это последующее поколение — а может быть, уже и нынешнее! — будет обладать новым смертельным оружием — атомной бомбой. Рузвельт хорошо знал, что подготовка к ее испытанию где-то в районе далекого Аламогордо идет полным ходом.
Два пути открывались ныне перед Америкой.
Агрессор, угрожавший человечеству, разгромлен, в достигнуто это в союзе со страной, признать которую близорукие люди в Америке категорически отказывались немногим более десяти лет назад. Продолжать ли этот союз и в мирное время? Или теперь, когда опасность для Америки миновала, снова возопить о «красной опасности» и о «руке Москвы»?..
Как же уговорить, а если надо, то заставить, — да, заставить! — людей жить в мире?..
Как убедить Сталина, что Соединенные Штаты не будут относиться к СССР, как к тому мавру, который, сделав свое дело, может уйти? Ведь в ином случае Сталин может взять обратно свое обещание, данное в Ялте, и не вступит в войну с Японией на стороне Соединенных Штатов через два-три месяца после окончательного разгрома Германии…
Да, Черчилль склонен относиться к Советскому Союзу как к пресловутому мавру. Теперь, после того как русские нанесли решающий удар по гитлеровской военной машине, Россия, по мнению Черчилля, может «уйти». Уйти, оставив в европейской земле многие сотни тысяч солдат, и довольствоваться своей западной границей 1939 года. Согласиться с этим значило бы помочь Черчиллю поставить во главе стран Восточной Европы новых английских марионеток — королей, президентов, премьер-министров…
Рузвельт не любил Великобританию. Говорил ли он это в глаза британскому премьеру? Однажды на обед в Белый дом был приглашен американский писатель и публицист Луис Адамик. Когда это было? Давно? Недавно? Кажется, в самом начале сорок второго… Пригласили немногих, в том числе находившегося в Вашингтоне Черчилля. Именно тогда Рузвельт, обращаясь к жене Адамика Стелле, сказал негромко, но так, чтобы Черчилль мог это слышать:
— Вы знаете, мой друг Уинстон не понимает, как большинство американцев относится к Британии и ее роли в жизни других народов. Я все время пытаюсь объяснить ему, что он должен это учитывать. Британия — наш союзник. Мы никогда не оставим ее в беде. Но неприязнь к Британии стала американской традицией. Причины? Их немало. И революция, и 1812 год, и Индия, и англо-бурская воина… Как народ, как страна, мы против империализма, мы ненавидим его…
Сейчас трудно сказать, говорил ли все это Рузвельт всерьез или просто «эпатировал» своего высокомерно-самоуверенного друга? И все же не только этот разговор, но и десятки других фактов свидетельствуют: Рузвельт ценил, но не любил Черчилля.
…Стелла сказала тогда, что недавно прочла книгу Джозефа Конрада «Сердце тьмы», в которой дана омерзительная картина империализма.
— Вот, вот, — подтвердил Рузвельт и громко сказал, глядя на Черчилля, демонстративно отвернувшегося в сторону: — Именно этого мой друг не понимает…
Обращаясь уже непосредственно к Черчиллю и, очевидно, желая смягчить свою резкость, Рузвельт добавил:
— Видит бог, я не отношусь к англичанам с антипатией теперь, когда мы вместе спасаем цивилизацию. Но в молодые годы…
Последнее слово осталось за Элеонорой. Прощаясь с Адамиками, она сказала:
— Вы понимаете, дорогие, президент никак не может объяснить сэру Уинстону, что за страна Америка. Я пыталась помочь, но тщетно. Я говорила с мистером Черчиллем и вчера и сегодня. Он заявил: «Мы победим народы Европы…» Как я могла ему объяснить, что многие американцы — выходцы из Европы? Все мы хотим сбросить захватчика и освободить народы Европы, точнее, помочь их освобождению… Я посоветовала премьер-министру прочесть ваши книги, мистер Адамик, в частности, замечательную «Дорогу с двусторонним движением». Вы так хорошо описали глубокие связи американцев со многими европейскими странами…
— Что ответил премьер? — спросила Стелла.
— Сказал, что все понимает. Но у меня на этот счет другое мнение.
Когда гости разошлись, Рузвельт еще долго говорил с Элеонорой. Кажется, тогда он сказал:
— Меня обвиняют в том, что я подменяю заботу о послевоенном могуществе Америки филантропическими мечтами о всеобщем мире на земле. Нет, я за могущественную Америку. Но пусть ее могущество будет достигнуто не только оружием, в том числе и атомным, а разумной организацией жизни внутри страны. Пусть Америка влияет на другие страны своим примером, демократическим устройством, экономикой, постоянной готовностью жить в мире со всем миром.
Если рядом не было Люси, президент все свое время посвящал «Дому добрых соседей».
Он любил работать в маленькой гостиной. Несмотря на малые размеры, это была все же самая просторная комната его резиденции. Небольшой коричневый письменный стол располагался справа от камина, облицованного серым камнем — единственная измена коричневому цвету во всем «Маленьком Белом доме». На камине стояла небольшая, в массивной раме картина, изображающая парусник на фоне голубого моря.
По левую сторону камина возвышалась книжная полка, а возле нее — диван, обитый коричневато-бежевой материей.
Письменный стол президента был по-прежнему завален картами, чертежами, проспектами и другими материалами, касающимися Сан-Франциско.
…В пять часов вечера явился Билл Хассетт. Главным секретарем президента он стал недавно, в начале прошлого года, — вскоре после того, как умер Марвин Макинтайр. Рузвельт высоко ценил Хассетта за его необыкновенную эрудицию, феноменальную память и исключительную оперативность — он успевал выполнять все указания президента.
Сейчас в папке Хассетта лежал документ, которому Рузвельт придавал большое значение.
— Я побеспокоил вас, сэр, для того, чтобы… — полупочтительно — полуфамильярно начал было Хассетт.
— К черту… — пробурчал Рузвельт. — Что у вас там? Кроме Сан-Франциско, меня интересует сейчас только одно дело.
— Речь по случаю Дня Джефферсона?
— Вот именно.
Особое внимание, которое Рузвельт уделял этой речи, объяснялось отнюдь не тем, что он хотел отвлечься от проблем, связанных с Сан-Франциско. Как раз наоборот! В традиционной «джефферсоновской» речи, которую президенту предстояло произнести по радио 13 апреля, должен был прозвучать призыв к дружбе между народами — никакой разумной альтернативы ей Рузвельт не видел.
Президент буквально вырвал папку из рук Хассетта и, раскрыв ее, погрузился в чтение. Он даже не заметил, как, собрав остальные бумаги, Хассетт вышел из кабинета.
Нет, и новый вариант речи не удовлетворил Рузвельта, он понял это сразу, пробежав первые страницы.
Он снова взялся за дело сам. Коренным образом перестраивал рукопись. Он вовсе не рассматривал ее как политическое завещание, он знал только одно: она не должна походить на те традиционные речи, которые произносились в этот день президентами Америки. Идеи Джефферсона должны прозвучать в ней как призыв, как лейтмотив американской демократии, а не как молитва, заклинание или просто привычная дань признательности Великому Американцу.
У Джефферсона нужно взять все, что звучит сегодня, все те мысли, которые можно положить в фундамент «Дома добрых соседей».
Проработав больше двух часов, президент почувствовал, что смертельно устал. К тому же наступало время обеда. Но есть не хотелось. В последнее время он вообще лишился аппетита, а врачи требовали, чтобы он прибавил в весе хотя бы три-четыре килограмма. Но любая еда казалась теперь Рузвельту невкусной. Он посмотрел в окно. Было еще относительно светло — сумерки только близились. Прогулка! Небольшая прогулка за пределы Уорм-Спрингз, вот что ему сейчас было нужно!
Он вызвал Хассетта, сказал ему, что постарается закончить работу над речью завтра, а пока что пусть зайдет Рилли.
Черноволосый, похожий на голливудского киноактера Майк Рилли появился незамедлительно.
— Я собираюсь на прогулку, Майк, — сказал Рузвельт.
— Куда именно, сэр? — осведомился Рилли.
Обычно прогулки президента ограничивались поездкой по деревне или в живописное местечко Ла Грэйндж, откуда открывался красивый вид на окрестности. Маршрут этих прогулок был уже отлично разработан охраной. Достаточно было двух трех условных сигналов по телефону или по радио, чтобы обеспечивалась безопасность маршрута.
Рилли надеялся в ответ на свой вопрос услышать «В сторону Ла Грэйндж», что означало бы, что Рузвельт выбрал прежний, привычный маршрут, но президент, словно назло ему, сказал:
— В горы. На вершину Пайн Маунтин.
— Может быть, вы разрешите дать вам сопровождающего, господин президент?
— А кто тебе сказал, Майк, что я поеду один? — с легкой усмешкой переспросил Рузвельт.
«Идиот!» — мысленно обругал себя Рилли. Забота о безопасности президента была главным делом его жизни. В Тегеране, в Ялте, в Каире, на Мальте Рилли оцеплял улицы, по которым мог проехать президент. Посылки на имя Рузвельта просвечивались рентгеновскими лучами.
Примерно сорок тысяч писем ежемесячно поступало в Белый дом. Пять тысяч из них немедленно становились достоянием Рилли. Это были письма тех, кто клялся свернуть президенту шею или пристрелить его на месте…
Рилли обижало подчеркнуто пренебрежительное отношение президента к секретной службе. Но он утешал себя тем, что отвечает за жизнь одного из лучших президентов, которые когда-либо управляли страной.
«Идиот», — повторил про себя Рилли, чувствуя, что краснеет. Конечно же, президент поедет не один, а с Люси Разерферд! Эта женщина предана ему больше, чем самый бдительный охранник.
— Сейчас шесть сорок, — подчеркнуто официально сказал Рилли, взглянув на свои ручные часы. — Когда выезд?
— Через двадцать минут. Тебя это устраивает, мой ангел-хранитель? Или ты должен испросить согласия у своего хозяина — господа-бога?
— Мой хозяин — вы, сэр, — не принимая шутки, ответил Рилли и вышел из комнаты.
Они выехали ровно в семь. Чтобы собраться, Люси не понадобилось и двадцати минут. Всю вторую половину дня она, видимо, только и делала, что ждала, когда президент позовет ее в гостиную или пригласит на прогулку.
Рузвельта перенесли в его «форд», а в три минуты восьмого стоявшая в ожидании на пороге своего коттеджа Люси вошла в машину и села рядом с президентом.
На Люси была широкополая шляпа. Рузвельт хотел сказать, что для поездки в открытой машине больше подошла бы другая шляпа, но промолчал. Из-под широких полей этой шляпы глаза Люси казались еще более лучистыми и глубокими, чем всегда.
— Куда мы поедем? — спросила Люси. — К Ла Грэйндж?
— Нет. Я разлюбил это место. Теперь я предпочитаю Пайн Маунтин. — Он показал на высокий, пологий холм, подернутый предвечерней дымкой. — Ближе к небу…
Обитатели «Маленького Белого дома» уже успели наговорить Люси немало тревожного о том состоянии, в котором находится президент. Поэтому последние его слова произвели на нее мрачное впечатление. Она сделала все, чтобы президент этого не заметил.
— Ты намекаешь на то, что браки заключаются на небесах? — с улыбкой спросила она.
Несмотря на веселый тон, шутка прозвучала искусственно.
Люси впервые была наедине с Рузвельтом после того, как он вернулся из Ялты. Она знала: президент занят, безумно занят! Несколько раз поднимала телефонную трубку, чтобы вызвать Белый дом. Она не сомневалась, что Хэкки раздобыла бы ей президента, где бы он ни находился. Недаром о ней говорили: «Если человек жив и обитает на этой планете, Хэкки непременно до него дозвонится». Люси наверняка услышала бы в ответ: «Сейчас попробую, дорогая!» Или: «Ну, конечно! Президент будет очень рад!»
Однако в последние месяцы Люси не звонила в Белый дом. Может быть, она смирилась наконец с неумолимым временем, с тем, что война наложила тяжелое бремя на плечи президента, он постарел, да и сама она….
«Нет, нет, нет! — в то же время упорно твердила, почти кричала себе Люси. — Наше чувство не подвластно времени!»
Дело было не в том, что перед глазами Люси всегда стоял образ того Рузвельта, с которым она познакомилась много лет назад, — молодого, красивого, сильного. Но и жестокая, безысходная болезнь, превратившая полного сил человека в инвалида, лишь еще больше привязала Люси к нему. Если бы он не был женат, если бы не занял впоследствии самый высокий пост в государстве, она, Люси, казалось, могла бы заменить ему всех: жену, секретарей, камердинера, кухарку. У нее хватило бы сил на это.
В такой же любви к президенту Люси воспитывала и свою дочь Барбару.
Сравнительно недавно она познакомилась с Елизаветой Шуматовой. популярной художницей, русской эмигранткой, покинувшей родину вместе с семьей за несколько дней до Октябрьской революции. Муж Елизаветы был командирован Временным правительством в Соединенные Штаты для переговоров о поставках оружия России — первая мировая война еще продолжалась. Воспитанная в дворянской военной семье, с детства знавшая английский язык, обладавшая даром художницы-портретистки, Шуматова быстро акклиматизировалась в Штатах. Теперь, когда ей было за шестьдесят, она пользовалась известностью в светских кругах Вашингтона, Нью-Йорка и других крупных городов Америки.
Первый портрет Рузвельта, который Шуматова нарисовала в позапрошлом году в Белом доме по протекции Люси, был невелик по размеру: двенадцать на десять дюймов. Его цветные репродукции вскоре наводнили всю Америку.
Нынешний портрет, к которому Шуматова собиралась приступить завтра, Люси заказала для своей дочери Барбары. Пусть дочь знает, кем был для матери этот человек! Пусть знает, что на свете есть любовь, которой не страшны любые земные испытания.
Занятая своими мыслями, Люси время от времени украдкой поглядывала на сидевшего рядом с ней человека.
Да, президент выглядел плохо. Она обратила внимание на это и при первой встрече несколько часов назад. Серый цвет лица, особенно заметный на фоне белоснежной рубашки. Глубокие складки, идущие от носа к уголкам рта. Необычная худоба…
Она должна сегодня же поговорить с врачом! Ведь все это могло быть просто следствием нечеловеческого переутомления. Перелеты, встречи, конференции… Иногда Люси встречалась с Рузвельтом, когда он был вконец измучен предвыборными поездками, когда ему приходилось произносить стоя по десятку речей в день. Тогда он выглядел примерно так же, как сегодня…
Но потом начинались массажи, физические упражнения, плавание в бассейнах, прогулки на яхте. Мало-помалу силы возвращались к президенту. «Так будет и сейчас. Непременно будет!» — убеждала себя Люси.
Они ехали молча. Наконец машина остановилась.
— Вот мы и на седьмом небе, — поворачиваясь к Люси, с улыбкой произнес президент.
Вид отсюда открывался в самом деле замечательный. Белые домики Уорм-Спрингз казались игрушечными. По другую сторону горы была видна железная дорога в Атланту. По ней, похожий на длинную гусеницу, медленно двигался поезд.
— Как здесь хорошо и спокойно, — сказала Люси, кладя свою ладонь на руку Рузвельта, все еще лежавшую на руле.
— Да, — тихо ответил он. — Трудно себе представить, что где-то еще умирают люди. Тысячи людей. Сотни тысяч…
— Но война идет к концу. Мы побеждаем! Я читала сообщения в утренних газетах. Наши войска недалеко от Берлина.
— Отцу или матери все равно, погиб их сын за тысячи миль от Берлина или на подступах к нему, — задумчиво проговорил Рузвельт. — Послушай, Люси, — неожиданно сказал он, — ты веришь в переселение душ?
— Переселение душ? — переспросила Люси. Она хорошо знала Рузвельта: иногда он любил поболтать с близкими ему людьми на «потусторонние» темы.
— Если души и впрямь переселяются, — продолжал Рузвельт, — кем бы ты хотела быть в очередном воплощении?
— Собой. И чтоб ты тоже родился собой. И чтобы мы снова любили друг друга и были счастливы.
— Разве ты была счастлива, Люси? — с грустью спросил Рузвельт. — Ты никогда не спрашивала, почему я люблю тебя. И я никогда не задавал тебе такого вопроса. Где-то я прочитал страшную фразу: если человек знает, почему он любит, значит, он не любит. Но я не об этом. Нашему счастью мешали причины, которые были сильнее нас.
— Да, да! — воскликнула Люси. — И никто не виноват, что наша жизнь сложилась так, а не иначе.
— Я тоже, как и ты, хотел бы снова родиться собой, — задумчиво сказал Рузвельт.
— И чтобы мы всегда были вместе!
— Да, конечно. Но сейчас я подумал о другом. Мне хотелось бы еще кое-что сделать в этой жизни, но боюсь, что времени может не хватить.
Люси показалось, что на мгновение Рузвельт отдалился от нее. Чтобы вернуть его, она положила другую свою руку поверх руки президента.
— Почему так крепко? — с грустной улыбкой спросил Рузвельт. — Разве мы прощаемся?
— Нет, нет! — поспешно ответила Люся. — Просто мне кажется, что так я берегу наше счастье. Чтобы оно никогда не вырвалось из наших рук.
— Счастье без будущего…
— Если счастье существует, оно и есть будущее, Фрэнк. Ты чем-то расстроен? — после паузы с тревогой спросила Люси. — Нам с тобой что-нибудь угрожает?
— О нет!
— Тогда хоть на несколько минут забудь о своих заботах. Мне кажется, ты сейчас где-то далеко от меня.
Рука президента чуть дрогнула. Он поднял ее и положил на плечо Люси.
— Послушай, — неожиданно спросил он, — ты не знаешь, сколько миль пробегает луч света в секунду?
— Сколько миль? — озадаченно переспросила Люси. — А почему ты об этом вспомнил?
— Мне пришла в голову фантастическая идея: а что если можно было бы оседлать этот луч? Вернее, не луч, а мысль! Этот способ передвижения во времени наверняка был бы быстрее света. Раз — и я еще учусь в Гротонской школе. Два — и я вновь в Тегеране… Огромные отрезки времени и гигантские пространства можно было бы преодолеть в течение одной лишь вспышки мысли.
— Куда же ты полетел бы? — включаясь в эту игру, спросила Люси. — В другие миры?
— Нет, зачем так далеко? Оставим эту фантастику астрономам. С меня хватило бы промчаться лет на двадцать вперед.
— Зачем?
— Хотя бы затем, чтобы посмотреть, как будут жить люди. Поумнеют или поглупеют?.. Но и путешествие на несколько десятилетий назад тоже имело бы смысл. Проверить, не наделал ли я в прошлом каких-нибудь глупостей. Путешествие в прошлое, пожалуй, еще рискованнее, чем полет в будущее.
— Почему?
— Когда-то я прочитал фантастический рассказ. Человека послали в прошлое, чтобы расследовать историю только что совершенного преступления. Но с одним условием: там, в прошлом, он не имел права вмешиваться в ход событий.
— Это ужасно, — тихо сказала Люси. — Это несовместимо с человеческой совестью.
— Поэтому я и пытаюсь вмешиваться и в прошлое и в будущее.
— И тебе это удается? — робко спросила Люси.
— О нет, милая, нет, — с чувством воскликнул Рузвельт, не снимая руки с плеча Люси и лишь крепче прижимая ее к себе. — Мы с тобой никогда не делали глупостей. Все, что мы делали, было правильно.
Некоторое время они сидели молча.
— Хочешь, я открою тебе тайну? — снова заговорил Рузвельт. — Все, кто меня окружает, — Макинтайр, Брюнн, Хоссетт, даже Рилли, — уверены, что я засыпаю в ту же минуту, когда кладу голову на подушки и закрываю глаза.
— Я тоже всегда так считала, — сказала Люси. — Врачи находят, что эта способность — залог твоего прекрасного здоровья.
— Я не сплю, Люси — тихо сказал Рузвельт. — Я всех обманываю. Просто я тихо лежу, задаю себе вопросы и тут же отвечаю на них. Путешествие мысли!
— Фрэнк, — тихо сказала Люси, — я тоже хочу задать тебе один вопрос.
— Любой.
— Когда я ехала сюда, мне говорили, что ты очень утомлен. Но я много раз видела тебя и усталым и раздраженным. Но сейчас… Конечно, я вижу, сейчас ты переутомлен. Но дело не только в этом. Я вижу, что ты чем-то обеспокоен.
Она пристально смотрела на Рузвельта своими, казалось, всевидящими глазами.
— Можешь не отвечать мне, Фрэнк. Ты же не просто человек. Ты глава великого государства. Кое-кто не раз намекал, что ты, забывая свой долг, доверяешь мне государственные тайны. Мы с тобой знаем, что это неправда. Люди не хотят понять, что мы просто любим друг друга. Так вот, во имя нашей любви: что мучает тебя?..
— Да, ты права, Люси, — после паузы сказал Рузвельт. — Дело моей жизни поставлено под угрозу. Сталин хочет свести на нет мой план Организации Объединенных Наций.
— Сталин? — переспросила Люси. — Ты о нем так дружелюбно отзывался…
— Недавно Сталин сделал шаг, из-за которого Конференция в Сан-Франциско может во многом потерять свое значение.
— У него были для этого основания?
— Не знаю… Может быть, и были.
— Фрэнк, я не хочу ничего выпытывать у тебя. Только один вопрос. Ты был безупречен по отношению к этому человеку?
— Не знаю, — после раздумья ответил Рузвельт. — Может быть, у него и были основания…
— Тогда позволь напомнить тебе фразу Эмерсона, которую ты так любишь повторять: «Если хочешь иметь друзей, будь другом сам».
Снова наступило молчание.
— Можно… я поцелую тебя? — тихо спросила Люси.
Вместо ответа Рузвельт лишь прижал щеку Люси к своей. Она положила ладонь на его редеющие волосы. Ее широкополая шляпа упала на колени президенту.
— Надо ехать, Люси, — уже другим, деловым, будничным тоном сказал Рузвельт. — Нас ждут с обедом.
— Да, да, конечно, — поспешно согласилась Люси. Она пожертвовала бы всем на свете, лишь бы не расставаться с ним, сидеть рядом, разговаривать. А может быть, и молчать. Они умели разговаривать молча…
Но Рузвельт уже включил зажигание.
Глава седьмая ПЕРВЫЙ ШАГ В ПРОШЛОЕ
Итак, сегодняшний день после полудня принадлежал Шуматовой. Она собиралась начать рисование после двенадцати — ей нужно было, чтобы солнечный свет в окно падал непременно с запада.
Когда она вошла с гостиную — кабинет президента, Рузвельт уже сидел в своем большом коричневом кожаном кресле слева от камина.
Две кузины президента расположились на широком диване, Люси Разерферд несколько поодаль, в кресле.
Перед президентом стоял небольшой, похожий на ломберный, столик, и Шуматова увидела спину склонившегося над ним Хассетта, который вынимал из папки какие-то бумаги и подавал президенту.
Рузвельт просматривал документы мгновенно. Некоторые подписывал инициалами, другие возвращал без подписи. Погруженный в работу, он не сразу обратил внимание на художницу.
Шуматова отметила, что президент одет именно так, как она просила, — в темно-синей военно-морской накидке, темно-сером костюме и красном гарвардском галстуке.
Потом она стала устанавливать свой мольберт — это тотчас привлекло внимание президента. Демонстративно отстранив Хассетта, он протянул руку Шуматовой с таким выражением, словно хотел встать и пойти ей навстречу. Художница почти подбежала к креслу и пожала руку президенту. Ей показалось, что ладонь его стала более мягкой, вялой, не такой, как при рукопожатии в Белом доме два года назад.
Хассетт поспешно собрал со столика оставшиеся бумаги и ушел.
— Рад снова видеть вас, миссис Шуматова, — с улыбкой произнес Рузвельт.
Это дружеское приветствие стоило президенту больших усилий. Мысли его по-прежнему были заняты ответом Сталину и «джефферсоновской» речью, которую он так и не успел закончить.
Но президент справился с собой.
Сейчас ему вообще не хотелось ни о чем думать — пусть этот сеанс рисования станет для него отдыхом. Впрочем, если он будет молчать, это покажется художнице невежливым. Разговаривать с ней придется, но только на самые отвлеченные темы. В конце концов это ведь тоже отдых.
Художница устанавливала свой мольберт, размещала на маленьком раскладном столике-скамейке кисти, краски, тряпки для очистки кистей и при этом непрерывно говорила. О чем? О чем угодно. Ее как будто вовсе не интересовало, что может сказать президент, ей было вполне достаточно того, что она сама говорила.
Рассказав, как она всю ночь просила бога, чтобы он подсказал ей, какую позу следует избрать президенту, Шуматова спросила, участвовал ли Рузвельт в подготовке только что выпушенной почтовой марки к столетию штата Флорида. Ни секунды не ожидая ответа, она тут же заявила, что президент выглядит гораздо лучше не только, чем вчера, но даже чем в позапрошлом году, когда она рисовала его маленький портрет.
Одновременно художница установила доску с натянутым на ней ватманом, наклонила мольберт под углом примерно в восемьдесят градусов и сделала острым карандашом набросок — контур головы.
Потом внезапно спросила:
— Чем вы увлекались в детстве и юности, мистер президент? Я знаю, что вы всегда любили рисовать. Но занимались ли вы спортом?
— Футболом, плаванием, — с добродушной усмешкой ответил Рузвельт. — А еще редактировал университетскую газету. Она называлась «Гарвард Кримзон» и много места уделяла спорту.
— А я выросла в атмосфере искусства, — не без гордости сказала Шуматова, — Религия и искусство — вот что культивировалось в нашей семье.
«Что я знаю о ее семье? — спросил себя Рузвельт. — Да, кое-что знаю. Еще перед тем, как было решено, что Шуматова будет рисовать мой первый портрет, Люси рассказывала мне об этой художнице. По происхождению она русская. Из богатой семьи. Эмигрировала в Штаты вместе с мужем, кажется, накануне революции».
Вот, собственно, и все, что президент знал о Шуматовой. Тогда, в сорок третьем, они почти не разговаривали во время сеансов. Впрочем, не разговаривать Шуматова не могла, но Рузвельт был слишком поглощен своими мыслями, чтобы вслушиваться в слова, которые она произносила. Именно тогда осложнились отношения с Россией, возмущенной тем, что обещанное открытие второго фронта беспричинно откладывалось вновь и вновь. Рузвельт был не в состоянии уследить за потоком слов этой полной, немолодой, черноволосой, слишком энергичной, может быть, даже назойливой женщины, но из вежливости время от времени повторял: «Да… Конечно… Очень интересно…» Причем нередко произносил эта слова невпопад.
Сейчас Рузвельт вдруг подумал: «Как странно, что меня, столько сил отдавшего русскому вопросу, оказавшегося лицом к лицу с ним в первое свое президентство и сейчас, столько лет спустя, опять поглощенного проблемами, связанными с Россией, вот уже второй раз рисует именно русская художница».
«Перст божий!» — сказал он себе, внутренне усмехнувшись.
Пришедшая ему в голову мысль об этом странном совпадения невольно заинтересовала его.
— Насколько я знаю, вы происходите из богатой русской семьи, миссис Шуматова? — спросил президент.
— Да, сэр, — опуская глаза на уже появившийся на бумаге набросок, ответила Шуматова. — Моей семье принадлежали две деревни и тысячи десятин земли.
— Как, как? — с интересом переспросил Рузвельт.
— Ах, простите, сэр, — поспешно сказала Шуматова, — русская десятина — это около трех акров.
— Значит, вы были богаче меня, — с усмешкой произнес президент.
— Я все потеряла, а вы многое приобрели, — с несвойственной ей горечью отозвалась Шуматова.
— Где вы жили в России? — пропуская ее слова мимо ушей, спросил Рузвельт.
— Родилась в Харькове, но вскоре вернулась в наше родовое имение Шидеево.
— Харьков я знаю, — задумчиво сказал Рузвельт, — он не раз упоминался в военных сводках. А Ши…
— Шидеево. На Украине.
— Вам, наверное, будет приятно узнать, что эта республика имеет все шансы получить право на самостоятельный голос в будущей Организации Объединенных Наций?
— Кажется, не без вашей протекции, мистер президент?
— По протекции, если вам хочется употребить это слово, миллионов украинцев, погибших в боях против Гитлера.
— Так или иначе, мистер президент, по вашему росчерку пера Америка признала Россию. В результате — простите меня за дерзость — было узаконено то, что моя семья лишилась своего состояния.
Все, кто был в комнате, ждали, что Рузвельт вспылит и бросит Шуматовой одну из своих убийственно-насмешливых фраз.
Но, к их удивлению, президент был настроен миролюбиво.
— Знаете ли, миссис Шуматова, — щурясь, сказал он. — Я вообще люблю принимать законы молниеносно… Раз — проект! — Два — закон! Не терплю бюрократических проволочек! Вы сказали, что Америка признала Россию одним росчерком моего пера? Вы недалеки от истины. Знаете, как это произошло? Так и быть, открою вам государственную тайну. В 1933 году моя жена побывала в одной из наших школ. В классной комнате она увидела карту с большим белым пятном. «Что это, — спросила она, — Северный полюс? Но тогда он явно не на месте…» Ей разъяснили, что подлинное название этого пятна упоминать не разрешается. Это и была Советская Россия. История с пятном показалась мне бюрократической глупостью, и я написал президенту Калинину письмо с предложением прислать своих представителей для переговоров. Вот и все. Раз, два, и признание!
Заметив, что Люси делает ей умоляющие знаки, Шуматова сдержалась и не стала возражать.
А Рузвельт молча опустил голову. Еще десять минут назад Шуматова наверняка попросила бы его не изменять позы. Но сейчас она не решалась сделать это.
«Значит, так, — думал Рузвельт. — Значит, одним росчерком пера…»
Прошлое вдруг хлынуло на него, как шквал, как прилив огромной океанской волны.
Нет, конечно, нет! Все это было совсем не так!..
Во время разговора с Шуматовой в сознании Рузвельта включился какой-то тайный механизм, тот самый, который автоматически приходил в действие перед сном. Это о нем он говорил Люси, когда они сидели рядом в машине на вершине горы. Путешествие мысли!
Сейчас для него перестали существовать и Елизавета Шуматова и даже Люси Разерферд, да и вообще весь Уорм-Спрингз. Президент вдруг спросил себя: а может быть, тогда, в тридцать третьем, вовсе не следовало признавать Россию?..
Все началось с этого признания, да, да, именно с него! Если бы не оно, может быть, он не ломал бы себе сегодня голову над тем, как, не теряя собственного достоинства, не ссорясь ни с Черчиллем, ни со Сталиным, написать в Кремль необходимое письмо…
Ведь существовала же эта Россия и до тридцать третьего года! Но что он знал о ней тогда? В его представлении она оставалась едва ли не такой же, как до семнадцатого. Гигантская, покрытая лесами территория… Зимой бесконечные снега… Миллионы безымянных, неграмотных людей — рабов, и среди них — гиганты, чьи имена известны всему миру: Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов…
На чьей земле жили обитатели этого огромного, полураздетого, нечесаного мира? На своей? Нет, чаше всего на земле, принадлежавшей таким людям, как эта женщина, сидящая сейчас за мольбертом.
«Хорошо, — спрашивал себя Рузвельт, — а разве у нас в Америке нет социального неравенства? Было и есть! Но все же не такое. Не столь унизительное для миллионов людей».
Может быть, они, там, в этой России, были правы, совершив революцию? Мало ли происходило революций в разных странах, включая Соединенные Штаты! Ну, совершили революцию. Пусть и жили бы себе, как живут люди в других цивилизованных странах.
Нет, дело не в том, что русские совершили революцию. Дело в том, что они отреклись от бога, посягнули на право частной собственности, священное для каждой цивилизованной страны. Ввели странное правление — смесь диктатуры с анархией… И эту, именно такую Россию он, президент Америки, признал и вступил с ней в дипломатические отношения. От этого никуда не уйдешь!..
А может быть, вовсе и не такую?.. Рузвельту приходилось встречаться с американцами, побывавшими в России после семнадцатого. Да, многие ее проклинали. Но было немало и таких, которые отстаивали мысль, что в новой России все стало человечнее, честнее, что идея стала для русских дороже денег, дороже собственности… Может быть, его обманывали? Но почему же русский народ не поддержал интервенцию восемнадцатого? Интервентам платили, а защитники своей страны шли в бой голодные…
Если, как утверждают некоторые, революция была насилием большевиков над народом, то почему же он с помощью интервентов, с помощью солдат и офицеров, называвших себя «белыми», не выгнал этих большевиков вон?..
Случилось как раз обратное: народ изгнал интервентов и разгромил «белых»… Как много во всем этом неясного, непонятного, как все это непохоже на жизнь и самого Рузвельта и всех американцев…
Однако, кроме браков по любви, всегда были и будут браки по расчету. Вторые иногда даже удачнее.
Там, в России, безбрежные рынки, а в Америке топят пшеницу, чтобы не продавать ее за бесценок. В тылу России опасный враг — Япония.
Почему же не признать эту Россию, если, кроме собственного народа, ее уже признали многие иностранные державы? Разве мы тем самым станем коммунистами и перестанем верить в бога?..
В мыслях Рузвельта о признании России было как бы два слоя. Первый, так сказать, «поверхностный» составляли ходовые аргументы «за» и «против». Признание России сулило новые рынки и прочие выгоды от дружбы с великой державой, но, с другой стороны, грозило «агрессией» Коминтерна. Советская Россия неукоснительно соблюдала все свои международные обязательства, но в то же время была страной «греховного атеизма»…
Рузвельт уже давно взвесил все эти «за» и «против», десятки раз обсуждал их и со своими помощниками, влиятельными людьми Америки.
Однако главную свою затаенную мысль Рузвельт не обсуждал почти ни с кем. А она-то была одним из основных аргументов в пользу признания России.
Просмотрев газеты или отложив в сторону детективный роман, он закрывал глаза и отправлялся в очередное путешествие мысли.
…Мало кто из американцев, годами воспитывавшихся в духе «изоляционизма», слышал здесь, в Америке, эхо сапог Гитлера. Япония? Да, конечно, «джэпов» надо опасаться… Но какая-то далекая Германия? Какое отношение имеет она к будущему Америки?
Однако проницательный Рузвельт видел, что над Америкой издалека нависают зловещие тени не только империалистической Японии, но и национал-социалистской Германии.
Эти зловещие тени, размышлял он, встают и над Россией. Значит, кроме всех прочих, у Америки с Россией есть глубокие общие интересы, связанные с их безопасностью. А если так, то эти интересы можно использовать к выгоде обеих стран, установив дипломатические отношения между ними.
Таковы были тайные мысли Рузвельта. Он прекрасно понимал: проникни они в печать — и проблема признания России тотчас приобретет военный характер. Найдутся тысячи охотников по обе стороны океана истолковывать признание России чуть ли не как военный союз с ней против Германии и Японии. Откроется широкое поле для политических спекуляций…
И тогда реальное, зримое, важное — глубоко мирный характер отношений с Россией — отойдет на задний план, будет заслонен многозначительной «пророческой болтовней».
Время показало, что признание Советской России не было ошибкой. Непоправимым просчетом была бы политика прежней неприязни к этой стране.
Мысли о России пришли сейчас в голову Рузвельту не случайно и не внезапно. Он возвращался к ним почти каждый день, размышляя о послевоенном мире и об Организации Объединенных Наций. Особенно напряженно он думал о России в связи с последними письмами Сталина.
Рузвельт плохо спал последнюю ночь, но утаил это от своего врача во время утреннего осмотра…
Шутил ли президент, когда открывал Люси тайну своих ночных «путешествий мысли»?
Но если и шутил, то в эту последнюю ночь мысль о том, что ему необходимо подвести итоги сделанного за полтора десятилетия — и в Олбани и в Белом доме, — эта мысль действительно владела Рузвельтом.
…Внезапно видения прошлого исчезли. Перед глазами Рузвельта снова была Шуматова. Она сосредоточенно смешивала краски на откидных крышках этюдника и на фарфоровой пластинке. Потом проверяла результат на маленькой дощечке.
— Я никак не могу справиться с вашими глазами, господин президент, — сказала Шуматова, видя, что Рузвельт поднял голову я смотрит на нее. — Вы знаете, — продолжала она, — на свете существует несколько типов глаз. Славянские, англо-саксонские, романские, восточные… У вас типичные глаза англосакса.
— Несмотря на большую примесь голландской крови? — с усмешкой спросил Рузвельт.
— И тем не менее. А может быть, они стали такими потому, что вы со дня рождения привыкли смотреть на все по-американски? — сострила Шуматова. — У меня не получаются ваши глаза, сэр, — уже серьезно сказала она, опуская руку с зажатой в ней кистью. — Правда, у нас еще будет время… Все же мне кажется, что выражение ваших глаз слишком часто меняется, как будто вы только что наблюдали свадьбу, а затем — похороны. Или какой-то дух, не знаю — злой или добрый, время от времени крадет у вас душу, оставляя в неприкосновенности земную оболочку. Тогда мне кажется, что все как будто здесь, а души нет. А я хочу рисовать душу!.. Вот опять! Ну, пожалуйста, господин президент, не отворачивайтесь, что вы там такое видите в окне? Посмотрите на меня.
Президент послушно посмотрел на нее и подумал: «А ответ Сталину все еще не отправлен. И, в сущности, даже еще не написан. Ну, как, как развеять недоверие Сталина? Как сделать из России союзника и на послевоенные времена? Ведь недоверие, когда закладываются основы нового мира, — очень опасная вещь. Сталин, конечно же, думает, будто история в Берне — нечто большее, чем даже сепаратные переговоры о мире. Он видит в ней символ нового отношения Запада к России, после того как война фактически выиграна. Как убедить его, что, пока я жив, Америка никогда не сделает России никакой подлости, что отношение к этой стране не временный и не конъюнктурный вопрос? Как напомнить Сталину о первой половине тридцатых годов, когда у большевистской России в Америке было не меньше врагов, чем теперь друзей, восхищающихся ее военными победами?..»
…Вдруг Рузвельту показалось, что его кто-то позвал:
— Мистер президент!
Нет, теперь это не был голос Шуматовой…
…Рузвельт ехал в своей коляске по коридору, ведущему в Овальный кабинет. Время было не очень позднее, и он решил еще поработать. Только что закончился обед, на котором вся семья была в сборе; как всегда, присутствовал и кто-либо из «мозгового треста» — если задерживался до этой поры в Белом доме…
Услышав, что его кто-то позвал, Рузвельт обернулся и увидел Рексфорда Тагуэлла, профессора Колумбийского университета, одного из главных своих советников.
Рузвельт любил этого человека. Моложавый, с открытым мужественным лицом, Тагуэлл всегда был элегантно одет — в Белом доме шутили, что он носил голубые рубашки под цвет своих васильковых глаз. Тагуэлл слыл остроумным человеком и часто поддразнивал своих коллег по Белому дому, повторяя, что «Америку надо переделать сверху донизу».
— В чем дело, Рекс? — с недоумением спросил Рузвельт. Ведь они совсем недавно попрощались.
— Трехминутный разговор, босс, — негромко ответил Тагуэлл.
— Говори.
— Если разрешите, я провожу вас.
Тем не менее до самой двери, ведущей в Овальный кабинет, Тагуэлл не произнес ни слова, лишь слегка подталкивая спинку коляски.
У двери в кабинет президента ждал камердинер, чтобы помочь ему перебраться из коляски за письменный стол, но Рузвельт сделал это без его помощи. Приттиман вышел. Тагуэлл остался в кабинете.
— Послушай, Рекс, — сказал Рузвельт, — не знаю, что ты собираешься мне сказать, но кое-что скажу тебе я. Перестань прославлять на всех перекрестках национальное планирование экономики. Это дает лишнее оружие нашим врагам.
— Разве вы считаете, — обиженно возразил Тагуэлл, — что от национального планирования надо отказаться?
— Наоборот! Я полагаю, что в пределах ограничений, определяемых нашим социальным строем, оно непременно должно осуществляться.
— Так почему же?.. — начал было Тагуэлл, но президент не дал ему договорить.
— Потому что английский язык достаточно богат. Вместо слов: «национальное планирование» можно употреблять другие. Например, «более равномерное распределение доходов среди населения».
— Но если вы вкладываете в эти слова другое содержание…
— Успокойся. Я вкладываю в них то же самое содержание. Но совсем не обязательно давать нашим врагам повод обвинять нас в том, что мы копируем русский образец.
— Кстати, о русском образце, босс, — сказал Тагуэлл. Видимо, это и было целью его прихода сюда. — Несколько минут назад у меня был важный разговор с вашей матушкой.
— С мамой? — удивился Рузвельт.
— Вот именно. Она по секрету сообщила мне, что получает массу писем от христианских, женских и прочих организаций с призывом воздействовать на вас, чтобы вы не признавали Россию.
— Но какое им дело и откуда они это знают?.. Я, кажется, еще ни разу публично не касался вопроса о признании России.
— Так ли, господин президент?
Рузвельт промолчал. Что говорить, вопрос о признании России имел для него особо актуальное значение. Ему, конечно, было известно, что этот вопрос уже не первый месяц дебатируется на страницах газет.
И все же… Еще месяц назад Рузвельт вызвал Луиса Хау. Этому маленькому уродцу оставалось жить всего три года, но пока что Хау, неряшливо одетый, в помятом пиджаке, лацканы которого всегда были обсыпаны пеплом сигарет «Сунт Капорэл», — Хау курил их непрерывно — был главным среди доверенных лиц президента.
— Послушай, Луис, — сказал тогда президент, открывая нижние ящики своего письменного стола, — ты видишь эти ящики? Они пусты. Я специально освободил их от разного хлама… Так вот, я хочу, чтобы через месяц эти ящики были полны. Левый будет называться «За признание России», правый — «Против». В них ты будешь класть газетные вырезки, обращения, частные письма и так далее. Ключи у тебя есть. А я открою эти ящики не раньше чем через месяц…
Рузвельт открыл их ровно через месяц. В течение этого месяца он, конечно же, не переставал читать газеты и кое-какие выводы мог сделать сам.
Но президенту хотелось, чтобы ответы на интересовавшие его вопросы предстали перед ним, так сказать, в концентрированном виде.
Не без волнения открыл он правый ящик, доверху набитый газетными вырезками и служебными записками.
Государственный секретарь Хэлл — против. Ладно, это известно. Американский комитет кредиторов России — против. Что ж, это естественно. Предводитель белоэмигрантов — против. Но ему-то сам бог велел. Председатель АФТ Грин — тоже. «Странно, почему руководители американских профсоюзов так боятся своих русских „братьев по классу“?» — с усмешкой подумал Рузвельт. Кто еще против? Ну, конечно: бывший президент Гувер, сенатор Ванденберг, конгрессмен Фиш. Влиятельная компания!..
Чтение этих материалов отняло у Рузвельта не меньше часа, но и то он одолел только половину ящика.
С раздражением захлопнув правый ящик, президент открыл левый. Он тоже был забит до отказа.
«Ого, неплохо!» — подумал Рузвельт и погрузился в чтение.
Через два часа он уже знал, что Торговая палата США, а также такие крупные корпорации, как «Дженерал Моторс», «Дюпон де Немур» и «Стандард Ойл», выступают за признание России. Очевидно, решил Рузвельт, на них подействовало заявление представителя СССР на Международной экономической конференции, что Советское правительство готово разместить заказы, в том числе и в Штатах, на один миллиард долларов. Результаты опроса, проведенного «Америкен Фаундейшн»: за…
Пацифистские организации — «за», от них есть петиция на имя президента. Создан специальный комитет «За признание России». Один из бывших губернаторов штата Нью-Йорк заявил, что, хотя США и не одобряют советской формы правлении, они не имеют «никакого права указывать другой нации, как она должна управляться». Американские фермеры — «за»… Компартия?.. Ну, это само собой разумеется! Поучительное, хотя и парадоксальное совпадение, казалось бы, противоположных интересов…
В глубине души Рузвельт уже не первый год считал непризнание государства, занимавшего одну шестую часть суши земного шара, нелепостью и даже проявлением невежества.
Как-то, будучи еще губернатором штата Нью-Йорк, он сказал об этом в кругу своих политических единомышленников, на что один из них, кажется, Сэм Розенман, ответил, что невежество — огромная сила, и кто знает, что она еще натворит в будущем.
Рузвельту понравилось это выражение. Он тут же сказал Розенману, чтобы тот нашел способ вставить его в одно из губернаторских выступлений. Но многомудрый «теневой автор» речей Рузвельта заявил, что сделает это лишь тогда, когда решит предать губернатора.
Оказывается, понравившаяся Рузвельту фраза принадлежала Карлу Марксу.
Став впоследствии президентом, Рузвельт окончательно убедился, что признание России без всякой видимой инициативы с его стороны все прочнее становится в повестку дня американской государственной и особенно экономической жизни. Но сам он хранил молчание. Изощренный в вопросах политической борьбы, Рузвельт выжидал, пока дело созреет без его участия и будет преподнесено ему, как говорится, на блюдечке.
Он отдавал себе отчет в том, что любое его публичное выступление в пользу признания России не ускорит это признание, но замедлит его и даст повод врагам президента обвинить его не только в следовании «красным» методам управления экономикой, но и в намерении накрепко связать богобоязненную Америку с безбожной Россией.
Именно от этого хотела удержать Рузвельта и мать президента — Сара Делано Рузвельт.
Это была сильная, властная женщина. Она считала, что без ее совета президенту Соединенных Штатов так же не обойтись, как и в те дни, когда он ходил еще в коротких штанишках.
…Сара неожиданно появилась в спальне сына после того, как Тагуэлл ушел из Овального кабинета, а Рузвельт уже лежал в постели и читал очередной детектив.
Молча присев на край кровати, она спросила:
— Это правда, Франклин?
— О чем ты, мама? — откладывая книжку, переспросил Рузвельт.
— Я не скрыла своего беспокойства от Тагуэлла, а теперь хочу высказать его тебе. Ты действительно собираешься признать Россию?
— А почему бы и нет? Она же реально существует, — шутливо ответил Рузвельт.
— Благодаря козням дьявола, — не принимая шутки, резко ответила Сара.
То, что сказала мать Рузвельта, не было для нее пустыми словами. Она глубоко верила в бога, толкуя священное писание так, как его толковал священник епископальной церкви, а о Советской России знала лишь по правым американским газетам. Она была уверена, что признать страну, подобную нынешней России, означало бы продать душу дьяволу.
— Ты не сделаешь это, — настойчиво повторила Сара, — иначе тебя проклянет вся Америка.
— Она уже не раз проклинала меня, — усмехнулся Рузвельт.
— Но сейчас другое дело, Франклин. Сейчас речь идет не о политике, а о совести христианина. Вспомни, ты всегда был богобоязненным мальчиком. До тех пор пока на горизонте не появилась эта ужасная страна, ты ничем не гневил бога. У тебя было все, чего бы ты ни пожелал… Но теперь ты стоишь на такой высоте, что бог может сбросить тебя вниз, и падение будет ужасно.
Бедная старая мама! Она и впрямь считала, что перед ней, укрывшись одеялом, лежит маленький сын, по-прежнему нуждающийся в ее советах!
Послушный, богобоязненный, прилежный — таким всегда представлялся матери Франклин, пока дьявол не обратил на него своего греховного взгляда.
Старая женщина ошибалась. Ее сын с детских лет был вовсе не таким, каким она его себе представляла.
Но для матери, сидевшей сейчас на краю кровати, в которой лежал президент Соединенных Штатов, он все еще оставался ребенком, причем выдуманным ею самою.
— Послушай, Франклин, дорогой мой сын, — тихо и проникновенно сказала, скорее прошептала Сара. — Не искушай судьбу, не гневи бога. Достаточно того, что…
Она осеклась. При зеленоватом свете покрытой абажуром лампы Франклин смотрел на нее как бы из другого мира, без сожаления, но и без злобы.
— Ты хочешь сказать, что, несмотря на всю мою богобоязненность, я и так уже достаточно наказан? — с затаенной усмешкой спросил Рузвельт. — Но это неверно! Мне было послано не наказание, а испытание. Наказывают грешных и неисправимых. Испытания посылают сильным, чтобы проверить их мужество и преданность истине.
С этими словами Рузвельт закрыл глаза и повернулся лицом к стене.
Саре было стыдно за себя и жалко сына. Она ждала, что Франклин еще что-нибудь скажет и тогда она переведет разговор на другую тему, смягчит сына, сумеет оправдаться перед ним. Но Рузвельт молчал. Слышалось только его ровное дыхание.
Когда матери показалось, что сын заснул, она осторожно поправила на нем одеяло, истово перекрестила его, потушила лампочку и вышла, уверенная, что бог во сне посетит сына и направит на правильную стезю.
Но Рузвельт не спал. Как только мать на цыпочках вышла из спальни, он снова предался мыслям о России. После разговора с Тагуэллом он хотел почитать детектив и уснуть, но мать возвратила его к этим мыслям.
Расстановка сил была Рузвельту ясна. Промышленные компании, объединенные Торговой палатой, одна за другой штамповали резолюции, в которых доказывали, что торговля с Россией, предоставление Америке огромного, доселе нетронутого рынка сбыта дадут ей возможность выйти из кризиса.
«Политики» придерживались противоположных взглядов. Их представлял государственный департамент, а если говорить точнее, восточноевропейский отдел этого департамента, возглавляемый активным антикоммунистом Робертом Ф. Келли.
Летом 1933 года Келли подал президенту докладную записку о перспективах американо-советских отношений.
Когда речь шла о каком-либо спорном политическом вопросе, Рузвельт не боялся повышенно-эмоциональных выпадов со стороны своих врагов. Он знал, что уровень общественных эмоций колеблется в зависимости от того, кто из популярных ораторов произнесет нечто более звонкое по форме, в особенности если он критикует то, что вместе с ним готовы критиковать миллионы американцев. Такой оратор констатировал явление, но либо уходил от анализа его причин, либо давал объяснения, выгодные для него самого, но ложные по существу.
Именно тогда на сцене появлялся Рузвельт. Редко называя оппонента по имени, он умело переводил разговор на выяснение истинных причин того или иного явления.
Но то, что Рузвельт слышал о действиях Келли, настораживало его. Этот ответственный сотрудник государственного департамента, активно выступая против признания России, не прибегал к проклятиям и заклинаниям, а оперировал цифрами и фактами. При этом такими, которые не могли не производить впечатления на крупный бизнес, — особенно на финансовых магнатов.
Вскоре после своего прихода в Белый дом Рузвельт обсуждал русский вопрос с государственным секретарем Хэллом.
Президент не считал нужным скрывать, что, по его глубокому убеждению, Америка и Россия должны жить в дружбе. Хэлл же выдвигал такие условия признания России, которые были унизительны для нее и противоречили логике.
Рузвельт не вдавался в подробности, не касался того, каким именно образом американо-советские отношения могут быть построены если не в духе дружбы, то хотя бы в атмосфере элементарной лояльности.
Вряд ли и сам президент имел в то время какой-либо конкретный план. Ему было отчетливо ясно одно: Россия — огромная страна, иметь ее в качестве недружественной державы только потому, что там другая социальная система, просто нелепо.
Искренне верующий в бога, Рузвельт сурово осуждал крестовые походы. Его гуманизм не мирился с тем, что для обращения сотен тысяч людей в свою веру надо обезглавить, заколоть, живьем зарыть в землю другие сотни тысяч. Президент не высказывал это публично, но внутренне издевался над теми, для кого Россия была синонимом ада, хотя и не одобрял строй, установившийся в этой стране в семнадцатом году.
Размышляя о России, ее огромной территории, ее потенциальных богатствах и особенно о ее географическом положении, Рузвельт все более склонялся к выводу о необходимости признания этой страны.
Но не так-то легко было сделать это в Америке начала тридцатых годов!..
Неудача в 1920 году, когда он баллотировался на пост вице-президента США, опыт, который он накопил, еще будучи сенатором, годы, проведенные на посту губернатора в Олбани — столице штата Нью-Йорк, приучили Рузвельта к самым разнообразным методам политической борьбы. Он научился уходить в сторону, когда его идеи могли быть успешно высказаны и претворены в жизнь другими, спокойно переносил оскорбления в печати и с митинговых трибун, если чутье подсказывало ему, что противник, ободренный молчанием губернатора или президента, «закусит удила» и в конце концов наговорит таких глупостей, что двух-трех иронических замечаний будет достаточно, чтобы решить исход борьбы…
Много лет спустя американские газеты подняли крик о том, что Рузвельт якобы специально послал эсминец за своей собакой Фалой. Очередную речь президент начал так:
— Друзья, я говорю не от своего имени, а от имени моей глубоко оскорбленной ложью собаки Фалы…
Словом, Рузвельт умел действовать как бы из засады, а когда нужно было, открыто выходил под обстрел. Тем более что однажды он действительно был обстрелян: в феврале 1933 года, во время пребывания в Майами, на него было совершено покушение, правда, безуспешное.
Келли, как докладывали Рузвельту, уже не первый день готовил серьезные аргументы против признания России. В этом случае Рузвельт решил провести «разведку боем», чтобы знать, какого рода оружие будет использовано его противниками, когда начнется сражение.
Поэтому, воспользовавшись тем, что государственный секретарь был за границей, Рузвельт пригласил в Белый дом его подчиненного — шефа восточноевропейского отдела Роберта Келли.
— Господин президент! Позвольте мне на некоторое время прервать ваши размышления и попросить вас вернуться к нам, простым смертным!
Это был голос Шуматовой. Он заставил Рузвельта вздрогнуть. Ему вдруг показалось, что он заснул. Это было бы признаком слабости, а проявлять ее на людях Рузвельт не любил.
Он посмотрел на Шуматову. Та поспешно смешивала краски на откидных крышках этюдника, пробовала их на маленькой дощечке, окунала кисть в миску с водой, протягивала ручку кисти по направлению к лицу президента, словно измеряя; не изменилось ли расстояние между мольбертом и натурой.
Потом Шуматова схватила небольшое зеркало в яшмовой оправе, поднесла его к лицу президента и снова вернулась к портрету…
— Изящная вещица, — любезно заметил Рузвельт, указывая на зеркало.
— Да, очень, — согласилась Шуматова и добавила: — Мне подарила его миссис Харви Файрстоун.
— Я не слышал, чтобы старик Файрстоун производил, кроме шин, еще и зеркала.
— Ах, нет, что вы, мистер президент, это просто подарок. Миссис Файрстоун купила его у «Тиффани».
— Тоже неплохое местечко, — с улыбкой сказал президент. — Ну, как, фирма себя оправдывает?
— Ах, господин президент, дело не в зеркале! — с наигранным отчаянием сказала Шуматова. — Вы понимаете, самое трудное для художника — это глаза. Потом рот. Мой родственник, — между прочим, отличный художник, — учил меня, что рот должен быть возможно более… как бы сказать… нечетким. А линия между губами должна быть слегка изломанной. Прямая линия придает лицу выражение напряженного ожидания…
— Напряжение было бы в данном случае оправдано, — сказал президент, — ведь я ждал Келли.
— Простите, кого? — озадаченно произнесла Шуматова. Остальные сидевшие в комнате женщины тоже с недоумением посмотрели на президента.
— Вы задали мне вопрос, как произошло признание России? — обращаясь к Шуматовой, сказал Рузвельт. — Вот я и отправился в путешествие по времени. Келли был тогда шефом восточноевропейского отдела.
— Он выступал за? — спросила Шуматова.
— Пока он мне не сказал об этом еще ничего, — с хитрой усмешкой ответил Рузвельт. — Я пригласил его в Белый дом, и он с минуты на минуту должен войти в Овальный кабинет и доложить свое мнение.
— Что же он доложил?
— Но вы же не дали ему войти. — На этот раз Рузвельт широко улыбнулся.
— Хорошо, мистер президент, — решительно сказала Шуматова, — пусть каждый занимается своим делом. Я попытаюсь справиться с вашими глазами и линией рта. А господину Келли желаю быть более настойчивым…
Войдя в кабинет и подойдя к столу, за которым сидел Рузвельт, Роберт Келли увидел, что весь стол завален альбомами с почтовыми марками.
Конечно, он слышал о филателистической страсти президента, но, ожидая деловой беседы, подумал, что, может быть, спутал время и пришел некстати.
— Здравствуйте, мистер президент, — неуверенно произнес Келли. — Я не вовремя?
— Что вы, мистер Келли! Садитесь, пожалуйста, — гостеприимно произнес Рузвельт. — Лучшие часы моей жизни я провожу за марками. Так что вы пришли в мой лучший час.
— Польщен, сэр. Но не помешаю ли я вам?
— Отнюдь нет. Уверен, что, наоборот, поможете. Видите ли, среди марок, присланных мне недавно, я увидел вот эту…
Президент взял со стола пинцет и с осторожностью подцепил за уголок одну из неприклеенных марок.
— Как вы думаете, что это такое? — спросил он.
Келли протянул руку к марке.
— Ни в коем случае, — с неподдельным ужасом вскричал президент. — Марку нельзя брать руками. Только пинцетом. А вот и лупа, если она вам понадобится.
Рузвельт подвинул ближе к краю стола большое увеличительное стекло в черной оправе и на длинной черной ручке.
Келли был смущен. Ожидая официального приема, он явился к президенту в темном костюме, в галстуке бабочкой и с большим толстым портфелем, набитым различными документами. Разговор о марках несколько выбил его из колеи. Тем не менее он взял пинцет с зажатой в нем маркой и сделал это с такой осторожностью, будто брал в руки бесценный бриллиант.
Келли не потребовалось никакой лупы. В пинцете была зажата выпущенная Временным правительством Керенского зубчатая марка. Она предназначалась для почтовых отправлений, но имела хождение и как денежный знак.
Переведя взгляд с марки на президента, Келли заметил, что тот смотрит на него с уважительно-напряженным, пожалуй, даже тревожным вниманием — взгляд коллекционера на эксперта, которому сейчас предстоит вынести свой приговор.
«Черт побери! — подумал Келли. — Неужели президент— по слухам, опытнейший коллекционер — не может сам определить, чем он обладает: истинной редкостью или расхожим почтовым знаком?!»
Но высказать это свое недоумение прямо в глаза президенту Келли, естественно, не посмел. Он вернул Рузвельту пинцет с маркой и сказал:
— Видите ли, господин президент, я думаю, что эта марка имеет скорее социально-историческое, чем филателистическое, значение.
— Как это следует понимать? — спросил президент, разжимая пинцет и кладя марку на альбомную страницу.
— Это русская марка, сэр. Ее можно было использовать по прямому назначению, а можно было и расплачиваться ею в магазине или на рынке. Ее стоимость — десять копеек.
— Это много? — спросил президент.
— Очень мало. Может быть, несколько центов в пересчете на реальные деньги. Впрочем, в условиях не только политического, но и экономического хаоса, который сопровождал революцию в России, реальную стоимость их денег определить очень трудно.
— Насколько мне известно, там были две революции, — заметил Рузвельт.
— Первую из них можно считать до некоторой степени закономерной. Но я имею в виду вторую революцию, большевистскую, поставившую Россию вне цивилизованного мира.
— А как вы относитесь к признанию современной России? — неожиданно спросил президент. — Насколько я слышал, вы настроены резко против этой страны?
— Господин президент, если хотите, я за признание. Но только после выполнения большевистским правительством ряда наших — то есть американских — требований. Как вы знаете, это правительство исповедует неприемлемую для нас коммунистическую идеологию.
— Стоп, Келли! — Рузвельт хлопнул ладонью по столу. — Значит, вы не любите коммунизм и боитесь его? Так? А я не люблю, но и не боюсь. Понимаете разницу? Кстати, вас не охватывал страх, когда вы оставались один в темной комнате? Ну… еще в детстве. Меня, например, никогда.
Рузвельт сделал паузу и постучал пинцетом по столу.
— Мы никогда не согласимся с коммунизмом как философией, — снова заговорил он. — Захват власти коммунистами в нашей стране я считаю совершенно невозможным. Особенно после успеха «Нового курса». Кстати, Келли, — иронически произнес Рузвельт, — если уж вы хотите чего-либо бояться, почему бы вам не обратить свой взгляд несколько западнее России?
— Вы имеете в виду, сэр…
— Вот именно. Хэрра Гитлера.
— Но пока он не больше чем трескучий барабанщик.
— Пока, Келли, пока!..
Некоторое время длилось молчание. Потом президент сказал:
— Коммунисты твердят о величии своей идеологии. Ну и пусть, история нас рассудит. Но хэрр Шикльгрубер, — кажется, таково подлинное имя того немецкого господина? — призывает в поход. С оружием в руках. Пока он называет это «дранг нах остен». А завтра? Кто знает, куда он решит обратить этот свой «дранг»?
— Я мог бы примириться с красной Россией, если бы… — начал Келли.
— Если бы она стала белой? — с усмешкой прервал его президент.
— Нет, так далеко я не захожу. Но считаю, что в обмен на наше признание нынешние правители России должны публично отказаться от своих мировых революционных целей. И главное — от деятельности, способствующей достижению этих целей.
— У вас есть факты, Келли?
— Само существование большевистской России является таким фактом, сэр! — воскликнул Келлн. — Однако вы, наверное, предпочитаете иметь дело с цифрами…
— Вы запаслись и цифрами? — спросил Рузвельт, и Келли не понял, чего больше в голосе президента — иронии или уважения.
Келли решил играть в открытую.
— Господин президент, — сказал он, — я чувствую, что русский вопрос вам не безразличен, Я понимаю, что вы пригласили меня, во-первых, потому, что сейчас временно отсутствует государственный секретарь и, во-вторых, потому, что Россия числится по моему отделу. Узнав о том, что вы меня вызываете, я, естественно, предположил, что может возникнуть речь о России, и взял с собой основные данные. Если вы разрешите?..
Келли сделал движение, чтобы открыть портфель.
— Конечно, Келли, меня в некоторой степени занимает Россия, — с деланным равнодушием сказал Рузвельт, — он не хотел, чтобы Келли понял, до какой степени его сейчас интересует эта страна. — Одному богу известно, что там происходит. Из газет и поступающих в Белый дом резолюций, обращений, призывов я могу, однако, извлечь два вывода. Первый: многих американцев привлекает мысль о признании России. Многих она приводит в ужас. Все это время я был занят нашими внутренними делами. Но время идет, и мне хотелось бы разобраться…
Даже сейчас, восстанавливая в памяти все это, Рузвельт не без удовольствия думал о том, как водил за нос Келли.
Только ли политические и религиозные убеждения делали этого человека непримиримым врагом признания России?
«Ищите женщину!» — обычно восклицают французы, пытаясь распутать какую-нибудь сложную интригу.
«Ищите деньги!» — могут в подобных случаях призывать американцы.
Рузвельт отлично понимал, что атмосферу антисоветизма создали не только религиозные проповеди, обрушивавшиеся на Америку со всех трибун и со страниц газет, и не только то, что Россия исповедовала коммунистические идеалы. Сюда следовало добавить и проблему так называемых царских долгов.
Продолжая играть роль объективного, беспристрастного судьи, Рузвельт внимательно слушал, как самоуверенный Келли, взявшийся поучать президента, доставал из своего портфеля одну за другой всевозможные справки, докладные записки, при этом непрестанно оперируя множеством цифр.
Он информировал президента, что общая сумма долговых претензий к России, удовлетворения которых требовал государственный департамент, превышала полмиллиарда долларов — именно на этой сумме настаивали банки и эмигранты-белогвардейцы, требовавшие игнорировать советский режим, пока тот не признает свои долги и кредитные сертификаты…
— Долги, конечно, надо возвращать, — прервав Келли, задумчиво сказал Рузвельт. — Кстати, во время войны нам задолжал по меньшей мере десяток стран. За поставки оружия, сырья и продовольствия. Верно? Сколько стран выплачивает эти долги?
— Две, — несколько смутившись, ответил Келли.
— Так, так, — сказал Рузвельт, снова постукивая пинцетом по полированной поверхности стола. — И еще один вопрос: не объявились ли в России такие нахалы, которым взбрело в голову потребовать от нас возмещения убытков за ущерб, нанесенный их стране нашими войсками в восемнадцатом и девятнадцатом году?
— Как будто нашлись, — с некоторой опаской ответил Келли, — но подобные претензии мы, конечно же, отвергаем. Может быть, господин президент…
— Нет, Келли, — поигрывая пинцетом, успокоил его Рузвельт, — господин президент тоже капиталист и предпочитает получать, а не платить. Итак, что же дальше?
Поощренный этой шуткой Келли с еще большим энтузиазмом стал перечислять возражения против признания России. Монополия внешней торговли. Атеизм. Система правосудия, резко отличающаяся от американской и не обеспечивающая защиты американских граждан, которые живут в России.
— Что же, их убивают? — снова прервал Келли Рузвельт.
— Не все так просто, сэр! — воскликнул Келли, удивляясь примитивности вопроса. — Но здесь, в Белом доме, мы не можем закрывать глаза на то, что информация об экономических секретах в стране пребывания — патриотический долг американцев.
— Речь идет об экономической разведке и шпионаже? — спокойно и даже сочувственно спросил Рузвельт.
— Конечно, сэр! — воскликнул Келли, еще более поощренный доброжелательным тоном Рузвельта. — Но русские ввели у себя прямо-таки драконовские законы.
— Не можем же мы заставить их официально разрешить у себя шпионаж?..
— В цивилизованных государствах, сэр, редко прибегают к этому слову. Однако мы могли бы облегчить работу наших доверенных лиц в России, заставив русских принять закон… Ну, скажем, о защите жизни и собственности американских граждан.
Рузвельт положил на стол пинцет, взял свой длинный мундштук и вставил в него сигарету.
Он еще долго слушал Келли.
Но думал совсем о другом. Все детали антисоветской кампании были ему хорошо известны, равно как и громогласные требования промышленников. Большой бизнес мечтал о новых рынках сбыта и готов был торговать хоть с самим чертом.
Знал Рузвельт и о широком общественном движении, особенно в рабочей среде, за признание первого в мире государства рабочих и крестьян.
Но не об этом думал он сейчас…
— Вы ищете спички, господин президент? — голос Шуматовой донесся до Рузвельта сквозь толщу времен.
Любопытное совпадение! Разговаривая тогда с Келли, он, кажется, тоже искал коробку спичек, которая была прикрыта альбомами с марками. Келли поспешно щелкнул своей зажигалкой в виде маленького пистолета. Может быть, потому эта минута и запомнилась президенту.
Дэйзи быстро схватила с журнального столика коробку спичек и помогла президенту прикурить.
Рузвельт автоматически кивнул в знак благодарности, но видение сидящего перед ним Келли не исчезло.
Теперь уже Рузвельту было ясно, что записка Хэлла писалась под влиянием Келли. Рузвельт снова вспомнил, что еще месяц назад конфиденциально обсуждал со своим государственным секретарем будущее американо-советских отношений. Тогда они не пришли к каким-либо определенным выводам, но Хэлл обещал президенту подготовить подробный меморандум, в котором будут высказаны все «за» и «против».
Вскоре Рузвельт получил меморандум Хэлла. Теперь, во время разговора с Келли, президенту стало окончательно ясно, что перед ним сидит подлинный автор этого меморандума.
— Значит, моя бедная марка никакого филателистического интереса не представляет… — с преувеличенным сожалением сказал на прощание Рузвельт. — Что ж, спасибо, Келли. Спасибо за ваши ценные разъяснения.
Келли ушел от президента в твердой уверенности, что Россию признавать не следует. На своем посту в государственном департаменте он решил делать все, чтобы это признание не состоялось.
Но он не видел взгляда, которым проводил его президент. А если бы видел, то мог бы понять его так: «Попробуй только!..»
Келли попробовал. На протяжении трех лет после обмена послами между СССР и США он делал все от него зависящее, чтобы «наказывать» коммунизм. Мешал развитию торговли между двумя странами, проводил линию, которую, пользуясь нынешней терминологией, можно было бы назвать «линией наименьшего благоприятствования».
Келли вел эту линию до лета 1937 года, когда вдруг узнал, что его восточноевропейский отдел переформирован, а ему самому предстоит занять место третьестепенного дипломата в одном из американских посольств.
Он обратился к президенту. Тот пожал плечами. «Штаты государственного департамента? Структура?» Но это же не его компетенция!
Прощаясь с Келли, Рузвельт повернул голову и был тотчас же наказан за это голосом Шуматовой.
— Господин президент, — недовольно сказала она, — куда исчез ваш подбородок? Вы знаете, как трудно сформировать подбородок? Наверное, не менее трудно, чем регулировать отношения с моей бывшей родиной, — простите за сравнение, конечно. Вот носы — это моя слабость. Очень люблю писать носы. А подбородки…
Рузвельт автоматически вернул свою голову в прежнее положение, но ничего не ответил Шуматовой. Он уже слишком глубоко погрузился в воспоминания, чтобы реагировать на пустые замечания «извне».
Что же было потом? Потом Рузвельт решил, что настало время поговорить в открытую с возвратившимся из-за границы государственным секретарем.
Те, кто знал Хэлла лишь поверхностно, удивлялись, чем мог привлечь президента этот худой, истощенный на вид, седеющий человек.
Некоторые газеты иронически отзывались о выборе президента; характеризуя нынешнего государственного секретаря, подчеркивали, что он немолодой, сутулый, что в разговоре с собеседником старается не смотреть ему прямо в глаза и к тому же страдает дефектом речи…
Но Рузвельту, пришедшему в Белый дом в дни, столь тяжелые для Америки, нужен был не ковбой из голливудских «вестернов», не Цицерон, а думающий, опытный политический деятель, не закосневший в чисто американских предрассудках.
Президент был уверен, что тихий голос Хэлла — лишь манера, за которой скрываются сила и цепкость. Иначе мог ли этот человек стать конгрессменом, затем сенатором и, наконец, председателем Национального комитета демократической партии Америки?
Да, Хэлл придерживался консервативных экономических взглядов, но это не пугало Рузвельта. Он и сам был скорее консерватором, чем либералом, но консерватором, не потерявшим здравого смысла, способным учитывать реальную обстановку в стране и в мире.
Вернувшись из Лондона, Хэлл, естественно, явился с докладом к президенту.
Но Рузвельта сейчас больше всего занимал русский вопрос. Особенно после того, как он выслушал Келли. Разговор с Келли убедил президента в том, что большинство препятствий, стоявших на пути к признанию России, следовало отнести к разряду предрассудков. Конечно, было бы хорошо получить с России ее довоенные долги, но это же нереально ни с экономической точки зрения — Россия разорена, — ни с политической — нынешним правителям России показался бы оскорбительным сам разговор об их ответственности за дела царского правительства, которое они же свергли.
Главным аргументом в пользу признания России было, конечно, то, что рынки этой страны представлялись действительно необозримыми.
Но пока «истинные христиане» все громче кричали о безнравственности любых отношений с дьяволом, пока коммерсанты прикидывали суммы их будущих барышей, Рузвельт, зорко следя за колебаниями общественного мнения страны, в то же время думал и о другом.
«Изоляционисты» были убеждены, что океан, как и во время прошлой войны, всегда будет служить надежной зашитой Америки от угрозы со стороны любого внешнего врага. Существование океана лишь подтверждает божие предназначение Америки жить, отгородившись от других континентов, и заниматься своими, чисто американскими делами.
Рузвельт размышлял иначе. Он был одним из немногих американцев, понимавших, что означает приход Гитлера к власти в Германии. «К чему ведет дело этот человек? — постоянно спрашивал себя Рузвельт. — Какова его конечная цель?»
Конечно, для подготовки к новой войне — а, судя по устным и письменным выступлениям Гитлера, он к ней готовится — требуется время.
А что будет, если Гитлер завоюет Европу? Останется он один на один с Англией или поглотит и ее? Кто может «уравновесить» желания и возможности Гитлера? Этот вопрос часто задавал себе Рузвельт, и неизменно отвечал: «Конечно, Советская Россия».
Но дело не только в Гитлере. Постоянный потенциальный враг Америки на Дальнем Востоке — Япония. Признать Россию — значило бы отрезвить Японию, которая к тому же и по отношению к России настроена достаточно воинственно.
Была у Рузвельта и еще одна мысль — не вполне оформленная: где-то в глубине сознания он мечтал о том, что не удавалось ни одному из его предшественников — да они к этому и не стремились. Он хотел создать дружеский, основанный на экономической выгоде союз мировых держав.
Президент еще никогда не высказывал эту мысль публично. Если бы он ее высказал, его непременно подняли бы на смех.
Это был бы злобный смех. На всех перекрестках, с газетных страниц кричали бы, что он витает в заоблачных высях в то время, когда у миллионов американцев нет куска хлеба и крыши над головой.
Нет, время высказать свою идею народу еще не настало. Но поделиться ей с государственным секретарем Хэллом Рузвельт счел возможным.
Разговор на эту тему не мог не свестись и в конце концов действительно свелся к обсуждению русского вопроса.
Сначала Хэлл сопротивлялся. Он повторял те аргументы против признания России, которые уже стали стандартными: «вмешательство во внутренние дела США со стороны Коминтерна», «отсутствие в России свободы религии» и т. д. и т. п.
Хэлл был слишком умен, чтобы не понимать: раз президент пришел к мысли о целесообразности признания России, он эту мысль не оставит. Окончательно поняв это, Хэлл отступил, — о ширившемся в стране движении за признание России было, разумеется, известно не только президенту.
Тогда Хэлл предложил компромиссное решение: восстановлению дипломатических отношений должно предшествовать предварительное обязательство России (непременно в письменном виде!) прекратить коммунистическую деятельность в США, признать наличие долгов Америке (с учетом разных вариантов их выплаты) и, наконец, обеспечить свободу религиозных обрядов для американцев, проживающих в России.
Великий мастер компромиссов, Рузвельт оставался им даже со своими приближенными: зачем таранить уже приоткрытую дверь, если она, пусть медленно, пусть со скрипом, но все равно откроется?
Между тем неугомонный Келли представлял президенту новые меморандумы, в которых продолжал выдвигать все новые условия, подчеркивая, что если Россия не выполнит их, то не может быть и речи о ее признании.
Чувствуя, что его хотят потопить в бумагах, Рузвельт прибегнув к одному из своих излюбленных приемов: он перетасовал карты. Это значило, что, никого не устраняя и не освобождая от ранее порученных заданий (чтобы избежать криков: «Президент меняет линию!»), Рузвельт потихоньку давал такие же задания другим людям. Столь же преданным президенту, но более гибким и лучше его понимавшим.
Короче говоря, он вызвал в Овальный кабинет Генри Моргентау, которого прочил на должность министра финансов вместо нынешнего министра Уильяма Вудина, и напрямик задал ему вопрос:
— Не полагаешь ли ты, Генри, что настало время ввести русский вопрос через парадный ход, вместо того, чтобы втаскивать его черным ходом?
Один из крупных финансистов страны, Генри Моргентау, был не просто соседом Рузвельта по графству Датчесс — он считался любимцем президента. Министр внутренних дел Икес, брюзга и задира, иронизировал, что Моргентау считает своим «божественным правом каждый понедельник завтракать наедине с президентом». А вице-президент Джон Гарнер, бывший всегда в натянутых отношениях с Рузвельтом, чуть ли не на другой день после того, как Моргентау стал министром финансов, назвал его «самым сервильным из всех членов кабинета».
Генри Моргентау был первым, кому Рузвельт прямо заявил о своем намерении обратиться с личным посланием к советскому президенту Калинину и пригласить в США советского представителя для ведения переговоров.
— Хорошо ли ты знаешь историю, Генри? — после долгого раздумья спросил Рузвельт.
— Мое дело — финансы, господин президент, — уклончиво ответил Моргентау.
— Честно говоря, — продолжал Рузвельт, — и мне особенно похвастаться нечем. В Гарварде выше оценки «С» я по истории редко поднимался. Как, впрочем, и по другим предметам.
Конечно же, гарвардские оценки Рузвельта не имели никакого значения: количество книг по истории, прочитанных им, могло бы составить честь любому ученому-специалисту. Но характер Рузвельта мешал ему публично признавать свои достоинства и заслуги (исключение делалось только для предвыборных речей). Он претендовал лишь на то, что лучше других знает глубинную жизнь Америки, ближе, чем кто-либо другой, принимает к сердцу жизнь простого американца и лучше самого заядлого капиталиста знает, что тому следует делать, чтобы наживать — обязательно наживать! — деньги, не разоряя при этом других.
— Я напомню тебе одни эпизод, детали которого и сам знаю не очень хорошо, — сказал Рузвельт. — Лет полтораста назад наш Континентальный конгресс направил в Россию делегацию, пытаясь заручиться поддержкой России в борьбе с Англией. Во главе делегации был, кажется, главный судья штата Массачусетс.
— Любопытно! И что же из этого вышло?
— А вышло то, что делегация даже не была принята из-за отсутствия дипломатических отношении между Америкой и Россией. Установить же эти отношения тогдашняя русская императрица Екатерина Великая наотрез отказалась. Мы были слишком революционны для ортодоксальной монархии.
— Екатерина Великая? А что она вообще собой представляла?
— Гм-м… Насколько мне известно, это была весьма любвеобильная леди.
— О, глубокое знание русской истории!
— Правда, лет тридцать спустя другой царь, Александр, соизволил нас признать. Теперь мы не признаем Советскую Россию уже шестнадцать лет. Получается нечто вроде «паритета».
— Вы опасаетесь отказа России иметь с нами дело? Пикантная ситуация! Полтораста лет назад Россия отвергала нас как бунтовщиков и революционеров. А теперь революционная Россия может заявить, что не желает иметь дело с капиталистами. Вы так всерьез считаете, господин президент?!
— Успокойся, Генри, — сказал Рузвельт, — эта ситуация подходит для политического водевиля, а не для серьезной политики. Можно как угодно относиться к нынешним правителям России, но глупцами их, конечно, не назовешь. Перейдем к делу.
Рузвельт взял чистый лист бумаги и остро отточенный карандаш.
— Сейчас, — хитро прищурившись, сказал он, — мы будем делать политику. Я знаю, что у русских есть в Америке коммерческая организация, через которую они ведут дела с отдельными представителями нашего бизнеса.
— Да, конечно, — согласился Моргентау. — Она называется «Амторг». Вы же знаете, что русские затеяли индустриализацию всей страны. Им требуется разное оборудование и нужны специалисты, которые могли бы научить русских инженеров обращаться с американскими машинами. Торговля идет неплохо, но могла бы идти во много раз выгоднее для нас, если бы между нашими странами были дипломатические отношения… Кроме того, в Нью-Йорке у русских есть так называемое Информационное бюро. Его компетенция — печать, связи с журналистами, ведь официального представителя советского телеграфного агентства в нашей стране нет. А такое бюро есть. Оно расположено на Массачусетс-авеню. Большой дом. Я не раз видел его из окна машины. Даже заезжал. Там бывают наши конгрессмены, журналисты…
— Насколько я знаю, — продолжал Рузвельт, — во главе «Амторга» стоит человек, не являющийся дипломатом?
— Вы прекрасно знаете, что никто из советских дипломатов не аккредитован при государственном департаменте. Но один человек, официально связанный с «Амторгом», — его фамилия Сквирский — является в то же время неофициальным представителем Комиссариата иностранных дел… Я его знаю. В разговоре с ним я как-то раз даже намекнул, ничего, конечно, не уточняя, что со стороны Белого дома может последовать некий дружеский шаг. Сквирский, вероятно, решил, что речь идет о торговом соглашении.
— О'кей, но не будем забегать вперед. Этому учит нас история, — заметил Рузвельт. — Наверное, русские согласятся. Впрочем, чем черт не шутит. Кстати, моя мать убеждена, что идея установить отношения с Россией навязана мне именно чертом, и никем другим.
— У вашей матери много сторонников в Америке, сэр.
— Не больше, чем тех, кто уверен, что мною руководит бог, — саркастически сказал Рузвельт. — Однако вернемся к делу. Как ты считаешь, этот Сквирскнй достаточно авторитетен для своих боссов, чтобы вести с ними переговоры о признании?
— Не знаю, сэр. Но существует такое понятие, как логика. Если в стране только один приход, но возглавляет его не пастор, а, как ни странно, светское лицо, то венчаться все равно идут к нему, лишь бы оно знало соответствующую молитву.
— Ну, это кто как! Во всяком случае, при желании начать предварительные переговоры, видимо, надо обращаться к Сквирскому?
— Ни в коем случае, сэр! — решительно сказал Моргентау.
Президент удивленно приподнял брови.
— Я хотел сказать, — пояснил Моргентау, — что Сквирский годится лишь для того, чтобы выяснить, готова ли Россия вступить в переговоры. Поэтому никаких посланий, никаких документов. Иначе мы можем сесть в лужу.
— Ты хочешь приготовить яичницу, не разбивая яиц?
— Да. Но подняв их над сковородкой.
— Ты противоречишь самому себе. Вспомни твою притчу о приходе и пасторе.
— Я ее не докончил. Предусмотрительные люди информируют чиновника церкви о своем желании и просят узнать, как к этому отнесся бы полномочный пастырь.
— Довольно аллегорий, Генри. Что ты предлагаешь?
— Написать записку, в которой задать вопрос: как отнесется Россия к предложению Соединенных Штатов о восстановлении дипломатических отношений?
— И послать ее через Сквирского в Кремль?
— Ни в коем случае! — повторил Моргентау. — Прочесть ее Сквирскому вслух и ждать ответа из Кремля, обязательно письменного. Если ответ окажется положительным, наша записка, которую мы назовем тогда нотой, будет послана в Москву уже официально.
— Хитро придумано! Мне этот план нравится, — сказал президент. — Ты возьмешь все это на себя? Действовать через государственный департамент пока еще рано.
— А по-моему, самое время. Впрочем, Хэлла я бы пока оставил в покое. Надо взять кого-нибудь пониже рангом…
— Уильям Буллит? — быстро спросил президент.
— Вы прямо-таки читаете мои мысли, сэр, — подтвердил Моргентау.
Но президенту не надо было быть ясновидящим, чтобы назвать Буллита. Этот сорокадвухлетний дипломат был только что назначен на пост специального помощника государственного секретаря. Свою тайную мысль — если с Россией удастся договориться, направить туда Буллита послом — Рузвельт не поверял никому.
Но логика поступков президента, ожидание тех или иных важных политических событий и предшествующие им назначения позволяли близким сотрудникам президента связывать факты в определенную систему. В таких случаях не он читал их мысли, а они — его…
— Но основное дело за тобой — организация и прочее, — подчеркнул Рузвельт. — Буллит нужен на тот случай, если дело примет дипломатический оборот. Согласен?
— Разумеется, — ответил Моргентау, — тем более что у меня есть повод обратиться к Сквирскому. Я имею в виду тот самый разговор.
— Вот именно, — удовлетворенно сказал президент. — Теперь давай писать пьесу.
— Пьесу, сэр? — с недоумением переспросил Моргентау.
— Ну, назови это сценарием, планом, чем хочешь. Но сценарий нужен, хотя и без голливудских звезд. Итак, я Генри Моргентау, а ты Сквирский. Дело происходит… Впрочем, ты сам потом решишь, где лучше провести встречу. Итак, я Моргентау, ты Сквирский…
Моргентау внимательно наблюдал за президентом. По его слегка покрасневшему лицу, сияющим от удовольствия глазам он видел, что Рузвельт увлечен этой своей игрой, как мальчишка решающим матчем в бейсбол.
— «Так вот, парень», — говорю я, то есть, Моргентау, обращаясь к тебе, Сквирскому. Впрочем, нет, такое обращение у них, очевидно, не принято. Скажем проще: «Мистер Сквирский, некоторое время назад я намекнул, что вы можете ждать определенного шага с нашей, американской, стороны. Вы спросили, идет ли речь о дружеском шаге, и я ответил: „да“. Помните, мистер Сквирский?» Кстати, это я уже спрашиваю у тебя, Генри, будут ли поданы крепкие напитки, или разговор пойдет всухую?
— Я полагаю, что мистер Сквирский опьянеет и без напитков.
— Допустим. В крайнем случае выпивка за счет Белого дома. А еще лучше за мой счет. Мне это будет только приятно. Так вот, продолжаю я, Моргентау: «Через несколько минут сюда войдет мистер Буллит из государственного департамента. Он принесет важный документ и покажет его вам. Правда, документ еще не подписан». Подчеркни это обстоятельство — оно имеет важнейшее значение. Как ты будешь реагировать на мои слова, ты, Сквирский?
— До удара, очевидно, не дойдет, но упасть в обморок он может. Впрочем, у красных крепкие нервы.
— Ничего! От радости не умирают. Кстати, что вы со Сквирским делаете, пока Буллита нет? Все-таки коктейль необходим. Буллит входит через несколько минут. В руках у него листок бумаги, — не папка, не портфель, а просто листок. Теперь ты, Генри — Буллит, и обращаясь ко мне, Сквирскому, говоришь: «Как вас, наверное, уже информировали, сэр, у меня в руках неподписанный документ. Однако он может быть оформлен как приглашение прислать сюда ваших представителей для обсуждения отношений между нашими странами…» Ты слушаешь меня, Генри? Ты должен проинструктировать Буллита. Чтобы не было никакой отсебятины. Ты можешь считать момент, который тебе предстоит пережить, поистине историческим… «Итак, — продолжает Буллит, обращаясь к тебе, Сквирскому, — мы хотим, чтобы самым секретным вашим шифром (это надо особо подчеркнуть!) документ был передан в Кремль, в ваше министерство — словом, вам лучше знать куда, с тем чтобы выяснить, приемлем ли он для Москвы. Если да, то пусть ваши люди пришлют нам проект ответа, а мы, в свою очередь, сообщим вам, приемлем ли для президента русский проект». Ты внимательно слушаешь меня, Генри? Ты знаешь, есть вопросы, в которых я предоставляю исполнителям полную свободу действий. Но то, что я говорю сейчас, должно быть сделано именно так, как я говорю. «Если проекты окажутся взаимно приемлемыми, — должен сказать дальше Буллит, — президент подпишет этот документ, и оба письма могут быть обнародованы в Москве и в Вашингтоне». Затем ты, Буллит, сделаешь паузу и посмотришь, какое впечатление все это произведет на тебя, то есть на Сквирского. Ты же, то есть не Сквирский, конечно, а на этот раз уже ты, Генри Моргентау, потом подробно доложишь мне об этом впечатлении. И еще один момент, весьма важный. Спроси Сквирского, может ли он дать честное слово, поклясться, побожиться, что предварительной огласки обмена письмами не будет и до окончательного решения все сохранится в тайне.
— Конечно, он это сделает, — сказал Моргентау.
— Погоди, — строго сказал президент, — ты, кажется, чересчур вошел в роль Сквирского. Мне требуется его слово, а не твое. Пока мы его еще не имеем. Ну вот и все. Приступай к делу безотлагательно. Сегодня восьмое октября. Когда мы сможем провести всю эту операцию с полной гарантией, что о ней не пронюхает наша правая печать?
— Послезавтра, — после короткого раздумья ответил Моргентау. — Мне надо еще подготовить тот самый неподписанный документ, показать его вам, проинструктировать Буллита и предупредить Сквирского.
— О'кей, — согласился Рузвельт. Помолчав, он сказал: — Это — дело огромной важности. Сейчас трудно даже представить себе, какие результаты оно может дать в будущем!
— Кому? — не без иронии спросил Моргентау. — Нам или России? Впрочем, это шутка, конечно.
— Я так это и понял. Ты слишком умен, Генри, чтобы, подобно нашим политиканам, считать, что выгода для одного автоматически означает невыгоду для другого. Я за такие решения, которые выгодны обоим. Разумеется, если это честные решения. Не задерживаю тебя больше, Генри, и да поможет тебе бог. Кстати, информация о вашем совещании должна лежать у меня на столе не позже чем через час после того, как оно кончится.
…Через день на столе президента лежала записка Моргентау, датированная 10 октября 1933 года. Все произошло именно так, как это заранее было «прорепетировано» Рузвельтом. Новое заключалось лишь в следующих строках Моргентау: «…Сквирский спросил после слов Буллита: „Это означает признание?“ Буллит уклонился от прямого ответа, сказав: „Можете ли вы ожидать большего, чем возможность для вашего представителя вступить в переговоры с президентом США?“»
…Месяц спустя, в день 16-й годовщины Октябрьской революции, в Нью-Йорк по поручению Советского правительства для ведения переговоров с американским прибыли народный комиссар иностранных дел Литвинов в сопровождении руководителя пресс-бюро НКИД Уманского и секретаря коллегии наркомата Дивильковского.
В тот же день вечером их принял в Вашингтоне президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт.
Итак, Америка узнала о признании России Соединенными Штатами…
Одни газеты прославляли дальновидность и мудрость Рузвельта. Другие снова объявляли его «красным», упрекали в союзе с «безбожной страной», хотя никакого союза еще не было, — он возникнет позже, в грозное военное время… Но сам этот союз был бы невозможен без решительного шага, который сделал он, Рузвельт, признав Советскую Россию в том далеком тридцать третьем. Признав не из любви к коммунизму, оставаясь лидером самой могущественной капиталистической страны в мире, но подчиняясь голосу рассудка, зову здравого смысла…
Тысячи, десятки тысяч писем стекались в Белый дом со всех концов страны. В одних содержались упреки, даже проклятия, в других приветствия, поздравления.
Реакционные газеты по-прежнему твердили: президент — «красный», «красный», «красный»…
Сейчас, годы спустя, Рузвельт, словно ощущая в своих руках историческую нить Ариадны, вспомнил один эпизод…
Все началось с того, что в Овальный кабинет неожиданно вошла Элеонора. Она знала: в эти часы ее муж обычно занят государственными делами. Он принимает министров, сенаторов, крупных бизнесменов… Правда, знала она и о том, что все встречи, назначенные на сегодня, были окончены и президент решил отдохнуть, в сотый, в тысячный раз разглядывая свое необозримое сокровище — альбомы с марками.
В эти часы он не ждал жену и по другой причине. Президент знал, что у Элеоноры сейчас происходит прием. Какой? О боже, разве он был в состоянии запомнить все приемы, которые почти ежедневно устраивала его деятельная супруга? Прием сторонников расширения торговли с Россией. Прием противников такого расширения. Прием деятелей Национального Фонда борьбы с полиомиелитом. Прием жен руководителей демократической партии. Ленч для жен министров. Для жен иностранных дипломатов. Для судейских чиновников. Для религиозных деятелей. Трудно было подсчитать, сколько человек перебывало на официальных и сугубо частных приемах, организуемых женой президента.
«Впрочем, — вспоминал Рузвельт, — однажды такая попытка была сделана. Кажется, в тридцать девятом году. По данным секретарей и помощников Элеоноры, ее приемы посетило около пятнадцати тысяч человек…»
Была выработана сложная процедура — приглашались только те люди, которых хотела увидеть жена президента, и те, кто непременно хотел увидеть ее…
Приемы? Переписка?.. О нет, этим далеко не ограничивалась деятельность неутомимой Элеоноры. Она вела «колонку» в газетах, писала статьи, тексты своих выступлений по радио, уверенная, что без ее помощи Рузвельт никогда не справился бы со своими многосторонними обязанностями.
В тот памятный день, когда Рузвельт остался наконец наедине со своими марками, его супруга появилась с неожиданным предложением: не согласится ли он встретиться с одним «любопытным» человеком? Чтобы встреча эта не носила официального характера, Элеонора предложила Рузвельту перебраться на ее половину, где только что закончился очередной прием.
— Но я не могу, я не в силах! — с отчаянием воскликнул утомленный президент. — Кроме того, я должен еще…
— Не хитри, Фрэнк! — энергично прервала мужа Элеонора. — Ты уже принял всех, кого хотел. А теперь намерен заняться своими марками. Но я предлагаю тебе еще одну очень интересную встречу. С человеком из тех сфер, которые ты почти не знаешь.
— С кем, черт побери?! — раздраженно спросил Рузвельт. — С очередной представительницей Общества по спасению падших женщин?
— Вовсе нет. Сегодня меня посетили представители организации помощи малоимущим студентам.
— С кем же ты хочешь меня свести? Как его имя?
— С мистером Джоном Смитом.
Для любого американца это имя вручало так же, как для русского: «Иван Иванов».
— Почему я должен с ним встречаться? — на этот раз уже с удивлением спросил Рузвельт.
— Потому что президент должен знать все, что о нем думают.
— Мне уже надоело думать о том, кто и что обо мне думает, — пошутил президент, но все-таки спросил: — Что же он, хвалит меня или поносит?
— Как тебе сказать… — после паузы ответила Элеонора. — Пожалуй, и то и другое.
— И в том и в другом для меня нет и не может быть ничего нового, — сказал Рузвельт, открывая один из альбомов.
Но Элеонора была проворнее. Мгновенно оказавшись у кресла президента, она мягким, но решительным движением закрыла альбом.
— Я прошу тебя, Фрэнк, — сказала она. — Ты услышишь нечто новое о себе. Ручаюсь! В конце концов я редко заставляю тебя присутствовать на моих приемах…
«Что же произошло дальше?..» — вспоминал Рузвельт.
А дальше было вот что: президента, оказавшегося не в силах противостоять настойчивой жене, доставили в зал, где только что кончился очередной прием, судя по еще не убранным стульям, здесь побывало человек тридцать.
Но сейчас в зале были только Элеонора, Рузвельт, следовавшие за коляской президента охранники, камердинер Приттиман и какой-то совершенно неизвестный президенту человек.
При появлении коляски с президентом человек этот энергичным движением поднялся из-за стола, сделал несколько шагов по направлению к коляске и спокойно произнес:
— Здравствуйте, мистер президент!
— Хэлло, мистер Смит! — с обычной своей приветливой улыбкой ответил Рузвельт и протянул незнакомцу руку.
Смит быстро, однако без поспешности подошел к коляске и пожал Рузвельту руку.
«Кто же он такой, этот Смит?» — подумал президент, вглядываясь в стоявшего перед ним человека. На вид ему было лег сорок пять. У него было морщинистое, узкое лицо, худое, словно после перенесенной тяжелой болезни, обветренное, как у моряка. В черных волосах пробивалась седина. Он слегка сутулился.
Рузвельт, не терпевший вялых рукопожатий, обычно пожимал руки мужчинам очень крепко, чтобы продемонстрировать свою физическую силу. На этот раз он почувствовал, что ответное рукопожатие было, пожалуй, не менее крепким, чем его собственное.
— Очень рад с вами познакомиться, — сказал Рузвельт, торопливо перебирая в памяти всех известных ему лично сенаторов, конгрессменов, бизнесменов и все более убеждаясь, что никогда раньше не видел этого человека.
Смит сделал легкий поклон стоявшим за коляской президента телохранителю Гасу Дженеричу и полковнику Эду Старлингу, ведавшему в то время охраной Белого дома.
— Сейчас мы перейдем в другую комнату и выпьем по чашке кофе, — тоном, не терпящим возражений, сказала Элеонора, обращаясь ко всем присутствующим, но в первую очередь к Старлингу, который, как показалось Элеоноре, с самого начала смотрел на нее укоризненно.
— Ну, уж если речь идет о том, что надо выпить, я предпочитаю коктейль, — с добродушной усмешкой сказал Рузвельт. Ему не терпелось узнать: кто же все-таки этот тип, ради которого Элеонора заставила его отвлечься от своих любимых марок?
Рузвельта перевезли в соседнюю маленькую гостиную и перенесли из коляски в кресло, стоявшее у кофейного столика. Загадочного Смита Элеонора усадила на стул у того же столика. Через две-три минуты президент получил свой любимый «Манхэттен», а перед отказавшимся от коктейля Смитом поставили чашку кофе и крохотный молочник.
— Не будем вам мешать, — неожиданно заявила Элеонора и направилась к двери, сделав охранникам и камердинеру знак удалиться.
Поглядев на спокойно-сосредоточенное лицо Смита, Рузвельт сказал:
— Вот мы и один. Очевидно, ваше дело требует полной конфиденциальности. Но прежде всего прошу вас удовлетворить мое любопытство и сказать, кто вы?
— Ваш политический противник, сэр. Откровенно говоря, я не рассчитывал на встречу с вами. Но миссис Рузвельт… Если вас интересует, чем я занимаюсь, то я профессор Вермонтского колледжа имени Бенджамина Франклина. — Голос у Смита был низкий, чуть хрипловатый.
— Ваше имя мне уже сообщила жена, — как бы не обращая внимания на первую фразу, сказал Рузвельт. Его совершенно не интересовало, что делает в колледже этот Смит, но из вежливости он все-таки спросил: — Какой предмет вы преподаете?
— Политическую экономию, сэр, — вежливо ответил Смит.
— И давно? — поинтересовался Рузвельт просто для того, чтобы поддержать разговор.
— Это не простой допрос, мистер президент, — с легкой усмешкой ответил Смит. — Я преподавал десять лет. Потом… Потом я получил долгосрочный отпуск.
— Почему? — спросил Рузвельт.
— В тридцать первом году власти штата перестали субсидировать наш колледж, как, впрочем, и многие другие учебные заведения. Директору пришлось сократить многих преподавателей.
— Вам удалось найти другую работу?
— Да. В нью-йоркских доках.
— Вы к тому же инженер? Или моряк?
— О нет, сэр. Для того, чтобы работать грузчиком, диплома не требуется, — спокойно ответил Смит.
На мгновение Рузвельту показалось, что наконец он понял все. Конечно, этот Смит — один из той огромной массы безработных, которую породила «великая депрессия». Теперь он проник к Элеоноре, чтобы просить… Впрочем, нет! Он ведь только что сказал, что преподает в колледже. Значит, работа у него есть. Тогда в чем же дело?
— Я вас понимаю, — меняя светскую манеру на сочувственную, произнес Рузвельт. — Но теперь, благодарение богу, трудности позади…
— Вы уверены, что они позади, мистер президент? — глядя прямо в глаза Рузвельту, прервал его Смит. В тоне его послышалась легкая насмешка. Или Рузвельту это просто показалось? Тем не менее он ощутил невольное раздражение.
— Вряд ли сегодня в стране найдется много людей, которые доказали бы обратное, — сохраняя внешнее спокойствие, сказал президент.
— Я один из них, сэр, — тотчас отозвался Смит и теперь уже с явной усмешкой добавил: — Дело в том, что я «красный», мистер президент.
Однако он явно недооценивал свойственных Рузвельту выдержки и чувства юмора.
— O! — воскликнул президент. — Это значит, что мы союзники! Если вы подсчитаете, сколько раз за прошедшие годы наши газеты, политиканы и проповедники называли меня «красным», то наверняка получите астрономическую цифру!
— Я другой «красный», сэр, настоящий, — отклоняя шутливый тон Рузвельта, серьезно сказал Смит. — Я коммунист.
— Что ж, вас немного, но вы существуете, — стараясь сохранять хладнокровие, так же серьезно ответил Рузвельт. — И вы называете себя партией рабочего класса, партией интернационалистов. Ведь так?
— Мы не просто называем себя, а и в самом деле являемся подлинными представителями трудящихся американцев, — возразил Смит.
— Так почему же, — с обидой произнес Рузвельт, — вы называете себя противником человека, который ликвидировал кризис в Соединенных Штатах?
— Тем, что вы провозгласили «Закон о восстановлении промышленности»? — не без иронии спросил Смит. — Или «Акт о регулировании сельского хозяйства»? Или тем, что ввели все эти «кодексы честной конкуренции»?
— А вы считаете их бесполезными? — резко спросил Рузвельт.
— Для кого как. Я не отрицаю, что ваша «Федеральная администрация чрезвычайной помощи» сократила безработицу, хотя любой человек подтвердит, что кризис в Штатах еще далеко не ликвидирован. Не спорю, своим «Новым курсом» вы ввели в стране некоторые элементы разумного планирования. Но что заставило вас сделать это?
— Перечисляя то, что сделано моей администрацией, — все так же резко сказал Рузвельт, — вы забыли о признании Советской России.
— Мистер президент! Я не отрицаю некоторые из ваших несомненных достижений. Более того, чисто по-человечески вы мне симпатичны («Вот самоуверенный нахал!» — подумал Рузвельт). Но ради кого и во имя чего ввели вы свой «Новый курс»?
— Всего мог ожидать от вас, но только не этих нелепых вопросов! — воскликнул Рузвельт. — Ради чего? Ради всех «смитов», всех «джонов» Америки! Во имя чего? Во имя блага простых американцев, А вам, очевидно, кажется, что мы на пути в ад и уже находимся в какой-нибудь миле от пекла?
— Насколько мне помнится, миля — это точное расстояние между Белым домом и Капитолием. Не так ли? — подчеркнуто вежливо осведомился Смит. — Тем не менее, — продолжал он, — разрешите мне на минуту забыть, что я нахожусь в Белом доме и сижу рядом с «первым человеком» Соединенных Штатов. Я ненавижу лицемерие — вольное, вынужденное или искреннее, если такое вообще существует. Нет, мистер президент! Ваш «Новый курс» родился не из абстрактного сострадания к «смитам», а из желания спасти капитализм в Америке. Вас напугало, что только в последние год или два в рабочих стачках участвовало более четырех миллионов человек. Да, вы правы, не так уж мало «джонов» и «смитов» получили в последние годы работу и крышу над головой. Но о том, что ежегодные прибыли монополий благодаря всем вашим мерам возросли с трех миллиардов почти до шести с половиной миллиардов долларов, вы, очевидно, забыли. А безработных у нас и сегодня миллионы. Так не говорите, что все, что вы сделали, было сделано ради «смитов». Человек такого интеллекта и такой субъективной честности, как вы, может позволить себе не быть лицемером!..
Рузвельту — он хорошо помнил это! — потребовалось немалое напряжение воли, чтобы закончить разговор шуткой.
— Насколько я понимаю, — сказал он, — вы обвиняете меня во всех бедах Америки. Можно в связи с этим рассказать вам анекдот? Говорят, что героя Марны маршала Жоффра как-то спросили: «Кто же все-таки выиграл битву на Марне?» «Я точно не знаю, — ответил маршал, — но уверен, что если бы битва была проиграна, то в этом обвинили бы меня».
— Что ж, это было бы несправедливо, — сказал Смит, — но если крупные монополии не перестанут грабить народ, то в этом обвинят вас, мистер президент. Точнее, ваш класс. И это будет справедливо…
Спустя мгновение, как бы заканчивая свою мысль, Смит сказал:
— Впрочем, вы далеко не худший человек своего класса. На следующих выборах я буду голосовать за вас.
Когда Смит ушел, Рузвельт раздраженно спросил Элеонору:
— На кой черт ты заставила меня встретиться с этим самоуверенным критиканом?
— Чтобы ты еще лучше знал настроения разных слоев нашего народа. Помогать тебе в этом — мой долг, — ответила Элеонора. — Выступления на предвыборных собраниях не всегда показательны, — добавила она. — К тому же этим «Смитам» не всегда дают возможность говорить публично…
— Господин президент, получилось! — прозвучал вдруг на всю комнату голос Шуматовой.
Рузвельт вздрогнул и с недоумением посмотрел на художницу. Женщины столпились возле ее мольберта.
— Получилось! — еще радостнее повторила Шуматова. Но тут же, взяв себя в руки, строго осадила Люси, и кузин президента: — Нет, нет, мои дорогие леди, прошу вас вернуться на свои места. Вы отлично знаете, что я никому не показываю рисунок в незаконченном виде. Мне никак не удавались глаза, но теперь они получились! — с облегчением сказала она Рузвельту. — Еще не совсем, но все-таки получились.
— А я имею право взглянуть в собственные глаза? — спросил президент.
— Пожалуйста, — решилась Шуматова, взяла мольберт и показала рисунок Рузвельту.
— Лю-бо-пытно, — сказал он после паузы.
— Вам не нравится? — упавшим голосом спросила Шуматова. — Но это же еще только набросок. Это еще должно обрести плоть и кровь.
— Вы знаете, как я себя сейчас чувствую? — шутливо спросил президент, — как Алиса после того как кот уже исчез.
Разумеется, все знали знаменитую сказку «Алиса в Стране Чудес», одним из персонажей которой был Чеширский кот, чья улыбка продолжала висеть в воздухе даже после того, как сам кот исчезал.
— Вы шутите, конечно, — обиженно сказала Шуматова. — Уловить выражение глаз человека можно за мгновение, но перенести их живыми на бумагу… Это отняло у меня почти час.
— Примерно столько же, сколько мне понадобилось, чтобы оформить признание России, — задумчиво сказал президент.
— Все это время вы думали о России? — удивленно спросила Шуматова, ставя мольберт на место.
— Вы сами послали меня в это далекое путешествие. Но глаза, как видно, оставались здесь, с вами. Я и вправду Чеширский кот. Одна из присутствующих здесь дам, — продолжал Рузвельт, бросая мимолетный взгляд на Люси, — подсказала мне любопытный способ путешествия в прошлое.
— На чем? — спросила Шуматова. — На уэллсовской машине времени?
— Нет, на более реальной. Оседлав собственную мысль, я вспомнил все: даже то, как учил Моргентау и Буллита, что им надо говорить, когда они встретятся со Сквирским.
— С кем?
— Кажется, я точно назвал фамилию этого русского.
— Какое это имеет значение столько лет спустя? — небрежно произнесла Шуматова.
— В начале нашего сеанса вы сказали, что антигитлеровские войска стоят возле Берлина, — с неожиданной строгостью заметил президент.
— Да, — растерянно ответила Шуматова. — Я прочла об этом в утренних газетах. Это ошибка?
— Ошибка только в том, что даже сейчас вы не видите прямой связи между признанием России в 1933 году и тем, что в битве с общим врагом мы оказались вместе. В те времена многие меня проклинали. За то, что, признав Россию, я заключил союз с дьяволом. Оказалось, что союз был заключен против дьявола… Но не пора ли нам между тем пообедать?..
— Одну минуту! — с испугом воскликнула Шуматова. — Я умоляю вас, господин президент… Еще одну минуту! За дверью ждет Николас Роббинс. Вы с ним знакомы. Разрешите ему сделать несколько снимков. Мне нужно запечатлеть то выражение лица, которое было у вас во время сеанса…
Не дожидаясь ответа, Шуматова кинулась к двери и, распахнув ее, громко крикнула:
— Роббинс! Где же вы, Роббинс?
Увешанный фотоаппаратами, с треножником в руке, Роббинс тотчас появился в гостиной.
— Миссис Шуматова! — умоляющим тоном обратился к художнице Рузвельт. — Я очень устал. Кроме того, нам надо пообедать, а затем мне предстоит чтение документов! Ведь впереди у нас еще несколько сеансов! Нельзя ли отложить снимки на завтра или, скажем, на послезавтра? Гарантирую вам то выражение лица, какое вы потребуете.
Роббинс, лысоватый, худой человек лет шестидесяти, смущенно стоял посредине комнаты, не зная, кого ему слушать.
— Решено! — весело сказал Рузвельт. — Мы отправляемся обедать!
— А после обеда? — жалобно спросила Шуматова.
— Я же вам сказал, — с легким раздражением ответил Рузвельт. — Дела!
Не мог же он объявить при всех, что остаток дня после работы над документами он хочет провести с Люси, и только с ней!
Увидев, как огорчилась Шуматова, президент добавил шутливо-торжественно:
— Даю вам слово президента Соединенных Штатов Америки, что при всех условиях найду время для мистера Роббинса. Завтра, послезавтра, через три дня, наконец!..
Франклин Делано Рузвельт дал обещание, которое не мог сдержать. Ни он, ни Люси, ни все остальные не знали, что президенту осталось жить менее трех суток.
КНИГА ВТОРАЯ
Глава первая «МЕЖЗВЕЗДНЫЙ СКИТАЛЕЦ»
Считанные десятки часов отделяли тридцать второго президента Соединенных Штатов Америки от порога смерти. Знал ли он об этом, догадывался ли? Разумеется, Рузвельт не мог не ощущать, что его физическое состояние резко ухудшилось. Но мысль, что это всего лишь следствие переутомления, до того настойчиво внушалась ему врачами, ее так часто высказывали его ближайшие сотрудники и, главное, Люси, что президент в конце концов поверил, что отдых поможет ему.
В слове «отдых» для него таилось теперь нечто магическое, он повторял его как заклинание.
Но отдыхал ли он по-настоящему? Удавалось ли ему забыть о делах — и о тех, что уже ушли в прошлое, и о сегодняшних, еще не решенных и постоянно требовавших огромного напряжения сил? Нет, неотложные дела завладевали сознанием президента, едва он открывал утром глаза.
Письмо Сталину не написано и, стало быть, не отправлено до сих пор… Предстоящая поездка в Сан-Франциско: он должен завершить одно из главных дел своей жизни — объявить день рождения Организации Объединенных Наций и открыть первую встречу будущих обитателей этого «Дома Добрых Соседей»… Речь памяти Джефферсона. Ведь тринадцатого апреля предстоит выступление по общенациональному радио. А речь еще не готова… Черт побери, не готова!
Снова мысли об итогах Ялтинской конференции. Что сделать, какие слова найти для прессы, чтобы рассеять сомнения в успехе Ялты, заглушить вой правых газет Америки и Англии, утверждающих, будто Ялта — выигрыш «красных», будто он, Рузвельт, подчинился Сталину, смирился с его стремлением «большевизировать» Европу, сдался, поднял руки вверх.
Сталин… Кто же он такой в конце концов, этот загадочный человек, умеющий почти одновременно быть жестким и обаятельным, прямолинейным и гибким? То он держится, как лучший друг, то — когда речь идет о защите интересов его страны — дает отпор, резкий, логически неуязвимый или просто саркастический. Кто же он такой? Этот вопрос снова и снова задавал себе Рузвельт и каждый раз находил разные ответы.
И опять мысли о Ялте. Она уже в прошлом, эта Ялта. Надо думать о другом — о новой встрече «Большой тройки», столь необходимой, чтобы поставить все точки над «i», как только закончится война.
Черчилль! Что делать с этим упрямцем, повисшим на стрелках часов Истории, чтобы остановить их — нет, не только остановить, но и заставить двигаться назад.
Впрочем, в Англии скоро выборы. Значит ли это, что он сойдет со сцены? Нет. Может случиться и так, что Черчилль останется премьером.
Все эти мысли преследовали президента, словно рой взбудораженных пчел.
Рузвельт не заметил, когда именно он начал жить как бы в двух временных пластах. После возвращения из Ялты? После того, как произошла размолвка со Сталиным? Ему никак не удавалось отсечь в мыслях своих настоящее от прошлого: то и другое сплеталось в один узел. Раздумья о нынешних отношениях с Россией неизбежно вызывали ассоциации, уходившие в глубь десятилетий — туда, к тридцать третьему году, когда с этой дотоле неведомой, точно Северный полюс, страной были установлены дипломатические отношения. Мысли о тех временах сменялись воспоминаниями о начале войны с Гитлером. И опять — как бы замыкая круг — выступали на передний план сложные перипетии американо-советских отношений… Но тут Рузвельт с удовлетворением думал о том, что Россия денонсировала договор с Японией. Значит, Сталин намерен выполнить свое обещание помочь Америке в войне с этой агрессивной страной. Мысль о Японии порождала воспоминания о Перл-Харборе…
О чем свидетельствовал этот поток мыслей, неотступно преследовавших президента, все чаще и чаще захлестывавший его сознание? О резко обострившейся ассоциативности мышления? Или о чем-то другом — о подсознательном, связанном с приближающимся концом желании «подвести итоги»?..
Между тем каждый день из Вашингтона — из Белого дома, из государственного департамента, из Пентагона — военный самолет доставлял ему доклады, проекты решений, сводки с театров военных действий — европейского и тихоокеанского. И надо было делать выбор, решать, что-то принимать, что-то отвергать… И кроме того, над президентом висело еще одно обязательство: в течение нескольких ближайших дней позировать для уже начатого, но еще не законченного портрета, над которым работала Шуматова.
Всякий раз, когда он вспоминал об этом, его охватывало раздражение. Но оно почти мгновенно исчезало, сменяясь ощущением радостного ожидания. Шуматова, позирование, портрет — все это сливалось в сознании Рузвельта с одним светлым образом: Люси.
О, конечно, он виделся с ней не только во время сеансов. Короткие прогулки на машине, чай в пять часов вечера, ужин… Люси! Бесконечно дорогое существо. Нечто незыблемое, единственное, что президент никогда не подвергал сомнению, — с тех пор, как он, еще молодой и здоровый, увидел ее впервые, и до нынешних дней. С Люси было связано ощущение спокойствия, твердой опоры, счастья — ощущение, дающее силы противостоять всем трудностям, горестям и сомнениям…
* * *
Десятого апреля 1945 года Рузвельт проснулся раньше обычного. «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йорк геральд трибюн», «Балтимор сан» и «Вашингтон пост» уже лежали на его прикроватной тумбочке — Хассетт позаботился о том, чтобы первые же минуты после пробуждения президента были окрашены в радостные тона.
Да, достаточно было взглянуть на заголовки, чтобы убедиться, что операции на европейских фронтах развиваются весьма успешно. Сутки не прошли даром: кольцо вокруг фюрера сжалось еще теснее. Рузвельту захотелось отложить все дела, побыть еще некоторое время в покое, в одиночестве, насладиться торжеством приближающейся победы…
Но о покое нельзя было и помышлять. Аппарат «Маленького Белого дома» работал, как хорошо отлаженная машина. Не успел президент просмотреть газеты, как Артур Приттиман установил над его грудью специальный столик-поднос с завтраком — яичницей с беконом, стаканом апельсинового сока и чашкой кофе. Ел президент быстро. Как только он бросил на поднос салфетку, дверь в спальню приоткрылась, и на пороге показался доктор Брюнн.
— Как спали, господин президент? — произнес он вместо приветствия, подходя к постели. — Все ли в порядке? Какие-нибудь неприятные ощущения? Нет? Посмотрим. Посмотрим…
Врач подождал, пока Приттиман уберет столик-поднос с посудой, и раскрыл свой саквояж.
Прослушивание сердца и измерение кровяного давления заняли не более пяти минут. «Что ж, — мысленно произнес Брюнн, — все, как обычно в последнее время».
«Как обычно» означало, что тоны сердца глухие, давление повышенное. Но в этом нет ничего нового. «Последствия ялтинского переутомления», — подумал Брюнн и сказал преувеличенно громко и бодро:
— Все о'кей!
Он поднялся, укладывая в свой чемоданчик стетоскоп и тонометр.
Затем в спальне появился неизменный Билл Хассетт с ворохом бумаг.
— Я просмотрю их позже, — сказал президент и добавил с усмешкой: — Все равно мне предстоит вынужденное бездействие во время шуматовских истязаний.
И все-таки по настоянию Хассетта ему пришлось прочесть неотложные бумаги. По-прежнему не очень утешительные вести с Тихоокеанского театра военных действий. Паническое письмо Черчилля, предостерегающего президента и требующего принять срочные меры, чтобы помешать «красным», стать хозяевами Центральной Европы: «Это поздно сделать уже сейчас, а завтра станет невозможным вообще».
«Поздно!» — мысленно повторил Рузвельт. И вдруг подумал, что это слово уже долгие годы черной тучей висит над Америкой. Все, почти все надо было делать раньше! Надо было раньше признать Россию. Надо было помочь испанским республиканцам-антифашистам. Надо было оказать давление на Англию и Францию, чтобы они заключили с Россией реальный антигитлеровский пакт, а не вели с ней затяжные и ни к чему не обязывающие переговоры. Надо было сразу же занять активную позицию, когда разразилась вторая мировая война. Вот Черчилль — тот проявил себя в те дни во всем блеске. «Мы будем сражаться на земле, на море и в воздухе…» Она, конечно, войдет в историю, эта речь. А чем были заняты в то время американцы? Бесконечные распри со своими «изоляционистами», базарная торговля о масштабах помощи жертвам Гитлера и об условиях ее оказания. Поздно, поздно… А ведь все могло быть иначе. Но, как говорится, «труднее всего предсказывать прошлое». Кто это сказал?.. Неважно! Сказано хорошо.
Черт побери, забудет ли История, что еще весной тридцать восьмого, когда гитлеровцы готовились к вторжению в Судетскую область, американский государственный секретарь Корделл Хэлл публично заявил… Что же он тогда сказал? Буквально его слова Рузвельт воспроизвести бы не мог, но смысл их помнил хорошо: США не должны предпринимать что-либо против Гитлера… А потом? И месяца не прошло, как американский посол в Англии Джозеф Кеннеди в беседе с германским послом Дирксеном признал за Германией «свободу рук на востоке и юго-востоке».
А на Дальнем Востоке? Ведь, по существу, Соединенные Штаты и там проводили политику умиротворения японских самураев… Что это фактически означало? Потворствование японской агрессии против Китая и натравливание Японии на Россию… Вся Америка была опутана паутиной лицемерных, трусливых, барышнических фраз: бесконечные ссылки на «закон о нейтралитете» — «закон», который принес плачевные результаты еще в тридцать шестом году, когда США объявили «моральное эмбарго» на торговлю с республиканской Испанией.
Рузвельт лежал на спине, закрыв глаза. Вставать ему не хотелось, перспектива сидеть, как истукан, и слушать болтовню Шуматовой его не радовала, и он лежал, мысленно переворачивая страницы Истории.
…А ведь Россия в то время предлагала создать международный фронт мира, вспоминал президент, Америка это предложение отклонила. Более того, он сам в 1940 году выступил с речью, в которой пытался отрицать миролюбивый характер советской внешней политики… «Была такая речь, была, от этого никуда не уйдешь, — с горечью повторял теперь про себя Рузвельт. — Хорошо, что хоть после того, как Германия напала на Россию, я не послушал „экспертов“, предсказывавших гибель Советов в течение нескольких недель, и решил послать в Москву Гарри Гопкинса, чтобы тот ознакомился с обстановкой на месте…»
Он лежал в постели, великий президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт, вспоминал прошлое и не знал, что звезда его уже близка к закату.
На столе у Хассетта ждали еще не просмотренные президентом бумаги — секретарь готовился обрушить эти письма, доклады, просьбы, предложения на своего босса сразу же после того; как тот оденется и выкатит свою коляску в гостиную.
Но в спальне по-прежнему царила тишина. «Как он?» — тревожно спросил Хассетт проходившего мимо Брюнна.
— Да ничего… Вроде бы все в порядке, — несколько неуверенно ответил врач и добавил: — Во всяком случае, ничего нового. Но если он захочет поспать еще немного, не надо его беспокоить.
— Он никогда не лежал так долго в постели… если, конечно, не спал, — с тревогой в голосе проговорил Хассетт. — А сейчас он не спит, могу поручиться!
— Никогда не лежал! — с горькой усмешкой повторил Брюнн, присаживаясь к столику и беря лист бумаги, чтобы набросать отчет об утреннем осмотре президента адмиралу Россу Макинтайру, главному врачу Белого дома. — Мало ли что было раньше! Раньше у него не было такой гипертонии. Он не болел бронхитом в такой тяжелой форме. Раньше у него был отличный аппетит, а теперь он плохо ест и теряет в весе.
— Значит, медицина бессильна? — чуть ли не со злобой спросил Хассетт.
— Медицина делает все необходимое, — укоризненно взглянув на Хассетта, ответил Брюнн. — Но поймите, Билл: если бы речь шла о рядовом пациенте, мы подержали бы его пару недель в постели, категорически запретили бы курить и, главное, обязали бы меньше работать, избегать стрессов и так далее. Но ведь это президент Соединенных Штатов Америки! Попробуйте заставить его подчиниться!
Видимо, считая, что последней фразой он сказал все, молодой врач умолк и вытащил из кармана пиджака свой «паркер».
…А Рузвельт тем временем продолжал неподвижно лежать на спине.
Нервничала Шуматова, установившая в гостиной мольберт. Люси, уже занявшая свое место в кресле, с тревогой поглядывала на плотно закрытую дверь спальни.
— Может быть, он снова заснул? — неуверенно спросила наконец художница.
Ей никто не ответил. Было тихо. В открытые окна доносились веселые птичьи голоса.
А президент за плотно закрытой дверью предавался своим думам. Подобно межзвездному скитальцу, созданному фантазией Джека Лондона, он размышлял…
Чем же закончился этот позорный для Америки этап лицемерия и политической наивности — нет, не наивности, а преступного недомыслия? К чему привело стремление ликвидировать руками Гитлера существование Советского Союза? Как рассеялся туман предубеждений, иллюзий, инфантильной веры, что земные и водные расстояния оградят Америку от «европейской свары»? Почему стали более редкими призывы оказывать жертвам агрессии помощь лишь на основе принципа купли-продажи, да к тому же на условиях, которым мог бы позавидовать сам Шейлок?.. Почему? Потому, что История проучила Штаты за их близорукое корыстолюбие, за попытки нажиться на мировой бойне.
Это произошло… Разве Рузвельт мог забыть год, месяц и день, когда это было?! Седьмого декабря 1941 года.
«Боже мой, — подумал Рузвельт, — сколько событий произошло после того страшного декабрьского дня, когда нашему флоту угрожал полный разгром! Какой разительный контраст между тем днем и сегодняшним, когда у Америки есть могучий союзник, которому предстоит спасти жизни многих сотен тысяч американцев!»
Глава вторая У НАС ЭТО НЕВОЗМОЖНО?
Тот трагический день седьмого декабря 1941 года запомнился всем…
Было воскресенье, и Грэйс Талли отдыхала после обеда, просматривая газеты. Неожиданно раздался резкий телефонный звонок. Едва успев произнести свое имя, Грэйс услышала торопливые слова «хозяйки коммутатора» Белого дома Луизы Хэкмайстер:
— Ты нужна президенту. Немедленно. Машина за тобой уже послана. Японцы только что бомбардировали Перл-Харбор.
Через двадцать минут Грэйс Талли была уже в Белом доме. Гопкинс, Нокс и Стимсон находились в кабинете Рузвельта. Еще через несколько минут появились Хэлл и генерал Маршалл.
Они обсуждали создавшееся положение, а вокруг, приглушенные толстыми стенами, трещали пишущие машинки, звонили телефоны и раздавались истошные крики, когда подводила связь и кто-то не мог разобрать названия базы или населенного пункта.
Грэйс стенографировала поступавшие сообщения, а генерал Уотсон, адмирал Росс Макинтайр, военно-морской адъютант капитан Бирдолл и Марвин Макинтайр заглядывали через ее плечо, пытаясь уловить смысл очередного сообщения еще до того, как оно ляжет на стол президента. Грэйс металась между телефоном в спальне президента и пишущей машинкой в маленьком кабинете Мальвины Томпсон, секретаря Элеоноры.
Нет, в то время Белый дом не производил впечатления военного штаба! Скорее он напоминал нечто среднее между комитетом демократической партии, дирекцией банка и светским клубом для избранных — одним словом, все, что угодно, но не ведомство, технически, приспособленное для руководства военными операциями.
Положение осложнялось еще и тем, что телефонная связь между Вашингтоном и Гавайскими островами была налажена недостаточно хорошо. Так или иначе, не подлежало сомнению, что каждое последующее сообщение трагичнее предыдущего: вражеская авиация налетала волнами, несколько американских военных кораблей, базировавшихся в Перл-Харборе, было уже потоплено…
Прошло около часа, прежде чем удалось установить прямую телефонную связь между Вашингтоном и Гонолулу, но — к ужасу президента и его окружения — лишь для того, чтобы получить от губернатора Гавайских островов Джозефа Пойндекстера сообщение, что американские потери значительно превосходят предполагавшиеся.
Грэйс Талли вошла в кабинет Рузвельта с текстом, отпечатанным на машинке, как раз в тот момент, когда президент начал говорить с губернатором. Все, кто был в Овальном кабинете, молчали, боясь словом или неосторожным движением помешать Рузвельту расслышать доносящийся из-за тысяч миль голос губернатора.
Но на сей раз не выдержал сам президент. Он зажал ладонью микрофон и воскликнул с отчаянием:
— Боже мой! В эту самую минуту очередная волна японских самолетов бомбит Гавайи!
Вскоре все в Белом доме уже знали, что в Перл-Харборе потоплено четыре линкора, два эсминца и один минный заградитель, повреждено три крейсера, четыре линкора и, один эсминец, уничтожено около двухсот самолетов и погибло более трех тысяч американских солдат и офицеров.
Но самым тяжелым для Рузвельта было другое — сознание, что американские вооруженные силы оказались застигнутыми врасплох.
Повесив телефонную трубку, президент усталым взглядом обвел окружавших его людей.
Но он не видел их. Перед его глазами вставала картина высадки японских войск, которая наверняка последует за бомбардировкой, — высадки на Гавайских островах или — страшно даже подумать! — на западном побережье Соединенных Штатов.
Наконец Рузвельт разжал плотно сомкнутые губы и, не глядя ни на кого в отдельности, несвойственным ему резким голосом приказал в восемь тридцать вечера собрать кабинет министров, а к девяти пригласить лидеров обеих партий.
Потом бросил собравшимся:
— Пока все свободны.
Грэйс Талли стояла у дверей, пропуская покидавших кабинет военных. Когда в комнате уже не оставалось никого, Рузвельт негромко произнес:
— Грэйс!..
Она выжидательно взглянула на президента.
— Мы кое-что запишем, — сказал Рузвельт.
Он вынул из пачки сигарету, тщательно вставил ее в мундштук из слоновой кости, закурил и глубоко затянулся.
Грэйс присела на край кресла возле письменного стола и положила на колени блокнот.
— Пиши! — повелительно сказал президент. — Завтра я выступаю перед конгрессом. Я хотел бы продиктовать мое послание. Оно будет коротким. Итак, пиши: «Вчера запятая седьмого декабря 1941 года запятая тире день запятая который войдет в историю коварства запятая тире на Соединенные Штаты Америки было совершено неожиданное и предумышленное нападение военно-морскими и военно-воздушными силами Японской империи точка абзац…»
Он продиктовал свое послание без единой запинки, не делая пауз и не внося никаких поправок.
Перепечатав текст, Грэйс по своему обыкновению подсчитала число слов: их оказалось около пятисот.
…Когда готовое послание было положено на стол президента, он приказал вызвать Хэлла. Государственный секретарь, естественно, ожидавший, что Рузвельт будет выступать перед конгрессом, принес с собой проект этого выступления, написанный Самнером Уэллзом.
Президент забраковал его без всяких комментариев и, указывая пальцем на листки, которые Грэйс Талли положила на его стол, коротко и категорично сказал:
— Этот.
Казалось, он верил в магическую силу своих слов.
Заседание кабинета министров Рузвельт начал словами, что это — самое драматическое совещание с тех пор, как Линкольн созвал своих советников в связи с началом гражданской войны. Затем он огласил проект своего послания. Заседание длилось около трех часов.
Принятые президентом лидеры демократической и республиканской партий в конгрессе предложили ему выступить на следующий день в двенадцать тридцать. Им он не прочел ни слова из своего послания. Может быть, потому, что был уверен: когда речь идет о жизни и смерти нации, межпартийным распрям нет и не может быть места.
А когда Грэйс докладывала ему о выпадах нацистской прессы? В тот же день?.. Нет, конечно, нет! Вскоре после Перл-Харбора, но, разумеется, не в тот же день. Когда это было? Она вошла с какими-то письмами, он подписал их и сказал:
— Я хотел бы знать, что пишет о событиях в Перл-Харборе наш друг Адольф Гитлер. Его так называемая пресса. Мы ведь продолжаем получать вырезки?
— Конечно, сэр, — ответила Грэйс, — сегодня утром я вложила в соответствующую папку последние из переведенных.
— Принеси! — сказал Рузвельт.
Через несколько минут Грэйс вернулась с несколькими машинописными страницами.
— Что это? — исподлобья взглянув на листки, спросил президент.
— Перевод вырезки из газеты эсэсовцев «Дас шварце кор». Передовая статья. Называется «Поэтому мы стали сильнее».
— Сильнее?.. Там что-нибудь говорится обо мне?
Грэйс замялась. Рузвельт бросил на нее строгий, проницательный взгляд.
— Да, сэр, — нерешительно произнесла она.
— Читай! — коротко приказал президент.
В течение нескольких секунд Талли перебирала страницы. Потом сказала:
— Вот. Нашла это место.
— Читай, — еще более настойчиво повторил Рузвельт и добавил: — Надо знать, как оценивают ситуацию враги.
Слегка приглушив голос, Грэйс Талли начала читать:
«Рузвельт уже давно провоцировал войну так открыто и так бесстыдно, после своего переизбрания он так цинично глумился над общественным мнением в собственной стране, так откровенно бахвалился своими воинственными планами, что теперь, издавая вопли, не имеющие ничего общего с триумфальным кличем, он выходит из своей прежней роли… Суп, который он теперь разливает, получился отнюдь не по тому рецепту, который якобы столь хитроумно был составлен его мозговым трестом».
Грэйс сделала паузу и, чуть приподняв брови, взглянула на сидевшего за столом президента. Губы его были плотно сжаты, глаза прищурены.
— Так, — помолчав немного, сказал Рузвельт, — значит, мы плохие повара. Читай дальше.
«…Тот факт, — еще глуше продолжала Талли, — что он сам представлял себе все совсем по-другому, — слабое утешение для Рузвельта. Этот, — Грэйс осеклась, произнесла едва слышно „о, боже!“ и снова стала читать: — Этот тщеславный павлин с его размягчением мозга, на фоне которого паралич его предшественника Вильсона кажется безобидным насморком, совершенно всерьез считал, что он сможет принудить мировую державу Японию капитулировать с отчаяния…Тот, кто ожидает от Рузвельта, что он хоть в какой-то мере будет считаться с такими понятиями, как честь, жертвенность и героизм, может с тем же успехом попытаться сделать из талмудиста в люблинском гетто почитателя духа „Эдды“».
Грэйс умолкла и опустила руку с листками.
— Это все? — спросил Рузвельт.
— Есть еще… карикатура.
— Покажи.
Она неохотно протянула ему один из листков. На фотокопии был изображен Рузвельт с непомерно массивной нижней челюстью. Под рисунком была короткая подпись.
— Ты знаешь немецкий, Грэйс? — спросил президент.
— Избави бог, сэр!
— Из-за твоего невежества переводить тебе должен я вместо того, чтобы ты переводила мне. Написано здесь вот что: «Если нижняя челюсть такая тяжелая, заткнуться, конечно, нелегко».
— А что такое люблинское гетто и «Эдда»? — нерешительно спросила Талли.
— Люблинское — одно из тех гетто, в которых хэрр Гитлер содержит и убивает евреев. А «Эдда» собрание древнескандинавских мифологических песен.
— Боже мой, — сказала. Талли, — людоеды ссылаются на литературный памятник!
— Ничего удивительного. Чем только не украшают себя людоеды!.. Все, Грэйс, спасибо. Тщеславный павлин позволяет тебе удалиться.
Талли медленно пошла к двери. Но у самого порога вновь услышала голос Рузвельта:
— Грэйс!
Она остановилась и обернулась к президенту. Ей показалось, что за эти короткие секунды лицо его обрело прежнее, спокойно-насмешливое выражение.
— Теперь я хочу тебе кое-что прочесть, — сказал он, открыл ящик стола и вынул пачку исписанных листков с приколотыми к ним конвертами. — Вот письмо, адресованное «Гремучей Змее Рузвельту». А вот — «Бесчестному Франклину Дефициту Рузвельту». А в этом письме три конгрессмена предлагают не мешать русским и немцам резать друг друга. Американские фашисты, Грэйс, — откидывая письма в сторону, сурово сказал президент, — куда опаснее, чем нападки хэрра Шикльгрубера на «тщеславного павлина»!
— Чего хотят эти люди?
— Они требовали фашистской диктатуры во время голодных забастовок тридцатых годов, они поносили полицейских, если те не применяли оружия против демонстрантов, и меня за то, что я не отдавал таких приказов, они называли меня «красным» и «слугой большевиков» за мой Новый курс… Словом, они хотели тогда и хотят сейчас, чтобы в Америке восторжествовал фашизм.
— Но у нас это невозможно! — воскликнула Талли.
— Да, я хочу верить Синклеру Льюису, — ответил Рузвельт, и Грэйс вспомнила, что именно так называлась антифашистская книга известного писателя, вышедшая лет шесть тому назад. — Но если наши фашистские ублюдки не замолчат, то я заткну им рот. Я! — громко произнес президент и стукнул ладонью по столу.
Потом он сгреб письма и бросил их обратно в ящик.
Почему, подумал Рузвельт, я вспоминаю все это сегодня, десятого апреля 1945 года? Теперь, когда Германия фактически разгромлена, а Япония… Да, на тихоокеанском театре военных действий кровопролитным боям конца еще не видно.
И все же почему? Почему вдруг нахлынули воспоминания о Перл-Харборе? Может быть, по ассоциации с мыслью, что Америка всегда опаздывает? Опаздывает не в создании арсенала, обеспечивающего потенциальную возможность нанести «первый удар». Это не путь к победе. Такая «победа» неизбежно заканчивается поражением. Только что весь мир стал свидетелем того, какая участь ждет тех, кто стремится поработить человечество, оглушив его «первым ударом»…
Нет, размышлял Рузвельт, мы опаздываем в другом: в решениях, основанных на здравом смысле. О, если бы можно было остановить колесницу времени, хотя бы стереть некоторые из ее следов. Остановить, отодвинуть далеко за порог тридцать третьего года и трезво отдать себе отчет в том, что на свет родилось новое государство. Великое государство, хоть и с иной политической системой… Но мы в те далекие времена предпочли интервенцию, а потом полтора десятилетия всячески поносили Россию и проклинали большевиков. Несмотря на кризис, царивший в Америке, мы пренебрегали необъятным русским рынком… Мы упорно отвергали советскую идею коллективной безопасности, а затем, по существу, приняли ее, но опять-таки долгие годы спустя, когда в Европе уже гремели пушки и всем здравомыслящим людям было ясно: если Гитлеру удастся разделаться с Англией и Россией, то вместе с Японией он возьмется и за Америку… Мы высокомерно фыркали: «Духовный союз с большевистской Россией? Нет, никогда, во всяком случае об этом не может быть и речи до тех пор, пока мы не придем к единому толкованию слов „цивилизация“ и „демократия“».
Да, он, Рузвельт, не разделял политических взглядов новой России. Но разве между духовным братством и лояльными взаимовыгодными отношениями должна обязательно пролегать пропасть, кишащая ядовитыми змеями?.. Теперь совместная победа над врагом может стать основой таких взаимовыгодных отношений. А Организация Объединенных Наций даст им юридическую основу.
Конечно, первое заседание в Сан-Франциско будет носить скорее символический, нежели деловой характер. Но уже второе…
Он размышлял. Нет, само это слово предполагает неторопливость. А в размышлениях Рузвельта — на его «карте воспоминаний» — год укладывался в несколько минут, а некоторые годы всплывали в сознании президента лишь для того, чтобы исчезнуть спустя несколько мгновений.
Всю свою жизнь он привык смотреть только вперед. Почему же сейчас, в апрельские дни сорок пятого года, жажда осмыслить прошлое все чаще охватывала Рузвельта? Потому ли, что слишком много уже этого «прошлого» накопилось в его жизни? Потому ли, что он страстно хотел быть уверенным, что его мечты сбудутся? Потому ли, что, несмотря на всех врачей с их ободряющими улыбками, он знал, подсознательно чувствовал, что в его физическом состоянии что-то изменилось, что он уже не прежний могучий, несмотря на паралич ног, человек, и то, что окружающие называли «переутомлением», было не просто усталостью, а чем-то необратимым?..
И все же он не допускал мысли о близком конце. Если он и думал о смерти, то лишь как о враге, который может помешать ему осуществить великие замыслы. И тогда Рузвельт спрашивал себя: кто придет на его место? Он перебирал в уме разные имена, начиная от вице-президента, и кончая мало-мальски видными конгрессменами. И при этом думал: «Они получат великое наследство — Победу. Они станут во главе богатой страны — ни одно государство в мире не накопило столько денег за время войны. Сумеют ли те, кто придет в Белый дом после меня, воспользоваться этими преимуществами во благо? Воспользоваться ими на пользу мира, во имя процветания „Дома Добрых Соседей“, а не для того, чтобы попытаться навязать человечеству свою волю? Допустим, бог дарует мне долгие годы жизни. Допустим, все мои планы воплотятся. „Дом Добрых Соседей“ будет создан. Здравый смысл восторжествует, и войны перестанут грозить человечеству. С Россией установятся взаимовыгодные отношения. Конечно, мы будем спорить с русскими, между их философией и нашей не может быть никакого компромисса. Но они никогда не будут хвататься за меч, чтобы утвердить свои взгляды, а Соединенные Штаты никогда не двинут войска за океан, чтобы силой оружия навязывать русским идеологию капитализма. Но даже всемогущему богу не дано ниспослать мне бессмертие. А если так, то кто может гарантировать, что мой преемник или преемники в Белом доме не сведут на нет то, что удалось или еще удастся свершить мне, тридцать второму президенту Соединенных Штатов Америки? Кто гарантирует, что на почве, взрыхленной для хлебов, не посеют зубы дракона? А что если тридцать третий или, скажем сороковой президент Соединенных Штатов провозгласит оружие единственным средством утверждения американского образа жизни не только внутри страны, но и во всем мире? Что если он захочет повернуть Историю вспять? Кто или что может послужить гарантией мира между „добрыми соседями“? Ведь законы Соединенных Штатов, их конституция не обязывают последующего президента оставаться верным достижениям предыдущего. Кто помещает новому хозяину Белого дома ввергнуть мир в катастрофу? А если так, то к чему же все усилия, которые я, прилагаю сегодня во имя долговечного мира на земле? Только для того, чтобы ненадолго отсрочить грядущую катастрофу?!.»
«Нет! — мысленно воскликнул Рузвельт. — Все мои усилия оправданы! Я еще успею воспитать мой, народ в духе торжества разума, успею!»
Само собой разумеется, что в мечтах своих президент видел Америку первенствующей на всех континентах. Он хотел, чтобы американские идеалы, американский образ жизни восторжествовали повсюду… Но только не ценой крови. Не силой оружия. Не с помощью насилия.
Глава третья ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ…
Рузвельт потянулся к пачке сигарет «Кэмел», лежавшей на прикроватной тумбочке, и взгляд его остановился на круглых настенных часах в деревянной коричневой оправе.
Стрелки на медном циферблате показывали без двадцати одиннадцать. «Это черт знает что!» — мысленно обругал себя президент. Он не удосужился взглянуть на часы, когда проснулся. Сколько же времени он провалялся в постели? И это при том, что Хассетт ждет его с неотложными делами, что до сих пор не написано письмо Сталину и не отшлифована речь памяти Джефферсона. Шуматова уже наверняка в гостиной, но бог с ней, с Шуматовой! — ведь там, конечно же, и Люси!..
А он лежал, попусту теряя время! Но почему никто не счел нужным поторопить его?
Рузвельт был неправ. За это время дверь, ведущая в комнату секретарей президента, бесшумно приоткрывалась не раз — Хассетт, уверенный, что президент все еще спит, хотел разбудить его, но каждый раз за спиной секретаря оказывался Говард Брюнн, шепотом повторявший:
— Не трогайте его. Не беспокойте. Ни в коем случае! Сон для него лучшее лекарство. Это счастье, что ему удалось снова заснуть.
«Конечно, они были уверены, что я сплю! — подумал президент, вставляя сигарету в мундштук. — Сколько же я провалялся? Час? Два? Три?.. Три часа безделья?» И вдруг, словно полемизируя сам с собой, мысленно произнес: «Пусть три часа. За это время отсюда даже до Северной Каролины не доберешься! А я был значительно дальше. Годы, люди, события безостановочно мелькали, проходили передо мной, точно центы и доллары на счетчике такси. За эти часы я покрыл тысячи миль, промчался сквозь десятки лет, и каких лет!.. Я еще и еще раз понял, как надо ценить время и, главное, использовать его разумно. Очень многое из того, что важно для страны и для всего мира, мы делали слишком поздно или неправильно… Время! Ошибки можно иногда исправить, но прошлое восстановить нельзя. Время!.. Надо торопиться».
— Приттиман! — крикнул президент. — Вставать!
Через несколько минут Приттиман вкатил коляску, в которой сидел Рузвельт, в гостиную, где его ждала художница Елизавета Шуматова, дородная женщина в неизменном темном жакете с приколотым к лацкану искусственным цветком. Но не к Шуматовой с ее мольбертом, не к двум кузинам, сидевшим на широком диване, устремился взгляд президента, когда его коляска миновала порог гостиной. Он смотрел на Люси. Конечно, она была здесь, сидела в глубоком кожаном кресле и из-за этого казалась меньше ростом.
Но Рузвельт видел только глаза любимой женщины, большие, лучистые глаза…
Потом он прислушался к птичьим голосам. На их фоне раздавалось жужжание одинокого шмеля, безнадежно бившегося о раму полураскрытого окна и пытавшегося преодолеть стеклянную преграду.
«До чего же он глуп! — вдруг подумал президент. — Стоит ему на несколько дюймов изменить направление, и путь для него будет открыт… Как это похоже на многих людей! Разбивают себе лбы в кровь, с тупым и бессмысленным упорством пытаясь пробить стену, тогда как рядом — открытый, свободный, разумный путь к цели… Впрочем, черт с ними, с этими глупцами! Пусть они провалятся, я хочу видеть только Люси, быть только с ней, только вдвоем».
Рузвельт резко толкнул большие колеса своей коляски, задавая ей направление к креслу, в котором сидела Люси. Она чуть приподнялась навстречу ему…
Но в это время раздался резкий голос Шуматовой:
— Куда же вы, мистер президент? Вы забыли, где вы позируете? Вот здесь, боком к окну!
На мгновение коляска остановилась. Но этого мгновения было достаточно, чтобы Рузвельт уловил выражение глаз Люси. Бесконечная тревога в них уступала место нарастающей радости. Они как бы говорили, эти глаза: «Я так волновалась, что тебя долго нет, милый, милый!.. Мне сказали, что ты спишь».
«Я не спал, я думал, — отвечали глубоко запавшие глаза президента, — прости меня, дорогая. Все, о чем я размышлял, не стоит и крупицы сознания, что ты здесь, рядом…»
О, как ему хотелось бы повернуться к Шуматовой и решительно заявить: «Сегодняшний сеанс отменяется!» А потом сказать кузинам: «Оставьте нас вдвоем с Люси, дорогие…»
Но Рузвельт не мог себе этого позволить. Это противоречило бы привычному стилю их поведения на людях. О том, чтобы побыть вдвоем, они должны были уславливаться заранее, хотя о его отношениях с Люси знали, конечно, все… А ведь он мог бы провести с ней утренние часы, если бы встал раньше. А теперь поздно. «Поздно! Опять упущено время!» — повторил он про себя слова, которые мысленно не раз уже повторял в это утро.
Он молча положил руки на колеса и направил коляску к окну, на свое вчерашнее место. С помощью Приттимана пересел в кресло.
— Что ж, продолжим? — берясь за кисть, не то спросила, не то просто объявила Шуматова.
Вошел Хассетт. В руке у него была черная кожаная папка, которую он еще издали протягивал Рузвельту, точно опасаясь, что президент откажется ее взять.
— Японская сводка, сэр! — вполголоса проговорил он, подойдя почти вплотную к креслу.
«Ну, конечно, в таких вот папках и носят эти сводки из Комитета начальников штабов, — с раздражением подумал Рузвельт. — Папка весом в два фунта, а содержимое — листок папиросной бумаги».
Впрочем, сердиться президенту было не на кого — разве что на самого себя. Ведь он приказал доставлять ему сводки военных действий на Тихом океане в любое время дня и ночи. Раздражало Рузвельта другое: то, что он заранее угадывал содержание очередной шифровки от адмирала Кинга и редко ошибался. Президент взял папку из рук Хассетта и раскрыл ее. В комнате стояла тишина. Даже Шуматова, услышав слова: «японская сводка», на несколько мгновений застыла со своей кистью в приподнятой руке.
Рузвельт прочел, точнее, как бы проглотил разом шифровку. Ничего утешительного… Война на Дальнем Востоке приобретала явно затяжной характер. Вопрос мог быть решен кардинально только высадкой огромного десанта на основные японские острова. Об этом президенту сообщали уже не раз. Но одновременно и адмирал Кинг, и адмирал Леги, и генерал Маршалл не забывали напомнить, что такая попытка будет стоить Америке около миллиона жизней ее солдат, и еще неизвестно, насколько она будет удачной.
— Карандаш! — негромко сказал Рузвельт, хотя хорошо знавший свое дело секретарь уже держал карандаш в протянутой руке.
«Ф. Д. Р.» начертал президент на полях шифровки в знак того, что он с ней ознакомился. Однако по крайней мере два человека — Хассетт и Люси — заметили, что он вывел свои знаменитые инициалы не твердо и быстро, почти одним росчерком, как обычно, а медленно и слегка дрожащей рукой.
Хассетт бережно положил листок в папку и направился к двери. Рузвельт посмотрел ему вслед отсутствующим взором и подумал: «Сколько еще времени осталось до окончания войны в Европе? Ведь пока Гитлер не будет разбит, русские не придут нам на помощь на Дальнем Востоке!»
Помощь… Но ведь услуги, подобные той, на которую рассчитывал Рузвельт, оказывают друзья и оказывают друзьям. Остался ли его другом Сталин?..
Рузвельт повернул голову к Люси, и ему показалось, что она не только смотрит на него своими ласковыми лучистыми глазами, но и беззвучно произносит слова, которые он так любил повторять: «Если хочешь иметь друзей, будь другом сам».
Тем временем Шуматова снова приступила к работе. Она привычным движением два-три раза стряхнула воду с кистей прямо на пол, точно забыв, где находится, но тут же, словно спохватившись, принялась аккуратно вытирать их фланелевой тряпочкой.
Потом смешала краски, обмакнула в них кисточку, наложила несколько мазков на ватман и пробормотала, точно разговаривая сама с собой: «Ну вот, теперь, пока высохнет лицо, попробуем справиться с накидкой…» Отвела свой взгляд от мольберта, взяла мисочку, наполненную бурой от красок жидкостью, и сказала, обращаясь к Люси:
— Деточка, будь добра, вылей, пожалуйста, эту бурду и принеси чистой воды. Мне не хотелось бы отрываться от работы.
Люси покорно встала и взяла мисочку. Хотя кухня была рядом, Рузвельту не понравилось, что кто-то — даже в такой мелочи — распоряжается его возлюбленной. Она должна находиться здесь. Ведь в конце концов только ее присутствие оправдывает это тягостное позирование…
Но Шуматова, судя по всему, чувствовала себя здесь хозяйкой.
— Мистер президент, — продолжала командовать она, когда Люси принесла мисочку с водой, — не откажите в любезности чуть повернуться в сторону окна. На ваше лицо падает зеленый отсвет деревьев… Так. Спасибо. — Она замолчала и, казалось, ушла с головой в работу. Потом — совершенно неожиданно для Рузвельта — сказала:
— Мистер президент, вы можете не отвечать мне, но я дала слово моей близкой приятельнице — ее сын сражается на тихоокеанском фронте — спросить у вас: как понимать то, что Советский Союз денонсировал свой договор с Японией? Приблизит ли это конец войны или, наоборот, отдалит его? И как вы вообще расцениваете этот факт?
— Вы, кажется, хотите превратить ваш сеанс в пресс-конференцию? — улыбнулся Рузвельт.
— О, нет, мистер президент! Извините, если это так прозвучало. Но когда мать просит… вы же понимаете, что речь идет о жизни ее единственного сына… Я вспомнила об этой просьбе, когда вам принесли какую-то бумагу, связанную с Японией… Вы знаете, — продолжала Шуматова, опуская свои кисти, — эта несчастная женщина пыталась узнать о судьбе сына через своих знакомых военных. Они ничего ей не ответили. Скажу вам по секрету, она пыталась даже связаться по телефону со штабом генерала Макартура. Ее ни с кем не соединили, а просто подняли на смех… Вы знаете, сэр, почему я завидую вам — президентам, премьерам и прочим сильным мира сего? Вам доступно то, что для других недостижимо. Стоит вам захотеть поехать куда-то, встретиться с кем-то, и этого желания уже достаточно. Никаких виз и паспортов, никаких военных пропусков, никаких билетов, никаких таможен. Все это для нас, простых смертных. Нужно договориться о встрече в Касабланке, в Тегеране, в Ялте? И это просто. Все к вашим услугам: телефон, телеграф, радио… Впрочем, я явно заболталась. А ведь, по существу говоря, у меня только один вопрос — просьба моей приятельницы.
Вначале бесцеремонность Шуматовой вызвала у Рузвельта раздражение. Сотни тысяч американских парней гибнут там, на войне. Судьба многих из них неизвестна. Какое же право имеет та женщина на исключение? Какое право имеет и эта дама с вульгарным цветком на лацкане жакета обращаться к нему с подобным вопросом? На каком основании? Только потому, что рисует его портрет?.. Ее следовало бы поставить на место! Президент хотел было ответить ей резко, но вдруг подумал: «Ведь речь идет о сыне! О жизни и смерти неизвестного мне, но бесконечно дорогого для той женщины американского юноши. Жизнь — самое ценное. Смерть — страшное „никогда“». Нет, недаром в мирное время он из всех поступавших к нему бумаг просматривал прежде всего ходатайства о помиловании…Но заниматься делами неведомого военнослужащего Рузвельт сейчас не мог. Не имел нравственного права. Сказать, что в шифровке не было ничего утешительного, тоже не мог — это было бы жестоко. Заверить художницу, что все изменится, если русские выполнят свое обещание?.. Боже сохрани, это государственная тайна!
Слова, сорвавшиеся с губ президента, поразили Шуматову. Рузвельт сказал:
— Хорошо. Я вам отвечу. Договор с Японией денонсировал Сталин. Он знает, что делает. На него можно положиться.
— Вы шутите, конечно! — едва сдерживая возмущение, воскликнула Шуматова. — Воображаю, с каким чувством вы отправлялись в Тегеран и в Ялту для встреч с этим безбожником! Ведь все, что свято для вас, чуждо и враждебно ему.
— Вполне возможно, — пожал плечами Рузвельт. — Может быть, и все. За одним исключением. Есть нечто святое для нас обоих.
— Что же? Не могу себе даже представить.
— Верность.
Он произнес это слово и тут же подумал: «Верность… А сколько раз мы обманывали его со вторым фронтом?..»
Сеанс продолжался в полном молчании.
Глава четвертая ЕЩЕ ШАГ В ПРОШЛОЕ
Имя Сталина — с тех пор, как началась война, и в особенности после того, как он познакомился лично с советским лидером, неизменно вызывало в сознании Рузвельта цепь воспоминаний. Это имя означало для президента Россию — Советскую Россию. Иначе и быть не могло. Со Сталиным, Россией был связан ряд важнейших решений, важнейших действий Рузвельта. Признавать или не признавать Советы? Помогать России в войне против Гитлера или, как рекомендовали Трумэн и его единомышленники, ждать, пока русские и немцы истребят друг друга? Открывать или не открывать второй фронт? Когда? И где? Рассчитывать на послевоенное сотрудничество или нет?
Это были вопросы глобальные, А сколько других, менее значительных, но столь же тесно связанных с Россией, приходилось решать президенту!
Когда он вернулся из Тегерана, где состоялась его первая встреча со Сталиным, десятки людей одолевали его вопросами: что представляет собою Сталин? Правда ли, что он — коварный диктатор, стремящийся большевизировать весь мир и в первую очередь Европу? Можно ли полагаться на его слова?
Как будут складываться дальнейшие взаимоотношения между союзниками? Как Сталин отнесся к очередной отсрочке второго фронта?
Много воды утекло с тех пор. Второй фронт открыт, победа союзников в Европе обеспечена. И, что сейчас самое важное, Сталин обещал вступить в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии. О военных действиях в Европе знает весь мир. Обещание Сталина пока что остается государственной тайной. Но слово дано… Да, многие события, когда судьба не только России, но и всей антигитлеровской коалиции висела на волоске, отошли в прошлое. Но, очевидно, есть особое наслаждение в том, чтобы вспоминать время, когда над тобой нависала грозная опасность.
«В сущности, — подумал президент, — я ведь даже не пытался проанализировать характер Сталина как личности. Я лишь ставил конкретные вопросы применительно к той или иной обстановке. Как он проявит себя в качестве полководца? Не сгорит ли его воля, его душа в огне бушующего пожара? В какой мере можно положиться на его верность целям антигитлеровской коалиции? Стерлись ли в его памяти горькие воспоминания о послереволюционной интервенции? До каких пор он будет шагать в ногу со своими союзниками, придерживающимися иных политических и социальных взглядов?»
В психологию этого загадочного человека Рузвельт никогда не вдавался. И теперь ему трудно было ответить на вопросы, которые он сам себе задавал. В какой мере обида может повлиять на дальнейшее поведение Сталина? Простит ли он Америке бернскую авантюру? Поймет ли трудности англичан, обещавших распустить польское эмигрантское правительство, но до сих пор так и не сделавших этого? Не возьмет ли он обратно свое обещание вступить в войну с Японией? Не сорвет ли уже достигнутую союзниками договоренность о создании Организации Объединенных Наций и о порядке ее работы?
В том, так еще и не написанном ответе Сталину президенту предстояло не просто дать свою версию бернского инцидента, не просто отвергнуть упреки, связанные с «польским вопросом», но и убедить Сталина в своих дружеских к нему чувствах.
«Умный? Хитрый? Знающий? Прямолинейный? Коварный? Жестокий?..» Снова и снова пытаясь постичь Сталина как политика и человека, Рузвельт даже не вспомнил о том, что эти же вопросы ставил перед собой сегодня утром, лежа в постели.
Казалось бы, после длительной переписки с советским лидером, после личных встреч с ним, и не просто встреч, а длительных переговоров, споров по сложнейшим, запутанным вопросам мировой политики, президент должен был бы знать ответ на эти, да и многие другие вопросы.
Но он был не в состоянии постичь характер Сталина. Рузвельту никогда не приходило в голову, что разгадка станет простой, если он будет исходить из того, что вовсе не «таинственность», не элементы мистики, не какие-то недоступные пониманию простых смертных свойства души советского лидера определяют его как личность, а тот факт, что он — представитель иного социального мира, со всеми вытекающими из этого политическими и психологическими последствиями. Не понимая этого, президент по-прежнему не мог найти слов для ответа Сталину на его обидное письмо — таких слов, которые не формально, а по-человечески убедили бы Сталина.
«А может быть, подобные слова в этой ситуации вообще невозможно найти? — подумал Рузвельт. — Ведь такому человеку, как Сталин, черное за белое не выдашь!»
Президента раздирали противоречия. И разговор с Шуматовой снова ввергнул его в их гущу. Он мысленно вернулся к осени 1943 года, когда на европейском театре военных действий довольно четко наметился поворот в пользу антигитлеровской коалиции — прежде всего, конечно, благодаря беззаветной отваге русских. Но практически это означало возможность капитуляции фашистских войск только перед Красной Армией, что совершенно не устраивало бы Черчилля, да и вряд ли пришлось бы по вкусу самому Рузвельту.
«Но ведь мы же о многом договорились в Тегеране, предусмотрели, казалось бы, все варианты!» с досадой подумал президент.
Но тут же он сам себе возразил, что жизнь с ее конкретными коллизиями гораздо сложнее, чем схемы договоренностей, — она выдвигает новые задачи, завязывает новые гордиевы узлы.
Может быть, он допустил какие-либо ошибки? В Ялте или — еще раньше — в Тегеране?
Рузвельт вспомнил, как активно настаивал британский премьер на встрече «Большой тройки». На первый взгляд, в его настойчивости не было никакого «подтекста». Казалось бы, что удивительного в том, что в сложнейший период войны, когда лучи Победы стали наконец пробиваться сквозь грозовые тучи, лидеры стран-союзников хотят встретиться, чтобы договориться по ряду вопросов дальнейшей совместной стратегии?
Но президент знал: не только это естественное желание руководит Черчиллем. Из бесконечной переписки с английским премьером, из личных бесед во время его посещений Соединенных Штатов Рузвельт вынес совершенно определенное впечатление: главное, что беспокоит Черчилля, определяется двумя словами: «второй фронт».
Намерение открыть этот фронт в Европе, хоть как-то разделить бремя борьбы, которую ведет с Гитлером истекающий кровью русский солдат, западные союзники высказывали не раз. Более того, они и публично и в секретных посланиях Сталину давали обещание открыть второй фронт, хотя сроки его открытия неоднократно передвигались под разными предлогами — от якобы недостаточной концентрации войск, предназначенных для высадки, до густых туманов, окутывающих Ла-Манш.
Но основная причина отсрочек определялась другим фактором: вопрос о том, где именно должен быть открыт второй фронт, все еще не был решен.
В согласованных «Большой тройкой» официальных документах второй фронт, под кодовым обозначением «Раундап» (впоследствии «Оверлорд»), должен был явиться результатом высадки англо-американских войск в Северной Франции. Сначала речь шла о 1942 годе, затем — о 1943-м. Планы эти были сорваны — главным образом под давлением Черчилля. Но этого мало. Английский премьер стал настаивать на другом варианте — «балканском». Не требовалось особой проницательности, чтобы распознать подлинную цель этого варианта: все стратегические расчеты строились на том, чтобы не допустить Красную Армию в Восточную Европу и на Балканы.
А Рузвельт? Какова была его позиция? Она была двойственной. Президент поддерживал идею военных операций в Средиземном море и одновременно выступал за подготовку к высадке в Северной или Северо-Западной Франции.
Почему? Соображения Рузвельта носили сложный характер. Он исходил из того, что после победы не Англия, вековая «владычица морей», экономическая и духовная хозяйка континента, а Соединенные Штаты должны стать бессменным директором «Европейского банка» со всеми вытекающими из этого политическими последствиями.
И опять «клубок змей» начинал шевелиться в душе президента. Он уговаривал, убеждал себя, что им руководят лишь помыслы о победе над варварами, не отдавая себе отчета, что преследует и другие цели.
Сознавал ли Рузвельт противоречивость своей позиции? Трудно представить себе обратное — он был умен и военно грамотен.
Снова и снова вспоминал он притчу о царе Соломоне, признавшем правоту и того, кто захотел развестись, и той, кто не хотела давать развода, и министра, которого удивила противоречивость советов мудрого Соломона, отсутствие в них элементарной логики — «И он прав, и она права, и… ты прав».
Как субъективно честный человек президент понимал, что, не поддерживая «Оверлорд» безоговорочно, он способствует затягиванию войны и гибели миллионов людей. Однако как сын своего класса он не мог не сочувствовать желанию Черчилля сделать все возможное, чтобы не допустить проникновения «красных» в Восточную Европу и на Балканы.
Тогда Рузвельт еще не знал Сталина лично и мог предполагать, что этот человек не выдержит нажима двух своих союзников. Следовательно, для встречи «Большой тройки» были достаточно веские основания. К тому же война выдвигала ряд других важных проблем, требовавших совместных решений: будущее Германии, которую, по твёрдому убеждению Рузвельта, надо было расчленить на несколько мелких государств, положение на Дальнем Востоке и, наконец, создание Объединенных Наций — организации, которая сделает невозможными войны в будущем.
Созыву «Большой тройки» предшествовала активная переписка между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным.
— Я думаю, что можно было бы уже закончить сеанс, не правда ли, миссис Шуматова?
Это сказала молчавшая до сих пор Люси Разерферд.
Рузвельт вздрогнул, как задремавший пассажир самолета, внезапно коснувшегося земли своими колесами.
Голос Люси вернул его в сегодняшний день из далекого путешествия в прошлое.
Он посмотрел на художнику, затем на Люси. Лучистые глаза показались ему непривычно строгими. На лице же Шуматовой было написано явное разочарование.
— Я понимаю, господин президент устал, — неуверенно проговорила она. — Но у меня как раз пошло дело с накидкой. Еще час. Ну хотя бы даже полчаса, — поспешно добавила она.
— Я думаю, вам следует отдохнуть, — на этот раз уже мягким, почти извиняющимся тоном сказала Люси. — Да и президенту тоже, — добавила она.
Шуматова вопросительно взглянула на Рузвельта, ожидая его окончательного решения.
При этом ей бросилось в глаза то, что до сих пор было как бы заслонено от нее привычным обликом президента — обликом, запечатленным на тысячах газетных и журнальных фотографий.
«Даже сегодня утром, когда он появился в этой комнате, — подумала художница, — он выглядел лучше, чем сейчас. Или мне это кажется? Нет, нет! Глубже обозначились морщины. Темнее и больше стали мешки под глазами».
Ее вдруг пронзила мистическая мысль: не отнимает ли она своим портретом то здоровое и молодое, что еще осталось в Рузвельте, не создает ли «позитив», оставляя реальному человеку лишь «негатив»?
Маргарет Сакли, одна из кузин президента, отбросила свое вышивание, другая, Лора Делано, неодобрительно взглянула на Шуматову.
— Люси права! — воскликнула она. — Даже мы, простые зрительницы, устали. А что же тогда говорить о президенте?
— Да, да, конечно, — несколько растерянно произнесла художница.
До сих пор молчавший Рузвельт откинулся на спинку кресла, высвободил руки из-под накидки, словно сбрасывая с себя незримые оковы, и сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:
— Пожалуй, вы правы. — Он посмотрел на часы и добавил, как бы оправдываясь: — Мне еще надо поработать. «Джефферсоновская речь» до сих пор не готова. И, скажу вам по секрету, в сегодняшней почте из Вашингтона немало вопросов, которые мне предстоит решить.
На изможденном его лице появилась улыбка, и он медленно проговорил:
— Будем считать, миссис Шуматова, что я похитил у вас, — он взглянул на часы, — минут сорок — пятьдесят. Торжественно обещаю вернуть украденное завтра.
Произнеся эти слова, Рузвельт громко крикнул:
— Билл!
Уильям Хассетт появился почти мгновенно.
— А теперь, друг мой, — сказал ему президент, — мы можем вернуться к неотложным делам. Тащи свое «белье», займемся стиркой. За примерное поведение я освобожден досрочно. Ну, что у нас там осталось?
Хассетт несколько растерянно обвел взглядом дам; потом вопросительно посмотрел на президента, словно сомневаясь в том, что должен отвечать ему в присутствии посторонних, и, поскольку Рузвельт выжидающе молчал, произнес:
— Из неоконченных дел, сэр, — «джефферсоновская речь» и ответ в Москву. Из новых — вопрос об отмене закона Джонсона и продовольственный. Кроме того, Объединенный комитет начальников штабов…
— Хватит, Билл, — прервал его президент, — нанимай «студебеккер» и грузи дела навалом. Нам и впрямь не справиться с ними за сегодняшний день.
В этот момент раздался голос Люси:
— Но я вовсе не это имела в виду, мистер президент. Я думала, вам следует отдохнуть и подышать свежим воздухом.
Рузвельт перевел взгляд с Хассетта на Люси. И прочел в ее глазах мольбу.
«Господи, до чего же я туго соображаю! — подумал он. — Люси просто хочет побыть со мной, ведь мы хоть и рядом, но так редко бываем вместе без посторонних!.. Если бы она знала, что переутомление — всего лишь предлог! Ведь я согласился поехать в Уорм-Спрингз, согласился на это мучительное позирование только ради того, чтобы побыть с ней… Но я обманул ее ожидания».
— Хассетт! — резко произнес Рузвельт. — На сегодня работа отменяется. Миссис Разерферд права, мне надо сделать хотя бы несколько глотков свежего воздуха. Так нельзя… Я поеду на прогулку. Ненадолго. Скажи Рилли, чтобы позаботился о машине и… обо всем прочем.
Последние три слова Рузвельт произнес явно нехотя. Он сказал «я поеду», но всем было ясно, что поедет президент вдвоем с Люси. А неизбежное упоминание о Майке Рилли означало, что они будут незримо окружены охранниками. Но тут уж ничего не поделаешь…
От Люси не укрылся чуть укоризненный взгляд, который бросил на нее Хассетт.
— Я предложила бы вам, мистер президент, съездить на источники, — сказала она, словно стремясь отвести от себя этот молчаливый упрек. — По-моему, вы еще ни разу там не были с тех пор, как приехали сюда. А у Грэйс скопились десятки писем от лечащихся здесь людей. Они жаждут увидеть своего президента. Ведь они знают, что и больница и лечебные купальни — одним словом, все, что здесь есть, создано по вашей инициативе и главным образом на ваши деньги… Да и вам, как мне кажется, было бы приятно увидеть своих «пациентов», знакомых и незнакомых. А мы вам уже, наверное, порядком надоели.
Но напрасно хитрила Люси. Все прекрасно знали: президент поедет, конечно, с ней и только с ней.
И все же это было не так просто.
Предлагая Рузвельту поехать на источники, Люси понимала, что взять ее с собой туда он не может и не возьмет. Декорум должен быть соблюден. Президент поедет в машине один, если не считать вездесущего Майка Рилли.
А потом… Она знала, что будем потом. И в «Маленьком Белом доме» все это тоже знали.
Посетив источники, президент отправится на свою любимую гору Пайн-Маунтин, где его будет ждать в своей машине Люси.
И тогда исчезнет Рилли, исчезнут охранники и связисты — словом, все, кто обеспечивает безопасность президента, — многолетняя практика научила их превращаться в невидимок.
Исчезнут все в обозримом пространстве. А Люси перейдет в машину президента. И они останутся одни на вершине горы. Небо, деревья, птицы. И они. Вдвоем в целом мире.
Глава пятая БУДЬ ОНИ ПРОКЛЯТЫ, ЭТИ ВОЙНЫ
От «президентской зоны» до лечебного комплекса было всего лишь несколько минут езды. Но когда Рузвельт остановил свой открытый темно-синий «форд» у источников, его уже с нетерпением ожидали десятки людей.
Слухи о том, что президент находится в Уорм-Спрингз, уже несколько дней циркулировали по городку, и его обитатели не верили сообщениям газет, которые всё, что относилось к Рузвельту, печатали с пометкой «Вашингтон, Федеральный округ Колумбия».
Но откуда же люди узнали, что президент с минуты на минуту прибудет в лечебный комплекс? Догадаться было нетрудно: к источникам неожиданно подкатило несколько «джипов», переполненных полицейскими в форме и охранниками в штатском. Они выскочили из машин, едва те замедлили ход, окружили купальни и с грубоватой вежливостью стали оттеснять в воду тех, кто начал было вылезать из нее.
К счастью, близ источников уже находился мэр Уорм-Спрингз Фрэнк Оллкорн, которого заблаговременно предупредили по телефону. Зная, что этот курорт — любимое детище президента, мэр городка понимал, что Рузвельт захочет увидеть там «своих» пациентов, старых друзей, а не созданную охраной пустыню. И он позаботился о том, чтобы среди ожидающих президента людей у источников были и те, с кем ему уже доводилось встречаться раньше. Мэр поспешно послал машины за Нилом Китчензом, восьмидесятишестилетним врачом, у которого президент как-то раз обедал, за доктором Ирвином, главным хирургом лечебного комплекса, и его женой Мэйбл — их Рузвельт тоже знал лично.
…Перед глазами президента, сидевшего за рулем «форда», предстало зрелище, которое человеку со стороны могло бы показаться фантастическим и жутким.
Люди в купальных халатах или в шортах — хромые, скрюченные, изуродованные жестокой болезнью — сидели в своих колясках или тяжело опирались на костыли. Они встретили Рузвельта радостными возгласами. Потрясая костылями и палками, они приветствовали его не только как президента, но и как «своего», как собрата по страданиям, как человека, для которого забота о себе неотделима от заботы о таких же, как и он, увечных людях. То, что происходило сейчас, напомнило бы постороннему наблюдателю картины Босха или Гойи — страшные видения ада, апокалипсиса, апофеоза войны. Но у Рузвельта такие ассоциации не возникали. Он был счастлив — его глубоко тронули эти изъявления симпатии и благодарности. Прорвавшись сквозь полицейский заслон, его окружили друзья, все они знали, что президент хотел помочь им избавиться от мук, от которых сам избавиться не смог. Это было братство несчастных людей. Но никто не жаловался, никто не упрекал Рузвельта в том, что созданная им «Юдоль надежд» далеко не всегда оправдывает человеческие надежды.
Неожиданно для всех Фрэнк Оллкорн, стоявший среди больных, громко крикнул:
— Прошу внимания, леди и джентльмены!
Те, кто ранее не замечал присутствия мэра, теперь увидели его и смолкли.
— Мистер президент, — тихим и проникновенным голосом проговорил Оллкорн. — Перед вами люди тяжелой судьбы, люди, в сердца которых вы вселили надежду. И они благодарны вам. Мало кто знал, что вы окажете нам честь, приехав сюда, иначе здесь собрался бы весь город… Нет, не только болезнь, последствия которой вы так мужественно переносите вот уже более двух десятилетий, роднит вас, мистер президент, с теми, кому выпало счастье встретиться с вами сейчас. Сердца их наполняются гордостью от сознания, что вы нашли в себе силы встать во главе Америки. Вы спасли страну от страшного экономического кризиса, а впоследствии приняли великое решение: Америка присоединилась к антигитлеровской коалиции, и мы стали сражаться плечом к плечу с нашими братьями по языку и образу жизни — англичанами и столь отличающимися от нас и по языку и по образу жизни русскими.
Оллкорн порывисто вздохнул, точно боясь, что ему не хватит воздуха, чтобы закончить свою речь, и продолжал уже более спокойно:
— Война в Европе не завершена, но победа уже близка, и наши мысли сейчас обращены к войне на Дальнем Востоке… Всемогущий бог в своей неисповедимой воле не уберег вас от тяжелой болезни, но зато дал вам ум и талант, роднящие вас с такими великими президентами, как Вашингтон и Джефферсон. Бог ниспослал нам президента с сердцем льва и душой честного человека… Это главное, что я хотел сказать, — дрогнувшим голосом произнес мэр.
Стояла полная тишина, слышно было лишь журчание воды в источниках.
— А теперь вот что, — окрепшим голосом заговорил Оллкорн, и лицо его озарилось улыбкой. — Мы мало чем можем помочь вам, мистер президент. Но если у нас есть возможность хоть как-то скрасить редкие минуты вашего отдыха, мы будем счастливы ею воспользоваться. Так вот, — сделав эффектную паузу, продолжал мэр, — такая возможность у нас есть. Мы знаем, что одно из ваших трогательных увлечений — коллекционирование марок. В муниципалитете Уорм-Спрингз мы уже несколько лет собираем для вас марки. Не какие-нибудь там обычные марки, а… особенные… экзотические. Ведь мы получаем письма из всех стран мира.
С этими словами Оллкорн вытащил из-под полы пиджака небольшой сафьяновый альбом, который до этого момента он незаметно придерживал рукой, и с легким поклоном протянул его Рузвельту.
— Конечно, мы могли бы уже давно переслать этот альбом в Белый дом. Но мы верили, что настанет день, когда вы снова посетите Уорм-Спрингз. И вот мы…
Фрэнк Оллкорн умолк. Было видно, что он уже не может справиться с волнением.
Не мог говорить и Рузвельт. Слушая мэра, он успел обдумать свой ответ. Но теперь понял, что не в силах произнести ни слова. Спазм сдавил ему горло. Несколько мгновений Оллкорн молча держал в дрожащей руке альбом, который он протягивал Рузвельту.
И в этот момент кто-то крикнул:
— Великому президенту Рузвельту — гип-гип ура!
Этот возглас как бы разом разрядил обстановку.
— Ура, ура, гип-гип ура! — кричали люди. Те, кто был в состоянии это сделать, высоко поднимали над головами свои костыли и палки, размахивая ими, как флагами.
Рузвельт протянул руку к альбому. Он хотел взять его и приветственно взмахнуть им над головой. Но альбом исчез. Мэр по-прежнему стоял с протянутой рукой, даже пальцы его были все еще сжаты. Но рука его была пуста. Оллкорн растерянно уставился на президента, словно пытаясь заглянуть за его спину, туда, где на заднем сиденье машины сидел Майк Рилли.
Рузвельт тоже повернул голову к Майку, чтобы спросить, куда делся альбом, и тут он услышал шепот своего охранника:
— Все в порядке, сэр! Эта штука у меня. Вот здесь. — И Рилли похлопал по ковру, прикрывавшему заднее сиденье. — Мы проверим альбомчик, и вечером он будет в вашем распоряжении.
«Да ты что, совсем спятил? — хотел было крикнуть Рузвельт. — А головы этих людей ты тоже собираешься проверять?»
Но в это время снова раздался голос мэра. Явно стремясь замять инцидент, он нарочито громко сказал:
— Наверное, мистер президент, вам будет приятно увидеть здесь своих старых знакомых! Вот доктор Китченз, вот мистер Ирвин с супругой… Уверен, они будут рады услышать от вас хоть одно слово.
— А я буду рад, если им удастся подойти к моей машине, чтобы я мог от всего сердца пожать им руки, — сказал Рузвельт.
Первым к нему подошел старик Китченз.
— Рад видеть тебя здоровым и по-прежнему молодым, Нил! — воскликнул президент.
— Мне уже восемьдесят шесть, сэр, — пожимая руку Рузвельта, тихо проговорил Китченз.
— Позволь, но когда я у тебя обедал… — с наигранным недоумением начал было президент.
— Мне было семьдесят шесть. С тех пор прошло десять лет.
— А ты не хотел бы пригласить меня еще разок? — весело спросил Рузвельт.
— О, сэр! — растроганно произнес Китченз.
— Если не теперь, то в другой раз, — поспешно проговорил президент, понимая, что он смертельно обидит старика, если обманет его ожидания.
— Конечно, сэр, я понимаю… В другой раз! Но торопитесь — повторяю, мне восемьдесят шесть…
— Читал ли ты Библию, старый безбожник? — широко улыбаясь, воскликнул Рузвельт. — Сколько лет жил Енох? Триста шестьдесят пять. А наш прародитель Адам? Девятьсот тридцать!
— Верно, — печально ответил Китченз, — но тогда не было автоматов, пушек и авиации. И сатана был еще относительно слаб.
— Но воля бога едина — и тогда и теперь. Положись на нее.
Тут к машине подошел главный хирург курорта Ирвин со своей женой Мэйбл. Не успел президент поздороваться с ними, как увидел еще одно знакомое лицо.
— Буллок! — приветливо воскликнул он. — Клянусь, что это ты! Как твоя лавка, Минни, по-прежнему процветает? Сегодня же куплю у тебя пару блоков «Кэмел»! В кредит, конечно, как и всегда!
— Я сам пошлю вам ящик в подарок, сэр, и это будет для меня лучшей рекламой, — ответил лавочник.
Ему стали аплодировать.
Разговаривая с Буллоком, президент обратил внимание на незнакомого молодого человека, который стоял, скрючившись и тяжело опираясь на свои костыли. Он заинтересовал Рузвельта, разумеется, не потому, что был увечным. Почти все здесь были такие же. И тем не менее их радовала встреча с президентом. Да, радовала всех, кроме этого парня, некогда, конечно же, обладавшего фигурой полубога, а теперь на всю жизнь искалеченного болезнью. Он, казалось, игнорировал сидевшего в открытой машине президента, а может быть, своим подчеркнутым равнодушием, своей легкой усмешкой хотел даже выразить неприязнь к нему.
Рузвельт заметил это и ощутил глухое раздражение, ответную неприязнь к незнакомому парню. Но то, о чем президент лишь подумал, для сотрудников его охраны было прямым поводом к действию. Они, видимо, еще раньше Рузвельта обратили внимание на этого парня, выделявшегося в толпе своей странной сдержанностью. Так или иначе вскоре президент заметил, что между ним и молчаливым юношей появились люди в явно некупальных костюмах. Они как-то незаметно оттеснили парня и, медленно, но неуклонно наступая на него, стали загонять его за спины других людей.
— Прекрати это безобразие, Майк! — полуобернувшись к Рилли, процедил сквозь зубы президент.
— Какое безобразие? О чем вы, сэр? — переспросил Рилли, делая вид, будто не понимает, чем недоволен Рузвельт.
— Я хочу, чтобы тому высокому, светловолосому парню дали возможность подойти ко мне.
Рилли робко попытался сопротивляться:
— Но, судя по всему, он не проявляет ни малейшего желания это сделать.
— Трудно проявить такое желание, когда твои янычары вот-вот спихнут его в воду. Короче говоря, ты слышал, что я сказал.
Рилли поспешно выскочил из машины. Считанные минуты — нет, секунды — спустя чудо полицейской техники свершилось. Теперь уже толпа больных оказалась за спиной белокурого парня. Мягкими, даже ласковыми, едва заметными движениями его стали подталкивать к машине президента. Один из охранников не преминул слегка провести по его ребрам руками, словно полуголый человек мог скрыть бомбу или пистолет.
— Подойдите ближе, не стесняйтесь! — обращаясь к молодому человеку, сказал Рузвельт. Он был недоволен поведением своих охранников. — Вам очень больно, да? Как вас зовут, дружище?
— Кевин Робертс, мистер президент, — негромко ответил парень, уже находившийся у борта машины. При этом он сделал попытку выпрямиться, но лицо его тут же исказилось гримасой боли.
— Покрепче опирайтесь на костыли, но не делайте резких движений, — посоветовал Рузвельт. — Поверьте, уж я-то знаю, как надо передвигаться, чтобы избежать излишних страданий. Когда вы заболели?
— Заболел? — с какой-то странной усмешкой переспросил Роберте. — Не так давно. Около года тому назад.
— У меня это тоже началось уже в зрелом возрасте, — сказал Рузвельт. — Мы должны быть благодарны судьбе хотя бы за то, что страдания не омрачили наше детство… Значит, вы заболели около года тому назад?
— То, что вы, господин президент, называете болезнью, другие люди называют ранением. Двадцатого июля сорок четвертого я получил осколок в позвоночник. Во время боев за остров Гуам.
В этот момент Рузвельт услышал тихий голос доктора Ирвина, который склонился к президенту, перегнувшись через противоположный борт машины.
— Это не полио, сэр. У нас лечатся и после костных ранений.
«Как все нелепо получилось! — подумал Рузвельт, чувствуя, что краска заливает его лицо. — Ведь, по существу говоря, я заинтересовался этим парнем из чистого тщеславия. Не мог смириться с его демонстративным равнодушием на фоне столь бурных изъявлений радости». Он повторил про себя: «Гуам!.. В боях за него отдали жизнь тысячи американцев. Да, это было двадцатого июля прошлого года».
О чем он мог говорить с Робертсом? Что он мог ему сказать? Произнести банальные слова утешения? Поблагодарить от имени Америки за отличную службу? И парень обопрется на эту благодарность, как на третий костыль? От хорошего, приподнятого настроения, только что владевшего Рузвельтом, не осталось и следа. Ему захотелось уйти от устремленных на него взглядов, скрыться, исчезнуть.
И тут он вспомнил, что на Пайн-Маунтин его ждет и наверняка беспокоится Люси.
Но президент не мог уехать, даже не сказав несчастному Робертсу нескольких дружеских слов, не пожав ему руку.
— Я сознаю, что кощунствую, Кевин, — тихо проговорил Рузвельт, — но мне никогда еще так не хотелось быть чудотворцем, как сейчас. Я сказал бы: «Брось свои костыли и иди!» Но я простой смертный. И единственное, что в моих силах, — это поблагодарить тебя за верную службу от имени тех, кому твое мужество помогло остаться в живых.
Кевин молчал.
— Ты слышишь меня? — спросил президент.
— Я-то слышу, — ответил Робертс. — Но ребята, что лежат в земле или на дне океана, уже никогда не услышат.
— За них отомстят те, кто будет и дальше штурмовать острова в Тихом океане.
— Штурмовать? — с горькой иронией переспросил Робертс. — Да, штурмовать будут. Но представляете ли вы себе, господин президент, сколько людей погибнет при этом? Сколько американских солдат и офицеров?
«Миллион жизней, — подумал Рузвельт. — Такую цифру называет Комитет начальников штабов».
— Не мы начали эту войну, Кевин. На нас напали, и ты это знаешь. А теперь… теперь у нас нет выхода.
— Он есть, сэр… — тихо сказал Робертс. — Уговорите русских помочь нам.
Точно молния ударила в сердце президента. «Что он, ясновидящий, что ли, этот несчастный парень? Что ответить ему? Что русские обязательно помогут? Что Сталин дал такое обещание? Но кто знает, выполнит ли он его теперь, когда американо-советские отношения явно ухудшились. И потом все это тайна, строжайшая государственная тайна».
— Сотни тысяч русских все еще гибнут в Европе, Кевин, — с глубокой печалью в голосе сказал Рузвельт. — Ведь и там война еще не закончилась… Но мы сделаем все… все…
Волнение сдавило ему горло.
…Немного успокоившись, президент повернулся к борту машины, у которого стоял Ирвин. Склонившись к доктору, президент тихо, почти шепотом спросил:
— Вы… вылечите его? Он будет здоров? Ведь это не врожденный органический дефект, это травма…
— Ранения в позвоночник очень опасны, сэр, — так же тихо ответил врач. — Конечно, мы приложим все силы…
Рузвельт резко повернулся к Робертсу и сказал:
— Они приложат все силы, Кевин, все силы!..
— Чтобы вылечить меня? — чуть кривя губы, спросил Роберте. — А тех, других? И тех, кому еще предстоит умереть?
— Верь, Кевин, мы сделаем все, — повторил Рузвельт. Ему хотелось сказать: «все, чтобы снова наладить отношения с русскими, все, чтобы они сдержали свое обещание», — именно этот смысл вкладывал он в слова утешения, с горечью осознавая, что без «расшифровки» они звучат как ни к чему не обязывающее сочувствие.
Но то ли Робертс понял, что в словах президента заключен скрытый смысл, то ли счел неудобным злоупотреблять его вниманием, но только он сказал:
— Спасибо, господин президент. Вы хороший человек. Я рассказал бы о нашей встрече моему отцу, но он погиб еще в той, первой войне…
И вдруг громко, точно уже не в силах сдерживаться, воскликнул:
— Будь они прокляты, эти войны!
Слова Робертса прозвучали, как заклинание, — столько горечи и страсти было в его голосе.
Затем он повернулся на своих костылях — поворот отдаленно напоминал строевой — и, ковыляя, скрылся в толпе.
В этот момент Рузвельт услышал голос Рилли:
— Вам пора ехать, мистер президент!
«Да, да, пора!» — подумал Рузвельт. И тотчас же перед его глазами снова встал образ Люси, одиноко сидящей в своей машине. Президент приподнялся, опираясь руками о борта машины, и громко сказал:
— До свидания, друзья мои! Мы еще обязательно увидимся! Спасибо вам за дружескую встречу. Без таких встреч трудно быть президентом!
Теперь он ехал один — Майк Рилли «исчез» по дороге. Возгласы, сопровождавшие отъезд президента, постепенно затихали в его ушах.
Пожалуй, в первый раз за долгие годы он направлялся на свидание с Люси, думая не только о предстоящей встрече. Кевин Робертс все еще стоял перед его мысленным взором, а в висках стучали слова: «Уговорите русских…» И резкий, точно стон большой умирающей птицы, крик: «Будь они прокляты, эти войны!»
Президент ехал медленно, и это было свидетельством того, что он погружен в глубокое раздумье, — в ином случае его машина, к ужасу наблюдавшей за ней охраны, развила бы скорость гоночного автомобиля. Но сейчас он едва нажимал на рычаг ручного акселератора. Слишком много мыслей одолевало его…
Уже сотни раз задавал он себе вопросы, связанные с войной на Тихом океане. Сотни раз мысленно отвечал на них… А потом спрашивал себя снова и снова. Что предпринять? Бросить войска на штурм основных японских островов и сделать это вопреки советам военных уже сейчас? Да, в случае успеха он выиграл бы ценное время — ведь Сталин обещал вступить в войну на Дальнем Востоке лишь через два-три месяца после окончания войны в Европе. А если бы Соединенным Штатам удалось разгромить Японию уже сейчас, не было бы этой зависимости от русских. Все вытекающие отсюда преимущества для Америки и Англии очевидны.
А в случае неудачи?..
Рузвельт представил себе страшную картину: бесконечное пространство, заполненное людьми, похожими на Робертса, людьми в колясках, на костылях, на досках-каталках. А за ними из-под земли медленно вставали призраки. Нет, это были не люди, а то, что от них осталось. Без ног, без рук, без голов… Они поднимались, облепленные ветками и листьями тропических растений, в мокрой, прилипшей к телу одежде, выползали на берег из воды, покрасневшей от крови.
И тут президент вспомнил… Вспомнил об оружии, разработка которого, судя по докладам военных, близится к скорому завершению. Страшное новое оружие, испепеляющее людей… Атомная бомба.
Рузвельт очень плохо представлял себе устройство этой бомбы, но, вспомнив сейчас о ней, вдруг почувствовал запах гари и гнили. «Нет, — подумал он, — применение этого чудовищного оружия повлечет за собой больше человеческих жертв, чем штурм основных японских островов. Конечно, жертвы понесла бы Япония. И все же…»
Президент не мог до конца разобраться в причине своей неприязни к этому страшному оружию… Конечно, война есть война, и полководец, щадящий своих врагов, выглядел бы по меньшей мере странно.
И все же… И все же Рузвельт хотел бы обойтись без этой бомбы. Только ли из сострадания к людям? Нет. Очевидно, он подсознательно понимал, что строитель «Дома Добрых Соседей» не может быть инициатором атомного катаклизма — спаситель и каннибал не могут воплощаться в одном и том же лице. Нет, он не хотел, чтобы в грядущие времена историки говорили: «Рузвельт? Он был сродни Нерону, Аттиле, Гитлеру». Нет, такое оружие можно применить лишь в том случае, если Америке будет угрожать гибель.
Значит, надо ждать… Ждать, пока Сталин выполнит свое обещание. А если… Ведь мы-то обманывали его, перенося сроки открытия второго фронта и в сорок втором, и в сорок третьем, и в сорок четвертом годах… Кто же посмеет попрекнуть Россию, если она, выйдя из европейской войны измученной, с кровоточащими ранами, с голодающим народом, решит отсрочить свою помощь американцам на неопределенное время или вообще откажет в ней? Эта мысль заставила Рузвельта содрогнуться. Но он тут же сказал себе: «Нет, нет, этого не может быть! Ведь еще в Тегеране были намечены вехи дальнейшего сотрудничества с Россией не только на время европейской войны, но и после ее окончания, а в Ялте, в секретном протоколе, было уже черным по белому записано обязательство России вступить в войну с Японией… Конечно, — с горечью и злобой подумал президент, — как только об этом узнает правая печать, она поднимет вой: Сталин в обмен на потворство большевизации Восточной Европы дал слабому и больному американскому президенту обещание помочь американцам в их войне с Японией. Неопределенное, ни к чему не обязывающее обещание!»
«Нет, нет, это обещание не было неопределенным и не было ни к чему не обязывающим! — мысленно проговорил Рузвельт, точно видя перед собой своих критиков. — Оно вытекало из всего духа Тегеранской и Крымской конференций — достаточно перечитать их протоколы!.. И срок выполнения этого обещания приближается с каждым днем. Что они принесут Америке, эти дни? Ведь время летит!»
Президент напряженно смотрел вперед сквозь ветровое стекло машины, словно пытаясь разглядеть будущее Америки…
Дорога все еще шла в гору.
Он сильнее нажал на акселератор, точно стремясь скорее достичь вершины, с которой можно будет увидеть Грядущее.
И тут перед его глазами предстал знакомый «кадиллак». Машина стояла на вершине горы, радиатор ее был повернут в сторону дороги, по которой поднимался автомобиль Рузвельта…
Все тягостные мысли, одолевавшие президента, разом исчезли.
«Люси!» — не в силах сдержаться, громко крикнул он, хотя понимал, что она не услышит, — гул мотора заглушал его голос.
Рузвельт нажал на газ. Автомобиль сильно тряхнуло, когда он передними колесами перевалил через невысокий откос, за которым находилась окруженная деревьями площадка…
Люси сидела, положив руки на рулевое колесо. На ней была темная высокая шляпа-тюрбан, грудь прикрывало кружевное жабо, сколотое круглой серебряной, тускло поблескивавшей брошкой.
Эта старомодная и к тому же не соответствовавшая сезону одежда на мгновение озадачила президента, но он тотчас же понял намерение Люси: она хотела быть одетой так же, как в те далекие годы — годы их первого знакомства, она хотела сказать, что время бессильно над ними…
И ее настроение сразу же передалось Рузвельту. Он забыл о встрече на источниках, бесследно исчезли мысли, терзавшие его, когда он утром лежал без сна, да и потом, когда Шуматова продолжала рисовать его портрет… Все заслонила Люси. Заслонила не только своим обликом, не только реальностью своего существования — в самом имени «Люси», любимом женском имени, президент черпал силы и молодость.
— Люси! — снова крикнул Рузвельт.
Она чуть приподнялась и, опершись одной рукой о край ветрового стекла своей открытой машины, другою приветливо помахала президенту.
Ему захотелось шутить, смеяться… И когда Люси перешла в его «форд», он нарочито внимательно осмотрел ее тюрбан, кружевное жабо и спросил:
— Вы, кажется, собрались на прием к английскому королю, миледи?
— Для меня свидание с тобой важнее приемов у всех королей мира! — серьезно ответила Люси, но тут же улыбнулась и сказала: — Может быть, тебе следовало бы надеть свою знаменитую серую фетровую шляпу ради такого случая?
Рузвельт рассмеялся. Во время последней предвыборной кампании он носил серую фетровую шляпу, о которой говорила Люси. Впрочем, он надевал ее и во время первых трех кампаний. Он всерьез считал, что эта шляпа приносит ему счастье. И не он один. После успешных выборов 1940 года Рузвельт решил, что серая шляпа ему уже больше не потребуется, и пожертвовал ее благотворительному аукциону. Известные киноактеры Мельвин Дуглас и Эдуард Робинсон купили «счастливую» шляпу за пять тысяч долларов. А когда он баллотировался в президенты в четвертый раз, они преподнесли ее прежнему владельцу. Люси все это знала…
— Вот видишь, я вспомнила о том наряде, в котором была, когда мы встретились с тобой впервые, а ты забыл о своей «счастливой» шляпе, — с шутливым упреком сказала Люси.
— Когда ты со мной, мне ничего не надо ни от бога, ни от людей, — в тон ей ответил Рузвельт. — И «счастливая» шляпа тоже не нужна. Да и к тому же у меня ее нет с собой. Я искал ее, а потом выяснил, что она хранится в библиотеке Гайд-Парка.
— И ты, наверное, сегодня ездил туда, чтобы убедиться в том, что она цела, — поднося к глазам президента свои ручные часы, сказала Люси, на этот раз с мягким упреком. — Я жду тебя довольно долго. Уже потеряла надежду…
Глава шестая «УМЕРЕТЬ НЕ СТРАШНО. СТРАШНО НЕ ЖИТЬ»
— Почему ты задержался? Что-нибудь случилось? — тревожно спросила Люси.
— Нет, нет, милая, все в порядке, — торопливо ответил Рузвельт, целуя ее руки.
— Я очень беспокоилась, — продолжала она, — накрапывал дождь, и я подумала, что ты можешь простудиться.
Рузвельт хотел было ответить, что там, внизу, дождя не было, но промолчал и взглянул вверх. По небу плыли сероватые дождевые облака, но ветер гнал их к темному горизонту; видимо, дождь, проходя стороной, слегка задел вершину горы, на которой стояла машина Люси.
Несколько капель упало на голову президента, и Люси тотчас же смахнула их своей мягкой, теплой ладонью, едва прикасаясь к седым волосам, чтобы не растрепать их.
«Бедный, бедный мой Фрэнк! — подумала она, вглядываясь в лицо Рузвельта. — Как же ты изменился!»
Нет, не только потому прервала она сегодняшний сеанс, что хотела побыть с ним наедине. Главное было не в этом. Наделенная каким-то особым чутьем, своего рода шестым чувством, Люси вдруг уловила в лице президента нечто неземное, словно на него легла странная, потусторонняя тень.
Даже самой себе она не смогла бы объяснить, что это такое. И все же Люси поняла, что загадочная тень, вдруг омрачившая лицо Фрэнка, означает, что он чувствует себя хуже, чем всего лишь несколько часов назад. И теперь, когда они оказались вдвоем, она хотела было спросить, здоров ли он, но не решилась.
Люси знала, что Рузвельт не любит разговоров, пусть даже косвенно напоминающих о приближении смерти. Да и сама она, видя, чувствуя, что здоровье его, несомненно, ухудшилось, в глубине души не верила, что он может когда-нибудь умереть, И все же…
— Как там на источниках? — спросила Люси подчеркнуто беззаботным тоном.
— Ну… меня очень хорошо приняли. Я встретил кое-кого из старых знакомых. Например, доктора Китченза, представляешь себе? А ведь ему восемьдесят шесть лет! Он продолжает работать и, судя по всему, о смерти даже не помышляет.
— Он чувствует ответственность перед своими больными и поэтому живет. И я уверена, что смерти он не боится, — убежденно проговорила Люси.
— Да, ты права, — наклоняя голову, ответил Рузвельт. — Кстати, тебе никогда не приходилось слышать такое изречение: «Умереть не страшно. Страшно не жить». Я вычитал его у кого-то из французов. Очень точно сказано. Разумеется, применительно к людям определенного сорта. Смерть как таковая их не пугает. Ведь пока они живы, смерти нет. А когда она приходит, то людей этих уже нет, следовательно, бояться нечего. Но «не жить», — медленно и раздельно проговорил президент, — это страшно. Не жить — значит обмануть людей, для которых ты должен был что-то сделать, но не успел. Это все равно, что банкротство банка. Представь себе: в один прекрасный день люди приходят в банк, где хранятся их… нет, не деньги — надежды! И вдруг узнают, что банк лопнул, и они разорены…
— Фрэнк, мне надоело говорить о болезнях, старости и смерти, — неожиданно резко сказала Люси, хотя сама невольно начала этот разговор.
Философские проблемы мало интересовали эту немолодую, но вечно юную женщину. Но сегодня она вела себя, как врач. Для того, чтобы поставить диагноз, медику нужно по крайней мере прослушать больного, измерить его кровяное давление, сосчитать пульс. Люси пыталась определить состояние своего Фрэнка иным способом — по его высказываниям о жизни и ее пределах, по его планам на будущее. Она знала, что Рузвельт не станет жаловаться на плохое самочувствие — он будет бодриться, будет полон энергии даже в тот момент, когда смерть уже занесет свою косу над его головой. «А может быть, он и в самом деле не почувствует ее ледяного дыхания», — подумала Люси.
Ее угнетало то, что даже здесь, в Уорм-Спрингз, она видится с Рузвельтом лишь урывками. За завтраком он читал газеты, потом углублялся в бумаги, которые приносил ему Хассетт (в эти минуты Люси готова была возненавидеть в личном секретаре президента всё — и умные, всегда пристально глядевшие глаза, и немного раздавшееся вширь лицо, и очки в светлой серебряной оправе!). Потом начинался очередной сеанс, и президент поступал в полное распоряжение Шуматовой. Правда, Люси тоже сидела в гостиной и смотрела на него, но это было все равно, что целовать любимого через пуленепробиваемое стекло.
Затем Рузвельт снова погружался в дела. Люси знала, что он работает над «джефферсоновской речью», или обдумывает письмо Сталину, или диктует ответы на присланные из Вашингтона бумаги, или подготавливает директивы Комитету начальников штабов, государственному департаменту. Затем — обед…
«Впрочем, я сама виновата! — упрекнула себя Люси. — Надо было просто приехать сюда в гости, а не затевать историю с портретом!» Но она тут же отогнала от себя эту мысль. Нельзя же допустить, чтобы Барбара осталась без портрета Фрэнка. Нет, дочь должна постоянно видеть изображение человека, который для ее матери был дороже самой жизни! А когда на свете не будет и Барбары, ее дети сохранят этот портрет как святыню. Да, Шуматова должна закончить портрет, закончить его во что бы то ни стало! Только сегодня утром Люси говорила с ней. Художница утверждает, что закончит его через два-три дня. Сегодня десятое апреля. Значит, самое позднее тринадцатого портрет будет готов, и эта дата станет для Люси счастливым днем… Тринадцатое апреля 1945 года — всего каких-нибудь три дня!
— Тебе надоели разговоры о болезнях и смерти, — после некоторого раздумья проговорил Рузвельт. — А вот Кевин Робертс, наверное, еще долго не сможет говорить и думать о чем-либо другом.
— Кто это — Кевин Робертс? — спросила Люси. Она не помнила, чтобы президент когда-либо упоминал о нем.
— Кто такой Кевин Робертс? — переспросил Рузвельт. И, помолчав, сказал: — По-моему, это символ.
— Символ? Чего? — Люси взглянула на него с недоумением.
— Нашей войны с Японией. Всех войн вообще, если хочешь… Я только что познакомился с ним там, у источников. Он солдат морской пехоты. Демобилизованный. Осколком снаряда у него поврежден позвоночник.
— Молодой? — тихо спросила Люси.
— Думаю, что ему лет двадцать семь, не больше. Он всю жизнь будет прикован к своим костылям. Или к коляске. Или к постели. Он теперь уже никогда не сыграет в бейсбол. Никогда не получит работу, которая была бы ему по душе. У него не будет любимой девушки. Не будет своей семьи. Ничего не будет.
— Но… но он защищал отчизну, Фрэнк!
— Да, он ее защищал. Гуам, двадцатого июля прошлого года… Памятный для Америки день…
— Но все же он остался жив. Это главное! — сказала Люси.
Снова наступило молчание.
— Послушай, — сказал Рузвельт, — знаешь, о чем я думаю? Нельзя ли изменить некоторые стереотипы, которые нам оставила в наследство История? Почему герой — тот, кто выиграл войну, а не тот, кто сумел ее предотвратить? Почему самым веским аргументом в решении спора должны быть меч, штык, пуля или снаряд? Почему не разум и соображения взаимной выгоды? Я, пожалуй, согласился бы остаться президентом на пятый срок, чтобы помочь разуму одержать победу. По крайней мере способствовать этому.
— Ты считаешь, что президенту это под силу?
— Видишь ли, мы не так часто говорим с тобой на политические темы.
— Боишься упреков, что ты выдаешь мне государственные тайны? — усмехнулась Люси.
— Мы-то с тобой знаем, что это чушь! — отмахнулся Рузвельт. — Вернее было бы утверждать другое: я слишком дорожу нашей любовью, чтобы забывать о ней во имя политики… Но вернемся к разговору о попытках перевоспитать, переделать людей. Ты сомневаешься в том, что это под силу президенту? Откровенно говоря, я тоже сомневаюсь. Ни один лидер не может уходить слишком далеко от тех, кто за ним следует. И хотя иной раз я готов расшибить узкие лбы тем, кто противопоставляет свои корыстные интересы национальным или международным, я тем не менее не могу игнорировать одну из основ управления страной.
— И все же ты хотел бы попытаться в пятый раз?
— Дорогая моя Люси, над людьми довлеет проклятие… Вся беда в том, что силу применить легче, чем разум. Ударить человека проще, чем убедить его. Но надо стараться!
— «Дом Добрых Соседей»?
— Вот именно. Я хочу попытаться. Когда мы прощались, Робертс воскликнул: «Будь они прокляты, эти войны!» Я с ним согласен.
— Твое согласие значит куда больше моего, — сказала Люси, — но я тоже согласна… Послушай, Фрэнк, а что говорят врачи? Этому парню можно помочь?
— Обещают. Но я лично сомневаюсь в успехе. У меня есть некоторый опыт по этой части.
— Показать его лучшим специалистам, раздобыть лучшие лекарства…
Это, конечно, сделать можно, — ответил Рузвельт. — Но то лекарство, которое ему необходимо, нельзя получить ни в одной аптеке…
— Что ты имеешь в виду?
— Девушку, которая бы его любила. Я не знаю, есть ли у него такая. Женщины, как правило, не любят калек.
— Фрэнк! — с горечью воскликнула Люси.
— Нет, нет, дорогая, — поспешно проговорил президент, — ты — счастливое исключение. Я убежден, что тебя мне послал бог.
Она молча повернулась к нему и положила обе руки на его плечи. Почувствовала, как остры его ключицы, — Рузвельт очень похудел за последние месяцы.
— Бедный мой Фрэнк! — сказала она. — Ты понимаешь то, что пока еще недоступно пониманию миллионов людей. А вот такую простую вещь понять не можешь. Не бог послал меня тебе! Неужели за тридцать лет ты так и не понял, что это я сама нашла тебя? Я сама почувствовала, что жить без тебя не могу. Не я приношу себя в жертву, а ты приносишь мне счастье! Поэтому я хочу, чтобы ты жил вечно.
— И я хочу жить вечно, — с каким-то неожиданным упрямством в голосе и точно бросая кому-то или чему-то вызов, проговорил президент, откидываясь на спинку сиденья. Руки Люси упали на его колени, и он сжал их в своих ладонях с такой силой, что она тихо сказала:
— Фрэнк, мне больно…
— Прости, дорогая, — поспешно сказал Рузвельт, разжимая ладони своих могучих рук. И с печалью в голосе добавил: — Наверное, не в первый раз я причиняю тебе боль. Только ты всегда молчишь…
— Нет! — воскликнула она с каким-то ожесточением в голосе. — Это неправда! Я не молчу. Я только и делаю, что разговариваю с тобой. Даже когда мы не вместе. Даже когда нас разделяют тысячи миль.
— Я знаю, — тихо сказал Рузвельт. И повторил: — Я знаю. И все же я сказал тебе не всю правду. Я хочу жить вечно не только потому, что хочу видеть тебя всегда, знать, что ты существуешь… Я не имею права умирать потому, что не знаю, кто придет на мое место. Будет ли этому человеку дорого то, что так дорого мне? Поймет ли он, что люди не могут больше жить в страхе?.. Умерят ли свою алчность те, кто одержим стремлением к наживе?
— Но бизнесмен не может не гнаться за прибылью. На то он и капиталист. А это неизбежно порождает алчность, — робко возразила Люси.
— Чепуха! — воскликнул президент. — Разумному капиталисту достаточно заботиться о расширении производства и правильном распределении прибылей. В конце концов это и спасло Америку в тридцатые годы. Если бы царь Мидас мыслил логически, он мог бы предвидеть, что золото его погубит.
— Однако он не мыслил логически и выпросил у богов дар превращать в золото все, к чему бы он ни прикоснулся. И был обречен жевать и глотать хлеб из золота, — задумчиво проговорила Люси.
— Я надеюсь, что за десятки веков люди поумнели. И все же меня мучают сомнения: будут ли мои преемники верить в то, что людей можно повести за собой не силой оружия, а силой примера?
— Но даже когда тебя не будет, — сама эта мысль мне представляется невероятной! — с жаром сказала Люси, — останется то, что ты сделал для Америки, останется пример «Большой тройки», останется «Дом Добрых Соседей»… Или, может быть, ты боишься рецидивов безумия?
— Да! — воскликнул Рузвельт. — Боюсь!
— И ему нет противоядия?
— Одно, главное, я знаю. Надо жить в мире с Россией. Надо попытаться договориться со Сталиным.
— У тебя появились сомнения в такой возможности?
— Сталин — сложный человек, фанатически преданный коммунизму.
— Но я убеждена, — сказала Люси, — что ты сумеешь заставить Сталина считаться и с тобой и с Америкой. В конце концов заразительны не только дурные примеры, но и хорошие.
— Иными словами, ты хочешь сказать, что Сталин будет вынужден нам подражать? Послушай, Люси, раз уж говорят, что я выдаю тебе государственные тайны, пусть это хоть раз будет правдой. Впрочем, то, что я хочу тебе сказать, вовсе не государственный секрет, а мой личный… Я убежден, Люси, что жажда собственности — у человека в крови. Поэтому я исповедовал и исповедую то, что Сталин называет капитализмом. Но иногда я, сам пугаясь своего вопроса, спрашиваю себя: а почему, собственно говоря, Россия должна подражать нам? И чему подражать? Технической оснащенности? Согласен. Но ведь мы претендуем и на другое — на высшую форму демократии. Между тем мы во многом и сегодня расисты. Чему же должен подражать Сталин? Ку-клукс-клану? «Американскому легиону»? Продажности политиканов?.. Одним словом, не относится ли к нам призыв «Врачу, исцелись сам»?
— А если врач не хочет «исцеляться»? Если он считает себя здоровым только потому, что он врач? Потому что он американец?
— Вот! — воскликнул Рузвельт. — Как хорошо, что ты нашла верные слова, я сам не сформулировал бы точнее причину своего страха! Да, Люси, да, я боюсь и могу тебе в этом признаться. Поэтому я хочу излечить нашу страну от нарциссизма, самовлюбленности, вывести Америку на тот светлый путь, с которого уже не может быть возврата к мраку… Сталин, Черчилль и я — каждый из нас видит будущее своей страны по-своему. И пусть нас рассудит История, когда мы уйдем… Я не хочу быть пророком, но верю, что настанет время, когда все страны будут мирно уживаться друг с другом, как… скажем, как марки в моих альбомах. Кстати… У источников мэр преподнес мне альбом с марками. «Экзотическими», как он сказал. Очень интересно было бы взглянуть, что там такое.
— А где альбом? — спросила Люси.
— Его, как коршун, вырвал из рук мэра этот несносный Рилли. Он, видимо, опасался, что между страницами заложен динамит!.. Сначала он сунул альбом под ковер — там, на заднем сиденье, а когда «профессионально исчез», наверное, прихватил и альбом. Теперь я не увижу марок до вечера…
— Подожди! — прервала его Люси. Перегнувшись через спинку сиденья, она стала шарить руками по ковру. — Честное слово, я, кажется, нашла!
С некоторым усилием она приподняла край ковра, вытащила из-под него небольшой альбом в сафьяновом переплете и, протягивая его Рузвельту, спросила:
— Этот?
Президент взглянул на ее раскрасневшееся лицо, съехавшую набок шляпу-тюрбан и радостно воскликнул:
— Этот! Ну, конечно же, этот!
Он буквально выхватил из рук Люси альбом и, прижимая его к груди, все тем же возбужденно-радостным голосом проговорил:
— Даже полиция попадает впросак, когда хочет перехитрить президента! Майк знал, что я еду к тебе, и так торопился избавить меня от своего присутствия, что забыл об альбоме. Что ж, посмотрим, посмотрим…
Обладатель бесчисленных альбомов с марками, он почти не надеялся на то, что мэр маленького городка поразит его воображение каким-либо редким экземпляром, но, с его поистине детской страстью к коллекционированию, не мог без волнения видеть новый альбом. И сейчас он, казалось, забыл обо всем на свете, даже о Люси.
— Посмотрим, посмотрим… — бормотал Рузвельт, откинув твердую обложку альбома и поднеся его к своим близоруким глазам.
— Так… здесь разные комплименты по моему адресу, читать не будем… А дальше?..
И он стал перелистывать страницы, не обращая внимания на Люси, пытавшуюся заглянуть через его плечо.
— Хо-хо! Неплохо, совсем неплохо, — продолжал бормотать президент. Ему достаточно было одного взгляда, чтобы определить ценность того или иного экземпляра.
Заметив, что Люси тщетно пытается увидеть марки, он положил альбом себе на колени и, тыча пальцем в разноцветные квадратики, начал объяснять:
— Смотри! Вот эта серия — из Британского Северного Борнео. Там, как правило, изображают зверей или птиц. Вот попугай, орангутан… А вот это… знаешь, что это за зверюга? Тапир!
Он неторопливо перелистывал страницы.
— Зебра… Жираф… Это — из Ньясаленда. Какой еще экзотикой хочет порадовать нас любезный мэр? Та-ак… Золотой Берег, Британская Гвиана… Барбадос. А вот Ямайка и Тринидад…
В альбоме было не так уж много страниц, массивность ему придавал твердый переплет. Президент просмотрел все марки, а затем вернулся к первой странице.
Люси растроганно глядела на Рузвельта. Он совершенно преобразился и походил теперь на мальчишку, рождественским утром обнаружившего в своем чулке долгожданный подарок. Трудно было поверять, что этот человек, только что рассуждавший о жизни и смерти, о будущем человечества, может так самозабвенно разглядывать пестрые картинки. Лицо президента было освещено лучами солнца, неожиданно выглянувшего из-за черной тучи.
Время от времени он говорил, словно обращаясь к самому себе:
— Та-ак… это у меня, конечно, есть… и это тоже… А вот за эту спасибо, уважаемый мэр, — у моего экземпляра повреждены зубцы… Эта пойдет в обменный фонд…
И вдруг он умолк, хотя взгляд его был по-прежнему прикован к альбому. Лицо его омрачилось, морщины на лбу обозначились резче.
— Ты… ты нашел какую-нибудь редкую марку? — поспешно спросила Люси.
На лице Рузвельта появилась ироническая улыбка.
— Посмотри! — сказал он. — Тебе, конечно, знакомо это животное?
И он протянул ей альбом, держа ноготь указательного пальца над большой маркой. Люси склонила голову.
— Конечно! — ответила она. — Это же носорог. Такого можно увидеть в любом хорошем зоопарке.
— Как, по-твоему, на кого он похож? — не отрывая взгляда от марки, спросил президент.
— На кого похож? — недоуменно переспросила Люси.
— Вот именно, — нетерпеливо произнес Рузвельт. — Кого из знакомых он тебе напоминает?
— Трудно сказать, — с еще большим недоумением проговорила Люси.
— О, господи! — воскликнул президент. — Черчилля! Нашего дорогого Уинни! Вглядись: рог — это его сигара. Лицо, точнее, морда — воплощение агрессивности. Туловище?.. Ну, это уже совсем, как у Уинстона. Того и гляди, этот «Черчирог» сорвется с марки… Наклонит голову, воинственно выставит рог и…
Люси рассмеялась:
— А знаешь, Фрэнк, я тебе завидую. Несколько минут назад ты говорил о таких серьезных вещах! И вдруг превратился в шаловливого ребенка. Весело шутишь…
Рузвельт ответил не сразу.
— Нет, Люси, не «вдруг»… — произнес, он наконец. — И мое отношение к Черчиллю изменилось «не вдруг»…
— Не понимаю, — переходя уже на серьезный тон, сказала Люси. — Ведь Уинстон Черчилль — твой лучший друг, это общеизвестно. А сейчас ты сравниваешь его с носорогом, упрекаешь в агрессивности… Разве это можно принять иначе как шутку?
— Да, да, конечно… — рассеянно проговорил президент.
— Я вспоминаю, как нам пришлось отменить свидание весной сорок третьего года именно потому, что в это время к тебе в Вашингтон приехал Черчилль.
— Ну вот, — с печальной усмешкой сказал Рузвельт, — значит, и у тебя есть свой счет к носорогу.
— Опять ты шутишь, Фрэнк! Неужели ты думаешь, я не понимала, что твоя встреча с Черчиллем была в сто раз важнее, чем со мной? — воскликнула Люси. И добавила: — Может быть, я немножко ревновала тебя к нему — думала, что вот ты беседуешь с очень близким тебе человеком, и этот человек — не я.
Она умолкла. Молчал и президент, погруженный в свои думы.
— Ты знаешь, — нарушила молчание Люси, — в те дни мне хотелось стать невидимкой и пробраться к тебе в Овальный кабинет.
— Чтобы подслушать мои секретные переговоры с Черчиллем? — добродушно спросил Рузвельт. — Что ж, дорогая моя Мата Хари, выходит, не зря говорят, что с тобой я более откровенен, чем, скажем, с Гарольдом Икесом.
— Но это же неправда! — возмущенно проговорила Люси.
— Почему неправда? Ты мой друг навечно, а Икес — невыносимый брюзга.
— Не надо быть таким несправедливым, Фрэнк, даже когда ты шутишь! — сказала Люси. — Ты знаешь, у нас с тобой есть одна-единственная тайна. Это тайна нашей любви. Впрочем, и она уже для многих перестала быть тайной… Нет, я не хотела подслушивать твои секретные переговоры с Черчиллем. Я просто хотела быть незримой свидетельницей твоей встречи с ним: лишний раз убедиться, что у тебя есть еще один друг, мыслящий так же, как ты, и всегда готовый поддержать тебя в трудную минуту. А сколько тяжелых, даже трагических… нет, не минут, а дней, месяцев было во время этой войны!.. Знаешь, Фрэнк, я представляла себе, как Черчилль входит в Овальный кабинет, как радостно ты улыбаешься, как протягиваешь ему обе руки из-за стола… Ведь твоя радость — моя радость… Кстати, как вы обращаетесь друг к другу, когда бываете наедине?
«Как мы обращаемся друг к другу?» — мысленно спросил себя президент. И ответил:
— Я что-то никогда не думал об этом. Погоди… Я его зову Уинстон…
— А он тебя — Фрэнк?
— Вот уж никогда! — с неожиданным высокомерием воскликнул Рузвельт. — Только «мистер президент»!
— Почему? — удивленно спросила Люси.
— Ему виднее, — неопределенно ответил Рузвельт.
— Ну, все равно… Зная о ваших встречах, я хотела быть рядом с тобой — пусть незримо, пусть молча, только бы видеть улыбку, радость на твоем лице… Я живо представляла себе, как он входит, и ты ему говоришь: «Хэлло, мой дорогой Уинстон!», и он обнимает тебя, — словом, встреча друзей, встреча единомышленников…
Глава седьмая РАДУГА
— Нет, — невольно стал вспоминать президент, — все было не так. Кажется, я сказал: «Наконец-то вы здесь, Уинстон!» Он ответил… Что же он ответил?.. Кажется, так: «Еще не совсем!»
Потом он достал длинную, черно-коричневую сигару, пошарил в карманах, видимо, в поисках ножика-«гильотинки», чтобы обрезать кончик, так и не нашел его, расковырял конец сигары ногтем, сунул ее в рот, закурил и, не вынимая изо рта, сказал: «Вот теперь я здесь. Весь целиком!»
С чего же началась беседа? Рузвельт хорошо помнил ту встречу.
Он спросил Черчилля, усевшегося в кресло у стола:
— Ну, какие новые идеи вы привезли в Белый дом, Уинстон? Встреча со Сталиным не за горами.
— Я не меняю идеи, как денди меняют свои перчатки. Идеи — прежние. Но я приехал с просьбой.
— Повесить Гитлера? Но пока еще это не в моей власти! — горестно развел руками президент.
— Я уверен, что со временем мы повесим и Гитлера и заодно еще кое-кого. А пока у нас другая забота: не допустить большевизации Европы. Сегодня этот вопрос, казалось бы, носит теоретический характер. Но с каждым километром продвижения русских на запад он приобретает все большую и большую актуальность.
— В чем же суть вашей просьбы? — не без иронии спросил Рузвельт. — Может быть, мы обратимся к Сталину с ходатайством принять все меры, чтобы «капитализировать» Европу? Или — еще лучше — «феодализировать»?
— Я не расположен шутить, мистер президент!
— А мне трудно вести беспредметный разговор, Уинстон. Как вы предполагаете заставить Сталина отказаться от этой цели, если, конечно, она и в самом деле существует?
— Последнее ваше замечание, мистер президент, я склонен рассматривать как чисто риторическое, — недовольно фыркнув, ответил Черчилль. — Неужели вы, отлично представляя себе экспансионистские цели коммунистов, всерьез считаете, что на этот раз Сталин от них откажется?
— Вы полагаете, что мы должны вести разговор со Сталиным именно в таком тоне и в таком духе? — с иронической улыбкой спросил Рузвельт.
— Может быть, такая необходимость и возникнет… Но главное сейчас даже не в этом.
— Я весь внимание, мой дорогой Уинстон, — чувствуя, что Черчилль уже с трудом сдерживает свое раздражение, миролюбиво сказал президент.
— Главное, сейчас спрессовано в двух словах: «второй фронт», — не без торжественной назидательности произнес Черчилль, вынимая изо рта сигару.
— Америка уже давно открыта, Уинстон, — с наигранным сожалением в голосе сказал Рузвельт, — и едва ли необходимо открывать ее второй раз.
— Понимаю! Вы хотите сказать, что, русские уже не в первый раз требуют открытия второго фронта…
— А мы не в первый раз соглашаемся, назначаем сроки, а потом их переносим, — как бы во всем соглашаясь с Черчиллем, сказал Рузвельт.
— Мне кажется, мистер президент, что сейчас я слышу голос Сталина. Что ж, я ему отвечаю: развертывая боевые действия в районе Адриатического моря, мы тем самым и создаем второй фронт…
— Уинстон, — нетерпеливо перебил его Рузвельт, — в меморандуме, который мне прислали мои начальники штабов Маршалл, Арнольд и Кинг, ясно сказано, что решающие результаты дало бы только мощное наступление во Франции. А вашему адриатическому или балканскому варианту противостоят естественные препятствия, большая протяженность морских коммуникаций и хорошо оснащенные, выдвинутые вперед немецкие очаги обороны…
— А о том, что у русских будет меньше сил для большевизации Европы, а у нас — больше сил для установления там демократии, ваши начальники штабов, конечно, не пишут? — раздраженно спросил Черчилль. И уже спокойно добавил: — Короче говоря, мистер президент, я прошу вас поддержать мой вариант на предстоящей встрече «Большой тройки».
Рузвельт молчал. Его раздирали сомнения. Как президент Соединенных Штатов Америки, он понимал, что в его интересах, если иметь в виду то, что большевики называют «капиталистическими интересами Америки», — поддержать план Черчилля. Но как человек, в котором эти интересы не до конца заглушили голос совести, Рузвельт отдавал себе отчет в том, что такую поддержку русские — с полным основанием — могли бы назвать простым словом «предательство».
Вот как проходила та встреча, вот о чем молча вспоминал сейчас президент.
Молчала и Люси. Если Рузвельт глубоко задумался, то, значит, о чем-то серьезном. О войне. О государственных делах. О том, что сказать на ближайшей пресс-конференции. Имела ли она право отрывать его от этих мыслей?
Президент молчал, низко склонив голову. И Люси заметила, что взгляд его снова устремлен на страницы раскрытого альбома, лежащего у него на коленях.
Да, Рузвельт глядел на марки. Он уже не думал о Черчилле. Теперь он путешествовал не во времени, а в пространстве. С марок на него смотрели стройные пальмы, развесистые баобабы, бирюзовые лагуны, диковинные птицы в ярком оперении, неведомые люди в чалмах или каких-то пестрых платках, бедуины в бурнусах и полководцы в пышной военной форме, напоминавшей опереточный наряд.
Президенту казалось, что он ощущает на своем лице ласковое дыхание тропического бриза, что лагуны манят его к себе…
Читая и перечитывая названия стран на марках, он вдруг подумал: «А ведь это все английские колонии! И идиллические картины, изображенные на марках, не дают представления о жизни в этих странах, на этих островах. Там — дворцы, в которых живут белые, и жалкие хижины, где рождаются и умирают те, кому по праву должны были бы принадлежать эти земли, эти леса, это голубое безоблачное небо».
Некоторое время Рузвельт неотрывно глядел на марки, потом резко поднял голову.
«Разве можно уговорить британского премьера отказаться от всего этого? — подумал он. — Конечно, нет! Черчилль и войну-то ведет главным образом ради того, чтобы спасти от развала Британскую империю, чтобы сохранить ее колонии, — нет для него цели более желанной!»
…Кем бы президент ни был в действительности, в душе он считал себя демократом, антиколониалистом, подлинным представителем «Америки простых людей». В Черчилле он видел одного из ярчайших политических деятелей современности и вместе с тем воспринимал его как живое воплощение колониализма. «Уинстон — это человек статус-кво. Да он и выглядит, как статус-кво», — не раз говорил Рузвельт.
Но колониализму не должно быть места после победы над фашизмом, после создания Организации Объединенных Наций — только глупец может усаживать за один стол колонизаторов и представителей порабощенных народов, пытаясь совместить их интересы и надеясь на принятие единодушных решений…
И если Черчилль так настаивает на «балканском варианте» второго фронта, то разве он это делает не в надежде на превращение стран, через которые пройдут английские войска, в доминионы Британии? И если даже придумать для них какое-либо другое название, это мало что изменило бы по существу…
Когда-то, еще задолго до войны, президент знал Черчилля как ярого антикоммуниста. Но ведь и он сам, Рузвельт, отнюдь не симпатизировал теориям «красных».
Однако теперь, во время войны, он чувствовал, что британский премьер раздражает его все чаще и чаще.
В своих выступлениях по радио Черчилль воздавал должное героическому русскому народу и награждал Сталина безудержно хвалебными эпитетами. Но при этом он делал все, чтобы затянуть войну, — затянуть ее так, чтобы Россия, даже одержав победу, была не в состоянии воспользоваться ее плодами.
— Как вы представляете себе будущее мира? — неожиданно спросил Рузвельт Черчилля.
Они вновь сидели в Овальном кабинете друг против друга, и британский премьер только что — в который раз! — изложил свои аргументы против того варианта второго фронта, на котором настаивали русские.
— А вы? — ответил вопросом на вопрос Черчилль, откидывая на подлокотник кресла руку с дымящейся сигарой зажатой между большим и средним пальцами.
«Что я ему тогда сказал? Что вдруг вызвало у него такую ярость? — вспоминал президент. — Кажется, я заговорил о свободе торговли. Сказал, что после войны надо будет ликвидировать все искусственные барьеры, обеспечить полнейшую свободу торговли, завоевывать рынки не насилием, не путем принуждения, а в процессе здоровой конкуренции между странами».
Рузвельт хорошо помнил, как после этих его слов исказилось лицо Черчилля, как сузились его глаза.
Он неприязненно, даже подозрительно посмотрел на президента и воскликнул:
— Но у Британской империи уже десятилетиями и даже веками существуют торговые соглашения!
Рузвельт ощутил непреодолимое раздражение. Так бывало всегда, когда Черчилль не скрывал от президента, что видит цель войны в восстановлении могущества Британской империи.
Рузвельт не мог понять, почему такой умный человек, как Черчилль, не в состоянии осознать, что годы войны, борьбы народов за независимость не могут пройти бесследно, что из биографии человечества эти годы вычеркнуть невозможно, что миллионы людей, изнывавшие под гнетом немецко-фашистской или японской оккупации, не захотят, обретя свободу, подставить шею под старое колониальное ярмо.
Президента бесило это безрассудное упрямство человека, который часто носил военный мундир или комбинезон, похожий на форму солдата-десантника, но буквально на глазах превращался в старомодного киплинговского героя в шлеме колонизатора и с хлыстом в руке.
— Совершенно верно! — воскликнул Рузвельт в ответ на самодовольное замечание Черчилля. — Ведь именно из-за этих торговых соглашений, подкрепленных силой оружия, народы Индии и Африки, всего колониального Востока — и Ближнего и Дальнего — жили в условиях нищеты и бесправия.
Черчилль швырнул тлеющую сигару в пепельницу и вскочил, резко отодвинув кресло. Лицо его так налилось кровью, что, казалось, он вот-вот рухнет, сраженный апоплексическим ударом.
— Как вы изволили сказать, сэр? — судорожно сжав пальцы, прерывающимся голосом спросил он. — Правильно ли я вас понял? Вы ставите под сомнение правомерность исторически сложившейся британской системы колоний и доминионов? Я вынужден вас разочаровать. Британия не имеет ни малейшего намерения лишиться своих позиций на земном шаре — будь то в сфере торговли или политики. Система, обеспечившая величие Англии, после войны должна быть восстановлена в прежних масштабах.
— Успокойтесь, мой дорогой Уинстон, сядьте, прошу вас, — сказал Рузвельт, указывая на кресло. — Ведь я же не предлагаю ввести в вашей империи коммунизм. Вы прекрасно знаете, что в этом вопросе у нас с вами никаких разногласий нет…
Он подождал, пока тяжело дышащий Черчилль опустится в свое кресло, и продолжал:
— Ведь речь идет о другом, Уинни. Рассудите спокойно и здраво: разве мы сможем обеспечить прочный мир, если откажем многим народам в праве пользоваться его благами? Вы полагаете, что народы сражаются против «нового порядка» Гитлера ради того, чтобы вернуть старый порядок королевы Виктории?
— А вы за какой порядок выступаете? — сквозь зубы проговорил Черчилль.
— Да все же очень просто, мой дорогой Уинстон! — ответил президент. — Надо лишь помнить, что мы живем в двадцатом веке, а не в восемнадцатом и не в девятнадцатом. А это значит, что уже невозможно игнорировать определенные истины. Благосостояние всех народов необходимо обеспечивать путем повышения их жизненного уровня, путем просвещения, путем улучшения медицинской помощи и так далее… А торговля? Если мы берем у страны сырье, то обязаны компенсировать его соответствующим образом. Право сильного здесь неприменимо.
— Вы, конечно, имеете в виду прежде всего Индию? — скривив губы в презрительной усмешке, произнес Черчилль.
— Индию в числе прочих колоний. Я хочу вас спросить еще раз: как можно вести войну против фашистского рабства и при этом стремиться к восстановлению рабства колониального? Наши расхождения я сформулировал бы просто. Вы говорите: «Да здравствует колониализм!» А я отвечаю: «Да здравствует конкурентная — то есть свободная — торговля!» Вы за право сильного, а я — за разумное управление с помощью доллара и фунта. И я верю, что ваш исторический опыт, ваш здравый смысл заставят вас признать правомерность моего лозунга.
— Из реальных лозунгов у нас пока есть только один — открыть второй фронт на Балканах.
— Отложим этот вопрос до переговоров со Сталиным, — примирительно ответил президент. — По рюмке бренди в знак нашего согласия?.. Приттиман!
— Да, Люси, — словно вспомнив вдруг о ее существовании, сказал Рузвельт, — разговор с Черчиллем был нелегкий… Знаешь, мне пришла в голову одна мысль… Собственно говоря, ничего нового, но, разглядывая марки, я невольно вернулся к этой мысли. Ведь все страны, марками которых мы только что любовались, — английские колонии. Ты подумай только! В середине двадцатого века существует рабство, как бы его ни именовали официально. Рабство во имя чего? Во имя умножения богатств Британской империи… А теперь скажи мне: во имя чего, по-твоему, сражается Черчилль?
— Во имя разгрома Гитлера, конечно, — ответила Люси.
— Да. Это верно. Уинстон — храбрый солдат и умный человек. Только у него, как говорят французы, «esprit mal tourne» — «ум повернут не в ту сторону». Да, он хочет разгрома Гитлера. Но одновременно он мечтает о другом. Гитлер сражается за «тысячелетний рейх». А Черчилль — за тысячелетнее существование колониализма. Как ты полагаешь, допустят это бог и человечество?
— Я… я не знаю, Фрэнк… Ведь до сих пор допускали.
— Но допустят ли в будущем? Допустят ли после того, как злодей, задумавший превратить весь мир в свою колонию, будет разгромлен? Допустят ли это люди после того, как они сражались за свободу — и в войсках нашей коалиции и в движении Сопротивления?
Люси смотрела на любимого человека широко раскрытыми глазами. В них, казалось, застыло удивление. Никогда еще Рузвельт не высказывал своих политических взглядов с такой резкостью и определенностью. О, конечно, в беседах они не раз касались политики — президент поносил продажных политиканов, выражал недовольство тем или иным министром, но такие решительные высказывания о колониализме она услышала впервые.
— Эти твои взгляды для меня несколько неожиданны, — робко заметила Люси.
— Я их не афишировал, чтобы не затевать свару с колониальными державами, прежде всего с Британией. Но от близких людей — таких, скажем, как Гопкинс или Моргентау, — я никогда не скрывал моего отношения к колониализму. Теперь, когда я умру, останется еще один свидетель…
— Не смей говорить о смерти, Фрэнк! — с несвойственной ей истеричностью воскликнула Люси.
— Хорошо, хорошо, — покорно согласился Рузвельт, — я обещаю тебе жить вечно, хотя мудрецы утверждают, что жизнь после первых ста лет превратилась для Мафусаила в пытку. Но сколько бы ни потребовалось лет для того, чтобы избавить наш мир от колониализма, я согласен…
— Мне неважно, для чего, но я хочу, чтобы ты жил. Просто жил.
— Не хочу я «просто жить»! — прервал ее президент. Неожиданно резким движением он отбросил альбом с марками на заднее сиденье и продолжал: — Но законы природы неумолимы, и когда-нибудь я все же умру. А ты еще будешь жить — ведь ты моложе меня и, к счастью, здорова. И если новый «радиопоп», не Кофлин, — надеюсь, черт не замедлит прибрать его к себе, — а какой-нибудь другой станет называть меня «красным», ты встанешь и скажешь во всеуслышание: «Он не был коммунистом. Он просто любил людей, а это немало».
Рузвельт понизил голос, словно опасаясь, что его могут подслушать, и продолжал быстро, почти скороговоркой:
— Ты знаешь, что в Бритавской Гамбии средняя продолжительность жизни меньше тридцати лет? Там коровы живут дольше людей… А в Индии, Бирме, на островах Малайского архипелага… Это же не жизнь! Ты знаешь, что можно было бы сделать в Африке, если бы не расхищали ее богатства? Там можно… Да, я уверен, там можно было бы создать такую гигантскую ирригационную систему, что на ее фоне долина «Импириэл Вэлли» в Калифорнии выглядела бы капустной грядкой!
Президент умолк. Он был взволнован до крайности и тяжело дышал. Люси вдруг стало страшно. А что, если вдруг… Врача поблизости нет. Она не знала, как отвлечь Рузвельта от тревожных мыслей.
Немного помолчав, он добавил уже гораздо спокойнее:
— Что касается меня, то я буду счастлив предоставить независимость Филиппинам. И это только начало.
— А с Черчиллем ты тогда все же договорился? — неожиданно спросила Люси.
— Мы договорились обо всем, кроме коренного вопроса, — весело ответил Рузвельт.
— Какого? Или это государственная тайна?
— Тайна, но я ее раскрою. Ты знаешь, что всем напиткам я предпочитаю коктейль «Манхэттен», божественную смесь виски и вермута. А Черчилль его терпеть не может и всей душою предан шотландскому виски в чистом виде. Здесь мы не пришли к соглашению.
Президент умолк. Молчала и Люся, Думая о чем-то своем, он машинально повернул ручку радиоприемника.
Из небольшого репродуктора полились звуки музыки. Она ворвалась — вернее, втекла, — в машину, так сказать, с полутакта, и сразу же определить, что за мелодию передает радиостанция, было трудно.
И вдруг Рузвельт, схватив Люси за руку, спросил:
— Ты знаешь эту песню?
Люси прислушалась.
— Но ведь это же «Meadowland»! — сжимая ее руку, воскликнул президент. — «Луга»! — И добавил печально: — Сейчас они пропитаны кровью…
— Да, да, — склоняясь к приемнику, проговорила Люси, — это русская песня, ее часто передают в последнее время.
— А ты знаешь, как она поется в оригинале? Слушай! — И своим высоким баритоном Рузвельт, выждав несколько тактов, не то спел, не то произнес речитативом: «По-льюшка, по-оля…»
— Ты знаешь текст по-русски? — удивленно спросила Люси.
— Нет, только начало первого куплета. По-русски песня так и называется «Польюшка, поля…»
— Но откуда ты…
— Первый раз я услышал эту песню в Тегеране. Ее пели русские солдаты. Мне очень понравился мотив. Я попросил Болена — он ведь прекрасно говорит по-русски — узнать, что это за песня. Он мне подробно все рассказал. Песня посвящена героям гражданской войны в России.
— Но сейчас ее, конечно, передают не из России? — спросила Люси.
— Конечно, нет, — снисходительно улыбнулся президент и потрепал Люси по щеке. — Разве такой приемник возьмет Россию? Это, наверное, из Атланты или из Нашвилла.
Оркестр играл «Полюшко» на американский лад, в слегка джазированной аранжировке, но это нисколько не умаляло ее проникновенной выразительности.
— В последнее время все чаще и чаще передают советские песни, — сказала Люси. — А раньше, если передавали русскую музыку, то только старую, дореволюционную. Моя Барбара тоже заметила это и как-то раз даже спросила меня: «Почему?» Ты думаешь, это потому, что наше отношение к России так сильно изменилось к лучшему?
— Это потому, что русские уже на подступах к Берлину, — ответил Рузвельт. — Одним словом, «Stalin isn't stalin'».
Этот каламбур можно было перевести на русский, как «Сталин не канителит». Американская песня под таким названием была популярна в то время.
— Смотри, Фрэнк! — хватая президента за рукав, воскликнула Люси. — Радуга!
Действительно, на горизонте, где в черных тучах появился большой голубой просвет, заиграла всеми цветами радуга, точно выгнутый хвост огромного павлина…
Некоторое время они молча любовались ею. Потом Рузвельт сказал:
— А знаешь, что мне теперь всегда напоминает радуга?
Она вопросительно взглянула на него.
— Тегеран, — сказал президент.
— Тегеран? — удивленно переспросила Люси. — Разве ты там видел какую-нибудь особенную радугу?
— Да нет, — с веселой улыбкой ответил Рузвельт. — Там, за столом конференции, Черчилль в одной из своих напыщенных речей употребил слово «радуга». Я заметил, что, когда его переводчик перевел это слово на русский, Сталин недоуменно пожал плечами и вопросительно взглянул на меня. И в самом деле, это слово — в его буквальном смысле — было здесь совершенно не к месту. Я наклонился к Болену и попросил его объяснить русским, что мы часто употребляем выражение «радуга на небе», имея в виду светлую надежду. Уинстон, конечно, говорил о символической радуге.
— Да. Это забавно, — без тени улыбки на лице сказала Люси. И вдруг спросила: — А как ты сейчас воспринимаешь вот эту радугу?
— Ну, конечно же, как надежду, дорогая.
— Надежду на что?
Рузвельт немного помолчал. Потом убежденно сказал:
— На здравый смысл, на благоразумие человечества!
И добавил:
— Я собираюсь выразить эту надежду в моей «джефферсоновской речи» тринадцатого.
Ни он, ни Люси не знали, что речь, к которой готовился президент, так и останется непроизнесенной…
Глава восьмая НАУКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Все собрались на лужайке возле «Маленького Белого дома». Мясо по-брауншвейгски, которое так любил Рузвельт, было уже давно готово, и ждали только возвращения его и Люси. Они вернулись порознь — сначала президент в своем «ручном» «форде», а затем — в своем «кадиллаке» — Люси.
Все заметили, что после прогулки Рузвельт выглядел лучше, чем обычно в последние дни, а когда он с разрешения доктора Брюнна выпил рюмку коктейля, лицо его даже слегка порозовело.
Президент действительно ощутил прилив сил. Может быть, все то, что он говорил Люси о будущем, о том, что ему предстоит сделать, как-то подбодрило и укрепило его. Он готов был после обеда приступить к работе, несмотря на относительно позднее время. А вот аппетита у него не было, хотя его любимое блюдо удалось на славу. Приличия ради он поковырял в мясе вилкой, но не смог заставить себя съесть ни кусочка. Зато с явным удовольствием выпил две чашки крепкого кофе, тщательно избегая неодобрительного взгляда врача. Потом посидел еще с полчаса за общим столом, слушая, как негр Грэм Джексон поет свои неповторимые спиричуэлс.
День, слава богу, заканчивался благополучно. Рузвельт был оживлен — казалось, он приложился к какому-то живительному источнику, — улыбался, с присущим ему чувством юмора поддерживал беседу, но при этом внимательно слушал певца, постукивая по столу мундштуком в такт его банджо.
Воспользовавшись тем, что Грэм Джексон сделал перерыв, президент извинился, сказав, что просит разрешения покинуть стол, и кивнул находившемуся поблизости камердинеру.
Приттиман тотчас же подкатил к креслу коляску, пересадил в нее Рузвельта и под прощальные возгласы остававшихся за столом покатил ее в спальню. Путь вел через гостиную, одновременно служившую президенту кабинетом; там он неожиданно сказал своему камердинеру:
— Оставь меня тут, Арти. Мне хочется немного побыть здесь. Переварить обед, — шутливо добавил он. — Постели мне. Я позову тебя, когда решу укладываться. А пока пересади меня в кресло за столом…
И он остался один в комнате. Сложенный и тщательно прикрытый холстом мольберт Шуматовой лежал у стены. «Орудие пытки!» — мысленно произнес Рузвельт, бросая неприязненный взгляд на груду рисовальных принадлежностей.
Потом прислушался. Из-за стены до него доносился приглушенный голос Джексона. Сидевшие за поздним обедом явно не собирались расходиться. И это его обрадовало — было бы неприятно сознавать, что своим уходом он помешал веселью близких ему людей.
Президент знал — сюда никто не войдет, если, разумеется, он сам не позовет кого-либо. Даже Люси — она проявляла особый такт по отношению к нему. Что ж, сегодня они провели вдвоем необычно долгое время. Да и тема беседы была для их встреч необычной. «Неужели политика так тесно, так неразрывно переплелась в моей душе со всем остальным, чисто человеческим, что я не мог отвлечься от нее даже в разговоре с любимой женщиной?..»
Рузвельт снова прислушался к тихому, видимо, сознательно приглушенному пению. Он хорошо знал эту печальную негритянскую песню:
Nobody knows the trouble I've seen, Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen, There's no tomorrow [2].О, если бы существовал единый спиричуэлс для негров, индейцев и других цветных и если бы его исполнила вся цветная Америка… Может быть, тогда рухнули бы стены Иерихона?
«Довольно! Хватит! — одернул себя президент. — Я решил работать и буду работать».
Он хотел громко крикнуть «Хассетт!», но в это время в дверь кто-то постучал.
— Войдите! — недовольно проговорил Рузвельт. На пороге стоял Майк Рилли. Это было уже совсем неожиданно.
— В чем дело, Майк? — хмурясь, спросил президент и тут вдруг заметил, что начальник его охраны прижимает ладонью к бедру какую-то папку.
— Сэр! — негромко произнес Рилли, делая два-три шага по направлению к коляске. — Мои люди только что закончили проверку вашей автомашины…
«Ну, ну, — мысленно поторопил его Рузвельт, — зачем ты мне это сообщаешь? Как будто я не знаю, что после каждой поездки мой „форд“ разбирают в вашей дьявольской полицейской кухне чуть ли не до последнего винтика!»
— Если вы помните, — продолжал Рилли, — там, на источниках, мэр подарил вам альбом с марками.
«Который ты выхватил у него из рук, а потом забыл в машине», — хотел было сказать президент, но решил все же не огорчать своего верного телохранителя.
— Успокойся, Майк, все в порядке, альбом у меня, — добродушно проговорил Рузвельт.
— Я знаю это, мистер президент, и… прошу прошения. Я оставил его в машине, и по моей вине он миновал проверку.
— Какая там проверка, Майк! Еще немного, и ты начнешь проверять свои носовые платки…
— Свои — вряд ли, сэр, — с достоинством ответил Рилли. — Но все, что имеет отношение к вам…
— Я знаю эту песню наизусть, Майк! — прервал его Рузвельт, явно начиная сердиться. — Надеюсь, ты пришел не только для того, чтобы исполнить ее опять? Честно говоря, я предпочитаю слушать спиричуэлс Джексона.
— Я пришел к вам, сэр, для того, чтобы сказать: во время осмотра вашего автомобиля мои люди нашли на полу заднего салона вот это…
И Рилли, подойдя вплотную к коляске Рузвельта, раскрыл перед ним папку.
В комнате царил полумрак, и президент не сразу разглядел то, что ему показывал Майк: в большой пустой папке лежала крошечная марка.
— Я подумал, сэр, что это, может быть, представляет для вас определенную ценность… Марка, видимо, выпала из альбома.
— Зажги свет!
При свете настольной лампы Рузвельт сразу же убедился, что никакой ценности марка не представляет. Обычная египетская марка с изображением сфинкса.
Видимо, почувствовав разочарование своего босса, Рилли сказал:
— Я знаю, как дороги для вас марки. Ведь вы их собираете.
«Если я собираю алмазы, это не значит, что мне нужны и простые булыжники», — хотел ответить президент, но ограничился словами:
— Спасибо, Майк, хорошая марка.
— Я передам ее мисс Талли для ваших альбомов?
«От его усердия нет спасения!» — подумал Рузвельт.
— Нет, — сказал он. — Оставь ее здесь, на столе. Я хочу ею полюбоваться. Можешь идти.
Рилли повернулся и направился к двери. У самого порога он услышал голос президента:
— Пришли ко мне Хассетта, Майк. С документами!
— Слушаю, сэр! — отчеканил Рилли и скрылся за дверью, плотно притворив ее за собой.
Когда начальник охраны ушел, Рузвельт рассеянным взглядом скользнул по марке. И подумал: «Тоже колония. Тот же Черчилль…»
Но сейчас президента занимали мысли о двух неотложных делах — ответе Сталину и речи памяти Джефферсона.
«Боже мой, — подумал он, — если бы мне удалось вынести эти две ноши и избавиться наконец от Шуматовой! Как легко бы я вздохнул! Даже почту из Вашингтона просматривал бы быстро, без раздражения! А потом — каждый или почти каждый день — прогулка с Люси! И так вплоть до возвращения в Белый дом… А там, впереди, Сан-Франциско — новый этап жизни человечества, да, да, новый!.. Но где же Хассетт?»
Рузвельт любил своего секретаря. Он взял его в Белый дом по рекомендации Марвина Макинтайра еще десять лет назад и очень скоро понял, что не прогадал. Президент слышал о нем и раньше — Хассетт был известным вашингтонским журналистом с опытом работы в Англии и Ирландии. Не имея законченного высшего образования, он поражал всех своей эрудицией, держал в памяти речи великих президентов — Вашингтона, Джефферсона, Линкольна, хорошо знал стихи и часто цитировал их наизусть, с большим мастерством составлял проекты ответов на письма самых разнообразных людей — от политических деятелей и бизнесменов до восторженно-назойливых дам, одним словом, был для президента незаменимым человеком.
Хассетт появился в дверях гостиной с папкой под мышкой и, видимо, полагая, что Рузвельт не заметил его появления, громко произнес:
— Мистер президент!
— Я жду тебя, Билл. Что у тебя там в папке?
— Проект вашей речи по случаю Дня Джефферсона.
— Правильно. Нам надо наконец свалить этот груз с плеч.
Рузвельт уже два раза правил и возвращал проекты, подготовленные Бобом Шервудом и Сэмом Розенманом, каждый раз сожалея, что нет Гарри Гопкинса, — его верный друг и помощник все еще находился в больнице.
Сейчас, видимо, Хассетт принес вариант, в котором были учтены все предыдущие замечания.
— Покажи! — сказал президент.
Хассетт протянул ему папку и повернулся, чтобы уйти, но Рузвельт сказал:
— Подожди. Сядь. Может быть, мне придет в голову что-нибудь путное. Сядь и вообрази себя президентом.
— Постараюсь, — ответил Хассетт, — хотя, честно говоря, шансов стать президентом у меня не так уж много.
Он сел за стол и положил перед собой чистый лист бумаги.
Рузвельт раскрыл папку и погрузился в чтение.
Минут десять прошли в полной тишине, слышен был лишь шорох перелистываемых страниц. Потом президент захлопнул папку и, положив ее себе на колени, сказал:
— Плохо, Билл! К сожалению, опять плохо. И еще хуже то, что я не могу придумать ничего лучшего.
— Для того, чтобы исправить то, что вам не нравится, сэр, надо сначала определить, что именно вам не по душе.
— Не морочь мне голову своими софизмами!
— Это вовсе не софизм, сэр, а чисто логическое построение.
— Твоя образованность, Билл, когда-нибудь заставит меня поступить в Гарвард — на «второй срок»!
— Это едва ли будет выходом из положения, сэр. Я-то ведь не окончил Гарварда.
— Значит, ты гений от рождения.
— Вскрытие покажет, — усмехнулся Хассетт.
Рузвельт ничего не ответил. Еще несколько минут прошло в полном молчании.
— О чем вы задумались, сэр? — спросил наконец секретарь.
— Следую твоему совету. Думаю о том, что мне здесь, — он слегка приподнял папку, — не нравится. И, пожалуй, додумался. Бахвальство.
— Бахвальство? — переспросил Хассетт. — Но в каком смысле?
— В смысле безудержного восхваления Америки. У нас все самое лучшее: страна, система, идеи, сам господь бог любит нас больше, чем всех остальных людей…
— А разве это не так? — удивленно спросил Хассетт. — Разве вы не стремились внушить американцам, что они — избранный народ?
— Стремился. Вот и получилась декларация самодовольства. Нет, Билл, мой долг — сказать совсем другое.
— Вы только сейчас пришли к такому выводу?
— Нет, не сейчас. Я думаю об этом уже давно. Но по инерции продолжаю говорить привычные вещи.
— А о чем же вы считаете нужным сказать? О победе над Гитлером? Она фактически одержана.
— Военная победа — да. Но я думаю о другой, о той, которую еще надо одержать в будущем.
— Над Японией?
— В моей речи я, разумеется, должен сказать о необходимости разгромить врага на Дальнем Востоке. Но я сейчас думаю о победе над войнами вообще, о победе над ненавистью, над алчностью, над эгоизмом. Вот чему должна быть посвящена моя речь. Пиши! — властно сказал Рузвельт и, глядя в пространство, точно видя перед собой уже написанный текст, стал диктовать: —…В наши дни мы стоим перед лицом непреложного факта: если цивилизации суждено уцелеть, мы должны развивать науку человеческих взаимоотношений — способность всех людей сосуществовать и сотрудничать на одной и той же планете… И еще… и еще я хочу сказать вот что. Мы знаем, что и после войны среди бизнесменов, банкиров и промышленников найдутся люди, которые будут сражаться до последнего, чтобы сохранить безраздельный контроль над промышленностью и финансами страны. С этими людьми, — продолжал президент, повышая голос, — состоится сражение, в котором на компромисс со злом мы не пойдем; и мы не успокоимся, пока не наступит день победы… Ну, что-нибудь в этом роде. Ты понял?
Рузвельт умолк и откинулся на спинку кресла.
— Простите, сэр, но, насколько я помню, эта мысль — быть может, в несколько ином варианте — присутствовала в одном из ваших предыдущих выступлений.
— Ее надо вбивать в головы людей неустанно, используя каждый представляющийся случай, каждую возможность.
— И выслушивать обвинения в том, что вы «красный»? Впрочем, — улыбнулся Хассетт, — может быть, общение со Сталиным заставило вас и в самом деле «покраснеть»?
— Когда мне говорят, что я «красный» и каждое утро съедаю поджаренного миллионера, я отвечаю, что верю в капиталистическую систему и на завтрак предпочитаю яичницу, — кривя губы, ответил Рузвельт. — К тому же, Билл, ты умный человек. Скажи мне, какое содержание вкладывают мои критики во все эти наводящие ужас термины? О коммунистах я сейчас не говорю, у них своя философия, свои критерии. Я веду речь о наших критиканах, для которых я то консерватор, то радикал, то либерал. Что, по-твоему, означают эти клички? Как их надо воспринимать? Просто как ругань?
— А вы можете ответить на эти вопросы, сэр?
— Мне кажется, что могу. Я бы сказал, что реакционер — это лунатик, который пятится назад. Консерватор — это человек с двумя здоровыми ногами, который так и не научился ходить. Радикал? Пожалуй, это тот, кто твердо стоит обеими ногами… на облаках. А вот либерал мне нравится: он пользуется ногами и головой одновременно, — с иронической усмешкой закончил президент, похлопывая ладонями по подлокотникам своего кресла.
— Это очень хорошая шутка, сэр, — одобрительно, но без улыбки сказал Хассетт, — но не мне вас учить, что в политике на парадоксах далеко не уедешь… Вот вы только что упомянули коммунистов. И правильно сказали, что у них почти все другое — от философии до повседневных жизненных критериев. Короче говоря, они отстаивают одно, а мы — нечто противоположное. И при этом вы утверждаете, что надо развивать науку человеческих взаимоотношений и способность людей на земле сотрудничать друг с другом. Но из того, что вы сказали о различных критериях, со всей очевидностью следует не сотрудничество, а вражда!
— Ты прав, Билл, ты прав, но только с точки зрения формальной логики или, точнее говоря, арифметики, которая, как известно, выше четырех элементарных действий не поднимается… Возьмем такой пример. В Библии сказано, что бог создал вселенную из ничего — одной своей волей. И христиане принимают это на веру. Между тем в науке существует астрофизическая теория возникновения вселенной. Таким образом, на земле живут люди, придерживающиеся прямо противоположных — я бы даже сказал, взаимоисключающих — взглядов на свою планету. Что ж, по-твоему, крестовые походы неизбежны и в наше время?
Президент умолк. Потом тихо проговорил:
— Главные мысли я высказал. Постарайся их развить.
— И это все? — спросил Хассетт, записавший то, что говорил Рузвельт.
— А разве этого мало? — с неожиданной горячностью воскликнул президент. — Для того, чтобы это осуществить, потребуются усилия целого поколения и, может быть, даже не одного. — И добавил уже спокойнее: — Конечно, если человечеством не будут руководить люди вроде Черчилля, который признает только один вид движения — назад…
— Вы полагаете, что он потерпит поражение на летних выборах?
— Я этого не исключаю, — тихо сказал Рузвельт.
— Вы думаете, англичане забудут, кто привел их к победе?
— Нет, конечно, не забудут. Однако победа, как это ни парадоксально, может стать его политической смертью. Для войны он был хорош, но иметь в качестве премьера человека, который не шагает в ногу с Историей, слишком большая роскошь! А англичане — народ расчетливый.
— Разумеется, мысли, подобные этим, — Хассетт слегка помахал листком бумаги, который уже приготовился положить в папку, — вряд ли вдохновят Черчилля. Кстати, вы уверены, что они вдохновят Сталина?
— Я убежден, что он разделит мою точку зрения, если никто не будет угрожать его стране.
— Интересно, слышал ли кто-нибудь нечто подобное от него самого? — почти не скрывая легкой иронии, сказал Хассетт.
— Я слышал, — коротко ответил Рузвельт, — я!
Хассетт ушел.
«Теперь поговорим с мистером Сталиным», — мысленно произнес президент и открыл ящик письменного стола, тот, в котором хранились документы первостепенной важности.
Вот они, эти письма, в переводе на английский, проклятые листки плотной, белой, слегка шершавой бумаги, с едва различимым сероватым отливом, — письма, которые принесли ему столько терзаний.
Он начал перечитывать их, хотя, наверное, уже помнил каждую фразу наизусть. Но сейчас цеплялся за надежду, что, быть может, читая эти письма в первый, второй и третий раз, он придал не тот смысл словам Сталина, переоценил их резкость и скрытую в формально вежливых выражениях враждебность… А когда перечитает снова, вот теперь… Казалось, Рузвельт подсознательно верил, что за прошедшие дни те или иные слова Сталина каким-то чудом изменились, приобрели другой смысл, утратили резкость…
Сначала он стал перечитывать письмо о «бернском инциденте». Он читал не все подряд, а лишь те строки, которые особенно сильно ранили его, те, которые нельзя было оставить без четкого и убедительного ответа. Вот они, эти обидные, даже оскорбительные, если перевести их с дипломатического языка на общежитейский, слова — все, как было. Слегка завуалированное упоминание о различиях во взглядах на такие понятия, как честность и союзнический долг: речь идет о том, «что может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе». Далее почти прямое обвинение: немцы продолжают сражаться во многом потому, что рассчитывают на сепаратный мир с Западом, что естественно после бернских переговоров. «Трудно согласиться с тем, — писал Сталин, — что отсутствие сопротивления со стороны немцев на западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев имеется на восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с восточного фронта 15–20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки (подчеркнуто английским переводчиком и указано: „идиоматическое русское выражение, означающее никчемность, бесполезность“), но без всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, — с плохо скрытым ехидством писал Сталин, — что такое поведение немцев является более чем странным и непонятным». Так. Последняя строчка — опять как удар хлыста.
И тем не менее, подумал Рузвельт, перечитав первый документ, письмо написано языком джентльмена. А ведь по существу оно равнозначно пощечине. В сущности, Сталин говорит союзнику: «Ты предатель!»
В другом письме констатировалось, что «дела с польским вопросом действительно зашли в тупик», и в этом прямо обвинялись послы США и Англии.
Словом, за прошедшие дни в письмах Сталина, конечно же, ничего не изменилось, и если уж строить мистические предположения, то, может быть, «отстоявшись», эти письма, подобно вину, стали еще более «крепкими».
В пятый, в седьмой, в десятый раз брал Рузвельт листок чистой бумаги и ручку, но затем его перо бессильно повисало в воздухе. Он не знал, что писать. Отрицать факт бернских переговоров — значит оказаться в положении мальчишки, не признающего свою вину, хотя мать застала его с измазанным лицом у разбитой банки с вареньем. Какие там опровержения!.. Сталину было известно все, до мельчайших деталей.
Отрицать наличие «тупика» в польском вопросе? Но президент не хуже, чем Сталин, знал, что Черчилль создал этот тупик вопреки решениям Ялтинской конференции.
Честно признаться во всем и попросить извинения, пусть в самой завуалированной форме? Но это рано или поздно станет известно всему миру, и тогда… Рузвельт на мгновение представил себе, каким обвинениям и оскорблениям он подвергнется. Да и как воспримет Сталин самоуничижительные признания американского президента? Будет ли и впредь считать его союзником, на которого можно положиться? Или надежды на прочный послевоенный мир рухнут, а вместе с ними все мечты Рузвельта, в том числе и самая для него дорогая — о создании Организации Объединенных Наций?
Умеет ли Сталин прощать? Не захочет ли отомстить? Как? Возможностей у него теперь много! Он может занять более категоричную позицию в вопросе о социальном строе стран Восточной Европы, где находятся сейчас советские войска. Может не согласиться на включение в новое польское правительство представителей лондонской эмиграции.
Денонсация договора России с Японией? О, как она обрадовала Рузвельта! Сталин — верный союзник, — он держит слово. Но… о денонсации было объявлено пятого апреля, а эти письма Сталин отправил седьмого. Так, может быть, денонсация — не более чем жест? Погрозили пальцем Японии, и дело с концом. Сталин может — и это было бы сильнейшим ударом по Америке — взять обратно свое обещание вступить в войну с Японией. Он может сослаться хотя бы на то, что после всесторонних обсуждений с военными пришел к выводу, что выдержать две войны — одну сразу же за другой — Россия не в состоянии. Да еще добавит при этом, что людские и материальные ресурсы его страны были бы менее истощены, если бы западные союзники выполнили свое обещание и открыли второй фронт своевременно. Может быть, за эти два дня — между денонсацией советско-японского договора и отправкой писем — произошло какое-то событие, окончательно подорвавшее американо-советские отношения? Но что именно? Может быть, Сталину за эти дни стали известны какие-нибудь новые подробности о характере бернских переговоров? Или, может быть, при поддержке Черчилля «лондонские поляки» предприняли очередную антисоветскую акцию? Но какую?..
Так или иначе, под угрозу поставлены все послевоенные проекты Рузвельта и в первую очередь создание Организации Объединенных Наций. В самом деле, как Советский Союз может быть уверенным, что в этой Организации будет соблюдаться принцип равноправия?..
После Тегерана и Ялты президент считал, что у него со Сталиным установились вполне лояльные, даже дружеские отношения. В своей первой «Беседе у камина» по возвращении в Вашингтон из Тегерана президент сказал:
— Мы хорошо поладили с маршалом Сталиным…
«Вот и поладили!» — с горечью повторил сейчас про себя Рузвельт.
Он пустыми глазами смотрел на лист бумаги, на котором не было написано ничего, кроме слов: «Лично и секретно премьеру И. В. Сталину от президента Ф. Д. Рузвельта». Потом наконец оторвал от него взгляд и рассеянно оглядел письменный стол. И заметил маленький бумажный прямоугольник. Это была та самая египетская марка, которую принес ему Рилли.
Глава девятая СФИНКС
И тут Рузвельт вспомнил… Вспомнил, как по пути в Тегеран сделал посадку в Каире. Он пробыл там с двадцать второго по двадцать шестое ноября, совещаясь с Черчиллем и Чан Кайши. И во что бы то ни стало хотел осмотреть знаменитые египетские пирамиды.
Безоблачное небо, яркое солнце и нескончаемые пески… Вопреки ожиданиям пирамиды не произвели на Рузвельта особого впечатления, но огромный сфинкс заворожил его.
Разумеется, он много раз видел изображения сфинкса на фотографиях, но всегда воспринимал его как безжизненную каменную глыбу с примитивными очертаниями получеловека, полузверя… В реальности все оказалось иным. Сфинкс осмысленно глядел прямо в глаза президента и как бы вопрошал: «На что ты надеешься?»
Над ухом Рузвельта прозвучал голос Черчилля:
— Скоро нам предстоит встреча с другим сфинксом, мистер президент.
— Что? — удивленно спросил Рузвельт, но тут же понял, что имел в виду английский премьер. Ну, конечно, в западной печати Сталина не раз называли «сфинксом», «загадочным русским сфинксом», «непредсказуемым большевистским сфинксом»… Словом, вариантов было много, и президент давно привык к ним, как к пустым журналистским штампам.
Но там, в Египте, сидя в своей машине перед каменной громадой, Рузвельт вдруг с волнением подумал о предстоящей встрече со Сталиным.
…И вот теперь президент смотрел на маленькую марку, а перед его мысленным взором вставал гигантский сфинкс и, казалось, говорил ему: «Загляни в свое сердце, смертный! Я пережил тысячи властелинов и знаю их судьбы, а ты не знаешь даже своей собственной. Мне не дано прорицать. Но если ты в силах постичь мое безмолвие, пойми его как наставление: загляни в свое сердце!»
Рузвельт снова перевел взгляд на письмо, которое, по существу, не было даже начатым.
«Сфинкс…» — мысленно произнес од про себя. И повторил: «Сфинкс…»
Но тут же одернул себя:
«Какого черта! В конце концов мы нашли с этим „сфинксом“ общий язык и в Тегеране и в Ялте. Он не мог не видеть, не мог не оценить главного в моем поведении. Он не должен забывать, что я вопреки сопротивлению Черчилля прямо высказался за „Оверлорд“! А наша первая встреча в Тегеране?! Ведь он сам тогда пришел в мою комнату, и мы провели около часа в дружеской беседе! Не может же он забыть и более далекое прошлое — когда я, именно я признал Россию!»
Но, подумав обо всем этом, Рузвельт ответил самому себе:
«Да, конечно, но все это было давно… А то, о чем с таким возмущением пишет Сталин в своих последних письмах, было совсем недавно. Кто может угадать ход его мыслей?»
Взгляд президента скользнул по марке, и до его слуха снова донесся голос сфинкса:
«Загляни в свое сердце!»
Рузвельт тряхнул головой. «Хватит! Так можно дойти до галлюцинаций! Об ответе Сталину я сегодня больше не думаю, — приказал он себе. — Уже поздно. К тому же сосредоточиться на ответе мне, видимо, мешает сознание, что „джефферсоновская речь“ еще не готова, а тринадцатого мне надо выступать. Завтра я покончу с этой речью и поставлю точку или восклицательный знак. И тогда целиком сосредоточусь на ответе Сталину. А сейчас… сейчас надо отвлечься. Иначе я не засну».
Кресло, в котором сидел президент, почти касалось своей спинкой книжных полок. С силой опершись о подлокотники, Рузвельт вполоборота повернулся к полкам. Он читал много, очень любил книги по истории — когда-то даже сам решил написать историю Соединенных Штатов, но дальше нескольких десятков страниц дело не пошло. А теперь — с чисто детским удовольствием — президент все чаще и чаще читал детективные романы.
После приезда в Уорм-Спрингз он еще ни разу не прикоснулся к своим книжным полкам. Но, насколько он помнил, детективы стояли где-то невысоко, в пределах досягаемости. Подняв над головой руку, он нащупал корешок томика в коленкоровом переплете и вытащил его из ряда.
Он ошибся. Книга, которую он держал в руке, не имела никакого отношения к детективам. Ее автором был Самнер Уэллз. Рузвельт еще не успел прочесть эту книгу — она вышла только в прошлом году, — но знал и ценил Уэллза, бывшего заместителя государственного секретаря. Его подсидел Буллит, и Уэллз, одаренный и блестяще образованный человек, вынужден был уйти в отставку в сорок третьем году. Рузвельт так и не простил этого Буллиту.
Но, несмотря на симпатию к автору книги, президенту не хотелось сейчас углубляться в серьезное чтение. Он взглянул на заголовок — «Время для решения», машинально раскрыл книгу где-то на середине и рассеянно пробежал глазами первый абзац восьмой главы.
И вдруг его словно что-то кольнуло. Восьмая глава начиналась так:
«В первые послевоенные годы двумя величайшими державами — и в материальном и в военном отношении — будут Соединенные Штаты и Союз Советских Социалистических Республик. Откровенное признание этого факта должно лежать в основе всякого планирования политики, которое наше правительство должно проводить по отношению к Советскому Союзу».
Религиозность Рузвельта всегда была далека от экзальтации, но тут ему показалось, что он услышал голос самого господа бога. Только что прочитанный абзац так точно укладывался в поток размышлений президента, что ему было трудно — да и не хотелось — считать это простым совпадением.
Он не стал читать «Время для решения» дальше — в абзаце, попавшемся на глаза, мысль была сформулирована в такой лаконичной и категорической форме, что его уже даже не интересовало, о чем еще говорится в этой книге. Важна была уверенность только в одном: союз между Америкой и Россией не будет поколеблен…
Но письма… О, эти проклятые письма!
И взгляд президента снова обратился к серовато-белым листкам на столе. Он резко открыл ящик, сбросил туда листки и повернул ключ.
Но ничего не мог поделать со своими мыслями. Как по заколдованному кругу, они продолжали свое бесконечное движение. То он думал о возможности сгладить противоречия, возникшие между союзниками, убедить Сталина, что в главном Америка была верна своим обязательствам перед Россией, то приходил к выводу, что сцементировать союз уже едва ли удастся.
Одно не приходило ему в голову — то, что он по-настоящему не знает ни далекой России, ни ее лидера и именно поэтому не может найти правильного решения.
Чем, как объяснить тот факт, что Рузвельт — умный, решительный, прагматически мысливший человек, всегда знавший, чего он хочет, — в последние дни своей жизни бился над ответом Сталину, над определением цели, содержанием и стилем своего письма, бился, пытаясь проникнуть в душу советского лидера и при этом чуть ли не впадая в мистику?
Все в жизни имеет свое начало. Широкие, многоводные реки начинаются с маленьких ручейков; разрушительные землетрясения — с небольших подземных толчков; смене социального строя предшествует накал классовой борьбы; приход того или иного лидера к руководству или, наоборот, его отстранение определяется тем, насколько успешно или неумело возглавлял он борьбу за укрепление могущества своего класса.
Отношение президента к Советской России и ее лидеру Сталину тоже имело свои истоки. Признание этой страны определили объективные экономические интересы наиболее дальновидных представителей «большого бизнеса», но это было и победой политического разума президента. Однако России он, в сущности, не знал.
Рузвельт очень смутно представлял себе, почему в этой далекой стране произошел «государственный переворот», не очень хорошо понимал, зачем американским войскам потребовалось участвовать в интервенции против новой России, народ которой, судя по всему, был готов сражаться до последней капли крови, чтобы сохранить тот строй, которому положила начало революция.
Но, став президентом, Рузвельт сделал все от него зависящее, чтобы Соединенные Штаты признали Россию: американский страус должен был наконец вытащить свою голову из песка — он держал ее там целых шестнадцать лет!
Еще меньше, чем Россию, знал Рузвельт ее лидера Сталина. Президент не понимал, что сила Сталина объяснялась отнюдь не только его умом и железной волей, а прежде всего поддержкой народа, свершившего революцию, поддержкой партии, которая этот народ возглавила.
Рузвельт, несомненно, уважал Сталина — сначала за стойкость, а потом за победы войск, которыми тот руководил.
Да, правые американские, да и не только американские, газеты неустанно поносили Сталина, называли его «диктатором, навязавшим свои коммунистические взгляды миллионам людей», конечно же, жаждущих реставрации если не царизма, то уж капиталистической системы во всяком случае; они называли его тираном, коварным византийцем…
Но разве и его, Рузвельта, в самой Америке не поносили как диктатора? Разве на карикатурах в газетах президента не изображали в виде безумного профессора с выпученными глазами, испытывающего на добропорядочной христианской Америке свои недоработанные революционные теории? Разве фашистская печать не трезвонила на весь мир, что в Овальном кабинете Белого дома происходят чуть ли не шабаши и что сам Рузвельт — креатура международного еврейства, стремящегося захватить в свои руки Соединенные Штаты?
Возможно, многое из того, что пишут о Сталине, соответствует истине, полагал президент, — коммунисты не вызывали у него особых симпатий, — но он не сомневался в том, что правые газеты были склонны к злонамеренным преувеличениям.
Как же складывалось, как развивалось отношение Рузвельта к России и Сталину? Разумеется, решающим фактом было нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Но и задолго до этого нападения президент, с его прагматическим и политически изощренным умом, понимал, что в планы Гитлера, пусть пока еще далекие, входит захват всего мира, включая Америку.
Россия, даже еще не воюющая, была не только противовесом Германии, но и сдерживающим фактором для Японии — потенциального противника Америки на Дальнем Востоке.
Из этого надо было делать выводы — и теоретические и практические. В создававшейся международной обстановке думать о Советском Союзе как о враге было нелепо. Видеть в нем будущего союзника было, по убеждению Рузвельта, реалистично. Нападение Германии на Россию укрепило его в этом убеждении.
Он еще не решался объявлять во всеуслышание о своем сочувствии новой жертве фашизма; тот самый хор, который уже не первый год поносил президента, теперь злорадно пророчествовал падение России. Каждое новое сообщение об отступлении войск Красной Армии расписывалось в правой печати, как «начало конца»; на реакционном американском «тотализаторе» делались ставки на скорую гибель Советов. С продвижением гитлеровцев на восток эти ставки удваивались и утраивались. Не смолкали старавшиеся перекричать друг друга голоса: «Через десять дней!», «Через две недели!», «Нет, раньше! Немцы уже у стен Кремля!», «Сталин бежал из Москвы!»
Но проходила неделя, вторая, третья, а реальная Россия — не та, что существовала в параноидном сознании антикоммунистов, — продолжала сражаться.
И тогда Рузвельт пришел к выводу, что пора сделать решающий шаг, который определит весь дальнейший характер американо-советских отношений. И в порядке подготовки к этому послал в Москву своего ближайшего друга и помощника Гарри Гопкинса, которому предстояло встретиться со Сталиным и составить о нем впечатление как о человеке и политическом деятеле. По возвращении в Америку Гопкинс должен был ответить на кардинальный вопрос: будет ли Советский Союз продолжать войну с Германией, несмотря на тяжелые неудачи первых месяцев, и, следовательно, есть ли смысл оказывать ему материально-техническую помощь?
…О, с каким нетерпением ждал Рузвельт возвращения Гопкинса! Он впивался в каждое слово шифровок, поступавших из американского посольства в России. «Был принят Сталиным…», «Беседа продолжалась два часа…», «Достигнут ряд договоренностей…», «Вылетает обратно в Штаты…»
Но это были всего лишь слова. Значительные, насыщенные информацией, но все же только слова. Они не давали представления о Сталине, о его отношении к Америке, о том, какие из высказываний Сталина можно принимать на веру, а какие нельзя… Гопкинс, только живой Гарри Гопкинс мог ответить на все эти вопросы.
И когда наконец состоялась их встреча, Рузвельт, с трудом полуобернувшись в своем кресле, обнял Гопкинса и сказал:
— Я сгораю от нетерпения, Гарри. Поэтому условимся так. Сначала я буду задавать вопросы, на которые ты будешь отвечать только словами «да» или «нет». Потом ты дополнительно расскажешь мне все, что сочтешь нужным. И у меня возникнут, очевидно, новые вопросы. Итак, начнем. Что представляет собой Сталин? Это серьезный человек?
— Да, — ответил Гопкинс, опускаясь в кресло по другую сторону письменного стола.
— Достаточно ли он компетентен в военных делах и пользуется ли поддержкой армии и народа?
— Да.
— Выдержит ли Россия напор немцев? Не капитулирует ли? Не возникнет ли у Сталина мысль о сепаратном мире с Гитлером?
— Это целых три вопроса. Ответ на первый — «да». На второй и третий — «нет».
— Нуждается ли Сталин в нашей помощи?
— Да.
— Спасибо, Гарри, — с облегчением вздохнул президент. Он услышал главное, самое главное — решающие «да» и «нет».
Он вслушивался в интонации, с которыми Гопкинс произносил свои односложные ответы, всматривался в выражение его лица. Нет, Рузвельт, конечно, и мысли не допускал, что Гопкинс может сознательно ввести его в заблуждение или представить положение на русско-германском фронте менее мрачным, чем оно было на самом деле. И все же президент решил «подстраховаться». Поэтому в начале беседы он запретил Гопкинсу комментировать свои ответы; «да» есть «да», а «нет» есть «нет». В Евангелии от Матфея сказано: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого…»
Услышав последнее «да», Рузвельт почувствовал, что его охватывает еще большее нетерпение. Теперь он жаждал мотивировок и объяснений. Что именно привело Гопкинса к убеждению, что Сталин компетентен в военных делах? Почему он считает, что Россия выдержит и не «выйдет из игры»? В какой именно американской помощи она нуждается больше всего?
— А вот сейчас давай все сначала! — требовательно, но с дружеской улыбкой сказал президент, склоняясь над столом, чтобы быть еще ближе к Гопкинсу.
— Что именно «все»? — пожимая своими острыми плечами, переспросил Гарри.
— Да ты что, смеешься надо мной, сукин ты сын? Неужели ты не понимаешь, что меня интересует именно все — и суть дела и детали? Как ты вошел к Сталину? Как он тебя принял? Как держался? Пытался ли преуменьшить серьезность положения, в котором находится Россия? Что именно, какое оружие русские рассчитывают получить от нас? Словом, ведь ты вернулся с Луны, и мне мало знать, что поверхность ее твердая… Факты, детали, мельчайшие подробности — вот чего я жду от тебя! А теперь давай, выкладывай все!..
Почти четыре года прошло после того разговора, и каких четыре года! И вот теперь Рузвельт сидел в своем кресле, размышляя, перебирая в памяти детали и эпизоды — вехи на пути развития американо-советских отношений. И все это для того, чтобы достойно ответить Сталину на его упреки.
Книга Самнера Уэллза «Время для решения» лежала на коленях президента, глаза его были закрыты.
Он слушал. Кого? Негра Джексона, который все еще продолжал петь берущие за сердце спиричуэлс, вознося к богу свои жалобы и мольбы?
Нет, сейчас другой голос звучал в ушах президента — голос Гарри Гопкинса.
…Рузвельт жадно вслушивался в детали. Он спрашивал: как говорит Сталин? Похож ли на того, каким рисуют его американские газеты? Чем отличается от цивилизованного в западном смысле этого слова человека? Как был одет? Как выглядела Москва? Что можно было прочесть на лицах москвичей?..
А получив ответы на все эти вопросы, с еще большим вниманием стал вслушиваться в аргументы Гопкинса, убежденно заявлявшего, что Москва не сдастся, что Россия выстоит, но она нуждается в помощи — с Британией Советский Союз уже заключил соответствующий договор, а вот с Америкой…
Потом… Потом голос Гопкинса зазвучал глуше, да и сам он стал как бы растворяться, отодвигаться куда-то вдаль…
«Что же было потом?» — спросил себя президент, пытаясь восстановить в памяти события последующих месяцев.
И вдруг его охватило непреодолимое желание поговорить с Гарри Гопкинсом. Этот безгранично преданный ему человек не раз выручал его своими советами. Да и не только советами. Ведь не кто иной, как Гопкинс, протянул незримую нить между Белым домом и Кремлем.
Да, жизнь показала, что далеко не всегда эта нить была прочной, она рвалась по разным причинам, объективным и субъективным; не раз рвал эту нить Черчилль, а восстанавливал ее либо сам президент, либо все тот же верный Гарри…
Гопкинс… «Серый кардинал», как называли его враги Рузвельта, Гопкинс был настолько необходим президенту, что в течение длительного времени даже жил в Белом доме, чтобы быть всегда «под рукой»…
Ах, если бы он мог посоветоваться сейчас с Гарри относительно ответа Сталину, да и по многим другим вопросам!..
Но Гопкинс находился в больнице «Мэйо Клиник» в Рочестере, в штате Миннесота, за сотни и сотни миль от Уорм-Спрингз.
Внезапно Рузвельта осенила мысль: а что, если позвонить Гарри по телефону? Вот он рядом, телефон, снабженный специальным устройством, исключающим подслушивание; тот, кто попытался бы это сделать, услышал бы лишь хаотический набор бессмысленных звуков.
— Грэйс! — во весь голос крикнул президент. — Скажи мне, детка, — спросил он, когда она появилась, — вы все еще жуете мясо по-брауншвейгски?
— Обед кончился, сэр. Мы слушаем Джексона. Но если это вам мешает…
— Перестань! Ты знаешь, что песни Джексона мне милее, чем классическая опера. Речь идет о другом. Я хочу, чтобы ты оказала мне услугу. Ты и Хэкки. Кстати, она с вами?
— Мисс Хэкмайстер, как всегда, на коммутаторе, — с некоторой обидой в голосе за свою приятельницу ответила Талли.
— Так вот, — сказал президент, — пусть она раздобудет мне Гарри.
— Гарри, сэр? — недоуменно переспросила Грэйс.
— Ну да! Гарри Гопкинса!
— Но… он же в Рочестере, мистер президент. И к тому же в больнице!
— Я знаю, что беспокоить такого больного человека жестоко, — сказал, опуская голову, Рузвельт, — но он мне очень, очень нужен! Если бы я не боялся громких слов, то сказал бы, что наш разговор необходим Америке. Пусть нам организуют спецсвязь. Пусть установят телефонный аппарат с декодирующим устройством у его кровати. Мне нужен Гарри хотя бы на пять минут… Если он, конечно, в состоянии говорить…
Грэйс Талли ушла.
«Разговор отнимет не больше трех — пяти минут, — мысленно повторял президент, словно пытаясь найти для себя оправдание. — Но заменить Гарри не может никто. Он знает Сталина и беседовал с ним в разных ситуациях: и когда русские были на краю гибели и когда побеждали. На конференции в Ялте — я видел, видел это! — Сталин оказывал Гопкинсу куда большее внимание, чем государственному секретарю…»
Второй фронт! В этих словах сконцентрировалась вся сущность разногласий с Россией, не раз обманутой Англией и Америкой, обманутой вопреки заключенным соглашениям. Да, конечно, когда Сталин писал президенту свои последние, исполненные обиды и негодования письма, он помнил и о том, как его обманывали союзники. Обманывали в главном, оттягивая срок открытия второго фронта, обманывали и в менее существенном, нарушая сроки военных поставок…
А ведь к тому времени Россия уже потеряла больше половины Украины и сражалась с врагом на подступах к Ленинграду…
«Нет, — подумал президент, — без Черчилля открыть второй фронт мы бы не смогли. А заставить его?.. Какое там „заставить“! — с чувством стыда и горечи сказал себе Рузвельт. — Разве сам я втайне не поддерживал Черчилля в его усилиях отсрочить, насколько возможно, открытие второго фронта?.. И разве не тайный страх, что Россия разделается с Гитлером сама, в значительной мере определил наше решение высадиться в Нормандии? И все же!.. Если бы встреча со Сталиным состоялась раньше, если бы я, а не высокомерный и многословный Черчилль, имел возможность лично поговорить со Сталиным…»
Однако такая возможность представилась президенту лишь в 1943 году.
Из Тегерана Рузвельт вернулся бодрый, радостный, полный сил, убежденный, что Сталин относится к нему дружелюбно и никакой размолвки между ними произойти не может.
Но вот она произошла. «Нет, нет, в это трудно поверить! — говорил себе президент. — Я помню все, что происходило в Тегеране, помню нашу первую встречу, вижу перед собой Сталина, посетившего меня, слышу его слова…»
О, как он сейчас хотел, чтобы Тегеран повторился, нет, не тот год, когда происходила конференция, — кровопролитная война была в самом разгаре… Нет, он хотел, чтобы повторилось другое… Хотелось вновь прильнуть к источнику взаимного доверия с русскими, перенестись в атмосферу, характеризовавшуюся не только спорами, не только неизбежно возникавшими противоречиями — они были, были! — но прежде всего верой в сплоченность союзников, сознанием, что только она поможет разгромить врага и обеспечить послевоенный мир!..
Глава десятая ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ
Рано утром двадцать седьмого ноября 1943 года «Священная Корова» с президентом Соединенных Штатов на борту вылетела из Каира в Тегеран.
Расстояние — 1310 миль — самолет покрыл за шесть часов пятьдесят пять минут. В 11.30 «Священная Корова» приземлилась на тегеранском аэродроме.
Президента сопровождали семьдесят семь человек; ближайшие советники, эксперты, переводчики, охрана во главе с Майком Рилли и, конечно же, незаменимые филиппинские повара.
Рузвельта пересадили из самолета в машину. Этой процедурой, как и другими, связанными с безопасностью президента, руководил все тот же Майк Рилли, который уже успел побывать в Тегеране за несколько дней до прибытия президента и превратил кварталы, по которым предстояло следовать машине Рузвельта, в вооруженный лагерь с броневиками на перекрестках и шеренгами американских солдат вдоль тротуаров…
— Далеко до нашей миссии? — спросил Рузвельт сидевшего рядом с шофером Майка.
— До нашей?.. — как-то неопределенно переспросил Рилли и наконец ответил: — Да, сэр, довольно далеко. Гораздо дальше, чем до советского и английского посольств, — они расположены по соседству, друг против друга.
Сидевший рядом с Рузвельтом американский посланник в Иране Луис Дрейфус, гостем которого предстояло быть президенту, подтвердил, что англичане и русские, в посольстве которых предполагается проводить Конференцию, находятся в более выгодном территориальном положении, чем американцы.
Посланник не счел нужным упомянуть, что еще накануне американскую миссию посетил Молотов и от имени Сталина предложил, чтобы президент остановился в советском посольстве, — это избавило бы его от необходимости каждый день совершать длительные переезды туда и обратно и к тому же обеспечило бы максимальную безопасность.
Молотов не получил окончательного ответа — Дрейфус, естественно, не мог взять на себя решение этого вопроса.
Однако в душе и Дрейфус, и уже прибывший Гарриман, и ряд других высокопоставленных американцев сочли предложение Сталина весьма благоразумным и, когда Молотов уехал, стали советоваться между собой, как, не ущемляя самолюбия президента, убедить его в том, что Сталин прав.
— Это будет связано с некоторыми неудобствами… — пробурчал Рузвельт в ответ на слова Майка.
— Вот именно, сэр! — с какой-то радостью в голосе откликнулся Рилли.
До американской миссии ехать было и в самом деле довольно далеко. Президент так устал от перелетов и переездов, что, прибыв в миссию, никакими делами заниматься не стал и рано лег спать.
Первым человеком, который явился к нему на следующее утро, когда Рузвельт еще завтракал в постели, был его верный Майк Рилли.
— Я должен вам доложить, господин президент, что немцы сбросили в районе Тегерана несколько десятков своих парашютистов с соответствующим заданием. Правда, большинство из них сотрудники русской секретной службы уже выловили, — сказал Рилли.
— Откуда тебе все это известно?
— От моих друзей из НКВД.
— Ты и в НКВД служишь? — весело спросил Рузвельт.
— Нет, сэр, — по своему обыкновению не принимая шутки, ответил Рилли. — Но они неплохие парни, и мы здесь работаем в полном контакте… Короче говоря: как человек, отвечающий перед богом и страной за вашу безопасность, я считаю, что ежедневные поездки в русское посольство были бы сопряжены для вас с очень большим риском. Мистеру Черчиллю проще — его посольство находится рядом с русским.
— Послушай, — не без раздражения сказал президент, — я считаю, что чрезмерная забота о своей жизни унизительна.
— А я полагаю, сэр, — ответил Рилли, — что было бы нелепо и даже жестоко подвергать опасности американских и русских сотрудников охраны, которые каждый день будут вынуждены рисковать своей жизнью. Вы же видите, что американская миссия на отшибе и гитлеровским бандитам будет не так уж трудно устроить засаду.
— Гм… — пробурчал Рузвельт, — может быть, перенести заседания конференции в американскую миссию?
— Но тогда опасности будут подвергаться Черчилль и Сталин… В протокольном отделе нашей миссии лежит меморандум с предложением русских. Они приглашают вас переселиться к ним. Наш посланник ждет, пока вы его примете, чтобы передать вам это официально. Поскольку заседания будут происходить именно в русском посольстве, вам достаточно будет…
— Для тебя имеет значение, куда именно я переселюсь, к Черчиллю или к Сталину? — прервал Майка Рузвельт.
— Для меня имеет значение только одно: чтобы вы не остались в американской миссии. А куда именно вы переселитесь, решать вам, сэр.
Несколько секунд президент молчал. Потом сердито проговорил:
— Я уже проделал тысячи миль. Ты думаешь, что переезды по городу мне будут не под силу?.. Ведь речь о том, что мне предстоит быть гостем русских, на предварительных переговорах не заходила.
— Есть вещи, сэр, о которых заблаговременно не узнаешь, — с легкой укоризной в голосе заметил Рилли. — Но когда стало известно, что конференция состоится именно в Тегеране, русская служба безопасности выяснила — город наводнен шпионами стран «оси»… Хотя многие из группы, готовившей покушение на вас троих, уже арестованы, будет гораздо разумнее…
— Да, но я уже отклонил аналогичное предложение англичан! — воскликнул Рузвельт. — Принять предложение русских — значит обидеть Черчилля.
— Ходить в соседнее здание для англичан куда безопаснее, чем каждый день ездить в американскую миссию по кривым улочкам, где из-за любого угла можно ожидать пулю или бомбу…
— Кому пришла в голову вся эта затея с переселением? — все еще раздраженно прервал его президент. В душе он не сомневался, что все это проделки Майка Рилли, готового заменить все население Тегерана своими сотрудниками, лишь бы ни одна пылинка не упала на голову Рузвельта.
— Маршалу Сталину, — коротко ответил Рилли.
Да, тогда президент сопротивлялся. Предложение поселиться в чужом посольстве он воспринял как посягательство на его независимость. А то, что предложение исходило от Сталина, вызвало у Рузвельта какое-то тягостное чувство: не слишком ли много берет на себя советский лидер?
Но сейчас, более года спустя, Рузвельт, вспоминая об этом эпизоде, четко осознавал, что это было проявлением особого внимания Сталина, его готовности пожертвовать личными удобствами ради безопасности и облегчения условий работы американского президента.
— Но я не хочу быть гостем кого бы то ни было, пусть даже самого Сталина! — продолжал сопротивляться Рузвельт.
— Судя по всему, маршал предвидел это возражение, — ответил Рилли. — Он специально оговорил, что вы будете пользоваться полной самостоятельностью.
Президент смирился…
На другой день его снова — в который раз! — поразила неистощимость выдумки Майка Рилли. Когда Рузвельта усадили в большую черную машину с американским флагом на радиаторе, он увидел, что вдоль всей улицы стоят американские солдаты.
— Ты полагаешь, что это лучший способ отвлечь внимание немецких диверсантов от моей персоны? — указывая на солдат, спросил он сидевшего рядом с шофером Майка.
Машина, отъехав несколько десятков метров от здания американской миссии, неожиданно остановилась.
— Да, мистер президент, лучший! — не оборачиваясь, ответил Рилли и, высунув руку из окна, сделал какой-то таинственный знак. Почти тотчас же дверца машины открылась, и Рузвельт увидел несколько американских солдат во главе с офицером. Рилли выскочил на тротуар и присоединился к ним.
— В чем дело, Майк? — удивленно спросил президент.
— Мы приехали, сэр! — ответил Рилли. — Не откажите в любезности пересесть в другую машину.
Еще мгновение, и Рузвельта перенесли в «джип» стоявший позади. Рилли сел рядом с офицером-водителем, машина резко свернула в сторону, и перед ней неожиданно возник другой «джип», набитый американскими автоматчиками. Не успел президент опомниться, как обе машины рванули в какой-то переулок и на огромной скорости понеслись в неизвестном направлении.
— Куда мы едем? — теперь уже совсем сбитый с толку, спросил Рузвельт.
— В советское посольство, — ответил Рилли.
— А что же делают те солдаты, выстроившиеся вдоль улицы?
— Они, как и жители Тегерана, радостно приветствуют президента, едущего в черной машине.
— Какого президента?!
— Президента Соединенных Штатов… точнее, моего агента. Его зовут Боб Хомз.
Только теперь Рузвельт все понял. Пока его «джип» мчался по окольной дороге, торжественная процессия двигалась по центральным улицам Тегерана, имитируя президентский кортеж.
…Кажется, был вечер, когда его доставили в советское посольство. Нет, было три часа дня. Президент хорошо помнил, что первое заседание Конференции началось в четыре часа. Да, да, конечно!
Когда Рузвельт расположился в своих апартаментах, он заметил, что стены буквально усеяны кнопками звонков. Гостеприимные хозяева позаботились о том, чтобы президент, сидя в коляске или лежа на кушетке — словом, с любого места — мог вызвать нужного ему человека.
Откинувшись на спинку удобного кресла, Рузвельт взглянул на часы. Он не сомневался: еще минута-другая, и Гарри Гопкинс или американский посланник явятся к нему с докладом.
И действительно, вскоре в дверь кто-то постучал. На пороге стоял все тот же Майк Рилли.
— К вам пришли, сэр! — сказал он каким-то приглушенным и в то же время торжественным тоном.
«Впрочем, — вспоминал теперь Рузвельт, — на тон Майка я тогда не обратил никакого внимания».
— Кто? — спросил президент. — Посланник? Гопкинс?
— Нет, сэр!
— Тогда скажи, чтобы зашли попозже. У меня важные дела. Через час открывается Конференция.
— Боюсь, что это все же важнейшее дело, — еще тише произнес Рилли.
— Говори громче, черт побери! — прикрикнул на него Рузвельт. — Кто там еще пришел?
— Сталин, — чуть слышно ответил Рилли.
Глава одиннадцатая ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
…Что же было дальше? Что?!
Кажется, Рузвельт торопливо сказал:
— Проси, конечно! Что ты стоишь, как истукан?
Зрительно восстановив в памяти эту сцену — именно с нее началось его личное знакомство со Сталиным, — президент стал во всех деталях вспоминать и другие эпизоды, имевшие отношение к России вообще и к Сталину в частности.
Сейчас надо было ответить себе на главный вопрос: как он, Рузвельт, держался тогда, в дни Конференции? Не дал ли повод Сталину заподозрить его в неискренности? «Я должен, должен вспомнить все, — приказал себе президент, — только тогда я смогу написать Сталину достойный ответ».
В эти минуты память Рузвельта походила на прожектор или мощный ручной фонарь, луч которого он направлял туда, в прошлое, освещая то, что свидетельствовало в его пользу, и то, что было против него, отсекая ненужное и случайное в сложных коллизиях Тегеранской конференции.
…Произнеся имя «Сталин!» и услышав в ответ слова президента, Майк Рилли резко отступил в сторону. И тогда Рузвельт увидел советского лидера. Тот стоял в дверях — невысокий, плотно сложенный человек. Волосы у него были слегка рыжеватые, с сединой на висках, усы черные. На нем была военная форма с маршальскими погонами — на фотографиях президенту не раз доводилось видеть Сталина в этой форме.
«Что я сделал в тот момент, когда увидел его?» — напряг память Рузвельт.
И тут же вспомнил, что оперся о подлокотники кресла, — инстинктивное желание встать, давно уже угасшее, на мгновение возникло у него снова. И Сталин, словно стремясь уберечь президента от тягостного ощущения беспомощности, сделал несколько мягких, но быстрых шагов по направлению к креслу, протягивая вперед обе руки.
— Я рад приветствовать вас здесь. Наконец-то мы встретились.
Рузвельт не заметил, как в дверях появился человек в военной форме. Он тотчас же перевел слова Сталина на английский. Он был молод, этот русский переводчик, и по-английски говорил великолепно. Президент сразу же узнал его: в мае сорок второго года он сопровождал Молотова в Вашингтон, фамилия его, кажется, Павлов.
— Это был мой долг — первым посетить вас, — с улыбкой на лице ответил Рузвельт. — Но раз уж так получилось, я хочу прежде всего поблагодарить вас за оказанное гостеприимство.
Сталин внимательно оглядел комнату, точно желая убедиться, что здесь все на месте и в полном порядке. Потом сказал:
— Вы разрешите побыть с вами несколько минут? — У него был мягкий, с легкой хрипотцой, глуховатый, спокойный голос.
— Мое желание видеть вас, маршал, столь велико, что его нельзя измерить ни минутами, ни часами…
«О чем мы говорили во время той первой встречи? — вспоминал сейчас президент. — Русские, конечно, сохранят эту беседу для истории». Павлов делал быстрые, наверное, стенографические заметки в своем блокноте. Рузвельт пожалел тогда, что на встрече не присутствует Чарльз Болен, отлично знающий русский язык. Но приход Сталина был таким внезапным… Болена не успели предупредить. Впрочем, не настаивая на присутствии своего личного переводчика, тогда же подумал президент, он тем самым как бы подчеркивает полное доверие к русским.
Но теперь Рузвельт сожалел, что не распорядился вызвать Болена. Разговор со Сталиным был очень важный, восстановить его в памяти во всех деталях, «выслоить» из последующих переговоров уже за столом Конференции, да и других личных бесед со Сталиным президент был не в состоянии.
«И все-таки: о чем же шла речь, что было главным?» — подхлестывал свою память Рузвельт, направляя ее луч туда, в Тегеран, в особняк советского посольства, в большую, несколько старомодно обставленную комнату.
Он попросил Сталина рассказать о положении на советско-германском фронте. Ответ его президент хорошо помнил. Маршал сказал, что советские войска оставили Житомир, важный железнодорожный узел.
Тот факт, что Сталин начал не с успехов Красной Армии — в сорок третьем году они уже были общеизвестны, — а с неудачи, врезался в память президента. Это произвело тогда на Рузвельта очень благоприятное впечатление: значит, Сталин доверяет ему и расположен к откровенности. Но, пожалуй, еще большее впечатление произвел на президента тон Сталина: никакой драматизации, никакого намерения ни преувеличить, ни преуменьшить значение неудачи на фронте. Казалось, этот человек, какие бы чувства ни владели его душой, обладал способностью говорить о поражениях без демонстративной горечи, а о победах — без тени бахвальства, будто и поражения и победы — нечто само собой разумеющееся, будни войны. Его манера держаться была лишена какого-либо налета салонности, светскости — он говорил с Рузвельтом как со своим коллегой, вовлеченным в ту же сложную работу, требовавшую напряжения всех сил. И еще. Сталин был вежлив, приветлив, доброжелателен. Его, несомненно, радовало, что встреча с президентом наконец состоялась, но никаких чрезмерных эмоций он не выказывал.
Итак, о чем же и в какой последовательности они тогда говорили?
Президент сказал, что намерен отвлечь с советско-германского фронта 30–40 немецких дивизий. Сталин ответил, что «это было бы хорошо». Он вообще был скуп на слова. А потом?
…Рузвельт облокотился на стол, сжал ладонями виски, пытаясь восстановить в памяти все детали беседы. Да, потом они заговорили о проблеме послевоенного распределения торгового флота, и президент сказал, что Соединенные Штаты намерены способствовать тому, чтобы Россия беспрепятственно развивала торговое судоходство.
«Что ж, это было бы неплохо». «Это будет хорошо»… Никаких восторгов, когда Сталин одобрял что-либо, никакой запальчивости, когда против чего-либо возражал… Говорили и о том, что сразу же после войны Советский Союз станет богатейшим источником сырьевых материалов. Рузвельт упомянул свою встречу с Чан Кайши, на что Сталин заметил, что «Чан Кайши вообще плохо дерется».
Потом поговорили о судьбе Индии, о необходимости готовить к самоуправлению народы Бирмы, Малайи, Индокитая и Нидерландской Индии.
Хотел ли Рузвельт своими антиколониальными высказываниями расположить к себе Сталина? Сейчас, наедине со своими воспоминаниями, президент подумал, что и этот момент, очевидно, играл немаловажную роль. Так или иначе он не скрыл тогда от Сталина, что ни в коей мере не сочувствует Черчиллю, опасающемуся, что Англия лишится своих колоний и прежде всего Индии.
Советский маршал спокойно и с едва уловимой иронией заметил, что «конечно, Черчилль вряд ли будет доволен» и что «Индия — это больное место Черчилля».
«Стоп! — мысленно воскликнул президент. — А не заподозрил ли меня тогда Сталин в лицемерии? Не заподозрил ли Америку в том, что она претендует на послевоенное руководство миром, стремится не уничтожить колониализм, а лишь модифицировать его, замаскировать словами о гуманизме?»
«Возможно, я тогда что-то не так сказал!» — с огорчением подумал Рузвельт. Проверить себя он не мог. Записи, которые делал русский переводчик, разумеется, недоступны.
Луч памяти президента беспорядочно заметался в лабиринте тем, фраз, вопросов и ответов. Он как бы потускнел, этот луч, и был уже бессилен высвечивать детали.
Беседа с советским маршалом длилась минут сорок пять. Потом Сталин встал, извинился, что так задержал президента, и напомнил, что по взаимной договоренности в четыре часа предполагается начать первое заседание Конференции. И он не преминул участливо осведомиться, не слишком ли это будет обременительно для президента. Рузвельт ответил, что нет такого бремени, которое он не согласился бы нести ради высоких целей Конференции.
Сталин вежливо поклонился и направился к двери…
Луч погас. Президент снова сидел в своем кабинете в «Маленьком Белом доме», в Уорм-Спрингз. Перед глазами его был пустой письменный стол, на котором едва выделялся маленький бумажный прямоугольник. Марка. Сфинкс. Получеловек-полулев. На протяжении тысячелетий никто не мог разгадать его тайны.
А разгадал ли он, Рузвельт, тайну Сталина? И существовала ли эта тайна вообще, или ее просто придумали? Ведь люди нередко объявляют «мистической тайной» то, чему — из-за недостатка ума или знаний — они не могут дать рационального объяснения…
После возвращения из Тегерана президенту казалось, что для него «тайны Сталина» не существует, что они покорили друг друга, что он, капиталист, пришелец из чуждого, даже враждебного Сталину мира, сумел поладить с коммунистом, потому что был с ним откровенен и сказал ему то, что тот хотел от него услышать…
И вдруг Рузвельт спросил себя: «А то ли?!»
Он снова и снова восстанавливал в своей памяти эпизоды, свидетельствовавшие о благорасположении Сталина к нему…
Войдя в зал Конференции, все считали своим долгом подойти к советскому лидеру и поздороваться с ним, но к коляске президента Сталин подошел сам, едва ее вкатили в зал… И разве тот факт, что Сталин нанес ему визит сразу же после его переезда в советское посольство, не свидетельствовал о том, что маршал не ставил Рузвельта на одну доску с Черчиллем?..
Впрочем, следовало ли придавать какой-то особый смысл тому, что Сталин первым подошел к парализованному президенту? Рузвельт снова вспомнил, что был еще один американец, к которому поспешил Сталин, не дожидаясь, пока тот подойдет к нему, и демонстративно обменялся с ним крепким рукопожатием.
Это был Гарри Гопкинс.
Глава двенадцатая ГАРРИ ГОПКИНС НА ПРОВОДЕ
Конечно, это было чистой случайностью, но в тот момент, когда Рузвельт мысленно произнес имя Гопкинса, в комнату вошла Грэйс Талли.
— Гарри?! — воскликнул президент. — Вы соединились с ним?
— Мы дозвонились, сэр, до директора «Мэйо Клиник». И мы говорили с лечащим врачом. Потом попросили от вашего имени адмирала Макинтайра проверить…
— Ты не можешь короче?
— Гарри провел очень тяжелую ночь. У него были сильные боли. Ему сделали инъекцию снотворного, и сейчас он спит. Врачи говорят, что у них есть, конечно, средства вывести его из сна…
— Нет! — решительно сказал президент. — Он не кролик, и проводить над ним эксперименты я не позволю. Отложим разговор до завтрашнего дня. Если… если этот завтрашний день для него настанет.
Последнюю фразу Рузвельт произнес вполголоса и почти шепотом добавил: «Боже, что я говорю!..»
Талли ушла, и президент снова оказался во власти своих терзаний.
«Да, — думал он, — Гопкинс был первым американцем, посетившим Сталина в самом начале войны. И по возвращении высказал мне свою глубокую уверенность в том, что Россия выстоит и Сталин никогда не пойдет на сепаратный мир… Что же получается? Даже в то время, когда враг рвался к Москве и Ленинграду, Сталин не допускал и мысли о сепаратном мире с врагом. А мы, американцы, накануне окончательного разгрома гитлеровцев полезли к ним с намерением „договориться“ за счет русских. Между тем в Тегеране Сталин верил нам, верил мне до конца!» — убеждал себя президент.
Он ошибался. Сталин симпатизировал Рузвельту, но до конца на него не полагался.
Открытие второго фронта — вот к чему сводился один из узловых вопросов Тегеранской конференции. И если бы в той, первой беседе со Сталиным президент недвусмысленно заявил, что приехал с твердым намерением не допустить новой отсрочки второго фронта, он, возможно, сумел бы завоевать не только расположение, но и большее доверие советского лидера.
Но этого не произошло. Увы, этого не произошло! Рузвельт знал о категорическом решении Черчилля перенести открытие второго фронта на сорок четвертый год. Не о Германии, уже обреченной русскими на разгром, думал он, а о Балканах, до которых армии Сталина еще не дошли.
Премьер-министр Англии и был последовательным империалистом. Да, он ненавидел Гитлера, и это объединяло его с Россией. Но в любой ситуации, в которой он мог чувствовать себя независимым от русских, этот ярый идеолог антисоветизма возвращался «на круги своя» и снова становился тем самым Черчиллем, который вошел в историю как один из главных инициаторов интервенции в России.
У него был единственный критерий «порядочности»: все, что способствует восстановлению могущества Британской империи в довоенном объеме, — это «порядочно».
Рузвельт от претензий на руководство миром тоже никогда не отказывался. И именно поэтому не мог смириться с действиями Черчилля, направленными на достижение господствующего положения в послевоенной Европе. «Схватываясь» с англичанином, он в той или иной форме давал ему понять: максимум, на что может рассчитывать Британия, — это на роль главного управляющего в Европе «по доверенности» Соединенных Штатов Америки.
И все же… И все же в отличие от Черчилля Рузвельт хотел быть «честным капиталистом», хотел править, но не убивать, хотел платить добром за добро. Он был честным в «хрестоматийном» смысле этого слова человеком, но в то же самое время политиканом, не чуждым интриг и демагогии.
…Он сидел сейчас в своем кресле, думая о Тегеране. Луч памяти его выхватывал из сгустившегося тумана времени вопросы, которые обсуждались на Конференции, — о проблематичной возможности привлечь Турцию на сторону антигитлеровской коалиции, о судьбе послевоенной Германии, о репарациях, которые она должна будет выплачивать, об американском плане расчленения Германии на несколько карликовых государств — русские с самого начала были против этого плана, — о необходимости расширения территории новой Польши до реки Одер.
Вопросов было много, очень много, и очередность в обсуждении их не соблюдалась, поскольку не существовало заранее согласованной повестки дня.
Но она, конечно, была, эта «повестка». Ее диктовал ход войны, диктовало сознание, что после победы жизнь не остановится и, следовательно, надо — хотя бы в общих чертах — решать, как жить дальше.
Однако главным вопросом, водоразделом между верностью и коварством, между словесной шелухой и подлинными намерениями, между честностью и лживостью оставался вопрос о втором фронте.
…И вот теперь президент, сидевший в полном одиночестве и не подозревавший, что спустя несколько десятков часов это одиночество станет вечным, продолжал мучительно искать ответ на вопрос: как же все-таки относятся к нему русские? И снова и снова возвращался к мысли: не допустил ли он в Тегеране или — уже совсем недавно — в Ялте роковой ошибки, которую ему никогда не простит Сталин? Не откажется ли советский лидер от своего обещания вступить в войну с Японией? Не вернется ли к своим прежним требованиям, касающимся порядка работы Организации Объединенных Наций, — требованиям, которые Америка не может принять?
Нет, нет, уговаривал себя президент, не допускал я никаких ошибок! И у Сталина нет оснований ненавидеть меня. Разве не я содействовал тому, чтобы балканский вариант Черчилля был отвергнут на Конференции?
…В какое-то мгновение Рузвельту показалось, будто он, председатель Конференции, угодил в бурно кипящий котел с закрытыми клапанами. Отказ Черчилля соблюсти очередной срок открытия второго фронта и его возражения против плана «Оверлорд» привели советского маршала в ярость.
Как правило, на заседаниях Сталин держался совершенно спокойно: зажав в левой руке трубку, он с невозмутимым выражением лица слушал выступления участников Конференции. Иногда рисовал на листке бумаги какие-то узоры или волчьи морды. Но тут он вдруг встал, резко отодвинул кресло и, обращаясь к Молотову и Ворошилову, неожиданно громким голосом воскликнул:
— Идемте! Нам здесь нечего больше делать! — и процедил сквозь зубы: — У нас достаточно дел на фронте!
Рузвельт и Черчилль были не только поражены, но и испуганы. Английский премьер привык к тому, что Сталин внешне почти не реагирует на его нескончаемые высокопарные речи, иногда звучащие, как ультиматум. Президент не сомневался, что, несмотря на все трудности, Конференция придет к положительному финишу… Но тут они увидели разъяренное лицо «сфинкса», львиный оскал.
Рузвельт не помнил в точности, как ему удалось погасить эту вспышку. Он почувствовал тогда, что должен погасить ее во что бы то ни стало… Президент подумал: «Вот стоит готовый покинуть зал руководитель истекающей кровью страны, героического народа, который сражается и побеждает, несмотря на огромные жертвы. И сколько еще их предстоит! А мы обманываем его. Обманываем нашего верного союзника — не одного Сталина, нет, а стоящую за ним армию, обманываем миллионы идущих за ним людей, для которых со словами „второй фронт“ связаны надежды на скорейшее завершение кровавой бойни».
И неожиданно для него самого то, что он считал справедливым как человек и вопреки чему действовал как буржуазный политик, прорвалось наружу…
Нет, наверное, он это сделал не только для того, чтобы предотвратить срыв Конференции, не только для того, чтобы успокоить Сталина. Словно обращаясь к каждому русскому солдату, теперь уже с издевкой произносящему слово «союзнички!», Рузвельт слегка приподнялся, опираясь о подлокотники своего кресла, и сказал во весь голос:
— Мы должны, мы обязаны признать, что могли бы в срок осуществить «Оверлорд», если бы не запутались в операциях на Средиземном море.
Он сделал паузу и еще громче, точно выступая перед большой аудиторией, медленно и весомо произнес:
— Я против оттягивания операции «Оверлорд».
Он вспомнил, какая тишина воцарилась в зале.
Вспомнил, какой взгляд, преисполненный изумления и злобы, бросил на него Черчилль. Как к уху премьера склонился начальник имперского генерального штаба Алан Брук и стал что-то поспешно ему шептать. И Рузвельт тоже услышал шепот: «Может быть, не столь категорично, сэр?..» — это был Гарри Гопкинс.
«Неужели Сталин, когда писал эти письма, забыл, как я поддержал его в Тегеране?!» — с горечью подумал президент, но тут же ответил себе: «А если и не забыл? Какое отношение имеет бернская история или польский вопрос к тому, что в позапрошлом году я поддержал Сталина? Ведь, по существу говоря, я лишь подтвердил тогда то, что было давно уже согласовано между союзниками, то, на что мог и имел право рассчитывать Сталин».
Рузвельт хорошо помнил, как Сталин взглянул на него с некоторым недоумением или, быть может, недоверием. А затем он медленно опустился в свое кресло и сказал, будто ничего не произошло:
— Хорошо… Давайте продолжать.
…Внезапно дверь в комнату, где сидел президент, распахнулась.
На пороге стояла Грэйс Талли. Взглянув на ее раскрасневшееся лицо и горящие глаза, Рузвельт понял: что-то случилось.
— Я… я, простите, мистер президент, я так бежала из коттеджа, где коммутатор… Мне хотелось скорее, как можно скорее…
— Так что же ты медлишь? — воскликнул Рузвельт, которому мгновенно передалось волнение секретаря. — Скажи наконец, в чем дело!
— Я хотела было позвонить вам, но потом подумала, что там, на линии, могут возникнуть помехи… Или он может…
— Да скажи наконец толком! Какая линия, кто может, что может?! — перебил ее президент.
— Гопкинс, сэр, у телефона. Гарри Гопкинс! — не произнесла, а скорее выдохнула Грэйс Талли.
Когда Рузвельт узнал, что Гопкинсу дали сильное снотворное, он решил отложить разговор с ним до следующего дня. А потом, погрузившись в раздумья, уже не вспоминал о своем намерении связаться с «Мэйо Клиник».
Но сейчас слова Талли привели президента в возбуждение, какого он давно не испытывал.
— Где Гарри? — воскликнул Рузвельт.
— Гарри? Но вы же знаете, он в Рочестере, в больнице!
— О господи, я спрашиваю: какой телефон?! Откуда надо говорить? С коммутатора? Приттиман, коляску!
— Приттиман вам не нужен, сэр, и коляска тоже не нужна, — торопливо проговорила Талли. — Вы можете разговаривать отсюда, линия переключена на этот телефон… — Она ткнула пальцем в коричневый аппарат на письменном столе президента. Рузвельт схватил трубку и крикнул срывающимся голосом:
— Гарри? Это ты, Гарри?
В трубке послышался гул.
— Гарри! — нетерпеливо повторил президент, прижимая трубку к уху и чуть ли не касаясь губами микрофона. — Ты слышишь меня?
— Мистер президент! — раздался в трубке мужской голос. Но он был не похож на голос Гопкинса. То ли его так изменила болезнь, то ли это искажение на спецлинии…
— Гарри, это ты? — неуверенно спросил Рузвельт.
— Нет, мистер президент, — послышалось в ответ, — я дежурный врач. Сейчас связь будет переключена на мистера Гопкинса.
— Как же вы посмели разбудить его? — с несвойственной ему резкостью воскликнул Рузвельт.
— Хэлло, мистер президент! — раздалось в трубке.
Теперь ни гул на линии, ни столь нехарактерная для Гопкинса слабость в голосе не могли ввести президента в заблуждение: с ним говорил его любимый помощник.
— Гарри, извини, что потревожил тебя, — взволнованно произнес Рузвельт. — Тебя разбудили? Я ведь категорически запретил…
— Меня разбудил господь бог, а он… не подчиняется… даже президентам.
Да, подумал Рузвельт, Гопкинс пытается острить, чтобы успокоить своего босса, но тем не менее очевидно, что каждое слово дается ему с большим трудом.
— Ты знаешь, у нас с тобой лишь несколько минут. Поэтому говорю коротко. Мне нужен твой совет… Ты слышишь меня? — тревожно спросил президент.
— Слышу, берегите минуты, сэр! — ответил Гопкинс.
— Дело в том… — начал Рузвельт, но Гарри прервал его словами:
— Поздравляю вас с близкой победой. Важнее этого дела ничего быть не может!
Сейчас он говорил чуть громче, чем раньше, и президент с болью в душе представил себе, чего стоят Гопкинсу эти усилия.
— Теперь я слушаю вас. — На этот раз Рузвельт скорее угадал слова Гопкинса, чем разобрал их.
— Гарри, я получил от Сталина два письма, — торопливо, но стараясь говорить очень четко, сказал президент. — Они написаны со сдержанной яростью. Первое касается бернского инцидента. Сталин употребляет в этой связи все мыслимые слова, разве что кроме слова «предательство». Во втором письме содержится упрек, что мы срываем пункты ялтинского соглашения, касающиеся Польши. Я уже не первый день ломаю себе голову над проектами ответа, пытаясь совместить несовместимое: признание и отрицание, готовность погасить конфликт и нежелание ронять свое достоинство. Короче, в чем-то оправдаться, в чем-то обвинить. Но я опасаюсь, Гарри!
— Чего?
— Гнева Сталина… Ведь я привык иметь дело с западными дипломатами и нашими политиканами. А Сталина я знаю фактически очень мало. Боюсь, что в создавшейся ситуации он может взять назад и свое «японское обещание» и свое согласие поддержать идею ООН. А для нас все это жизненно важно… Я хочу знать твое мнение: каким должен быть ответ на его письма? Надо ли мне полностью все отрицать? Или извиниться? Должен ли я выдвигать контробвинения или, напротив, льстить Сталину? Подумай, Гарри, ведь от нашего союза с Россией зависит не только будущее Америки, но и судьба всего мира!..
Рузвельт взглянул на часы.
— Мы говорим уже целых пять минут, Гарри! — испуганно сказал он. — Отвечай, прошу тебя!
— Я не оракул, не дельфийская пифия, — тихо произнес Гопкинс. — Я должен подумать.
— Но у нас нет времени! — воскликнул президент и тут же содрогнулся от мысли, что Гопкинс может истолковать эти слова неправильно.
— Времени у меня больше, чем золота в Форт-Ноксе, — с легко угадываемой усмешкой сказал Гарри.
— И все же я прошу тебя поскорее! Мне нужен какой-то ориентир!
— Хорошо. Я попробую разорваться между вами, мистер президент, и господом богом, которому я, видимо, тоже срочно понадобился. Что вам сказать?.. Вы знаете мое мнение о Сталине — я не считаю его диктатором в том смысле, в каком это слово употребляют херстовские газеты. Но не подлежит сомнению, что власть его велика… О будущем мира он думает не меньше, чем мы с вами, — в этом я твердо убежден… Ваш ответ, по-моему, должен быть сугубо деловым. Никаких эмоций. Директор солидного банка пишет письмо своему самому солидному клиенту — я бы это так определил… Отвяжитесь!
— Что? — удивленно переспросил Рузвельт.
— Это я медикам, которые уже ломятся в дверь палаты. До свидания, мистер президент, а может быть, и прощайте!
Гопкинс умолк.
И снова в трубке раздался энергичный голос врача:
— Простите, мистер президент, но я выполняю свой долг. Пациент провел бессонную ночь…
— Я понимаю, док! — упавшим голосом сказал Рузвельт. — Лечите его! Умоляю, лечите так, как лечили бы меня. Нет, нет, еще лучше!
Некоторое время президент сжимал трубку в руке, сжимал так крепко, что трубка разогрелась. Потом медленно опустил ее на рычаг. Затем восстановил в памяти все, что сказал Гопкинс…
Может быть, не следовало обращаться за советом к тяжелобольному человеку? Почему же Рузвельт все-таки позвонил ему? Президент хорошо знал, почему. Ему нужен был своего рода «допинг». Твердая уверенность, что Гарри всегда сумеет помочь ему, внести четкость или, наоборот, необходимую расплывчатость в любой документ, побудила президента и сейчас обратиться к своему верному помощнику…
На протяжении десяти или пятнадцати минут Рузвельт не только перебирал в уме слова Гопкинса, но и пытался как бы «нарастить мясо» на скелет, который тот «сконструировал»… И постепенно президенту стало казаться, что в конце темного и безвыходного туннеля забрезжил слабый свет.
Итак, никакой лести — судя по всему, «сфинкс» любит, когда его хвалят, но ненавидит сервильные комплименты. Да, конечно, ответ должен быть уважительным и деловым. Гарри прав: так написал бы директор крупного банка тому вкладчику, без капитала которого банк был бы обречен на разорение. Надо обязательно упомянуть, что они сейчас делают общее дело, что их интересы объективно совпадают…
Чего, в сущности, он хочет от Сталина? В первую очередь выполнения «японского обещания». Но ведь «контрольный срок» еще не наступил, а денонсация договора Советов с Японией говорит об очень многом… Что еще его тревожит? Он хочет, чтобы русские не возвращались к своему требованию предоставить голоса для всех шестнадцати советских республик в ООН. Хочет, чтобы они согласились включить в новое польское правительство представителей лондонской эмиграции. И, конечно, необходимо, чтобы война с гитлеровцами продолжалась вплоть до их полного разгрома.
«Вот эти-то мысли, — сказал себе Рузвельт, — и должны быть заключены в моем ответе. И вовсе не обязательно вести со Сталиным спор на предложенной им платформе. Это же азбучная истина политики — принимать бой надо на выгодном тебе плацдарме…»
Президент поспешно вытащил из ящика тот самый лист бумаги; на котором ему до сих пор так и не удалось ничего написать, кроме имени адресата, набросал на этом листке несколько строчек и крикнул:
— Хассетт!
— Вот что, Билл, — сказал Рузвельт появившемуся секретарю, — сейчас ты выбросишь ко всем чертям или в более удобное для тебя место проекты ответа Сталину, которые ты писал. И напишешь новый проект. Он должен быть коротким — не больше десяти — пятнадцати строчек.
— Вы нашли удовлетворительное объяснение «бернскому инциденту?» — вежливо осведомился Хассетт.
— Никаких объяснений не требуется. Надо просто поблагодарить Сталина за искреннее разъяснение советской точки зрения. Понял? И с Берном покончено. Далее, надо выразить твердую уверенность, что ничто уже не будет омрачать наши отношения. И завершающая фраза: мы с нетерпением ждем великого момента, когда наши войска установят контакт в Германии и сольются в едином наступлении. Точка. Подпись. Все. Вот тут я набросал основное, возьми, — сказал Рузвельт, протягивая Хассетту листок бумаги. — И принимайся за дело.
Президент полушутя-полувсерьез перекрестил уходящего Хассетта.
Но дверь, закрывшаяся за секретарем, спустя мгновение снова открылась, и на пороге показалась Грэйс — очевидно, она ждала, пока выйдет Билл.
— Вам письмо, мистер президент, — сказала она, подходя к креслу и протягивая Рузвельту большой конверт из плотной темно-желтой бумаги — в таких обычно пересылаются служебные документы.
Грэйс произнесла эти слова каким-то странным тоном, точно давая понять, что ее здесь нет. При этом она как-то нарочито отводила взгляд и от конверта, который держала в руке, и от самого президента.
Рузвельту, все это время находившемуся в кругу глобальных проблем, меньше всего сейчас хотелось заниматься какими-то, судя по конверту, второстепенными делами.
Он чуть было не пробурчал сердито: «К чему такая срочность?» Он знал, что сообщения особой важности поступали к нему совсем в другом виде.
Но он подумал об этом, когда уже держал конверт в руке, а Грэйс Талли вышла из комнаты.
На конверте не было адреса. И это еще больше удивило и даже разозлило президента.
Без помощи лежавшего на столе ножа для разрезания пакетов он надорвал край плотной бумаги.
В конверте был всего лишь один листок. Но, едва взглянув на написанные чернилами строчки, Рузвельт почувствовал себя так, будто его мгновенно перенесли в другой, счастливо-безмятежный мир. Это был почерк Люси…
«Боже мой, как же это получилось? — мысленно воскликнул президент, еще не читая письма. — Я провел в одиночестве столько времени и даже ни разу не вспомнил о ней!»
И стал читать:
«Фрэнк, дорогой мой! Нельзя так много работать, нельзя! Я понимаю, что уже не могу больше посягать на твое время, я получила от тебя сегодня такой щедрый подарок — прогулку на Пайн-Маунтин.
Уже поздно, и я иду спать, так и не увидев тебя, не пожелав тебе спокойной ночи. Ты многое успел продумать за эти часы? Да? Ты в чем-то сомневался? Не надо! А может быть, чему-то радовался? Или огорчался? Я уверена, что твои замыслы осуществятся, все надежды сбудутся. Я хочу дожить до этого и радоваться вместе с тобой.
А теперь обещай мне — ты сразу же ляжешь спать! Я тоже иду в свой коттедж и постараюсь заснуть как можно скорее. Незаметно наступит „завтра“, и я снова увижу тебя.
Моя мама говорила своей маленькой Люси, отправляя ее в постель: „Good night, sleep tight!“
И я тебе тоже говорю: „Good night, sleep tight!“ Нам предстоит еще много счастливых дней».
…Рузвельт хотел было позвать Грэйс и сказать, чтобы она тотчас же пригласила Люси. Но нет! Об этом, конечно, не могло быть и речи. Все люди в ближайшем окружении президента знали о его отношениях с ней. Но, глубоко уважая Элеонору, они соблюдали своеобразные «правила игры». И, разумеется, о них никогда не забывала Люси. Она вложила свою записку в казенный конверт из толстой бумаги. Она не написала адреса. Она даже не подписалась.
— Спокойной ночи, дорогая, — прошептал Рузвельт. — Sleep tight!
Глава тринадцатая «ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ»
Хорошо выспавшись, президент ощутил такую жажду деятельности, о какой в последнее время мог только мечтать. Еще вчера утром, перебирая в уме все, что ему предстоит сделать, он воспринимал нерешенные дела, как пики, упершиеся остриями в его тело и душу.
Сейчас он думал о них с радостью бойца.
Почему? Может быть, потому, что Гопкинс подсказал ему выход из положения, казавшегося безвыходным. А может быть, просто потому, что вчерашний день завершился нежным письмом Люси… Но так или иначе, чудо свершилось: без помощи врача, без приема лекарств президент почувствовал себя новым, вернее, прежним Рузвельтом, готовым выступить на митинге, прочитать груду документов, мгновенно принять необходимые решения…
Его все радовало! Для него светило в окно яркое солнце — принеся завтрак, Приттиман раскрыл шторы и окна. Для него пели птицы — когда-то Рузвельт увлекался орнитологией и теперь попытался определить, чьи это трели…
«Вперед, вперед! — говорил он себе. — Дел много, и их надо решать — „сбрасывать“ с письменного стола, „разрубать“ быстро, без рефлексии, с ловкостью канадского дровосека».
Позавтракав, президент приступил к чтению прессы — «Нью-Йорк таймс», «Нью-Йорк геральд трибюн», «Балтимор сан», «Вашингтон пост», несколько журналов и две газеты из Атланты уже лежали на прикроватной тумбочке.
Из газет Рузвельт узнал, что Махатма Ганди, которому не так давно исполнилось семьдесят пять лет, дал «обязательство» прожить еще пятьдесят; что Эд Флинн вместе с личным представителем президента в Ватикане Майроном Тэйлором был принят римским папой (отчет о беседе, наверное, уже поступил в государственный департамент, подумал Рузвельт, которого особенно интересовали отношения между Ватиканом и Кремлем); что в возрасте восьмидесяти двух лет умер Ллойд-Джордж.
С большим интересом прочитал президент в «Нью-Йорк таймс» рубрику «Новости из мира марок», из которой узнал, что в Советском Союзе выпущена новая серия марок, прославляющих героизм Красной Армии.
Он вспомнил, что сенатор от штата Вайоминг Джозеф О'Мэхони давно уже ратует за выпуск марок, посвященных американским вооруженным силам, и подумал, что надо поддержать эту идею и сегодня же дать телеграмму министру почт…
С довольной усмешкой Рузвельт стал разглядывать газетные карикатуры. На одной из них был изображен сидящий за письменным столом Гитлер, над головой его висел на тонкой нити тяжелый меч с надписью: «Конец войны»… Другой рисунок: Гитлер, лежащий на брюхе и придавленный огромным земным шаром. Подпись гласила: «Его пасхальное яичко».
Но особое удовольствие доставила президенту третья карикатура: сапог, на голенище которого было написано: «Сталин». Сапог наносил удар под зад японскому милитаристу, а тот, взлетая в воздух и роняя каску, вопил: «А я-то думал, что он меня забыл!»
Однако настроение Рузвельта резко изменилось, когда он увидел заголовок: «Была ли Ялта вторым Мюнхеном?» Сколько уже таких пасквилей прочитал президент, вернувшись из Крыма! Эту статью он решил не читать. Но в газете «Атланта Сентинел» все же пробежал глазами корреспонденцию, тоже посвященную Ялте. На стандартные обвинения в том, что он «продал красным» Чехословакию и Польшу, Рузвельт не обратил никакого внимания — подобные клеветнические измышления печатались почти ежедневно. Но все же подумал: «Хитрые, продажные твари! Они молчали, когда английские войска стреляли в греческих партизан, на протяжении четырех лет сражавшихся с нацистами. Еще бы! Ведь Черчилль стремился восстановить греческую монархию „во имя свободы и демократии“!..»
Рузвельт хотел уже было отбросить газету, но тут взгляд его остановился на заголовке другой, соседней статьи. Она называлась «Голод в Европе». Здесь не было ругани по адресу президента, «преподнесшего Восточную Европу красным». Статья была написана сухо и изобиловала цифрами. В ней говорилось, что у большевиков, стремящихся прибрать к рукам всю Европу, есть союзник не менее мощный, чем самое современное оружие. Это голод, порожденный войной.
Население европейских стран обессилело, утратило волю к сопротивлению. А Россия с ее военной мощью по-прежнему предана идее мировой революции. Следовательно, заключал автор статьи, большевизация Европы неизбежна.
Президент дочитал статью, положил газету поверх одеяла и задумался, глядя в окно.
— Хассетт! — позвал он спустя некоторое время.
Когда появился секретарь, Рузвельт спросил:
— Моргентау встал или еще спит?
— Думаю, что встал, сэр, — ответил Хассетт. — Я видел, как раздвинулись занавески на его окнах.
— Позови его… Погоди! Не забудь, что в час дня ты должен дать мне окончательный текст письма Сталину.
— Но ведь в это время вы будете позировать, сэр!
— Позировать буду я, а не ты! — резко сказал президент. — Как только текст будет готов, принеси его мне, что бы я ни делал и… — он усмехнулся, — что бы со мной ни делали. А теперь позови Моргентау!
Когда минут через десять Генри Моргентау появился в спальне Рузвельта, президент сразу же понял, что его министра финансов только что подняли с постели. Остатки волос на почти лысой голове Моргентау были явно не причесаны, а наспех приглажены рукой, домашние туфли нелепо контрастировали с парадным галстуком-бабочкой, пуговицы сорочки были застегнуты не на те петли.
— Генри, ты еще спал? — спросил президент.
— И не думал, сэр! — ответил Моргентау.
— Тогда садись. Прямо сюда, ко мне на кровать, и прочти это!
Он протянул министру финансов газету, указывая пальцем на статью «Голод в Европе».
Некоторое время в комнате стояла тишина. Рузвельт терпеливо ждал, пока Моргентау закончит чтение. Наконец тот поднял голову.
— Прочитал? — нахмурившись, спросил президент и снял пенсне.
— Да, сэр, — ответил Моргентау и добавил: — Ничего сенсационного. Такие статьи сейчас не редкость.
— Я же тебя не спрашиваю, редкость это или не редкость. Меня интересует другое: как движется твой продовольственный доклад?
Рузвельта уже не первый месяц тревожило продовольственное положение Европы, и он поручил группе финансово-экономических экспертов во главе с Моргентау произвести примерные подсчеты: в каком объеме Соединенные Штаты могли бы оказать продовольственную помощь странам, население которых голодает.
Конечно, далеко не только чистым альтруизмом руководствовался президент, когда давал это поручение. Помощь англичанам? Что ж, пусть Великобритания знает, как американцы относятся к своим «заокеанским кузенам», это никогда не помешает. Но вопрос о континентальной Европе, особенно Восточной, был гораздо более важным. «Большевизации» этих стран Рузвельт опасался не в меньшей степени, чем Черчилль. Но тот в отличие от президента высказывал свои опасения крикливо и беззастенчиво. Более того, британский премьер носился с мыслью вооружить пленные немецкие войска и бросить их на восточный фронт, чтобы преградить путь русским.
Статью в «Атланта Сентинел» Рузвельт воспринял как отголосок его собственных мыслей. Голодные не скрывают своего недовольства. Голодные цепляются за любую надежду. Так создаются предпосылки для большевистской революции или как минимум для создания строя, близкого к большевистскому. Следовательно, оказывая Европе продовольственную помощь, Америка может не только укрепить филантропическую репутацию «Дяди Сэма», но и создать там условия, при которых «западная демократия» восторжествует.
— Доклад, мистер президент, в ближайшие дни будет закончен, — с характерной для него угодливой интонацией ответил Моргентау. — Важнейшими цифрами, правда, пока приблизительными, я уже располагаю.
— Извлеки их, пожалуйста, из своей памяти, если тебя это не очень затруднит, — с усмешкой произнес Рузвельт.
— С большим удовольствием… то есть без большого удовольствия, — поправился Моргентау, — потому что это астрономические цифры.
— Выкладывай! — нетерпеливо перебил его президент.
— Хорошо. Как вы знаете, сейчас мы посылаем в Европу — главным образом в Англию — четырнадцать миллионов тонн продовольствия в год. Вы спросите, сколько еще потребуется Европе? Страшно сказать: не менее пятидесяти миллионов тонн. Вы представляете себе, что это такое?
— Пока еще я считать не разучился, — сухо ответил Рузвельт.
— Конечно, сэр, но мне хотелось бы сделать эту цифру, так сказать, более наглядной. Так вот, — понизив голос, продолжил Моргентау, — речь идет о половине всего количества продовольствия, предусмотренного в настоящее время для гражданского населения нашей страны.
Министр финансов умолк, заметив, какое впечатление произвели его слова на президента.
— Где же ты хочешь вызвать революцию, — не без ехидства спросил Рузвельт, снова надевая свое пенсне, — у нас или в Европе?
— А вы, сэр? — усмехнулся Моргентау.
— Мне не до шуток! — обрезал президент. Министр финансов промолчал.
— Ты говоришь, что это еще не окончательные цифры? — с надеждой в голосе спросил Рузвельт.
— Они станут окончательными в самые ближайшие дни. Из Вашингтона должны поступить кое-какие расчеты и предложения.
— Поторопи экспертов. Для нас это дело огромной важности. Не решив его должным образом, мы бросим Европу в объятия Сталина. В железные объятия… А Европа нужна нам! Помнишь миф о том, как Зевс, приняв облик быка, похитил Европу?.. Теперь Европу должен похитить американский орел, но так, чтобы она этого даже не осознала. И пусть слова «Похищение Европы» будут кодовым названием твоего доклада… И всегда помни, Генри, что выполнение обещаний — это вопрос не только порядочности, но и политики. Ты знаешь, почему русские англичан терпеть не могут, а к нам относятся лучше? И больше нам верят? Я тебе скажу. Помнишь, как года три назад ты пришел ко мне и сказал, что мы отправляем по ленд-лизу в Россию жалкую часть обещанных материалов? Одну из многих цифр я могу тебе назвать. Мы обещали русским 1200 тонн труб. А дали? Не помнишь? Нуль. Что я тебе тогда сказал? Что не хочу брать пример с англичан. Они обещали русским две дивизии, а не дали ни одной. Обещали помочь им на Кавказе. Не помогли… И если впоследствии нам удавалось сохранять приличные отношения с русскими, то только потому, что мы старались выполнять наши обещания. Помнишь, я говорил, что самое страшное будет, если русские не выстоят. Я еще сказал тогда, что предпочел бы потерять Новую Зеландию, Австралию, что угодно, только бы русские выстояли. И тогда я набросал для тебя памятку. Я хорошо ее помню. «Первое: мы должны держать свое слово. Второе: сейчас сопротивление русских для нас — самое важное». Не забывай, это был сорок второй год!..
— Я все это прекрасно помню, — как бы вглядываясь в прошлое, тихо и задумчиво сказал Моргентау. — Ведь уже год спустя поставки промышленного оборудования и материалов в Россию достигли уровня, приближавшегося к нашим обязательствам.
Казалось, проблема продовольствия дала президенту повод высказать его сокровенные мысли об основах, на которых должны строиться отношения Америки с Советским Союзом. Это были высказывания политика-коммерсанта, умеющего представить выгодную для него сделку как благодеяние, оказываемое контрагенту.
— Тогда нам это удалось, — сказал Моргентау. — Наши промышленники боялись, что без американской помощи Россия не выдержит, а Гитлер в конечном итоге доберется и до них. Но теперь эта угроза, к счастью, миновала. Мы побеждаем. И американцы не хотят тратиться…
— Какие американцы? — воскликнул Рузвельт. — Те самые, которые полтора десятилетия назад довели страну до края гибели? Монополии, корпорации, банки? Мне пришлось тогда ввести Новый курс, чтобы спасти Америку! Так вот… Если ты не обеспечишь продовольствия для Европы, — четко, раздельно, как учитель в классе, сказал президент, — я выделю специальные отряды, военные и гражданские, и прикажу им совершить рейды по всем продовольственным складам, по всем продуктовым магазинам крупных городов Америки. Пусть снимут с полок все, что там лежит, и обеспечат тебя в полной мере.
— Вы… шутите, конечно, мистер президент?! — спросил, чуть заикаясь, Моргентау.
— Пока еще шучу. Но если наши монополисты не образумятся, причем в кратчайший срок, то я придумаю что-либо в этом духе.
— Вас проклянет вся деловая Америка!
— Но благословит господь бог!
Немного помолчав, Рузвельт сказал:
— Сейчас, к счастью, не сорок второй год, а сорок пятый. Но принцип «Честная торговля, выполнение обещаний — это политика» остается в силе, обещания надо выполнять или по крайней мере делать вид, что выполняешь! Но делать вид так, чтобы тебе поверили. И поблагодарили… А теперь иди досыпай свое! И пришли ко мне Приттимана, пора вставать.
Глава четырнадцатая «РОССИЯ… ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ ЕЕ ЛУЧШЕ!..»
— Арти, будь другом, помоги феодалу одеться! — сказал Рузвельт своему камердинеру, появившемуся несколько мгновений спустя.
— Что прикажете, сэр, сразу же костюм для позирования? — спросил Приттиман с белозубой улыбкой.
— А который час? Ого, без пяти двенадцать! Плаху уже сколачивают? Палач точит топор? Спасения нет?
— Пока что только вам, сэр, доводилось спасать людей от современной плахи… Я имею в виду электрический стул, — без улыбки проговорил Приттиман.
— Ладно, ладно, — добродушно сказал Рузвельт, — плаха мне теперь не грозит.
— Теперь, сэр? — недоуменно переспросил Приттиман.
— Да, теперь. Гитлер уже явно упустил свой шанс, а от наших куклуксклановцев меня убережет Майк Рилли. Но ты мне не ответил — как там дела на Монмартре?
— Где, сэр?
— Это такое место в Париже, где обычно собираются художники.
— А-а, вы опять шутите, сэр! В гостиной пока еще никого нет, кроме миссис Шуматовой. Она устанавливает свои принадлежности и моет кисточки.
— Отлично. Но время летит. Ты знаешь, мне почему-то кажется, что сегодня оно мчится еще быстрее, чем обычно. У меня даже такое впечатление, будто я ощущаю легкий свист ветра в ушах. С чего бы это?
Рузвельт сидел в кресле, куда его перенес с кровати Приттиман, и наблюдал, как камердинер вынимает из шкафа одежду.
— Давай сюда мой серый камзол, то есть пиджак, красный шарф, то есть галстук, и черную попонку, прости, накидку. Ее я, конечно, надену потом.
Сильными и вместе с тем мягкими, осторожными, но четкими движениями Приттиман одел президента и взялся за стоявшую у окна коляску, чтобы подкатить ее к креслу. Но едва коляска пришла в движение, как раздался отвратительный писк.
— Это еще что такое? — подняв брови, спросил Рузвельт. — Ты наступил на хвост мыши?
Приттиман приоткрыл рот от удивления и испуга.
— Все ясно, лентяй ты эдакий! — добродушно сказал президент. — Колеса плохо смазаны.
— Простите, сэр, ради бога простите, — пробормотал Приттиман. — Вчера вы вернулись прямо к обеду, а потом приказали отвезти вас в дом. Наверное, я забыл…
— Сто лет тому назад тебя послали бы на галеру за такой страшный проступок, — продолжал шутить Рузвельт. — Но теперь всевышний этого не допускает… Впрочем, господь бог не всегда справедлив. Я не совершал подобных преступлений, а он приковал меня к галере на всю жизнь… Ладно, занимайся своим делом, а мне дай газеты и журналы, вон с той тумбочки. Я еще не все прочитал.
— Что интересного пишут, сэр? — спросил Приттиман, снимая колесо с коляски и радуясь поводу отвлечь президента.
— Боже мой, — с притворным удивлением произнес Рузвельт, — ты что, не читаешь газет?
— Читаю, конечно! Очень интересно, когда они ругают вас, сэр!
— Ты с ними согласен? — лукаво спросил президент.
— Я им сочувствую, сэр, — без улыбки ответил камердинер.
— Сочувствуешь? — поднял брови Рузвельт.
— Я всегда сочувствую умалишенным, сэр! Кого боги хотят наказать, того они лишают разума.
— Это верно, конечно, — рассмеялся президент.
— Я читаю газеты после вас. И, как правило, после мистера Хассетта. Но сегодня он занят какой-то важной работой, и я смогу добраться до газет пораньше. Впрочем, может быть, сегодня в них ничего особенного нет?
— Не скажи! Ругани по моему адресу, которую ты так любишь, там предостаточно. Однако… — президент протянул руку к газетам и быстро нашел ту, что искал. — Я тебе кое-что прочту. А ты работай, работай! Хорошо, что ты успел меня одеть. Кстати, в далеком прошлом одевали только королей. Это была торжественная церемония, во время которой король принимал посетителей. А теперь одевают меня. Стало быть, мы катимся назад, к феодализму. Это все козни старого Черчилля… Вот, нашел хорошую ругань. Нет, погоди! Разговоры о том, что в Ялте я продал Европу большевикам, видимо, начинают кое-кому надоедать. Вот! Это редакционная статья в «Нью-Йорк таймс», и называется она «Проблемы победы». Послушай:
«В громозвучную симфонию, под аккомпанемент которой армии Объединенных Наций с триумфом завершают войну в Европе, странным и тягостным диссонансом врываются непрекращающиеся споры, перепалки в резкие, выпадающие из музыкального контекста арии дипломатов. Это вызывает гнев и порождает уныние…» Вот так-то, мой друг Приттиман.
— Это правильные слова, сэр. Я простой человек, но из того, что мне приходилось читать или слушать по радио, даже мне ясно, что вас зря обвиняют в том, что вы отдали большевикам Европу, Польшу, например. Я сам в Польше никогда не был, но у нас в Штатах много поляков. Они покинули свою страну еще до войны — бежали от голода и безработицы. А то, что рассказывают про Болгарию и Румынию, ничуть не лучше… Понятное дело, эти болгары, поляки и румыны не хотят больше голодать и не хотят безработицы. Дядя Джо обещает им другую жизнь. Наверное, многие соглашаются. При чем же тут вы, сэр?
— Об этом можно долго говорить, мой друг, — задумчиво произнес Рузвельт. — Но я тебе лучше прочту еще одну статью… Нет, нет, ты заканчивай со своим колесом, а я тебе почитаю. Это письмо в редакцию журнала «Лайф». Имя автора мне не знакомо. Но вот что он отвечает тебе, послушай!
— Мне?! — с недоумением и чуть ли не с испугом переспросил Приттиман.
— Боишься ку-клукс-клана? Не бойся, твое имя здесь не упоминается… Итак, некий профессор Борджезе против того, чтобы мы сотрудничали с Россией. Он, видимо, расист, ненавидит «азиатов», а заодно наверняка и негров… И обо всем этом он пишет в своей статье. Пишет и о Польше. А читатель Джозеф Эфриз из Чикаго отвечает ему. И отвечает вот что:
«Весьма прискорбно, что профессор Борджезе, вопреки его очевидной эрудиции, не знает, какое время показывают часы мировой истории. Что мы пытались сделать в Тегеране, Думбартон-Оксе, в Ялте? Ответ очевиден для всех, кто подходит к этому без предвзятостей. Наши цели — уничтожение фашизма и милитаризма и создание послевоенной организации для сохранения мира. И все знают, что эти цели могут быть осуществлены только путем тесного сотрудничества трех великих держав.
Поэтому особенно прискорбно, что профессор Борджезе примкнул к числу немногих уцелевших обструкционистов, вытащив на свет старое красное пугало: лавину азиатских орд и призраки Сталина и большевизма.
Он проливает горькие слезы над судьбой Польши. Однако суть польского вопроса вовсе не в том, где именно будут проходить границы. Вопрос сводится вот к чему: возобладает ли аграрная реформа, которая даст землю крестьянам, или возобладают помещики, представляемые лондонской группой. Три великие державы официально зафиксировали свое решение, что у власти в Польше будет стоять избранное народом правительство, которое осуществит вековые мечты польских крестьян о земле. Возможно, что эта программа не по вкусу польским помещикам в Лондоне, но мы все знаем, что времена феодализма уже миновали.
…Давайте же всеми силами способствовать растущему единству и сотрудничеству трех великих держав — на этом единстве зиждутся надежды на мир во всем мире. Джозеф Эфриз, Чикаго, Иллинойс».
Кому читал это письмо президент? Приттиману?.. Нет, он читал его Черчиллю. Он читал его самому себе. Разве не Черчилль был движущей силой, пружиной, под давлением которой разворачивались интриги вокруг «польского вопроса»! И разве не он, Рузвельт, фактически благословлял его на это, пытаясь внутренне оправдать свою позицию тем, что препятствует воцарению безбожного строя в Восточной Европе?
Президент читал письмо вслух, как бы посылая бумеранг на английские острова и забывая, что это древнее оружие имеет обыкновение возвращаться назад.
«И ты прав, и я прав… И так бывает в жизни», — подумал Рузвельт.
— Ну вот, — сказал он, закрывая журнал и бросая его на кровать. — Скоро ты закончишь?!.
— Еще пять минут, сэр, не больше! Можно было, конечно, позвать мастера, но это моя вина, и я должен все сделать сам. Спасибо, что вы не ругаете меня.
— День и ночь я только и делаю, что со всеми ругаюсь. На этот раз решил сделать исключение! — улыбнулся президент. — Подвинь-ка мое кресло ближе к окну… Еще ближе! Так. Хорошо.
Он раздвинул чуть колыхавшиеся от легкого ветерка занавески и, немного подавшись вперед, сказал:
— Какой отличный день! Похож на майский или июньский, только без изнурительной жары. Не понимаю, как люди в такие дни могут умирать…
— А кто умер, сэр? — настороженно спросил Приттиман.
— Ллойд-Джордж. Во время первой мировой войны он был британским премьером.
— В каком же возрасте он умер?
— Ему было восемьдесят два.
— Неплохо! Хотел бы я дожить до такого возраста.
— А ты прикажи себе, и доживешь. Не так уж это трудно. Вот, например, Ганди…
— А это кто, сэр?
— Махатма Ганди. Индиец. В прошлом году ему исполнилось семьдесят пять лет, и газеты сообщают, что он решил прожить еще пятьдесят.
— И проживет? — с удивлением и восхищением в голосе спросил Приттиман.
— Если ему не помешает наш друг Уинстон. Ганди возглавляет борьбу индийцев за независимость. Будь на то воля Черчилля, он сделал бы из него барбекью… В нашем доме все живы-здоровы? — неожиданно меняя тему, спросил Рузвельт.
— Все в полном порядке, сэр, — ответил Приттиман. Он понимал, конечно, что вопрос президента в первую очередь относится к Люси, но стал подробно распространяться о том, чем сейчас заняты Маргарет Сакли, Лора Делано, Луиза Хэкмайстер и Грэйс Талли. И только в конце — как бы между прочим — упомянул, что миссис Разерферд недавно вернулась с купания…
Потом громко объявил:
— Коляска готова, сэр!
— Прекрасно! — сказал президент.
Приттиман бережно пересадил его из кресла в коляску.
Все идет хорошо. Позирование? Ладно, так и быть, «искусство требует жертв». Главное то, что он снова обрел жажду деятельности. Заноза, больно ранившая сердце Рузвельта, почти вынута — сегодня он подпишет ответ Сталину. Послезавтра произнесет речь памяти Джефферсона. Затем поездка в Сан-Франциско на открытие «Дома Добрых Соседей». Потом он отправится в Лондон, чтобы попытаться договориться с Черчиллем о дальнейших отношениях со Сталиным. Затем… В сознании Рузвельта мелькнула мысль: а не поехать ли ему затем в Россию?
Он не раз думал об этом и в довоенные годы, но ни о каких практических планах речи быть не могло — требовалось немало времени, чтобы отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом должным образом «устоялись», чтобы постепенно выявились вопросы, требующие решения на высшем уровне…
Потом война. Да, он побывал один раз в России — в Крыму. Но разве это был подходящий момент, чтобы познакомиться с жизнью этой страны и системой ее управления? Нет, конечно! Если ехать, то через два-три года после окончания войны, когда улягутся волны разбушевавшегося моря.
Интересно, как реагировал бы Сталин, узнав, что Рузвельт собирается к нему в гости? И как реагировал бы, узнав из самых достоверных источников, что поездка в Россию была мечтой президента США еще с начала тридцатых годов?
«Россия… — мысленно произнес Рузвельт, — Россия… Если бы я знал ее лучше!..»
Глава пятнадцатая «МЭДЖИК СООБЩАЕТ…»
В этот момент в дверь постучали. Президент увидел Билла Хассетта. За ним стоял Майк Рилли, откинув полу пиджака и положив руку на кобуру пистолета.
— Готово? — воскликнул президент, решив, что Хассетт принес окончательный текст ответа Сталину, и даже не задавшись вопросом, почему здесь оказался Рилли.
— Почти готово, сэр, — ответил Хассетт, прекрасно понимая, чего ждет Рузвельт. — Я думаю, что через полчаса предоставлю вам полную возможность отругать меня за искажение ваших мыслей. Но сейчас я по другому поводу, сэр. Шифровка из Вашингтона.
И секретарь протянул президенту папку, которую до этого держал в опущенной руке, чуть за спиной — так, что Рузвельт ее даже не заметил.
Еще вчера президент наверняка ощутил бы прилив раздражения при упоминании о любой бумаге из Вашингтона — он не хотел и не мог заниматься чем бы то ни было, кроме «джефферсоновской речи» и «русского вопроса», или, точнее, ответа Сталину.
Но сейчас он спокойно сказал:
— Давай ее сюда.
В папке лежала расшифрованная телеграмма, напечатанная заглавными буквами на узкой полоске бумаги:
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ОТ МАРШАЛЛА.
МЭДЖИК СООБЩАЕТ, ЧТО ЯПОНЦЫ НАМЕРЕНЫ
ПЕРЕБРОСИТЬ БОЛЬШИЕ СОЕДИНЕНИЯ ВОЙСК
ИЗ МАНЬЧЖУРИИ НА ТИХООКЕАНСКИЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
СВЕДЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ ПРОВЕРКЕ, ТАК КАК УСЛОВИЯ ПРИЕМА
БЫЛИ КРАЙНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ.
ПЕРЕХВАТ ЧАСТИЧНО РАСШИФРОВАН, ЧАСТИЧНО РЕКОНСТРУИРОВАН.
ПОСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПОДТВЕРДИМ
ИЛИ ДЕЗАВУИРУЕМ ЭТО СООБЩЕНИЕ.
МАРШАЛЛ.
Все поплыло перед глазами Рузвельта. Голубое, безоблачное небо за окном мгновенно почернело. Угрожающе зашумели деревья. Казалось, откуда-то надвигается смерч, чтобы снести с лица земли «Маленький Белый дом», его обитателей, все вокруг…
«Мэджик» — так называлась специальная дешифровальная машина, сконструированная американцами. С ее помощью они успешно раскрыли код японцев и читали их радиограммы.
Смысл текста не оставлял никаких сомнений. Если японцы решили перебрасывать из Маньчжурии соединения своей мощной Квантунской армии на тихоокеанский театр военных действий, значит, они уверены, что русские не вступят в войну, и в ближайшее же время американцам следует ожидать грозного удара со стороны противника.
— Оставьте меня, — тихо сказал Рузвельт.
— Простите, сэр, но вы не расписались на документе и не вернули его мне.
— Д-да… — рассеянно произнес президент, по-прежнему не отрывая глаз от телеграммы.
И вдруг его осенила спасительная мысль: «Условия приема были крайне неблагоприятными. Сведения не очень точны. Может быть, все это не так. Кто-то ошибся… А может быть, в перехвате все верно — все, кроме самого главного? Может быть, это предумышленная дезинформация — японцы „подбросили“ нам свою радиограмму, чтобы поссорить нас с русскими».
Подняв голову, Рузвельт увидел, что Хассетт протягивает ему свой «паркер». Схватив ручку и с трудом удерживая листок бумаги на подлокотнике коляски, президент написал:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. МАРШАЛЛУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА. СРОЧНО ОСУЩЕСТВИТЕ ПРОВЕРКУ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ. ЖДУ СООБЩЕНИЯ. РУЗВЕЛЬТ».
Писать было неудобно, подлокотник не мог заменить стол, чернила разбрызгивались — президент с силой нажимал на перо.
— Пусть шифровальщики немедленно отправят это Маршаллу, — сказал Рузвельт, передавая листок Хассетту.
Билл и Майк вышли, вернее, выбежали из комнаты. Приттиман исчез еще раньше — сразу же как только понял, что речь идет о государственной тайне.
Некоторое время президент сидел молча…
Неужели денонсация договора с Японией не более чем блеф? Неужели русские оказались предателями? Те самые русские, которые не далее как в прошлом году пошли на большие жертвы: приостановили успешно развивавшееся наступление и перегруппировали свои войска, чтобы помочь союзникам, оказавшимся в катастрофическом положении в Арденнах. И не просто помочь — спасти их от «второго Дюнкерка»!
На обеих конференциях — и в Тегеране и в Ялте — русские обещали вступить в войну с империалистической Японией, страной, коварство которой им так хорошо известно…
Он, Рузвельт, может — пока что бог не лишил его разума! — восстановить в памяти целые абзацы из достигнутого в Ялте «Соглашения трех великих держав по вопросам Дальнего Востока». Эти строчки гласили, гласили… Вот!
И президент, точно вновь оказавшись в Ливадийском дворце, где происходила Конференция, устремил взгляд в пространство и мысленно прочитал:
«Руководители трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании — согласились в том, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии…»
— Так что же происходит теперь? — с горечью спрашивал себя Рузвельт. — Неужели Сталин решил все-таки предать нас, отомстить нам за Берн? Как это сказано в Евангелии от Матфея? «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня».
…Президент был не в состоянии, не в силах ждать результатов проверки. Он позвал Хассетта и велел передать «хозяйке коммутатора» Луизе Хэкмайстер, чтобы та немедленно соединила его по спецлинии с государственным секретарем Стеттиниусом. И тут же распорядился, чтобы его самого доставили на коляске в коттедж, где находился коммутатор.
— Пусть Хэкки сразу же разыщет Эда! — крикнул Рузвельт вдогонку Хассетту.
— Не беспокойтесь, сэр! — ответил секретарь. — Вы же знаете: если человек находится в пределах солнечной системы, Хэкки его найдет без промедления.
— И позови Майка! — сказал президент. Временами у Рузвельта создавалось впечатление, что начальник его личной охраны стоит за дверью и днем и ночью. Так или иначе, стоило президенту позвать Рилли, как тот появлялся перед ним через несколько секунд.
— Вот что, Майк, — сказал Рузвельт, — проследи за тем, чтобы вокруг коммутатора была создана «зона недоступности». Предстоит весьма секретный разговор. Ты знаешь, как я доверяю своим. Но сейчас здесь немало посторонних: Шуматова с фотографом и тройка журналистов, пытающихся следить за каждым моим движением… Я буду говорить прямо с коммутатора. Обеспечь переправку моей колымаги в коттедж Хэкки — вместе с грузом, разумеется, — с горькой усмешкой добавил он, — но так, чтобы это произошло незаметно.
Майк Рилли знал свое дело. Когда коляску с сидевшим в ней президентом переправляли в расположенный неподалеку от «Маленького Белого дома» коттедж, где находился коммутатор, территория, которую предстояло пересечь, казалась вымершей.
На этот раз Луиза Хэкмайстер не встретила Рузвельта в дверях с бокалом коктейля, как это бывало, когда путь президента, отправляющегося на прогулку или возвращающегося в «Маленький Белый дом», пролегал мимо коммутатора.
Предупрежденная о срочности, важности и строгой секретности разговора президента с Вашингтоном, Луиза сидела у пульта, на котором поблескивали лампочки, чернели штекеры и от которого, точно змейки, вились провода, уходившие куда-то в стены. И все-таки она спросила, не снимая наушников и вставляя штекеры в гнезда на панели:
— «Манхэттен», сэр, пока соединимся?
— Какой там к черту «Манхэттен»! — резко оборвал ее Рузвельт, но тут же сказал другим тоном: — Извини, Хэкки, мне сейчас не до коктейлей. Обещаю, что вечером выпью двойную порцию за твое здоровье.
Коляска стояла теперь возле длинного полированного стола, на котором выстроилось в ряд несколько телефонных аппаратов разных цветов.
— Мистера Стеттиниуса ищут, — сказала Хэкмайстер, не поворачиваясь больше к президенту. — Он еще не прибыл в департамент.
— Найти его немедленно! Где угодно. В раю, в аду, в ванной комнате!
— Примерно так я и сказала его секретарю, — ответила Хэкмайстер. И спросила: — Вы разрешите мне присутствовать при разговоре? Я могу, конечно, уйти, но что вы будете делать, если вдруг прервется связь?
— Глупости, Хэкки, я ведь не полетел бы на самолете без пилота!
В этот момент раздался резкий звук зуммера. Луиза схватила трубку зеленого аппарата и механическим голосом телефонистки негромко, но очень четко сказала:
— Здесь президент Соединенных Штатов. Он желает переговорить с мистером Стеттиниусом… Мистер Стеттиниус? Соединяю вас с президентом…
И она легким движением головы указала на красный аппарат, Рузвельт схватил трубку.
— Здравствуй, Эд! — крикнул он.
— Здравствуйте, мистер президент! — раздался в ответ глуховатый голос государственного секретаря.
— Я надеюсь, в твоей берлоге сейчас нет посторонних? — осведомился Рузвельт.
— Я нахожусь в специальной кабине, обитой войлоком.
— Отлично! Слушай, Эд, — сказал президент, стараясь говорить как можно более спокойно, — я получил сегодня от Маршалла шифровку, о которой ты, конечно, знаешь. Что ты думаешь по этому поводу?
— Видите ли, мистер президент, — сказал Стеттиниус, — речь идет о коротком сообщении, которое было передано с Окинавы командованию одного японского крейсера. Условия приема были таковы, что перехват…
— Я все это знаю! — устало прервал его Рузвельт. — Что говорят начальники штабов? Как, по их мнению, следует к этому относиться? Должны ли мы считать, что имеем дело с сообщением, переворачивающим вверх дном все наши планы?
— Именно этот вопрос я задал на совещании начальников штабов, которое закончилось час назад. У них нет полной уверенности в том, что сообщение соответствует истине. Тем не менее мы решили, что вы должны о нем знать.
— Благодарю за доверие, — язвительно заметил президент, — но я не дешифровальная машина, а живой человек и не могу не реагировать на подобную информацию. Что, по-твоему, я должен делать? Обратиться с запросом к Сталину?
— По-моему, это было бы преждевременно.
— А что, по-твоему, своевременно? — раздраженно спросил Рузвельт.
— Такой запрос может его обидеть, сэр, — продолжал Стеттиниус, точно не слыша слов президента, — а у дяди Джо и так уже есть повод обижаться на нас.
— Я еще раз тебя спрашиваю, — ледяным тоном отчеканил Рузвельт, — что, по-твоему, своевременно?
— Мы принимаем срочные меры по линии агентурной и воздушной разведок, чтобы установить истину. У нас есть все основания надеяться, что вы незамедлительно получите данные, на которые можно будет положиться.
— И это все, что ты можешь мне сказать?
— Пока все… Будем надеяться на лучшее.
— Эд, я не мальчик, которого надо утешать после того, как он получил шишку на лбу. Но, откровенно говоря, у меня тоже возникли некоторые сомнения, когда я прочитал эту чертову шифровку. Ведь если она соответствует истине, то это означает, что русские фактически сводят на нет денонсацию договора с Японией, не так ли? А ведь о ней известно всему миру.
— Извините, мистер президент, но вы не можете не знать, что, согласно международному праву, денонсация и разрыв договора — понятия не идентичные. Почти во всех документах такого рода есть пункт, обязывающий сторону, желающую аннулировать или не пролонгировать договор, заранее ставить в известность об этом намерении другую сторону. И Россия должна была предупредить Японию за год. Таким образом, формально договор остается в силе до полуночи 24 апреля 1946 года.
— Значит, еще год…
— Да, еще год, мистер президент… Разумеется, как правило, страна денонсирует тот договор, который хочет ликвидировать. Но в плане чисто юридических категорий Россия и Япония по взаимной договоренности имеют право оставить договор в силе и по истечении годового срока. Я хотел бы подчеркнуть, мистер президент: я вовсе не склонен полагать, что дело обстоит так в данном случае. Иначе неизбежно встал бы вопрос: в чем цель денонсации? Нагнать страху на японцев? Создать у нас иллюзию, что Россия приступает к выполнению своего обещания? Все это слишком мелко для Сталина. Стеттиниус умолк.
— Ты кончил, Эд? — спросил Рузвельт. — Спасибо за интересную лекцию. Я не очень большой специалист по международному праву, но льщу себя надеждой, что не лишен элементов здравого смысла. Предположим, Сталин обманет нас. Что он при этом выиграет? Ведь, разгромив наш тихоокеанский флот, Япония по-прежнему будет висеть дамокловым мечом над Россией.
— Вы правы, сэр… Не полагаясь на перехват, мы принимаем меры для всесторонней проверки.
— Хорошо, — немного помолчав, сказал президент. — Держите меня в курсе дела.
— Да, сэр.
Наступила пауза.
— У меня еще один вопрос, — проговорил Рузвельт неожиданно для самого себя, еще минуту назад он не собирался его задавать.
— Да, мистер президент?
— Ты не встречался в последние дни с мистером Громыко?
— Встречался.
— По чьей инициативе?
— На этот раз инициатива исходила от него.
— Цель?
— Он заявил решительный протест против действий нашего посла в Москве. Гарриман имел неосторожность выступить с критикой ялтинских решений о Польше… Кроме того, было еще несколько вопросов, связанных с выполнением наших обязательств по ленд-лизу.
— Что ты ответил мистеру Громыко?
— Вы же знаете, мистер президент, что в таких случаях отвечают протестующим послам. «Слова мистера Гарримана были не совсем правильно поняты», «мы неукоснительно соблюдаем ялтинские соглашения» и так далее.
— Я думаю, что в разговоре с таким послом, как Громыко, общими фразами не отделаешься. Но сейчас меня больше интересует другое. Не заходила ли речь — прямо или косвенно — о решении Сталина не посылать своего министра иностранных дел в Сан-Франциско? Иными словами, не говорил ли Громыко, что Сталин, возможно, пересмотрит свое решение?
— Нет, — ответил Стеттиниус. — Да и с какой стати советский посол будет об этом говорить? Его, несомненно, радует, что на Конференции в роли министра будет выступать он, и…
— Не мели вздор, Эд! Ты, видимо, плохо представляешь себе менталитет советских послов вообще и мистера Громыко в частности… Ты не сказал, что демонстративное отсутствие советского министра иностранных дел произведет на Конференцию крайне тягостное впечатление?
— У меня не было таких полномочий, сэр, — не без обиды в голосе отозвался Стеттиниус. — Да и к тому же о советской позиции вообще и о позиции мистера Громыко, в частности, вы хорошо осведомлены — вам ведь доводилось с ним говорить.
— Да… доводилось, — задумчиво произнес Рузвельт. — Он, как и всегда, отстаивает позицию Кремля. Какая погода сейчас в Вашингтоне? — неожиданно спросил он.
— Пока от жары не страдаем, сэр. А вы?
— Я страдаю от плохих перехватов и от их ненадежной расшифровки.
— Я вас понял, сэр.
— Хорошо, что у меня такой понятливый государственный секретарь. Это единственное, что меня пока радует. До свидания, Эд!
И Рузвельт протянул трубку, которую Луиза, тут же подхватив, положила на рычаг.
— Все, мистер президент? Можно отключить связь?
— Можно не только отключить связь, но и приготовить бокал «Манхэттена», Хэкки! — с усталой улыбкой сказал Рузвельт.
Привычными движениями она быстро смешала ему коктейль. Президент взял из ее рук бокал и отпил глоток…
— Позвать Приттимана, сэр? — спросила Луиза, ожидая, что Рузвельт, осушив бокал, направится, по своему обыкновению, в «Маленький Белый дом».
— Нет, Хэкки, подожди, — ответил президент. — Я немного посижу здесь. Мне у тебя нравится.
— О, сэр! — воскликнула польщенная телефонистка.
Рузвельт и в самом деле ощущал какую-то атмосферу уюта в этой небольшой комнате, одну из стен которой занимала панель с разноцветными змейками проводов и многодырчатыми углублениями — гнездами для штекеров. Он сам не знал, почему ему так приятно здесь сидеть. Может быть, потому, что он редко бывал в этом коттедже — все телефонные разговоры переключались на «Маленький Белый дом», — и теперь его привлекла непривычность обстановки…
Напряжение и тревога, владевшие президентом, после разговора со Стеттиниусом немного улеглись. Он верил, точнее, хотел верить, что произошла какая-то ошибка и что в самое ближайшее время Вашингтон это подтвердит. Да, конечно, ошибка. Надо успокоиться, расслабиться…
«Что там сейчас в Вашингтоне? — подумал президент и представил себе, какая суматоха поднялась в штабах, в разведке, в государственном департаменте… — А что сейчас делается в Белом доме?»
Рузвельт прикрыл глаза и увидел перед собой Белый дом, Пенсильвания-авеню, Лафаетт-сквер, мемориал Линкольна… Взгляд его скользил все дальше и дальше по хорошо знакомым улицам и вдруг задержался на старинном трехэтажном особняке, окруженном вековыми дубами.
«Так ведь это же Думбартон-Окс!» Да, перед его мысленным взором возник дом, в котором должно было появиться на свет любимое чадо президента — Организация Объединенных Наций. Осенью прошлого года в Думбартон-Оксе происходила Конференция, созванная на основании Декларации четырех государств о всеобщей безопасности, принятой в Москве еще в 1943 году, и разрабатывавшая устав будущей организации.
«Как легко вспыхивают войны, — подумал Рузвельт, — создается впечатление, что иной раз для этого достаточно бывает ничтожного повода. А вот для того, чтобы договориться о послевоенном мире, исключить оружие как средство решения межгосударственных споров, требуются месяцы и даже годы».
Глава шестнадцатая СОВЕТСКИЙ ПОСОЛ В БЕЛОМ ДОМЕ
На первом этапе в Конференции в Думбартон-Оксе участвовали СССР, США и Великобритания. Америку и Англию представляли заместители министров иностранных дел этих стран, а СССР — советский посол в Соединенных Штатах Андрей Громыко.
Конференция шла «со скрипом». Всем ее участникам угрожающе напоминал о себе печальный опыт Лиги наций; ведь задача состояла в том, чтобы создать не «дипломатический клуб», не ристалище для ораторов, не организацию, резолюции которой никого ни к чему не обязывают, а сконструировать сложный механизм, который, не посягая на суверенитет отдельных государств, был бы в состоянии регулировать политические и экономические процессы.
О, Рузвельт хорошо помнил, как его озадачивало чтение стенограмм нескончаемых дискуссий в Думбартон-Оксе, как проходил день за днем, неделя за неделей, а выработка устава будущей Организации продвигалась крайне медленно.
Любимое детище президента рождалось в муках.
Но когда наконец с большей частью организационных вопросов было покончено, Рузвельт узнал, что самому существованию ООН грозит серьезная опасность. Договорившись почти обо всем, участники Конференции неожиданно остановились перед, казалось бы, непреодолимым препятствием.
Государственный секретарь доложил президенту, что Громыко категорически настаивает, чтобы Советский Союз был представлен в ООН шестнадцатью голосами — по числу входящих в него республик, которые, согласно Советской Конституции, имеют право на самостоятельные внешнеполитические связи. Кроме того, советский представитель требует, чтобы в конфликтных ситуациях при голосовании в Совете Безопасности учитывался голос великой державы, непосредственно затронутой конфликтом.
Рузвельт хорошо знал и глубоко уважал советского посла. Он часто встречался с ним и придавал большое значение их продолжительным беседам, ценил возможность обмениваться с ним мнениями по многим вопросам глобальной политики. Интересные и конструктивные мысли, которые высказывал советский посол, никогда не оставляли президента равнодушным. «Food for thought» — «пища для интеллекта», — говорил он после таких встреч. И вот Рузвельт решил снова встретиться с Андреем Громыко.
Он, конечно, понимал, что послы, в том числе и советские, не имеют права принимать решения по кардинальным вопросам межгосударственных отношений, не получив соответствующих указаний от своего правительства.
Но Рузвельт рассчитывал на другое. Он был уверен, что его ум, многолетний политический опыт, способность быть и «львом» и «лисицей», изощренность в полемике помогут ему «покорить» советского дипломата.
Конечно, президент не надеялся, что в результате их встречи Громыко откажется от требований, на которых до этого твердо настаивал. При всех условиях ответ советского посла можно было предвидеть: «Я доложу в Москву о нашей беседе, господин президент».
Нет, цель, которую поставил перед собой Рузвельт, заключалась в другом: добиться того, чтобы посол «внутренне» принял его аргументы. И что же дальше? А дальше можно будет рассчитывать на то, что Громыко напишет в Москву доклад, в котором как бы от себя, но оперируя доводами президента, постарается убедить правительство в необходимости изменить точку зрения, проявить большую гибкость. И при этом даст понять, что в ином случае весь проект создания ООН может пойти «под откос».
И вот он вошел. Человек в темном костюме, черноволосый, со спокойным, сосредоточенным, неулыбчивым лицом. У двери он вежливо попрощался с сопровождавшим его заведующим протокольным отделом государственного департамента — Рузвельт, зная, что Громыко отлично владеет английским, выразил желание, чтобы они разговаривали с глазу на глаз.
Несколько ускоряя шаг, советский посол подошел к письменному столу, за которым сидел Рузвельт.
— Здравствуйте, мистер президент, — сказал Громыко.
Они обменялись рукопожатием, и Рузвельт с улыбкой гостеприимного хозяина указал на кожаное кресло.
— Я рад вас видеть, мой дорогой посол, — подчеркнуто дружелюбно проговорил президент и добавил: — Мы живем в такое время, когда вместо естественного для вежливого человека вопроса: «Как вы поживаете?» я должен спросить: «Как дела на фронте?»
— Трудности есть, но наши военные оценивают общую обстановку как весьма благоприятную для войск коалиции.
Сейчас в президентском кресле сидел не «Рузвельт-лев», а «Рузвельт-лисица». Убежденный в том, что почти все дипломаты честолюбивы, президент доверительно-дружеским тоном как бы давал понять Громыко, что выделяет его среди других послов и что разговор их носит интимный характер. Однако на первый же свой вопрос получил сдержанный ответ. Логически точный, но сдержанный.
Впрочем, не о военных делах думал сейчас Рузвельт. Цель его разговора с Громыко была иной, и посол об этой цели, конечно, догадывался, хотя никак еще этого не проявил. Но ведь разговор только начинается, подумал президент.
— Приятно слышать! — воскликнул он. — Я думаю, что вскоре после того как состоится очередная встреча «Большой тройки», враг испытает на себе новую силу наших согласованных ударов. Как оптимист я уверен, что недалек тот день, когда мир будет праздновать победу. Вы согласны с этим?
— Хочу быть согласным, мистер президент.
«Надо выводить разговор на основное русло», — подумал Рузвельт. И сказал, постукивая своим мундштуком по столу:
— Вам это может показаться парадоксальным, но меня… меня охватывает чувство некоторой тревоги, когда я думаю, что победа уже близка.
Громыко ничего не ответил, только чуть приподнял свои густые брови. Казалось, он подумал: «Что же теперь последует?»
— Вы хотите знать, почему, не так ли? — продолжал Рузвельт, но тут же, точно спохватившись, спросил — Какой коктейль вы предпочитаете, мистер посол? — И он с радушной улыбкой указал на столик с бутылками, бокалами и ведерком со льдом. — Ваш босс, кажется, предпочитает водку, — заметил он. И добавил с легкой усмешкой: — Из патриотических чувств, конечно!
— Насколько мне известно, — ответил Громыко, — он предпочитает легкое вино. Впрочем, наверное, в Тегеране вы сами могли в этом убедиться.
— Легкое вино и тяжелая рука… — многозначительно проговорил Рузвельт. И, немного помолчав, добавил: — Мы, американцы, очень уважаем маршала за его стойкость, решительность и… — он сделал небольшую паузу, — готовность к разумным компромиссам.
— Я позволю себе заметить, — ответил Громыко, — что вы, мистер президент, пользуетесь уважением в моей стране примерно за те же качества… включая готовность к разумным компромиссам.
— Отлично! — сказал, потирая руки, Рузвельт. — Мы, кажется, поняли друг друга. Так вот. Я не случайно сказал, что испытываю чувство тревоги в связи с предстоящим окончанием войны, хотя это и могло прозвучать как парадокс.
— Могло… но не прозвучало, — ответил Громыко, спокойно глядя в глаза Рузвельту.
«Нет, нет! — с досадой подумал президент. — К нему нужен совсем другой подход — салонно-интимный здесь неуместен».
— Видите ли, господин посол, — сказал Рузвельт, переходя с добродушного на серьезно-деловой тон, — я привык иметь дело с профессиональными, или, как мы говорим, карьерными, дипломатами. И все же я предлагаю: давайте поговорим открыто, по-человечески.
— Открытый, человеческий разговор с президентом Соединенных Штатов я и на сей раз почел бы за честь, — подчеркнуто вежливо сказал советский посол.
— Ого! — рассмеялся Рузвельт. — Такую фразу мог бы произнести и западный дипломат…
— С одной лишь разницей, — возразил Громыко, — он мог бы сказать правду и… неправду. Я говорить неправду не научился. И, надо думать, никогда не научусь — этому препятствуют традиции Советского государства и его дипломатии. И, если хотите, — с улыбкой добавил он, — особенности характера.
— Прекрасно! Я расскажу об этом моему государственному секретарю, пусть наши дипломаты перенимают хорошие традиции. Я говорю совершенно серьезно. А теперь о моей тревоге. У каждого человека, мистер Громыко, есть мечта. У порядочного человека своя, у подлеца — своя… Не забудем, была ведь она и у Гитлера. Знаете, какая у меня мечта? Я хочу, чтобы эта война была последней. Я мечтаю о «Доме Добрых Соседей» — так, простите, не без некоторой сентиментальности я окрестил будущую Организацию Объединенных Наций. Вы, конечно, разделяете эту мечту?
— Само собой разумеется. И, что гораздо важнее, ее разделяют Советское правительство и советский народ.
— Рад это слышать. Аналогичную мысль мне высказывал маршал Сталин еще в Тегеране. Так вот, не скрою: я сейчас все время думаю о Думбартон-Оксе. Я был счастлив, когда узнал, что после длительных споров, обсуждения замечаний и редактуры поправок участники Конференции достигли единодушия по таким сложным вопросам, как структура будущей Организации, ее состав, механизм ее деятельности, — впрочем, как непосредственный участник переговоров вы все это знаете лучше меня. Да, для меня это было настоящим праздником, и я даже выпил два бокала моего любимого коктейля. Вместо одного! А вы, я вижу, почти не притрагиваетесь к своему бокалу! — с укоризной сказал Рузвельт.
— Спасибо, мистер президент, я попробовал. Прекрасный коктейль! — ответил Громыко. — Но этого достаточно. Разговор с вами слишком важен.
— Что ж, вы находитесь в свободной стране! — воскликнул Рузвельт и весело улыбнулся, чтобы его собеседник не усмотрел в этой фразе какого-либо политического подтекста. — Демонстрируя мою готовность к разумным компромиссам, я тоже оставлю бокал недопитым… Итак, перейдем к делу, мистер Громыко! Вам не кажется, что требование Советского Союза, чтобы в Организации Объединенных Наций были представлены все шестнадцать республик, носит несколько… как бы это сказать… максималистский характер? У вас нет впечатления, что оно все же выходит за рамки реальных возможностей? Мы называем эту проблему «вопросом Икс» — из опасений, что широкая огласка советского требования неизбежно вызвала бы недовольство в определенных кругах, ведь ни один из наших штатов не будет самостоятельно представлять Америку в ООН.
— Но наше требование предусматривает, что каждая республика будет представлять только себя! — спокойно заметил советский посол.
— Если так, то почему бы и нашим штатам не последовать их примеру?
— Хотя бы потому, что это было бы нарушением вашей конституции, мистер президент, — сказал Громыко таким тоном, словно забота о незыблемости американской конституции была для него самой главной.
— По-моему, вы несколько усложняете вопрос, господин посол, — с некоторой досадой сказал Рузвельт, чувствуя, что намеченный им план разговора себя явно не оправдывает.
— Нет, мистер президент, я вовсе не усложняю его. Он элементарно прост. В нашей Конституции зафиксировано право каждой союзной республики на внешнеполитическую деятельность. И право на самоопределение — вплоть до отделения. Разве есть что-либо аналогичное в американской конституции? Я говорю сейчас о правах штатов. Поверьте, я испытал бы чувство неловкости, если бы не знал во всех деталях конституцию вашей страны.
Громыко произнес все это мягко, уважительно и как бы с единственным намерением развеять недоумение президента.
— Но шестнадцать представителей! — воскликнул Рузвельт.
— Да, звучит это, быть может, и не совсем обычно, — тихо произнес Громыко, — но разве мало в нашей Конституции таких статей, которые звучат не совсем обычно по сравнению с законами других стран? Возьмем, к примеру, право на труд, на бесплатное лечение или бесплатное образование… Да и наша цель сама по себе — создание нового общества — разве она обычна и традиционна для основных законов других стран?
Наступило молчание.
— Ну, хорошо, — проговорил наконец президент, — я все же попытаюсь обсудить эту тему с маршалом Сталиным. Если, конечно, наша встреча состоится. Вы ведь разделяете мнение, что она была бы полезна?
— Вне всякого сомнения.
— Что ж, по крайней мере по одному вопросу мы достигли согласия, — с легкой иронией произнес Рузвельт. — Теперь второй вопрос. Допустим, что та или иная страна, по мнению большинства членов ООН, представляет угрозу миру. Как, по-вашему, логично ли было бы давать такой стране право принимать участие в обсуждении ее действий? Ведь своей категорически-негативной позицией — а она в подобной ситуации неизбежна — такая страна сорвала бы возможность предотвращения войны.
— Я надеюсь, что не обижу вас, мистер президент, если позволю себе задать контрвопрос. Как вы хорошо знаете, в тысяча девятьсот семнадцатом году в России произошла революция. Допустим, что тогда существовала бы ООН именно в том виде, как она вам сейчас представляется. Мой вопрос сводится к следующему: можно ли сомневаться в том, что все державы — участницы интервенции объявили бы русскую революцию угрозой миру? Безусловно, объявили бы! А сама Россия при обсуждении этого вопроса была бы даже лишена права голоса. Что же нам оставалось бы делать в подобной ситуации? Отменить революцию? Или, может быть, надеяться, что «тогдашняя ООН» защитила бы нашу революцию и применила бы санкции против интервентов?.. И позвольте, — добавил Громыко, чувствуя, что Рузвельт пытается найти какие-то контраргументы, — позвольте привести еще один пример, хотя он, конечно, относится к сфере политической фантастики. Предположим, существует воображаемый Совет Безопасности, в который входят представители и фашистской Германии и Советского Союза. И Гитлер получил бы «большинство» при обсуждении вопроса о войне против Советского Союза. Что означало бы такое «голосование», если бы Советский Союз, оказавшийся в «меньшинстве», не имел бы права «вето»? Убийство миллионов советских людей на «законных основаниях» и легализацию мировой войны.
— Это действительно фантастика, — проговорил Рузвельт после некоторой паузы.
— Да, эту оговорку я сделал, мистер президент.
— И все же, — упрямо сказал Рузвельт, — вы требуете для себя особых преимуществ.
— Мы требуем только справедливости и рассчитываем на ваше содействие.
— Мое?! — с неподдельным удивлением воскликнул Рузвельт.
— Нам кажется, что это было бы естественно. Ведь президент Соединенных Штатов — наш союзник, — как нечто само собой разумеющееся, сказал Громыко.
…Что ответил тогда Рузвельт? Кажется, он высказал надежду, что на предстоящей встрече глав стран коалиции можно будет более детально обсудить вопрос о порядке голосования в ООН. И добавил, что был и остается другом России. А Громыко сказал, что акция президента, признавшего Советский Союз, наверняка войдет в историю как пример величайшей государственной мудрости.
Так закончилась эта беседа с Громыко…
«Но ведь потом, в Ялте, Сталин пошел на кое-какие уступки! — убеждал себя Рузвельт. — Да и я тоже. Он согласился ограничить советское представительство в ООН до трех республик, а я принял порядок голосования, на котором так настаивал Громыко. Все завершилось мирно…»
Но сейчас это было слабым утешением. Ведь послание Сталина, извещавшее, что Молотов не поедет в Сан-Франциско, поступило совсем недавно, как и письма о Берне и Польше… И все же они не дают оснований считать, что Сталин готов пойти на разрыв со Штатами, на разрыв с президентом, нет, не дают! Берн? Что ж, Сталина можно понять. Сам Рузвельт тоже пришел бы в ярость, если бы разведка донесла ему о тайных переговорах русских с немцами. Отказ послать Молотова в Сан-Франциско? Естественное следствие обиды и раздражения. Польша? Это уже совсем другое дело…
Вопрос о будущем Польши не сходил с повестки дня Ялтинской конференции. Черчилль шел напролом, требуя, чтобы во главе Польши было поставлено лондонское эмигрантское правительство. Свою очередную громогласную речь он закончил словами, что Англия вступила в войну с Гитлером именно из-за Польши, и поэтому забота о ее будущем — «вопрос чести» для него…
Что ответил Сталин? Он ощерился в своей «тигриной» усмешке, откинулся на спинку стула и, глядя в упор на Черчилля, медленно и весомо, словно вдалбливая каждое слово в массивную голову британского премьера, сказал примерно следующее:
— Так… Значит, для вас Польша — вопрос чести. А вот для нас, господин Черчилль, для нас это вопрос жизни и смерти. Вы поняли меня? На протяжении истории Польша служила коридором для всех атак на Россию с Запада. Мы хотим закрыть наконец этот коридор. Каким образом? Путь только один: обеспечить существование сильной, независимой и дружественной, подчеркиваю это, дружественной нам Польши… — И, уже не скрывая своего сарказма, добавил: — Я знаю, кое-кто зовет меня диктатором. Позволю себе спросить: кто более демократ — тот, кто хочет решить вопрос о границах и о правительстве, предварительно посоветовавшись с поляками, или те, кто, как господин Черчилль, хотят навязать им свое решение здесь, за столом Конференции?..
Слушая Сталина тогда, вспоминая его слова теперь, Рузвельт как бы раздваивался. Он, президент Соединенных Штатов, обычно поддерживал Черчилля, когда речь шла о том, чтобы свести к минимуму влияние Советов на страны Восточной Европы.
Но Рузвельт-человек понимал, что Сталин прав. Именно они, «лондонские поляки», организовывали диверсии в тылу советских и польских войск, сражавшихся с нацистами на территории Польши. Именно они спровоцировали восстание в Варшаве, отдавая себе отчет в том, что взявшиеся за оружие польские патриоты будут скорее всего уничтожены гитлеровцами, намного превосходившими их по численности и по вооружению.
Зачем же «лондонские поляки» на это пошли? Расчет был прост, В случае удачи, пусть шансы были ничтожны, они быстро погрузились бы на английский самолет, прилетели бы в залитую кровью Варшаву и объявили бы себя «законным правительством» Польши…
Понимал ли все это Сталин? Конечно, понимал — это же азбучные истины политики… И тем не менее он согласился на включение «лондонских представителей» в состав будущего польского правительства. Почему? Во имя чего? Во имя единства союзников, конечно.
И на восстановление довоенной «линии Керзона» — восточной границы Польши — Сталин согласился. А когда Черчилль сказал, что его и Идена много критиковали в парламенте за их готовность признать «линию Керзона» в том виде, как она толкуется Советским правительством, Сталин вспылил:
— Не мы устанавливали эту линию. Ее после первой мировой войны установили лорд Керзон и Клемансо. Ленин был против. Что же вы хотите? Чтобы мы, пролив столько крови в этой войне, сделали западную границу нашей страны менее надежной даже по сравнению с той, которой был не удовлетворен Ленин? Уж не считает ли господин Черчилль, что нам следует быть «менее русскими», чем Керзон и Клемансо?
«Логика, железная логика… — мысленно повторял сейчас Рузвельт. У Сталина есть все основания возмущаться англо-американскими интригами вокруг Польши, есть все основания не доверять нам».
И если японцы действительно приступили к переброске своей Квантунской армии, то это значит, что советский лидер решил не выполнять главного своего обещания…
«Нет, напрасно я бился над текстом ответа Сталину, — подумал президент. — Этого человека не заставишь отступиться от принятого решения, как бы искусно ни было составлено письмо. В сложившейся ситуации писать ему бесполезно. Пока речь шла о Берне и о недовольстве Сталина тем, что американский и английский послы действуют вразрез с ялтинскими решениями о Польше, можно еще было надеяться, что Сталина удастся как-то смягчить. Но если он решил взять назад свое „японское обещание“, то трещина между странами превратится в бездонную пропасть, в которой сотни и сотни тысяч американцев найдут свою смерть. Так что же делать, что же делать?!»
В ушах Рузвельта звучали обрывки разговоров с адмиралом Леги, перед глазами мелькали строки из бесчисленных донесений генералов Маршалла и Макартура о положении на тихоокеанском фронте…
И вдруг ему показалось, что он ощущает на себе чей-то взгляд. Упорный, пристальный, осуждающий… Чей? Сталина?.. Нет. Черчилля?.. Нет, это глядел не он. Так кто же? И вдруг откуда-то из пространства до президента донеслись слова:
— Будь они прокляты, эти войны!..
Глава семнадцатая ПРЕДПОСЛЕДНИЙ СЕАНС
Веселый голос Хэкки вывел Рузвельта из горьких раздумий:
— Господин президент, еще бокал «Манхэттена»?
— Нет, Хэкки, спасибо, — сказал, не поднимая головы, Рузвельт. — Сегодня я больше не буду пить. Позови, пожалуйста, Приттимана.
— В спальню, мой друг, — понуро проговорил президент, когда появился камердинер.
— В спальню, сэр? — недоуменно переспросил Приттнман. — Но ведь вас уже давно ждут в гостиной! И миссис Шуматова и все остальные…
«О господи! Этого только мне сейчас не хватало!» — подумал Рузвельт.
И даже мысль, что сейчас он увидит Люси, не избавила его от неприятного чувства. Однако выхода не было — отказаться от сегодняшнего сеанса означало бы растянуть работу Шуматовой еще на один день, а она обещала закончить портрет тринадцатого, то есть послезавтра.
Разочарование и отчаяние наверняка оставили след на его лице. И это заметят кузины и Хассетт, уловит своим профессиональным взглядом художница и, конечно же, в первую очередь почувствует Люси…
Нет, никто не должен видеть его измученным и обессиленным! Забыть! Забыть эту проклятую шифровку! Он президент великой Америки, он прежний Рузвельт, готовый к боям!
Черт побери! Его уже не раз хоронили! Еще в далеком тридцать втором году Луис Хау сообщил будущему президенту, что республиканцы собираются обнародовать заявление о том, что полиомиелит неизбежно поражает мозг. Тогда сразу же было заготовлено опровержение медицинских экспертов. В нем еще говорилось, что полиомиелит перенес Вальтер Скотт, и никаких поражений мозга у знаменитого писателя не было…
Рузвельт расправил плечи и заставил себя улыбнуться. Потом повернулся к Приттиману и, прислушиваясь к звуку собственного голоса, сказал:
— Так и быть! Вези меня на плаху. А потом принеси в гостиную накидку. Я оставил ее в спальне.
Как и в предшествующие дни, все уже были в сборе, когда Приттиман ввез президента в гостиную и пересадил из коляски в кресло. Маргарет Сакли держала в руках вышиванье, Лора Делано перелистывала какую-то книгу, Люси молча сидела на диване, Шуматова возилась со своими кистями, красками и блюдечками.
Встретившись взглядом с Люси, Рузвельт уловил в ее глазах напряженное ожидание и приветливо улыбнулся ей. Затем он обратился к Шуматовой и, стараясь, чтобы голос его звучал весело, сказал:
— Прошу прощения за опоздание. Но, честно говоря, я не виноват: разговаривал с Вашингтоном по телефону.
— Надеюсь, в Белом доме все в порядке? — светским тоном спросила Шуматова.
— В полном порядке, — ответил Рузвельт, чуть скривив губы.
— Как вы себя чувствуете, мистер президент?.. — спросила вдруг Люси.
«Неужели мое лицо все же выдает, что я получил удар в самое сердце? — подумал Рузвельт и тотчас же приказал себе: — Не поддаваться! Никто не должен знать, что душу мою скребут кошки, никто, даже Люси! Нельзя распускаться. Я должен быть в форме!»
— …Как на собственных именинах, Люси, — шутливо ответил президент, хотя на людях очень редко называл ее «Люси».
Приттиман принес накидку и бережно закутал плечи Рузвельта.
— Сегодня я надеюсь покончить с вашим носом, сэр, — сказала Шуматова, — а завтра…
— Покончить с носом? — весело переспросил президент. — Но ведь вы решили назвать картину «Президент в накидке», а не «Президент с носом»?
Шутка пришлась кстати. Все рассмеялись. Кроме Люси. И Рузвельт заметил это…
— Вы сегодня в чудесном настроении, мистер президент, — сказала Шуматова, делая первый мазок. — Хорошие вести из Вашингтона?
— Да, хорошие… очень хорошие, — проговорил Рузвельт, делая над собой огромное усилие. Ему хотелось позвать Приттимана, чтобы тот увез его из гостиной, увез в спальню, на веранду, на кухню, куда угодно. Лишь бы никого не видеть, лишь бы остаться наедине со своими горькими мыслями.
Но нет! Он должен казаться спокойным, довольным, уверенным в себе… Письма Сталина, удар по Конференции в Сан-Франциско и, наконец, это предательство — да, да, предательство! — не сломят волю президента Соединенных Штатов, не повлияют на решимость идти до конца в осуществлении его намерений.
— Господин президент, вы изменили позу! — донесся до Рузвельта неприятно резкий голос художницы.
— Но ведь я живой человек, миссис Шуматова! — с подчеркнутой вежливостью произнес он. — Да вы и сами советовали мне не напрягаться и думать о чем угодно! А теперь хотите, чтобы я превратился в мумию!
— Господин президент, — безапелляционным тоном проговорила художница, — я прекрасно понимаю, что ваш высокий пост не позволяет вам ни на минуту отвлечься от важных мыслей. Но я очень прошу вас войти в мое положение! Я как раз прорабатываю места, где нужно сделать едва заметный светотеневой или цветовой переход. Для этого ваше лицо должно быть живым, как всегда. А вы смотрите так, словно перед вашими глазами возникает какое-то видение, и, я позволю себе сказать, окаменеваете…
«Значит, не получается!.. — с отчаянием подумал Рузвельт. — Значит, мои мысли все же отпечатываются на лице! Неужели я не могу пересилить себя?.. Неужели мне отказывает самообладание? Почему я унываю? Ведь впереди столько возможностей! Еще почти четыре года мне предстоит быть президентом. Через какие-нибудь две недели в Сан-Франциско осуществится моя мечта!..»
— Вот теперь вы думаете о чем-то хорошем! — донесся до Рузвельта голос Шуматовой. — Если не секрет, мистер президент, о чем вы сейчас думаете?
— О России, — с улыбкой ответил Рузвельт и добавил: — Или, если хотите точнее, о встречах со Сталиным.
— Вы, конечно, иронизируете, сэр! — нахмурившись, произнесла Шуматова.
— Почему вы так думаете?
— Никогда не поверю, что воспоминания о встречах с безбожником, диктатором, лишившим миллионы людей состояния, могут быть приятными!
Самоуверенный тон Шуматовой вызвал у Рузвельта сильное раздражение. Ему захотелось поставить ее на место, хотя неприязнь русской эмигрантки к Сталину должна была бы — именно сейчас — найти сочувствие у президента.
— Скажите, миссис Шуматова, неужели в царской России состояние было у миллионов людей? — спросил он.
— Ну… может быть, я несколько преувеличиваю. Но я считаю так: если вас ограбили, то вам довольно безразлично, много ли еще людей пострадало при этом. Я говорю то, что думаю, мистер президент, и не скрою от вас: мне представляется странным, что христианин, руководящий страной, где господствует священный принцип частной собственности, может симпатизировать тому, чье имя связано с разрушением вековых устоев России.
— И ты тоже права, дочь моя, — прищурившись, произнес Рузвельт.
— Что? — недоуменно спросила Шуматова.
— Так. Шутка. Притча о царе Соломоне.
Художнице очень хотелось спросить, при чем тут притча, но она не решилась.
К этому моменту ей удалось сделать главное, то, что в предыдущие сеансы не удавалось, — совместить в портрете президента как бы два образа: лицо открытое, жизнерадостное, даже задорное, знакомое всей Америке, всему миру, и лицо, на которое уже легла глубокая тень прошлого, омраченное невысказанной, затаенной мукой.
Шуматова бросила мимолетный взгляд на Люси — та смотрела на портрет с одобрением. Художница снова посмотрела на президента и с удивлением заметила, что губы его чуть шевелятся. Может быть, это ей только показалось?.. Нет, не показалось. Рузвельт напряженно думал о том, что сказал бы Сталину, если бы он сейчас был рядом с ним…
Шевелящиеся губы президента не давали Шуматовой покоя. «Может быть, он молится?» — мелькнуло у нее в голове. Ведь то, что президент был верующим, знала вся страна. Нет, тут же возразила себе художница, конечно, нет. Вряд ли он стал бы молиться во время столь светского занятия, как позирование. Скорее всего он репетирует очередную речь, которую ему предстоит произнести в ближайшем будущем.
«Что ж, еще несколько мазков, — подумала Шуматова, — и завтра можно будет перейти к накидке». Эта темно-синяя военно-морская накидка доставит ей еще немало хлопот. Складки не должны быть чересчур небрежными, будто накидка помята, но и нельзя, чтобы, они были величественными, точно на тогах древних римлян. Гарвардский галстук не должен быть кричащим, а такая опасность есть, когда красное соседствует с темно-синим…
Неожиданно президент почувствовал, что кто-то прикоснулся к его плечу. Он вздрогнул, повернул голову и увидел Шуматову, подошедшую вплотную к креслу.
— Извините, мистер президент, — сказала она, — я хочу немного поправить ваш галстук. Я обращалась к вам, но вы меня не слышали — видимо, были заняты какими-то важными мыслями… Кстати, мистер президент (если бы она знала, как «некстати» прозвучат ее слова!), вчера вечером я разговаривала с Вашингтоном. С той самой приятельницей, у которой сын на тихоокеанском фронте, — помните, я вам рассказывала? Так вот, художницы в иных случаях бывают могущественнее президентов. Несколько лет тому назад я писала портрет одного генерала. Сейчас он большая «шишка» в Пентагоне. Я посоветовала приятельнице обратиться к нему от моего имени. И, представьте себе, тот обещал помочь…
Она умолкла, увидев, как лицо Рузвельта исказилось легкой гримасой. Гримасой страдания. Сама того не подозревая, она, вопреки всем усилиям президента забыть о Японии, снова вернула его к горьким мыслям.
Рузвельт вдруг почувствовал, будто затылок его пронзила стрела. Острая боль исчезла две-три секунды спустя, но, видимо, он все же сделал какое-то конвульсивное движение, потому что Люси остановила на нем встревоженный взгляд.
— Тебе нездоровится, Фрэнк? — испуганно спросила она, назвав президента по имени.
— Чепуха! — подчеркнуто небрежно воскликнул Рузвельт. — Немного затекла шея.
Он поднял руку, высвободив ее из-под накидки, и сделал несколько массирующих движений под затылком.
— Может быть, прекратим сеанс? — уже спокойно, но все же со следами тревоги в голосе предложила Люси.
— Я немного устал, — тихо, точно стыдясь своей слабости, произнес Рузвельт. — Ничего, если я на несколько минут опущу голову?
— Разумеется, господин президент, — поспешно откликнулась Шуматова. — А я пока буду смешивать краски…
— Может быть, вам все-таки следовало бы отдохнуть? — вмешалась в разговор Люси. — Художники — жестокие люди. С одной стороны, они требуют от натуры, чтобы она была живой и естественной, а с другой…
— Я не хочу отдыхать, — упрямо прервал ее Рузвельт. — Мне надо многое обдумать. А мысли не могут не отражаться на лице. Если же миссис Шуматовой нужна маска, то придется еще некоторое время подождать…
— Что ты такое говоришь, Фрэнк! — разом вскричали кузины президента.
— Не беспокойтесь, — ответил Рузвельт, — я имел в виду вовсе не то, что вы подумали. Хотя… Хотя каждый человек смертен, — добавил он с какой-то покорностью в голосе.
…Президент сидел в кресле, опустив плечи и бессильно склонив голову на грудь, словно не в состоянии совладать с ее тяжестью.
Но в душе его бушевала буря. Он призывал себя к стойкости, к мужеству, повторял, что никому не даст поставить себя на колени, даже Сталину, что двадцать пятого апреля состоится Конференция в Сан-Франциско, как бы ни вели себя русские, что сыны Америки не пожалеют своих жизней и разгромят Японию собственными силами…
Рузвельт почувствовал огромное облегчение, даже радость, когда услышал слова Шуматовой: «На сегодня достаточно, господин президент!» На часы он взглянул уже после того, как Приттиман доставил его в спальню и усадил в кресло.
На мгновение у него мелькнула мысль, что надо пригласить Люси. Она, наверное, обижена: в течение всего сеанса он был так занят своими мыслями, что почти не обращал на нее внимания. Но тут же он подумал, что пригласить Люси в спальню и остаться с ней наедине нельзя. Это было бы недопустимым нарушением этикета.
Но если бы президент и послал кого-нибудь за Люси, ее не нашли бы ни в коттедже, ни в «Маленьком Белом доме».
В эту минуту она переступала порог другого дома — того, в котором жил Говард Брюнн.
Люси пошла туда, заранее придумав правдоподобное объяснение — на тот случай, если встретит по дороге кого-либо из обитателей «Маленького Белого дома». Она скажет, что ей нужны капли or насморка. Но ей даже не пришлось воспользоваться этим предлогом — Люси никого не встретила, а охранники знали, что для нее никаких запретов не существует.
И вот она нажала кнопку звонка справа от дощатой двери коттеджа, и почти тотчас же на пороге появился доктор Брюнн в своей военно-морской форме.
— Миссис Разерферд? — несколько удивленно произнес он, увидев Люси, и тут же, отступив на шаг, сказал: — Прошу вас!
Когда Люси переступила порог, он закрыл дверь и спросил:
— Что привело вас ко мне? Вы себя плохо чувствуете?
Брюнн держался очень почтительно. Как и все окружение президента, он хорошо знал, какую роль играет эта женщина в жизни Рузвельта, но, придерживаясь установленных правил игры, не показывал и вида, что ему об этом известно.
Он проводил Люси в свой крошечный кабинет, усадил на один из стульев, стоявших у письменного стола, а сам сел напротив.
— Итак, миссис Разерферд, чем я могу вам помочь? — подчеркнуто внимательно спросил Брюнн и вдруг увидел, что ее большие глаза, всегда такие веселые и приветливые, наполнились слезами.
Однако он сделал вид, что не заметил этого, и, слегка подавшись вперед, ждал, что скажет Люси.
Наконец она произнесла тихо, точно опасаясь, что ее может услышать кто-нибудь, кроме Брюнна:
— Я… боюсь, доктор.
— Боитесь? — удивленно приподнял брови молодой врач. — Но чего же?
— Я боюсь… за президента. Сегодня во время сеанса он выглядел так, как… никогда.
— Как никогда? — переспросил Брюнн. — Что вы хотите этим сказать?
— Не знаю… Не знаю, доктор. Но он… не мог держать голову. Будто она чересчур тяжелая. Правда, собравшись с силами, он снова поднимал ее. Но ненадолго. И все же дело не в этом…
— А в чем же? — теперь уже встревоженно спросил Брюнн.
— Не знаю, — повторила Люси и, немного помолчав, еле слышно, точно страшась собственных слов, добавила: — В нем произошла какая-то перемена…
— Но в чем она выражается, в чем? Утром я, как обычно, осматривал его и не нашел никакого ухудшения по сравнению с предыдущими днями.
Теперь Брюнн говорил так, будто оправдывался. Ведь он отвечал здесь, в Уорм-Спрингз, за здоровье президента, за его жизнь.
— Нет, нет, — настойчиво, даже упрямо проговорила Люси, — он изменился! Даже по сравнению со вчерашним днем. Я уже привыкла к тому, что он так похудел, привыкла видеть глубокие морщины на его лице, но духом он всегда был молод, я это твердо знаю. А сегодня…
Она вдруг умолкла, точно испугавшись своих слов.
— Так что же было сегодня? — нетерпеливо спросил Брюнн.
— Доктор, простите меня, — проговорила Люси задыхаясь, казалось, каждое слово дается ей с трудом. — Я не врач, и мне трудно дать какое-то четкое определение… Но у меня все время было ощущение, что он здесь и в то же время не здесь… что он все время… как бы это точнее сказать… куда-то уходит!..
Ничего, в сущности, не произошло, подумал Брюнн. Если бы у президента был очередной пароксизм кашля или приступ тошноты, если бы он, не дай бог, потерял хоть на миг сознание… Тогда следовало бы, прервав разговор, броситься в «Маленький Белый дом». Но, судя по словам Люси, никаких тревожных симптомов не было. Она говорит что-то невразумительное о своих чисто эмоциональных впечатлениях, о неопределенных опасениях. Для врача это не может иметь существенного значения.
— Доктор, я прошу вас, я заклинаю вас, скажите мне правду! — срывающимся от волнения голосом воскликнула Люси. — Я знаю, что состояние здоровья президента — государственная тайна…
— Вы несколько преувеличиваете, миссис Разерферд, — улыбнулся Брюнн.
Но, казалось, Люси даже не слышала его слов.
— Я помню, что писали газеты после возвращения президента из Тегерана, особенно враждебные газеты. Они утверждали, что он впадает в немощь, что у него тромбоз, кровоизлияние в мозг, что-то с аортой… Я не в силах запомнить эти медицинские термины. Но знаю, что все оказалось ложью, было лишь частью кампании, которую вели, да и сейчас ведут против него враги. Я знала, что у президента далеко идущие планы. Ведь вопреки всем этим инсинуациям он нашел в себе силы поехать в Ялту… Вчера мы провели с ним два часа, и я снова убедилась, что его дух, его воля не сломлены… Но сегодня…
Она произнесла все это быстро, почти скороговоркой и вдруг умолкла, точно кто-то зажал ей рот.
— Миссис Разерферд, вы напрасно волнуетесь, — сказал Брюнн мягким тоном, каким врач говорит с очень мнительным человеком. — Поверьте, я с вами совершенно откровенен. Вы знаете, что я отвечаю здесь за здоровье президента. И должен вам сказать, что ничего опасного… никакой непосредственной угрозы мы не видим, — ни адмирал Макинтайр, ни я. Конечно, физическое состояние президента оставляет желать лучшего, но мы, врачи, полагаемся прежде всего на объективный анамнез. А объективные данные таковы: нормальная температура, более или менее нормальное кровяное давление, никаких серьезных изменений на кардиограмме, функции почек, печени, зеркало крови — в пределах нормы. Не буду скрывать от вас, что некоторые симптомы нас, врачей, немного беспокоят. Президент теряет в весе, у него явные признаки артериосклероза, хотя это, вообще говоря, естественно для человека его возраста… В прошлом году, как вы, конечно, знаете, он перенес очень тяжелый грипп, осложнившийся бронхитом и воспалением синусовых пазух. К тому же президент продолжает курить, что ему абсолютно противопоказано. Если бы вам удалось убедить его отказаться от этой губительной привычки!.. И, наконец, он крайне переутомлен. Короче говоря, я вовсе не утверждаю, что президент совершенно здоров. Но в его состоянии нет ничего такого, что можно было бы назвать… — Брюнн замолк, подбирая нужное слово, и сказал: —…роковым. А ведь вас беспокоит именно это, если говорить откровенно? Не так ли, миссис Разерферд?
Пока Брюнн говорил, Люси, подавшись вперед, напряженно слушала его, боясь пропустить хоть слово. Когда врач умолк, она, опустив глаза, спросила:
— Но ведь бывает так, что человек, чья жизнь неразрывно связана с жизнью другого человека, видит, чувствует нечто такое, что еще не показывают ни анализы, ни кардиограммы…
— Миссис Разерферд, — строго сказал Брюнн, — я прошу вас, более того, я требую как врач, чтобы вы взяли себя в руки. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы президенту передалась ваша тревога. Он находится в состоянии стресса, и это немудрено на фоне травли, которой он подвергается в связи с ялтинскими решениями. Излишняя тревога и в самом деле губительно сказалась бы на его состоянии.
— Иными словами, мое присутствие здесь… — начала было Люси, но Брюнн прервал ее:
— Боже сохрани!
В его возгласе прозвучал даже некоторый испуг. Он подумал, что эта женщина, которая сама находится в состоянии тяжелого стресса, под влиянием его слов может вдруг покинуть Уорм-Спрингз, уехать отсюда из любви к Рузвельту… Но что будет с ним, Брюнном, если это произойдет и президенту станет известна роль, которую он невольно сыграл в отъезде Люси?!
— Боже сохрани! — повторил он. — Ни в коем случае! Вы не можете не сознавать, что ваше присутствие — источник величайшей радости для него. Без вас он уйдет с головой в дела, в бумаги, которые ему ежедневно доставляют из Вашингтона… Значит, мы договорились: ни в коем случае! Вы обещаете мне, да?..
Когда Люси вышла из комнаты, Говард Брюнн некоторое время сидел неподвижно, затем резко встал и принялся поспешно упаковывать свой докторский саквояж.
Глава восемнадцатая «ДЖЕФФЕРСОНОВСКАЯ РЕЧЬ»
Рузвельт сидел в своем кресле и думал о шифровке Маршалла, когда совершенно неожиданно появился доктор Брюнн. Президент резко сказал ему, что чувствует себя отлично и никакой необходимости во «внеплановом» осмотре не видит…
Мозг его сверлила мысль: «Русские не помогут!» Но постепенно эта мысль как бы распадалась на множество других, превращалась в десятки жалящих, как осы, вопросов, и Рузвельт не мог найти на них ответа.
Он сидел около окна. Ветер раскачивал ветки клена у стены коттеджа, и время от времени они касались стекла, точно пытаясь проникнуть в комнату.
«Хотел бы я знать, когда именно Сталин изменил свое решение помочь нам в войне с Японией? — вновь и вновь спрашивал себя президент. — Вскоре после моего отъезда из Ялты? Или после того, как узнал о Берне? Или когда ему доложили о высказываниях американского и английского послов по польскому вопросу?»
Подсознательно Рузвельт хотел разжечь в себе злобу по отношению к советскому лидеру. Это помогло бы ему объяснить поступок Сталина только его коварством и двуличием, а не закономерной реакцией на антисоветские действия западных союзников после Ялтинской конференции. Один вопрос сменялся в сознании президента другим:
«А может быть, русский диктатор вовсе и не намеревался нам помочь? Может быть, его обещание было лишь искусным маневром, чтобы заставить нас пойти на уступки в определении послевоенной судьбы Восточной Европы и в польском вопросе в частности?..
Но ведь обещание Сталина — нет, обязательство! — было не только словесным. Разве в „Протоколе работы Крымской Конференции“ не было раздела, озаглавленного „Соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока“, и разве этот раздел не начинался заявлением, в котором черным по белому было записано, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии? Более того, разве Сталин не сказал мне, — вспоминал Рузвельт, — что уже в ближайшее время перебросит на Дальний Восток двадцать — двадцать пять своих дивизий?
Но японцы, конечно, не стали бы выводить из Маньчжурии Квантунскую армию, если бы знали, что переброска советских дивизий произошла или происходит! А утаить от японцев передвижение такого количества войск было бы невозможно, их разведка, конечно, не бездействует».
Листы документов — «Коммюнике о Конференции руководителей трех союзных держав» и «Протокола», секретного приложения к «Коммюнике», — замаячили перед мысленным взором президента… «Коммюнике» подписал сначала Черчилль, потом он, Рузвельт, а затем Сталин. Соглашение по Дальнему Востоку первым подписал Сталин, вторым — он, третьим — Черчилль.
Президент вспомнил, как подписывался «Протокол». Секретность этого документа была столь велика, что главы делегаций подписали его не за столом Конференции, а уже после ее официального закрытия, и присутствовали при этом очень немногие…
И вот Сталин нарушил свое обещание. Проклятый византиец, бездушный сфинкс!.. Зачем тогда вообще была нужна эта встреча, ради чего он, Рузвельт, отправился в такую даль? Во имя чего столько раз пытался примирить Черчилля с русским правителем? Зачем спасал Конференцию, когда она оказывалась на грани срыва? Зачем провозглашал хвалебные тосты в честь советского лидера на многочисленных ленчах и обедах?
Неожиданно кто-то постучал в дверь, прервав поток мыслей президента. Рузвельт почувствовал облегчение, ему было бы приятно услышать звук человеческого голоса — все, что угодно, только бы оторваться от горьких размышлений.
— Войдите! — крикнул президент и, когда дверь открылась, увидел на пороге Моргентау с папкой в руке. — Иди сюда, Генри! Что у тебя там в папке? Опять что-нибудь из Вашингтона?
— Нет, сэр, это проект вашей «джефферсоновской речи».
— Но… но ведь я договорился о поправках с Хассеттом! Неужели он ничего не сделал и перевалил работу на тебя?
— Нет, он сделал все, что мог, — ответил Моргентау. — И попросил меня ознакомиться с текстом. У вас есть какие-нибудь возражения, сэр?
— Оставь политес, Генри! Я дал бы речь на просмотр самому Сталину, если бы он помог мне выразить в ней то, что я хочу.
— Очень сомневаюсь, что он захотел бы вам помочь, — сказал Моргентау. — Думаю, что у вас с ним диаметрально противоположные цели.
— Ты полагаешь, что он зол на меня из-за этой проклятой бернской истории?
Это был, так сказать, «психологический тест». Моргентау ничего не знал о сверхсекретной шифровке из Вашингтона, и Рузвельту хотелось проверить, как позиция Сталина воспринимается «со стороны».
— Конечно, большой радости эта история ему не доставила. Но я хочу сказать, что у вас с ним вообще разные цели.
— Я империалист, а он коммунист? Ты про это?.. — с иронией в голосе спросил президент. И, махнув рукой, добавил: — Брось, Генри, эта аргументация мне уже надоела. Допустим, я ангел, а он исчадие ада. Все равно мы можем мирно сосуществовать. Ведь бог и черт — антиподы, но даже они сосуществуют с незапамятных времен, хотя каждый стремится завоевать как можно больше человеческих душ. Ладно, оставим это!.. У тебя есть какие-нибудь предложения по проекту речи?
— Сэр, я редко перечу вам, и, как вы знаете, многие меня за это осуждают. Преданность они принимают за подхалимство.
— Не обращай на них внимания!.. Что же тебе не нравится в речи?
— Ее… как бы это сказать… — замялся Моргентау, — ее… утопичность.
Президент нахмурился.
— Это что-то новое, — недовольно проговорил он. — Такого я еще не слышал.
— Между тем это так. Речь была утопична по самому замыслу. А после того, как Хассетт внес поправки, которые вы ему велели сделать, эта утопичность стала еще более явной.
— Почему?! — вдруг взорвался Рузвельт. — Ты понимаешь, что у меня нет времени переписывать речь заново? Послезавтра я должен ее произнести!
Моргентау присел на край кресла, стоявшего рядом с коляской президента, раскрыл папку и, тяжело вздохнув, сказал:
— В своей речи вы делаете упор именно на то, о чем вы сейчас говорили, — на якобы присущую людям способность мирно сосуществовать и сотрудничать. Однако на протяжении тысячелетий факты этого не подтверждали.
— Во-первых, все войны прошлого начинались не народами, а их правителями, — возразил Рузвельт. — Во-вторых, целью войн всегда был захват чужих земель. Эту цель преследовали даже крестовые походы, самые, так сказать, «идейные» войны минувших столетий… Теперь ответь мне на вопрос: почему правители не могут договориться между собой, если история учит, что война, ведущая к захвату чужих земель, неизбежно порождает новую войну — за восстановление справедливости? А стремление поработить весь мир ведет к гибели того, кто задается такой целью. В наши дни за примерами далеко ходить не нужно… Теперь насчет империалистов и коммунистов. Разве союз между Англией и Америкой, с одной стороны, и Россией — с другой, оказался невозможным? Разве он не принес благих результатов?
— Это всего лишь формальный союз.
— Ты глубоко заблуждаешься!
— Я хочу сказать, что западные союзники и русские преследовали и преследуют противоположные цели, — упорствовал Моргентау.
— Стремление разгромить фашизм — это, по-твоему, не единая цель?
— Да, но стремление во имя чего? Вот в чем вопрос.
— Нелепый вопрос! Русские защищают свою страну, англичане — свою. А мы понимаем, что если бы Гитлер завоевал Европу, то вслед за этим наступил бы наш черед.
— Все это правильно, мистер президент, — согласился Моргентау, — но позвольте дать более широкое толкование целей всех трех держав. Россия стремится подчинить себе соседние государства и насадить там коммунизм. Англия хочет сохранить империю или даже раздвинуть ее рамки. А мы… мы хотим руководить миром, пусть бескровно.
— То, что я называю руководством, — ответил Рузвельт, — естественно вытекает из того факта, что мы самая демократическая страна в мире, что скоро все у нас будут сыты, одеты и обуты. Сейфы Форт-Нокса будут ломиться от золота, наши бизнесмены развернут широкую и выгодную торговлю с Западом и Востоком. И если другие страны и народы пойдут в нашем «фарватере», то я, конечно, за такое руководство.
— Но коммунисты, которые после войны будут голодны и раздеты, могут — в соответствии со своей идеологией — предпринять шаги, не имеющие ничего общего с тем, что вы, мистер президент, называете нашим «фарватером».
Странный процесс происходил в эти минуты в сознании Рузвельта. Казалось бы, любое высказывание против коммунизма, против Сталина должно было органически вплетаться в одолевавшие его горькие мысли. Если бы кто-нибудь в разговоре с ним попытался прямо или косвенно оправдывать поведение русского лидера, то он, президент, обрушил бы на собеседника всю свою горечь, весь заряд владевшей им неприязни к Сталину. Но стереотипные, бессмысленные и за долгие годы осточертевшие Рузвельту нападки на коммунизм не могли не вызвать у него чувства протеста.
— Ты что, поступил на работу к Черчиллю? — раздраженно спросил президент.
— И все же, — вежливо улыбнувшись, сказал Моргентау, — на вашем месте я сделал бы основной мыслью прославление американской демократии и частного предпринимательства… Вы меня понимаете. Нужна ударная фраза… Скажем: «Каждому американцу — собственный дом!»
— Странно, что в четвертый раз президентом избрали не тебя, а меня, — саркастически заметил Рузвельт. — Но раз уж так получилось, не откажи в любезности включить в речь главное положение: «Если мы хотим уцелеть, не только мы, а цивилизация вообще, мы должны развивать способность всех людей на земле мирно сосуществовать». И не упускай из виду, что речь посвящена Джефферсону потому, что он был творцом Декларации Независимости.
— Боюсь, что в таком виде ваше выступление не будет благоприятно встречено американской общественностью, — печально покачал головой Моргентау.
— Что ты подразумеваешь под словом «общественность»?
— Конечно же, не какую-то аморфную массу, а совершенно конкретные организации. Ведь в некоторых из них засели ваши злейшие враги…
— Ладно, Генри, иди, работай. У нас остается очень мало времени.
Из-за двери, которую неплотно закрыл за собой Моргентау, доносились голоса кузин, звон кухонной посуды.
Тягостные мысли, отступившие было во время разговора о «джефферсоновской речи», снова устремились в атаку. Рузвельт уже думал не о предстоящем выступлении, а о том, что на Ялтинской конференции его обманули…
«Но как же это все-таки произошло? — спрашивал он себя. — Как я мог настолько поддаться обаянию этого византийца, что стал считать его своим… если не другом, то, во всяком случае, доброжелателем, готовым крепить союз с Америкой и после разгрома гитлеровской Германии?»
И опять ему захотелось остановить время, вернуть назад стрелку часов Истории, а потом, как киноленту, «прокрутить» снова и, уже зная трагический конец, уловить тот момент, когда коллизия только зарождалась…
«Сталин заманил меня в ловушку, да, в ловушку!» — повторял про себя президент… Но тут же вспоминалось другое. Письма и телеграммы, которые он, Рузвельт, посылал Черчиллю и Сталину, настаивая на безотлагательной встрече «Большой тройки».
«Зачем? Зачем я так настаивал на этой Конференции? — снова и снова спрашивал себя президент. — Может быть, гораздо разумнее было бы не стремиться к встрече „Большой тройки“, избегать обсуждения болезненных вопросов послевоенного устройства Восточной Европы. Второй фронт был уже открыт. Красная Армия и армии западных союзников неуклонно двигались навстречу друг другу… Зачем же нужна была встреча?»
Но в эти минуты Рузвельт кривил душой. Он, конечно, не мог не помнить, что главная его цель состояла в том, чтобы заручиться твердым, «запротоколированным» обещанием Сталина вступить в войну с Японией, помочь Америке. И разве ради этой цели не стоило отправиться в такую даль?
Впрочем, президент сделал все от него зависящее, чтобы встреча состоялась где-нибудь поближе. Вместе с Черчиллем он поочередно предлагал советскому лидеру встретиться в Шотландии, на Мальте, в Афинах, в Риме, в Сицилии, в Египте, но каждый раз встречал вежливый, но твердый отказ: Сталин, руководящий военными операциями, ни на один день не может покинуть территорию Советского Союза.
Русские предложили, чтобы встреча состоялась в Ялте… Рузвельт послал в Крым Майка Рилли с группой сотрудников охраны. Они вернулись с докладом, что Ялту можно считать вполне приемлемым местом для Конференции.
Черчилль настаивал, чтобы до встречи «Большой тройки» состоялись англо-американские переговоры. Президент и британский премьер встретились в Квебеке в сентябре 1944 года… И разве Рузвельт не пытался тогда убедить упрямого Черчилля, что идти на переговоры со Сталиным с ультимативными требованиями в кармане значило бы заранее планировать неудачу?..
В дверь снова постучали. Президент, погруженный в свои воспоминания, не сразу услышал стук. Потом поднял голову и недовольно спросил:
— Кто там?
Дверь медленно, точно нерешительно, открылась. На пороге стоял Хассетт с тоненькой папкой в руках.
— Что-нибудь из Вашингтона? — настороженно спросил Рузвельт.
— Нет, сэр, — ответил секретарь. — Я принес окончательный текст вашего ответа Сталину.
— Оставь здесь и иди! — раздраженно сказал президент. И, словно желая сгладить свою резкость, добавил уже мягче: — На сегодня ты свободен, Билл. Если… — он хотел сказать, «если не придет новая шифровка от Маршалла», но ограничился фразой: — Если не возникнет что-нибудь чрезвычайное…
— Хорошо, мистер президент, — покорно ответил Хассетт. — Один вопрос: вы намерены обедать, как обычно, со всеми или у себя?
Рузвельт взглянул на часы. До обеда — до семи вечера — оставалось еще два часа. Эти дни он обедал вместе со всеми — с Хассеттом, Брюнном, Талли, кузинами и, конечно, с Люси… Если сегодня он сделает исключение, они сразу же заподозрят, что ему нездоровится. А все должны знать: президент полон сил и энергии!
— Конечно, Билл, я буду обедать со всеми! — воскликнул Рузвельт. — Почему тебе вдруг пришла в голову мысль… — Он не докончил фразы и испытующе посмотрел на Хассетта.
— Я только спросил, сэр, — ответил секретарь. — Будет так, как вы хотите.
Хассетт ушел. Президент задумчиво обвел взглядом комнату. Коричневые стены. Кровать, покрытая белым узорчатым покрывалом. Тумбочка с настольной лампой под желтым абажуром. У стены небольшой шкаф с выдвижными ящиками. На нем лампа с металлическим рефлектором, а рядом — модель бело-голубой яхты. Рузвельт вспомнил свое юношеское увлечение парусным спортом. Постепенно яхта стала как бы расти… расти, и вот уже он видел перед собой военный крейсер с надписью «Куинси» на борту.
… — Кстати, почему корабль, на котором ты отправляешься, называется «Куинси»? — спросила Люси за несколько дней до отъезда Рузвельта в Ялту.
— Почему «Куинси»? Думаю, что в честь Джосаи Куинси… — ответил президент.
— А кто он был такой?
— Американский адвокат. Жил в восемнадцатом веке. Прославился участием в борьбе против прапрадедов Уинстона Черчилля. Подожди!.. Я вспомнил одну любопытную деталь. Ты, конечно, знаешь, что в студенческие годы я редактировал газету «Гарвард Кримзон». Как-то раз я перепечатал на ее страницах статью Куинси, впервые опубликованную в «Бостон Газетт»… Сейчас, дай вспомнить… да, да, в феврале 1770 года. В этой статье он призывал оборвать все связи «с теми, чья торговля несет заразу, чья роскошь отравляет, чья алчность ненасытна и чей противоестественный гнет вынести невозможно…»
— Ты запомнил все это наизусть?! — с удивлением спросила Люси.
— Еще бы! Мне изрядно досталось тогда от ректора, да и потом об этом не раз вспоминали… Кстати, занятное совпадение: Джосая Куинси напечатал эту свою статью в феврале. И Конференция в Ялте открывается в феврале. Перст божий? — усмехнулся Рузвельт.
Глава девятнадцатая НА ПУТИ В ЯЛТУ
Незадолго до Ялтинской встречи государственный департамент подготовил для Рузвельта несколько «черных книг», содержащих детальный анализ всех вопросов, которые могли возникнуть за столом Конференции. Даже самое поверхностное ознакомление с этими «книгами» потребовало бы немало времени, но президент перелистывал их страницы недолго. У него было иррациональное предубеждение против чересчур тщательной подготовки к тому или иному совещанию. Он полагался на свою интуицию, считал, что в процессе личных контактов можно успешно решить как заранее предусмотренные, так и неожиданно возникающие вопросы.
22 января 1945 года в 10 часов вечера Рузвельта в военно-морской накидке и старой фетровой шляпе усадили в машину. Заняли свои места в лимузинах сопровождающие лица. В начале одиннадцатого президентский кортеж выехал из юго-восточных ворот Белого дома и направился к железнодорожной платформе. Там Рузвельт пересел в специальный поезд, которому предстояло доставить его в Ньюпорт-Ньюс в штате Виргиния, где у причала ожидал крейсер «Куинси».
И вот теперь президент восстанавливал в памяти событие, которое в душе он окрестил «великим» и которое так жестоко обмануло его надежды. Он вспоминал в своем отъезде в Ялту с каким-то чувством вины и даже пытался убедить себя в том, что, сидя в машине, хотел повернуть обратно.
Нет, не хотел, конечно. Он ехал, сгорая от нетерпения. Ему представлялось, что вот он уже на борту крейсера, вот уже на Мальте, вот уже приземляется на аэродроме в Саки.
Элеонора упрашивала мужа взять ее в Ялту. Он сказал ей, что не может этого сделать, поскольку Черчилль оставляет свою Клементину дома, а Сталин, как известно, не женат. Потом выяснилось, что английский премьер берет с собой дочь Сару. Тогда и Рузвельт решил взять кого-либо из своих детей. Он остановил выбор на Анне. В группе, сопровождавшей президента, были Джеймс Бирис, личный друг Рузвельта и политический босс Бронкса Эдуард Флинн, адмиралы Уильям Леги и Уилсон Браун, генерал Эдуин Уотсон, Росс Макинтайр, Говард Брюнн, Чарльз Болен. Гопкинс находился в это время в Лондоне и должен был присоединиться к американской делегации несколько позже.
В день отъезда президент занимался текущими делами с раннего утра и очень устал. Как только поезд тронулся, он перебрался из салон-вагона в спальный вагон.
Проснувшись на другое утро, Рузвельт ощутил некоторое недоумение: поезд не двигался. Оказалось, что он прибыл к месту назначения и уже около часа стоит на крытом пирсе № 6 в Ньюпорт-Ньюс. По перрону медленно прохаживались военные во главе с начальником порта Джоном Килпатриком. Майк Рилли и его сотрудники тоже давно были на ногах.
Пересадка с поезда на крейсер была организована с предельной четкостью и осуществлена почти мгновенно.
Президент знал, что для обеспечения безопасности его пути приняты чрезвычайные меры. Впереди «Куинси» шли три эсминца, замыкал караван легкий крейсер. С воздуха корабли прикрывали звенья самолетов «Пи-Би-Уай-4».
На второй день после отплытия в радиорубку «Куинси» поступила шифровка из Вашингтона: по данным разведки, в Берлине уже знают о предстоящей Конференции. Чрезвычайные меры безопасности диктовались острой необходимостью.
Рузвельт смотрел на модель яхты в своей спальне в «Маленьком Белом доме», и ему казалось, что он снова сидит на палубе крейсера «Куинси» и его обдувает соленый морской ветер. Да, тогда, в море, он был счастлив: его радовали веселые обеды с друзьями и ближайшими сотрудниками, неторопливые беседы с Анной, кинофильмы по вечерам — президент предпочитал бездумные комедии.
Но таким все это представлялось Рузвельту сейчас, «в ретроспективе». А тогда, на «Куинси», его мозг непрерывно сверлила тревожная мысль: подтвердит ли Сталин свое, данное еще в Тегеране обещание вступить в войну с Японией?
Первым в каюту Рузвельта явился Чарльз Болен, которому в Ялте предстояло выполнять обязанности личного переводчика президента.
Худощавый, черноволосый Болен, по прозвищу Чип, отлично знал русский и слыл в американских дипломатических кругах одним из лучших знатоков России.
— Я позволил себе нарушить ваш отдых, мистер президент, — сказал молодой дипломат, — чтобы доложить вам, что я к вашим услугам в любое время дня и ночи.
— Почему ты вдруг решил сообщить мне об этом? — с недоумением спросил Рузвельт.
— Дело в том, мистер президент, — ответил Болен, — что не все документы, которые мы для вас подготовили, вы сможете прочитать. Некоторые из них на русском языке, и их не успели перевести. Так что…
— Послушай, мой дорогой Чип, — с добродушной иронией в голосе прервал его Рузвельт, — ты и в самом деле думаешь, что я успею прочесть все эти «черные книги», да к тому же еще и документы, о которых ты говоришь? — Президент полулежал на обитой красной кожей кушетке, укутав ноги шотландским пледом. Он широко улыбнулся и продолжал: — Знаешь, Чип, если бы нам предстояло переплыть все моря и океаны земного шара, мне и тогда не хватило бы на это времени! Я знаю, чего хочу от Конференции, от Сталина, и мне этого вполне достаточно!
— Но я полагаю, сэр, — слегка хмуря свои черные брови, сказал Болен, — что подготовлена какая-то четкая повестка дня, если не для каждого заседания, то, во всяком случае, для Конференции в целом. Очевидно, до сих пор вы держали ее в секрете, и я понимаю ваши соображения. Но я позволю себе спросить: может быть, настало время познакомить меня с этой повесткой дня?
— Да нет никакой повестки, Чип, можешь мне поверить! Конечно, мы с Черчиллем и Сталиным намерены обсудить ряд конкретных вопросов, которые встают перед нами в связи с приближением конца войны в Европе. Но повестки дня, обязывающей нас обсуждать такие-то вопросы и ни в коем случае не касаться других, попросту не существует!
— Значит, как в Тегеране… — мрачно произнес Болен.
— Тебе не понравился Тегеран? — взглянув на него в упор, спросил Рузвельт.
— Откровенно говоря, сэр, не понравился.
— Но почему?!
— Когда я восстанавливаю в памяти Тегеранскую конференцию, мистер президент, она представляется мне… какой-то дезорганизованной.
Рузвельт вопросительно приподнял брови над стеклами пенсне.
— Никто не вел официального протокола, — продолжал Болен. — Об этом просто не позаботились. Между тем русские, как я заметил, вели тщательные записи. Я уверен, что у них все было заранее продумано и распределено по дням и по часам, а у нас…
— Подожди, Чип, — прервал его президент. — У русских я готов учиться бить гитлеровцев, но перенимать их бюрократический стиль я не собираюсь. Терпеть не могу, когда меня связывают жесткие правила и процедурные моменты. Меня упрекают в том, что даже в серьезных делах я предпочитаю импровизацию. Что ж, это действительно так. Я и в самом деле предпочитаю импровизировать, и пока еще это меня не подводило.
— А как вы намерены поступить, мистер президент, если русские со временем опубликуют свои протоколы и допустят в них тенденциозные искажения? — спросил Болен. — Что мы им противопоставим? Конечно, я успевал делать кое-какие записи, но это же не официальный протокол.
Рузвельт подумал, что было бы и в самом деле неплохо, если бы американская сторона официально запротоколировала некоторые высказывания Сталина и в первую очередь его обещание вступить в войну с Японией.
Однако вслух он недовольно проговорил:
— Не понимаю, почему наши люди подозревают какие-то козни во всем, что бы ни делали русские! Встреча была задумана как свободный обмен мнениями. По крайней мере, я ее так рассматривал. Официальные рамки сковывали бы всех участников, особенно русских, и в результате мы бы так и не узнали их сокровенных мыслей.
— Неужели вы думаете, мистер президент, что русские поделились с нами своими сокровенными мыслями? — с легкой иронией спросил Болен.
Вспоминая этот разговор, президент подумал, что кое в чем Болен был прав. Если бы тегеранское обещание Сталина нашло отражение в каком-либо итоговом документе, у него, Рузвельта, было бы еще больше оснований обвинять советского лидера в предумышленном вероломстве.
Но тогда, на «Куинси», президент ответил Болену:
— Нет, конечно, если слово «сокровенные» понимать буквально. Но зная, что мы не фиксируем каждое его слово, Сталин наверняка говорил откровеннее, чем говорил бы при иных обстоятельствах. Я вовсе не убежден, что в атмосфере «официальности», которую ты так любишь, он дал бы обещание вступить в войну с Японией после победы над Германией.
— Это была общая фраза, мистер президент, скорее лозунг, нежели государственное обязательство, — упрямо возразил Болен. — Да и кроме того, он связывал свое обещание с окончанием войны в Европе. А кто в сорок третьем году мог предсказать, когда она кончится?
— До сих пор я всегда убеждался, что русские слов на ветер не бросают, — сказал Рузвельт.
— Не бросают, — задумчиво повторил Болен. — И все же, мистер президент… разрешите мне говорить с вами откровенно… у меня такое впечатление, что вы порой оказываетесь под влиянием сильной личности — под влиянием Сталина. А это очень опасно, сэр!.. Я не враг нынешней России, я и сейчас с волнением вспоминаю, как впервые приехал туда в тридцать четвертом году. Но я боюсь, мистер президент, что вы не полностью отдаете себе отчет в том, какая бездонная пропасть отделяет психологию большевика от психологии небольшевика, в особенности американца. На правах вашего советника я позволю себе заметить: иногда вам кажется, что советские лидеры видят мир примерно в том же свете, что и мы. Конечно, от вашего внимания не могли ускользнуть отрицательные черты характера Сталина, его подозрительность, его нежелание идти на какие-либо уступки. Но я боюсь, мистер президент, что в душе вы склонны объяснять это тем, что Запад, в том числе Соединенные Штаты, на протяжении долгих лет третировали Советы.
— Третировали? — иронически переспросил Рузвельт. — Это слишком мягко сказано, мой дорогой Чип. Не забудь, что в свое время мы хотели уничтожить Россию силой оружия.
— Не мы одни, мистер президент.
— Это не меняет существа дела.
— Хорошо, не спорю, — сказал Болен, — но к чему поминать далекое прошлое? Мы же признали Советскую Россию.
— Позже, чем многие другие страны.
— Согласен, но факт остается фактом. А теперь мы помогаем русским добивать Гитлера… Нет, сэр, корни подлинного отношения Сталина к нашей стране не в воспоминаниях о прошлом, а в глубоких идеологических расхождениях. И перекинуть мост через разделяющую нас пропасть просто невозможно.
— Ты говоришь со мной, Чип, на правах советника, а я с тобой говорю на правах президента, — улыбнулся Рузвельт. — И я твердо убежден в том, что русские прежде всего хотят безопасности для своей страны. И если Сталин увидит, что мы оказываем ему всемерную помощь, не посягая при этом на независимость России, то и он будет действовать соответственно, то есть в интересах мира и демократии во всем мире.
— Но мы же и так делаем для русских все, что от нас зависит! — воскликнул Болен.
Президент взглянул в упор на молодого дипломата и с горечью проговорил:
— А второй фронт, Чип? Что ты скажешь о втором фронте?.. Ведь мы затянули его открытие до того момента, когда разгром Германии был уже предопределен.
Да, Чип был тогда прав! Он, Рузвельт, поддался обаянию Сталина — о, византиец умел быть обаятельным, когда хотел! — принял за чистую монету обещание помощи на Дальнем Востоке. Принял за чистую золотую монету, даже не попробовав ее «на зуб»… Два с половиной месяца назад он ехал в Ялту с намерением заручиться подтверждением тегеранского обещания.
В беседах с адмиралом Леги на борту «Куинси», а потом — уже в Ливадии — с Гопкинсом и Гарриманом он снова и снова возвращался к вопросу: на какие уступки следует пойти, чтобы Сталин подтвердил свое обещание?
Рузвельт немного кокетничал, когда уверял Болена, что он безоговорочный сторонник «импровизаций». Нет, он, конечно, все обдумал и был готов к обсуждению основных вопросов — и о Восточной Европе, и о послевоенной судьбе Германии, и об Организации Объединенных Наций…
А в глубине души своей президент испытывал страх. Страх перед генеральным сражением с Японией без помощи русских.
Мысль о том, что работа над созданием атомной бомбы, судя по докладам генерала Лесли Гровса, идет полным ходом и от первого ее испытания Америку отделяют уже не годы, а всего лишь месяцы, и что обладание бомбой коренным образом изменит соотношение военной мощи США и Японии, не оказывала существенного влияния на планы и расчеты Рузвельта. Не оказывала потому, что представление об этом чудовищном оружии не укладывалось в сознании человека, бесконечно далекого от техники. Да и к тому же кое-кто из его ближайших военных советников уверял, что атомная бомба «никогда не взорвется».
«Как хорошо я чувствовал себя на борту „Куинси“, в море, — не отрывая взгляда от модели яхты, подумал президент. — Конечно же, Сталин неспроста раздувает бернский инцидент… И его претензии к США и Англии в связи с „польским вопросом“, отказ прислать Молотова в Сан-Франциско — все это, несомненно, звенья одной цепи, проявление коварства русского маршала, коварства, которое он так искусно маскировал и в Тегеране и в Ялте… Не будет он воевать с Японией. Нет, не будет! Но как я не разгадал его раньше? Ведь еще там, на „Куинси“, не только Болен, но и Бирнс настойчиво предупреждали меня».
Он вспомнил, как Директор управления военной мобилизации Джеймс Бирнс пришел к нему в каюту.
Это было на третий день морского путешествия. Остроносый, с настороженным взглядом слегка прищуренных глаз, Бирнс появился в полдень.
— Входи, Джимми! — приветливо встретил его президент.
Он недолюбливал Бирнса, считал его очень капризным, но людям с организационной хваткой, хорошо разбиравшимся в вопросах экономики и внешней политики, в военные годы не было цены. А Бирнс принадлежал к их числу.
— Присаживайся! — сказал Рузвельт, указывая Бирнсу на глубокое, обитое красной кожей кресло. — Как ты переносишь путешествие? Любишь море?
— Честно говоря, я как-то не задумывался над этим, господин президент. Тем более, что такое путешествие я совершаю впервые.
— Что ж, воспользуйся им, чтобы полюбоваться водной стихией! Что касается меня, то ее просторы всегда напоминают мне о вечности вселенной и бренности человеческого существования. Но за короткое время, отпущенное человеку, он должен сделать максимум того, что может, на что способен, должен «оставить свои следы на песках Времени», как сказано у Лонгфелло.
— Вот именно, сэр. Человек должен сделать максимум того, на что способен. Об этом я и размышлял, когда вы включили меня в делегацию. Об этом думаю и сейчас.
— Ты имеешь в виду нечто конкретное? — спросил Рузвельт.
— Да, господин президент. Судьбу Европы. Восточной. И прежде всего Польши.
— Почему «прежде всего»?
— Потому что она граничит с Россией, и вопрос о ее границах неминуемо встанет в Ялте.
— Но в принципе этот вопрос предрешен.
— К счастью, только в «принципе», сэр.
— Что ты хочешь этим сказать? — настороженно спросил Рузвельт.
— Господин президент, вы, конечно, знаете, что такое предполье. И я хочу сказать, что Польша — наше предполье. И если уж расширять ее территорию за счет перемещения западной границы, я на вашем месте предпочел бы, чтобы этот территориальный подарок поляки получили не из русских рук. Это во-первых. А во-вторых, я настаивал бы на другом составе нового польского правительства: в основном его надо сформировать из лондонских поляков, а люблинцам дать минимальное представительство.
— Ты знаком со Сталиным, Джимми? — с явной иронией в голосе спросил Рузвельт.
— До сих пор не имел чести…
— Скоро она тебе будет оказана. А потом я тебя спрошу, согласен ли ты повторить свои предложения.
— Я не из трусливого десятка, господин президент!
— Знаю. И это было одной из причин, почему я включил тебя в делегацию… Но дело тут не в храбрости, Джимми. Ты призываешь меня не считаться с русскими, иными словами, восстановить санитарный кордон на западных границах России. А отдаешь ли ты себе отчет в том, что близится к концу кровопролитная война? Польшу освободили русские. Победы Красной Армии не могут не сказаться и на других странах Восточной Европы. Ты полагаешь, все это можно игнорировать?
— Нет, но я против уступок русским.
— До сих пор еще не подсчитано, сколько людей они потеряли в этой войне, — задумчиво проговорил Рузвельт, — но я думаю, что речь идет о миллионах… — Он взглянул в упор на Бирнса и спросил: — Ты всерьез считаешь, что слово «уступки» здесь уместно?
— Господин президент, вы лучше меня знаете, что сентиментальность в политике себя не оправдывает, — с притворной печалью произнес Бирнс.
— А порядочность? — спросил президент.
«Ни с Боленом, ни с Бирнсом я не нашел общего языка, — подумал Рузвельт. — По-настоящему меня понимает только Гарри Гопкинс».
К семи часам вечера Приттиман доставил президента на лужайку у «Маленького Белого дома», где уже был подан обед. Рузвельту показалось, что Люси смотрит на него настороженно, словно пытаясь определить, произошли ли в нем какие-либо перемены после того, как был прерван сеанс.
И он усилием воли заставил себя улыбаться, даже шутить… Но проклятая шифровка по-прежнему маячила перед глазами, и его не оставляли мысли о Ялте.
Это застолье напомнило Рузвельту банкет на борту «Куинси», который был устроен по случаю его дня рождения. И ему представилось, что он сидит за обеденным столом вместе с Анной, Джимми Бирнсом, Эдом Флинном, Россом Макинтайром, адмиралом Уилсоном Брауном, Стивом Эрли, адмиралом Уильямом Леги и своим любимцем генералом Уотсоном…
Это было торжественное и вместе с тем веселое пиршество. Казалось, стол ломился под тяжестью четырех больших пирогов, на которых глазурью было выведено: «1932», «1936», «1940» и «1944» — даты избрания президента на все четыре срока.
Рузвельт был глубоко растроган и хотел было поблагодарить собравшихся, но в этот момент два офицера из команды «Куинси» внесли и поставили на стол пятый пирог. Глазурью на нем выведено: «1948?» — явный намек на пятое избрание через три года. Президент весело расхохотался. Этот знак внимания вызвал у него прилив бодрости, какого он давно уже не ощущал.
…Нет, нет, он докажет, докажет всем, что здоров, в отличной форме, что от минутной слабости, охватившей его во время сеанса, не осталось и следа… К счастью, никто из присутствующих, кроме Билла, не знает о проклятой шифровке, которая могла бы «сбить с ног» и более здорового человека.
— Как речь? — громко спросил Рузвельт, обращаясь к сидевшим рядом Хассетту и Моргентау, когда после мяса подали сладкое. Разумеется, им не надо было объяснять, что он имеет в виду «джефферсоновскую речь».
— Окончательный вариант текста, одобренный мистером Моргентау, уже на машинке, — поспешно ответил Хассетт. — Печатает Дороти Брэйди. Полагаю, что через час смогу ее вам принести.
Президент заметил, что Люси укоризненно взглянула на Хассетта — так, словно он допустил какую-то бестактность.
— Принеси обязательно, — сказал Рузвельт и добавил: — А завтра мы займемся подготовкой к Лондону.
— К Лондону? — недоуменно воскликнула Люси.
— Ах, Люси, дорогая, — как ни в чем не бывало, произнес Рузвельт, — разве я не говорил, что после Сан-Франциско должен встретиться со старым моряком Уинни? И, по-моему, все вы знаете, что после окончания войны с Японией я собираюсь слетать на Дальний Восток.
Рузвельт сказал это таким тоном, словно речь шла о поездке из Нью-Йорка в Гайд-парк. Он сделал вид, что не заметил удивления, даже некоторого страха на лицах своих собеседников.
— Господин президент, — не выдержал Брюнн, — такие поездки под силу только совершенно здоровому человеку!
— А я совершенно здоровый человек, мой милый Говард, — ответил Рузвельт, в упор глядя на Брюнна. — Я уже не говорю о том, что у нас четкое распределение обязанностей: за государственные дела отвечаю я, а за мое здоровье — Росс и ты. Вот и отвечайте, но так, чтобы одно не мешало другому… Кстати, Люси, дорогая, скажите, пожалуйста, миссис Шуматовой, что завтра я верну ей свой долг. Я «обсчитал» ее сегодня минут на сорок. Завтра буду позировать соответственно дольше. Если она не возражает, мы начнем часов в двенадцать. А теперь, милые мои, я вас покину. Мне надо еще поработать. Приттиман!
Гигантское напряжение воли, которое потребовалось Рузвельту, чтобы казаться за этим обедом здоровым и бодрым, не могло пройти для него даром. Когда Артур Приттиман привез его в спальню и бережно пересадил в кресло, президент чувствовал себя совершенно разбитым.
Некоторое время он сидел неподвижно в каком-то полузабытье. К реальности его вернул легкий стук в дверь.
— Да! — откликнулся президент.
Дверь открылась, и в комнату вошел Уильям Хассетт с неизменной папкой в руках.
— Что у тебя, Билл? — спросил Рузвельт.
— Ваша речь, сэр, — сказал Хассетт, подходя к креслу и протягивая папку.
— Более подходящего времени ты не мог найти? — проворчал президент.
— Вы же сами мне сказали, сэр… — начал было секретарь, но Рузвельт прервал его:
— Да, да, ты прав.
Он вспомнил, что за обедом велел Хассетту принести речь, как только она будет перепечатана. Увидев, что секретарь собирается уйти, он остановил его словами:
— Подожди, Билл. Я прочту речь при тебе.
Рузвельт раскрыл папку… Но напечатанных на машинке строчек он не видел. Вместо них перед его глазами всплывали другие строки, те самые:
«МЭДЖИК СООБЩАЕТ, ЧТО ЯПОНЦЫ НАМЕРЕНЫ ПЕРЕБРОСИТЬ БОЛЬШИЕ СОЕДИНЕНИЯ ВОЙСК ИЗ МАНЬЧЖУРИИ НА ТИХООКЕАНСКИЙ ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ…»
Президент перевернул страницу, потом вторую, третью, но ему казалось, что он читает и перечитывает все ту же убийственную шифровку: «МЭДЖИК СООБЩАЕТ…»
Резким движением он захлопнул папку. Потом сказал:
— По-моему, все в порядке, Билл. Все замечания должным образом учтены. Послезавтра я выступлю с этой речью. Договорись с ребятами на радио. И уточни час, когда они приедут сюда. А пока можешь идти.
Хассетт ушел. А строки шифрограммы Маршалла по-прежнему стояли перед глазами президента. Он снова — в который уже раз сегодня! — мысленно произнес: «Неужели Сталин обманул меня? Обманул, несмотря на то что дал твердое обещание?..»
В памяти стали всплывать сцены долгого пути в Крым.
Мальта, порт Валлетта. Здесь завершился морской этап путешествия в Ялту. С борта «Куинси» президент увидел Черчилля в военно-морской форме. Тот стоял на палубе английского крейсера «Орион» и размахивал в воздухе синей фуражкой.
Вскоре на борт «Куинси» поднялись Стеттиниус, Гарриман и Гопкинс.
В тот же день начальники штабов и другие высшие офицеры, сопровождавшие Рузвельта и Черчилля, начали свои совещания в каюте президента. На повестке дня было немало вопросов — англо-американские войска и Красная Армия с боями продвигались навстречу друг другу.
Рузвельт знал, что ему предстоит еще далекий путь, но это его не пугало. Президента вдохновляла надежда, что скоро, очень скоро он услышит от Сталина подтверждение тегеранского обещания. Может быть, ему удастся уговорить советского лидера снять требования, которые так упорно отстаивал Громыко в Думбартон-Оксе. Безопасность полета? Все мыслимые меры для ее обеспечения были приняты. Президент знал, что американские истребители поднимутся с мальтийского аэродрома вслед за «Священной коровой», чтобы конвоировать ее, и что в Эгейском и Черном морях курсируют военные корабли на случай вынужденной посадки.
«Кто летел вместе со мной в самолете?» — вспоминал сейчас президент. Он насчитал восемь человек: Анна, адмирал Леги, Росс Макинтайр, адмирал Браун, генерал Уотсон, Говард Брюнн, Майк Рилли и Артур Приттиман.
Глава двадцатая СНОВА ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Когда «Священная корова» пошла на посадку в Саки, Рузвельт подумал: «Интересно, придет ли ко мне Сталин в первый же день, как тогда, в Тегеране?..»
Нет, Сталин не пришел и не мог прийти. Президент и английский премьер прибыли в Ялту третьего февраля. А Сталин только на другой день, четвертого. На аэродроме Майк Рилли сказал Рузвельту, что американской делегации предоставлен самый лучший из трех дворцов — Ливадийский, и для удобства президента все заседания решено проводить в этом же дворце. Нет, нет, Рилли сказал это потом, в машине, когда они уже подъезжали к Ялте…
А сейчас президент вспомнил, как в маленькой кабинке лифта, вмонтированного в фюзеляж «Священной коровы», его спускали на землю… Нет, не так. Самолет еще катился по посадочной полосе, когда он спросил адмирала Брауна, прибыл ли Черчилль. Тот ответил, что, согласно сообщению, переданному по радио на борт «Священной коровы», самолет Черчилля должен прибыть минут через пятнадцать — двадцать. Рузвельт решил не спускаться на землю до прилета английского премьера, чтобы не заставлять русских дважды повторять церемонию встречи. Потом пожалел о своем решении: в окно самолета он увидел переминавшегося на снегу Молотова в меховой шапке. На аэродроме, конечно, холодно, а Стеттиниус и Гарриман, стоявшие рядом с русским министром, были довольно легко одеты…
Когда лифт опустил президента на землю, Майк Рилли пересадил его в «джип», который медленно двинулся мимо почетного караула. Черчилль шел рядом с «джипом», держась за металлический поручень. Снова рукопожатия. Слова приветствия, произнесенные Молотовым. Потом грянул американский гимн… Когда замерли последние его звуки, оркестр заиграл «Боже, храни короля», британский гимн. Рузвельт сказал Молотову, что гимн Соединенных Штатов был исполнен с блеском и что в самой Америке его играют гораздо хуже…
А потом?.. Президента вместе с Анной усадили в другую машину — Рузвельт отметил про себя, что это был американский «паккард».
Нескончаемый путь по петлявшей шоссейной дороге. Потом машина промчалась по улицам полуразрушенной Ялты — несмотря на сгущавшиеся сумерки, президент хорошо разглядел силуэты разбомбленных зданий. Вскоре остановились у Ливадийского дворца. Парадная дверь распахнулась, и президента на мгновение ослепил сноп яркого света…
Ах, как это было интересно, когда некоторое время спустя Приттиман возил его в коляске по первому этажу дворца, и президент имел возможность заглянуть в каждую комнату.
Тогда Рузвельт еще не знал, что сотня русских строителей и реставраторов три недели днем и ночью трудились, чтобы отремонтировать дворец, восстановить лепные украшения, расставить прибывшую из Москвы мебель, расчистить ведущие к дворцам дорожки…
— А где расположился наш друг Уинстон? — спросил он Приттимана.
— В имении русского графа… Как же его фамилия?.. Кажется, Ва-рен-зоф.
Эта фамилия ничего не говорила Рузвельту. Она ничего не сказала бы ему, даже если бы Приттиман произнес ее правильно: «Воронцов».
— А русские, Сталин? — спросил президент.
— И это знаю. Дворец «Юсупофф».
Фамилия Юсупова была Рузвельту смутно знакома — да, конечно, кто-то из этих Юсуповых принимал участие в убийстве Распутина…
— Насколько мне известно, сэр, — продолжал Приттиман, — ваша резиденция самая роскошная.
«Боже мой, — на минуту возвращаясь в сегодняшний день, подумал президент, — ведь в Крыму русские окружили меня такой заботой, какой я не видел даже в Америке! А теперь Сталин…» Перед глазами Рузвельта вновь запрыгали строчки: «МЭДЖИК СООБЩАЕТ…»
«И это после того, как…» Перед мысленным взором президента возник зал заседаний Конференции. Он отчетливо увидел не только Сталина, Молотова, Громыко, Майского, Гусева, не только Черчилля, Идена и его заместителя Кадогана. Он как бы со стороны увидел самого себя и Гопкинса, Стеттиниуса, Леги, Гарримана, Бирнса, Болена…
Впрочем, нет, все это было позже. Рузвельт вспомнил, как, осматривая комнаты Ливадийского дворца, он не раскрыл дверей, ведущих в зал заседаний. Какое-то неопределенное чувство помешало ему это сделать. Заглядывать в этот зал в отсутствие Сталина было бы несколько бестактно, подумал он. Сталин приедет завтра. Значит, надо подождать. А сейчас…
Рузвельт подкатил свою коляску к широкому окну и, подавшись вперед, слегка отодвинул штору.
Дворец располагался на невысокой горе, и казалось, что море плещется у ее подножия. Любимая водная стихия… Она напоминала президенту о его юности, когда он так увлекался плаванием и парусным спортом, вызывала в памяти годы, когда он был помощником военно-морского министра. Море ассоциировалось в его сознании с вечностью, с неизбывной жизнью. Оно бушует, оно опасно для слабых пловцов и неумелых мореходов; то оно требует жертв, то возвращается в состояние покоя и гармонии. «Вот как сейчас, — подумал Рузвельт, глядя на ровную бескрайнюю гладь. — Вот, как сейчас, когда „Большая тройка“ собралась здесь для исторической встречи. — Но тут же одернул себя: — Хороша гармония! Черчилль только и думает о том, чтобы англо-американские войска ворвались в Берлин раньше русских, и хочет навязать Польше свое эмигрантское „правительство“. Я до сих пор не получил от Сталина никаких письменных гарантий относительно вступления Советского Союза в войну с Японией. Остаются в подвешенном состоянии и такие важнейшие вопросы, как голосование в Организации Объединенных Наций, будущее Германии, сумма репараций. И по другим вопросам все еще есть разногласия. У меня с Черчиллем, у меня и Черчилля со Сталиным… Пока что все тихо, как это море. Но завтра…»
На другое утро после положенного медицинского осмотра Рузвельт, не торопясь, позавтракал в постели. В окно светило непривычно яркое крымское солнце. Приттиман одел президента, перевез его в кабинет и усадил в кресло за большим письменным столом.
О, у Рузвельта было много дел, которыми он мог бы заняться, — проклятые «черные книги» и справки-доклады, подготовленные государственным департаментом и военным министерством, взывали к его чувству долга. «Положение на европейских фронтах», «Дальний Восток», «Польша», «Германия», «Балканы» — со всеми документами следовало бы тщательно ознакомиться, но президент не мог заставить себя приняться за работу. Он знал, что Сталин должен прибыть в Ялту с часу на час. И Рузвельтом безраздельно владела одна мысль: посетит ли его маршал до назначенного на вторую половину дня открытия Конференции?
Шторы были наполовину задернуты, и в большом кабинете царил полумрак. Однако картина в позолоченной раме, повешенная чуть выше, чем следует, и изображавшая сеятеля на фоне бескрайнего поля, была хорошо различима. Президент отметил про себя и то, что лампочки в старинной, свисавшей с потолка люстре были разной формы и размеров. «Наверное, сейчас во всей России нельзя подобрать одинаковые», — подумал он. Тумбы письменного стола, за которым сидел президент, были украшены резными лавровыми венками. У стола стояли друг против друга глубокие кресла. Рузвельт обратил внимание на то, что бархатные сиденья на них выцвели и вытерлись.
Он пошевелил пальцами бахрому на круглом абажуре, прикрывавшем настольную лампу. Потом перевел взгляд на стоявший у стены диван с высокой спинкой и мраморный столик перед ним…
Напрягая слух, президент ждал гудения автомобильных моторов — если Сталин приедет, то, конечно же, с машинами сопровождения. Но было тихо. Впрочем, усмехнулся Рузвельт, может быть, машины Сталина столь же бесшумны, как и его походка?..
Президент посмотрел на высокие старинные часы с медным циферблатом, стоявшие в углу кабинета. Такие в Штатах называются grandfather's clock — дедушкины часы, подумал он и вспомнил слова старой американской песни о дедушкиных часах:
But it stopped… short… never to go again, When the old man died [3].Он вздохнул и прислушался к негромкому тиканью маятника. Интересно, который час в Вашингтоне. «Но где же Сталин, где?! — с нетерпением и тревогой подумал президент. — Если он не встретится со мной до начала заседания, это будет свидетельствовать о глубокой перемене в его отношении ко мне. Непродуманно этот человек ничего не делает!.. Нет, он не может не приехать, он приедет! Но о чем с ним говорить в первую очередь? Ведь есть вопросы, которые я не могу не затронуть. Я должен, конечно, спросить, остается ли в силе его тегеранское обещание… Но с этим не надо торопиться. Не следует создавать впечатление, что я прибыл сюда, в Ялту, как проситель, не надо давать Сталину дополнительный козырь в предстоящих переговорах… Вот если он сам поднимет этот вопрос…»
Стрелка часов медленно ползла по желтому циферблату, начищенному до блеска.
«Не приедет!» — с горечью и обидой решил Рузвельт.
Но как раз в этот момент дверь в кабинет открылась без стука. На пороге стоял явно взволнованный Чарльз Болен. Волосы его были чуть взъерошены, узел галстука сполз под угол воротника.
— Русские уже у подъезда… Маршал! — выговорил он наконец.
И тут же, бесцеремонно отстранив, чуть ли не оттолкнув Болена, в кабинет ворвался Майк Рилли в сопровождении двух охранников.
Они быстрыми шагами, почти бегом, пересекли комнату, схватили одно из тяжелых кресел и передвинули его к торцу стола поближе к креслу президента.
— Теперь все в порядке… — пробормотал Рилли и исчез со своими людьми так же стремительно, как и появился.
— Я полагаю, что буду нужен вам, сэр? — спросил Болен, торопливо приглаживая волосы.
— Разумеется, Чип, — ответил Рузвельт и спокойно добавил: — Поправь галстук.
Несколько секунд проем открытой двери был пуст.
Затем в нем появился Сталин, и мгновение спустя за спиной его мелькнул переводчик Павлов.
…«Как выглядел Сталин, изменился ли он с тех пор, как мы впервые встретились в Тегеране? — вспоминал теперь президент. — Та же медленная, мягкая походка. Тот же взгляд. Но перемены все же были, хотя я и не сразу их отметил. Маршал сильно поседел, и морщины на его лице стали глубже».
Неслышной своей походкой, точно едва касаясь пола подошвами сапог, Сталин подошел к Рузвельту.
— Здравствуйте, уважаемый господин президент! — проговорил он улыбаясь.
— Здравствуйте, здравствуйте, мой дорогой маршал! — протягивая руку, ответил Рузвельт.
Они еще ничего не сказали друг другу, только обменялись словами приветствия, но у президента сразу стало легче на душе, словно визит Сталина сам по себе служил залогом того, что маршал пойдет навстречу всем его пожеланиям.
— Прошу вас, — с широкой улыбкой сказал Рузвельт и указал гостю на кресло.
— А куда же мы посадим наших переводчиков? — точно спрашивая самого себя, нерешительно произнес Сталин. Он положил руку на спинку кресла и скользнул взглядом по лицам Павлова и Болена, стоявших в некотором отдалении. — Ведь мы все еще говорим на разных языках…
— Мы продолжаем расплачиваться за Вавилонскую башню, — шутливо сказал президент, но тут же, усомнившись, что собеседник понял его, счел нужным пояснить: — В древнем Вавилоне люди задумали построить башню до самого неба. Разгневанный их дерзостью бог разрушил башню, и с тех пор люди стали говорить на разных языках.
— Да, это библейский миф, — кивнул Сталин.
— Вам приходилось читать Библию?
— Конечно, я читал не только Маркса, — все еще стоя у кресла, сказал Сталин. — В духовной семинарии, где я когда-то учился, изучение Библии было обязательным, а за чтение Маркса выгоняли с «волчьим билетом»… Кстати, о вавилонском столпотворении. Я не исключаю того, что в далеком будущем люди вернутся к единому языку… А пока мы должны решить, как быть с переводчиками.
— Мы усадим их на диван. А вы располагайтесь здесь, — снова указывая на кресло, сказал Рузвельт. — Рядом с вами я чувствую себя… как-то надежнее.
— Спасибо, если это не просто комплимент, — ответил Сталин, опускаясь в кресло. Он внимательно оглядел комнату и спросил: — Как вы устроились, господин президент? Удобно ли вам здесь?
— О, я вам бесконечно благодарен, маршал! По дороге с аэродрома я видел столько развалин… И вдруг — этот оазис!
— Если бы вам довелось проехать по украинской или белорусской земле, вы увидели бы и не такие развалины. Там немцы взорвали и сожгли все, что не успели вывезти.
— После войны мы постараемся помочь вам восстановить разрушенное как можно скорее, — сказал Рузвельт, но тут же его кольнула тревожная мысль: «А не спросит ли Сталин, почему мы далеко не всегда выполняли свои обязательства по ленд-лизу?.. Я сам дал для этого повод…» И он быстро переменил тему: — Я хочу поблагодарить вас, маршал, за решение проводить заседания в этом дворце. Ведь по протоколу мы должны были бы заседать поочередно во всех трех резиденциях. Я понимаю, что решающую роль сыграли тут… мои ноги, и тем не менее…
— Решающую роль сыграло наше уважение к вам, господин президент, — прервал его Сталин. — Мы не забыли о том вкладе в наше единство, который вы внесли в Тегеране. Ноги же, как гласит русская поговорка, волка кормят. А человеком управляют ум и сердце.
Павлов переводил слова Сталина, Болен — президента.
Разговор с самого начала приобрел доброжелательно-шутливый характер, и Рузвельт почувствовал, что сразу же приступать к вопросу о войне с Японией было бы бестактно. Нужен был переход — плавный, естественный переход.
— Как дела на фронте, маршал? — спросил президент и тут же добавил: — На борту «Куинси» я заключил пари, что ваши войска будут в Берлине раньше, чем Макартур вступит в Манилу.
— Пари с Черчиллем? — спросил Сталин и рассмеялся хрипловатым смешком.
«Почему с Черчиллем?» — чуть было не спросил растерявшийся от неожиданной реплики Рузвельт. Конечно же, в ней заключался скрытый намек — Черчилль мечтал войти в Берлин первым. Сталин сам вызволил Рузвельта из неловкого положения. Точно забыв о своем вопросе, он продолжил:
— Боюсь, что вы проиграете, господин президент. Правда, наши войска на ряде участков уже пересекли Одер и создали несколько предмостных укреплений по ту сторону реки. Но немцы фанатически сопротивляются, и нам пришлось приостановить наступление. Обо всем этом подробно доложит на Конференции наш начальник Генерального штаба.
Сталин умолк. Интуитивно Рузвельт почувствовал, что маршал не хочет говорить о Дальнем Востоке. Видимо сейчас он считает возможным коснуться только положения в Европе. И, как бы прочитав мысли президента, Сталин спросил:
— А как идут дела на западном фронте?
— Генерал Маршалл подробно доложит об этом. Но пока могу вам сказать, что в четверг, восьмого февраля, мы начнем ограниченное наступление. Следующее будет предпринято еще через неделю. А удар в самое сердце Германии мы предполагаем нанести через месяц.
Глядя на своего переводчика, Сталин медленно проговорил:
— Что ж… рад это слышать.
И, как бы противопоставляя тому, что еще только собираются сделать американцы, то, что уже сделано советскими войсками, добавил:
— А наши армии уже захватили Силезский бассейн… И если войска союзников захватят Рур и Саар, то Гитлер лишится своего последнего источника угля.
Сталин непрерывно курил — на этот раз трубку. Рузвельт вынул из своего мундштука догоревшую сигарету и вставил новую.
— Я вижу, — сказал он, — что победа не за горами, и, конечно, на Конференции мы будем обсуждать вопрос о послевоенной администрации в Германии. Тут, казалось бы, все ясно… разве что кроме вопроса о французской зоне оккупации. С де Голлем очень трудно договориться. Кстати, как вы к нему относитесь? По-моему, он очень упрям.
— Я привык судить о людях по их делам, — уклончиво ответил Сталин.
— Вам не кажется, что он мнит себя своего рода Наполеоном?
— Наполеоном? — приподнимая брови, переспросил Сталин и усмехнулся. — Нет, не кажется. Если уж вы хотите аналогий, то скорее Жанной д'Арк.
И тут же перевел разговор на другую тему:
— Кстати, я забыл спросить: довольны ли ваши сотрудники тем, как их разместили?
— О да, все довольны! — воскликнул Рузвельт, хотя и покривил при этом душой: отдельная ванна была только у него. Остальные члены американской делегации были вынуждены довольствоваться меньшим комфортом, и среди них уже назревали мелкие конфликты. — Все довольны, и все завидуют адмиралу Кингу: ему досталась спальня царицы. Завтра мы его спросим, не пытался ли призрак царя забраться к нему в постель.
И тут же президент понял, что фривольная шутка пришлась маршалу не по вкусу.
— Царь каждую ночь менял спальни, — сухо заметил Сталин, — но это не спасло его от гнева народа. Говорят, единственное место, где царя можно было найти наверняка, это утром в… уборной. Интересно, где мы найдем Гитлера…
Все рассмеялись.
«Я правильно поступаю, не спрашивая Сталина о том, что меня больше всего интересует, — подумал Рузвельт. — О Японии. Сейчас, конечно, не время».
Немного помолчав, президент сказал, что теперь, когда русские с такой быстротой наступают с востока, а американцы и англичане с запада, может быть, пора уже установить каждодневную связь между штабами сражающихся армий. Сталин согласился, сказав, что время для этого, пожалуй, и в самом деле настало.
Потом он взглянул на часы:
— Уже без четверти пять. Я думаю, нам пора идти на заседание…
Глава двадцать первая ПРИГЛАШЕНИЕ В КОРЕИЗ
…И снова перед глазами Рузвельта встал зал Конференции. Большая комната, потолок, украшенный гипсовыми восьмиугольниками. Круглый стол, покрытый белой скатертью, на нем три флажка — американский, советский и английский. Вокруг стола семнадцать деревянных стульев с прямыми высокими спинками. За ними другие стулья, поменьше, для помощников глав делегаций и экспертов. Огромный камин с пылающими в нем поленьями…
Когда все расселись за столом, Сталин сказал:
— Я полагаю, что мы попросим президента Рузвельта открыть нашу Конференцию…
«Что ж, счастливое начало!» — подумал Рузвельт, А вслух произнес:
— Джентльмены! Ни какими-либо законами, ни самой Историей не предусмотрено, что наши встречи должен открывать именно я. То, что я открыл тегеранскую Конференцию, было чистой случайностью. Тем не менее я считаю для себя большой честью открыть нынешнее совещание. Я хочу начать его словами искренней благодарности за оказанное мне гостеприимство. Оно превосходит все возможные ожидания. Мы уже многого достигли, джентльмены. Мы научились хорошо понимать друг друга, но главное заключается в том, что это взаимопонимание растет. Все мы хотим скорейшего окончания войны и наступления прочного мира. Вдохновленные именно этими желаниями, мы начинаем свои беседы. И еще. Я призываю вас к искренности. Опыт показывает, что откровенность позволяет быстрее достигать верных решений…
И, неотрывно глядя на внимательно слушавшего его Сталина, Рузвельт закончил свое выступление просьбой, чтобы американскую и английскую делегации ознакомили с положением дел на советско-германском фронте.
Сталин тотчас же сказал:
— Я думаю, что доклад о военном положении сможет сделать начальник нашего Генерального штаба генерал армии Антонов. Одну минуту… сейчас сюда принесут карты, чтобы вам легче было ориентироваться.
Три советских офицера внесли в зал рулоны карт и расстелили их на столе.
Высокий, моложавый генерал с длинной деревянной указкой в руках подошел к столу и начал говорить.
В январе советские войска перешли в наступление на фронте протяжением в семьсот километров, от реки Неман до Карпат, и разгромили сорок пять немецких дивизий. В результате немцы потеряли убитыми около трехсот тысяч человек и пленными около ста тысяч.
Докладывая, Антонов время от времени протягивал указку к одной из трех карт, показывал направления главных ударов, линии обороны немцев…
Да, сейчас Рузвельт не мог восстановить в памяти все, что сказал Антонов. Но хорошо помнил, какое сильное впечатление произвела на него откровенность, с которой русский генерал говорил о положении на фронте, о стратегических и тактических замыслах командования Красной Армии. Он как бы отвечал на призыв президента к искренности и откровенности.
Время от времени Рузвельт переводил взгляд на Черчилля, пытаясь определить, как тот относится к докладу, но английский премьер, зажав в углу рта дымящуюся сигару, неотрывно смотрел на карты, внимательно следя за каждым движением указки.
«Что ж, — подумал президент. — Уинни всегда считал себя знатоком в военных делах…»
Когда Антонов кончил доклад, советский офицер, сидевший за отдельным столиком, взял папку, раскрыл ее и, подойдя к круглому столу, положил сначала перед Рузвельтом, а затем перед Черчиллем листки с английским текстом, напечатанным на машинке.
— Это в письменном виде то, что доложил нам сейчас начальник Генерального штаба, — пояснил Сталин. — Вы сможете прочитать, когда у вас будет время. А пока… нет ли вопросов?
Рузвельт хранил молчание. Он был под впечатлением того, что услышал, в его воображении вставали грандиозные битвы, о которых только что сухим, лаконичным языком военного доложил генерал. Президенту казалось, что он слышит грохот орудий и гудение авиационных моторов, видит огни пожарищ. Он не спрашивал, какой ценой досталось русским наступление со скоростью до тридцати километров в сутки, — наступление, в результате которого Красная Армия форсировала Одер, окружила и уничтожила крупные группировки противника. Не спрашивал, потому что понимал: жертвы принесены огромные, и на фоне этих жертв военные успехи американских и английских войск кажутся ничтожными.
Зато Черчилль не заставил себя ждать. Едва Сталин умолк, он стал бомбардировать русских вопросами. Он хотел знать, сколько времени, по мнению Сталина, потребуется немцам, чтобы перебросить из Италии восемь дивизий на советский фронт. Что надо сделать, чтобы предотвратить такую переброску? Следует ли направить часть союзных войск через Люблянский проход на соединение с Красной Армией? Сколько времени для этого потребуется, и не слишком ли поздно предпринимать такую операцию? И он тут же предложил, чтобы эти вопросы обсудили присутствующие в Ялте начальники штабов.
Рузвельт с раздражением подумал, что предложение Черчилля делает излишним обсуждение этих вопросов на заседании, но все же сказал, что поддерживает премьер-министра. И добавил, что сейчас, когда расстояние между войсками союзников уменьшается с каждым днем, тесный контакт между их штабами представляется особенно важным.
— Это правильно, — подал короткую реплику Сталин.
…Что обсуждали еще?
О, многое! Генерал Маршалл сделал обзор военных действий союзных войск. Затем Сталин четко определил, какими именно действиями и на каких направлениях союзные войска могли бы помочь Красной Армии в ее продвижении на запад. И тут же задал вопрос:
— Какие пожелания в отношении действий советских войск имеются у союзников?
В ответ Черчилль неожиданно разразился комплиментами по адресу Красной Армии, выразил восхищение ее мощью. У Рузвельта было впечатление, что поток безудержных похвал слегка покоробил Сталина.
— Это не пожелание, — сухо заметил советский маршал.
Потом, слегка сощурившись, сказал, что зимнее наступление Красной Армии, за которое Черчилль так благодарен, не было предусмотрено во время тегеранских переговоров.
— Мы рассматриваем его как выполнение товарищеского долга перед союзниками… Мне бы хотелось, чтобы деятели союзных держав учли, что советские люди не только выполняют свои обязательства, но и готовы по мере возможности выполнять свой моральный долг.
Он напомнил о послании Черчилля, в котором тот спрашивал, не сочтут ли русские возможным в течение января перейти в наступление.
— Я понял тогда, — сказал Сталин, — что ни Черчилль, ни Рузвельт не просили меня прямо о наступлении, и мы оценили эту деликатность. Но советские руководители, наше военное командование видели, что для союзников такое наступление необходимо. Поэтому мы и начали его. И гораздо раньше намеченных нами сроков.
…Да, русские выполняют свой моральный долг.
Это был уже не первый день Конференции. В девять вечера Сталин устраивал прием в честь Рузвельта и Черчилля. Президенту предстояло поехать в Кореиз, где на высоком холме располагалась вилла советской делегации.
Рузвельт не любил поздних обедов — после них ему плохо спалось. Но сегодня настроение у него было приподнятое, даже радостное: после окончания пленарного заседания советский офицер передал ему записку, напечатанную на машинке. Сталин приглашал президента приехать в Кореиз к восьми вечера, чтобы до приема «поговорить о дальневосточных делах».
Прочитав английский текст приглашения, Рузвельт подумал, что, собственно говоря, ничто не мешало Сталину обсудить с ним «дальневосточные дела» во время первой же встречи в Ливадии, но эта записка положила конец тягостному ожиданию, в котором находился президент. «Слава богу!» — мысленно произнес он.
Но тут же в его душу закралось сомнение: «А почему я так уверен, что слова „поговорить о дальневосточных делах“ свидетельствуют о готовности Сталина подтвердить свое тегеранское обещание? Может быть, маршал сообщит, что он передумал? Может быть, скажет, что его страна истощена, войска измотаны и сразу же после четырехлетней войны начинать новую Россия просто не в состоянии?»
Майк Рилли сказал, что надо выехать без двадцати восемь, чтобы прибыть в Кореиз в назначенное время.
Приняв ванну и переодевшись, Рузвельт взглянул на часы: до отъезда оставалось еще сорок минут. Он попросил Приттимана отвезти его в комнату Гопкинса.
Ближайший друг и советник президента, как и остальные члены американской делегации, размещался на втором этаже и, за исключением президента, был чуть ли не единственным американцем, занимавшим отдельную комнату. Американская «команда» была столь велика, что даже генералам, не говоря уже о советниках, экспертах и помощниках членов делегации, пришлось разместиться по двое и по трое.
Гопкинсу предоставили отдельную комнату не только из-за особых его отношений с президентом. Все знали, что он тяжело болен.
Большую часть времени Гарри проводил в постели. Ценой неимоверных усилий он спускался вниз только для того, чтобы принять участие в очередном заседании.
И вот в его комнате появился президент в сопровождении Майка Рилли и Приттимана. Гопкинс выглядел хуже, чем когда-либо. Он так отощал, что весил, наверное, не больше, чем пятнадцатилетний подросток. Цвет его лица приобрел землистый оттенок.
Рилли и Приттиман усадили Рузвельта в кресло рядом с постелью и вышли из комнаты. Гопкинс с трудом повернулся к президенту и чуть улыбнулся — единственный знак приветствия, на который он, изнемогший после очередного заседания, был способен.
— Что, Гарри, плохо? — участливо спросил Рузвельт.
— Все отлично, — ответил Гопкинс, но от внимания президента не ускользнула гримаса боли, исказившая лицо его друга.
— Прислать Росса Макинтайра?..
— Не надо! Он умеет лечить только президентов, — пробормотал Гопкинс. И, немного помолчав, добавил:
— Я принял лошадиную дозу снотворного. Высплюсь, и все будет в полном порядке.
— Мне не хотелось бы тебя тревожить, — несколько виноватым тоном произнес президент. — Но речь идет о деле чрезвычайной важности. Вот, читай…
И он протянул Гопкинсу записку, полученную от Сталина. У него сжалось сердце, когда он увидел, как дрожат пальцы Гопкинса. Тоненькие, как прутики, пальцы.
— Как ты думаешь, Гарри, что он мне скажет? — нервно спросил президент. — «Да» или «нет»?
— Полагаю, что «да», — неожиданно окрепшим голосом ответил Гопкинс.
— Но почему же он не сказал об этом за столом Конференции, как это было в Тегеране?
— Извините, господин президент, но ведь «Тегеран» состоялся, когда война была еще в самом разгаре. И, по существу говоря, любое обещание, выполнение которого ставилось в зависимость от победы, звучало бы всего лишь как благое пожелание. А теперь… Но нельзя упускать из виду, что Россия и Япония по-прежнему поддерживают дипломатические отношения. И вопрос о вступлении Советов в новую войну приобретает сейчас совершенно иной характер.
— Ты думаешь, тегеранское обещание Сталина не было зафиксировано только потому, что он боялся, как бы Япония, узнав о его намерениях, не начала войну первой?
— И вела бы войну на два фронта? Трудно себе представить. И все же некоторые опасения у Сталина, несомненно, были. Россия находилась в то время в тяжелом положении… Но теперь, накануне полного разгрома Германии, Сталин может повторить свое обещание уже в письменном виде. Само собой разумеется, он потребует, чтобы это не стало достоянием гласности.
— Ты думаешь, он все еще боится Японии?
— Слово «бояться» едва ли применимо к Сталину. Тем не менее у него есть кое-какие основания для опасений. В свое время Япония отторгла у России значительную территорию. Я уже не говорю о том, что Хасан и Халхин-Гол для русских не пустой звук.
— Значит, по-твоему, Сталин может опять ограничиться неопределенным обещанием?
— Нет. Для этого он не стал бы вас приглашать. Я уверен, что на этот раз обещание будет твердым и конкретным.
— Почему ты в этом так уверен?
Гопкинс с усилием улыбнулся.
— Потому что у Сталина есть… своего рода «конек», — сказал он.
— Какой еще «конек»? — недоуменно спросил Рузвельт.
— Держать слово. Странный «конек» в наши дни, мистер президент, не так ли?.. Когда вам надо быть в Кореизе? К восьми? Ждать осталось недолго.
— Наверное, дядя Джо сидит сейчас и подсчитывает, что можно содрать с нас в обмен на помощь, — задумчиво произнес Рузвельт.
В это время в большой, скромно обставленной комнате кореизской виллы близилась к концу очередная «планерка» советской делегации.
В середине комнаты, на стенах которой кое-где топорщились недавно наклеенные светло-желтые обои, стоял длинный стол. На нем были расставлены треугольниками бутылки с боржомом и нарзаном, возле них — стаканы, тут же открытые коробки папирос «Казбек», «Беломор» и «Герцеговина флор». На двух тарелках — по оба конца стола — возвышались горки бутербродов с колбасой и сыром.
Молотов, Громыко, Вышинский, Майский, советский посол в Англии Гусев и генерал армии Антонов сидели на стульях вдоль стены.
Вокруг стола своей обычной медленно-плавной походкой ходил, глядя себе под ноги, Сталин. Царило полное молчание. Казалось, все чего-то ждут.
Сталин остановился, взял папиросу из зеленой коробки «Герцеговина флор», но не закурил, а зажал ее между большим и указательным пальцами.
Потом сказал:
— Я полагаю, что наши совещания дешево обходятся Советской власти. Никто ничего не ест и не курит.
— Мы берем пример с вас, товарищ Сталин, — с несколько натянутой улыбкой произнес Вышинский.
— После войны я вообще брошу курить, — не поднимая головы, ответил Сталин. Потом сломал зажатую в пальцах папиросу и раскрошил ее над пепельницей.
— Итак, нам предстоит решить многие вопросы — медленно проговорил он. — Да, многие вопросы, хотя союзники все еще пытаются играть в «кошки-мышки». Они никак не возьмут в толк, что мышек здесь нет… Однако, — он взглянул на круглые настенные часы, — время не ждет. Подведем некоторые итоги и наметим перспективы. Мы уже договорились, что пойдем на уступки в вопросе о норме представительства для Советского Союза в Организации Объединенных Наций. Но будем категорически настаивать на том, чтобы во всех конфликтных ситуациях великая держава, непосредственно затронутая конфликтом, принимала участие в голосовании в Совете Безопасности. Верно?
Все молча наклонили головы.
— Что касается Польши, то ни на какие уступки мы не пойдем, — продолжал Сталин, — это ясно. Но стычек нам не избежать. Черчилль костьми ляжет за своих лондонских выкормышей. Впрочем мяса у него в изобилии, а костей не так уж много.
Сталин сделал паузу, взял новую папиросу, на этот раз зажег ее, глубоко затянулся и, выпустив облачко дыма, сказал:
— Поговорим немного о наших доб-лест-ных союзниках. — Слово «доблестных» он произнес с нажимом и расстановкой. — Черчилль мне знаком давно. Я вижу его насквозь. Иногда он представляется мне в образе Сизифа империализма. Он пытается вкатить в гору сорвавшийся валун — британский империализм. А валун катится назад, прямо на него. Опасное предприятие!
Сталин снова затянулся и взглянул на Гусева.
— В Лондоне, говорят, есть музей мадам…
— …Мадам Тюссо, товарищ Сталин! — торопливо проговорил посол.
— Вот-вот, Тюссо. Говорят, там собраны восковые фигуры разных знаменитостей — от королей и полководцев до убийц и грабителей. Я думаю, когда пробьет час Черчилля и он переселится в ад, его восковую копию установят где-то между полководцами и грабителями восемнадцатого века. Но вот Рузвельт… — тут Сталин слегка развел руками, — его я до конца не понимаю. Само собой разумеется, что он империалист. Но между ним и империалистом Черчиллем есть все же большая разница… Ответьте мне на такой вопрос, товарищ Громыко: как относятся к Рузвельту в самой Америке? Сидите, пожалуйста, — добавил он.
— Это не простой вопрос, товарищ Сталин, — тихо ответил Громыко.
— Простые вопросы мы здесь не обсуждаем. Вы уже успели хорошо ознакомиться с политической жизнью Америки. Мне лично она представляется… я бы сказал, своего рода калейдоскопом. Казалось бы, те же элементы, что и в любой капиталистической стране, но они окрашены в более кричащие тона. Не просто лживая демократия, а, я бы сказал, истерически лживая. Словно она сидит перед судом народов и, защищаясь от обвинений, истошно прославляет себя.
Сталин сделал паузу, пару раз затянулся и продолжал:
— И вот на фоне этого политического калейдоскопа — Рузвельт. Взглянем на него, как говорится, с одной стороны и с другой стороны. С одной — он обманывал нас со вторым фронтом. Бывало, затягивал поставки по ленд-лизу. Не раз поддерживал Черчилля в его самых немыслимых требованиях. С другой стороны, он же одергивал Черчилля. Как вы помните, в Тегеране дело доходило до схваток между ними… Непростая фигура… Есть люди, которые, считая себя марксистами, решают все вопросы по принципу: «белое — черное». Может быть, эти люди и читали Маркса, но не поняли диалектики… Как же относятся к Рузвельту в самой Америке, товарищ Громыко?
— Если отвечать коротко, товарищ Сталин, то среди большинства американцев он пользуется уважением и доверием. Хотя и с известными оговорками.
— Каких американцев? Представителей каких кругов? И капиталистических и рабочих?
— Сказав об оговорках, я хотел подчеркнуть, что и внутри этих кругов есть люди, которые относятся к Рузвельту по-разному.
— Поясните! — нетерпеливо произнес Сталин.
— Во время последнего кризиса, товарищ Сталин, американский рабочий класс почти вплотную подошел к революционной черте. Став президентом, Рузвельт много сделал для спасения американского капитализма.
— И капиталисты благодарны ему за это, верно?
— Не все. Есть буржуазные круги, которые смертельно его ненавидят за попытки государственного вмешательства в их дела, за то, что он урезал их прибыли.
— Понятно… А рабочий класс, профсоюзы?
— Единого отношения к Рузвельту нет и в этих кругах… В их отношении к президенту тоже отражаются противоречия.
— Чьи?
— И американского общества и, конечно, личности самого Рузвельта.
— Однако его в четвертый раз избрали президентом. Как вы это объясняете?
— Видите ли, товарищ Сталин, — как бы размышляя вслух, медленно произнес Громыко, — когда перелистываешь американские газеты за предвоенные годы, создается впечатление, что нет в Америке человека, на которого нападали бы больше, чем на Рузвельта. Я уже сказал, чем недовольны капиталисты. Чем же недовольны рабочие? Смягчив крайние проявления кризиса, Рузвельт отнюдь не уничтожил безработицу…
— Но я спросил: почему же тогда за него в четвертый раз голосовали миллионы людей? — повторил Сталин.
— Рузвельт признал Советскую Россию. Рабочие благодарны ему за это из чувства интернациональной солидарности. Капиталисты — за то, что он открыл перед ними новые необозримые рынки… Наконец, Рузвельт присоединился к антифашистской коалиции, и это одобряют умные капиталисты. А о рабочих и говорить не приходится! Таким образом, для миллионов американцев нынешний президент ассоциируется с идеей мира.
— Хорошо, ваша точка зрения мне ясна, — сказал Сталин. — Теперь еще один вопрос… В душе Черчилля, хоть она и черным-черна, можно явственно разглядеть неугасающее стремление Британии к мировому господству. Не считаете ли вы, что и Рузвельт претендует на нечто подобное?
— Я не сомневаюсь, что Рузвельт верит в какое-то особое предназначение Америки. Но эту «миссию» он намерен осуществлять не огнем и мечом, а с помощью политических хитросплетений и экономических рычагов… Извините, товарищ Сталин, если я недостаточно четко ответил на ваш вопрос.
— Да нет, все ясно. Я согласен с вами. Но в отличие от вас я не дипломат и поэтому сформулирую свою мысль проще. Принято говорить: «что черный, что белый черт — один черт». Но я, за неимением другой возможности, все же выбрал бы белого.
Сталин погасил папиросу о дно пепельницы и, немного помолчав, спросил:
— Как вы считаете, можно ли назвать Рузвельта порядочным человеком?
— В общежитейском смысле этого слова можно, — ответил Громыко. — Но у Рузвельта, если хотите, свого рода раздвоение личности. Класс, которому он служит, то и дело толкает его на поступки, которые в какой-то степени противоречат складу его ума, его характеру, симпатиям и антипатиям. И в этом его трагедия… Может быть, я придаю чрезмерное значение психологическим тонкостям?
— Возможно, хотя стремление разобраться в проблеме и с политической и с психологической точки зрения, так сказать, «изнутри», — это обязанность, это долг посла… — Хорошо! — сказал Сталин. — Сейчас семь сорок пять. Через пятнадцать минут сюда приедет Рузвельт. Я пригласил его, чтобы окончательно уладить дальневосточный вопрос. Решение мы уже приняли, вы это знаете. Товарищ Антонов, когда мы можем приступить к переброске двадцати — двадцати пяти дивизий в Приморье?..
Глава двадцать вторая «КОНЕК» — НЕ ВОЕННЫЙ ТЕРМИН
Коляску президента вкатили в кабинет Сталина Чарльз Болен и Майк Рилли, Приттиман довез ее только до дверей.
Сталин стоял посреди комнаты, его переводчик Павлов с раскрытым блокнотом в руках застыл у стены.
Еще подъезжая к кореизской вилле, Рузвельт отметил про себя, что резиденция Сталина куда скромнее Ливадийского дворца. Правда, увидев несколько невзрачных домиков вокруг виллы, он подумал, что маршал, очевидно, не испытывает трудностей с размещением сопровождающих его лиц.
Убранство виллы лишний раз убедило Рузвельта в том, что Сталин не придает никакого значения комфорту. Кабинет, куда ввезли коляску, снова заставил президента подумать об этом. Небольшая комната была обставлена по-спартански. Далеко не новый канцелярский стол на двух массивных, слегка обшарпанных тумбах. Лампа под стеклянным зеленым абажуром. Ряд жестких стульев у стены. Два кресла по обе стороны стола. Рядом — под углом — еще один стол, поуже и поменьше. Скатерть на нем заменяли разложенные карты.
— Я очень рад, господин президент, — сказал Сталин, направляясь к коляске, — что вы приняли мое приглашение. Поверьте, что только желание сохранить нашу беседу пока что в секрете заставило меня причинить вам некоторое… неудобство.
Он положил одну руку на поручень коляски, а другой обменялся крепким рукопожатием с Рузвельтом.
— Где бы вы предпочли сидеть, господин президент? — продолжал Сталин, оглядывая комнату. — Может быть, в том кресле?..
— Мой дорогой маршал, я не хотел бы доставлять вам никаких хлопот. Если вы не возражаете, я останусь в коляске. Последние годы я провожу в ней много времени и уже, так сказать, сросся с ней.
— Как вам будет угодно! — быстро отозвался Сталин. — Тогда, с вашего позволения, мы придвинем коляску к столу — нам, возможно, понадобятся карты. А я сяду рядом.
Он подошел к стене, взял стул и перенес его к столу. Болен и Рилли установили коляску рядом.
— Я чувствую себя так, будто сижу в ложе и с нетерпением ожидаю поднятия занавеса, — улыбнулся Рузвельт.
Майк Рилли чуть щелкнул каблуками и, повернувшись по-военному, вышел из комнаты.
— Мы ждем Черчилля? — спросил президент.
— Зачем? — Сталин слегка пожал плечами. — В решении дальневосточного вопроса он, конечно, заинтересован, но лишь косвенно. Вопрос этот прежде всего наш, советский, и американский. К тому же кое-кто из английских офицеров, как мне сообщили, отправился на экскурсию, а сам Черчилль лег спать…
— На экскурсию? — недоуменно переспросил Рузвельт. — Неужели они поехали осматривать крымские достопримечательности?
— Только одну достопримечательность, — с коротким смешком ответил Сталин. — Балаклаву.
— Чем это место знаменито? Историческими ценностями? — вежливо поинтересовался Рузвельт.
— Скорее — историческим уроком, — снова усмехнулся Сталин. — Во всяком случае… назиданием Истории. Девяносто… нет, теперь уже девяносто один год назад там произошло сражение между русскими и английскими войсками. Английская кавалерия потеряла при этом две трети своего состава…
«Крым, Крым, Крымская война второй половины прошлого века! Как я мог забыть об этом? — мысленно попрекнул себя Рузвельт. — Я столько раз вспоминал о послереволюционной интервенции, но упустил из виду, что у России с Англией есть куда более старые счеты!»
— Странная экскурсия! — воскликнул он. — И психологически необъяснимая. Совершать паломничество к местам своего позора! Может быть, это попытка компенсировать комплекс вины?
— Я не специалист по Фрейду, — усмехнулся Сталин и, резко меняя тему, сказал: — Итак, мой дорогой господин президент, я пригласил вас для разговора о перспективах войны на Дальнем Востоке. В Тегеране я обещал вам, что мы поможем Америке в ее войне с Японией…
Рузвельт почувствовал, как заколотилось его сердце.
— Теперь, — продолжал Сталин, — я хочу подтвердить это свое обещание…
«В письменном виде?» — чуть было не воскликнул президент, но сдержался.
— Как вы полагаете, господин президент, — глядя в упор на Рузвельта, проговорил Сталин, — почему я дал это обещание и почему намерен его подтвердить?
— Мой дорогой маршал, — ответил Рузвельт, — не скрою, час назад, перед отъездом к вам, я советовался с Гопкинсом…
— Никогда не забуду его первого приезда к нам тогда, в сорок первом… — неожиданно потеплевшим голосом сказал Сталин.
— Да, он верный человек и друг России. К сожалению, он тяжело болен… Так вот, я спросил Гопкинса, зачем, по его мнению, приглашает меня Сталин. Чтобы подтвердить свое обещание или… или чтобы взять его обратно? И знаете, что он мне ответил? Гарри сказал, что держать слово — ваш «конек».
— «Конек» — не военный термин. И не политический, — усмехнулся Сталин. — Так что дело тут не в «коньке». Но Гопкинс недалек от истины. Да, мы привыкли выполнять обещания, которые даем нашим союзникам. И это не «конек», а основа, на которой мы строим наши взаимоотношения с ними. Но есть и другая причина. Япония не невинный агнец, предназначенный для заклания во имя нашей дружбы. Эта страна уже не первое десятилетие угрожает нашей безопасности. И не просто угрожает. Каждый раз, когда ей кажется, что мы слабы, она испытывает на России силу своего оружия.
— Хасан, Халхин-Гол? — спросил Рузвельт.
— Да, в частности, — кивнул головой Сталин. — Но у японских милитаристов есть и другие замыслы. Для их реализации, — Сталин провел по карте пальцем, пожелтевшим от табачного дыма, — Япония давно уже держит вот здесь…
— Квантунскую армию, — закончил фразу Рузвельт.
— Вот именно. Она предназначена не для вас, а для нас…
И как только президент вспомнил эти слова Сталина, на него снова обрушился сегодняшний день.
«МЭДЖИК СООБЩАЕТ…»
О, если бы советский лидер был сейчас рядом с ним! Он спросил бы его резко, требовательно: «Так-то вы держите свое слово, маршал Сталин? Где русские дивизии, которые вы обещали перебросить в Приморье? Посмели бы японцы сорвать с места хотя бы одного своего солдата в Маньчжурии, если бы эти дивизии были на Дальнем Востоке?! А ведь в Ялте вы сказали… Вы сказали…»
… — Поэтому налицо и вторая причина, — продолжал Сталин. — Мы хотим на долгие годы обеспечить наш дальневосточный тыл.
— Таким образом, вы подтверждаете свое обещание вступить в войну с Японией через два месяца после разгрома Германии? — спросил Рузвельт.
— Через два-три месяца, чтобы быть точным, — ответил Сталин.
— И вскоре начнете переброску своих дивизий?
— Если вы считаете, что «повторение — мать учения», — щурясь, произнес Сталин, — то повторяю: «Да. Начнем».
— И ничего не потребуете в порядке компенсации за это? — настороженно спросил Рузвельт.
— «Компенсация» не то слово, — нахмурившись, ответил Сталин. — Мы хотим получить лишь то, что принадлежало России ранее.
— Вы имеете в виду…
— Да, Южный Сахалин, Курильские острова.
— Значит, требования все-таки будут?
— Господин президент, — с плохо скрываемым раздражением сказал Сталин, — представите себе на минуту, что американцы вели войну на собственной территории и потеряли при этом миллионы людей… А после победы встал бы вопрос о том, чтобы послать американцев на новую войну с одной-единственной целью — помочь России. Вы бы это сделали?.. Молчите? Тогда я вам прямо скажу: мы не сможем объяснить советскому народу, почему после страшной войны, продолжавшейся четыре года, ему снова надо взяться за оружие. Не сможем, если не скажем, что хотим вернуть исконно русские земли. В свое время нас ограбили. Мы хотим восстановить справедливость. У вас есть возражения?
Наступила длительная пауза.
Потом Рузвельт тихо сказал:
— Вы правы… Тогда у меня еще один вопрос: подпишем ли мы в Ялте документ, в котором будет зафиксировано то, о чем мы сейчас говорили?
— Я подпишу, — ответил Сталин. — А вы?
— Несомненно. Значит, остается Черчилль.
— Опыт показывает, — неторопливо, точно рассуждая вслух, проговорил Сталин, — что, когда мы с вами единодушны, Черчилль понимает, что сопротивляться бесполезно…
— Последний вопрос, маршал. Кто подготовит проект этого документа?
— Мы попросим Молотова.
— А мы — Гарримана, — после недолгого раздумья сказал Рузвельт.
И снова черные строчки замаячили перед глазами Рузвельта: «МЭДЖИК СООБЩАЕТ…»
«Сколько раз Уинстон твердил, что Сталину не следует доверять», — подумал президент.
И как только он вспомнил о Черчилле, ему показалось, что он слышит голос британского премьер-министра, громкий и торжественный: «…Я не прибегаю ни к преувеличению, ни к цветистым комплиментам, когда говорю, что мы считаем жизнь маршала Сталина драгоценнейшим сокровищем для наших надежд и наших сердец».
Это было на банкете… Что он еще сказал? Казалось, на несколько мгновений голос Черчилля заглушили другие голоса, выкрикивавшие «Слушайте! Слушайте!» — так в английском парламенте выражают одобрение оратору…
Потом Черчилль говорил о государственных деятелях, растерявших плоды победы в трудные времена, которые следовали за войнами.
И снова голос британского премьера явственно зазвучал в ушах Рузвельта: «Я искренне надеюсь, что жизнь маршала сохранится для народа Советского Союза и поможет всем нам приблизиться к менее печальным временам, чем те, которые мы пережили недавно. Я шагаю по этому миру с большей смелостью и надеждой, когда сознаю, что нахожусь в дружеских и близких отношениях с этим великим человеком, слава которого прошла не только по всей России, но и по всему миру».
Теперь уже Рузвельт не только слышал, но и видел Черчилля. И не его одного. В воображении президента возник длинный стол, уставленный графинами, бутылками, блюдами и тарелками… Все это представилось ему настолько отчетливо, что он даже обвел взглядом сидящих за столом людей — Анну, Стеттиниуса, Маршалла, Леги, Бирнса, Флинна, Гарримана, его дочь Кэтлин, Гопкинса, Болена, Идена, Брука, Портала, дочь Черчилля Сару в военной форме, Кадогана… А вот сидят русские: Сталин, Молотов, Вышинский, генерал Антонов, адмирал Кузнецов, Громыко, Гусев, Майский, переводчик Павлов…
Да, да, это был поздний обед, который Сталин давал в Юсуповском дворце.
«Зачем Черчилль так лицемерил?.. Нет, не тогда, когда настраивал меня против русских, а на этом банкете, — подумал Рузвельт. — Ведь он всегда ненавидел Сталина и был убежден, что советский лидер олицетворяет главное препятствие на пути восстановления Британской империи, мешает Англии играть руководящую роль в Европе…»
Но вот поднялся Сталин. Кто-то постучал вилкой по бокалу, призывая к тишине. В ушах президента зазвучал хорошо знакомый ему глуховатый голос. И непонятный русский язык как бы сплетался с почти синхронным переводом Павлова…
Сталин провозгласил тост за лидера Британской империи, сочетающего политический опыт с умением руководить военными операциями. Он говорил что-то еще, но президент мог легко восстановить в памяти лишь последние фразы: «…За здоровье человека, который может родиться лишь раз в столетие и который мужественно поднял знамя Великобритании. Я сказал то, что чувствую, то, что у меня на душе, и то, в чем я уверен».
«Если так, — подумал сейчас Рузвельт, — значит, лицемерил и Сталин? Ведь не мог же он простить Черчиллю интервенцию, простить обманы, связанные с открытием второго фронта, не мог не понимать, что британский премьер стремится сохранить все то, что глубоко чуждо Сталину и как лидеру России и как большевику. Не мог он высказать то, что у него на душе… А может быть, он сознательно заглушал свои чувства во имя единства союзников, во имя уже близкой победы?.. Ведь казалось, что там, в Ялте, мы договорились обо всем: и о будущем Германии, и о репарациях, и о границах Польши, и об Организации Объединенных Наций, и, главное — главное для Америки, — о Японии. „Соглашение по Дальнему Востоку“ и сейчас хранится в сейфе в Белом доме. И вот теперь, вдруг, „МЭДЖИК СООБЩАЕТ…“»
…Когда банкет подходил к концу, президент вдруг почувствовал себя плохо. У него онемела левая часть головы, и он стал тяжело дышать. Никто этого не заметил, кроме его дочери. Она тотчас же настояла, чтобы отец прилег хотя бы ненадолго в соседней комнате.
— Я сейчас позову Макинтайра! — сказала Анна, когда Рузвельта уложили на кушетку.
— Нет! — решительно возразил он. — Не поднимай суеты. Он меня замучает своим осмотром. А у меня просто разболелась голова.
— Тогда вот что, — сказала Анна, — рядом со мной сидел лорд Моран, врач Черчилля. Я сейчас вернусь и попрошу у него таблетку от головной боли. У него наверняка что-нибудь найдется.
И, не дожидаясь ответа, выбежала из комнаты. Через две-три минуты она вернулась в сопровождении Морана.
— Это же нелепо! — сдавленным голосом проговорил Рузвельт. — Мне нужна обыкновенная таблетка от головной боли. Стоило ли беспокоить вас, сэр, из-за такой чепухи?
— Я заранее подтверждаю ваш диагноз, мистер президент. Это «чепуха». Но у меня есть таблетки, которые дают при повышенном давлении, и есть таблетки, которые дают при пониженном. Я измерю вам давление…
Рузвельт начал было возражать, но Моран, ни слова не говоря, извлек откуда-то тонометр.
Через пять минут врач как ни в чем не бывало вернулся в банкетный зал.
Несколько позже за столом появился Рузвельт.
Он никогда не узнает, о чем говорили Моран и Черчилль, когда вернулись после банкета в Воронцовский дворец.
— Президент почувствовал себя плохо? — спросил британский премьер, раздеваясь перед вечерним осмотром. — Сталинские деликатесы не всегда приемлемы для желудков англосаксов, не так ли?.. Что же с ним было?
— Думаю, что ничего нового, — ответил врач, приступая к осмотру своего пациента.
— Что вы хотите этим сказать?
— Только то, что, очевидно, и без меня хорошо известно его врачам.
— А именно? — настороженно спросил Черчилль.
— У президента тяжелейший артериосклероз… — тихо произнес Моран. — Не хотел бы я быть на месте его врачей.
— Мы вдвоем, и никто нас не слышит. Скажите мне, это… опасно для жизни?
— Я думаю, сэр, что жить президенту осталось считанные месяцы…
«Считанные месяцы… Это ужасно, — размышлял Черчилль, лежа в постели. Что же будет? Ведь мы с ним так хорошо понимаем друг друга… И вот теперь, перед самым окончанием войны…»
И вдруг Черчилль понял, что лжет. Лжет самому себе. Ведь он не раз думал о том, что Рузвельт мешает ему. Если бы не президент, он, премьер Великобритании, мог бы призвать весь цивилизованный мир к борьбе с большевизмом… Президент мешал ему. Всегда мешал. И если они договаривались, если действовали сообща, — а это бывало нередко, — Черчилля никогда не оставлял страх, что в решающий момент Рузвельт поддастся Сталину, его логике, его воле… Да и, кроме того, президент относится к России с какой-то иррациональной симпатией, а он, Черчилль, ненавидит страну большевиков… Но если Рузвельт уйдет из жизни… О, сколько давно задуманных планов осуществит тогда Черчилль!.. Какие речи произнесет! Каким тоном будет разговаривать со Сталиным!.. А вдруг Моран ошибается? Как долго он осматривал президента? Минут десять, не больше… Впрочем, он очень опытный врач, на его мнение можно положиться. Наверное, есть симптомы, которые исключают ошибку. Диагноз, конечно, правильный. Ну, будущее покажет.
«Хватит, довольно воспоминаний, ведь они лишь отблески жизни, а не сама жизнь, — подумал Рузвельт, когда после обеда его перевезли в спальню. — В прошлом ничего уже нельзя изменить, к нему невозможно что-либо добавить — ни к тому, что происходило в Ялте, ни к принятым в Крыму решениям, ни к беседе со Сталиным, ни к шифрограмме Маршалла».
Как долог, как мучительно долог сегодняшний день — одиннадцатое апреля 1945 года! Неутешительный разговор со Стеттиниусом, потом позирование. Сеанс показался Рузвельту самым утомительным из всех. Президент был зол на художницу. Когда его ввозили в гостиную и вывозили из нее, он успевал мельком взглянуть на свое изображение. И этот портрет вызывал у него тягостное чувство. Сколько раз в последние дни — во время утреннего одевания и вечернего раздевания — он заглядывал в зеркало и видел свое отражение! Седые поредевшие волосы, глубокие морщины, складки дряблой кожи, нависающие над воротником, темные мешки под глазами…
Было ли все это на портрете? Да, было, конечно. Рузвельт не смог бы попрекнуть умелую художницу тем, что она, пытаясь польстить ему, омолаживает его. Нет, на портрете он выглядел старым, но это была какая-то искусно подлакированная старость. И седина, и складки кожи, и мешки под глазами — все это было… Было и не было. Свет выхватывал все то мужественное и привлекательное, что осталось в лице президента от прошлых лет. Все сегодняшнее скрывалось… нет, не в нарочитой, а как бы в естественной тени.
Но ведь истинную картину видел не только Рузвельт. Ее наверняка видели и те, кто сидел в гостиной, наблюдая за медленным рождением портрета… И за обедом все они пристально смотрели на него. И при этом, конечно, думали: была ли случайной боль, которую президент ощутил во время сеанса, или она наложила какой-то отпечаток на его лицо, добавила черточку, которой вчера еще не было?..
В спальне постель была уже раскрыта, и откинутый треугольник одеяла почти касался пола. Рузвельту очень хотелось спать, но он, недовольно нахмурившись, отвернулся от постели.
Может быть, он просто боялся сна? Был убежден, что, пока бодрствует, с ним ничего не может произойти? А во сне, когда отключена воля, когда он бессилен управлять собой…
Президент велел усадить себя в кресло, покрыть ноги шотландским пледом и придвинуть ближе курительный столик. Убедившись, что сигарет достаточно и спички на месте, он сказал Приттиману, что вызовет его, когда решит, что пора ложиться, и, оставшись один в полутемной комнате, закурил.
Он составил мысленный список того, о чем он не должен думать. О «Мэджике». О нежелании Сталина выполнить свое обещание. О его отказе послать в Сан-Франциско министра иностранных дел…
Но Рузвельт оказался в положении того сказочного персонажа, которому были обещаны золотые горы при условии, что он «не будет думать о белых медведях». И именно «запретные» вопросы стали терзать душу президента.
За окнами быстро темнело. Было тихо. Лишь время от времени ветер стучал ветвями деревьев по рамам, точно напоминая о чем-то роковом, неотвратимом.
Рузвельт курил одну сигарету за другой. Иногда он замечал, как в дверях возникала и тотчас же исчезала узкая полоска света. Он знал, что это Хассетт, Рилли или Приттиман украдкой заглядывают в комнату, чтобы лишний раз убедиться: сигарета в руках у президента или в пепельнице, а не на полу. Все знали, что теперь Рузвельт нередко засыпает с непогашенной сигаретой, и боялись пожара.
Он курил и курил… В комнате уже было так темно, что он не различал даже мебели.
Ему хотелось спать. Он чувствовал, что, если сдастся, бросит сигарету в пепельницу, закроет глаза, то…
Веки его опустились. Снилось ли ему или просто казалось, что чьи-то заботливые руки поднимают его куда-то в воздух, все выше и выше, несут… опускают на землю…
Глава двадцать третья СОН
Широко шагая, даже чуть подпрыгивая на своих крепких, слегка пружинящих ногах, шел по московской улице Франклин Делано Рузвельт, тридцать второй президент Соединенных Штатов Америки.
На нем была темно-синяя накидка американского военно-морского офицера и старая, помятая фетровая шляпа.
Как он попал сюда, в центр Москвы? Как преодолел тысячи миль, отделяющих Уорм-Спрингз от советской столицы? Каким чудом ожили его уже много лет бездействующие ноги? Рузвельт не задавал себе этих вопросов. Все происходило как бы само собой и в пояснениях не нуждалось. Он шел легкой походкой, шел, расстегнув накидку, чтобы она не мешала ему широко размахивать руками, шел, будто парил над тротуаром.
Да, президент шел по Москве — в этом у него не было ни малейшего сомнения. В последние месяцы виды советской столицы очень часто появлялись на обложках иллюстрированных американских журналов, и сейчас они вставали перед ним воочию…
Красная площадь, вот на стене длинного, приземистого здания развешаны портреты: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Рузвельт сразу же узнал площадь по старинной церкви с разноцветными куполами и, повернув голову вправо, убедился, что идет вдоль зубчатой стены Кремля. Он увидел красный Мавзолей у стены…
Сколько раз в своей жизни президент — и вслух и мысленно — произносил это слово «Кремлин» — «Кремль». И вот теперь он все это видел.
Он знал, что идет в Кремль, идет для того, чтобы встретиться со Сталиным, встретиться и задать ему вопрос: «Как вы могли?! Почему вы обманули меня, перечеркнули свое обещание начать переброску советских дивизий на Дальний Восток?»
Желание задать этот вопрос, мучительное и непреоборимое, подняло Рузвельта на ноги, пронесло над морями и континентами…
И вдруг в ушах президента зазвучали слова маршала, слова, произнесенные в Ялте, на одном из банкетов:
«В союзе союзники не должны обманывать друг друга. Быть может, это наивно? Опытные дипломаты могут сказать: „А почему бы мне не обмануть моего союзника?“ Но я как наивный человек считаю, что лучше не обманывать своего союзника… Возможно, наш союз столь крепок именно потому, что мы не обманываем друг друга; или, может быть, потому, что не так уж легко обмануть друг друга?»
Да, об этих словах можно будет напомнить Сталину при встрече. Спросить с убийственной иронией: не эта ли мысль владела им, когда он давал свое обещание помочь Америке?
«Нет, нет, не надо! — тут же одернул себя Рузвельт. — Может быть, говоря об обмане, Сталин имел в виду тайну, которой я должен был бы поделиться с ним, если считаю, что вправе рассчитывать на его искренность. Впрочем, нет, не должен! Неизвестно еще, взорвется ли эта бомба».
И, дав себе «отпущение грехов», Рузвельт снова ощутил обиду на Сталина. Да, эту обиду он выскажет ему без обиняков!
Президент шел широким шагом, размахивая руками, шел без всякой посторонней помощи, так, как ходил четверть века тому назад. Где вход в Кремль? Пропустят ли его туда? Там ли, за зубчатой стеной, находится сейчас Сталин? Согласится ли он его принять? Рузвельт не задавал себе этих вопросов. Он знал только одно: еще десять — пятнадцать минут, и он встретится со Сталиным.
Какая интуиция, какие воспоминания о том, что он видел на фотоснимках и киноэкранах, какие рассказы американцев, побывавших в Кремле, указывали сейчас президенту путь? Он не отдавал себе в этом отчета. Он быстро шел, уверенный, что идет именно туда, куда должен идти…
Он уже у ворот, где стоят часовые. Ему и в голову не приходит мысль, что они его могут остановить. И его действительно никто не задерживает. Он только спрашивает неизвестно кого: «Как пройти к маршалу Сталину?» И кто-то незримый отвечает ему. Ответ доносится неведомо откуда. Нет, не из пространства, а из глубины подсознания Рузвельта: «Сейчас направо… потом прямо… теперь вон в тот подъезд… А сейчас на второй этаж…»
Может быть, Гопкинс, Гарриман или Черчилль рассказывали ему, как они проходили в кабинет Сталина?
И вот президент у заветной двери. Это, конечно, приемная. У стен в креслах и на стульях сидят какие-то люди в военной форме и в гражданском. Рузвельт видит их мельком, как бы боковым зрением, они, по-видимому, не замечают его…
Все внимание президента сосредоточено на заветной двери. «Постучать или не постучать?» — спрашивает он себя. Потом прикасается ладонью к двери, нажимает на нее.
…Сталин стоит посреди большой комнаты. Стоит неподвижно. Какое-то мгновение Рузвельту кажется, что это не сам Сталин, а его портрет, — точно такой же, во весь рост, он только что видел на стене здания напротив Кремля.
Но все же президент поспешно произносит:
— Здравствуйте, мой дорогой маршал!
Он видит, как большой портрет вдруг оживает. Слегка вздрагивают в улыбке усы. В правой руке оказывается трубка.
И тут Сталин говорит:
— Здравствуйте, господин президент!
Они по-прежнему стоят друг против друга. Сталин не предлагает Рузвельту сесть и не садится сам. Видимо, он очень занят. Президент не предупредил его о своем приходе, а в приемной ждут люди…
— Я… пришел на минуту, всего лишь на минуту, маршал, — слегка задыхаясь от волнения, произносит Рузвельт. — Мне нужно задать вам вопрос… Только один вопрос…
Сталин молча смотрит на него.
— Я пришел, чтобы спросить: почему же вы?.. — успевает выговорить Рузвельт, чувствуя, что у него сжимается горло.
— Это не так, господин президент! — медленно, спокойно говорит Сталин, и Рузвельту кажется, будто его слова осязаемы, будто они тяжело повисают в воздухе.
«Откуда он знает, о чем я хочу его спросить?.. Как, каким образом он догадался?.. Может быть, он и впрямь умеет читать в душах?.. Нет, нет, он, конечно, имеет в виду что-то другое».
— Я пришел спросить вас… — срывающимся голосом говорит президент. — Вы дали мне обещание помочь нам на Дальнем Востоке…
— Мы не отказываемся от нашего обещания. Однако война еще не кончилась, — по-прежнему неторопливо отвечает Сталин.
— Но вы обещали и другое! — взволнованно восклицает Рузвельт. — Вы обещали начать переброску своих дивизий на Дальний Восток и этим сковать Квантунскую армию…
— И что же? — пристально глядя в глаза президенту, спрашивает Сталин.
«Почему он разговаривает со мной таким ледяным тоном?» — думает Рузвельт. На мгновение перед его мысленным взором встает тот Сталин, с которым он беседовал в Кореизе… Но видение тут же исчезает. Перед ним сейчас другой Сталин — холодный, чужой, неприступный…
— Как «что же»?! — с отчаянием в голосе спрашивает президент. — Вы же не выполнили своего обещания! Японцы начали переброску Квантунской армии на тихоокеанский театр военных действий… Вы… вы обманули меня!
— Нет, господин президент, мы вас ни разу не обманывали! — спокойно произносит Сталин и, немного помолчав, спрашивает: — Можете ли и вы сказать, что никогда нас не обманывали?
В комнате вдруг стало темнее. Или это только кажется Рузвельту? Он думает: «Неужели уже наступил вечер? Может быть, в Москве, как и на юге, сумрак сгущается внезапно?»
— Но ведь мы открыли второй фронт, — пытается возразить президент. — Мы же его открыли…
— У нас в народе, — Сталин невесело улыбается, — у нас в народе говорят: «Дорого яичко ко Христову дню».
— Что это значит?
— Это значит, что подарок особенно ценен тогда, когда его получаешь вовремя. А ваш «подарок»…
— Разве он не пригодился? Разве мы не помогли вам?
— Да, но когда немцы были уже фактически разгромлены Красной Армией.
— Но раньше мы не могли.
— Вспомните Арденны, господин президент, — с невеселой усмешкой глядя на Рузвельта, говорит Сталин. — Когда союзники попали в немецкую мышеловку и, оказавшись на грани серьезного поражения, попросили нас о помощи, слов «не могли» в нашем лексиконе не было.
Маршал замолкает и выжидательно смотрит на Рузвельта. Президент тоже молчит.
— Еще немного, и не потребовалось бы никакого второго фронта, — продолжает Сталин. — Вы это знаете… и Черчилль тоже знает.
— Мне казалось, что вы поставили крест на всем плохом, что было между нами, — печально говорит Рузвельт. — Мне казалось, что вы решили не вспоминать прошлое… И вы никогда не обманывали меня, а теперь…
— Я и теперь вас не обманываю. Слушайте!
И неожиданно громким, резким голосом Сталин произносит:
— Товарищ Антонов!
И тотчас же неизвестно откуда в комнату доносятся слова:
— Слушаю вас, товарищ маршал!
— Сколько дивизий на сегодняшний день переброшено в Приморье?
— Пятнадцать, товарищ маршал! — раздается ответ. — И еще десять находятся в пути следования.
— У меня все, — говорит Сталин. — Спасибо.
И в комнате вновь наступает тишина.
— Вот так, господин президент, — задумчиво покачав головой, говорит Сталин. — А теперь присядем.
И, указав на стоящий у стены диван, первым подходит к нему.
Теперь они сидят рядом. Сталин закуривает трубку. Рузвельт опускает руку в карман в поисках пачки «Кэмел». Но карман пуст…
— Закурите мои, — предлагает маршал, встает, подходит к письменному столу и возвращается с раскрытой зеленой коробкой. Сколько раз президент видел такие же на столах Конференций в Тегеране и Ялте!
Первый раз в жизни Рузвельт закуривает папиросу. У нее какой-то странный вкус. Трудно удержаться от кашля.
— Непривычно? — спрашивает Сталин.
— Непривычно для меня то, что я оказался перед вами в ложном положении. А папиросы… Наверное, мы должны, научиться уважать ваши вкусы и считаться с ними… Вы знаете, мне жаль, что вы не родились американцем.
— Это почему же? — недоуменно спрашивает Сталин.
— Нам не хватает честных людей… А ваши таланты и в Америке привели бы вас на вершину власти.
— Я родился в семье сапожника, господин президент, — усмехается Сталин.
— Какое это имеет значение? Америка — страна…
— Знаю, — прерывает Сталин и зажигает потухшую трубку, — страна… «равных возможностей», не так ли? Теперь разрешите задать вам вопрос. Представьте себе, что вы — со всеми вашими данными и способностями — родились бы в бедной семье и не смогли бы преодолеть социальные барьеры на пути к президентству. Ведь не было бы тогда Франклина Рузвельта в Белом доме, и не было бы тогда в Америке такого хорошего президента… Или представьте себе на мгновение, что вы родились бы в негритянской семье. Стали бы вы президентом?.. О чем вы задумались? — спрашивает Сталин умолкшего Рузвельта. — О «равных возможностях»?
— Да. Но не о тех, о каких вы говорите. Я думаю о равных возможностях приносить друг другу пользу… Когда в тридцать третьем году я настоял на признании большевистской России, мне казалось, что я ее облагодетельствовал. Мог ли я думать, что настанет время, когда Россия спасет нашу страну от гитлеровского нашествия? И мог ли я предполагать, что без вашей помощи сотни тысяч американцев были бы обречены на гибель в пучине Тихого океана и на его островах?
— Надо всегда смотреть вперед, господин президент, — негромко говорит Сталин.
…И вдруг стены комнаты сотряслись от какого-то взрыва. Оконные стекла задребезжали… Затем второй… Третий…
— Что это?! — вскакивая с дивана, восклицает Рузвельт. — Немцы бомбят Москву?
— Успокойтесь, господин президент, — оставаясь сидеть на своем месте, спокойно и добродушно говорит Сталин. — Это салют. Страна салютует войскам Второго Белорусского фронта, освободившим польский город Гданьск.
«Салют… Гданьск…» — все еще не придя в себя, мысленно повторяет Рузвельт. Да, теперь он вспоминает сообщения о московских салютах, он ведь не раз видел красочные фотографии фейерверков в американских журналах.
— А где же… фейерверк? — растерянно спрашивает Рузвельт.
— Подойдите к окну, господин президент, — говорит Сталин и, сделав несколько шагов, отодвигает белую складчатую штору.
И Рузвельт видит, как над Москвой взвиваются огненные букеты и осыпаются на людные улицы гирляндами многоцветных искр.
Потом все смолкает.
Сталин задергивает штору, и в комнате становится темно.
— Понравилось? — спрашивает он, зажигая свет, и в голосе его звучит нескрываемая гордость.
— Это не то слово, маршал, — печально произносит Рузвельт. — Когда я смотрел на огни, взметающиеся ввысь, мне казалось, что это души ваших людей со славой устремляются в вечность…
— Да. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины… Но я сказал, что надо всегда смотреть вперед. И повторяю это. Как вы представляете себе наше послевоенное будущее, господин президент? Какое слово, какой символ избрали бы вы для обозначения этого будущего?
— А вы, маршал?
— Единство.
— Это хорошее слово… Но все мы смертны, маршал. Скажите мне положа руку на сердце: убеждены ли вы, что и для тех, кто придет вам на смену, это слово останется путеводной звездой?
В комнате воцаряется тишина. Сталин молчит. Потом, глядя в глаза президенту, он медленно говорит:
— Я убежден. А вы?.. Уверены ли вы в тех, кто придет вам на смену?
И вдруг все исчезло. Не было Сталина, раздвинулись, растворились в воздухе стены его кабинета, и Рузвельт как бы со стороны увидел самого себя, шагающего между каким-то зданием и высокой стеной с редкими зубцами.
И вдруг его обожгла мысль: «А на каком языке мы разговаривали? Ведь не было ни Павлова, ни Болена. В комнате вообще никого не было, кроме нас. И все же мы понимали друг друга. На каком языке говорил Сталин? Английского он не знает. Но как же он тогда понимал меня? И как я его понимал? Чудо! Истинное чудо!.. А куда я сейчас иду? Ах, да, конечно, к тем самым воротам под башней, через которые вошел сюда, в Кремль…»
Рузвельту было до боли обидно, что его разговор со Сталиным прервался так неожиданно. Он хотел снова увидеть его — пусть только на мгновение. Быть может, президента угнетала мысль, что он все же умолчал о бомбе?..
Рузвельт подошел к Кремлевским воротам и вдруг… остановился в недоумении.
Из позднего вечера он шагнул в полдень. Сияло солнце, по улице мчались машины привычных марок — «форды», «паккарды», «кадиллаки»… Да где же он, черт побери? Прямо перед ним высился старинный особняк. Но это… это же «Блэйр-хаус», резиденция иностранных гостей президента… А раз так, то… Рузвельт быстро обернулся. Он увидел Белый дом, огражденный металлической решеткой. Значит, он на Пенсильвания-авеню? Да, президент был в Вашингтоне.
«Стало быть, я у себя дома! — подумал он. — Бывают же чудеса! Сейчас поднимусь в Овальный кабинет и прикажу позвонить в Уорм-Спрингз, чтобы за мной выслали самолет! Воображаю, какой там поднялся переполох, когда я исчез. Но все они замрут от удивления, когда я расскажу им, где побывал и с кем разговаривал!»
Рузвельт подошел к металлической изгороди, внимательно наблюдая за стоявшим у будки охранником. Интересно, как тот будет реагировать на появление президента, идущего пешком, а не подъехавшего, как обычно, в автомобиле. Но, к удивлению Рузвельта, охранник не обратил на него ни малейшего внимания, будто мимо прошло бестелесное существо. Не здоровались с ним и люди, спешившие в Белый дом или выходившие оттуда.
«Черт с ними!» — подумал Рузвельт. Он торопился в свой Овальный кабинет. Ему не терпелось позвонить Маршаллу и спросить, есть ли какие-нибудь новости с Дальнего Востока. И вот он у двери, которую раскрывал и закрывал так много раз за последние двенадцать лет, с тех пор, как стал президентом.
Впрочем, обычно ее раскрывали за него «Па» Уотсон, Билл Хассетт, Майк Рилли или кто-нибудь из сотрудников охраны. Какое счастье, когда ты сам можешь открыть дверь, толкнув ее ногой!..
Легким ударом ноги он распахнул дверь Овального кабинета.
За столом, с которого были убраны — президент сразу же это заметил — все его любимые безделушки, сидел и рылся в ящиках…
«Черт возьми, да кто же это такой? — подумал Рузвельт. — И как он смеет?.. Что тут происходит в конце концов?!.»
— Хэлло, мистер! — крикнул президент, делая шаг к столу. — Кто это вам разрешил?..
Он осекся. Человек, рывшийся в ящиках стола, повернул к нему голову. Мелькнули очки в тонкой золотой оправе…
«Господи, да это же Трумэн! — мысленно воскликнул Рузвельт. — Какого дьявола он роется в моем столе?»
— Хэлло, Гарри! — сдерживаясь и заставляя себя говорить дружелюбным тоном, произнес президент. — Как вас сюда занесло? Что-нибудь ищете? Или, — с усмешкой добавил он, — примеряете президентское кресло?
Тонкие губы Трумэна разжались, и он что-то сказал. Но Рузвельт не разобрал ни одного слова.
— Ничего не понимаю. Говорите громче!
Трумэн быстро зашевелил губами. Он говорил и говорил, до ушей Рузвельта доносились какие-то звуки, но они были лишены всякого смысла.
— Я обращаюсь к вам с вопросом, Гарри, — раздраженно сказал президент, — и, кажется, говорю с вами на чистом английском языке, а вы в ответ несете какую-то тарабарщину.
Трумэн развел руками и снова что-то залопотал. Судя по всему, он не понимал, что говорил ему Рузвельт.
— Ну, мистер Трумэн, сейчас я отучу вас от этих дурацких шуток, — воскликнул президент и, открыв дверь, крикнул в пустое пространство: — Хэлло! Здесь есть хоть один человек, говорящий по-английски?
…И вдруг глаза его ослепил яркий свет. Он зажмурился. Над его ухом раздался знакомый мужской голос:
— Конечно, конечно, я здесь, мистер президент!
Рузвельт протер глаза. На тумбочке горела лампа, а над ним склонился Хассетт.
— Билл? Это ты?! — удивленно произнес президент. — Погаси свет. Мне приснился отвратительный сон. Точнее, два сна. Один хороший, а другой…
Он попытался шевельнуть ногами. Безуспешно. Чужие, омертвевшие ноги.
— Я так и понял, мистер президент, когда услышал ваш голос. Вы кричали во сне. И тогда я решил вас разбудить. Тем более что я не мог не разбудить вас.
— Мне такое снилось… — устало сказал Рузвельт. — Сначала было все хорошо, а потом какой-то тяжелый кошмар.
— У меня есть чудесное лекарство от всех кошмаров. Я его только что получил. И зажег лампу, чтобы вы могли сразу же им воспользоваться.
Хассетт протянул президенту тонкий листок бумаги, испещренный большими печатными буквами.
— Дай пенсне! — сказал президент, сжимая листок обеими руками.
И прочитал:
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ОТ МАРШАЛЛА.
ВРУЧИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ.
ДОНЕСЕНИЕ О ПЕРЕБРОСКЕ ЧАСТЕЙ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ
НА ТИХООКЕАНСКИЕ ОСТРОВА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ПОВТОРЯЮ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИСТИНЕ.
СОГЛАСНО РАЗЪЯСНЕНИЯМ НАШИХ ЭКСПЕРТОВ
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА ВОЗНИКЛА В СИЛУ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗУМЕНИЯ.
ИЗ-ЗА НЕЧЕТКОСТИ ПЕРЕХВАТА.
ЯПОНСКОЕ СЛОВО ХОНСЮ, НАЗВАНИЕ САМОГО КРУПНОГО
ИЗ ОСНОВНЫХ ОСТРОВОВ ЯПОНИИ, БЫЛО ПРИНЯТО
ЗА СЛОВО МАНСЮ, НАЗВАНИЕ МАНЬЧЖУРИИ.
ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПОВТОРЯЮ ПОДТВЕРЖДАЮТ,
ЧТО ПЕРЕБРОСКИ ЧАСТЕЙ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ НЕ ПРОИСХОДИТ.
МАРШАЛЛ.
Глава двадцать четвертая НЕТ, ЭТО БЫЛ НЕ ОБМОРОК
12 апреля 1945 года
…Хассет принес окончательный проект. Письмо получилось вежливое и дипломатически тонкое. «Берн» трактовался в нем как мелкий инцидент на фоне того главного, что связывало в этой войне Соединенные Штаты и Советский Союз.
«Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении Бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши войска установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся».
Рузвельт дочитал письмо до конца и тщательно вывел тушью свою полную подпись.
— Отправь! — сказал он Хассетту, протягивая ему письмо.
Потом посмотрел на часы.
— В нашем распоряжении, — обратился он к усердно работавшей своими кистями Шуматовой, — пятнадцать минут. Не больше.
Шуматова пришла в отчаяние. Она все еще билась над складками на накидке президента и цветом его галстука. Кто знает, согласится ли президент позировать ей и завтра?..
…В это мгновение голову президента пронзила острая боль, та же боль в затылке, что и утром, только гораздо сильнее. Люси показалось, что президент сник и сидел в своем кресле, совсем не так, как несколько минут назад.
Неугомонная Шуматова тоже заметила это, быстро подошла к Рузвельту и укоризненно сказала:
— Вы опять изменили позу, господин президент.
Она старательно разгладила новые складки, появившиеся на накидке, и вернулась на свое место.
— Очень болит голова… — глухо сказал Рузвельт. Он закрыл глаза. Лицо его исказила гримаса страдания. И все же никто еще не понимал, что с ним происходит. Даже когда его рука упала с подлокотника и безвольно свесилась.
Маргарет Сакли спросила:
— Ты что-нибудь уронил?
Президент открыл рот, но не произнес ни звука.
— Франклин, что с тобой?! — с дрожью в голосе воскликнула Люси и подбежала к Рузвельту. Маргарет Сакли отбросила свое вышиванье и тоже вскочила с места.
— Что с тобой?! — уже во весь голос крикнула Люси.
Но Рузвельт был без сознания и только тяжело, с хрипом дышал.
Шуматова бросилась вон из комнаты. Первым, кого она увидела, был Бири, сотрудник охраны президента.
— Врача, врача! — истерически закричала Шуматова. — Скорее врача! У президента обморок!..
Но это был не просто обморок… Уже не первый год смерть ловила этого человека, бросившего ей вызов. Подтачивала его физические силы. Подстерегала на море и в воздухе. Вилась над ним в Тегеране, в Ялте, пытаясь не упустить мгновения, когда спазм сжимал кровеносные сосуды президента, надеялась, что он уже не оправится после очередного головокружения или удушья… И, наконец, лишила его сознания.
…Президент неподвижно лежал на кровати, издавая страшные хрипы. У его изголовья стоял Говард Брюнн.
Телеграфные провода, радиоволны несли в Вашингтон отчаянные призывы:
— Скорее!.. Скорее!.. Врачей! Еще врачей! Президент умирает…
Из Вашингтона Росс Макинтайр позвонил в Атланту доктору Джеймсу Поллину, одному из ведущих терапевтов страны. В старой машине, знавшей лучшие времена, доктор Поллин за час сорок минут преодолел семьдесят миль, отделявших Атланту от Уорм-Спрингз.
Впоследствии он вспоминал: «Президент был на грани смерти, когда я добрался до него. Он обливался холодным потом, лицо было пепельно-серым, и дышал он с трудом… Пульс едва прощупывался».
На этот раз победа — проклятая победа! — осталась за смертью.
На прикроватной тумбочке, у изголовья Рузвельта остался лежать недочитанный детектив Картера Диксона. Книга была раскрыта на семьдесят восьмой странице, где начиналась глава под названием «Шесть футов земли».
…Билл Хассетт пригласил в свой коттедж Мерримэна Смита, Роберта Никсона и Гарольда Оливера — трех корреспондентов, сопровождавших Рузвельта в Уорм-Спрингз.
— Джентльмены! — медленно проговорил он. — Мой печальный долг состоит в том, чтобы сообщить вам, что сегодня, в три часа тридцать пять минут президент скончался…
На следующее утро в Москве американский посол Аверелл Гарриман попросил, чтобы его срочно принял Сталин.
Войдя в кремлевский кабинет, посол произнес только одну фразу:
— Маршал, вы уже знаете, что президента Рузвельта нет в живых…
Несколько секунд Сталин молча смотрел на Гарримана. Потом отвернулся к окну. Сломал папиросу и бросил ее в пепельницу. И снова перевел взгляд на посла:
— Это большая… огромная потеря, — сказал он. И, медленно разведя руками, тихо произнес: — Что делать?..
Гарриман стоял, опустив голову. Он не знал, как понимать этот вопрос. Как чисто риторический? Или же Сталин советовался с ним?
— Маршал, — не поднимая глаз, сказал Гарриман, — одной из последних печальных мыслей президента была мысль о Сан-Франциско, о том, что вы решили не посылать туда своего министра иностранных дел. Может быть, теперь в память о президенте…
— Министр поедет в Сан-Франциско, — прервал посла Сталин.
ФРАНКЛИН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ
СКОНЧАВШИЙСЯ 12 АПРЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
ФРАНКЛИН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ.
ЯВЛЯЛСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ И ПОПУЛЯРНЕЙШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
АМЕРИКАНСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ СТРАНЫ.
…РУЗВЕЛЬТ УЧАСТВОВАЛ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ТРЕХ ЛИДЕРОВ
ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ — В ТЕГЕРАНЕ В 1943 ГОДУ И В КРЫМУ
В 1945 ГОДУ. ПРОГРЕССИВНЫЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ РУЗВЕЛЬТА,
ЕГО НЕПРИМИРИМОСТЬ К ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ И СТРЕМЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ МИРА В БУДУЩЕМ
НЕМАЛО СПОСОБСТВОВАЛИ УСПЕХУ ЭТИХ ИСТОРИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ.
ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ РУЗВЕЛЬТА ВЫЗОВЕТ СКОРБЬ ВО ВСЕХ СВОБОДОЛЮБИВЫХ СТРАНАХ.
«ПРАВДА», 13 АПРЕЛЯ 1945 г.
________________________________
1983–1984― НЮРНБЕРГСКИЕ ПРИЗРАКИ ―
КНИГА ПЕРВАЯ
…И вот тогда появлялись крысы…
В капкане
С наступлением вечера Берлин окутывала тишина. Она время от времени нарушалась гудением перегретых автомобильных моторов и воем сирен: куда-то мчались советские броневики, лавируя между руинами. Ветер колыхал красные флаги над городской и районными комендатурами. Красное знамя развевалось над изрешеченным осколками снарядов куполом рейхстага…
Темные, загроможденные развалинами улицы были на редкость безлюдными. В ушах берлинцев все еще звучали последние, особенно исступленные речи Геббельса, призывавшего отстаивать каждую улицу, каждый дом и предвещавшего поголовную резню, если русским удастся захватить город.
Русские захватили город. Но резни не произошло. Единственное, чего требовали победители от населения, — это выйти на расчистку улиц. За эту работу полагались дополнительные продовольственные карточки.
С приближением ночи тысячи бездомных спешили найти ночлег. Везло тем, кто жил на окраинах Берлина, — там многие дома сохранились, центр же представлял собой сплошные руины; здесь, в мертвых коробках домов, под уцелевшими крышами обретали ночной приют те, кто лишился своих жилищ, кому не удалось вовремя захватить место в подвалах или бомбоубежищах. Они лежали молча, плотно закрыв глаза, прислушиваясь к вою весеннего ветра, — стараясь уснуть, уснуть как можно скорее.
…Но тогда появлялись крысы.
Их было много, потому что и они лишились своих пристанищ. Длинномордые, с хищно оскаленными острыми зубами, они шныряли между развалинами среди спящих людей, а то и пробегали по ним… Крысы искали еду. Ее можно было найти возле человека; ночью крысы людей не боялись, они бесцеремонно тыкали морды в полураскрытые рты спящих, забирались к ним в рубища, часто кусали. Если в ночной тьме раздавалось ругательство, а вслед за ним — звук брошенного камня, то это означало, что кто-то из разбуженных крысами пытался если не убить, то хотя бы отогнать наглую тварь.
— Брысь, сволочь, наци проклятый! — прохрипел в темноте простуженный голос. Снова удар камнем, шорох осыпающихся со стены остатков штукатурки. Жалобный писк крысы. И тут же другой голос произнес:
— Предатель! Пусть Иваны отрубят тебе руки и ноги! — Это явно относилось к тому, кто бросил в крысу камень и назвал ее «наци».
— Иваны меня пока что не тронули, — раздалось в ответ, — а вот гестаповцы два года держали в Аушвитце!
— Жаль, что они тебя не прикончили! Был бы жив фюрер…
— Дайте поспать! — рявкнул третий голос. — Катитесь оба к чертовой матери вслед за фюрером…
«Вслед за фюрером…» — повторил про себя человек, которого до сих пор связывал с жизнью лишь тощий, судорожно прижатый к груди вещевой мешок. Эти слова на мгновение как бы приоткрыли ему вход в жизнь, он понимал, что фюрер — это уже прошлое, и все же, ухватившись за эти слова, он мог выползти из черной ямы, в которой находился уже неведомо сколько времени. Фюрер все еще означал для него жизнь, реальность.
Реальностью также была тьма, набитый людьми подвал, реальностью были крысы и прижатый к телу рюкзак. Что в нем, в этом брезентовом, наглухо перевязанном мешке? Он попытался вспомнить и не мог. И тогда начал развязывать его — пальцами, ногтями и зубами. Наконец удалось едва-едва просунуть в мешок руку. Какие-то железки, гладкие и острые, очки… Что это? Никак не вспомнить…
Он съежился — по ногам снова промчалась крыса. «А где гамельнский крысолов? — подумал он, на мгновение возвращаясь в сказочное детство. — Где тот самый человек с дудочкой, который пришел в город и избавил его от крыс?» Он стал снова завязывать рюкзак. Мысли путались. «Где я, где?» — снова спрашивал он себя. Кто эти люди, сжимающие его со всех сторон, почему он здесь?.. И снова не находил ответа. Не было ответа ни на один вопрос, который всплывал перед ним из тьмы.
Рядом раздался слабый женский голос:
— Воды… воды не найдется ли?
— А шнапсу не хочешь? — насмешливо отозвался мужчина.
Он прислушался. Нет, его не интересовало, о чем они говорили. Просто, услышав женский голос, он подумал о своей жене Ангелике. Где она? В другой стране? В другом мире? Да и существовала ли она когда-нибудь на свете? А может, она здесь, в этом подвале, и не знает, что он, ее муж Адальберт Хессенштайн, тоже тут?.. Он позвал ее тихо, почти неслышно, точно боялся, что имя, предназначенное ей одной, может украсть кто-нибудь…
Он лежал, то проваливаясь в огненную темноту, то вновь всплывая на поверхность ночи, теряя сознание и возвращаясь к жизни, лежал в грязи и в холоде, небритый, искусанный крысами, прижимая к себе тощий, но тяжелый рюкзак. Ему казалось, что он тонет, медленно погружается в свое далекое детство.
Он увидел глаза отца — Грегора Хессенштайна, мрачного, немногословного человека, преисполненного неколебимого достоинства, становившегося разговорчивым лишь тогда, когда речь заходила об исторической миссии Германии. Адальберт видел сейчас всех близких, видел свою мать Гудрун на похоронах отца — смерть настигла его после второго инфаркта, — видел себя самого, вынужденного отныне заботиться о пропитании семьи, шныряющего по черному рынку, необычайно разросшемуся в Веймарской республике на почве инфляции и безработицы…
— Десятый час, пора на рынок! — оповестил раздраженный мужской голос. — Или хотите за все переплачивать?
Казалось, люди в подвале поднялись одновременно. Попытался вскочить на ноги и Адальберт, точно по приказу, которому привык повиноваться. Но в глазах тотчас потемнело, к горлу подступила тошнота, и он неуклюже повалился наземь. В беспомощном удивлении он смотрел на человеческое лежбище, пришедшее в лихорадочное движение.
— Очнулись, господин Хессенштайн? — услышал он над ухом вкрадчивый, будто глумящийся над его немощью шепот. — Долгонько… Я уж было подумал… — Повинуясь безотчетному рефлексу, он резко повернулся в сторону говорящего. Лицо отпрянуло и расплылось в тумане, шепот перешел в испуганную и в то же время угрожающую скороговорку: — Да вы не подумайте… Это ж я вас приволок сюда в беспамятстве! Если б не я, так русские — да что там русские! — свои же немцы убили бы и обобрали дочиста. Но я не такой, я и добро и зло помню… Надо, чтоб все по-честному. Лежите смирно, я скоро поесть принесу. А тогда уж и рассчитаемся…
Голос стих, послышались удаляющиеся шаги. Он остался один. Спустя какое-то время в сознании опять всплыло его собственное имя: Адальберт Хессенштайн. Он заставил себя сесть и снова попытался обследовать содержимое вещевого мешка. Тут Хессенштайн вспомнил, кто он теперь, и, вновь теряя сознание, со всей непреложностью понял, что должен выбраться из этого крысиного логова, чего бы это ни стоило.
123
Взгляд в прошлое
Впервые Адальберт-Оскар Хессенштайн обрел себя, когда в 1925 году вступил в ряды молодежной нацистской организации. Казалось, сама природа наделила его всеми качествами, необходимыми для блестящей партийной карьеры. Помимо безупречного арийского происхождения, он был по-бюргерски сметлив и в то же время управляем, отличался тем парадоксальным сочетанием сентиментальности и животной жестокости, которое составило едва ли не ведущую черту характера нового сверхчеловека. Лежа сейчас в полузабытьи, он будто заново собирал себя из обрывков воспоминаний, хаотично круживших в мозгу.
Ему виделось, как после расправы с Ремом Гиммлер берет его в аппарат СС… Потом — гестапо, где его обязанностью становится наблюдение за концлагерями; он ведает агентурой, вербует среди заключенных тех, кто по слабости воли готов был и предать и продать солагерников… Он видит себя в форме — в черном кителе с погоном на правом плече, в блестящих сапогах. Два дубовых листка мелькают теперь на его петлицах, что означает чин бригадефюрера СС…
Он вспоминал, или ему снилось, как незадолго до краха Германии его непосредственный начальник, личный друг Гиммлера и Кальтенбруннера Конрад Крингель собрал в Берлине двадцать ответственных работников РСХА и по приказу Гиммлера раздал им «материальное обеспечение» на случай непредвиденных обстоятельств. При этом Крингель заявил, что, помимо личного фонда, предполагается создать основной фонд партии, который будет сосредоточен в Баварских горах. Крингель не произносил слов: «Если русские захватят Берлин», — но было совершенно очевидно, что под «непредвиденными обстоятельствами» имеется в виду именно такой исход. Он закончил свой инструктаж вдохновляющими словами: «Партайгеноссен! Берлин будет защищаться до последнего солдата, до последнего жителя… Мы остаемся здесь. Нам выпала великая честь вместе со всеми защитниками Берлина выполнить свой долг до конца».
О, тогда Адальберт был горд тем, что остается в городе. Он предпочитал умереть, но не покидать его. Тем, кто решил оставить Берлин и скрыться, он не завидовал, — наоборот, к ним он испытывал смешанное чувство жалости и презрения. Когда русские ворвались на окраину Берлина, Адальберт устремился на улицу Принц-Альбрехтштрассе. У входа в знакомое здание не было часовых, обычно круглосуточно охраняющих его, пусто было и внутри, если не считать нескольких пьяных офицеров. Один из них, увидев перед собой бригадефюрера СС, наклонился к самому уху Адальберта и, обдавая его перегаром, прошептал: «Кальтенбруннер приказал: всем опускаться на дно!» Другие в ответ на вопросы Адальберта бормотали: «Все кончено… все кончено!..»
Да, все было кончено!..
Охваченный паникой, Адальберт выскочил обратно на Принц-Альбрехтштрассе и, к еще большему ужасу, увидел, что группы советских солдат перебежками приближаются к зданию гестапо. Небольшие отряды эсэсовцев вели огонь из-за углов, но было ясно, что их попытки обречены.
Что делать? Что делать?! Бежать в глубь города, затаиться среди развалин? Но и то и другое означало предательство, позорную смерть. Адальберт выбрал достойное — умереть в бою. Рюкзак он закинул за спину, схватил валявшийся возле убитого эсэсовца автомат и решил открыть огонь по наступающим русским, укрывшись в одном из домов неподалеку.
Он ворвался туда и сразу убедился, что дом пуст, жители покинули его, едва завидев русских. В одной из комнат были брошены чемоданы, ящики, коробки, набитые домашним скарбом, — словом, все заранее подготовленное к бегству. Прежде всего переодеться, перестать быть мишенью для врага! Расшвыряв содержимое нескольких полуоткрытых чемоданов, Адальберт нашел гражданский костюм, торопясь, надел его, снова схватил рюкзак с ценностями и автомат и подбежал к окну.
Однако место для засады оказалось неудачным: русских не было видно, хотя автоматные очереди раздавались все громче и чаще. Очевидно, советские солдаты наступали с другой стороны. Адальберт понял, что очень скоро окажется в ловушке. Спотыкаясь, падая, он скатился по лестнице, но, едва оказавшись на тротуаре, почувствовал сильный удар — над головой что-то просвистело, обрушилось, Адальберта придавило к земле, потом швырнуло, в глазах у него померкло, и он мешком обвалился в какой-то подвал, продолжая прижимать к животу тощий рюкзак.
«Приду, рассчитаемся…» Были ли эти слова сказаны на самом деле или лишь пригрезились ему? Кто мог быть этот человек? Друг, товарищ по партии, действительно спасший ему жизнь? Но уместен ли разговор о вознаграждении между боевыми товарищами? Бывший подследственный или агент, побоявшийся присвоить «собственность рейха» и желавший теперь получить причитающуюся долю из рук официального лица? Но ведь он, Хессенштайн, теперь никакое не официальное лицо, а… В любом случае этот человек представлял для него смертельную угрозу: каковы бы ни были его мотивы, он мог если и не прямо выдать его врагу, то навлечь подозрение. Надо уходить, уходить во что бы то ни стало. Адальберт поднялся и, с удивлением обнаружив, что может двигаться, поплелся к выходу, откуда тянуло весенней прохладой.
То, что он увидел прямо перед собой, было полной противоположностью утренней чистоте неба, неожиданно распахнувшегося над головой и заставившего его зажмуриться. Всюду, куда хватало глаз, — руины, железные и бетонные балки, обломки стен, груды камня… На что это похоже, на что?! На всплывшую откуда-то из детства картину «Последний день Помпеи»? Очертания нагроможденных перед ним развалин показались смутно знакомыми, точно он где-то в другом мире уже видел их… «Но где же мой дом, где?» — спрашивал себя Адальберт, понимая в полубессознательном состоянии, что в Нюрнберг — город, в котором он прожил все последние годы, — отсюда дороги нет.
Черный рынок
Вместе с ночными соседями поневоле, вместе с многими сотнями других «пещерных» жителей Адальберт приближался к Бранденбургским воротам. Рядом, в Тиргартене, находился «главный» черный рынок Берлина. Каждый торопился поспеть на торжище в тщетной надежде — чем раньше, тем дешевле.
Едва приблизившись к Тиргартену, Адальберт понял, что недостатка в спросе и предложении здесь нет. Чего только тут не предлагали, не покупали! Любопытный прейскурант можно было бы составить для истории, чтобы следующие поколения могли видеть, в чем нуждались и что готовы были продать люди тех лет!.. Но Адальберту было не до исследований подобного рода. Страх охватил его: здравый смысл подсказывал, что, конечно же, на рынке да и на любой берлинской улице ему может встретиться человек, который узнает его и выдаст властям. Один такой уже нашелся там, в подвале… Адальберт надеялся, что второй встречи не будет, в берлинских развалинах затеряться нетрудно, и все-таки боялся, боялся этой новой встречи, хотя утешал себя мыслью, что, даже увидевшись, они вряд ли узнают друг друга. В конце концов и у «спасителя», возможно, были не меньшие основания стремиться к тому, чтобы его не узнали.
Адальберт шел медленно, пошатываясь, спрятав лицо в поднятый воротник. Иногда им овладевало нечто вроде бреда, галлюцинаций, и тогда рынок казался ему огромным, тысячеруким и тысячеглазым чудовищем: оно медленно шевелилось, бурлило, шептало многоголосо и вкрадчиво, дразнило видом ярких вещей и забытыми запахами. Любопытство брало верх, Адальберт вглядывался, прислушивался. Чего тут только не было! Мальчишки торговали американскими сигаретами, ветераны войны протягивали медали на дрожащих ладонях, женщина держала квадратик масла в исхудалой руке, нищий помахивал на ветру нейлоновыми чулками… Картонные коробки с мыльным порошком, уксус в мутных зеленоватых бутылках, а иногда даже кулечки с сахаром и развесной кофе… Время от времени слышались вполголоса произнесенные реплики: «Сахар — в парикмахерской на Курфюрстендамме…», «Белье — в публичной бане», «Уголь ведрами…», а иногда совсем шепотом: «Аусвайс по сходной цене…»
И снова — сигареты, мыло, аспирин, сигареты, сигареты… Цены все утро держались баснословно высокие, точно могущественные группы спекулянтов заранее сговорились между собой. Адальберт понял: надежды соседей по ночлегу, что с утра рынок будет подешевле, были по меньшей мере наивными.
Часа три-четыре он бродил по рынку, потом почувствовал, что хочет есть. Деньги у него были, и немалые, но вытаскивать их из рюкзака на виду у тысячеглазой толпы Адальберт побаивался. Он выбрался из человеческого муравейника, нашел пустое и относительно безопасное укрытие в одном из разрушенных строений, притулился в закоулке и вновь развязал рюкзак. Он увидел золотые коронки, дамские цепочки, серьги… немецкие марки, американские доллары… Рассовав часть вещей и денег по карманам, Хессенштайн снова появился на рынке. Купил галеты, консервы и зашел в ближайшую пивную. Какое это счастье — после риска быть убитым на месте, после ночных страхов и болезненных видений в битком набитом холодном подвале — оказаться здесь, в пивной, пусть затхлой и грязной, где за гроши в сравнении с деньгами, которыми он, Адальберт, располагает, можно выпить жидкого, но пива, и закусить его галетой! Адальберт просидел в пивной не меньше часа и остался бы еще, если бы не внезапный страх: а что же дальше?.. Приближается комендантский час — где, в каком подвале, среди каких руин искать ночлег? А завтра? А потом?
Адальберту казалось, что его окружают со всех сторон, что кольцо опасности стягивается все туже. Откуда исходит опасность, он не понимал. Что страшит его? Тени далекого и недавнего прошлого? А вдруг судьба снова сведет его в подвале с тем человеком, который утром назвал его по имени? Что тогда? Дождаться, пока все заснут, и… задушить? А потом лежать рядом с мертвым до утра? Или оставить его, задушенного, а самому перебраться в другой подвал? Но это значило бы нарушить комендантский час и оказаться в руках советских патрулей. А потом? Доказывать, что в войне не участвовал, что не был призван из-за болезни?.. Какая чушь! Чтобы подтвердить это, нужны документы. Искать знакомых, товарищей по партии, которые согласятся засвидетельствовать его слова?.. Но где сейчас найдешь их? И кто согласится вот так, по собственной воле, пойти к русским?..
Было еще одно, пожалуй самое главное, обстоятельство, заставлявшее Адальберта бояться русских как огня. Свою тюремную камеру или даже смерть Адальберт носил на своем теле. Да, да, именно так! Под мышкой левой руки у него было вытатуировано кодовое обозначение группы крови — каждый эсэсовец носил на себе такой несмываемый знак. Это был единственный «документ», других у Адальберта не было.
…С каждым днем Хессенштайн боялся все больше. Боялся появиться на Силезском вокзале, где всегда было много русских солдат и офицеров; боялся оказаться в замкнутом пространстве — в вагоне трамвая, например; мечтал и в то же время больше всего страшился вернуться в Нюрнберг, где его многие знали в лицо, боялся города, с которым были связаны лучшие годы его жизни. Город славы национал-социализма теперь грозил стать его надгробием.
Ночами Адальберт с тоскливым чувством ловил подвальные слухи, что германское правительство все еще существует и находится где-то в горах, что его возглавляет адмирал Дениц, верный соратник фюрера… Или он уже арестован? Будучи свидетелем последних дней фашистского Берлина, Адальберт не возлагал никаких надежд на адмирала, он отдавал себе отчет, что в Германии сейчас нет военной силы, способной начать новые бои с русскими.
Каждый день он покупал газеты, совсем недавно начавшие выходить, — «Тэглихе Рундшау» и «Берлинер Цайтунг» — и, притулившись где-нибудь в развалинах, читал, сжимая кулаки от ненависти и бессилия, о том, например, что с 25 апреля в Сан-Франциско работает Конференция Объединенных Наций. Неужели план Сталина и Рузвельта будет приведен в действие? Он вспоминал, какие надежды возлагало руководство нацистской партии на «драчку» между Советами и западными союзниками. Как ответственный работник гестапо, Адальберт знал, что в английской зоне пленных немцев не разоружают и не заключают в лагеря, что пленные ежедневно занимаются строевой подготовкой, немецкие военные подразделения не распущены и готовы хоть завтра ринуться в бой. Против кого? Ну, конечно же, против русских! Черчиллю не удалось задушить большевизм в колыбели, он наверняка попытается уничтожить его как сегодняшнюю угрозу Западу. Закроют ли американцы и англичане глаза на то, что русские большевистские орды вступили в Европу? Да никогда! Столкновение неизбежно. Оно произойдет со дня на день, в крайнем случае с недели на неделю…
Адальберт помнил, какое ликование было в руководстве партии, когда стало известно, что умер Рузвельт. Теперь-то американо-английский блок, возглавляемый этим полуеврейским президентом, рухнет, и канут в небытие все его слюнявые идеи об Организации, постыдно объединяющей негров и белых, арийцев и славян, хозяев и рабов!..
О, несбывшиеся надежды: война окончилась, а Эйзенхауэр, Монтгомери и Жуков, судя по фотографиям, мирно беседуют…
Адальберт мысленно одернул себя: «Не раскисай! Мы им еще покажем!» Недаром в подвальной тьме, когда не было опасности быть опознанным, каждую ночь кто-нибудь рассказывал, что очередной советский броневик обстрелян, что «вервольфы» — люди, готовые умереть, но не предать память фюрера! — с наступлением сумерек охотятся за русскими солдатами. Какое было бы счастье, думал Адальберт, вступить в контакт с «вервольфами»… Но как?
Недавно он прочел в «Тэглихе Рундшау» ироническую заметку под заголовком «Час пробил!». В ней говорилось, что «в Берлине началось массовое и организованное государством вымирание фашистских фюреров». Что имеет в виду этот еврейско-славянский писака под словами: «организованное государством»? Адальберт стал читать дальше: «Дело шло гладко: гитлеровцы „умирали“ планомерно, организовывали для самих себя похороны и, отойдя перед лицом общественности в потусторонний мир, тайно возникали на нейтральной почве». Что за ерунда? Но дальше следовали имена и факты: «Полковник СС Олаф, растроганный своим собственным некрологом, отправился в Португалию. Начальник штаба „Гитлерюгенд“ Гельмут, ставший жертвой „несчастного случая“, совершил, сраженный горем, путешествие в Испанию…»
«Как, Олаф?!» — чуть ли не вслух изумился Адальберт. Он знал полковника, читал некролог о его смерти. Так, значит, и Олаф, и Гельмут, а может быть, и многие другие эсэсовцы живы, находятся далеко от Германии, в безопасности?! Он вспомнил услышанный в здании гестапо пусть неофициальный, но все же приказ: «Опускайтесь на дно!» О, если бы он, Адальберт Хессенштайн, оказался умнее, когда советские варвары подходили к Берлину! Но тут же сама мысль покинуть столицу в дни опасности показалась ему позорной. Он остался преданным фюреру до конца. Даже когда тот был уже мертв. И в результате… в результате оказался в берлинской мышеловке, одинокий, боящийся собственной тени. Впрочем, у Адальберта, конечно же, остались добрые друзья в Берлине. Или они тоже последовали примеру полковника Олафа?..
«Тэглихе Рундшау» и «Берлинер Цайтунг» стали единственным средством связи Адальберта с внешним миром. С утра, обеспечив себя продовольствием на черном рынке, он скупал в киосках все газеты и, схоронившись где-нибудь в руинах, принимался за чтение. Новый приступ злобы и ненависти вызвала у, него передовая статья в «Тэглихе Рундшау», озаглавленная «Истина против лжи».
Каждая строчка — удар ножа в сердце. «Сейчас на берлинских улицах, — читал Адальберт, — часто слышишь: „Как нас обманули!“ С каким бы выражением ни произносилась эта фраза, она всякий раз звучит как проклятие, в адрес нацистской пропаганды. Зловонный туман нацистской лжи на протяжении многих лет скрывал от немцев истину…» Адальберт вожделенно представил, каким пыткам подвергли бы автора этих строк, попади он в гестапо или в концлагерь всего лишь месяц или два назад!.. Он читал все подряд: о том, что в городе вновь начали работать отдельные участки метрополитена, что возобновилась почтовая связь в Большом Берлине… Скрипя зубами, прочел статью, озаглавленную: «Берлин останется немецким». Адальберт хорошо помнил этот лозунг, незадолго до падения Берлина намалеванный краской на стенах домов по приказу Геббельса. С какой издевкой комментировала его ныне газета!
«…Как реклама пива „Шультхайс Бир“ или „Берлинер Киндль“, эта фраза красовалась почти на каждом берлинском доме. Гитлеровский рекламный трюк должен был означать, что русские хотят изгнать берлинцев из Берлина и сделать его русским городом. Приходится только удивляться, что многие берлинцы, которые раньше всегда слыли сообразительным народцем, принимали эту чушь на веру. Когда русские вошли в Берлин, одна берлинка спросила русского офицера: „Скажите, пожалуйста, мы должны пешком идти в Сибирь, или можно на поезде?“ Сегодня весь мир видит: Берлин остается действительно немецким — немецким городом с немецким населением, с немецким магистратом, с немецкими школами, театрами, варьете. Берлин остается немецким, но не нацистским немецким, не гитлеровским немецким».
А вот еще одна передовая:
«Гитлер разрушил Берлин… Красная Армия взяла Берлин с боями. Она спасла город от полного уничтожения. Она спасла берлинцев от гибели. Ведя справедливую Отечественную войну против гитлеровских захватчиков, Красная Армия не могла пройти мимо страданий и лишений мирного немецкого населения. Ее первая забота состояла в том, чтобы накормить голодных и обеспечить снабжение жителей города продовольствием».
Арестован Лей. Во Фленсбурге арестован адмирал Дениц, члены его правительства, а также генерал-полковник Йодль и многие другие генералы и офицеры. Арестован Юлиус Штрейхер… Нет, содрогаясь от страха, говорил себе Адальберт, мне не выбраться, я в капкане. Смерть стоит за моей спиной. Какая непростительная глупость!.. Может, затеряться среди тех, кто расчищает город от развалин, переждать, пока в Берлин войдут американцы, англичане и французы? Как именно будут делить Берлин, Адальберт не знал, но был уверен в одном: в американском секторе ему будет безопаснее.
Советская Военная Администрация в расклеенных на стенах объявлениях предлагала берлинцам работу в неограниченном количестве: расчищать городские улицы и парки, разбирать завалы, с помощью которых нацисты надеялись остановить русские танки. Явившийся в советскую комендатуру немец, показав свои старые документы, свидетельствующие, что он не занимал ответственных постов ни в СС, ни в вермахте, ни в нацистской партии, получал право на продовольственные карточки. Продуктов по карточкам выдавали мало, даже если они были первой категории. Выдавались карточки и нигде не работающим — пожилым мужчинам и женщинам, людям, страдающим тяжелыми физическими недостатками, — они получали карточки последней, пятой категории. Однако и такую карточку можно было получить, только явившись в советскую комендатуру и зарегистрировавшись.
Но сама мысль о том, чтобы, не имея «аусвайса», переступить порог здания, над которым развевался страшный и ненавистный красный флаг, вызывала у Хессенштайна внутреннюю дрожь. Разве можно быть уверенным, что среди толпившихся в комендатуре людей не найдется человек, знающий бывшего бригадефюрера в лицо? И тогда — смерть, в лучшем случае — высылка в далекую Сибирь, которую Хессенштайн представлял себе каторгой на Северном полюсе, где люди заживо замерзают, превращаются в огромные сосульки… Нет, нет, к русским он не пойдет. Только тот русский хорош, которого ты уже убил.
Адальберт бесцельно бродил по Берлину и читал написанные от руки объявления, наклеенные в великом множестве везде, где только можно прикрепить листок бумаги: на остатках стен, чудом уцелевших театральных тумбах, на стволах деревьев и скамейках. «Меняю ручные часы фирмы „Лонжин“ на десять килограммов картофеля…», «Отдам золотое кольцо (обручальное) за три килограмма копченой колбасы и банку натурального кофе…», «Хороший, слегка поношенный мужской костюм меняю на пять ведер угля…». Казалось, великая Германия, на которую еще недавно работала вся Европа, Германия, вывозившая из захваченных земель не только зерно, сало, мясо, но и сокровища культуры, теперь стоит перед миром в рубище, с рукой, протянутой за подаянием.
Научила ли эта война чему-нибудь самого Хессенштайна? Только один горький урок он вынес: немцы оказались недостойными своего фюрера. Но настанет день…
А пока что Адальберту приходилось думать о еде и ночлеге. Продукты он выменивал на черном рынке — казалось, весь Берлин стал сегодня черным рынком: чуть ли не на каждом углу, чуть ли не на каждой площади среди развалин люди что-то предлагали, меняли, продавали. Но главный рынок возникал ежедневно около десяти часов утра в Тиргартене у Бранденбургских ворот.
Первыми тут появлялись дети. Они продавали, выменивали на съестное табак или сигареты, неизвестно откуда добытые. К одиннадцати часам торговля была в разгаре. Бесцельно, медленно Хессенштайн проталкивался в бурлящей толпе, обеими руками прижимая заветный рюкзак. Выменяв или купив продукты, которых должно было хватить на ближайшие сутки, и сложив их в рюкзак поверх грязного белья, прикрывавшего драгоценности, он продолжал слоняться по рынку. Другого занятия у Хессенштайна не было.
Два противоречивых желания жили в нем. Он боялся встретить кого-нибудь из бывшей жизни, боялся, что его узнают и, желая выслужиться перед русскими, донесут на него. И вместе с тем хотелось увидеть человека, с которым у тебя было общее прошлое, верного идеям фюрера, так же, как и ты, ненавидящего славяно-монгольские орды, пришедшие с востока и раздавившие все, что тебе было дорого, человека, с которым можно было бы поговорить по душам, посоветоваться, как жить дальше. Хессенштайн бросал мимолетные взгляды на шныряющих в толпе людей и тут же снова отворачивался, боясь быть узнанным.
Он выбрался из толпы, похожей на кипящее варево, он не мог больше видеть этих людей; хотелось остаться одному где угодно, найти пустынный переулок, втиснуться в щель между развалинами, только бы остаться одному. Он снова начал бесконечный путь по берлинским улицам. И вдруг остановился: на сохранившейся стене дома, из которого была точно вырвана плоть — очевидно, ударом снаряда, — он увидел запорошенную цементной пылью надпись: «ВИЛЬГЕЛЬМШТРАССЕ».
Почему Хессенштайн вздрогнул? Почему остановился как вкопанный? Он вспомнил… Здесь, на Вильгельмштрассе, находилось здание, которое значило для него больше, чем Мекка для мусульманина, — Имперская канцелярия.
Он подошел ближе. Руины, каких в Берлине тысячи… «Вот все, что осталось от резиденции рейхсканцлера, от великой германской империи!» — мысленно с горечью произнес он.
Хессенштайн на минуту закрыл глаза. Ему представилось, что священное здание Имперской канцелярии снова возвышается над Германией, целое и невредимое, он видел стоящих на посту солдат вермахта и эсэсовцев в черных мундирах.
Он огляделся. Только серо-зеленый прямоугольник бетонной крыши отличал эти руины от других. Несколько десятков немцев, равнодушных по виду, смотрели на останки былого величия.
«Нет! — молча крикнул Хессенштайн. — Я не продам тебя, мой фюрер, ни живого, ни мертвого!» Он чуть приподнял руку в нацистском приветствии, но тут же поспешно опустил ее и сделал вид, что копается в своем рюкзаке.
Потом Хессенштайн выпрямился и быстро пошел прочь от этого места, где покоились его мечты, его вера… Куда? Снова к Бранденбургским воротам, на рынок, куда же еще…
Что дальше?
В то июньское утро Адальберта, коротавшего ночь в очередном подвале, набитом такими же бездомными, как и он, разбудил доносившийся откуда-то издалека голос.
Адальберт не сразу сообразил, что голос усилен мощными громкоговорителями, не мог понять, откуда он доносится, и еще не разбирал слов, хотя речь была явно немецкая. Подвал был уже наполовину пуст, а остальные люди, видимо, только что проснувшиеся, так же, как и Адальберт, приподнимались со своих каменных постелей и поворачивали головы, прислушиваясь. Прижав к груди рюкзак, Хессенштайн вслед за другими выкарабкался наверх. То, что он увидел, еще больше удивило его: из всех щелей и подвалов поспешно вылезали люди, разбуженные звуками репродукторов, и устремлялись к центру города.
— Кто это говорит? Что случилось? — спросил Адальберт ковылявшего рядом возбужденного старика.
— Митинг! Коммунисты говорят!
Коммунисты?! Первой мыслью было выбраться из людского потока и бежать, бежать в сторону, противоположную той, откуда звучало радио. Но в этот момент он разобрал слова:
— Граждане города Берлина! Берлинцы! Через несколько минут на Александер-платц состоится митинг, на котором выступит представитель Центрального Комитета Коммунистической партии Германии…
Теперь Адальберт разбирал каждое слово, тем более что объявление повторялось регулярно, с интервалами в минуту или две. Бежать! — снова сказал себе Адальберт; он понимал, что идти туда, на сборище коммунистов, все равно что приближаться к клетке с тиграми, готовыми тебя разорвать. Бежать, бежать… но куда? Со всех сторон он был зажат людьми, направляющимися на Александер-платц. Повернуть назад и, противопоставляя себя людским потокам, силой прокладывать путь? Это было невозможно, не говоря уже о том, что вызвало бы подозрение. Несомый толпой, Хессенштайн с каждым шагом приближался к площади. Прилегающие к ней разрушенные улицы были уже забиты тысячами людей. Вскарабкавшись на остаток стены, Адальберт разглядел дощатую трибуну, возвышающуюся над многоголовой толпой, а на трибуне — седого человека.
— …Я говорю с вами, друзья, как представитель той немецкой партии, которая больше всех других антифашистских группировок пострадала от нацизма… — звучало из репродуктора. — Коммунистов травили в немецких городах, их расстреливали, бросали в концлагеря, нацисты убили вождя немецкого пролетариата Эрнста Тельмана… Но где бы мы ни были — в немецком подполье или в эмиграции, мы знали: настанет час разгрома гитлеризма!
Адальберт стоял окаменев. Сам факт, что он слышит такие речи, такие слова, повергал его в беспросветное отчаяние. О, он достаточно знал этих коммунистов! Он встречался с ними лицом к лицу — в концлагерях в их предсмертный час. Попытки завербовать кого-либо из них были обречены, от этой надежды пришлось вскоре отказаться. Адальберту удавалось вербовать разных людей, принадлежащих к самым различным партиям, но только не коммунистов. И вот теперь они праздновали свою победу… Хессенштайну казалось, что он присутствует на собственных похоронах. Он даже не очень вслушивался в то, что говорил седой человек на трибуне. Адальберт не сомневался, что этот седой уже провозгласил или сейчас объявит коммунистическую диктатуру в Германии. И все же огромным усилием воли он заставил себя вслушаться.
Седой говорил о воззвании ЦК Компартии Германии к немецкому народу. Он назвал его программным документом коммунистов «и других прогрессивных сил Германии в их борьбе за демократическое переустройство страны». Ну, конечно, этот строй будет копией русской, большевистской системы, с леденящим страхом подумал Адальберт. Оратор призывал немецкий народ встать на путь установления «антифашистско-демократического режима», создать парламентскую республику со всеми демократическими правами и свободами для народа… Перечислял задачи полной ликвидации остатков нацизма, призывал к тщательной чистке всех учреждений от активных гитлеровцев, к строгим судам над фашистскими преступниками. Нет, он говорил не только о карах, которые должны обрушиться на верных сынов рейха, таких, как сам Адальберт, он призывал к активной поддержке демократических органов самоуправления, к борьбе против голода, безработицы, бездомности, к ликвидации крупной земельной собственности и распределению ее среди разоренного войной крестьянства…
«Слова, слова! — со злобой думал Адальберт. — А на деле, конечно же, месть, смерть всем нам…»
На площади и на прилегающих к ней улицах стояла мертвая тишина, лишь изредка толпа прерывала оратора возгласами одобрения.
…Разбитый, едва передвигая ноги, с физическим ощущением страха в груди шел Адальберт с красного митинга. Куда? Он и сам не знал. Без документов, без друзей, которые могли бы ему помочь, — всех как ветром сдуло! — куда он мог пойти, где искать покой и пристанище?.. Вернуться в Нюрнберг к любимой жене Ангелике, в свой дом Адальберт не мог без соответствующих документов. Убедившись, что полуразбитые вокзалы находятся под строгим контролем советских солдат, — он обходил их стороной… Кроме того, если даже здесь, в Берлине, его, небритого и в грязной одежде, мог кто-нибудь случайно узнать, то в Нюрнберге опасность быть опознанным во много раз возрастала. Нет, надо затаиться, переждать, пока в городе наладится более или менее нормальная жизнь, затихнет «ловля нацистов», и уже потом решать, что делать дальше.
Но после нескольких ночевок в сырых бомбоубежищах, в подвалах, в заброшенных тоннелях метро Адальберт понял, что надолго его не хватит. Он неотступно думал о добрых друзьях в Берлине. Не могли же разбежаться все! Наверняка кто-нибудь остался, спрятался, переменил имя. Мысленно Адальберт составлял список тех, кого знал, чьи адреса ему были известны.
Прежде всего — сотрудник РСХА Векслер и работник секретариата Кальтенбруннера Вольф. Случайность помогла в свое время Адальберту запомнить, где они жили. Векслер подвозил как-то Хессенштайна в гостиницу, это оказалось по дороге, он вышел тогда у своего дома и приказал шоферу доставить бригадефюрера в «Адлон». Адрес Вольфа он узнал в свое время в Управлении, — рабочий день уже окончился, а ему, Адальберту, потребовалось срочно выяснить, как найти Кальтенбруннера. Итак, Зименсштрассе и Кайзерин-Аугуста-аллее…
По первому адресу Адальберт двинулся прямо с утра, после особенно промозглой ночи, проведенной в очередном подвале.
Но его ждало разочарование: дома больше не существовало, тяжелая авиабомба сровняла его с землей.
Поход на Кайзерин-Аугуста-аллее Адальберт отложил на другой день. Вилла, к его радости, уцелела, он узнал ее еще издалека. Несколько часов, затаившись в развалинах, Хессенштайн наблюдал за домом. Нет, там жили совершенно чужие люди. Когда стемнело, он заглянул в незашторенное окно первого этажа: какая-то старуха, молодая женщина, ребенок в коляске…
Адальберт переночевал в одном из подвалов неподалеку, а рано утром направился в привычный путь на черный рынок. Раза два или три заходил в пивную, полупустое кафе, чтобы выпить пива или эрзац-кофе с приобретенным на рынке куском хлеба, и снова бродил по улицам Берлина, как тень, как призрак…
Вспоминал ли Хессенштайн о Крингеле — том самом обергруппенфюрере Крингеле, который еще совсем недавно проводил совещание, распределяя среди верных людей деньги и ценности на случай «непредвиденных обстоятельств»? Да, конечно. Крингеля он знал еще по старым, добрым временам: приезжая по делам в столицу, Адальберт останавливался в отеле «Адлон», одном из лучших в Берлине, и тотчас же звонил по телефону своему начальнику. А однажды Крингель пригласил его на чашку кофе и познакомил со своей женой Мартой и ее отцом.
Да, Адальберт не раз вспоминал о Крингеле, мучаясь бессонницей в холодном подвале, зажатый с обеих сторон грязными бездомными людьми. Но каждый раз при этом воспоминании Адальберта охватывал панический страх. В его положении разыскивать Крингеля — чистое сумасшествие, все равно что добровольно сунуть голову в петлю. Нет, нет, о нем надо забыть, забыть до лучших времен!
И все же, оказавшись в положении бездомной собаки, Адальберт не раз мысленно кружил возле дома Крингеля. Он не помнил адреса, но внешний облик дома запомнил хорошо. Помнил и район: где-то неподалеку от Далема, в одном из переулков, выходящих на Кронпринцен-аллее.
Шли дни. С ненавистью смотрел Хессенштайн на своих соотечественников, расчищающих уличные завалы: о, если бы они с такой же энергией сражались! Он сторонился полевых кухонь, они часто встречались на его пути в никуда, — советские солдаты раздавали продовольствие немцам, главным образом детям.
В немногочисленные кинотеатры, один за другим открывшиеся в городе, Хессенштайн поначалу не заходил: это же чистая мышеловка, а вдруг советский патруль вздумает закрыть вход и выход и проверить у собравшихся в зале документы? Но однажды, прибившись к какому-то скоплению людей, он очутился в очереди и, к немалому своему удивлению, купил билет в кино. Будь что будет, решил он. Слоняться по улицам больше нет сил, в конце концов, в облаву можно попасть где угодно. До начала сеанса оставалось минут пять, и, отыскав свое место в слабо освещенном зале, Адальберт какое-то время предавался полузабытому удовольствию, бездумно глядел по сторонам под звуки электрооргана, исполнявшего популярные мелодии «Лили Марлен» и «Розамунда».
Погас свет, на экране появилась заставка кинохроники «Очевидец», зазвучал голос диктора: «Вы сами видите, вы сами слышите — судите же сами!» Советская агитка, подумал Адальберт, однако первые же кадры приковали его внимание. Показывали бывших главарей и идеологов нацистской Германии: сильно похудевший, с каким-то неуклюже заискивающим взглядом Геринг пытался сохранить достоинство перед кинокамерой; а вот и Кальтенбруннер; адмирал Дениц и бывшие члены его так называемого «правительства»… Неестественные позы, конвульсивная жестикуляция и мимика. «Неправдоподобно, и тем не менее факт, — безжалостно разил дикторский текст, — после того как Геринг сдался союзникам, он, обливаясь слезами, заявил, что он вовсе не сторонник Гитлера, а всего лишь бедная жертва Гитлера, и поэтому к нему не может быть никаких претензий… Бывший „лучший идеалист“ Гитлера алкоголик Лей был обнаружен в винном погребе своего верхнебаварского поместья. Когда его, как червя, вытащили из погреба, он попытался прибегнуть к тактике ежа — свернулся клубочком и, обливаясь холодным потом, заявил: „Я вовсе не мерзавец Лей, я никому не известный добропорядочный бюргер…“».
Кинохроника кончилась, начался фильм «Господин Зандерс ведет опасный образ жизни», первые кадры которого публика приветствовала одобрительным смехом. «Над чем смеются эти кретины?» — думал Адальберт, будучи не в силах сосредоточиться на фабуле.
Чтобы не привлекать внимания преждевременным уходом, он просидел до конца фильма и вышел одним из первых.
Накрапывал дождь, опускались сумерки. Он шел по Курфюрстендамм, по Ку-Дамм, как называли эту улицу берлинцы, с удивлением глядя на полупустой трамвай № 76, который, как в довоенные времена, снова громыхал по рельсам. Его взгляд упал на темную витрину магазина, над которой сохранилась вывеска «Дамские шляпки», в витрине белело объявление: «Кто сообщает в полицию о спекулянте, тот не доносчик». Понурив голову, он побрел дальше. «А тот, кто сообщает о бывшем… герой?» — с горькой иронией подумал Адальберт. Он оказался перед афишей другого кинотеатра, «Астор», и, взглянув на нее, отшатнулся. Фильм назывался «Убийца не уйдет». Зачем-то ощупав свой мешок, Хессенштайн быстро пошел прочь.
…В тот день Адальберт слонялся, как обычно, в толпе покупателей и продавцов черного рынка.
Вдруг, он услышал негромкое обращение:
— Уважаемый господин! — Слова прозвучали буквально под ухом. Адальберт обернулся.
Пожилой мужчина в очках с металлической, под золото, оправой сказал интимным полушепотом:
— Я предлагаю, господин, то, что вам нужно или наверняка скоро понадобится…
Торговец полуразжал ладонь, и Хессенштайн увидел несколько маленьких ампул.
— Что это? — недоуменно спросил Адальберт. — Морфий? — Нет, нет, господин, — торопливо, но все так же полушепотом проговорил человек в очках. — Но это именно то, что вам нужно! Я научился разгадывать людей с первого взгляда. — Да что это, черт побери? — охваченный любопытством и раздражением, повысил голос Адальберт. — Цианистый калий, с вашего разрешения, — прозвучало в его ухе. — Для тех, кто не приемлет сегодняшний мир. Никаких страданий, никакой ошибки. Ампулу в рот — и спустя мгновение, только миг, что было, останется позади. Верьте мне, я фармацевт, у меня была своя аптека.
Адальберт ощутил такой прилив страха, точно сама смерть дотронулась до него ледяной рукой.
— Подавитесь своими ампулами! — крикнул он, изменяя выработанной в последнее время привычке говорить тихо, не привлекать к себе внимания. — Идите к дьяволу, он вас ждет! — И Хессенштайн стал пробираться вперед столь поспешно, будто в самом деле за ним гналась сама смерть.
Чудовищное предложение бывшего фармацевта поразило. Адальберта тем больше, что заставило его посмотреть в глаза реальности, в глаза смерти, к встрече с которой он, как выяснилось, не был готов. Да, да, пусть это не покажется парадоксом. Через стол бригадефюрера СС Хессенштайна проходили сотни «приказов на уничтожение» узников в подведомственных ему концентрационных лагерях. Конечно, он их не подписывал — он лишь ставил их «на контроль» для последующей проверки исполнения. Смерть десятков тысяч людей была для него канцелярской работой, и лишь наиболее «эпические» из повседневных приказов оставили какой-то след в его памяти. Такие, как операция «Мрак и туман», в ходе которой были убиты тысячи людей, или отданный в начале 45-го приказ гестапо о переводе всех политических заключенных из берлинских тюрем на баржи, подлежащие затоплению. Ну и, разумеется, последовавший тогда же секретный приказ Гитлера об умерщвлении всех узников концлагерей, которые не должны были живыми дождаться наступавших союзников. Этот приказ, в силу чисто «технической» сложности его осуществления, вызвал немалое напряжение сил в ведомстве Кальтенбруннера.
И вот теперь Адальберту довелось примерить на себя бестелесную, как ему казалось, материю смерти. Это привело его в ужас и обратило в постыдное бегство.
Впрочем, бегство оказалось вдвойне спасительным. Едва Хессенштайн покинул черный рынок, как у него за спиной раздались крики: «Razzia! Razzia!»— «Облава!» Донеслись звуки автомобильных моторов, многие сотни людей, толпившихся у Бранденбургских ворот, бросились врассыпную. Хессенштайн с облегчением подумал, как вовремя он ушел.
Им все еще владел страх. Не боязнь попасть в облаву, но страх мистический: он все еще находился под впечатлением сделанного ему предложения. Неужели может настать день, когда ему, Адальберту-Оскару Хессенштайну, понадобится такая ампула?
Он торопливо огляделся. Нет никакой слежки. Люди шли как обычно, закинув рюкзаки за плечи или держа их в руках. Некоторые дышали шумно и тяжело, по довольным лицам струился пот: ушли от облавы. Хессенштайн заставил себя идти медленно. Потом огляделся, чтобы определить, где находится. Увидел, что идет по Шарлоттенбургершоссе. Именно на этой улице стояла Колонна Победы, которую Хессенштайн, конечно же, видел не раз.
Памятник сохранился, с высоты его бесстрастно глядела на поверженный Берлин сама Победа — Ника Самофракийская. Монумент был установлен в честь побед прошлого столетия — в 1864-м, 1866-м и в 1870—71 годах. Спустя два года после победы над Францией был установлен этот памятник, обошедшийся немцам в миллион восемьсот тысяч марок. Хессенштайн молча глядел на Колонну. А вокруг роился все тот же нищий Берлин, Берлин разгромленный, жестоко наказанный за попытку обрести очередную победу. Адальберт оборвал горькие мысли, сказав себе: «Нет! Она еще придет, наша победа! И я приму в этом участие. Еще не знаю как, но внесу свой вклад в победу».
Какой-то человек стоял неподалеку, опираясь на костыль. Наверное, демобилизованный инвалид. Адальберту было приятно оказаться здесь в соседстве с солдатом или офицером рейха, который, может быть, даже сражался в эсэсовских войсках. На вид ему было лет тридцать пять. Оба стояли молча, взгляды их были прикованы к Колонне. Внезапно инвалид сказал:
— Я бы взорвал эту хвастливую бабу к чертовой матери!
Адальберт вздрогнул. Промолчать? Быстро уйти? Нет, это будет выглядеть подозрительно. Вопрос сорвался помимо воли:
— Почему? — За что погибли немцы — наверное, сотни тысяч — во всех этих войнах? — вопросом ответил инвалид. — За что?!
Адальберт стиснул зубы. Рядом стоял явный враг, предатель…
— Наверное, если бы нашему сумасшедшему фюреру удалось выиграть эту войну, — продолжал человек с костылем, — он приказал бы выбить еще одну дату: «1939–1945». Как думаете, сколько миллионов были бы похоронены под этой датой? — В войнах всегда гибнут люди, — сдержанно сказал Адальберт, внутренне кипя от ненависти к этому человеку. Он смотрел на его костыль и думал: «Почему только в ногу? Почему тебе не размозжило голову, почему не разорвало тебя на части?!» Огромным усилием воли Адальберт заставил себя спросить: — Где вам довелось служить? — Много где, — сказал, скривив губы, инвалид. — А вам?
Адальберт ответил заготовленное:
— На фронте быть не довелось. Врожденный порок сердца. Служил в звании лейтенанта при продовольственных складах авиабазы. Тыловик.
— Повезло, — с усмешкой сказал инвалид. — Ну все равно мы, так сказать, соратники. Моя фамилия Шредер.
— Моя — Квангель, — Адальберт назвал первую пришедшую в голову фамилию. Он смотрел на Шредера и думал, какую казнь в Бухенвальде или в Дахау придумал бы для этого негодяя.
— …Вот, — продолжая невысказанную мысль, сказал Шредер, — а теперь ни семьи, ни дома…
— Благодарите русских, — вырвалось у Адальберта.
— Русских? — переспросил Шредер. — За что? За то, что, прежде чем они пришли сюда, мы сожгли тысячи их городов и деревень, перестреляли, перевешали их сотнями, тысячами, десятками тысяч?
— Война… — неопределенно произнес Адальберт. Ненависть и осторожность вели в нем отчаянную борьбу. Но признать правоту большевиков — нет, этого он допустить не мог!
— Значит, вы больше не любите Германию?
— Германию? О нет! Германию я люблю. Только не эту. — Инвалид махнул рукой в сторону Колонны. — Ну, я пойду, — помолчав, сказал он. — Хватит, налюбовался.
«Неужели он в чем-то заподозрил меня? Может быть, я себя чем-то выдал?..» — со страхом подумал Адальберт и крикнул вслед Шредеру:
— Желаю вам снова обрести дом, желаю счастья в нашей Германии!
— В нашей Германии, — делая ударение на слове «нашей», сказал Шредер, — я обрету счастье!
Адальберт молча смотрел на Колонну Победы.
О, если бы у него был сын! Он воспитал бы из него убежденного национал-социалиста, смелого, жестокого, мечтающего покорить мир…
В этот момент Хессенштайн почувствовал легкое прикосновение к плечу. Он обернулся.
Перед ним стояли две проститутки. Обе немолоды, лица размалеваны грубыми, дешевыми красками, будто клоунские физиономии в цирке. Ноги выкрашены под цвет чулок, а шов нарисован карандашом для бровей. Одна из женщин, в шляпке с закинутой за ее край вуалью, сделала небрежный жест в сторону Колонны.
— Это все в прошлом, — игриво сказала она. — Майн либер герр может обрести наиболее сладкую победу, доступную в наше время. Пять сигарет, и мы к вашим услугам.
— Любая из нас, — сказала другая женщина, с челкой по моде конца двадцатых годов.
— Или обе, — дополнила «шляпка».
Адальберту не исполнилось еще сорока, он не очень увлекался женщинами, но при случае не отказывался от них. Однако сейчас его охватило отвращение. Грубо размалеванные девки на фоне Колонны Победы!..
Он отвернулся и буркнул:
— У меня нет сигарет.
— О! — воскликнула та, что с челкой. — Нас вполне устроят пятьдесят граммов масла или двести колбасы… Покопайтесь в своем рюкзаке, майн либер герр, мне кажется, что он не совсем пустой.
Хессенштайн резким движением закинул рюкзак за спину, точно опасался, что эти фурии его вырвут.
— Может, господин истратил все свои силы, защищая город от русских? — продолжала издеваться «челка».
— Убирайтесь! — выкрикнул Адальберт. — Пусть будет проклят тот немец, который к вам притронется! Предлагайте себя русским!
— Конечно, мы бы предпочли здоровых Иванов нашим худосочным «защитникам». Но у русских на этот счет странные предрассудки…
— Вон! — закричал Хессенштайн. — Убирайтесь вон, иначе я позову патруль!
— Патруль? А вы уверены, что это целесообразно? Кто мы такие, ясно, а в порядке ли документы у господина?
Хессенштайн повернулся и быстро зашагал прочь от этих шлюх с размалеванными масками вместо лиц.
«И это тоже сегодняшний Берлин, сегодняшняя Германия!» — с горечью, злобой, отвращением думал он.
Адальберт бродил до тех пор, пока на город не стали спускаться сумерки. Привычным взглядом он отыскивал вход в подвал или убежище, но на этот раз ему не везло. На улице было прохладно, поэтому все укрытия, годные для ночлега, были уже заняты. Он понуро шел мимо уродливых нависающих глыб, оставшихся на месте домов. Наконец судьба сжалилась над ним: в проеме между более или менее уцелевшими стенами с надписью: «Берлин останется немецким!» — уже забитом готовящимися ко сну людьми, он разглядел в полумраке свободный угол. Поспешно бросил туда рюкзак, боясь, что кто-либо его опередит, перешагнул через лежащих и улегся, подложив рюкзак под голову. Рядом храпели, кашляли, вполголоса переговаривались.
— Ты видел объявления о выдаче эсэсовцев? — спрашивал кто-то приглушенным басом.
— А как же? — отвечал другой. — Сегодня вечером ими оклеили весь Берлин.
За эти дни Адальберт до того начитался объявлений, касающихся уборки города, купли, продажи, обмена, что уже перестал обращать на них внимание. Однако «выдача эсэсовцев» — это что-то новое. Адальберт с тревогой прислушался.
— Попробуй теперь определи, кто был в эсэс, а кто нет, — вмешался в разговор новый голос.
— А чего же тут определять? Татуировка под мышкой есть? Значит, вопрос ясен.
— И все равно: выдавать немца русским…
— А это не русские пишут.
— Кто же? Американцы, что ли?
— Немцы. Подписано Антифашистским комитетом.
— Это еще что за комитет? И где он был раньше, когда мы гнили в окопах?
— А они гнили в лагерях. Не приходилось бывать?
Внезапно потеряв нить разговора, Хессенштайн подумал: «Колесо истории. Неужели оно действительно поворачивается?..» Еще в 1943 году он получил нагоняй от Кальтенбруннера за побег из подведомственного ему лагеря одного немецкого коммуниста. Просидев десять лет в заключении, этот фанатик, которого так и не удалось сломить пытками, снова включился в антигосударственную деятельность. Агентурные донесения о его беспримерной дерзости Хессенштайн получал регулярно, однако вновь схватить тельмановского недобитка ему не привелось. Не меньший переполох вызвал выход манифеста: «Мы, коммунисты, и Национальный комитет „Свободная Германия“» в марте 1944 года. Буря чуть не разразилась над головой Хессенштайна, когда агенты доложили, что находившиеся в лагере Заксенхаузен коммунисты Тезен, Рейман и Шнеллер не только ознакомились с проектом документа, но внесли в него изменения и отправили его обратно подпольному руководству КПГ. Тогда Адальберта спасло лишь заступничество Крингеля и успешный срыв крупного побега в другом лагере…
— Мне в лагерях делать было нечего. Доктор Геббельс четко разъяснил, что лагеря эти — в основном для русских военнопленных, для прочих славян и разных там жидов и для тех, кто им подпевает.
— Всему-то тебя выучил доктор Геббельс! А я вот прошел через Дахау — слышал о таком? Я не славянин и не еврей, а попадись мне теперь один из гестаповцев, которые заживо с меня шкуру сдирали, — минуту не задумаюсь, найду этот комитет и приведу туда нацистскую тварь.
— А пока доведешь, пулю в затылок не схлопочешь? Про «вервольфов» слыхал?
— Ты меня не пугай! Сказал: если поймаю, приведу. Мне за это десять грехов на том свете отпустят.
— А на этом? Раньше «Хайль Гитлер!» кричал, а теперь «Хайль Иваном» хочешь откупиться?
— Заткнись! А тебя, который «вервольфами» пугает, я по голосу запомнил! Выйдем наверх, морду набью.
…Адальберт проснулся до рассвета от мучительного приступа кашля. Болела голова, из носа текло. Он пошарил вокруг: нет ли какого-нибудь листка бумаги, чтобы высморкаться. Но, приблизив листок к лицу, увидел печатный текст. Сунул его в карман, чтобы прочесть, когда выберется наружу.
Снова приступ кашля. «Боже мой! — подумал Адальберт. — Заболеть и умереть вот так, в развалинах, как голодная, загнанная собака, умереть, так и не отыскав никого из надежных друзей, не отомстив, не увидев, что будет дальше с Германией…»
Надо попытаться купить на черном рынке бутылку шнапса — единственное лекарство, которое сейчас доступно. Подхватив рюкзак, Адальберт выбрался на улицу.
Тень возмездия
Прежде всего ему бросились в глаза объявления, о которых шла речь ночью. Очевидно, их расклеили вчера перед началом комендантского часа, поэтому, поглощенный поисками ночлега, Адальберт их не заметил. Теперь же он застыл перед одним из них. Оно было обращено «Ко всем берлинцам, ко всем честным немцам!».
«Честных немцев» призывали немедленно сообщать в советскую комендатуру о каждом бывшем нацисте, эсэсовце, гестаповце, сотруднике лагерной охраны — словом, обо всех, кто «более десяти лет мучил немецкий народ, кто начал эту страшную войну и теперь, как крыса, затаился в своей норе». «Наступит день, — говорилось далее, — и главные военные преступники предстанут перед Международным трибуналом… Но ждать не надо. Фашизм должен быть вырван с корнем, и начинать необходимо теперь, после разгрома гитлеровской Германии, с конкретных носителей зла…»
Адальберт не стал читать до конца. Ему было достаточно прочитанного, чтобы понять: это обращение еще туже стягивало петлю на шее таких верных сынов Германии, как он, Адальберт Хессенштайн.
Насморк усиливался, глаза слезились. Он полез в карман, вытащил листок, недавно подобранный в подвале, отряхнул цементную пыль и увидел изображение двух гербов: американского и английского, а между ними большими буквами «ПРОПУСК».
Первым побуждением было разорвать, смять в комок, отбросить бумагу подальше. Он сразу понял, что это такое. Американо-английская листовка, одна из многих тысяч, которые разбрасывались над Берлином и другими городами Германии с самолетов союзников. За чтение таких листовок, а тем более за хранение их еще недавно полагалось строгое наказание: у солдата или офицера, которого заставали за подобным чтением, был только один путь — в концлагерь.
Адальберт равнодушно прочел строки, напечатанные готическим шрифтом: «Немецкий солдат, предъявляющий этот пропуск, использует его как свидетельство своего искреннего желания сдаться в плен. Он должен быть обезоружен. С ним должны хорошо обращаться. Он имеет право на питание и, если в этом есть нужда, на медицинскую помощь. Он будет при первой же возможности удален из опасной зоны». Далее следовало факсимиле подписей Эйзенхауэра и Монтгомери. Ниже текст повторялся на английском языке — видимо, для передовых постов американских или английских войск.
Хессенштайн еще раз перечитал листовку и хотел сделать то, что собирался с самого начала, — разорвать и выбросить. Но что-то его остановило, и, не отдавая себе отчета, зачем он это делает, Адальберт положил листовку обратно в карман. Потом подумал: а что если бы он этим пропуском своевременно воспользовался? Предательство? Нет, он и в этом случае не был бы предателем! Просто сохранил бы себе жизнь, чтобы продолжить борьбу в тылу врага.
…На рынке Адальберту удалось выменять полбутылки шнапса на зажигалку. Держа бутылку за бортом пальто, он сделал два глотка. И сразу почувствовал себя лучше. Тепло разлилось по телу, дышать стало легче. И опять — бесцельное кружение в толпе продающих и покупающих галеты, скверное пойло вместо кофе, тоскливые мысли о ночлеге.
К концу дня болезнь навалилась с новой силой. Его колотил озноб. Перспектива провести ночь в очередном мерзком подвале убивала его, он устал от скитаний, устал бояться, устал заготавливать жалкие ответы на неожиданный приказ: «Стоять! Ваши документы!..» Устал прятаться среди мертвых руин…
Мысль о Крингеле уже не казалась ему безумием. Конечно, самого Конрада он не найдет, тот сумел своевременно скрыться. Ну, а его жена — Марта, кажется? Или старик отец… Они ведь могли застрять в Берлине?..
А дальше? Имеют ли Марта и ее отец необходимые документы? Или сидят и дрожат, ожидая, когда патруль постучит в дверь? Они придут в ужас, увидев на пороге своего дома его, Хессенштайна.
И все-таки он решился. Страшный, оборванный, небритый, он добрался до района Шарлоттенбург. Мучительно старался и никак не мог вспомнить, как выглядел дом Крингеля. Пошел по Бисмаркштрассе, потом по Шиллерштрассе, заглядывал в переулки, которые казались ему знакомыми.
…О чем они говорили в последний раз? О том, что немецкие войска героически сопротивляются русским в Силезии, об опубликованной не так давно статье Геббельса в еженедельнике «Райх»: министр пропаганды с гордостью сообщал о новом секретном оружии, «при виде которого сердце останавливается в груди»… И еще они говорили об очень важном: о планируемом союзниками судебном процессе. Кто должен сесть на скамью подсудимых? Ну, конечно, руководители рейха, партии, СС. Это прежде всего. Но, может быть, на скамью подсудимых сядут и люди рангом пониже, такие, как Крингель или сам Адальберт? Впрочем, Крингель был твердо убежден, что суд вообще не состоится из-за разногласий между русскими и западными союзниками. Особенно уповал он на генерала Паттона, которому американские газеты прочили после победы большое будущее.
Это было известное имя. Джордж Смит Паттон командовал Вторым корпусом в Северной Африке, затем 7-й армией в Сицилии, а в начале 1944 года — 3-й армией, которая вела бои во Франции. И хотя журналисты характеризовали Паттона как солдафона и как одного из наиболее антисоветски настроенных американских генералов, Эйзенхауэр считал его блестящим военачальником. Нетрудно было представить, что такие люди, как Паттон, сделают все от них зависящее, чтобы судебный процесс — конечно же, являющийся уступкой русским, — был сорван.
…Адальберт остановился, ноги его вросли в искореженный тротуар. Да, да, это тот самый дом — уютный, не тронутый бомбами и снарядами двухэтажный особнячок, по стенам которого вьются змейки плюща. Вот здесь, у этих ступенек, остановилась машина, в которой привез его Крингель, — только тогда дверь поблескивала, точно отлакированная, а сейчас была тусклой, исцарапанной, как если бы на нее не раз бросался когтистый зверь.
Адальберта снова охватил страх. Какое непростительное легкомыслие — стоять и глазеть на жилище бывшего обергруппенфюрера СС, — ведь не исключено, что за особняком наблюдают вражеские глаза. Он метнулся в сторону, притаился в одной из развалин и, сдерживая озноб, стал наблюдать.
В доме кто-то наверняка жил. Окна были задернуты пыльными занавесками, и все-таки дом выглядел так, будто его не коснулись военные вихри, точно тень фюрера оберегала его. Входная дверь растворилась, и по ступеням сошел пожилой, на удивление опрятно одетый седоволосый человек.
«Боже мой! — мысленно воскликнул Адальберт. — Это же отец Марты!» Он не помнил имени, но отчетливо восстановил в памяти, что Крингель познакомил его не только с женой, но и с ее отцом — они спустились со второго этажа, когда Адальберт и Крингель вошли в дом.
«Это чудо, чудо!» — повторял про себя Адальберт. Может быть, и сам Крингель жив и здоров, может, он сделал себе пластическую операцию — о таких случаях Хессенштайн слышал не раз от соседей по ночлегу — или переменил имя, достал новые, легализующие его пребывание в Берлине документы?.. О, если так, Крингель поможет и ему, Адальберту Хессенштайну!
Подождав, пока старик свернет за угол, Адальберт рванулся из развалин, точно в атаку. Перепрыгнул ступени, дернул ручку дверного звонка…
Дверь тут же отворилась. На пороге стояла Марта. Да, это была Марта Крингель, постаревшая и сильно похудевшая за эти месяцы.
— Что вам нужно? — резко спросила она, отпрянув.
И хотя было вполне естественно, что Адальберт, выглядевший как бродяга, как нищий, небритый, с грязными лохмами, нависающими на лоб, был встречен именно так — неприязненно-резко, — сердце его забилось от горестного унижения. Он молил бога, чтобы эта женщина вспомнила, как в прошлом году Крингель представил ей Хессенштайна — старого партийного товарища, друга, как потом они все вместе со стариком сидели в комнате, которая виднеется сейчас за плечами Марты, вокруг большого круглого стола, накрытого кружевной скатертью, и пили кофе…
Комната была все та же, только казалось, что по ней пронесся пыльный смерч: стены, на которых раньше висели портреты фюрера, Гиммлера и Кальтенбруннера, были пустыми, обои со следами портретов обшарпаны, измараны какой-то краской…
— Что вам нужно? — враждебно и со страхом повторила Марта, загораживая Адальберту вход.
— Я хотел бы повидать господина Крингеля, — тихо ответил он.
— Кого? — В голосе ее были перемешаны ужас и негодование. — Его нет!
— Он скоро будет? — с робкой надеждой спросил Адальберт.
— Вы с ума сошли! Кто вы такой? Мой муж погиб на фронте два года назад!
«Она врет, врет! — проговорил он про себя. — Я виделся с Крингелем совсем недавно, а в прошлом году был с ним здесь, в этом доме…»
— Уже два года?.. — переспросил он.
— Да, да! — крикнула Марта.
— Но я виделся с ним гораздо позже.
— Где?
— Ну, хотя бы в этом доме, фрау Марта.
— Это ложь, ложь, я вижу вас в первый раз! — Страх ширился в ее глазах. — Этого не может быть… — уже тихо произнесла она, оглядела его с головы до ног и еще тише спросила: — Как ваше имя?
Теперь настала его очередь испугаться. Все эти дни, оказавшись в берлинской мышеловке, он ни разу не произносил своего имени. Прячась от людей, от облавы, превратившись в пещерное существо, он старался забыть, как его зовут. На всякий случай он придумал себе другое имя — Квангель; и хотя не мог подтвердить его достоверность никаким документом, держался за него, как за спасательный круг.
Но как поступить теперь? Назвать вымышленное имя, которое ничего не скажет Марте? Разве это не повод для нее немедленно выставить его за дверь или, что самое страшное, позвать одного из советских солдат, проходящих по улице? Повернуться и уйти? Снова обречь себя на крысиную жизнь в развалинах?.. Не просто умом, но всем существом своим Хессенштайн понимал, что эта женщина, этот дом — его единственная и последняя надежда до тех пор, пока он не решится вернуться в родной Нюрнберг.
— Меня зовут Адальберт-Оскар Хессенштайн, — глядя на Марту в упор, произнес он. И добавил: — Я бригадефюрер СС. Занимался вместе с вашим мужем организацией и инспекцией концлагерей.
Она отшатнулась, но не для того, чтобы пропустить его, а чтобы прислониться к стене и не упасть.
Хессенштайн ждал молча. Неужели Марта выдаст его? Не побоится, что он может рассказать все, что знает о Крингеле, в том числе и то, что видел его в Берлине — «убитого» — совсем недавно? Решится ли она передать властям живого свидетеля деяний своего мужа, скорее всего здравствующего где-то и поныне? Да, он боялся Марты. Боялся, что та ради собственной безопасности выдаст его, но ведь и Марта должна бояться его, Хессенштайна: а вдруг он ее опередит и, желая подтвердить свою лояльность, сообщит в русскую комендатуру, что смерть ее мужа, одного из ближайших помощников Кальтенбруннера, более чем сомнительна? Хессенштайн решил играть ва-банк. Сейчас он чувствовал себя уже не бездомным бродягой, а генералом СС, пытающимся «расколоть» подследственного, подчинить его своей воле.
— Фрау Марта, я полагаю, нам следует держаться друг друга, — холодно и твердо произнес он. — Не в ваших интересах отказывать в помощи человеку, который знает, что ваш муж относительно недавно был жив, в то время как вы утверждаете, будто он умер еще два года назад. Хотите возразить, что, если я донесу на вас, то тем самым выдам себя? Что ж, мне терять нечего, сами видите.
Хессенштайн почувствовал, что переборщил: страх полностью парализовал Марту. Он смягчил тон и сказал внушающе, но почти мягко:
— Фрау Марта! Даже под пыткой я не выдам вас русским. Но… поймите, я бездомен… Болен… Подумайте, что случится с нашей Германией, если такие люди, как мы, откажутся помогать друг другу!
Он увидел, как лицо Марты, каменное еще минуту назад, смягчилось, уголки ее рта дрогнули. «Испугалась? — подумал он. — Или впрямь растрогалась?»
— Проходите, — чуть слышно сказала Марта.
Адальберт вошел в столовую и встал за спинкой одного из стульев, не выпуская рюкзака из рук. Да, это была та самая комната, где они ужинали и пили кофе с Крингелем. И Марта сидела вот тут, на этом стуле. А рядом сидел ее отец — старик с седыми волосами. Перед взором Хессенштайна на мгновение снова появился накрытый кружевной скатертью стол, а во главе его — Крингель в черном мундире с погоном на плече и тремя дубовыми листками на петлицах… Видел Хессенштайн и самого себя рядом с Крингелем, тоже в мундире СС с повязкой на левом рукаве, на которой резко выделялась свастика.
— Что я могу для вас сделать? — как бы боясь ответа, спросила Марта.
Хессенштайн почувствовал, что между ними установилась какая-то внутренняя связь. Конечно, он понимал, что в основе ее были не сочувствие и добросердечие, а страх Марты за себя. Она не пригласила Адальберта сесть. Он стоял в этой будто всплывшей из небытия комнате оборванный, грязный, опустив на пол замызганный вещевой мешок.
— Как видите, я застрял в Берлине, фрау Марта. Без документов, — тихо произнес Адальберт. — Свои, конечно, уничтожил. Вы, может быть, помните, что мой дом в Нюрнберге. Но я не могу вернуться: русские повсюду ищут тех, чья вина заключается лишь в честном служении великой Германии и фюреру. Вокзал, поезда — все это сейчас для меня под запретом. Я уже много дней ночую в развалинах. Нет, — торопливо воскликнул Хессенштайн, приподнимая руку, — я не прошу у вас жилья. Только ночлега на несколько дней. Думаю, затем я найду способ избавить вас от моего присутствия. А пока — только ночлег, даже не в самом доме, нет. В каком-нибудь подвале… Я буду приходить ближе к ночи и уходить чуть свет.
— Куда? — спросила Марта.
— О, куда! — с горечью повторил Хессенштайн. — Туда… на улицу… — Он сделал неопределенный взмах рукой.
— Боже мой! — почти простонала Марта и добавила шепотом: — Что они с нами сделали!
Хессенштайн раздраженно подумал, что с ней, Мартой, и домом Крингеля никто ничего особенного не сделал, дом выглядел оазисом в пустыне развалин — непредсказуемая прихоть войны, обрушившей на Берлин столько смертей, столько бомб и снарядов…
— Муж рассказывал мне о вас, — снова заговорила Марта.
— Что именно?
— Когда русская артиллерия была уже слышна, он называл вас среди тех немногих, на кого можно положиться.
— Меня могут убить, но только с верой в тысячелетний рейх, в идеалы, которые провозгласил наш фюрер! — Хессенштайн произнес это несколько напыщенно, вытянувшись и едва не щелкнув каблуками разбитых, заляпанных цементом и грязью ботинок.
— Вот таким был и мой Конрад! — Марта поднесла к глазам платок. Как только она произнесла имя обергруппенфюрера, Хессенштайн снова насторожился: где же все-таки ее муж? Но тут же понял, скорее подсознательно, чем логически, что вопросов Марте задавать не следует.
— Только ночлег, — тихо повторил Адальберт. — Через несколько дней я найду выход.
— Почему вы уверены, что за несколько дней?..
— Потому что на черном рынке торгуют всем, в том числе и фальшивыми документами. Так вот, я намерен присмотреться и купить себе более или менее надежный «аусвайс». Меня волнует сейчас только одно: как вернуться в родной Нюрнберг.
— Неужели «аусвайс» можно купить? Так просто? — спросила Марта.
— О нет, не просто. «Аусвайс» должен иметь мою фотокарточку, кроме того, нет гарантий, что ублюдок, согласившись изготовить документ, тут же не донесет на меня русским. Я уже давно приглядываюсь к тем, кто торгует документами. Риск слишком велик, ошибиться нельзя… Деньги для меня не играют особой роли, — продолжил он после паузы, дотронувшись носком ботинка до рюкзака, и без всякого перехода спросил: — Вы живете с отцом?
— Да, — ответила Марта.
— Старому человеку сейчас по городу ходить небезопасно, — решил проявить заботу Хессенштайн.
— А есть старому человеку нужно? — с внезапно вспыхнувшей злобой воскликнула Марта. — Между прочим, и женщины питаются не только эфиром. Вы мне рассказываете про черный рынок. Да я туда хожу каждую неделю! Два раза попадала в облаву, но все обошлось, слава богу, — у меня хороший «аусвайс».
— Как вы его получили?
Марта пожала плечами.
— А почему бы и нет? Мой муж погиб, у меня есть соответствующий документ, сама я в партии не состояла. Словом, пошла в комендатуру и даже получила продовольственные карточки, правда, низшей категории.
— Вас не гоняют на расчистку улиц?
— Нет. Отцу за семьдесят, а я… словом, я больна, у меня справка от врача, преданного нам человека.
— Вам повезло, — сказал Адальберт и подумал: «Знаю я, откуда у вас все эти справки и свидетельства! Перед тем как исчезнуть, Крингель, конечно же, обеспечил вас безупречными документами». Хессенштайн был наслышан об этих документах и горько сожалел, что заблаговременно не запасся, скажем, «Трудовой книжкой иностранца», как это сделали многие, выдавая себя за перемещенных лиц. Правда, для этого надо свободно знать чешский или, скажем, польский… Об «Удостоверении жертвы фашизма» можно только мечтать — добыть его совершенно нереально. Вслух он сказал: — Вам крупно повезло, фрау Марта. Вы помните последнюю речь доктора Геббельса? Он говорил, что русские, когда к ним в руки попадает женщина, да к тому же красивая, не спрашивают никакие «аусвайсы»… Однако я возвращаюсь к тому, с чего начал, — твердо продолжил Хессенштайн.
Марта вопросительно посмотрела на него.
— Надеюсь, что в память о нашем великом прошлом, в память о вашем муже, погибшем, — с ударением произнес он, — конечно же, как верный солдат фюрера, вы окажете помощь другому солдату… Я готов спать в убежище, в гараже, если он у вас есть, в собачьей будке. Я, в свою очередь, готов позаботиться о том, чтобы вы и ваш отец не испытывали ни в чем нужды. Вы оставляете мне с вечера записку в условленном месте, что надо купить, и на другой день к ночи продукты с рынка будут в вашем распоряжении.
Марта помедлила.
— Вообще-то убежище у нас действительно есть. Собственно, не убежище, просто подвал. Конечно, никакого комфорта. Но я дам матрац, подушку и одеяло…
— Спасибо, спасибо, фрау Марта! — с неподдельным чувством благодарности воскликнул он. — А сейчас я уйду.
— Подождите, — сказала Марта после короткого раздумья. — Вам надо побриться, переодеться… Я дам старый гражданский костюм Конрада. Но прежде всего надо принять аспирин. Если не поможет, достану завтра другое лекарство.
Страх промелькнул в глазах Адальберта. «Другое лекарство?..» Он вспомнил очкастого фармацевта на черном рынке. В сущности, избавиться от него, Хессенштайна, было бы для Марты более чем выгодно… Однако он сказал:
— Вы очень добры, фрау Крингель!
Марта вздохнула и направилась к двери, ведущей в другую комнату: скоро она вернулась со стаканом и двумя таблетками на ладони.
Хессенштайн взял таблетки и с ужасом разжевал, прежде чем проглотить, — он знал, что цианистый калий имеет вкус горького миндаля. Таблетки были чуть кисловатыми. Он поставил стакан на стол и еще раз сказал:
— Благодарю вас, фрау Марта.
Марта снова вздохнула:
— Когда же наконец в Берлин войдут американцы? Я надеюсь, что они отнесутся к нам как цивилизованные люди.
— А в каком секторе окажется ваш дом? — с тревогой спросил Адальберт.
— В американском. В этом я уверена.
Они договорились, что Хессенштайн будет приходить вечером, убедившись, что возле дома никого нет.
— Тихонько постучите в окно, три раза. Вот в это, — Марта показала на крайнее окошко справа. — И тогда я или отец выйдем к вам с черного хода.
Пристанище
Взяв в руки бритву, Адальберт решил изменить внешность: он достаточно зарос, чтобы оставить небольшие усы и бородку. Оглядев себя в зеркале, он едва не вскрикнул от радости и удивления. Перед ним стоял не устрашающий бродяга в грязных отрепьях, а вполне приличный человек. Тут же Адальберт с опаской подумал, что костюм несколько щеголеват, и решил, полазив по развалинам, придать ему поношенный вид. Бородка и усы изменили его, и все же Хессенштайн содрогнулся при мысли, что может встретить кого-то из знакомых. Он был бы счастлив увидеть старых, верных друзей, но, кроме них, его могли запомнить в мундире бригадефюрера СС десятки незнакомых людей…
Тревога не отпускала Адальберта. На кого скорее обратит внимание патруль — на оборванного бродягу или на прилично одетого бюргера? Все зависит от случая и от его, Адальберта, зоркости. Да, он должен быть зорким, чтобы издалека увидеть советских солдат и бесследно раствориться в руинах. За время скитаний Хессенштайн научился быть бдительным.
Свернув свое тряпьё в комок и подхватив рюкзак, он снова появился в столовой.
— Ну вот, теперь вы похожи на человека, — удовлетворенно сказала Марта, сидевшая с вязаньем на диване.
— Вы сделали все это не для меня, — прочувствованно сказал Хессенштайн, — ведь ваше сердце тоже принадлежит великой Германии. Я уверен, что, когда она восстанет из руин и пепла, таких самоотверженных женщин, как вы, будут награждать высшими орденами империи… Итак, с вашего разрешения, вечером, третье окошко… вот это, — Хессенштайн для верности показал пальцем. — И еще: что вам принести с толкучки?
— Но у нас есть свои возможности, — протестующе, хотя и без особой настойчивости воскликнула Марта.
— Фрау Марта, это мой долг. Копченая колбаса, консервы….
— Но я же сказала…
— И я сказал. Итак, на завтра — копченая колбаса и консервы.
И Хессенштайн прижился в доме Крингелей. В первый раз в подвал его впустила Марта. Во второй — ее отец, семидесятипятилетний, еще бодрый старик.
Вечерами Хессенштайн крадучись появлялся у дома, стучал в заветное окно, передавал с черного хода Марте или ее отцу сверток с продуктами, резким движением отводил протянутую ему руку с зажатыми в ней деньгами и спускался в подвал.
Матрац, подушка и солдатское одеяло казались ему царским ложем.
С тех пор как бомбежки прекратились, убежищем, очевидно, никто не пользовался. Цементный пол возле одной из стен потрескался, обнажив землю, в углу были свалены садовые инструменты, лопата, лом, грабли — к ним тоже, судя по всему, давно не прикасались.
Хессенштайн подумал, что надо спрятать где-то здесь свой рюкзак. Он вынул из него часть денег и несколько золотых украшений, рассовал по карманам, взял лом и стал разбивать остатки цемента. Потом выкопал яму у основания стены, завернул рюкзак в потрепанный непромокаемый плащ, который выменял на рынке, положил в яму и тщательно засыпал. Утрамбовал землю ногами, забросал обломками цемента и, придирчиво осмотрев результаты своей работы, остался доволен.
…День за днем все шло, как по расписанию: Хессенштайн уходил, едва начинало светать, и приходил затемно.
Черный рынок по-прежнему притягивал его. Адальберт рассеянным, хотя и внутренне напряженным взглядом скользил по предлагаемым из-под полы «аусвайсам» и шел дальше, делая вид, что его ничего, кроме съестного, не интересует… Как найти путь к человеку, который снабдил бы его нужным документом?
Разные мысли приходили ему в голову. Иногда казалось, что со дня на день неминуемо вспыхнет драка между зонами — советской, американской и английской (французов он в расчет не принимал). Иногда он грезил о чуде, о возрождении рейха. Веру в рейх не могли подорвать даже сообщения газет — он по-прежнему каждое утро покупал их, — что по инициативе русских, поддержанной еще Рузвельтом, создан Международный трибунал, который будет судить нацистских преступников.
«Кого судить, за что? — спрашивал себя Адальберт. — Фюрер, Геббельс ушли из жизни. Неужели у самозваных „судей“ поднимется рука на ближайших соратников фюрера — Геринга, Риббентропа, Кальтенбруннера, Кейтеля?..»
Разве какая-либо война в истории человечества, в том числе первая мировая, заканчивалась когда-либо судом? Да, были аннексии, репарации, был подлый Версальский договор, но суд над руководителями целой страны? И кого считать «главными нацистскими преступниками»? Полтора-два десятка человек, руководивших партией и страной? Или каждого, кто занимал ответственный пост в вермахте, в СС, в СА? Где набрать столько тюрем? Или речь идет о казни? Хессенштайн чувствовал, как его пробирает дрожь. Ему уже слышался голос: «Подсудимый Адальберт-Оскар Хессенштайн, встаньте!..» Он снова и снова убеждал себя, что речь идет о чисто пропагандистском трюке, что весь этот «суд» уйдет в песок…
Слоняясь по рынку, Хессенштайн мечтал о блаженных вечерних часах, когда он спустится в подвал, снимет пальто и, предварительно убедившись, что место, где он закопал рюкзак, осталось нетронутым, растянется на матраце, прикроется теплым одеялом и зароется лицом в мягкую подушку.
Но однажды случилось иначе.
Впрочем, сначала все шло как обычно: он постучал в окно, затем обошел дом, старик уже стоял на пороге, Адальберт сунул ему очередной сверток, тот взял его, шепотом они обменялись «данке шен» и «битте шен», и вот уже Адальберт поворачивается и, согнувшись, пробирается к подвалу. Но на этот раз он услышал вслед тихий голос:
— Не спешите, господин Квангель.
Кестнер
Сначала Адальберт даже не понял, что эти слова обращены к нему: свою выдуманную фамилию он произнес в разговоре с Мартой, кажется, единственный раз, и еще никто никогда не называл его этим именем. Тем не менее Адальберт остановился, обернулся и увидел, что старик идет за ним, держа что-то в руках, — не переданный ему сверток, нет, а что-то другое, плохо различимое в темноте.
— Я хочу проводить вас, — тихо сказал старик.
— Спасибо, господин… — Адальберт запнулся. Он не знал фамилию отца Марты и никогда ею не интересовался.
— Кестнер, — подсказал старик.
Адальберту показалось, что когда-то, очень давно, он слышал эту фамилию… Когда? Нет, просто показалось.
— Спасибо, господин Кестнер, не беспокойтесь! — Адальберт уже стоял у входа в убежище и приподнял крышку ровно настолько, чтобы можно было пролезть внутрь. Однако, к удивлению Адальберта, Кестнер спустился в подвал следом за ним. Старик потянулся вверх, ухватил металлические скобы и плотно прижал крышку над входом.
«Что ему нужно?.. Зачем?..» — недоумевал Адальберт. Он услышал шорох и не сразу сообразил, что Кестнер вытащил из кармана коробку спичек. Чиркнула спичка, и Адальберт увидел, что у ног Кестнера стоит небольшой фонарик типа «летучей мыши». Старик приподнял стекло, провел горящей спичкой по фитилю и перенес излучающий тусклый свет фонарь в дальний угол убежища.
— Мне хочется побеседовать с вами, Адальберт, — называя Хессенштайна настоящим именем, сказал Кестнер. — Присядем. — Оба уселись на матрац. — Стыдно и горько, что я не смог достойно принять такого человека, как вы…
Адальберт пропустил эти слова мимо ушей, его беспокоило другое: свет, который мог проникнуть наружу.
— Свет! — тревожно сказал он. — Вы не боитесь?
— Нет, — успокоил Кестнер. — Я плотно закрыл крышку. А щели надежно заделаны, во время бомбежек мы следили, чтобы ни малейшая полоска света не проникла наружу. Так что будьте спокойны. А теперь я позволю себе задать вам один вопрос: вашего отца звали случайно не Грегор?
— Боже! — воскликнул Адальберт. — Вы знали моего отца?
— И мать, — сказал Кестнер. — Ее звали, кажется, Гудрун?
— Это чудо какое-то… — пробормотал Адальберт. — Но как?.. Откуда?..
— Остановим ненадолго время, партайгеноссе Хессенштайн, — тихо сказал Кестнер, — или, точнее, повернем его назад.
Они сидели на матраце близко друг к другу, едва освещенные тусклым фонарем, и Адальберту показалось, что все это происходит в каком-то другом измерении. Раздался писк, и черная крыса молнией пересекла убежище.
— Крыса! — с отвращением воскликнул Адальберт. — Ненавижу их.
— Напрасно, — с усмешкой произнес. Кестнер. — Нам многому придется у них поучиться. Появляться и нападать внезапно, исчезать мгновенно… Но об этом потом. А сейчас… Вам, конечно, многое говорит слово «Бюргербройкеллер»?
— Вы имеете в виду знаменитую мюнхенскую пивную?
— Только эта и вошла навечно в историю рейха! Другой не было, — вполголоса ответил Кестнер.
— Нужно ли об этом говорить мне? — укоряюще произнес. Адальберт. — Ведь в те ноябрьские дни двадцать третьего года я вместе с отцом был в Мюнхене, — отец командовал одним из подразделений СА и получил приказ, как и многие другие штурмовики…
— Я знаю об этом, — Кестнер склонил голову и погрузился в воспоминания. — До смертного часа все сохранится в памяти… Пивная была окружена полицией, там ораторствовал Кар, так называемый генеральный комиссар Баварии. Фюрер в сопровождении группы отборных штурмовиков ворвался в пивную, вскочил на стол, отшвырнул ногой пивные кружки, выхватил револьвер… До сих пор могу слово в слово повторить, что он сказал. Хотите? — И с явной гордостью за свою память Кестнер произнес: — «Национальная революция началась! Это здание занято семьюстами вооруженными с ног до головы штурмовиками. Приказываю всем оставаться здесь, в этом зале. Пулеметы, установленные на галерее, готовы открыть огонь. Итак, объявляю Германское и Баварское правительства низложенными. Будет немедленно сформировано национальное временное правительство. Казармы рейхсвера и полиции заняты нами. Солдаты рейхсвера во главе с генералом Людендорфом приближаются сюда под знаменем свастики…» — Кестнер умолк, еще ниже опустил седую голову и на этот раз уже тихо добавил: — Да, я могу повторить речь фюрера слово в слово…
— А потом? — охваченный чувством ностальгии, спросил Адальберт.
— Потом фюрер приказал Кару, Лоссову и Зейссеру, представлявшим Баварское правительство, пройти с ним в заднюю комнату. У дверей, охраняя вход, встали Келлерман, я… и знаете, кто был третьим? Ваш отец, Грегор Хессенштайн. Вот поэтому я и рассказываю вам все это.
— Я знаю, знаю! — воскликнул Адальберт. — Ведь я сам тогда подростком был в толпе вместе с отрядами СА, окружавшими пивную… Я поехал в Мюнхен с отцом на похороны дяди Андреаса. Правда, я не был свидетелем того, что происходило там, внутри, но отец столько раз рассказывал об этом!
— Да, — не слыша его, задумчиво произнес Кестнер, — тот бой мы проиграли. Фюрер и его ближайший соратник Гесс оказались в Ландсбергской тюрьме… Там была написана великая книга — «Майн кампф». Потом снова годы борьбы, и прошло десять лет, прежде чем мы во главе с фюрером одержали победу и он стал канцлером Германии. И вот теперь…
Чувство радости все более и более охватывало Адальберта. Какое счастье — сознавать, что теперь он не один, что рядом есть близкий человек… Как же он раньше этого не знал?! И, словно отвечая на невысказанный вопрос, Кестнер сказал:
— Во всем виновата Марта, мой мальчик. Когда вы появились у нас, она просто сказала мне, что вы старый товарищ Крингеля. Сегодня она впервые назвала ваше настоящее имя, когда мы обсуждали, что попросить вас купить на рынке… И вот я здесь…
— Посоветуйте, что мне делать! — в отчаянии воскликнул Адальберт. — Каждую минуту я жду ареста, чувствую себя так, будто уже приговорен к смерти, только приговор отсрочен. На день? На два? Не знаю… Документы, которые можно купить на рынке, — это ничего не стоящие бумажки!
— Вы правы, Адальберт, ни в коем случае не связывайтесь с этими торговцами смертью.
— Так что же мне делать?
— Ждать! — твердо ответил Кестнер.
— Чего? Расстрела? Сибирской каторги?
— Не надо паники, мой молодой товарищ… Кстати, партайгеноссе, — старик снова употребил принятое среди членов партии обращение, — расскажите мне, как вы пришли к национал-социализму.
— О, это давняя история, господин Кестнер. Мне кажется, я исповедовал его всю свою жизнь. Вот я сижу сейчас с вами в этом подвале, а вспоминаю наш дом на Ветцендорферштрассе в Нюрнберге, наш собственный уютный двухэтажный домик… Может быть, кому-нибудь могло показаться, что в нем царит гнетущая атмосфера из-за строгости отца, но я сейчас вспоминаю те дни как лучшие в моей жизни… По вечерам мы собирались втроем, отец, мама и я, иногда заходил кто-нибудь из близких друзей отца. Вечер проходил в разговорах, впрочем, нет, говорил, как правило, отец — о кайзере, о величии германской империи, о чести, о чистоте крови. О, он мог часами разговаривать обо всем этом! — увлекаясь воспоминаниями, повысил голос Адальберт. — У него были единомышленники, он встречался с ними не только у нас дома, но и в «погребке» — по примеру берлинского на Фридрихштрассе он назывался «Дер штрамме хунд»… Отец часто брал меня с собой, он говорил, говорил, а я пожирал сосиски. Пиво с детства заменяло мне и воду, и чай… Кстати, господин Кестнер, вы помните, сколько в те времена стоила кружка пива?
— Гроши, — ответил Кестнер, пожимая плечами.
— А я запомнил: десять пфеннигов! И порция отличных сосисок столько же! А за двадцать пять можно было получить изумительный суп из бычьих хвостов!
…Адальберт говорил уже не для Кестнера, а для себя самого, воспоминания были ему утешением, наградой за длительное молчание, за потерю всего, что было целью жизни, за ночи в сырых подвалах, за невозможность вернуться в родной Нюрнберг, в объятия Ангелики, за постоянный страх быть узнанным… Казалось, если Кестнер уйдет, Адальберт этого не заметит, будет вспоминать свою юность вслух, даже не имея собеседника.
— Как сейчас вижу отца, — продолжал он, — его простертую руку над головами десятка сидевших за столом людей, когда он читал стихи…
— Он любил поэзию? — с некоторым удивлением произнес Кестнер.
— О, нет, стихов он не любил, знал только несколько строчек из Хамерлинга.
— Какие именно? Не вспомните?
— Сейчас, сейчас, одну минуту… Вот эти строки:
О ты, двадцатый после Рождества Христова, Бряцающий оружием и вызывающий восхищение, Наречет ли тебя будущее германским веком?— Прекрасные стихи, — задумчиво сказал Кестнер. — А какую он любил прозу?
— Вы имеете в виду душещипательные романы и рассказики? Нет, насколько я помню, отец этого не читал вовсе. Его настольной книгой было «Руководство по еврейскому вопросу» Теодора Фрича, и еще он читал три газеты, которые выписывал: «Берлинер Берзен-цайтунг», «Кройц-цайтунг» и «Дойче Тагес-цайтунг»…
— Что же, естественно. Эти газеты прославляли военную и духовную мощь Германии.
— Конечно, — согласился Адальберт. — Это было и моим основным чтением. Отец иногда спорил с мамой…
— Спорил?
— Дело в том, что она была католичкой, вы же знаете эти вечные противоречия между католицизмом и национал-социализмом…
— Они сильно преувеличены. Я знаю, что внутри католического духовенства существовали разногласия, которые подчас выливались в довольно острые формы, но среди католических священников были и такие, кто исповедовал веру в фюрера даже более убежденно, чем веру в Христа.
— Вы правы, господин Кестнер, о, как вы правы! — воскликнул Адальберт. — Я знаю одного священника… Патер Иоганн Вайнбехер жил в Нюрнберге, был частым гостем в нашем доме, потом переехал в Лейпциг и получил там приход. Если бы вы только послушали беседы, которые он вел с моей будущей женой Ангеликой! Когда-то ей казалось, что учение фюрера и вера в Христа противоречат друг другу. Немалую роль сыграли здесь и слухи об арестах среди духовенства, распространяемые притаившимися жидомасонами. Так вот патер Вайнбехер, подлинный национал-социалист в душе, обратил духовный взор моей жены Ангелики к фюреру. Отцу не пришлось дожить до торжества нацистских идей, которые он всю жизнь проповедовал… Он умер, я вскоре женился и…
— У вас есть дети, Адальберт?
— К сожалению, нет, хотя я всегда хотел иметь ребенка. Мальчика. Чтобы вырастить из него продолжателя дела отца и деда. И Ангелика хотела ребенка. Но я твердо решил: пусть он родится в победившем третьем рейхе. После смерти отца я стал безработным и впал в отчаяние… Глаза на жизнь, на будущее мне открыла первая речь фюрера, которую я услышал. Я понял, какие задачи стоят перед истинными немцами: уничтожить коммунистов, социал-демократов и евреев. Объявить борьбу мировой плутократии. Расширить жизненное пространство Германии. Вот этим задачам я и посвятил свою жизнь.
Адальберт наслаждался звуками своего голоса и словами, которые отныне в Германии нельзя было произносить вслух.
— Эти задачи стоят перед нами и сегодня, — сказал после паузы Кестнер. — Скорее — перед вами, сын мой. Я уже стар.
— Но что можно сделать, когда страна находится под русским сапогом, когда в любую минуту тебя могут схватить?
— Вы не должны попасть к ним в руки. Русские заигрывают с немцами, бесплатно кормят детей, помогают расчистить улицы, но к таким, как мы, они будут беспощадны! И все же мужайтесь: час избавления близок!
— Что вы имеете в виду, господин Кестнер?
— Американцев. Они должны войти в город со дня на день.
— Но американцы и русские — союзники.
— Союзник союзнику рознь. Конечно, и они, и англичане допустили огромный просчет, у них была исключительная возможность вместе с нами покончить с большевистской Россией, взять реванш за свою провалившуюся интервенцию после русской революции. Но все же… они принадлежат западной цивилизации, они не распалены чувством мести — нога немецкого солдата никогда не была на американской земле, и самое главное: в душе они ненавидят большевизм не меньше, чем мы. Так что ждите, партайгеноссе Хессенштайн, ждите! Время работает на нас! — Кестнер встал. — А теперь прощайте.
— Вы пробудили во мне надежду, партайгеноссе Кестнер, — с чувством произнес Адальберт. — И спасибо вам за память об отце.
Проблеск надежды
Летом 1945 года в Берлин вступили американские войска.
Американцы вошли в город под автоматные очереди в воздух, карнавальные хлопушки, разрывы сигнальных ракет, вошли с песнями, наполовину высунувшись из танковых люков или просто разлегшись на танковой броне, покуривая сигареты и сигары, ловя букеты цветов и снова бросая их в толпы берлинцев, собравшихся по обе стороны разрушенных улиц.
В ликующей толпе стоял и Адальберт. После обнадеживающего разговора с Кестнером он почти поверил, что черные дни миновали, его былая неприязнь к американцам как союзникам русских исчезла почти бесследно, и теперь он встречал их так, как если бы они пришли в город специально для того, чтобы обеспечить его, Хессенштайна, безопасность. Он еще ничего толком не знал — не знал, будут ли американцы, подобно русским, вылавливать эсэсовцев, какие правила введут для получения документов и будут ли вообще нужны эти документы. И все же счастье переполняло Адальберта. С удовлетворением глядел он, как новые оккупанты устанавливали на улицах щиты, где большими буквами было написано на четырех языках: «ВЫ ПОКИДАЕТЕ АМЕРИКАНСКИЙ СЕКТОР» или: «ВЫ ВСТУПАЕТЕ В СОВЕТСКИЙ СЕКТОР БЕРЛИНА». «Черта с два перешагну я когда-нибудь линию, за которой меня поджидает смерть!» — думал Адальберт.
Вскоре после прихода американцев в честь этого события в доме Крингеля был устроен маленький праздник. Марта подобрала несколько бумажных американских звездно-полосатых флажков и украсила ими стены столовой. Ужинали втроем, стол благодаря стараниям Адальберта ломился от рыночных деликатесов, хотя с продовольствием дело обстояло все хуже и хуже. Американцы не скупились на песни, фейерверки, на холостые и сигнальные патроны, однако источником снабжения берлинцев по-прежнему оставался черный рынок, а он был далеко не всякому по карману. Теперь главными негоциантами на рынке стали уже не местные жители, а сами американцы. Их военные пилотки мелькали тут и там, и многие немцы, почуяв, что наконец пришли настоящие покупатели, вытащили из тайников все, что представлялось им более или менее ценным.
Сигареты теперь продавались уже не поштучно, а блоками, по чудовищным ценам можно было купить часы швейцарских марок, фотоаппараты и фотопленку, запечатанные банки с кофе, шоколад в ярких упаковках… Продавались и наградные знаки гитлеровской Германии, среди них Адальберт увидел «Рыцарский крест с дубовыми листьями» — еще недавно этот орден считался одним из самых почетных в рейхе.
— Сколько? — спросил Хессенштайн. Продавец назвал смехотворно низкую цену. — Господин — коллекционер? — поинтересовался он.
— Я коллекционирую не ордена, а людей! — резко ответил Хессенштайн. Ему хотелось добавить: «Людей, которые торгуют славой рейха, — чтобы запомнить, кому всадить пулю, когда Германия снова воспрянет»…
Ужин, ради которого Адальберт не поскупился на расходы, получился торжественным. На столе — четыре зажженных свечи, Марта надела нарядное кремовое платье с кружевами, ее отец был в коричневой рубашке с золотым партийным значком. «Значит, он сохранил его! — с уважением подумал Адальберт. — А я все свои награды похоронил вместе с мундиром где-то в развалинах…»
— Рад, что вы не побоялись пронести партийную реликвию сквозь все невзгоды нашей жизни! — указывая на значок, выразил свои чувства Адальберт.
— Этот значок — один из первых, которые фюрер вручал членам партии, — с достоинством ответил Кестнер. И тут какая-то неодолимая сила сорвала Адальберта с места, он вытянулся перед сидящим за столом стариком и отрывисто произнес, скорее гаркнул, выкинув вперед правую руку:
— Хайль Гитлер! — Потом сел и после некоторого молчания сказал: — У меня тоже есть чем вас порадовать. Вот. — И не без торжественности вынул из кармана и положил на стол «Рыцарский крест». Кестнер и Марта склонились над орденом, потом вопросительно посмотрели на Адальберта.
— Это… ваш? — спросил Кестнер. — И вы в такое время носили его с собой?
— Я купил его сегодня на черном рынке.
— Боже мой! — воскликнула Марта. — Точно такой был у Конрада!..
— Зачем вы это сделали, Адальберт? — В голосе Кестнера прозвучало брезгливое осуждение. — Если нашелся грязный человек, торгующий славой Германии, то неужели нашелся и покупатель? Зачем вы купили его?
— Чтобы вырвать орден из рук мерзавца! Пусть он хранится у нас, ведь к этому ордену, возможно, прикасались руки фюрера! И кроме того, — Адальберт почувствовал волнение, — я верю в чудо. На ордене есть номер, имя владельца наверняка зафиксировано в документах рейха, и я не исключаю, что в будущем награда может быть возвращена герою.
Наступило молчание, орден тускло поблескивал в свете свечей, и все трое не сводили с него глаз.
— Ты прав, Адальберт, — поднял седую голову Кестнер. — Только с одним уточнением: восстановление рейха кажется тебе далеким будущим, мне же оно представляется делом более близким.
Внезапно комната озарилась голубым призрачным светом.
— Что это? — испуганно воскликнула Марта.
— Ничего особенного, — успокоил Кестнер, — очередной фейерверк победителей.
С приходом американцев улицы преобразились. Там, «у них», в советском секторе, тысячи человек были заняты расчисткой улиц, к советским полевым кухням тянулись бесконечные очереди пожилых людей и детей… Здесь было все иначе. С продовольствием дело обстояло скверно, развалины разбирали не торопясь, зато увеселительные заведения были освещены неоновым светом, и казалось, за каждой дверью возникали все новые кафе, бары или ночные клубы. Время от времени, лавируя среди руин, проносились «джипы», набитые хохочущими американскими солдатами… Иногда машине преграждала путь очередная проститутка, водитель тут же тормозил, кто-то из солдат, перегнувшись через борт, обменивался с женщиной несколькими словами, сопровождая их недвусмысленными жестами и смехом, затем женщину подхватывали солдатские руки, раздавался визг сирены, и «джип», рванув с ходу, исчезал в полумраке.
Вскоре американское командование объявило по радио, что намерено провести денацификацию. Самое тревожное для Адальберта заключалось в требовании зарегистрироваться в комендатуре и получить документ с отпечатком пальца. За Марту и ее отца Хессенштайн был спокоен: уж если им удалось получить документы у русских, то с американцами хлопот не будет. А вот кто поможет ему, Адальберту?..
«Жир всплывает наверх»
На город опускались сумерки, когда он вышел из дома Крингеля. До комендантского часа еще оставалось время, из окон первых этажей доносилась музыка, и вдруг всем существом своим Адальберт почувствовал, что тоже хочет веселья. Он столько дней не видел ничего, кроме черного рынка, столько ночей провел в подвалах и развалинах, и вот теперь ему неудержимо захотелось чего-то яркого, светлого, бесшабашного…
Он толкнул дверь под вывеской «Кабаре Шаубуде» и прежде всего внимательно осмотрелся: вдруг это заведение только для американцев, немцы сюда не допускаются? Столики плавали в табачном дыму, их было полтора-два десятка, и в первую минуту все они показались Адальберту занятыми. Но тут же он разглядел, что есть свободные места и что военных здесь меньше, чем людей в гражданских костюмах. Адальберт подошел к сидящему за одним из столиков мужчине и попросил разрешения присесть. Ему ответили «Битте шен!», и Адальберт сел, повернув стул так, чтобы видеть маленькую, сбитую из некрашеных досок эстраду.
Тапер в расстегнутой рубашке — в помещении было очень жарко — наяривал на фортепьяно какую-то бойкую мелодию, а пожилой мужчина с бантом вместо галстука и в соломенной шляпе «а-ля Морис Шевалье» исполнял куплеты под чечетку. Голос его заглушался взрывами хохота, звоном пивных кружек… Один куплет Адальберт все-таки разобрал, актер, по-видимому, изображал спекулянта и пел, притопывая:
Я торгую дровами, бриллиантами и салом, Домами, гвоздями и спиртом. Я торгую, если уж на то пошло, кошачьим дерьмом И выдаю его за оконную замазку…После каждого куплета следовал новый взрыв чечетки и припев, в котором Адальберт смог разобрать только последние слова:
…Жир всплывает наверх.— Господин имеет что-либо для продажи? Или обмена? — спросил, наклоняясь к уху Адальберта, его сосед, краснолицый, усатый немец.
За долгие дни Адальберт отвык от общения, он и на рынке ограничивался минимумом слов: «Что у вас? Сколько? Беру. Не надо. Могу предложить…» — вот, пожалуй, и все. Неожиданная поддержка Кестнера, ночная беседа с ним как бы открыли шлюзы, в ту ночь он снова ощутил себя живым человеком с присущими ему страстями и воспоминаниями…
Да, Кестнер и американцы раскрепостили Адальберта. Панический страх, который он так долго носил в своей душе, почти исчез, хотя тревога оставалась. Улыбнувшись краснолицему немцу, Адальберт вежливо осведомился, что именно его интересует.
— В общем-то все, что продается и покупается, — не без иронии ответил тот.
В кармане у Адальберта лежал очередной список Марты, он ответил негромко, продолжая глядеть на эстраду:
— Интересуюсь продуктами. Колбаса. Натуральный кофе. Сигареты. Масло.
— Какой, позвольте спросить, эквивалент?
Адальберт нащупал в кармане очередную безделицу, предназначенную для реализации, — дамскую золотую цепочку, вытащил ее и показал, прикрывая ладонью другой руки.
— К сожалению, я не ношу товар с собой, — сказал сосед, бросив взгляд на цепочку. — В свою очередь, могу предложить вот это. — И он вынул из внутреннего кармана пиджака тонкий серебряный портсигар. Но такого добра и у самого Адальберта было достаточно в заветном рюкзаке.
— Изящная вещь, — сказал Адальберт, — но мне нужно то, что можно положить в рот.
— Тогда вам придется пройти к Бранденбургским воротам. Вы берлинец?
Адальберт замешкался, но уже в следующую секунду кивнул:
— Да, конечно. А вы?
— Тоже. Моя фамилия Штуфф.
— Очень приятно. Квангель, — пожимая протянутую руку, сказал Адальберт.
— Уже «натурализовались»? — спросил Штуфф.
— Что? Я, знаете, долгое время был нездоров и не совсем в курсе…
— Я имею в виду вот это. — Штуфф полез в нагрудный карман пиджака и, вынув картонную карточку, приблизил ее к глазам Адальберта, не выпуская из рук.
На карточке по-немецки и по-английски было напечатано: «ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕРМАНИИ. Временная регистрационная карточка». Потом следовал текст: «Владелец этой карточки должным образом зарегистрирован как житель города…» Далее чернилами было вписано: «Берлин». Справа в специальном квадратике Адальберт увидел отпечаток пальца.
— Сначала надо заполнить огромную анкету, вопросов сто, — пояснил Штуфф, — я даже не уверен, читают ли эти анкеты в американской комендатуре. Черт подери, это у них называется денацификацией! А уж потом, если вашу анкету не затеряют или не выбросят в мусорную корзину, вы получите свой «аусвайс».
«Боже мой, — подумал Адальберт, — о каком Нюрнберге я мечтаю, если, даже получив такую карточку, не буду иметь права покинуть Берлин!» Однако Штуфф тут же успокоил его, добавив:
— Беженцы, оказавшиеся в Берлине, указывают место своего постоянного жительства. Уверен, что половина населения еще не успела оформить «аусвайсы». Куда торопиться? Те, кому есть чего опасаться, наверняка давно смылись из города. А ваше занятие, если интуиция мне не изменяет, по-английски называется бизнесом.
— Отдаю должное вашей проницательности.
— Без бизнеса жизнь пуста и утомительна, не правда ли? Скажу вам как осведомленный человек: американцы уважают бизнес, он для них все — и власть, и доверие, и дружба. Кстати, надеюсь, я не слишком затрону ваши патриотические чувства, если замечу, что и наши бывшие лидеры прекрасно умели считать деньги.
— Что вы имеете в виду? — насторожился Адальберт.
— Ну, хотя бы вот это. — Штуфф протянул ему то ли газету, то ли свернутый плакат — увеличенную перепечатку американской листовки, переведенной на немецкий язык. Преодолевая желание скомкать бумагу, Адальберт начал читать.
«Американская пресса впервые опубликовала со всеми подробностями фактическое сообщение, из которого явствует, что ГЕРИНГ, ГЕББЕЛЬС, РИББЕНТРОП, ГЕСС, ГИММЛЕР, ЛЕЙ, ШТРЕЙХЕР через своих подставных лиц припасли для себя за границей фантастическую сумму в 142 494 000 марок наличными, в виде ценных бумаг и страховых полисов». Далее следовало: «Известная газета „Чикаго дейли ньюс“ пишет: „Как бы ни сложилась судьба нацистской Германии в результате этой войны, гитлеровские приспешники бедствовать не будут. И если даже они сами не уцелеют, то по крайней мере их семьям привольное житье обеспечено“. Нью-йоркская газета „Джорнэл-Америкэн“ подтверждает: „Состояние нацистов размещено в банках Южной Америки, Японии, Люксембурга, Голландии, Египта, Эстонии, Латвии, Финляндии и Швейцарии. Кроме того, большие суммы наличными хранятся у нацистских агентов и в казне немецких пароходных обществ“. ВОТ ВАШИ ФЮРЕРЫ!»
На обороте листовки Адальберт прочел:
«Американская пресса публикует следующие подробности: ГЕРИНГ, предполагаемый преемник фюрера, припас за границей не менее 30 030 ООО марок. ГЕББЕЛЬС хранит в Буэнос-Айресе, Люксембурге и Осаке (Япония) мелочишку: 35 960 000 марок. РИББЕНТРОП — самый богатый из всех. В Голландии и Швейцарии у него 38 960 000. ГЕСС, заместитель фюрера, припрятал в Сан-Паулу и Базеле 16 430 000. ЛЕЙ неплохо нажился на своих делишках с „К. д. Ф.“. У него 7 564 000 марок. ГИММЛЕР, который, как рысь, следил за тем, чтобы ни один немец не вывез за границу больше 10 марок, сам переправил туда 10 550 000 марок. ШТРЕЙХЕР — как известно, „страж немецкой чести“ — отложил за границей скромные сбережения в сумме 3 000 000 марок. Нью-йоркская газета „Джорнэл-Америкэн“ замечает по этому поводу: „Мы с удовлетворением констатируем: многие нацистские бонзы считают само собой разумеющимся, что может настать день, когда им придется покинуть Германию“. ВОТ ВАШИ ФЮРЕРЫ!»
На эстраде немолодой актер в лоснящемся фраке меланхолически напевал под аккомпанемент пианино:
Ты тоже так страшишься за свою жизнь, Все остальное уже потеряно. Ах, у меня ничего больше нет, Да и жизни почти нет — Есть только страх…«Есть только страх…» — мысленно повторил Адальберт. Актера с его неутешительной мелодекламацией сменили двое: один в американской военной форме, с мегафоном в руке, другой — в штатском костюме.
— Леди и джентльмены! — прорычал в мегафон военный. — Мы лишь на две-три минуты нарушим ваше веселье… — Немец в штатском переводил почти синхронно, вкладывая в свою работу особое усердие. — В наше время, когда коммуникации, мягко сказать, нарушены, военная администрация хочет использовать любое собрание, чтобы напомнить, что все документы гражданских лиц подлежат проверке с целью выяснения, действительно ли речь идет о гражданском лице. Напоминаю: все виды оружия, боеприпасы, униформы и фотоаппараты должны быть сданы. В этой связи проводятся обыски жилых домов. Хочу напомнить, что от «Разрешения на жительство» зависят ваши продовольственные карточки, включение в очередь на получение жилья и право на работу. А теперь… — сказал американец, подождав, пока немец переведет его последние слова, — желаю вам приятно провести время!
Лишь только они освободили сцену, выскочили три девицы в черных чулках, многослойных юбках и в черных цилиндрах и стали отплясывать канкан, высоко поднимая ноги.
— Хэлло, Дэнни! — неожиданно крикнул Штуфф офицеру с мегафоном, пробирающемуся между столиками. — Не откажи сообщить своей команде, что на сегодня все вы — мои гости.
Американец добродушно посмотрел на Штуффа, на лице его расплылась свойская улыбка.
— Спасибо, Алекс, нет времени! — ответил он по-английски и направился к выходу.
— Я, пожалуй, пойду, господин Штуфф. — Адальберт встал и негромко подозвал официанта: — Герр обер…
— Зачем же так торопиться? — Штуфф посмотрел на свои золотые часы. — Время еще есть, не спешите, господин Квангель. — Он слегка наклонился к Адальберту и резко понизил голос: — Позвольте задать интимный вопрос: у вас есть «аусвайс»?
— Но откуда вы…
— Чутье. Мне почему-то кажется, что вы нуждаетесь в документе. А это значит, нуждаетесь во мне. Дело в том, что я веду… ну, как бы это вам сказать… оптовую торговлю на черном рынке. Дело поставлено с коммерческим размахом, но у меня мало людей, которым я могу доверять. У меня есть предложение. В Тиргартене я несколько примелькался, боюсь, что меня могут взять под наблюдение, так вот, если бы вы приняли на себя розничную продажу моих товаров… Скажем, так: в понедельник мы встречаемся в Тиргартене, я отдаю вам товар и исчезаю. На другой день утром мы встречаемся на том же месте, вы передаете мне деньги, ценности, словом, все, что удастся купить или выменять.
— Но я не нуждаюсь в деньгах! — воскликнул Адальберт.
— Допускаю. Но вы нуждаетесь в «аусвайсе», в этом я убежден.
— Это тоже не конечная цель, — задумчиво сказал Адальберт. Черт знает почему, он готов был довериться этому коммерсанту. — Моя мечта состоит совсем в другом…
— В чем же? — пристально вглядываясь в Адальберта, спросил Штуфф.
— В том, чтобы покинуть этот проклятый город!
— И отправиться?..
— В Нюрнберг! Это моя родина. Там у меня жена, дом..
— Если у вас будет «аусвайс», никто вам не помешает.
— А этот проклятый процесс?! Надеюсь, вы читали большевистское заявление. Оно было перепечатано во всех газетах. Вы его читали? Большевики грозят смертью всем честным немцам! — Адальберт был откровенен, что-то подсказывало ему, что этот Штуфф разделяет его взгляды. Тот и в самом деле слушал сочувственно. — Вы представляете себе, какая охота начнется за всеми нами, если процесс состоится?
— А вы уверены, что он состоится?
— Но об этом уже есть договоренность между большевиками и западными союзниками! Какой противоестественный альянс!
— В газетах пишется многое, — с ленцой произнес Штуфф, потянулся к своему туго набитому портфелю, стоявшему рядом на стуле, открыл его и вытащил несколько свернутых газет. Отобрал одну из них, развернул и положил на стол. — Вот эту, например, вы читали?
— Я не знаю английского, — сухо произнес Адальберт.
— Явный пробел в образовании. Вы бы смогли прочесть в этой газете очень примечательные вещи. Эта газета называется «Католик Геральд» и разрешена цензурой для продажи у нас. Так вот, здесь черным по белому написано: католическая пресса в Англии резко выступает против большевизма. А следовательно, и против так называемого суда. Тут прямо говорится, что национал-социализм лучше и приемлемее большевизма. Отлично сказано, не правда ли? Я полагаю, что лучше не мог бы сказать и доктор Геббельс!
— Перестаньте! — испугался Адальберт. — Нас могут услышать.
— Газета разрешена во всех оккупационных зонах, кроме, может быть, советской, во всяком случае, в чтении прессы союзников никто не сможет обнаружить криминала. Однако вы правы, осторожность не помешает… — Штуфф свернул газету, сунул ее в портфель. — Вернемся к нашей коммерции. Итак, вы передаете мне выручку, а я вам со временем — хороший, надежный «аусвайс». Договорились?
Некоторое время Адальберт молчал. Этот Штуфф производит впечатление человека с железной коммерческой хваткой. А если выдаст? Но какой ему смысл?
— Хорошо, попробуем, — решился Хессенштайн. — Рынок я знаю во всех деталях.
— Великолепно. Итак, послезавтра в Тиргартене.
В понедельник Адальберт появился на рынке одним из первых.
Вскоре он заметил Штуффа. Тот шел спокойно и независимо, с потрепанным, как у многих, туго набитым вещевым мешком. Адальберт, заставив себя успокоиться, сделал несколько шагов и как бы невзначай оказался возле него. «Цены обычные, — сквозь зубы проговорил Штуфф. — Встречаемся вечером в „Кабаре Шаубуде“. Для приманки — держите!» — он вытащил из мешка два блока сигарет «Лакки Страйк», мешок поставил к ногам Хессенштайна и исчез.
Пока все идет удачно, с удовлетворением подумал Адальберт, наклоняясь к рюкзаку. В следующую минуту он ощутил на своем плече чью-то тяжелую руку.
— Хальт! — Адальберт обернулся, увидел за спиной русского солдата с автоматом в руке, с силой рванулся, отпихнул мешок солдату под ноги и нырнул в толпу.
— Хальт, хальт! Облава! — раздалось за его спиной.
…Он бежал, падая и спотыкаясь, бежал на окраину рынка, сигареты давно выбросил, мальчишки бросились их собирать, возникла давка, издалека слышались гудки окружающих рынок машин… Грязный, потный, он свернул в первый же проход между развалинами, перебрался на другую улицу, затаился в каком-то подвале и прислушался. Было тихо, только сердце стучало, готовое выскочить из груди. Теперь, оказавшись в относительной безопасности, Адальберт терзался уже оттого, что он, бригадефюрер СС, генерал, одного слова которого еще совсем недавно было достаточно, чтобы задержать, арестовать, расстрелять целую кучу этих тварей, бежал от русского солдата, бежал, как крыса, как шелудивый пес, как мелкий воришка…
От стыда и беспомощности у Адальберта выступили на глазах слезы. В побеге от русского солдата ему виделась позорная символика: так бежала Германия фюрера, бежали непобедимые войска СС…
Кого ловили, за кем охотились русские? Их внимание, конечно же, привлек этот спекулянт Штуфф, они видели, как он передавал сигареты, видели мешок. Интересно, что в нем было еще, кроме сигарет? Ни о каком «аусвайсе» теперь не могло быть и речи. К «Кабаре Шаубуде» он и близко не подойдет! Примирившись с неудачей, Адальберт выбрался из подвала и стал пробираться к дому Крингеля. Он уже радовался своему спасению и не без иронии размышлял о причудах черной коммерции.
С приходом американцев основным предметом торговли и, по существу, золотой монетой черного рынка стала американская сигарета. Десять марок надо было заплатить за одну штуку, но иногда курс взлетал и до двадцати марок. Однако лишь мелкие спекулянты считали валютой штучные сигареты, заправилы рынка торговали блоками по двести штук в качестве единиц расчета. В американских военных магазинах один блок сигарет, по слухам, стоил меньше доллара. Таким образом, при среднем курсе американец получал на рынке в шесть с половиной раз больше, чем получил бы, обменивая доллар на марки по официальному курсу. Заплатив менее десяти долларов в военном магазине за десять блоков сигарет, он мог приобрести на рынке швейцарские золотые часы, которые, если платить за них марками, стоили около семи тысяч.
Высоко котировались и карточки на табак или сигареты. Их можно было обменять на колбасу, картофель и другие продукты. Однажды Адальберт, решив проявить предприимчивость, купил у американца блок сигарет в надежде тут же обменять эти сигареты на продукты. Но при этом едва не был избит: покупатель, которому Адальберт предложил свой блок за килограмм колбасы, буквально вырвал сигареты из рук Адальберта, с быстротой фокусника-манипулятора распечатал блок, вытащил пачку, вскрыл ее и щелчком выбил одну сигарету себе на ладонь; затем потер ее между пальцами, понюхал — и с размаху бросил весь блок в лицо Адальберту!
Тому не понадобилось много времени, чтобы удостовериться: сигареты были набиты вместо табака опилками. Расстроенный, униженный, он стал выбираться из толпы, все время боясь наступить на шныряющих под ногами мальчишек. Они собирали окурки, эти ребята. Из семи американских окурков можно было сделать одну новую самокрутку, а это была уже «валюта».
Патер Вайнбехер
С приходом американцев Адальберту разрешили ночевать не в подвале, а в одной из комнатушек на втором этаже. Конечно, страх еще жил в его душе, хотя ощущение, что над головой занесен дамоклов меч, несколько притупилось.
Однако после истории с этим Штуффом, после того как он воочию увидел регистрационную карточку, обладая которой человек становится человеком, и выслушал громкое, с картавым, чуть ли не еврейским акцентом, официальное предупреждение из уст американского офицера, столь услужливо переведенное немецким холуем, Адальберт снова ощутил тревогу. Он остановился у стены, сплошь залепленной разного рода информацией, еще раз вчитался в американское объявление об обязательной регистрации. Интересно, что собираются предпринять Марта и ее отец? Почему они молчат, неужели собираются позаботиться только о самих себе, бросив его, Хессенштайна, на произвол судьбы?
Адальберт ускорил шаг, ему не терпелось как можно скорее задать этот вопрос своим гостеприимным хозяевам. Неужели друг Крингеля не вправе рассчитывать на поддержку его семьи? Он торопливо шел по улице в направлении Шарлоттенбурга, обгоняя людей с рюкзаками, американских военных, иногда подвыпивших, со смеющимися, ярко одетыми женщинами об руку…
И вдруг услышал мужской голос откуда-то со стороны:
— Господин Квангель!
Адальберт оглянулся: к нему приближался издалека какой-то священник в коричневой сутане, время от времени заслоняемый прохожими. Кто бы это мог быть? — недоумевал Адальберт. И откуда ему известно это вымышленное имя? Священник перебрался через кучи щебня, и, когда их разделяли всего два-три десятка шагов, Адальберт не поверил своим глазам: патер Иоганн Вайнбехер — здесь, в Берлине?! Нет, это галлюцинация! В первые секунды он подумал, что если бы священник был действительно Вайнбехером, то, конечно же, сразу окликнул бы его по имени, назвал Адальбертом Хессенштайном, но тут же вспомнил, что носит теперь бородку и усы…
— Патер Вайнбехер! — растроганно произнес Адальберт, вглядываясь в широкий лоб с черным родимым пятном у виска, маленькие глаза, мясистые, отвислые щеки, толстые губы… Священник улыбнулся и негромко сказал:
— Это я, сын мой.
— Господи, как вы узнали меня? И как оказались здесь?
— Этот вопрос я могу задать и тебе.
— О, патер, рассказ мой был бы долгим… — едва ли не со слезами в голосе — вся вереница мучений вдруг встала перед глазами — выговорил Адальберт. Они загораживали людям проход, Адальберту казалось, что прохожие, особенно американские военные, бросают на них недоуменно-подозрительные взгляды.
Отошли к одной из каменных глыб, и священник нарочито громко сказал:
— Я нахожусь в Берлине, сын мой, как представитель католического сопротивления гитлеровской диктатуре.
Слова патера легко можно было принять за чистую правду, многие тысячи людей в мире знали о враждебном отношении нацистов к религии. Ведь веру в бога заменяли им обрывки языческих представлений, своего рода окрошка из легенд о Вальхалле — обиталище павших героев… Наиболее интеллектуальные из нацистов заправляли эту похлебку верой в провозглашенный Гегелем «всемирный дух», который, спонтанно развиваясь, находил свое конечное завершение, свой идеал в прусском государстве. Правда, нацисты не могли простить Гегелю его учение о диалектике, взятое на вооружение марксистами. «Вину» философа исправлял историк Генрих Трейчке, он был апологетом государства сильного и жестокого, а людей определял как «рабов нации».
Гитлеровцы поклонялись и Ницше, хотя тот не был особо высокого мнения о немцах и называл немецких философов, включая Фихте и Гегеля, «бессознательными мошенниками». Но пруссакам импонировало прославление «белокурой бестии», даже если они ничего больше не знали из концепций Ницше.
Не Христос, а древнеязыческий бог Вотан возглавлял для нацистов мистико-религиозную мешанину, в которой не было места ни Христу, ни Аллаху, ни католической церкви, ни протестантской. И, несмотря на это, наиболее правая часть Ватикана и его духовенства поддерживала нацизм, как могла.
Почему? Потому что изощренные в борьбе за власть, в политических интригах, обогащенные многовековым историческим опытом, эти христиане-реакционеры хорошо отдавали себе отчет по крайней мере в том, что современное христианство и «безбожный коммунизм» находятся на разных полюсах, и все надежды возлагали на нацизм как единственную силу, способную искоренить дух коммунизма. Именно к этой части католического духовенства принадлежал и патер Иоганн Вайнбехер, давний друг семьи Хессенштайнов.
— …Я застрял в Берлине, когда вошли русские, отец, — исповедовался Адальберт. — Я превратился в ничто, я пещерный житель, каждое мгновение ожидающий ареста и смерти, у меня нет документов, нет дома, и я боюсь, что нет уже и… — он замолк.
— Ты хочешь сказать: уже нет и веры? — пристально всматриваясь в него, уточнил Вайнбехер.
— Нет! — воскликнул Адальберт. — Вера — это все, что у меня осталось. Я верю в конечное торжество тысячелетнего рейха, верю, что воздастся всем, кто виновен в смерти фюрера, верю в национал-социализм! Вот и все мое богатство, — с горечью подытожил он.
— Ты не так беден, — с усмешкой произнес Вайнбехер, И, вставая с камня, сказал: — Пойдем!
Куда? Этого Адальберт не знал. Он послушно следовал за патером; он ни о чем его не спросил, — ни о том, откуда священник узнал его новую фамилию, ни о том, насколько случайной была их встреча; единственное, чего боялся сейчас Адальберт, — это потерять патера из виду или услышать от него какие-либо слова, означающие, что встреча окончена и надо опять расстаться. Патер Вайнбехер так много значил в его жизни… В том, что они встретились, Хессенштайну виделся тайный знак свыше. Неужели, неужели он ошибается?
Друг семьи
В последние годы они встречались нечасто: из Нюрнберга, где патер Вайнбехер отправлял свои священнические обязанности, он был переведен в Лейпциг, там он получил приход, и все же несколько раз в год, приезжая в Нюрнберг по своим церковным делам, он обязательно приходил к Хессенштайнам.
Впрочем, Адальберт познакомился с ним, еще не имея собственной семьи, тогда он был влюблен в Ангелику и лишь мечтал о своем доме…
Отец Адальберта был довольно крупным железнодорожным чиновником, но наследства не оставил, все свои свободные деньги он тратил на организационную работу, занимая в нацистских кругах различные должности, и как единственную память о себе завещал сыну свою любимую книгу — «Руководство по еврейскому вопросу» Теодора Фрича.
Для Адальберта наступили тяжелые времена, впрочем, для него ли одного? В стране бушевала инфляция, безработица ширилась настолько, что казалось, настанет день и ни один немец не найдет работы у себя на родине. Адальберту удалось устроиться на службу в железнодорожное депо, правда, всего лишь жалким подмастерьем. Жалованья, чтобы прокормить себя и мать, не хватало. Свободное время он отдавал черному рынку, участвуя в мелких операциях. С каждым днем такие рынки росли не только в Нюрнберге, но и в Берлине, в Гамбурге, во Франкфурте, во всех городах Германии.
Что мог делать на рынке не имеющий ни средств, ни «обменного фонда» молодой Адальберт? Только выполнять поручения более крупных спекулянтов, которые, не желая сами появляться на рынке, пользовались услугами многих сотен таких адальбертов. Несколько раз его задерживала полиция, но отделаться помогли друзья отца. Они по-прежнему жили ненавистью к республике, злобой к законной власти и вообще к человечеству, во всех бедах они винили Версальский договор и объявляли его порождением мировой плутократии. Логике вопреки они считали вдохновителями Версальского договора в первую очередь евреев, затем коммунистов и всех участников недавно свершившейся и потопленной в крови германской революции.
Окончив гимназию, Адальберт под влиянием отца активно занялся «самообразованием». Пожалуй, не было ни одной антикоммунистической или антисемитской книги, которую он не прочел бы. Но своим подлинным национал-социалистским крещением семнадцатилетний Адальберт считал поездку в соседний Мюнхен, куда отец направился для участия в предполагаемом гитлеровском путче, а сам он вместе с матерью — на похороны дяди Андреаса. Дни и ночи он проводил среди демонстрантов, требующих передачи власти Гитлеру, и, хотя не присутствовал в знаменитой пивной, где фюрер в окружении единомышленников впервые объявил о свержении республиканского правительства, но одну из речей, произнесенных Гитлером на открытом митинге перед толпами людей, Адальберт слышал.
Эта речь, объявляющая чистокровных немцев властелинами мира и призывающая к диктатуре национал-социализма вместо прогнившей республики, стала для Адальберта днем его нацистского рождения. Вернувшись в Нюрнберг, он вступает в одну из молодежных фашистских организаций, рьяно принимается за организационную работу, и после того как умер отец, обращает на себя внимание местных нацистских заправил.
Сколько профессий переменил Адальберт в те годы, пытаясь выбраться из нужды! Он был официантом, посыльным в крупном магазине готового платья, наконец, с помощью близких друзей по партии поступил в финансовое училище, но так и не окончил его: работа в нацистской организации опьяняла, отнимала все свободное время.
В августе 1927 года Адальберт присутствовал, уже в качестве делегата, на третьем съезде НСДАП, двумя годами позже — на четвертом, и, когда Гитлер, придя к власти, распорядился, чтобы все последующие съезды проходили именно в Нюрнберге, Адальберт стал считать себя чуть ли не одним из организаторов партии. Он поднимался все выше по партийной лестнице. В 1933 году ему удается обратить на себя внимание Гиммлера, возглавившего полицию Баварии, и после расправы с Ремом рейхсфюрер СС берет преданного молодого нациста под свою сильную руку. Отныне полем деятельности Адальберта является организация и инспекция концлагерей. В 1943 году Адальберт получает звание бригадефюрера СС, и его непосредственным начальником становится Кальтенбруннер.
Он рвался в бой, этот новоиспеченный генерал. Убежденность свою он черпал прежде всего из нацистских газет — свежий номер погромно-антисемитского штрейхеровского «Штюрмера» всегда лежал на его письменном столе, и первой он всегда прочитывал именно эту газету, а уже затем «Фелькишер Беобахтер» и другие.
Итак, Адальберту везло. Везло на службе, везло в любви. Ангелику Адальберт любил безмерно и если кому-либо или чему-либо был предан еще больше, так это фюреру, национал-социалистской идее.
Ангелика согласилась на брак с Хессенштайном не сразу. Главным препятствием было вероисповедание. Она родилась и воспитывалась в набожной католической семье, а противоречия между католицизмом и нацизмом для тех, кто не знал тайн ватиканского двора, казались непреодолимыми. Тогда-то на авансцену и вышел католический священник патер Иоганн Вайнбехер, тот самый, что шел сейчас по берлинской улице, ведя за собой Адальберта.
Он был другом Хессенштайна-старшего. Еще подростком, уже впитавшим основные идеи национал-социализма, Адальберт недоумевал: о какой дружбе может идти речь между верным сторонником фюрера и священником, слугой христианской религии? Ведь нацисты поклоняются древним богам германцев, исповедуют силу и презирают тех, кто готов сострадать слабому. Разве религия, которая парализует волю человека-тигра, призывает его встать на задние лапы перед охотником, не враждебна нам? Отец в ответ усмехался, говорил: «Вырастешь, поймешь». Но еще до того как Адальберт вырос, он многое понял из бесед с патером Вайнбехером.
Склоняя Ангелику к браку с сыном Грегора, патер внушал молодой католичке, что истинный христианин — тот, кто служит церкви воинствующей, а не церкви слабой и всепрощающей. Он рассказывал ей о походах крестоносцев с целью искоренить ложную веру. На вопросы девушки, как примирить «хрустальную ночь» с учением Христа, патер напоминал ей о святой инквизиции — карающем мече того же Христа…
Словом, в 1939 году Адальберт-Оскар Хессенштайн в возрасте тридцати трех лет сочетался законным браком с Ангеликой Штайнер. Невеста была моложе жениха на двенадцать лет. В год их свадьбы разразилась вторая мировая война. Адальберт страстно хотел ребенка, Ангелика тоже, но он неустанно убеждал жену, что теперь, когда начался всемирный пожар, надо отдать все силы делу фюрера, дети свяжут его, наконец, заводить детей в такое время — значит обречь их на тяжелые испытания…
Свадьба, мечта о ребенке, еще одно звание, еще один орден — о, как давно все это было! — с горечью думал сейчас бездомный, потерявший все, отчаявшийся Адальберт, шагая за широкоплечим священником. Десятки вопросов готовы были сорваться с языка: Зачем патер приехал в Берлин? Был ли до этого в Нюрнберге, виделся ли с Ангеликой? Случайность ли, что Вайнбехер встретил его совсем неподалеку от квартиры Крингеля? Знал ли патер самого Крингеля? И еще, еще, еще вопросы… Он не выдержал:
— Отец, куда мы идем?
— Ведомый не спрашивает, куда его ведет пастырь, — тихо, не поворачивая головы, ответил священник и добавил: — Если верит пастырю, конечно.
Они долго плутали в развалинах, потом в каких-то переулках, названия которых Адальберт не знал, и наконец остановились перед входом в маленькую церковь.
Широкие выщербленные ступени вели на паперть. Адальберт редко бывал в церкви. Не будучи религиозным человеком, он бы не смог перечислить всех католических храмов даже в родном Нюрнберге, и, когда Ангелика звала его в церковь в дни праздников, он обычно полушутливо отвечал жене, что просит ее помолиться и за него.
Они вошли под сумрачные своды, стены были украшены едва различимыми фресками с сюжетами из Страшного суда, впереди возвышался крест, слева располагались кабинки для исповеди. Патер окропил пальцы правой руки в слабо бьющем фонтанчике, перекрестился. Потом строго посмотрел на Адальберта, тот последовал примеру священника. Несколько женщин и стариков сидели на скамьях, склонившись над молитвенниками. Сделав шаг-другой в глубь церкви, Вайнбехер остановился. Откуда-то из темноты к нему подошел другой священник, тоже в коричневой сутане, Вайнбехер протянул ему руку, тот, склонившись, поцеловал ее, слегка припав на колено. Повернувшись к Адальберту, Вайнбехер сделал приглашающий знак и пошел к кабинам для исповеди.
Кабинка была разделена пополам занавеской; следуя знаку священника, Адальберт вошел в левую половину, Вайнбехер занял правую, откинул занавеску, и теперь они оказались лицом к лицу.
— Встань на колени, — тихо, но торжественно приказал Вайнбехер, а сам опустился на низкое узкое сиденье. — Здесь каются в грехах, но господь бог простит нас, если мы поговорим не на духовные, а на мирские темы. Итак, Адальберт, расскажи коротко, как и в каком положении ты оказался.
Облизывая пересохшие от волнения губы, перескакивая с одного на другое, Адальберт рассказал ему все: как застрял в Берлине, как попал в американский сектор и как боится будущего, не имея необходимых документов.
— Когда жена Крингеля, Марта, сказала мне, что ее муж погиб на фронте чуть ли не два года тому назад, я был крайне удивлен.
— И высказал в этой связи сомнение, что Крингель переселился в царствие небесное? — с едва уловимой насмешкой спросил Вайнбехер.
— О, нет! Я понимал, что у Марты были основания утверждать то, что она мне сказала.
— Ты напрасно сомневаешься, — тише, чем прежде, сказал Вайнбехер. — Обергруппенфюрер действительно находится в царствии небесном. А тебя ждет возвращение в Нюрнберг.
— Что?! — с изумлением воскликнул Адальберт.
— Тише, сын мой, — слегка приподнимая руку, произнес патер. — Пути господни неисповедимы. Итак, в предпоследний раз ты был вызван в Берлин Кальтенбруннером. Ты знал тему совещания?
— О, нет! Но ее можно было предположить. За несколько недель до этого фюрер едва не стал жертвой злодейского покушения. Наши танковые соединения повсюду отступали… Словом, я понимал, что у Кальтенбруннера было что сказать нам.
— И он сказал?
— Нет… Дело в том, что Кальтенбруннера в Берлине не оказалось. Во всяком случае, совещание проводил Крингель.
— Тебе известно, где в это время был ваш шеф?
— О нет. Его передвижения всегда держались в строгом секрете.
— Понятно. — Адальберту показалось, что маленькие глаза Вайнбехера хитро сощурились.
— Когда Марта разрешила мне ночевать в их бомбоубежище, я взял на себя обязанность доставать для нее и ее отца продукты на черном рынке.
— Похвально, сын мой.
— Я спросил, не подвергну ли их дом опасности…
— И что же она ответила?
— То, что удивило меня еще больше, чем сомнительная смерть Крингеля: Марта сказала, что их документы в полном порядке. Не думаю, что она сказала неправду.
— И я не думаю, — снова с легкой усмешкой произнес Вайнбехер. — Что же было дальше?
— Ко мне очень сочувственно отнесся отец Марты. Он был и остался настоящим национал-социалистом.
— Знаю. Кестнер чем-нибудь практически помог тебе?
— Только утешением. Высказал предположение, что с приходом американцев все изменится к лучшему.
— А ты в этом сомневаешься?
— Да, если верить их объявлению, что каждый не имеющий «Разрешения на жительство» подлежит аресту, в лучшем случае — лишается права покинуть город, права на карточки, на работу, ну и так далее.
— А тебе хотелось, чтобы русские выглядели единственными борцами против нацизма? Чтобы только они одни проводили «денацификацию»? — иронически спросил священник.
— Но что же мне делать, отец?
— Все в свое время. Не забудь, что Ватикан — великая сила и он еще скажет свое слово. А пока… пока вот что. Завтра зайдешь в сапожную мастерскую Крюгера на Бисмаркштрассе. Она там одна. Вызовешь хозяина и назовешь свою фамилию. Тебя ведь зовут теперь Квангель? А полностью?
— Не знаю… допустим, Фридрих Мартин… Но зачем?..
— Не торопись, сын мой. На сегодня исповедь закончена, да простит тебе бог грехи твои. Положись во всем на волю божью.
— Так или иначе спасибо вам, отец. Я не знаю, что ждет меня, но заранее благодарю за помощь.
— Благодари не меня.
— Но кого же?
— Скажем, начальника РСХА Кальтенбруннера. Это он позаботился о тебе.
— Но каким образом? Когда?! — воскликнул в недоумении Адальберт.
— Именно тогда, осенью прошлого года, когда не смог присутствовать на совещании, на которое ты был вызван.
— Но где же он был? И что делал?
— Пусть это останется тайной, сын мой. — Вайнбехер перекрестил Адальберта и встал.
Провал
На другое утро Хессенштайн медленно шел по Бисмаркштрассе. Частная торговля росла ото дня ко дню, новые, аляповатые, с кое-где еще не высохшей краской вывески лавок и магазинчиков странно выглядели на фоне развалин. Они размещались в наскоро отремонтированных полуподвалах или уцелевших нижних этажах. Торговали здесь поношенной одеждой, бельем, сломанными зонтами и черт знает чем. Стены пестрели объявлениями: «Меняю почти новую кофемолку на шерстяные носки», «Меняю сервиз марки Розенталь на четыре кило сала». Казалось, все на этой улице менялось или продавалось. Однако обувной мастерской Адальберт пока не увидел.
Дойдя до переулка, за которым начиналась уже новая улица, он остановился. Или мастерской на Бисмаркштрассе не было вообще, или он ее пропустил. Адальберт пошел назад, снова внимательно вглядываясь в вывески. Он пытался вспомнить, называл ли патер какие-нибудь приметы мастерской. Нет, только улицу и фамилию владельца: Крюгер.
Кто он такой, этот Крюгер? Возможность какой-либо провокации со стороны священника Адальберт решительно исключал. Главная гарантия была даже не в том, что Вайнбехер — друг его отца, друг дома, что именно благодаря его усилиям Ангелика дала согласие на долгожданный брак, а в том, что патер, несмотря на свою католическую сутану, несмотря на то, что церковь, конечно же, требовала от него строгого соблюдения христианских догматов, был убежденным национал-социалистом. Адальберт верил в сутану Вайнбехера даже больше, чем в форму СА или СС, — если, конечно, сутану носит человек, в чьей преданности делу фюрера можно быть уверенным.
И все же многое из того, что сказал патер, было окутано тайной. Почему он подтвердил, что Крингель находится в «царствии небесном»? Что он хотел этим сказать? И потом — откуда Вайнбехеру могло быть известно о совещании у Кальтенбруннера и о том, что сам шеф на этом совещании не присутствовал? Наконец, как он мог, зная о безвыходном положении, в котором оказался Адальберт, пообещать ему скорое возвращение в Нюрнберг?
Когда Адальберт задал себе последний вопрос, ему бросилась в глаза вывеска на противоположной стороне улицы: «Дитрих Крюгер. Сапожная мастерская».
Адальберт обрадовался и тут же почувствовал, как тревожно заколотилось сердце. Нет, в добрых чувствах Вайнбехера он не сомневался, но не переоценил ли патер свои возможности? В конце концов он не занимает высокого поста в католической иерархии, да и к Берлину вряд ли имеет отношение: ведь в последнее время приход его был в Лейпциге. Адальберт стоял, прижавшись спиной к стене, чтобы не мешать прохожим, и смотрел на дверь мастерской. Она гипнотизировала его, манила и в то же время внушала страх.
Надо решиться, Адальберт перешел улицу и остановился перед дверью, над которой была прибита самодельная вывеска. Дверь, как и весь дом, была обшарпана, расщеплена наполовину то ли осколками снарядов, то ли пулеметными очередями.
Он толкнул дверь. Негромко звякнул колокольчик… Адальберт оказался в довольно большой комнате, у стены стояли узкие полки и на них — муляжи мужской и дамской обуви. Он не успел осмотреться, как услышал голос:
— Милости просим! Господин желает привести в порядок туфли для супруги или дочери? Или, может быть, ваши ботинки требуют ремонта? — За стойкой Адальберт увидел молодого человека в форменной серой куртке.
— Господин Крюгер? — с опаской спросил Адальберт.
— О, нет, я всего лишь приказчик. Но если господин желает, я сейчас позову фрау Риту… — Приказчик вытянул шею и крикнул куда-то наверх: — Фрау, Рита! Клиент…
Только сейчас Адальберт заметил в глубине комнаты узкую лестницу. Спустя мгновение наверху появилась женщина в сером платье, туго перетянутом кожаным поясом.
— Не могу ли я видеть господина Крюгера? — спросил Адальберт, раздражаясь. — Передайте, что с ним хотел бы встретиться Квангель.
— Одну минуту. — Приказчик повернулся к молодой женщине: — Фрау Рита, скажите хозяину, что его хотел бы видеть господин… простите?
— Квангель.
Минуту спустя женщина снова появилась наверху.
— Прошу, господин Квангель. Хозяин будет рад переговорить с вами.
Дойдя до площадки, Адальберт увидел полуоткрытую дверь и возле нее хорошо одетого мужчину лет пятидесяти.
— Прошу, господин Квангель. Я к вашим услугам. — Хозяин шире распахнул дверь и сделал приглашающий жест.
Они сидели у стола, заваленного квитанциями и конторскими книгами, и Адальберт почувствовал — или ему подсказал опыт старого гестаповца, — что в этом добротно одетом широкоплечем человеке со спокойными, немигающими глазами он видит «своего». Мысленно представив себе этого Крюгера в черной эсэсовской форме, Адальберт сказал уверенно:
— Господин Крюгер, — он поглядел собеседнику прямо в глаза, — дело мое, как вы понимаете, не имеет отношения к ремонту обуви.
Теперь уже Адальберт не сомневался, что видит понимающую усмешку на гладко выбритом лице Крюгера. Хессенштайн ощутил смешанное чувство радости и страха. Крюгер между тем нашарил среди бумаг небольшую записную книжку, раскрыл и уже без тени усмешки медленно прочитал:
— Фридрих… Мартин… Квангель. Так?
— Это необходимо было записывать? — встревоженно спросил Адальберт.
— Безусловно, господин Квангель, — ответил Крюгер, закрывая книжку. — Я не могу полагаться на свою память, поскольку в документе должна будет стоять именно эта фамилия. Место назначения, насколько я информирован, Нюрнберг?
Адальберт с заколотившимся сердцем торопливо кивнул.
— Отлично. — Крюгер встал, подошел к стене, легким движением руки погладил ее, слегка надавил, и пораженный Адальберт увидел, как отскочила какая-то невидимая раньше дверца. Крюгер, просунув туда руку, вытащил небольшой квадратный ящик, поставил его на стол и поднял крышку. Адальберт неотрывно следил за каждым его движением. Не произнося ни слова, Крюгер вытащил из ящика какой-то черный валик, жестяную коробку, похожую на те, в которых обычно хранят крем для обуви, и стопку карточек. Затем он провел валиком по краске, взял одну из карточек и положил на стол. Единственное, что смог разглядеть Адальберт на этой карточке, был большой красный крест.
— Что вы намерены делать в Нюрнберге, господин Квангель? — спросил между тем Крюгер.
— Там мой дом. И теперь, когда война закончилась… — начал Адальберт, но Крюгер прервал неожиданно резко:
— Кто вам сказал, что война кончилась? Нет, она будет продолжаться! Вы полагаете, что великая идея может умереть бесследно? Займемся лучше делом, господин… Квангель… Попрошу вашу руку.
Адальберт автоматически протянул руку, Крюгер мгновенно ухватил указательный палец, прижал его к валику и тут же придавил палец к лежавшей на столе карточке. Потом молча сложил обратно в коробку валик, банку с краской, карточку с отпечатком пальца. Встал, положил коробку в тайник, захлопнул дверцу и как бы для верности провел по стене ладонью. Даже опытный глаз Адальберта не мог различить никаких следов тайника.
Крюгер вернулся к столу.
— В течение двух дней прошу вас следить за настенными объявлениями на другой стороне улицы, наискосок от этого дома. Когда уйдете, обратите внимание на эти объявления.
— Я видел их, когда искал вашу мастерскую, одно даже запомнил: кто-то меняет кофемолку на шерстяные носки.
— Вот, вот. То самое место. Дня через два вы увидите там, положим, такой текст: «Меняю хорошее настольное зеркало на… ну, скажем, на дюжину столовых ножей и вилок». Запомнили? Это значит, что я вас жду.
Крюгер встал. Поднялся с кресла и Адальберт.
— Моя благодарность бесконечна, господин Крюгер.
— Я выполняю приказ, — Крюгер почти беззвучно добавил: — господин бригадефюрер! — и протянул вперед правую руку: — Хайль Гитлер! Борьба продолжается!..
Два дня Адальберт прожил, как на раскаленной сковороде. С утра он уже был на Бисмаркштрассе у стены с объявлениями. Нет, конечно, еще слишком рано… Вечерний поход снова оказался безрезультатным. Ночью Адальберт не мог заснуть от нетерпения. Он уже ощущал в своем кармане желанный «аусвайс».
На следующий день, с трудом убедив себя не торопиться, Адальберт снова пришел на ту же улицу. Все было на месте: дверь, вывеска… Он посмотрел на часы. Без четверти двенадцать, магазины и лавчонки, мимо которых он проходил, давно открылись. Но условного объявления на противоположной стороне улицы опять не было. Тревога охватила Адальберта. Несколько минут он стоял неподвижно и наконец решил, невзирая на опасность, зайти к Крюгеру.
К мастерской он уже не подошел, а подбежал. Толкнул дверь. Заперто. Нажал кнопку звонка. Никакого ответа. И вдруг увидел на двери зеленый картонный квадратик. На нем крупным уверенным почерком было написано: «Мастерская закрыта за производство противозаконных операций. С претензиями и по поводу расчетов обращаться в районную магистратуру».
Адальберт прислонился к стене. Зловещие призраки, обступившие его еще там, в берлинском подвале, где прошла его первая ночь после прихода русских, снова возникли перед глазами. Провал! Что теперь делать? К кому обратиться? Конец надеждам. Нюрнберг так же далек от него, как был вчера, как месяц назад. Провал!
Он шел, нет, он бежал домой, к Крингелям. Прийти, броситься на матрац, зарыться головой в подушку…
Проклятый патер! Проклятый служитель бога! Нет, тот бог, которому они служили, был во сто крат могущественней! Его оружием были не дурацкие, издевательские объявления, а топор, виселица, пистолет! С их помощью он расправился бы с теми, кто посмел обмануть бригадефюрера СС! А этот святоша!.. Да он наверняка и оружия-то в руках никогда не держал. Сам связался с жуликом и его втянул. А что было бы, если бы Адальберт стал ломиться в ту дверь как раз тогда, когда в мастерскую нагрянула полиция? «С претензиями и по поводу расчетов обращаться в районную магистратуру!» Ха-ха! Здравствуйте, моя фамилия Хессенштайн, я бригадефюрер СС! Мне был обещан «аусвайс»… Адальберту представлялось, что при этих словах все встают, все бегут, чтобы принести ему необходимый документ… В эти минуты он жил в двух измерениях — нереальном, где черная эсэсовская форма была символом власти, безопасности и достоинства, и в другом — подлинном, враждебном, где он был ничтожен и бесправен. О, с каким наслаждением Адальберт лично перевешал бы представителей всех этих новых властей — американских, английских, французских… Но в первую очередь, конечно, русских…
— Адальберт!..
Что это? Его позвал кто-то? Он резко шагнул в сторону, стремясь уйти от опасности, от наваждения, уверенный, что голос мерещится ему, и снова услышал:
— Адальберт! — Нет, это был реальный голос реального человека. В нескольких шагах от дома Крингеля стоял старик Кестнер.
— Герр Кестнер, со мной случилось несчастье, меня обманули! — крикнул Адальберт.
— Кто обманул тебя? — спокойно спросил Кестнер.
— Этот святоша Вайнбехер! — воскликнул Адальберт. — Заманил в ловушку. О, если бы я мог сейчас его увидеть!
— Ты можешь это сделать.
— Но где? Как?
— В церкви. В той самой, где вы виделись. Спеши, Адальберт. Тебя ждут.
— Кто? Бог? — со злобой спросил Хессенштайн.
— Может быть, тот, кто сейчас для тебя сильнее бога, — холодно сказал Кестнер. — Спеши! И возьми себя в руки, мой мальчик.
Снова Вайнбехер
Он ворвался в церковь, пробежал мимо источника святой воды, мимо ризницы и увидел, что навстречу ему идет патер Вайнбехер.
— Вы?! — громко произнес Адальберт и сам испугался гулкого эха.
— Молчи, — тихо ответил патер, — иди за мной.
Он подвел Адальберта к исповедальням и буквально втолкнул в одну из кабин.
— Я проклинаю… — начал было Адальберт, но священник прервал его:
— Ты пришел в храм божий, чтобы проклинать?
— О… нет…
— Тогда чего же ты хочешь?
— Только одного: вернуться в Нюрнберг!
— Только одного… — с сожалеющей усмешкой повторил Вайнбехер. И добавил резко: — Вернуться под крылышко родной Ангелики, пройтись по комнатам особняка на Ветцендорферштрассе, принять ванну, нанести визиты знакомым?
— Не издевайтесь, отец, вы прекрасно знаете, что визитов придется избегать: каждый встречный в нашем квартале знает меня как себя самого.
— Вот именно! Документ у тебя будет, но нужна фотография. Неужели ты еще не понял, сын мой, что вся трудность в этом? Пока у тебя лицо Адальберта Хессенштайна — в Нюрнберг тебе дороги нет!
— Так что же мне делать? Укрыться в каком-нибудь заштатном городишке и вечно жить под страхом быть узнанным? Навсегда отказаться от семьи, от человеческого существования?
— Нет, выход, пожалуй, есть, — задумчиво, как показалось Адальберту, произнес Вайнбехер. И опять к Хессенштайну прихлынуло убеждение, что патер сделает все, чтобы спасти его, что он знает, как это сделать. И тут же пришло трезвое сомнение: кто он, в сущности, такой, этот Вайнбехер? Да, друг дома, приятель отца, наставник Ангелики. Много ли может католический священник, хотя и сочувствующий национал-социализму? Разве этого достаточно, чтобы провести его, Адальберта, сквозь «бури и ветры», мимо настороженных полицейских глаз, шпиков, патрулей, добровольных охотников за верными сынами рейха? Чтобы отвратить от него тюрьму, каторгу, может быть, саму смерть? Чтобы вернуть его, наконец, в родной Нюрнберг, к Ангелике, обеспечить его безопасность в городе, где он прожил многие годы, где сотни людей видели его подъезжающим в шикарном «хорхе» к собственному дому, встречали на улице в мундире высокопоставленного эсэсовца?
Адальберт молчал. Молчал и Вайнбехер, не сводя глаз с «исповедуемого»… И все же какое-то странное чувство подсказывало Адальберту, что патер Вайнбехер не просто католический священник, что он обладает какой-то тайной силой, дающей ему власть над жизнью и смертью его, Адальберта.
— Сын мой, — после паузы произнес Вайнбехер, — ты знаешь, что всемогущий бог создал человека по образу своему и подобию… И, однако, он предвидел возможность нарушения этой воли…
— Не понимаю. О чем вы?
— Все очень просто: тебе надо изменить облик свой и подобие.
— Но я сделал все, что мог: отпустил усы, бороду, давно не стригся…
— И тем не менее актера легко узнать на сцене, как бы хорошо он ни был загримирован. Речь о другом. О пластической операции.
— Что?!
— То, что ты слышал.
— Но в чем она будет заключаться?
— Это вы обсудите вместе с врачом.
— Я должен превратиться в урода? В косоглазого, безносого, со шрамами на лице?
— Косоглазие не радикально изменяет внешность, стало быть, не годится, отсутствие носа ассоциируется с известной болезнью, поэтому тоже отпадает… Шрамы? В мое время в Германии дуэльные шрамы были предметом гордости. Насколько я знал Адальберта Хессенштайна, у него в отличие от его отца Грегора шрамов не было. — Патер умолк на мгновение, потом продолжил: — Что ж, может быть, и шрамы. Словом, тебе надо встретиться со специалистом. Об остальном я позабочусь. А сейчас запомни: послезавтра к десяти утра тебе надлежит быть на Даймлерштрассе, семьдесят два. На вывеске будет одно слово «Клиника» и красный крест. Фамилия врача — Браун.
— Но какой врач решится?.. — с недоумением и страхом спросил Адальберт.
— Решение подсказывает человеку бог. Врач тоже всего лишь смертный.
— А где гарантия, что этот врач не пойдет в американскую комендатуру и…
— Все зависит от того, кто врач. Этот не пойдет, — решительно, Даже жестко оборвал Вайнбехер.
— Он… из наших? — Адальберт понизил голос почти до шепота. — Но кто заставит его рискнуть?
— Бог.
— Он рискнет головой во имя бога?
— А ты не рискнул бы?
— Только во имя фюрера. Даже мертвого. Только во имя национал-социализма!
— Тс-с! Вот видишь, такая сила есть. С богом, бригадефюрер!
Операция
Несколько минут Адальберт стоял около двери. Она выглядела непривычно, разрушительное время, казалось, прошумело мимо: поблескивающее лаком дерево, решетчатый верх, справа звонок, прикрытый колпачком от дождя.
Внезапно Адальберта охватила тревога. Нет, он не боялся предстоящей операции. Судя по всему, доктор Браун, к которому его послал Вайнбехер, был хорошим специалистом. Но объяснил ли патер врачу, в чем истинная цель операции? Тот мог подумать, что речь идет о какой-либо элементарной косметической процедуре — убрать бородавку, вырезать жировик, словом, о чем-либо весьма примитивном и естественном для человека, заботящегося о своей внешности.
Знает ли этот врач, что речь идет об изменении наружности, о том, чтобы сделать его, Хессенштайна, неузнаваемым? И не сочтет ли он своим долгом донести на него? Под каким-нибудь предлогом выйдет в соседнюю комнату и позвонит в полицию…
«Что со мной будет? Что же будет?» — беззвучно повторял Адальберт. Может быть, напрасно он пошел на всю эту авантюру? Может быть, усы и борода — достаточная маскировка? Нет, отвечал он себе, этого мало…
Адальберт вздрогнул. Не слишком ли долго, подозрительно долго стоит он перед дверью с красным крестом?
Он протягивает руку к звонку. Еще какое-то время стоит в нерешительности, потом нажимает кнопку.
Судя по всему, его ждали — за дверью тотчас звякнула цепочка, чуть слышно проскрежетал замок, и дверь полуоткрылась.
В проходе стояла женщина в белом халате и в белой шапочке.
— Я к доктору Брауну, — негромко произнес Адальберт. — Моя фамилия Квангель.
— Прошу вас, господин Квангель, — незамедлительно отозвалась женщина в халате. — Я ассистент доктора Брауна. Прошу вас.
Она отошла в сторону, освобождая Адальберту проход. Снова звук цепочки, тихий поворот замка. Дверь за Адальбертом наглухо закрылась. Он оказался в небольшом, уютном холле: два столика, заваленных журналами, тюлевые занавески, несколько небольших гравюр Дюрера на стене.
— Доктор сейчас выйдет. А меня зовут Шульц, фрау Каролина Шульц. Присядьте, пожалуйста.
Но Адальберт не успел воспользоваться приглашением — тяжелая гардина, прикрывавшая вход в следующую комнату, колыхнулась, и появился полный немолодой человек с короткой щеточкой усов и в роговых очках. На мгновение его лицо показалось Адальберту знакомым.
— Вы… доктор Браун? — нерешительно спросил Адальберт.
— Яволь! Доктор Браун к вашим услугам. — Врач поправил очки на переносице и протянул Адальберту руку.
— Мне передали, что вы готовы оказать мне любезность… Я полагаю, вы знаете мое имя и кто мне рекомендовал вашу клинику.
Браун чуть склонил голову в знак согласия и снова откинул ее, поправив очки.
— Да, да, герр Квангель, я ждал вас. Прошу, пожалуйста!
Он придержал гардину, пропуская Адальберта в кабинет.
Адальберт увидел широкий кожаный диван, прикрытый белоснежной простыней, возле дивана — стул, у противоположной стены — высокий белый шкаф со всевозможными склянками и выстроенными в ряд ампулами. На маленьком столике возле шкафа резко выделялся черный микроскоп.
— Я слышал о вас как о крупном специалисте… — начал Адальберт, но Браун прервал его:
— В Германии, слава богу, еще сохранились знающие врачи.
— Но в наше время, — осторожно произнес Адальберт, — не только больной зависит от врача, но и врач от больного…
— Я знаю о вас все или почти все… что должен знать. — Браун поглядел на Адальберта в упор. — Речь идет о пластической операции, не так ли?
— Именно, герр доктор.
— Видите ли, герр Квангель, — наклоняясь ближе к Адальберту, сказал Браун, — с врачом надо быть откровенным. Ко мне приходят разные люди, мужчины и женщины. О женщинах говорить много не стоит. Все они хотят стать красивыми — что ж, сегодня это большой капитал. Мужчины… Иногда им мешают всякого рода татуировки…
— Татуировки? — Адальберт понял, на какую татуировку намекает врач. Но ведь он-то, Адальберт, пришел сюда не для того, чтобы вытравить код группы крови у себя под мышкой — с этим можно подождать, — а для того, чтобы избавиться от сходства с самим собой.
— Не удивляйтесь, герр Квангель, — с хитрой усмешкой произнес Браун. — Татуировка иногда бывает весьма некстати. Скажем, имя бывшей возлюбленной может раздражать ту, которая ее сменила…
Что он плетет, этот доктор? Адальберт решил идти напрямик:
— Герр доктор, вы знаете, в чем моя просьба?
— Знаю, господин Хессенштайн.
— Мы встречались? — спросил Адальберт после паузы.
- Да.
— Где же?
— В Заксенхаузене.
Название концлагеря подействовало на Хессенштайна, как удар хлыста.
Так вот почему эта привычка встряхивать головой, чтобы поправить сползающие на переносицу очки, показалась ему знакомой! Заксенхаузен!
«Нет, нет, не может быть!» — убеждал себя Адальберт, а память, помимо воли, уже восстанавливала, приближала то, что хотелось вытравить из сознания, спрятать от самого себя подальше…
В начале этого года Гитлер издал секретный приказ: ни один человек, находящийся в концлагере, не должен попасть в руки союзников живым. Во исполнение требования фюрера от Кальтенбруннера поступила «разверстка» на смертников по каждому лагерю, а следом он сам с инспекторской группой отправился по лагерям. В эту группу входил и Адальберт.
Да, он видел Брауна именно в Заксенхаузене — тот работал врачом, точнее, убийцей. Его привычка часто поправлять очки запомнилась тогда Хессенштайну… Как ему удалось уцелеть? Впрочем, Адальберт слышал, что американцы охотно денацифицировали крупных специалистов, в том числе врачей, которые давали согласие служить им.
— Значит, судьба свела нас снова? — Адальберт испытующе посмотрел на хирурга.
— Да, господин бригадефюрер.
— И вы не боитесь помочь мне?
— Я бы помог тысячам таких, как вы, если бы оказался в силах.
— Вы член партии?
— Не заставляйте меня раздеваться. Впрочем, шрам под мышкой почти незаметен.
— Итак, доктор Браун, я жду вашего совета.
— Гм-гм… — задумчиво произнес Браун. — Как я понимаю, речь идет о поверхностной операции на лице. Предположим, нечто в виде рубца. Можно изменить угол рта, так сказать, деформировать его. Изменить веки, характер бровей…
— О, доктор, что угодно!
— Так… Я думаю, здесь нужна комбинация. Чисто внешним рубцом не обойдешься. Рубец с течением времени может разгладиться. Необходимо нечто более грубое, так сказать, радикальное. Допустим, нос сделаем горбатым, высоким, ну, знаете, как у этих арабов…
— Но тогда я буду, не дай бог, похож на еврея! Нет, нет, только не это!
— Успокойтесь, — с иронической усмешкой прервал Браун, — нос мы сделаем седловидным… — Адальберт страдальчески молчал: черт побери, что угодно, только бы не быть узнанным! Браун тем временем копался пальцами в его бороде, раздвигал пряди жестких волос и бормотал: — Рубец, следовательно, диагональный, нос — седловидный… Шрам проходит через нос… Да-да, конечно, это будет иметь свои преимущества… Вы получили травму на восточном фронте, осколочное ранение, солдат-строевик… Или еще лучше — жертва фашизма… Отлично! Фрау Каролина! — Женщина в белом халате возникла на пороге. — Фрау Шульц! Доктор Берндке на месте?
— Яволь, герр доктор.
— Отлично. Заберите нашего пациента и верните его без бороды и без бровей. — Браун снова повернулся к Адальберту и объяснил; — Доктор Берндке работает у меня по найму. Я вызываю его, когда нужна помощь второго врача. К нашему прошлому он отношения не имеет.
…И вот Браун вновь озабоченно вглядывается в гладкое безбородое и безбровое лицо Адальберта.
— Шрам пойдет наискосок от лба через спинку носа, через рот… Краску! — Каролина вынула из стеклянного шкафа стаканчик с зеленоватой краской. — И кисточку! — Браун обмакнул кисточку в краску и прикоснулся к лицу Адальберта. Хотя никакой боли не было, Адальберт инстинктивно зажмурился. А Браун тем временем разрисовывал его лицо, приговаривая вполголоса: — Так… От левого виска через бровь… по веку… теперь через спинку носа, на другую щеку… Ну вот, эскиз готов. Откройте глаза, герр Квангель. Каролина, зеркало!
Держа перед собой овальное зеркало с ручкой, Адальберт впился в него глазами.
— Что ж, — сказал с довольной улыбкой Браун, — я уверен, сам Кальтенбруннер теперь вас не узнает. Почему вы молчите? Вам жаль своей мужской красоты? Скажем прямо, красавцем вас будет назвать нельзя. Вы станете другим человеком…
Адальберт свел свои безволосые брови и сказал:
— Вы в силах обезобразить мое лицо, но мои душа и сердце останутся прежними. Я останусь тем, кем был. И буду делать то, что делал раньше.
— Отлично! Тогда приступим, — сказал Браун. — Репетиция окончена, займемся самим спектаклем. На здоровье не жалуетесь? Откройте рот. Нет, не так, мне надо видеть ваш оскал. Теперь поднимите брови… Опустите глаза… Хочу предупредить, эта бровь у вас будет опущена. Один угол можно поднять, если желаете. Теперь о носе — он будет несколько провален. А рот немного подтянем в сторону. — Браун дотрагивался пальцем поочередно до бровей, носа, рта Адальберта, нажимал, сдвигал кожу, больно оттягивал ее. — Теперь ложитесь. Расстегните брюки. Поднимите рубашку… — Пощупал живот, выслушал сердце… — Похоже, вы и впрямь здоровы. Однако проверим еще кровь. Каролина, прошу вас.
Адальберт покорно протянул руку, вздрогнул, почувствовав укол, Каролина ваткой со спиртом стерла выступившую из пальца кровь, снова надавила, размазала кровь по прямоугольному стеклышку. Подошла на минуту к микроскопу, исчезла в соседней комнате, вернулась, протянула Брауну исписанный листок. Тот бросил на него взгляд.
— Все в порядке. Доктор Берндке готов?
В операционной ассистентка смыла с лица Адальберта краску, затем на него надели чистую рубашку, халат. В это время Браун и второй доктор мыли руки, переодевались. Над операционным столом висела осветительная лампа, фрау Шульц возилась у столика с поблескивающими инструментами.
В эти минуты Адальберту стало по-настоящему страшно. Он снова вспомнил, как с одной из спецгрупп РСХА вошел в больницу Заксенхаузена. Операция по истреблению заключенных приближалась к завершению, горы вынесенных трупов уже возвышались над оградой. Крингель предложил Адальберту пройти в операционную, где ставились опыты по мгновенному умерщвлению евреев особым, доставленным из Берлина ядом. Умерщвление шло по конвейеру. Предназначенного к смерти заключенного нагишом бросали на стол, врач в белом халате молниеносным движением, с размаха вводил в тело шприц, человек вздрагивал, точно от электротока, и… все было кончено.
Одним из белохалатников был доктор Браун. И вот сейчас при виде операционного стола и поблескивающих по соседству инструментов Адальберту представилось, что здесь испытывается какой-то дьявольский препарат… и ему, именно ему предназначено быть жертвой. «Бегом, бегом отсюда!» — чуть было не воскликнул Адальберт, но в эту минуту ему показалось, что у входа, широко расставив руки, стоит патер Вайнбехер в своей коричневой сутане.
— Что с вами? — услышал Адальберт голос Брауна. — Вам нехорошо? О, знакомая история! Сколько раз ко мне на фронте — мне ведь и повоевать довелось, господин Квангель, — приводили тяжело раненных, помню одного лейтенанта-артиллериста: шинель в крови, рука оторвана, и, обратите внимание, его не принесли, а привели, поддерживая, конечно. К моему удивлению, он не стонал и вообще не произносил ни слова… Чудовищная воля и выдержка! Я взял шприц, чтобы ввести ему для начала противостолбнячную сыворотку. Так вот, едва игла коснулась его второй, уцелевшей руки, лейтенант вдруг упал. Мы бросились к нему, вспороли окровавленные шинель, китель, сестра схватила шприц с сердечным… Но все уже оказалось ни к чему: лейтенант был мертв. Подумайте, вынести такое ранение и умереть от прикосновения шприца! Вам на фронте, наверное, тоже приходилось встречать такое? Примите, пожалуйста, таблетку, это просто успокаивающее…
Каролина протянула Адальберту стакан и таблетку на пергаментной бумажке. Он бросил таблетку в рот и стиснул зубами край стакана, едва не раздавив его. Потом подумал: «Происходит что-то странное. Этот Браун знает, с кем имеет дело. Я попал к нему по протекции Вайнбехера. С Брауном ясно, а вот кто такой Вайнбехер?» Да, он знал патера давно, тот был другом его семьи… И все же? Откуда патеру стало известно, что его, Адальберта, можно было встретить возле дома Крингеля? Случайность? Что связывает патера с этим доктором? Тоже случайное знакомство? И почему Браун идет на риск ради него, Адальберта?
Эта ситуация напомнила Адальберту встречу с Мартой, женой Крингеля. Он боялся ее — она же, несомненно, боялась его… Размышляя обо всем этом, Адальберт как-то не заметил, что его уложили на стол и накрыли простыней с разрезом для лица.
— Итак, — снова раздался голос Брауна, — работать будем под местной анестезией.
Над лицом Адальберта зажглась яркая лампа. Он зажмурился. Почувствовал, как лицо его чем-то протирают.
— Укол! — негромко произнес Браун. Адальберт сжался в ожидании боли, но боль была несильная. Затем последовало еще несколько уколов, Браун оказался прав: они были почти безболезненными. Спазм свел веки, казалось, ни одна мышца на лице не действует… И все же Адальберту чудилось, что он видит себя, видит свое лицо в зеркале, видит прочерченные краской шрамы, точнее, один глубокий шрам в форме «зет», начинающийся от правой брови, перечеркивающий щеку, нос и впивающийся в левый угол рта…
— Что вы ощущаете, герр Квангель? — услышал над собой Адальберт голос Брауна. — Некоторую тяжесть, давление на лицо?
— Я… я не знаю, — не сразу ответил Адальберт. — Скорее не тяжесть, а ощущение… ну, распирание, что ли… — Он все еще боялся открыть глаза, хотя понимал, что лица своего ему все равно не увидеть. Он не видел и не чувствовал почти ничего: ни как разрезают кожу, ни как вытирают кровь тампонами, не слышал тихого позвякивания зажимов… Иногда до его слуха долетали слова: «Кетгут! Тампон!» Время от времени мерещился тупой звук пилки — это врач надпиливал хрящ, образуя на носу выемку в виде седла. Он почти ничего не слышал, он только сохранял чувство соприкосновения с какими-то звуками — так тугоухие ощущают музыку или просто отдаленный шум, вскрик, реплику.
«Что я увижу в зеркале? — думал Адальберт. — Лицо урода? „Человека, который смеется“, — порождение фантазии Гюго? Квазимодо? Неужели я смогу возвратиться к жизни, смело смотреть всем в глаза, без страха быть узнанным? И как сложится теперь моя жизнь? Сможет ли выносить мое присутствие Ангелика? Смогу ли я чувствовать себя тем, кем был, — бригадефюрером СС Адальбертом Хессенштайном, — или по-прежнему останусь скрывающейся в норе крысой? Нет! Теперь я смогу безбоязненно пройти по улицам родного Нюрнберга, даже зная наверняка, что встречу знакомых…» Он вновь вспомнил о процессе, который, судя по сообщениям газет, должен начаться со дня на день. Немыслимо!..
А врачи в это время заканчивали свое дело. Зашили сосуды, зашили кожу на лице. Заклеили рубцы пластырем. Наложили бинтовую повязку, оставив щель для левого глаза.
— Откройте глаз и посмотрите, — услышал Адальберт приказывающий голос.
Из тумана выступила комната, та самая, где он лег на стол часа полтора назад, и под перезвон бросаемых в лоток инструментов Браун возвестил:
— Все! Теперь готово!
…Его отвезли в дом Крингеля, здесь Адальберта ждали Марта и старый Кестнер.
Через день появлялся врач, менял повязку. Несколько суток на лице держался отек. Еще через неделю снова приехал Браун и снял швы. Адальберт взглянул наконец в зеркало.
— Меня будут пугаться люди! — тихо проговорил он. — Как я объясню, если меня спросят, кто так изуродовал мое лицо?
— Наци, — сказал врач. — Вы узник концлагеря, и на вашем лице следы жестоких пыток и издевательств.
— В это поверят?
— В сочетании с этим — да. — И Браун вынул из пиджачного кармана карточку.
Адальберт с трудом прочел: клиника Красного Креста свидетельствовала, что военнослужащий вермахта Фридрих Мартин Квангель находился на излечении по поводу лицевой травмы, полученной в лагере Аушвитц.
Возвращение блудного сына
Вагон сильно тряхнуло. Послышался металлический лязг буферов. С полок посыпались мешки, чемоданы, рюкзаки, свертки. Поезд замедлил ход, почти остановился.
Нюрнберг!..
Адальберт пытался представить себе, что увидит сейчас со ступенек вагона. Показалось, что он уже находится на Хаупт-Банхоф — главном вокзале Нюрнберга, он мысленно вышел из станционного здания, слева неподалеку увидел городской театр, а направо, по диагонали через площадь, — почтамт. Вот он переходит площадь, видит вдали огромный корпус Электрозавода…
Сейчас он выйдет на Банхофштрассе, свернет направо, затем еще раз направо, по Дюрренхофштрассе до Регенсбургерштрассе — Адальберт с наслаждением вспоминал названия улиц, — потом на Хайнштрассе, и налево начнется Воданштрассе…
На пороге того, к чему стремился все последние месяцы, он ощутил новый приступ страха. Мог ли он быть уверен, что их дом не находится под постоянным наблюдением американской службы безопасности? Если дом цел и Ангелика по-прежнему живет там, у американцев были все основания предполагать, что хозяин в конце концов вернется. Захватить бригадефюрера СС — одного из ближайших помощников Кальтенбруннера, сидящего сейчас на скамье подсудимых во Дворце юстиции, — для американцев достаточный соблазн. Шрам, изуродовавший Адальберта, вряд ли оградит его от подозрений: если его схватят и начнут разматывать всю историю с операцией и получением документов… достаточно будет одной-двух недель, чтобы установить его подлинную личность. Словом, собственный дом может оказаться для него не обретенным раем, а элементарной ловушкой.
Пострадает и Ангелика — ведь она, подобно жене Крингеля, наверняка сочинила какую-нибудь легенду о причине столь долгого отсутствия мужа. Если он вдруг появится и будет опознан американцами, не поздоровится и ей.
Но даже если допустить, что все обойдется и его возвращение в Нюрнберг не вызовет ни у кого подозрений, как, какими глазами посмотрит на него Ангелика, что она почувствует, увидев его обезображенное лицо? Ей наверняка будет противно прикоснуться к нему не только губами, но даже просто ладонью… Конечно, она постарается скрыть свое отвращение, но что она будет испытывать, целуя урода, ложась с ним в постель?
Адальберт взглянул в покрытое слоем пыли окно в надежде увидеть вокзальные огни, но за вагонными окнами был мрак, ни одного луча света. Проход к тамбуру мгновенно заполнился людьми; столпившись в узком коридоре, они подталкивали друг друга, держали над головами багаж, спотыкались, падали, ругались, устремившись к выходу. Однако вагон вновь тряхнуло, и уже почти остановившийся поезд неожиданно набрал скорость. Люди разочарованно примолкли.
Декабрьский ветер свистел в оконные щели. Адальберт поежился в своем слишком просторном, с чужого плеча, пальто, купленном на берлинском рынке, вслушался в приглушенный стуком колес разговор, который вели соседи. Нюрнбергский суд над руководителями нацистской партии волновал многих. Адальберт вернулся мыслями к осенним дням, когда газеты писали, что процесс вот-вот начнется, а завсегдатаи пивных, кинотеатров и черного рынка были настроены весьма скептически. Вряд ли, уверяли они, процесс вообще состоится, ведь он будет на руку главным образом большевикам, еще больше усилит Советскую Россию — разве Запад пойдет на это? За прошедшие месяцы пропаганда сделала свое дело: теперь все больше было тех, кто поддерживал идею суда, кто обвинял Гитлера во всех бедах, которые обрушились на Германию…
Такие высказывания, несмотря на владевший Адальбертом страх, не могли оставить его равнодушным. Нацист до кончиков ногтей, он кипел от ненависти, слыша, как поносят Гитлера и его соратников те самые немцы, которые еще недавно встречали их бурей восторга. Когда один из пассажиров обратился к нему с сочувственным вопросом: «Где это тебя так изукрасили, приятель?» — Адальберт мрачно ответил:
— В Аушвитце.
— Вон оно что! — послышалось в ответ. — Ты, выходит, как нынче говорят, жертва фашизма? Чего молчишь-то?
— Сегодня зубным врачам в Германии приходится рвать зубы пациентам через нос, — вступил в разговор человек в ободранной солдатской форме.
— Это еще почему?
— Почему? — не торопясь повторил бывший солдат. — Да потому, что немцы боятся открыть рот. — И добавил: — Ах, если бы мы не начали эту, как потом стали говорить, навязанную нам войну…
«Иронизируешь, подонок?» Адальберт мысленно выругался.
— А ты подумал, где бы мы сейчас были, если бы нами не руководил фюрер? — вступил в разговор один из соседей Адальберта.
— Могу ответить, — сказал солдат, — спокойно спали бы у себя дома, в своих постелях, вот где!
Разговор снова вернул Адальберта к мучительной мысли: что ждет его в Нюрнберге? С тех пор как он еще на берлинском вокзале, одной рукой прижимая к груди свой драгоценный, хотя и значительно полегчавший рюкзак, а другой пробивая себе путь среди устремившейся к вагону толпы, втиснулся в узкий проход, а потом отвоевал себе место с краю, закрыл глаза и отключился от всего, что осталось позади: от берлинских развалин, подвалов, где провел так много ночей, от дома Крингеля, от Марты и старика Кестнера, с которым часами беседовал о настоящем и будущем Германии, от больницы, где сделали из него урода, — с тех пор мысли о доме и Ангелике не оставляли его…
Лучшие годы своей жизни Адальберт прожил в Нюрнберге, одном из красивейших городов Баварии. Сейчас Нюрнберг стоял перед его закрытыми глазами прежний — ярко освещенный летним солнцем, с поблескивающими шпилями церквей, часовнями, великолепными памятниками, прославившими город на всю Германию, добротными домами и широкими улицами, по которым мчались машины, с толпами гуляющих по тенистым аллеям… И опять Адальберту показалось, что среди этих людей он видит свою Ангелику, свою любимую жену, она протягивает к нему руки, улыбка и слезы на родном лице. Адальберт мысленно рвался к ней, ощущал ее в своих объятиях… И в этот момент, как в зеркале, он снова увидел свое изуродованное лицо.
О, это ужасное лицо! Как будто к нему прикоснулись когти «Железной девы» — орудия пыток, до самого последнего времени хранившегося как реликвия в одной из башен замка Кайзершлосс, где в былые времена постоянно толпились туристы. Еще недавно Адальберт был счастлив, что перестал быть похожим на себя. В этом он видел залог своей безопасности… Да и зачем ему быть красавцем? Он уже не так молод, женат на любимой женщине, а для того, чтобы осуществить свое давнишнее желание иметь ребенка — обязательно мальчика, — красивого лица не требуется.
Как объяснить Ангелике все это?.. Неужели она не поймет, что у него не было другого выхода? Или оказаться в руках русских, или «похоронить» прежнего Адальберта.
«Похоронить»? Нет! У него изменилось лицо, но не душа! Пусть фюрер мертв, пусть ближайшие его соратники арестованы и находятся под судом — варварским, незаконным, издевательским, — ничто не может поколебать его убежденности в правоте дела национал-социализма.
А Гели? Любимая Ангелика? Осталась ли она прежней? Верна ли идеалу, которому ее муж посвятил всю свою жизнь? Да, он верил: Ангелика не предаст его…
Но жива ли она? Адальберт опять почувствовал страх. А вдруг она похоронена под руинами? Или заключена в американском застенке как жена бригадефюрера СС?
Нет, нет! Адальберт оборвал поток страшных мыслей. Этого не может, не должно быть! Он не задавал себе вопроса: почему? Логика тут бессильна, Адальберт верил, что его судьба и судьба Ангелики связаны, слиты воедино — он верил в чудо, верил, что города Германии, и прежде всего Берлин и Нюрнберг, поднимутся из руин, что Англия, Америка и Франция вступят в кровопролитный бой с большевизмом, что дух национал-социализма воспрянет в душах истинных немцев, и тогда все, все вернется…
Подсудимые
В один из дней, когда Адальберт скитался по Берлину, ночуя в подвалах и развалинах, в кабинет полковника Бэртона Эндруса — ему предстояло стать начальником тюрьмы в Нюрнберге, где должен был происходить судебный процесс, — ввели задержанного американскими солдатами Германа Геринга.
Он был одним из тех военных преступников, которых выловили союзные войска и сгруппировали в люксембургском городе Мондорф-ле-Бэн, чтобы впоследствии перевезти в Нюрнберг.
Во временную тюрьму был переоборудован мондорфский «Пэлис-Отель», и Эндрус приступил к знакомству с преступниками.
Герман Геринг был одет в небесно-голубую форму люфтваффе и весил 132 килограмма. Он привез с собой шестнадцать чемоданов, украшенных монограммами, — свои «личные вещи». Он обливался потом.
После короткого допроса Геринга отвели в камеру, а вещи Эндрус приказал тщательно проверить. Во время осмотра в одном из чемоданов была найдена баночка «Нескафе», а на дне ее, прикрытая кофейным порошком, крохотная ампула с цианистым калием. Другая ампула оказалась вшитой в один из мундиров рейхсмаршала. Опись всевозможных драгоценостей, которыми были набиты чемоданы, заняла несколько часов. Затем перед Эндрусом предстали Кейтель, Дениц и другие.
Вскоре в Люксембург был прислан самолет, чтобы доставить в Нюрнберг еще пятнадцать военных преступников, содержавшихся в мондорфской тюрьме. Эндруса весьма беспокоил вопрос охраны арестованных, и он отправился к военному коменданту Баварии генералу Паттону.
Резкий в движениях, широкоплечий генерал, отличавшийся, по общему впечатлению, солдафонской грубостью, — однажды он ударил по лицу раненого солдата, лежавшего на госпитальной койке, только за то, что ему не понравилась форма ответа на какой-то заданный им, Паттоном, вопрос, — принял Эндруса сухо и формально. Паттон недвусмысленно дал понять начальнику нюрнбергской тюрьмы, что суд над людьми, проявившими себя непримиримыми врагами большевиков, он считает полным абсурдом и убежден, что этот суд в конце концов будет сорван.
Однако вопреки убеждению Паттона преступники находились в тюрьме, примыкающей к нюрнбергскому Дворцу юстиции.
В семь утра окошечки в дверях камер раскрывались, и заключенные получали завтрак. Полчаса спустя приходили военнопленные, чтобы в присутствии американских, солдат забрать миски, ложки и кружки. Через некоторое время окошечки вновь раскрывались, и каждому заключенному передавали метлу и тряпку — они сами наводили порядок в своих камерах. Затем они читали или готовились к защите. Несколько позже получали по чашке воды или, если было очень холодно, горячий кофе. Переговариваться военнопленным и заключенным было строжайше запрещено. Не разрешалось разговаривать даже с парикмахером, стражник в этих случаях всегда стоял рядом, чтобы предотвратить попытку самоубийства с помощью бритвы.
Раз в день доктор Пфлюкер совершал обход. После этого наступало время прогулки, и заключенные в сопровождении стражников выходили во двор. Тем временем камеры обыскивались. Если заключенный хотел получить какую-либо книгу из библиотеки, он мог пойти и выбрать то, что ему было нужно. В распоряжении заключенных были шахматы, колоды карт. Ежедневно тюремный офицер совершал обход и выслушивал жалобы. Обед был в полдень — как правило, суп, мясное блюдо, овощи и хлеб. Ровно в шесть заключенные ужинали. По вечерам во вторник и пятницу они принимали душ. Читать или работать им позволялось до половины десятого.
О, сколь многого еще не знал в то время бригадефюрер СС Адальберт Хессенштайн! Он не знал, например, что судьба его, как одного из руководителей гестапо, вместе с судьбами других военных преступников уже не раз обсуждалась далеко за океаном.
Министр финансов США Генри Моргентау — излюбленная мишень таких газет, как «Фелькишер Беобахтер», «Штюрмер» и «Райх», — был для Хессенштайна одним из руководителей плутократической еврейской олигархии, которая поставила себе задачей уничтожить Германию. А ему, Хессенштайну, следовало бы знать больше: например, что Моргентау предложил составить список немецких архипреступников, вина которых будет установлена ООН, и расстрелять их без суда и следствия. Не знал Адальберт и о том, что еще в 1944 году Черчилль всячески пытался убедить Сталина, что военных преступников надо казнить без суда. Тогда и позже Черчилль настаивал на казни руководителей гитлеровской Германии «списком», ссылаясь на то, что организация такого беспрецедентного в истории человечества процесса связана с неодолимыми юридическими и техническими трудностями. Как бы удивился Адальберт, если бы узнал, что именно «главный большевик» Сталин решительно выступил против американских и английских предложений, заявив, что не должно быть никаких казней без судебного процесса, иначе мир скажет, что победители побоялись предать преступников гласному суду.
Да, в то время Адальберт еще ничего этого не знал. Он скитался в берлинских развалинах, потом нашел пристанище в доме Крингеля, перенес пластическую операцию, ждал когда тайные друзья патера Вайнбехера помогут ему получить необходимые документы…
О начавшемся в Нюрнберге процессе он узнал от Кестнера, ежевечерне читавшего ему газеты, а также из сообщений по радио — на черном рынке удалось купить для Марты подержанный «Блаупункт». Он не знал многих подробностей, но главное с каждым днем становилось все очевиднее: надежды на срыв процесса рушились. Обвиняемым уже было предъявлено обвинительное заключение, и 20 ноября 1945 года представителю Великобритании лорду-судье Лоуренсу предстояло открыть процесс.
Казалось бы, все это должно было заставить Адальберта Хессенштайна держаться подальше от Нюрнберга, к которому, несомненно, скоро будут обращены взоры всего мира… Тем не менее его настойчиво тянуло туда, он мечтал войти в свой дом, обнять наконец Ангелику и, что было для него не менее важно, быть ближе к месту судилища.
Парадокс?
Да, если откинуть давнее утверждение криминалистики, что преступника всегда тянет к месту преступления. И если отбросить не лишенную логики, хотя и не бесспорную мысль, что именно в Нюрнберге о процессе можно было узнать больше, раньше и точнее, чем где бы то ни было.
После операции, когда сняли повязку, Адальберт взглянул в зеркало и ужаснулся: он был совершенно не похож на себя прежнего. Никто не сказал ему, что именно теперь его лицо как нельзя лучше выражает подлинную суть его, Адальберта, натуры, характера, склонностей — ведь он и был человеком-уродом, человеком-зверем, этот бывший бригадефюрер СС. Может быть, потому и тянуло его сюда, в разворошенное логово нацистов…
Адальберт мечтал хотя бы одним глазом заглянуть внутрь нюрнбергского Дворца юстиции, где открылся суд, почувствовать настроение подсудимых, тон обвинительных речей. Когда Кестнер сказал ему, что перед началом фильма в кинотеатре неподалеку от дома показывают короткий документальный выпуск — открытие процесса, Адальберт тут же помчался в кино. Какие чувства владели им, когда в зале погас свет и на экране возникли огромные буквы: «СУД НАД ГЛАВНЫМИ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ»? Страх? Тревожное любопытство? Ненависть?
И вот Адальберт увидел.
Зал, отделанный мореным дубом. На возвышении — длинный стол. Советский генерал, судьи в мантиях…
Столы секретариата и стенографисток… Столы членов военного трибунала. Диктор торжественно объявил имена государственных обвинителей, но не к ним был прикован взгляд Адальберта. Он был устремлен к пустующим скамьям подсудимых в два ряда слева от входа. Диктор пояснил, что подсудимые будут доставлены в зал по одному, через подземный ход, соединяющий Дворец юстиции с тюрьмой, и почти одновременно раскрылась едва заметная дубовая дверь, и в образовавшемся проеме показались — один за другим — ОНИ. О, как подался вперед, как впился руками в поручни кресла Адальберт!.. Он забыл, где находится, забыл, что перед ним на экране не живые люди, а только их тени, призраки, да и сам он, Адальберт, никому не известный, притаившийся в темноте зала, уже не более чем призрак. Один за другим они подходили в окружении американской охраны к скамьям за невысокой деревянной перегородкой. Адальберт беззвучно шевелил изуродованными губами, повторяя вслед за диктором: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Риббентроп, Кальтенбруннер, Розенберг, Штрейхер… Второй ряд: Дениц, фон Ширах, фон Папен, Йодль…
Вскоре были заполнены все скамьи. Дикое, безумное желание овладело Хессенштайном: вскочить, вытянуть руку по направлению к Кальтенбруннеру и крикнуть «Хайль! Зиг хайль!». Он был уверен, что весь зал поддержит его приветственное восклицание…
Между тем на экране показали публику, находившуюся в зале суда: одетые в парадную форму военные, дамы в мехах, точно на премьере в театре, занимали галерею… «Позор, позор!» — кровь ударила в голову Адальберту. Как будто они пришли в зверинец посмотреть на экзотических животных!.. Адальберт опять грезил о невероятном: будто дело происходит в сорок четвертом году и те, кто сидит сейчас на скамьях подсудимых, неожиданно появляются на каком-либо собрании… Какими овациями встретили бы их! Конечно, тогда в зале сидели бы не эти, а другие люди…
Англичанин, которого диктор назвал лордом-судьей Лоуренсом, объявляет заседание трибунала открытым. Он предоставляет слово русскому и называет его «главным обвинителем от СССР». Адальберт снова впился в поручни кресла. Наконец-то! Наконец-то он из первых уст узнает, чего хотят от этого суда большевики, какую судьбу они уготовили руководителям рейха. Конечно, он не раз читал об этом в газетах, не раз обсуждал с Кестнером, но газеты газетами…
Главный советский обвинитель встал.
Он уже заранее был ненавистен Адальберту, этот человек с высоким лбом и выражением сосредоточенности на строгом лице. Хессенштайн ненавидел даже генеральские звезды на этих русских золотых погонах! Если поначалу подсудимые вели себя довольно свободно, писали и передавали друг другу и своим адвокатам записки, некоторые обменивались репликами, то теперь все умолкли — и в зале суда, и в кинозале. Адальберт напряженно вслушивался в каждое слово обвинителя, синхронно переводимое на немецкий.
— …Впервые, наконец, — говорил обвинитель (теперь Адальберт разобрал его фамилию: Руденко), — в лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные, человеконенавистнические «теории» и «идеи», — он с презрительным ударением произнес эти слова, — ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечности…
К большой досаде Адальберта, диктор оборвал перевод, завершая выпуск:
— Майне дамен унд геррен! Мы передавали репортаж из зала суда над главными немецкими военными преступниками. Ход процесса будет освещаться в дальнейших выпусках кинохроники.
Даже несколько произнесенных русским обвинителем фраз не оставляли сомнений: большевики задумали смести третий рейх и его руководителей начисто, объявить великие идеи фюрера преступными и античеловечными, а нацистскую политику — «давно задуманными преступлениями»… Но неужели представители других стран-победителей присоединятся к этим страшным формулировкам?!
Скорее, скорее в Нюрнберг! Да, там опаснее, но там можно глядеть опасности в лицо, там Ангелика, там его родной дом, там можно встретить людей, оставшихся верными национал-социализму, таких, как Браузеветтер, один из самых близких. Разве патер Вайнбехер не призывал его, Хессенштайна, вернуться именно в Нюрнберг? Надо ехать, ехать, чтобы продолжать борьбу!
…И вот Адальберт в поезде, уносящем его домой. Он открыл глаза. Поезд снова замедлил ход, очевидно, приближаясь к станции. Люди опять столпились в проходе в надежде оказаться первыми на нюрнбергской земле. Хессенштайн ощутил новый приступ волнения.
— Через пятнадцать минут прибываем в Нюрнберг! — раздался хриплый голос проводника. Объявление вернуло Адальберта в сегодняшний день — нет, не только потому, что цель путешествия была совсем близко, дело в другом… Некогда фюрер приказал официально именовать Нюрнберг «городом партийных съездов», только так он обозначался во всех деловых бумагах, на вывесках и почтовых штампах. Название срослось с Нюрнбергом, и то, что сейчас проводник бесцеремонно отсек привычное добавление, отрезвило Адальберта.
Что же все-таки ждет его? Найдет ли он единомышленников? Как встретит его Ангелика? Цел ли дом? Мысль о доме тревожила его еще и потому, что от сохранности дома зависела сохранность ценностей и документов, которые Адальберт, когда будущее Германии оказалось под угрозой, зарыл неподалеку.
Это был хитроумный тайник. В нескольких шагах от дома сохранилась старая водопроводная колонка. Она уже давно бездействовала, с тех пор как водопровод провели в дом. Изящно сделанная колонка была украшена изображением какого-то мифического животного с широко раскрытой пастью — потому, должно быть, и уцелела. Она стояла на площадке из каменных плит, и однажды Адальберт после очередной многочасовой отсидки с Ангеликой в подвале подумал, что следующая бомбежка может не миновать их дом, вот тогда он и решил устроить тайник под одной из каменных плит, зарыть до срока ценности, которые принесла ему служба в гестапо.
Там было золото, оставшееся после сожженных в лагерных крематориях людей, — золотые коронки, кольца, броши, медальоны, украшенные бриллиантами. Но главным для Адальберта было не это, а две не особенно толстые записные книжки, тщательно обернутые в пергаментную бумагу, а потом в клеенку, чтобы никакая сырость не могла их повредить.
В этих книжках хранилось самое дорогое: имена орудовавших в концлагерях агентов гестапо, которые должны были следить за настроениями и поведением заключенных и своевременно извещать уполномоченного гестапо о «подрывных» разговорах, не говоря уже о группах, готовящих побег из лагеря.
…Наконец еще один толчок, те, кто стоял в проходе, снова повалились друг на друга, хватаясь за свои мешки и чемоданы; поезд остановился, на этот раз окончательно.
Нюрнберг
Адальберту показалось странным, что за окнами нет ни проблеска света. Конечно, на стеклах был достаточный слой грязи, но электрический свет, если бы он существовал там, на вокзале, наверняка просочился бы сюда… Ладно! Через две-три минуты он увидит, как выглядит теперь его родной Нюрнберг…
Однако, выбравшись из вагона, Адальберт понял, что это не вокзал, а какая-то товарная станция. Он шагал в цепочке людей по проходу в нагромождении разбитых автомашин, зенитных орудий, товарных вагонов, превращенных в щепу, шагал в кромешной тьме, напряженно вглядываясь и подсознательно ожидая, что сейчас из вечерней дымки выплывет Хаупт-Банхоф — главный вокзал Нюрнберга. Он не помнил, сколько времени шел, пока не увидел далеко впереди розовое марево — значит, город все-таки снабжается электроэнергией. Люди ускорили шаг, и вот наконец Адальберт оказался на вокзальной площади. Он не узнал бы ее, если бы не огромная чудом сохранившаяся башня Фрауэнтурм. А там, за ней… Бесконечные развалины показались Адальберту похожими на острозубые челюсти людоедов-гигантов.
«Куда же идти? Домой? А может быть, дома давно уже нет? — вновь со страхом размышлял Адальберт. — Или он сохранился, но там живут другие, чужие люди… Где тогда искать Ангелику?» В Нюрнберге у него много друзей, самый близкий — Браузеветтер. Пойти сначала к нему? Попросить его подготовить Ангелику к встрече с изуродованным мужем?
Нет, к Браузеветтеру он пойдет завтра, а сегодня — туда, к своему дому. Он верит, Ангелика все поймет…
Адальберт пересекает вокзальную площадь, идет по правой стороне улицы к церкви Лоренцкирхе. Останавливается и смотрит скорбно: кругом развалины, между ними, покачиваясь, гудя перегретыми моторами, пробирается несколько грузовиков с американскими солдатами. Но сама церковь, как ни странно, сохранилась, хотя и пострадала от бомбежки. Вот она перед ним — две высокие готические башни по обе стороны внушительного церковного строения. На каждой башне по кресту. Адальберт не был религиозен, но сейчас эта церковь, гордо возвышающаяся над развалинами, казалась ему символом какой-то высшей силы, которая выведет его на правильную дорогу.
Домой… домой!
Он миновал Лоренцкирхе, добрался до реки Пегнитц и по мосту Музеумсбрюкке перешел на противоположный берег. Обломки стен кое-где уходили прямо в мутную черную воду, Адальберт шел берегом, пока путь ему не преградила гигантская груда кирпича и щебня. Пришлось повернуть назад, к Музеумсбрюкка. Теперь он шел в толпе людей — их много было на улицах, в пальто с поднятыми воротниками, в потрепанной военной форме, в куртках, в шляпах, кепках и фуражках военного образца, они шли навстречу пронизывающему ветру, пробираясь в развалинах, перепрыгивая через каменные обломки.
«И это Нюрнберг!» — с горечью подумал Адальберт.
В его памяти он был поистине великолепен, один из старейших германских городов, жемчужина Баварии. В пятнадцатом веке Иоганн Зензеншмидт напечатал здесь первую в городе книгу. Ученые-германисты стремились сюда со всех концов света, чтобы приобщиться к бесценному фонду городской библиотеки, располагавшейся в здании некогда действующего доминиканского монастыря. Туристы постоянно толпились у одной из башен замка Кайзершлосс, обиталища «Железной девы», любовались памятниками географу Мартину Бехайму, создавшему первый глобус, и часовых дел мастеру Петеру Хенлейну, прославившемуся на весь мир, восхищались фресками Дюрера, украшавшими городскую ратушу.
Многие верили, что именно в Нюрнберге хранятся такие бесценные реликвии, как копье, пронзившее бок Иисуса Христа, и один из гвоздей, которыми он был прибит к кресту…
Но для Адальберта город был связан прежде всего не с историей германской культуры, а с историей национал-социализма и, следовательно, с его собственной судьбой. «Город партийных съездов!» — прошептал Адальберт. Гитлер приказал реконструировать Берлин, Мюнхен, Гамбург и Линц в соответствии со своими личными указаниями. Вместе с Нюрнбергом они стали именоваться «пятью городами фюрера» — не мог же он, художник и архитектор, не оставить следа своего творческого гения на городах подвластной ему Германии!
По приказу Гитлера архитектор Троост взялся за строительство монументальных сооружений, стадионов, площадей для предстоящих триумфальных шествий в дни партийных съездов. Троост умер, так и не закончив работу. Имя молодого архитектора Альберта Шпеера в то время было мало кому известно. Но его проект завершения дела Трооста привел Гитлера в восторг, и Шпеера сразу стали прославлять во всех газетах и журналах.
Монументальные сооружения Шпеера проектировались с таким расчетом, чтобы даже спустя многие тысячелетия развалины Нюрнберга свидетельствовали о великолепии и величии рейха и были для потомков гораздо более впечатляющими, чем античные образцы.
Как хорошо помнил Адальберт «плацдарм партийных съездов» — самую большую строительную площадку Германии! Газеты писали, что для сооружений, проектирующихся только в Нюрнберге и в Мюнхене, потребуется весь гранит, добываемый в Дании, Франции, Италии и Швеции за четыре года.
Личность фюрера была неразрывно связана с бессмертной славой Германии, которой предстояло быть запечатленной в мраморе и граните. Он брал реванш за то, что его не оценили в свое время как гениального архитектора. Чуть ли не каждый месяц Гитлер являлся в Нюрнберг и, пробыв менее часа в самом шикарном отеле города «Дойчер Хоф», начинал метаться по строительным площадкам и проектным мастерским, сопровождаемый эскортом автомобилей.
Фюрер был снедаем гигантоманией. Огромный комплекс, предназначенный для партийных съездов и других торжеств, предполагалось открыть к 1945 году, занимать он должен был более 16 квадратных километров и вмещать одновременно около миллиона человек.
«И все это в прошлом!» — с горечью думал Адальберт, наблюдая за людьми, бредущими среди развалин неизвестно куда. Нет, у каждого из них есть цель, они спешат к себе домой, они знают, куда и зачем идут и что их ожидает через час или два. Адальберт ничего этого не знал…
Вернувшись к Музеумсбрюкке, он решил пойти по Плобенхофштрассе и неожиданно оказался на Хауптмаркт — об этом свидетельствовала прибитая к столбу дощечка с названием площади. Такого названия раньше не было. Но церковь, вернее, остатки ее в окружении развалин он вспомнил. Какое-то время он недоуменно озирался, пока не понял: ведь это же Адольф-Гитлерплатц — так раньше называлось это место! «Они хотят вытравить само имя фюрера из памяти немцев!» — со злобой подумал Адальберт.
Он ускорил шаг, хотя чувствовал себя разбитым. Постепенно он узнавал Нюрнберг, узнавал улицы, даже дома, ныне превращенные в руины. Миновав площадь Ратуши, Адальберт вышел на Альбрехт-Дюрерплатц и оказался лицом к лицу с памятником великому художнику. Дюрер стоял на невысоком пьедестале, укутанный в величественные одежды тех времен, — казалось, складки были из толстой материи, а не из металла. Вспомнилось, что дома в кабинете висело несколько гравюр Дюрера, из которых одна была подлинной — перекочевала к нему после обыска на квартире еврея художника. У стены, где висела гравюра, стояли широкий диван, курительный столик, на нем несколько статуэток…
Сейчас Альбрехта Дюрера окружали развалины, полуразбитые дома с пустыми глазницами окон, обвалившиеся стены, а у подножия памятника лежали груды черной взрытой земли, как будто здесь прошел гигантский плуг. Адальберт знал, что не плуг, а варварские воздушные налеты превратили Нюрнберг в то, чем он стал. Неужели и его дом постигла та же участь?
Осталось пройти по Бургштрассе, а затем через Тетцель-гассе выйти на Эгидиен-платц. Здесь, совсем рядом, жили его коллеги по гестапо — что с ними сталось теперь? Живы ли они? Арестованы американцами? Скрываются вдали от Нюрнберга? Тянуло зайти в дом, хорошо знакомый прежде, получить первую дружескую ориентировку, узнать о здешней обстановке. Его приятелями были штандартенфюреры Мюллер и Хильке. Хильке часто бывал у него в гостях, он был знаком с Ангеликой и, может быть, знал что-нибудь о ней… А почему не зайти? В конце концов каждый шаг в родном городе для него связан с риском, надо привыкать. Адальберт заставил себя убыстрить шаг.
Но, увы, дома, где жил Мюллер, больше не существовало, от него остались Груды развалин. Дом Хильке сохранился, Адальберт с радостью отметил, что он обитаем: окна застеклены и прикрыты занавесками. Но сделав три-четыре шага, он остановился как вкопанный: из подъезда вышли несколько американских солдат. Они были пьяны, один держал в руках банджо и, пошатываясь, что-то напевал, остальные невпопад поддерживали его припевом: «Ес ит из!»
Адальберт круто повернулся и скрылся в развалинах соседнего дома. Потом спохватился: чего он, собственно, боится? У него отличный документ, он вернулся в Нюрнберг совершенно легально. Но подсознательное чувство тревоги опровергало логику. А что если американцы по какому-либо поводу арестуют его и начнут расследование, станут выяснять, действительно ли он был в концлагере, выяснят его прежний чин и должность, докопаются до пластической операции? Ведь Адальберт даже не знает, внесен ли он американцами в списки нацистов, разыскиваемых полицией!..
Нет, береженого бог бережет; пока его положение в Нюрнберге не определилось, он должен быть настороже. И все же — домой! Как бы там ни было, домой… Отсюда до дома не больше тридцати минут ходьбы. Вперед, приказал он себе, к Ангелике! Сегодня — домой, а завтра — к Браузеветтеру…
И все же Адальберт не мог не замедлить шаг возле памятника великому Гансу Саксу. Вот он сидит на пьедестале, окруженном железной решеткой, бородатый, в небрежно накинутом плаще. В правой руке, опершись локтем о колено, он держит рукопись, а в левой, вытянутой вперед, — перо…
О чем ты думаешь, великий Сакс? Какие строки хочешь записать? Пристыдить германцев, не сумевших отстоять свое государство? Призвать их к борьбе?
Ангелика
Свою виллу, облицованную серым гранитом, Адальберт увидел издали. Дом был цел. «Одна удача, одна-единственная награда за все муки последних месяцев!» — подумал Адальберт. Ему захотелось крикнуть во весь голос: «Ан-ге-лика!..»
Конечно, он этого не сделал. Инстинкт гестаповца, преследуемого со всех сторон, сработал автоматически. На улице были прохожие, Адальберт обратил бы на себя внимание. И кроме того, он не знал, живет ли тут Ангелика. Нижние и верхние окна двухэтажной виллы освещены, но кто там, за окнами, за знакомыми занавесками?.. Вот здесь, за этими двумя окнами, был его, Адальберта, кабинет, два других на втором этаже — их общая с Ангеликой спальня, здесь гостиная и примыкающая к ней небольшая столовая… Адальберту показалось, что он видит Ангелику с подносом в руках, на котором дымятся чашки с ароматным кофе. Вот она обходит круглый стол, за которым расположились гости, — обычно это были эсэсовские генералы и офицеры, они берут с подноса чашку за чашкой… Адальберт услышал скороговоркой произносимое «битте шен», «данке шен»…
Он сдерживал себя, хотелось бегом броситься к дому, одним махом преодолеть три ступени и громко, что есть силы стучать в дверь.
А вдруг откроет чужой, незнакомый человек? Всего хуже, если американец. Спросить, не проживает ли здесь фрау Ангелика Хессенштайн? А если ответом будет: «Нет, вы ошиблись»? Начать расспрашивать, чтобы услышать, что «согласно закону, дама, которую господин ищет, выдворена из дома как жена бывшего эсэсовца»? Адальберт знал из газет, что в американской зоне, в частности в Нюрнберге, действует закон, по которому семьи бывших эсэсовцев при наличии тех, кто нуждается в жилье, подлежат выселению в первую очередь. Вряд ли кто-либо из бывших знакомых, если они уцелели, согласился приютить у себя жену эсэсовского генерала… Может быть, сейчас, поздним холодным вечером, когда Адальберт стоит в трех десятках шагов от дома, она, его милая, родная Гели, дрожит, укрытая тряпьем, в каком-нибудь сыром подвале?
Напрягая всю волю, подавляя страх, подчиняясь неодолимому желанию если не увидеть Ангелику, то хотя бы узнать что-либо о ее судьбе, он сделал несколько быстрых шагов к своему дому.
И в эту минуту свет на втором этаже погас.
Еще не понимая, что это может означать, укладываются ли обитатели дома спать или собираются выйти в город, Адальберт впился взглядом в нижние, все еще освещенные окна. Свет погас и на первом этаже. Парадная дверь открылась… Адальберт успел отскочить, укрыться за стеной полуразрушенного дома, он не отрывал взгляда от двери. Еще мгновение — и он не вытерпел бы, рванулся туда, к ступеням… О, боже! Было темно, но и во тьме кромешной Адальберт увидел бы, что на ступенях стояла Ангелика! На ней был короткий жакет с меховым воротником и круглая, тоже обрамленная мехом шляпка — он так любил свою жену в этой зимней одежде! Сейчас, сейчас она захлопнет дверь и начнет спускаться по ступеням!.. Вот тогда он и выбежит ей навстречу!
Адальберт не думал сейчас о том, что Ангелика не узнает его, придет в ужас, увидев вблизи изуродованное лицо, он не думал сейчас ни о чем, кроме одного: через минуту она будет в его объятиях…
Но в этот момент произошло совершенно неожиданное: в проеме полуоткрытой двери появился мужской силуэт. Даже в сумраке было легко определить, что это американский офицер. Он пошарил в кармане своего форменного пальто, прихлопнул дверь, вынул из кармана ключ и вставил его в замочную скважину. Затем повернулся к Ангелике и, поддерживая ее под руку, помог спуститься по ступенькам.
Сгорбившись от отчаяния, от внезапно нахлынувшей ненависти, Адальберт наблюдал, как они прошли в двух шагах от него — офицер по-прежнему слегка поддерживал за локоть Ангелику. До него донесся уносимый ветром ее негромкий смех. Прошли еще минуты, и пара скрылась из глаз Адальберта, затерялась где-то в развалинах. А он все стоял, скорчившись, вжавшись в стену, окаменевший, будто жизнь отхлынула от него.
Прошло немало времени, прежде чем он вновь обрел способность чувствовать и размышлять.
Все кончено! Надежды рухнули. Все! Любимый Нюрнберг изуродован так же, как и мое лицо… Любимая женщина, которой я верил больше, чем себе, пошла по пути, каким идут сейчас тысячи немок и в Берлине, и во Франкфурте, и в других немецких городах… Они расстелили себя перед завоевателями, честь немецкой женщины стала оцениваться парой чулок, коробкой пудры, блоком сигарет, банкой консервов или просто мизерным количеством оккупационных марок, пятеркой долларов, парой фунтов стерлингов или сотней французских франков. Честь немецкой женщины… Неужели и его Ангелика?..
О, она оказалась в выгодном положении! Красивая, получившая светское воспитание, — ей стоит только взмахнуть рукой, нет, просто ресницами, и любой янки к ее услугам со своим офицерским пайком и туго набитым бумажником.
Сколько времени стоял так наедине со своей яростью Адальберт? Час? Два? Он даже не почувствовал, что у него подгибаются колени. А потом и мысли исчезли, он больше не ощущал ничего, ни горечи, ни ненависти… Был только миг, когда Адальберт увидел неподалеку камень и ему захотелось запустить им в одно из темных окон, за которыми прожито столько счастливых лет вместе с любимой женщиной. У него не хватило для этого ни решимости, ни энергии. Адальберт, сам того не сознавая, отполз на полшага в глубину, где две полуразрушенные стены составляли угол. И, втиснувшись в этот угол, не чувствуя холода, заснул.
Он спал в темном, на две трети разрушенном Нюрнберге — «городе партийных съездов». Он спал, и ему снился сон, будто они с Ангеликой стоят среди тысяч людей, заполнивших улицу перед отелем «Дойчер Хоф». Все ждали Гитлера, и вот он появился. В открытом черном «мерседесе», за которым следовали другие машины с руководителями партии и охраной, фюрер стоя ехал по улице, направляясь к своему любимому отелю. Ликующие люди на тротуарах приветствовали его криками «хайль!». Звонили колокола всех церквей города…
…Первый день пребывания фюрера в Нюрнберге заканчивался обычно исполнением вагнеровских «Майстерзингеров» в оперном театре. На второй день утром на балконе гостиницы Гитлер принимал парад формирований «Гитлер-югенда». Ближе к полудню под звуки фанфар и аккомпанемент марша «Баденвайлер» (его всегда исполняли при появлении Гитлера) он входил в набитый до отказа зал «Люйтпольд-халле», а затем в зал вносили «Кровавое знамя» — под ним маршировали участники путча 1923 года, среди которых был и отец Адальберта.
Несколько дней продолжались торжества, чтобы закончиться в день пятый, когда с наступлением темноты зажигались костры и включались многочисленные «юпитеры». И тогда на арене вновь появлялся Гитлер. Сто тысяч членов партии, и среди них он, Адальберт, приветствовали его, размахивали флагами с изображением свастики, а лучи прожекторов возносили в черное небо гигантский световой купол…
Он проснулся от криков и толчков. С трудом очнувшись и открыв глаза, увидел склонившуюся над ним незнакомую физиономию:
— Да вставай ты, черт тебя подери! Только работать людям мешаешь! Вставай и бери лопату!
Первым делом Адальберт убедился в сохранности заветного рюкзака. Тот был на месте, прижатый к стене его затылком.
Затем он приподнялся, огляделся.
То, что он увидел, поразило Адальберта. Он оказался в центре огромного человеческого муравейника. Восходящее солнце освещало сотни людей с лопатами, кирками, ломами, они расчищали улицу от камней и обломков, прокладывали пути для пешеходов и автомобилей. Какой-то человек в запыленной, драной брезентовой куртке с лопатой в руке слегка подталкивал Адальберта и сердито говорил:
— Пошевеливайся, красавчик! Сам не работаешь и людям мешаешь! А где твой инструмент? Или ты в гостиницу пришел?
Ничего не отвечая, Хессенштайн выбрался из своего угла и бросил пристальный взгляд на особнячок из серого мрамора, с которым так много было связано для него в прошлом. Этого взгляда было достаточно, чтобы убедиться: шторы опущены, обитатели дома — Ангелика и американец — спят или еще не вернулись, загуляв в каком-нибудь ресторане. «Будьте вы прокляты!» — пробормотал Адальберт и, резко повернувшись, зашагал отсюда прочь.
— Без карточек хочешь остаться, капиталист? — крикнул вслед человек с лопатой.
Адальберт ускорил шаг.
Несмотря на ранний час и холод, весь город, казалось, был на ногах. Женщины, старики, дети разбирали завалы, по цепочке передавали друг другу камни, кирпичи, ведра, наполненные строительным мусором… Кое-где среди руин открывались расчищенные тропы для пешеходов, куски тротуара, проезжая часть улицы..
Все, кого Адальберт встречал на пути, были заняты работой. Он видел всех этих людей как бы вторым планом, на первом же было ночное видение особняка и Ангелики с американцем у входа. О, с каким наслаждением бросил бы Адальберт этого проклятого янки в один из своих концлагерей, чтобы эсэсовцы из «зондеркоманды» вышибли из него дух тяжелыми резиновыми дубинками, а потом волочили труп к крематорию.
А Гели?.. Тут у него был особый счет. Американец — враг, и с ним естественно было поступать как с врагом. Но Ангелика!.. Прожить с женщиной столько лет и не знать, что она способна на грязное предательство! Может быть, ей нечего было есть? Неправда! В доме оставалось достаточно ценных вещей, чтобы безбедно жить с черного рынка, но она предпочла другое, пошла в шлюхи, даже не убедившись в том, что ее муж погиб.
Адальберт подумал о ценностях, зарытых под каменной плитой возле колонки. Только он один знал об этой тайне. Он не поделился ею даже с Ангеликой, хорошо помня истину, что тайна, которой владеют двое, перестает быть тайной.
Ничто не заставило бы его сейчас вернуться к своему дому. Отныне проклятие висело над ним. Может быть, когда-нибудь потом, после того как удастся встретиться с кем-либо из бывших товарищей, он сумеет с их помощью глухой ночью вскрыть тайник и из бездомного и безымянного урода, прячущегося от всех, снова превратиться в бригадефюрера СС.
Нет, не о золоте и бриллиантах думал Адальберт, когда мысленно перебирал свои сокровища. Перед его глазами возникали скромные записные книжки. Не может быть, чтобы они никому не понадобились!
В городе, еще недавно считавшемся второй после Мюнхена колыбелью нацизма, наверняка остались люди, преданные Гитлеру, пусть мертвому. Великие идеи не умирают!
Но где они, эти люди, как их найти?
Браузеветтер
Он хорошо помнил название улицы, где жил Браузеветтер: Драхенфельсштрассе, 24. Была надежда, что Дитриха не тронули: из-за застарелого процесса в легких он не принимал участия в войне и даже не был членом партии — его не приняли в НСДАП по подозрению в чересчур тесных связях с расстрелянным по приказу Гитлера Ремом.
Все годы, сколько знал его Адальберт, Дитрих работал скромным преподавателем гимназии, но был предан национал-социализму так, как мало кто из близких знакомых Хессенштайна.
Браузеветтер жил один — у него не было ни жены, ни детей. Старый холостяк. Три раза в неделю — и это вспомнилось — прислуга приносила ему продукты, готовила, убирала комнаты. Дом имел мало шансов уцелеть при очередной бомбежке, да и прислуга — она была вдовой часовщика, — наверное, затерялась где-нибудь среди десятков тысяч людей, работавших на восстановлении города. В прежнее время Адальберт отыскал бы Драхенфельсштрассе даже ночью с закрытыми глазами, но сейчас, когда почти весь город был превращен в развалины и многих улиц просто не существовало, ему потребовалось не менее часа, чтобы увидеть знакомые очертания полуразрушенного квартала. О, счастье! — дом Дитриха Браузеветтера уцелел. Но жив ли Дитрих? Почти бегом приблизившись к двери одноэтажного, старинной постройки дома, Адальберт, стараясь унять сердце, постучал в дверь.
Никакого ответа. Постучал громче, приложил к двери ухо. Наконец послышались там, за дверью, шаркающие шаги. Слуховой обман? Нет, шаги приближались. Потом раздался приглушенный дверью голос:
— Кто там? — Адальберт не мог ошибиться; это голос Дитриха! На всякий случай он спросил:
— Господин Браузеветтер здесь живет?
— Что вам угодно? — послышался из-за двери неприязненный вопрос.
— Дитрих, это я, Ади! — уже не владея собой, громко проговорил Адальберт.
— Какой Ади?
— Адальберт Квангель! — Хессенштайн уже так приучил себя к новой фамилии, что машинально произнес ее и теперь.
— Я не знаю никакого Квангеля!
— Ну приоткрой хотя бы чуть-чуть дверь, и ты увидишь, что это я, твой старый друг!
Звякнула цепочка, дверь чуть-чуть приоткрылась.
— Это я, Адальберт, — торопливым шепотом проговорил Хессенштайн. Короткая пауза. Потом Браузеветтер крикнул срывающимся фальцетом:
— Я не знаю никакого Адальберта! Уходите!
Ну, конечно, Браузеветтер не мог узнать своего изуродованного друга… Вцепившись в ручку двери, чтобы не дать возможности захлопнуть ее, Адальберт чуть не плача, шепотом, чтобы не привлечь внимания прохожих, стал уговаривать:
— Я тебе все объясню, только открой дверь! Не пугайся моего лица, это я, Хессенштайн, во имя нашей дружбы открой и впусти меня!
Опять наступило молчание. Браузеветтер обдумывал услышанное. Наконец дверная цепочка снова звякнула, и дверь приоткрылась настолько, что Адальберт мог войти.
— Неужели это ты? — все еще недоверчиво проговорил Браузеветтер. — Бог мой, что они сделали с твоим лицом? — Хозяин поспешно захлопнул дверь, повернул ключ в замке и наложил цепочку. Он снова и снова вглядывался в гостя. Сухим, отчужденным голосом сказал: — Если вы провокатор, тем хуже для вас. Я сейчас вызову американский патруль и попрошу проверить вашу личность. Я всеми уважаемый учитель, не имел и не имею никакого отношения к нацисту Адальберту Хессенштайну.
— Что ты такое говоришь, подумай! Мои документы в порядке, — прислонясь спиной к двери, устало сказал Адальберт. — Вот посмотри… — Он сунул руку во внутренний карман пальто и вытащил помятую карточку. — Смотри, читай, я Квангель, возвращаюсь из Берлина в Нюрнберг. А лицо… Впрочем, впусти меня в комнату, и я все расскажу. — Не дожидаясь приглашения, Адальберт решительно направился в кабинет Браузеветтера. Он знал эту квартиру, как свою собственную. Браузеветтер растерянно последовал за ним.
В кабинете было все по-старому: полки с книгами сплошь прикрывали стены, в центре комнаты стоял письменный стол, по одну его сторону — стул с диванной подушкой на сиденье, по другую — два старых, продавленных кожаных кресла.
— Может быть, пригласишь меня сесть? — Адальберт, не ожидая ответа, опустился в одно из кресел. Он не снял пальто и держал рюкзак на коленях. Браузеветтер облокотился о спинку другого кресла. Невысокого роста, с остроконечной бородкой — ему не хватало только колпака, чтобы окончательно стать похожим на гнома.
— Хайль Гитлер! — Адальберт привстал и поднял правую руку.
— Хайль Гитлер! — так же тихо ответил Браузеветтер и выпрямился. — Теперь я узнал тебя, Ади. Но что произошло? Кто тебя так изуродовал? Как тебе удалось выбраться из Берлина?
— Пластическая операция. А документ помог получить пастор Вайнбехер, помнишь его?
— Ты, конечно, еще не был у Ангелики? Впрочем, правильно, что сначала пришел ко мне. Идти домой, предварительно не разузнав, что происходит в твоем доме, было бы опрометчиво.
— Я знаю, что происходит в моем доме, — угрюмо ответил Адальберт. — Моя жена спуталась с американским офицером.
— Ангелика с… американцем? — воскликнул Браузеветтер. — Никогда в это не поверю!
— Я собственными глазами видел. Они выходили из дома ночью, и американец держал ее под руку, — злобно ответил Адальберт.
— Это… это просто невероятно! — бормотал Браузеветтер. — Может быть, его вселили туда против ее воли?
— Против своей воли порядочная женщина не пойдет на ночь глядя с врагом нации, а может быть, и с убийцей своего мужа! Они пошли в американский кабак, куда же еще?!
Браузеветтер умолк, по-видимому, не находя убедительных слов, чтобы оправдать Ангелику.
— А я-то хорош! Держал тебя, как нищего, у порога… Послушай, Ади, тебе надо умыться, привести себя в порядок. К сожалению, не могу дать ничего из одежды, мы слишком разные с тобой. Но чашку кофе, конечно, готов предложить. А все разговоры — потом. Сейчас провожу тебя в ванную…
— Не беспокойся, я помню, где у тебя ванная, — сказал Адальберт, вставая. — Я вообще помню все, что связано с тобой, мой друг Дитти.
И вот они уже снова сидят за столом. Адальберт выбрит, щебеночная пыль с костюма счищена, пальто он повесил в прихожей, а рюкзак — по выработавшейся привычке — запихнул поглубже под ванну.
— Итак, рассказывай, — попросил Браузеветтер.
— Я присутствовал при крахе третьего рейха… Испытал все унижения, какие можно представить. Все, кроме голода, — у меня остались кое-какие ценности. Потом… — И Адальберт коротко поведал Браузеветтеру о своей жизни, жизни бездомной собаки, потом о доме Крингелей и обо всем дальнейшем, начиная с неудачных попыток достать фальшивые документы и кончая Вайнбехером и пластической операцией.
— Да… — со вздохом произнес Браузеветтер, — операцию тебе сделали искусно, ты действительно не похож на себя.
— Внешне! — резко произнес Адальберт. — Но в душе я тот же: готов мстить трусам, предателям — всем, по чьей вине мы не сдержали монголо-еврейские орды, сдали Берлин. Сейчас большевики делают все, чтобы отвратить души немцев от национал-социализма. Если бы ты видел, на какие уловки они пускаются, чтобы вытравить добрую память о нас. Они бесплатно раздают хлеб, расставили свои военно-полевые кухни и кормят берлинцев супом и кашей. Но довольно об этом! — резко оборвал себя Адальберт. — Я жду, что ты мне скажешь о Нюрнберге, о себе.
— Что я могу рассказать? — с горечью произнес Браузеветтер. — Сейчас все взгляды обращены к Дворцу юстиции. Подумать только: банда еврейских плутократов устроила судилище над нашими вождями! Какое счастье, что фюрер не дожил до этого позора! Мало кого из немцев пускают в здание суда, но если верить газетам, все, кто сидит на скамье подсудимых, пытаются выгородить себя и свалить всю вину на фюрера… Конца процессу пока не видно. Но вся эта судебная банда использует каждый день и час, чтобы внушить миру мысль, что немцы — изверги, что руки их по локти в крови… Американская военная полиция денно и нощно рыщет по городу в поисках национал-социалистов, в особенности тех, кто занимал руководящие посты в партии…
— Но ты, я вижу, уцелел.
— Ирония судьбы, — с усмешкой произнес Браузеветтер. — Ты ведь знаешь, формально я не состоял в партии. Раньше это было для меня источником мук и обид, зато теперь у меня есть преимущества.
— И что же ты теперь делаешь?
— Формально все то же: учительствую в гимназии, преподаю немецкую историю. Правда, чтобы получить доступ к этому предмету, мне, как и многим другим учителям, пришлось пройти курсы переподготовки — там нас учили, видишь ли, тому, чем была Германия и чем она должна стать. Веду занятия три раза в неделю…
— Чем, по-твоему, кончится суд? — после некоторого молчания спросил Адальберт.
— Если анализировать то, что на поверхности…
— Что ты хочешь этим сказать?
— Видишь ли, Ади, — понижая голос, ответил Браузеветтер, — известно, что не все высокопоставленные американцы жаждут немецкой крови.
— Ты имеешь в виду судей?
— Не только. Тебе что-нибудь говорит имя генерала Паттона?
— Только то, что это американский военный губернатор Баварии.
— О его симпатиях к нацистам ходят легенды. Мне кажется, дай ему волю, он бы призвал Англию и Америку объединиться и разбить большевиков, чтобы управлять миром.
— Значит, ты не исключаешь, что этот позорный процесс будет сорван? — с надеждой спросил Адальберт.
— Я многого не исключаю, мой друг. — Браузеветтер встал. — Какой стыд, Ади! Я даже не предложил тебе поесть! — Он сознательно, как показалось Адальберту, переменил тему. — К счастью, неподалеку рынок, я покину тебя на полчаса — в доме ничего съестного, я как раз собирался кое-что купить, когда ты постучал.
Тут Адальберт вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего утра.
— Хочешь, я пойду с тобой? — предложил он. — У меня есть все, что надо для обмена.
— Оставь на будущее. Надо полагать, не в последний раз тебе понадобится съестное…
Он ушел.
Адальберт оглядел ряды книжных полок, сплошь закрывавших стены, присел на кожаный диван с высокой спинкой. «В крайнем случае можно остаться здесь на ночь», — подумал он и прилег на диван, примериваясь. Потом встал и снова начал рассматривать книги на верхней застекленной полке.
Его внимание привлекла энциклопедия «Дер Гроссе Брокгауз». Рядом стояла книжка Роберта Лея. Увидев это имя на корешке книги, Адальберт почувствовал дрожь: руководитель «Трудового фронта» Германии Роберт Лей покончил жизнь самоубийством в своей камере. Газеты сообщали, что он сделал петлю из разорванного армейского полотенца и повесился над унитазом.
Адальберт взял с полки книгу Лея «Германия стала прекрасней». Она была издана ровно десять лет назад. Он подошел к окну, чтобы лучше видеть текст. Вспомнил игру-гадание, которой увлекался мальчишкой: надо было задумать номер страницы и строку сверху или снизу.
Раскрыл книгу наугад, задумал пятую строку снизу, прочел: «Адольф Гитлер — заботливый отец немецкого народа!»
«Народ, маршируй вместе с нами! — кричала напечатанная готическим шрифтом страница. — Германия будет такою, какой ты ее создашь! А тому, кто не хочет маршировать вместе с нами, мы будем наступать на пятки до тех пор, пока он не начнет маршировать. Либо он будет валяться на обочине дороги, либо пойдет с нами в ногу!» Адальберт опустил книгу и посмотрел в окно. Обломки стен, груды камня, люди, которые на фоне руин выглядели почти карликами… Адальберта охватила злоба. «Германия стала прекрасней!» О, как ненавидел он этих копошащихся пигмеев, которые, вместо того чтобы встать стеной на пути врага, предпочли превратиться в покорных рабов, за кусок хлеба разбирать развалины, которые остались от Нюрнберга.
Если бы нашелся человек, подобный Гитлеру, кто сумел бы одним словом, одним мановением руки заставить идти за собой сотни тысяч людей и поднял бы восстание в городе, толпы нюрнбержцев со своими лопатами, ломами и кирками устремились бы к Дворцу юстиции, смяли охрану и освободили бы вождей немецкого народа… Это могло бы послужить сигналом для других немецких городов — пусть десятки тысяч немцев погибнут, сражаясь с хорошо вооруженным врагом, но они пали бы, как герои, их смерть показала бы всему миру величие идей национал-социализма, у которого наверняка есть сторонники и на других материках…
Россия — Адальберту хотелось в это верить — истощена настолько, что не выдержала бы даже месяца битвы! В восстании немцев все увидели бы призыв к уничтожению большевизма, а если восставших поддержали бы американцы и англичане… Недаром Браузеветтер говорил о генерале Паттоне, кроме того, хорошо известно, что Черчилль держит в полной боевой готовности армию немецких военнопленных… Значит, есть у него какая-то цель! Глаза Адальберта горели, изуродованные губы дергались. Он положил книжку Лея на место и взял двадцать первый том брокгаузовской энциклопедии. Он вспомнил, сколько разговоров было о ней в национал-социалистских кругах.
Конфуз заключался в том, что первые тринадцать томов этой двадцатитомной энциклопедии вышли еще во времена Веймарской республики, а последние семь — уже после прихода к власти национал-социалистов. В томе, изданном в 1931 году, Гитлеру было посвящено едва ли больше двадцати строк, сухих, лишенных каких-либо восторженных оценок и даже без портрета. Потому и было решено издать «Дополнительный том», где появилась новая статья, воздававшая должное гениальности фюрера. Вот он, этот том, Адальберт держит его в руках. Держит и думает: а что будет говорить о сегодняшних днях Брокгауз пятидесятых или шестидесятых годов? Он был уверен: история еще споет гимн бессмертному учению Гитлера — национал-социализму, священное имя и великий символ веры не подвергнутся «исправлениям»! Если только…
Он снова бросил взгляд на окно. Человеческий муравейник копошился по-прежнему. На некоторых уцелевших зданиях ветер колыхал американские флаги. И снова перед глазами Адальберта встал прежний величественный Нюрнберг. Снова заблестели шпили церквей, поблескивая лаком, мчались по широким улицам «мерседесы» и «хорхи», полицейские прочно стояли на уличных перекрестках в своих издалека видных касках, символизируя незыблемость третьего рейха… Видение старого Нюрнберга тут же исчезло: по расчищенной дороге мчался «джип» с американским флажком на радиаторе, в машине сидели несколько офицеров. «Ах, как славно было бы метнуть гранату отсюда, из окна, в этот автомобиль, когда он будет проезжать мимо!» — со злобным сладострастием подумал Адальберт.
Бессилие — вот что было всего мучительнее. Народ предал партию, в которой он, Адальберт, состоял. И его самого все бросили, предали. Даже собственная жена. Убить ее, похотливую суку! Адальберт сжал кулаки, и ему показалось, что он сжимает шею Ангелики. О, это-то он может сделать! Три или четыре вечерних дежурства, дождаться, пока она одна выйдет из дома или будет возвращаться… Схватить за шею, зажать рот, бросить в развалины, размозжить голову одним из камней… Ну, а дальше?.. Американские ищейки, обнаружив труп молодой немки, заподозрят, что причиной убийства была месть… Чья? Ну, конечно, мужа, который, очевидно, появился в Нюрнберге. Начнутся поиски, ему, Адальберту, придется покинуть дом Браузеветтера — об их давних связях, наверняка, станет известно в комендатуре или в полиции…
Какую он глупость сделал тогда, в Берлине, отказавшись от ампулы цианистого калия, предложенной ему спекулянтом-аптекарем!.. Нет! Самоубийство — удел слабых. Ну, а Лей? Наконец, сам Гитлер — они ведь предпочли смерть покорности! Адальберт в который раз вспомнил завещание Гитлера: фюрер писал, что не хочет оказаться в руках врагов и предпочитает умереть. И еще писал фюрер: наступит день, и в Германии так или иначе возродится национал-социализм.
«Возродится, но когда?» — думал Адальберт. Спустя месяцы, годы, десятилетия? Неужели до тех пор придется вести бесцельную, нищенскую жизнь? Да, нищенскую, потому что ценности, не одухотворенные идеей, — хлам! Интересно, подумал Адальберт, как бы поступили на моем месте те, кто сидит сейчас на скамье подсудимых во Дворце юстиции? Геринг, Гесс, Штрейхер, Кальтенбруннер и другие — люди, чьи имена еще недавно символизировали беспредельную власть национал-социализма в Германии?
Увы, свидание с этими людьми недоступно, и вообще неизвестно, выйдут ли они оттуда живыми. Адальберту страстно захотелось пусть не проникнуть, нет, он понимал, что это невозможно, но хотя бы подойти к стенам Дворца…
Дворец юстиции
Он посмотрел на часы: половина одиннадцатого. Браузеветтера уже не было, ушел в свою гимназию. Они договорились, что Адальберт как следует выспится, позавтракает один, а если захочет выйти в город, оставит ключ на едва заметной полочке под карнизом у входной двери.
Браузеветтер вчера долго внушал Адальберту, что его подозрения насчет Ангелики скорее всего неосновательны, просто у нее не было выхода: или пожертвовать виллой, или пустить в нее американца, но Адальберт отвергал все разумные доводы и зарекся даже близко подходить к дому, который до вчерашнего дня считал своим.
Он доел консервы, оставленные на кухонном столе в полупустой банке, кое-как сварил на керосинке кофе. Тщательно выбритый, в начищенных ботинках, проверив сохранность своего засунутого под ванну рюкзака, Адальберт вышел на улицу.
Его тянуло туда, к Дворцу юстиции…
Как и вчера, работа по расчистке улиц кипела, словно не прекращалась на ночь, но сегодня, в светлое морозное утро, картина разрушенного города уже не казалась Адальберту столь мрачной. Он шел наугад, снова размышляя об истории города, о том, что его родной Нюрнберг существовал почти тысячу лет, прежде чем был превращен в руины. Охваченный воспоминаниями, опять стоял у памятников художнику Дюреру, поэту Гансу Саксу, стараясь не замечать проходивших мимо американских солдат, «джипов», которые, точно корабли на морских волнах, прокладывали себе путь меж развалин.
Никогда еще, с грустью рассуждал Адальберт, ноги захватчиков не попирали эту землю. Наоборот, веками Нюрнберг считался как бы символом Священной Римской империи — ведь не зря он был излюбленным городом императоров, в том числе и великого Фридриха Первого Барбароссы. И снова приходила мысль о бессмертии великих идей, главной из которых он, несмотря ни на что, считал национал-социализм. Судьба Фридриха Барбароссы лишь укрепляла его веру. Всю свою жизнь этот человек посвятил борьбе за величие империи, и, хотя погиб во время одного из крестовых походов, мечта оказалась бессмертной. Вторую великую империю создал Бисмарк, а третью — Гитлер. Правда, сейчас она превращена в прах, но разве история не свидетельствует о том, что бывают поражения временные? Придет день, и из сегодняшних руин в конце концов возникнет четвертая германская империя, и уж она-то наверняка поставит на колени весь мир…
Адальберт шел почти вслепую, шел не развалинами, а древними улицами Нюрнберга, у него не было с собой палки, но он напоминал слепого, который следует за поводырем. Этим поводырем было сейчас для него двуединое чувство: память о былом величии Нюрнберга и жажда мести.
И, может быть, именно это настроение привело его на окраину города, к Партайгеленде. Он увидел огромный стадион с трибунами из серого камня, рядом толпились люди, но Адальберт не замечал их, он видел перед собой лишь гигантскую центральную трибуну, украшенную черными чашами, — здесь в дни манифестаций и парадов горел огонь, видел фюрера, приветствовавшего штурмовиков и манифестантов, проходивших по арене.
Адальберт не раз участвовал в парадах, возглавлял в марше одну из колонн эсэсовцев или входил в состав почетного эскорта, без которого фюрер нигде не появлялся. Он отчетливо слышал маршевый ритм тысяч кованых сапог и похожие на рев какого-то доисторического чудовища выкрики: «Хайль Гитлер! Хайль, хайль! Зиг хайль!..» Он устремил взгляд к центральной трибуне, но там копошилась какая-то нечисть: худые, как жердь, седые расфуфыренные старухи — американки, конечно, — и осанистые мужчины в военной форме, увешанные фотоаппаратами. Адальберт незаметно плюнул в их сторону и пошел прочь.
Снедаемый жаждой мести, он при виде американцев сжимал в кармане своего пальто кулак, и ему казалось, что он сжимает рукоятку пистолета «вальтер», того самого, что когда-то подарил ему лично Кальтенбруннер. Если бы можно было выхватить этот пистолет и разрядить обойму в ненавистных оккупантов!
Он давно уже, оказывается, шел по Фюртштрассе и понял это, только увидев наскоро воткнутый в землю уличный знак. Именно на этой улице располагался Дворец юстиции. Адальберт понимал: надо бежать, бежать прочь от этого места, но что-то, что было сильнее его, подталкивало Хессенштайна к Дворцу, в котором выставлены на позорище лучшие люди рейха, и зрители из зала насмешливо смотрят на них, как на экзотических животных в зоопарке.
Здание было окружено каменной оградой с овальными выемками. Двойные чугунные ворота, по обеим сторонам стоят солдаты в советской, американской, английской и французской форме. Узкий висячий переход соединял Дворец с другим административным зданием, а со двора к нему примыкал длинный четырехэтажный корпус — тюрьма. Хотелось подойти ближе, но здание, где проходил суд, опоясывали цепочки охраны, первая — из немецких полицейских, затем полукругом — цепочка «МП», американских военных полицейских. Иногда к зданию подкатывали машины с флажками союзников на радиаторах, американцы, англичане, русские, французы направлялись к входу, держа в руках, как успел заметить Адальберт, разного цвета карточки. Солдаты и полицейские подтягивались, бросали взгляды на карточки и снова замирали по неслышной команде «Смирно!».
Адальберт уже решил повернуться и уйти, но в этот момент к зданию опять подкатила машина, из нее вышел только один человек, располагающего вида американец в военной форме, взмахнул карточкой перед лицом полицейского и беспрепятственно прошел внутрь здания.
«Один из судей? — пытался угадать Адальберт. — Или адвокат?»
Но приехавший американец не был ни тем, ни другим. Доктор Гилберт, психолог, пользовался на процессе исключительными правами. Сейчас он находился в камере Франка и слушал его исступленную исповедь.
— Мы одряхлели… Европа одряхлела… Германия одряхлела… расцвет уже позади. Знаете, варварство, должно быть, ярко выраженная немецкая расовая черта. Как иначе Гиммлеру удалось бы заставить людей выполнять его приказы? Иногда я с ужасом думаю о том, что Гитлер — лишь первая стадия нового типа бесчеловечного существа, которое сейчас эволюционирует. Европе конец. Гитлер сказал: «Война должна быть при моей жизни». Безумие одного человека — и миллион людей умирает. Смерть — самая деликатная форма существования. Я полностью примирился с мыслью о смерти…
Так исповедовался Франк.
А Геринг, как всегда, встретил Гилберта каркающим смехом.
— Ну-ну, — сказал он, — наступит день, и вам придется иметь дело с русскими. Любопытно будет посмотреть, как вы с этим справитесь. Конечно, мне безразлично, откуда я буду наблюдать — с неба или из другого, более интересного места… — Геринг снова рассмеялся и продолжал: — После того как Соединенные Штаты захапали Калифорнию и половину Мексики, а мы остались с пустыми руками, территориальная экспансия вдруг стала считаться преступлением. Люди воевали на протяжении столетий и всегда будут воевать. Изменяется оружие, а не человеческая природа. В каменный век наши прародители выбивали друг другу мозги дубинками, а затем оставшиеся в живых поедали убитых. Это упрощало проблему снабжения. — И он снова расхохотался. Все попытки Гилберта направить разговор с Герингом на тему исчезнувших сокровищ ни к чему не приводили. Создавалось впечатление, что тот берег их для себя, уверенный, что сможет ими воспользоваться…
Изо дня в день Гилберт обходил камеры. Что слышал он от их обитателей? Что Гитлер был властителем дум миллионов людей. Что преступления нацистов в концлагерях и еврейских гетто придуманы самими же евреями. Что фотографии, предъявленные судом обвиняемым, — всего лишь монтаж, а кинохроника — инсценировки. Что если и виноват кто-либо в войне и во всем том, что было с нею связано, то только Гитлер, остальные невиновны. Они лишь выполняли его приказы: немцы — дисциплинированная нация…
У заключенных было много любимых тем, и одна из них состояла в попытках убедить американца Гилберта в том, что Западу необходимо объединиться и ударить по Советскому Союзу.
Разумеется, ничего этого Адальберт не знал. Он медленно направлялся к своему единственному убежищу — дому Браузеветтера. Дитрих уже начал беспокоиться.
— Где ты был?
— Я стоял перед Дворцом, — мрачно объяснил Адальберт, — и думал… Ах, если бы у меня был пропуск, Дитти!..
— Ну и что бы ты там увидел? Общая картина достаточно ясна из газет и кинохроники.
— Плевать мне на «общую картину»! — взъярился Адальберт. — Я просто встал бы и заявил во весь голос, что этот суд — жестокая комедия, фарс, я сказал бы, что немецкий народ сам отдал свою душу фюреру и его соратникам и не дело паршивых иностранцев касаться души народа!
— Во-первых, тише! — понизил голос Браузеветтер. — Твой крик может проникнуть сквозь эти стены, и тогда тебе конец, несмотря на все твои шрамы. И я бы на твоем месте пошел в полицию и зарегистрировался. Тебе надо получить нюрнбергский «аусвайс» и заявить о своем местожительстве.
— Где? В развалинах?
— Ты меня обижаешь, Ади. Во-первых, мой дом — твой дом. Кроме того, у тебя есть собственная вилла. Что мешает тебе…
— Что мешает? — сжимая кулаки, прервал Адальберт. Шрам на его лице сделался багровым. — Но разве я тебе не рассказал, что видел прошлой ночью возле моего дома?
— Так чего же ты хочешь от жизни?
— Крови! — резко ответил Адальберт. — Крови тех, кто предал память о фюрере, кто покорно копается в этом мусоре, — он кивнул за окно, — вместо того чтобы объединиться и мстить!
Браузеветтер молчал.
— Этот процесс не имеет прецедента в истории! — горячился Адальберт. — А мы-то думали, что суд будет сорван. И что же получилось? Позорят лучших людей Германии, а немцы ничего не делают, чтобы помешать этому. Ты молчишь? Ты не согласен со мной?
Какое-то время Браузеветтер внимательно смотрел на друга, потом сказал:
— Нет, Адальберт, я с тобой согласен. — В его словах был какой-то подтекст, которого Адальберт не понимал. Бессильное сожаление? Или какое-то потаенное знание, что-то такое, чем он не мог поделиться? — Ты человек крайностей, — сказал Браузеветтер.
— Когда дело касается врагов рейха, я беспощаден.
— И не только врагов, — сказал Браузеветтер, — ты беспощаден даже по отношению к собственной жене.
— Она предала меня!
— Где доказательства? Почти год она не имела от тебя никаких вестей. Благодари бога, что она не бросила твой дом, сберегла его, не переехала в одну из трущоб, а лишь отдала верхний этаж этому американцу.
— Он стал ее любовником!
— Послушай, Ади, — тихо сказал Браузеветтер, — месяц назад я встретил Ангелику на улице. Мы говорили о тебе. Она сказала, что уйдет из жизни, если узнает, что тебя нет в живых.
— Женское лицемерие! — вскричал Адальберт. — Не смей мне больше говорить о ней!
«Нибелунги»
Старый учитель, казалось, по голову был погружен в гимназические заботы. Все чаще к нему приходили какие-то люди, в основном мужчины, а иногда и подростки. Браузеветтер обычно приглашал их в кабинет, на ночь становившийся спальней Адальберта, и вполголоса беседовал с ними несколько минут за закрытой дверью. Адальберту он объяснил, что это родители учеников, которых он, щадя самолюбие, вызывает не в гимназию, а сюда, домой, чтобы сделать те или иные замечания относительно успеваемости и поведения их детей. А когда приходили подростки лет четырнадцати — шестнадцати, Браузеветтер говорил, что принимает у них экзамены. При той неразберихе, которая царила в городе, это было неудивительно, тем более что Браузеветтер жаловался: в гимназии не топят, от холода сводит руки и у преподавателей и у учеников. Впрочем, Адальберта все это мало интересовало в отличие от грозившего стать бесконечным процесса во Дворце юстиции.
Судя по информации в «Нюрнбергер Нахрихтен», уже были опрошены все подсудимые, давно отгремела речь Главного обвинителя от СССР Руденко — его Адальберт видел еще в Берлине в первых выпусках кинохроники, и обвинителей от других стран-союзников, уже все обвиняемые были подвергнуты допросу — обычному и перекрестному, один за другим выступали свидетели обвинения, и от их показаний трещала по швам система оправданий, выработанная обвиняемыми.
А суд все продолжался. Он представлялся Адальберту гигантским молотом, непрестанно бившим по наковальне, где корчились в конвульсиях обвиняемые, или непрерывно действующим вулканом, каждый день извергавшим лаву — все новые и новые обвинения против вчерашних властителей Германии и самой души немецкого народа…
Вечера Адальберт проводил обычно в разговорах с Браузеветтером. Он убеждал своего старого друга, что надежды, будто ненависть к коммунизму перевесит чувство мести у англичан и американцев, по меньшей мере наивны, что если сама Германия, в частности весь Нюрнберг, не найдет способ сказать свое веское слово в защиту узников, то их жизнь можно считать конченной. Старик обычно отмалчивался.
Однако наступил день, который зажег в сердце Адальберта новую надежду. В этот день Браузеветтер, проводив очередного посетителя, уселся на диван и знаком указал ему место рядом.
— Настало время действовать, бригадефюрер, — произнес он очень серьезно. Неожиданное обращение сначала разозлило Адальберта, он увидел в нем плохо скрытую насмешку, но Браузеветтер повторил: — Настало время действовать.
— Что ты имеешь в виду? Какие действия? Разве у нас есть организация, способная если не взорвать весь этот проклятый процесс, то хотя бы показать всем, что немецкий народ питает к нему ненависть?
— Есть! — коротко ответил Браузеветтер.
— И ты… ты, — захлебываясь от обиды, вскинул Адальберт обезображенное лицо, — держал это в тайне? От меня?!
— Не кипятись, Ади, дело слишком серьезное. Ты появился внезапно. Я не мог сказать тебе об организации, пока не разрешит Мастер.
— Кто?! Какой мастер? Как его зовут?
— Мы все зовем его просто Мастер. И принять кого-либо в члены организации без разрешения Мастера, я повторяю, не могу.
— Так что же, он мне не доверяет? Мне, бригадефюреру СС? — Возмущению Адальберта не было предела.
— О недоверии речи нет, — успокаивающе кладя руку на колено Адальберта, объяснил Браузеветтер. — Просто Мастер отсутствовал, связи с ним не было, а теперь он вернулся в Нюрнберг.
— Сколько же вас? Нас? — все еще не веря, поспешно спросил Адальберт. — И какие задачи поставлены перед нами?
— Сейчас все узнаешь, не торопись, — спокойно ответил Браузеветтер. — Пока наша организация — она называется «Нибелунги» — невелика, в ней чуть больше ста человек.
— А какова структура? И главное: задачи?
— Слушай. Организация разделена на низовые ячейки, в каждой пять отчаянных голов, готовых к решительным действиям. Они знают друг друга по фамилиям и порядковым номерам: первый, второй, третий, четвертый, пятый. А нижний эшелон — это двадцать четыре обособленные ячейки, обозначаемые, в свою очередь, буквами алфавита.
— Но такая раздробленность…
— Погоди. Дослушай до конца. Так вот, из конспиративных соображений рядовые члены ячейки не вступают в контакт с рядовыми членами другой ячейки. Но староста находится в тесном контакте со старостами других ячеек. Ты меня слушаешь?
— Ну, говори, говори! — нетерпеливо воскликнул Адальберт.
— Таким образом образуется группа, состоящая только из старост. Из этой группы выделяется человек для связи с Мастером.
— Так кто же он?
— Я тебе уже сказал: Мастер. Никто, кроме членов высшего эшелона организации, не знает ни имени его, ни фамилии… Теперь о задачах, — после короткой паузы продолжил Браузеветтер. — Первая: акции, направленные против суда, включая физическое устранение членов так называемого Трибунала. Вторая: освобождение подсудимых. Задача третья: обеспечение безопасности скрывающихся от оккупантов людей, таких, как ты, например, изготовление необходимых документов; и наконец, задача четвертая: организация планомерной переброски таких людей в Южную Америку, скажем, в Аргентину. А уже их задача, рассчитанная на длительный период, — руководство национал-социалистским движением в Германии.
Браузеветтер умолк.
— Какая же из акций намечена первой? — после долгого молчания спросил Адальберт.
— То, о чем ты мечтаешь: нападение на здание суда и захват арестованных. Акция готовится тщательно, сто хорошо вооруженных людей могут в принципе устранить охрану, проникнуть в тюрьму и захватить арестованных.
— А что делать с ними дальше? — нетерпеливо спросил Адальберт.
— Это серьезный вопрос, он тоже продуман досконально. Тебе известен завод «МАН» на южной окраине Нюрнберга?
— Ты имеешь в виду «Машиненфабрик Аугсбург — Нюрнберг»?
— Вот именно. К концу войны он был разрушен почти на три четверти, его прицельно бомбили, потому что там были сконструированы и пущены в производство наши «пантеры». Но за месяцы, прошедшие после войны, завод сумел настолько восстановить производство, что в начале этого года стал выпускать грузовые машины. Понятно?
— Не вижу связи…
— Сейчас увидишь. До сих пор никто толком не знает, кому эти машины продают. Известны случаи, когда грузовики менялись у крестьян на овощи и прочее продовольствие. Мы сумели выменять десять таких машин, и сейчас они стоят в надежных местах. Как только захватим арестованных, грузовики рванутся к зданию тюрьмы и, пока американцы опомнятся, увезут всех далеко за город. Место уже подобрано.
— Это звучит как сказка. И когда планируется налет?
— В ближайшие дни. Я получил разрешение сказать тебе о том, что ты примешь участие в операции. План Дворца юстиции и расположение тюремных камер мы получим послезавтра.
…Однако на другой день Браузеветтер сообщил Адальберту, что операция откладывается.
Снова Ангелика
Адальберт мысленно разделял человечество на две неравные части — первой, меньшей, выпал жребий господствовать над второй. Он был идеальным выкормышем национал-социализма; воспитанный в духе презрения ко многим так называемым общечеловеческим ценностям, он мог пытать и убивать людей, видя свое оправдание в преданности великому идеалу, служение ему, считал он, оправдывает все, что приближает мировое господство Германии.
И тем не менее он обладал по крайней мере одним человеческим чувством: Адальберт любил свою жену Ангелику. Может быть, это чувство было единственным, которое приобщало его к человеческому роду. Он думал о ней всегда: когда выполнял свою кровавую работу нациста и гестаповца, когда метался, как крыса, в развалинах Берлина, думал по дороге в Нюрнберг, мечтая о встрече, думал и теперь, после того как поклялся себе вычеркнуть ее из памяти.
Узнав, что в Нюрнберге существует нацистская организация, Адальберт обрел новую цель существования. Он жаждал скорее оказаться в деле, готов был снова пытать, убивать, мстить той большей части человечества, которая посмела отказаться от своего удела быть рабами.
Но после того как первая задуманная «Нибелунгами» акция была отложена, Адальберт снова остался наедине со своими мыслями об Ангелике.
В них была изматывающая, непереносимая, сладкая тоска: он убедил себя, что потерял жену, что она предала его, ушла в чужой, враждебный ему, Адальберту, мир, он был готов убить Браузеветтера, когда тот пытался обелить, защитить Ангелику, но даже и в эти минуты, когда ненависть и ярость захлестывали его, он страстно хотел, чтобы Браузеветтер оказался прав.
Уже не однажды Адальберт, нарушая клятву, лишь сумерки опускались на Нюрнберг, отправлялся туда, к своему родному дому, и, затаясь в развалинах, неотрывно смотрел на закрытую дверь. Он видел, как вспыхивали окна в доме, как гаснул свет… Иногда досиживал в развалинах до утра, раза два ему удалось дождаться, когда дверь открывалась и из дома выходил американец, свежий, подтянутый, моложавый… Кровь приливала к шрамам Адальберта. Убить его! Выследить и убить. Однако попытка разделаться с американцем грозила бы смертью самому Адальберту.
И все-таки — выследить, подкараулить и убить. Другой мысли у Хессенштайна не было.
Однажды он оказался на небольшой площади, где стояли вбитые в землю матерчатые зонты, похожие на пляжные, а под ними на колесных лотках был разложен небогатый товар, и вот тут, в группе склонившихся над лотками покупателей, Адальберт увидел… ее, Ангелику.
Нет, не сразу; он понял, что это Ангелика, когда она выпрямилась, — стройная блондинка в черном меховом жакете, стянутом в талии, с прямыми по довоенной моде плечами, в узкой юбке и туфлях на высоком каблуке. На запястье ее руки, опущенной в боковой карман жакета, покачивалась черная сумочка.
Да, это была она, она!
«Ангелика!» Он закусил губу и затаил дыхание. Сколько времени так стоял Адальберт? Пока она не перешла к соседним лоткам, а потом не скрылась среди множества покупателей…
Он медленно возвращался к дому Браузеветтера. Думал о том, как хорошо выглядела Ангелика, как изящно была одета, и это приводило его в отчаяние. «Содержанка!» — в ярости повторял он и тут же вступал в спор с самим собой: ведь у Ангелики всегда был отличный вкус; кроме того, Адальберт оставил ей достаточно денег в иностранной валюте, различные ценности, — этого вполне должно было хватить на год. Мучаясь, переходя от надежды к отчаянию, снова впадая в ярость, Адальберт вошел в дом.
Оказалось, что старый учитель был не один. Браузеветтер представил Адальберту гостя — высокого, хорошо одетого человека средних лет.
— Это наш друг и товарищ по борьбе. Придется смириться с тем, что я не называю его имени, — ты помнишь наши правила. Просто господин Четвертый, вот и все.
— Рад с вами познакомиться. — Четвертый уважительно пожал Хессенштайну руку, отводя взгляд от его безобразного шрама.
— Наш друг, — объяснил Браузеветтер, — только что вернулся из Гамбурга, он ездил туда для установления связей. Он рассказывает об отношении тамошних истинных немцев к процессу. Итак, мой друг, — обратился Браузеветтер к Четвертому, — ты говорил, что в Гамбурге есть люди, которые проявляют к этому суду полное безразличие…
— Да. Я бы назвал это апатией. — У Четвертого был низкий, приглушенный голос.
— Но может ли такое быть?! — удивился Адальберт. — Ведь там, в суде, решается судьба лучших людей Германии! Им грозит смерть!
— Далеко не все так драматизируют ситуацию, — покачал головой Четвертый. — Большинство считает процесс помпезно поставленным пропагандистским спектаклем. Те, кто никогда не состоял в нашей партии, настроены против подсудимых, считают их виновными в реальных преступлениях. Однако многие категорически возражают против обобщений и коллективных обвинений: Штрейхера или Розенберга осуждают, но отказываются понять, почему на скамье подсудимых оказался, например, такой крупный финансист, как Шахт… Большинство возмущается тем, что на процессе идут бесконечные разговоры о концлагерях, но не говорится ни слова об английских и американских воздушных бомбардировщиках — тут полное единодушие.
— Как это верно! — прерывая рассказчика, воскликнул Адальберт. — Я, естественно, могу судить о том, что происходит во Дворце юстиции, лишь по газетам и кинохронике, но мне понятно негодование людей. Ведь эти бомбежки не только превратили многие наши города в руины, подобные нынешнему Берлину и нашему Нюрнбергу, они уничтожили несметное количество памятников культуры. Десятки тысяч немцев, — все более и более накаляясь, продолжал Адальберт, — пали жертвами этих бомбежек. Кстати, почему ничего не говорится о Восточной Германии? О немцах, арестованных оккупантами? Я достаточно долго скитался в берлинских руинах среди бездомных людей и знаю настроение народа!
Они проговорили до поздней ночи, мечтая превратить «Нибелунгов» в мощную организацию, способную довести возмущение немцев судом до крайнего накала. Потом Четвертый ушел, вполголоса сообщив хозяину дома, что на одиннадцать у него назначено свидание с Уиллингом.
— Вот такие люди руководят нашими низовыми ячейками, — с удовлетворением произнес Браузеветтер, когда они с Адальбертом остались вдвоем.
— А кто такой Уиллинг? Фамилия звучит не по-немецки.
— Она и не должна звучать по-немецки. Майкл Уиллинг — американец. Он сержант и служит в охране тюрьмы. Уиллинг ненавидит коммунизм, большевистскую Россию и у себя на родине входит в организацию, близкую к ку-клукс-клану. Конечно, потребовались время и величайшая осторожность, чтобы наши люди вышли на контакт с Уиллингом. Но теперь связь у нас надежная. Ах, скорее бы все началось! Найдется дело и для тебя, Адальберт.
— Дитти, — понизив голос, произнес Адальберт. — Сегодняшний день для меня особый. Я видел Ангелику.
— Как? Где? Она тебя узнала? — обрадовался Браузеветтер.
— Я видел ее издали и не подошел…
— Послушай, ты смешон в роли Отелло! — резко, что было на него непохоже, сказал Браузеветтер. — Я помню, в каком ты был состоянии тогда, в первую ночь, убеждать тебя в чем-либо было бесполезно, но теперь скажу твердо: не верю, что между Ангеликой и тем офицером действительно что-то есть. Жена истинного арийца не предает своего мужа. И потому говорю тебе: не трусь. Ты прожил с Ангеликой не год и не два, ты должен пойти к ней и объясниться.
— А вдруг я застану в доме американца, что тогда? — спросил Адальберт несвойственным ему жалобным тоном. — Не забудь, что Ангелика носит мою фамилию, она Хессенштайн, а я теперь — Квангель. Как, в каком качестве я могу вернуться в свой дом? За кого выдаст меня Ангелика, если американец спросит ее, кто я такой?
— Не вижу проблемы, — спокойно отвечал Браузеветтер. — Предположим, двоюродный брат. Просидел два года в фашистском лагере, прошел сквозь пытки — тебя стегали по лицу раскаленным прутом, потом война кончилась, началась возня с денацификацией и прочей ерундой, и только теперь ты получил возможность приехать в Нюрнберг к своей единственной оставшейся в живых родственнице — все остальные погибли под бомбами, на фронте или в лагерях. Чем не версия? Добрая душа Ангелика уступит тебе комнату на своем этаже. Все будет в порядке, — конечно, если документ, удостоверяющий, что ты жертва фашизма, не может быть легко разоблачен.
— Патер Вайнбехер заверил меня, что бумага зарегистрирована во всех необходимых инстанциях.
— Так что же ты медлишь? Ведь я вижу, тебя тянет к Ангелике, несмотря на все подозрения и страхи.
— В романах это называют любовью, — почти беззвучно признался Адальберт.
— Старые холостяки, подобные мне, — плохие эксперты в таких делах, но я верю твоей Ангелике, Адальберт.
Хессенштайн провел бессонную ночь. На следующее утро он вышел очень рано. Люди на улицах уже ворочали ломами камни, сбрасывали в тачки мусор, откатывали наиболее крупные обломки, загораживающие проход и проезд. Подойдя к своему дому, он занял «пост» не там, где обычно, а чуть ближе: так было удобнее наблюдать за парадной дверью. Чтобы не привлекать внимания, Адальберт сам взял брошенную кем-то лопату и стал бесцельно копать землю, стараясь не спускать глаз с двери.
На часах было десять утра, когда дверь отворилась, американский офицер сошел с крыльца, неторопливо надел перчатки, сделал несколько шагов, находясь в поле видимости Адальберта, и исчез за углом.
Если бы Адальберт умел молиться, то попросил бы сейчас помощи у неба, но он умел лишь приказывать, умел изобретать пытки, умел подчиняться, чего бы это ему ни стоило, когда получал задание от старших по чину и должности…
Сейчас он получил приказ — приказ этот исходил от того, что осталось в его существе человеческого; бросив лопату, он быстрыми шагами приблизился к дому и одним махом преодолел ступеньки. Взгляд его остановился на двух небольших, прикрытых стеклом табличках, прибитых к косяку двери. На первой печатными буквами значилось: «Арчибальд С. Гамильтон — 1 звонок», на второй: «Фрау А. Хессенштайн — 2 звонка». Первый текст был напечатан по-английски. Адальберт с силой нажал два раза на кнопку звонка. За дверью послышались шаги…
На пороге стояла Ангелика.
На ней был ночной халат, судя по всему, она только что встала с постели. С постели… Она спала в ней одна?..
— Ангелика… — с трудом, из-за спазма в горле, произнес Адальберт.
— Кто вы такой? — Она взглянула в лицо Адальберту, и в голосе ее прозвучал страх.
— Ангелика, милая, это я, я! — Еще мгновение, и он бы заплакал, Адальберт не помнил, когда в прошлом он испытывал такое же ощущение: спазм в горле, резь в глазах… Он протянул к Ангелике руки, заранее уверенный, что сейчас она отшатнется от него. Но она стояла как вкопанная, глаза ее были широко раскрыты, и в них можно было прочесть одновременно ужас и недоверие. — Не пугайся, — не проговорил, скорее прошептал Адальберт, — это я, Ади! Я вернулся!
Ангелика обессиленно привалилась к двери, — не сделай она этого, очевидно, упала бы. Потом, все еще не отводя от лица Адальберта широко раскрытых глаз, проговорила тихо: «Ади…», будто ее верила сама себе.
— Ади! — воскликнула она наконец, словно обращалась не к Адальберту, а к кому-то чужому, страшному, кто стоял между ними. — Ади! — повторила она, и на глазах ее показались слезы. — Что они с тобой сделали?!
— Это я сам с собой сделал, — торопливо стал объяснять Адальберт, — сделал для того, чтобы остаться в живых, чтобы иметь возможность вернуться, увидеть тебя. Ты пустишь меня в дом? — Адальберт опять протянул к ней руки. Теперь Ангелика смотрела уже не на его лицо, а на дрожащие пальцы.
— Боже мой, Ади, — произнесла она наконец, — как ты можешь спрашивать?! — Ангелика покачнулась и упала в объятия Адальберта. Она ничего не говорила, только прижималась к нему, словно умоляя защитить и боясь, что кто-то оторвет ее от него. Потом обеими руками обхватила голову Адальберта и стала покрывать поцелуями безобразные шрамы на его лице.
— Гели, Гели, не надо! — теперь уже и в самом деле сквозь слезы проговорил Адальберт. — Ведь тебе противно, я урод!
Ангелика не слышала, продолжала целовать его, прижимаясь губами к шрамам, наконец она высвободилась из его рук, отступила и, не спуская с Адальберта глаз, воскликнула:
— Какие шрамы, Ади? Я их не вижу. Я вижу и знаю только одно: ты жив, жив, вернулся, я хоронила тебя уже десятки раз, а ты жив и стоишь здесь, у себя дома, рядом со мной, — это главное, и ни о чем больше я не хочу думать! Пойдем…
Она схватила его за руку и повела, потянула нетерпеливо в дом. О, как давно он тут не был! Ангелика провела его через большую прихожую, потом через гостиную — как тут все знакомо было Адальберту! Круглый полированный стол, стулья с высокими спинками вокруг него, застекленный сервант, наполненный хрусталем и фарфоровыми статуэтками… Неужели время остановилось с того дня, когда он покинул свой дом, чтобы ехать в Берлин, неужели за этим столом когда-то сидели Кальтенбруннер, Хильке, Мюллер с женами, а однажды и сам Гиммлер! Все это промелькнуло в сознании Адальберта с той же стремительностью, с какой Ангелика провела его по комнатам: из прихожей — в столовую, в кабинет — тут тоже все осталось без изменений, успел отметить Адальберт, — и вот они в спальне. Широкая кровать расстелена лишь наполовину, подушка смята…
— Сядь, сядь тут! — не попросила, а потребовала Ангелика, указывая Адальберту на кровать, и сама опустилась на помятое откинутое одеяло.
Адальберт сел, все еще сжимая в своей ладони ее руку.
— Как ты прошел по городу, как не побоялся, что тебя схватят, арестуют?! — спросила Ангелика уже другим, тревожным тоном, будто только сейчас вспомнила, сколько опасностей подстерегает Адальберта там, за стенами их дома.
— Ангелика, милая, не бойся! — успокаивающе ответил Адальберт. — С документами у меня все в порядке, зовут меня теперь не Хессенштайн, а Квангель.
— Слава богу! — воскликнула Ангелика. — Я спросила потому, что там, наверху, живет американский офицер, сейчас его нет дома, но он может вернуться в любую минуту…
Все, что отравляло душу Адальберта, что, казалось, отступило, бесследно исчезло после того, как они встретились, теперь прихлынуло с новой силой. Он не мог заставить себя говорить об этом американце, только один вопрос смог выдавить в эту минуту:
— Ну… как ты жила здесь без меня?
— Ади, дорогой, страшно вспоминать об этом, — она прикрыла рукой глаза. — Эти ужасные бомбежки, сознание, что со дня на день в город вступит враг… потом весть о падении Берлина, я ведь знала, что ты там… И — ни единой весточки, ни одной… — Она судорожно вздохнула. — После того как тебя вызвали, мы здесь еще надеялись на чудо, читали речи Геббельса, верили в «тайное оружие», что в рядах противника возникнет мор или что-нибудь в этом роде. То, что ты был там, в Берлине, вселяло какую-то мистическую уверенность, я старалась не распускаться, молилась, чтобы бог спас тебя и Германию…
— Бог услышал лишь часть твоей молитвы, — с горечью прервал ее Адальберт. — Я здесь. А Германия…
— Пути господни неисповедимы. Может быть, то, что война кончилась, и есть спасение? Страшное, жестокое, но спасение.
Адальберт сжался, будто его ударили. Радость встречи, сознание, что он наконец дома, — все отступило, точно отброшенное в сторону словами Ангелики.
— Как ты могла произнести такое? — нахмурившись, жестко спросил он. Это спрашивал уже не человек, который только что вновь обрел любимую жену, не бродяга, вернувшийся из скитаний к семейному очагу, — это был голос гестаповца, генерала СС. Лицо его показалось Ангелике таким страшным, что она невольно отшатнулась. — Я спрашиваю: как ты могла произнести такие слова? Нашей, твоей и моей Германии больше не существует. Другой Германии я знать не хочу. Два желания остались у меня: отомстить тем, кто растоптал идеалы тысячелетнего рейха, кто топчет сейчас нашу священную землю, и второе: быть с тобой, только с тобой… Ты — после дела, которому я служил и буду служить, — самое дорогое, что у меня есть. Но… неволить тебя я не могу и не буду. Если тебе не по пути с уродом, который некогда был твоим мужем, если тебе уютнее оставаться в собственном доме под опекой американского «друга», так и скажи — честно и прямо.
— Ади, Ади! — Ангелика схватила Адальберта за руки, точно старалась его удержать. — Как ты можешь?.. Никто, слышишь, никто, кроме тебя, мне не нужен! Как ты мог подумать, Адальберт? — В глазах ее стояли слезы. — Ади, неужели ты думаешь, что это я пригласила его? Подумай сам, что я могла сделать? Они вошли в город, их комендатура объявила: все, кто имеет лишние комнаты, должны заявить об этом американским властям, в городе десятки тысяч людей остались без крова. Я представила себе, что дом заселят чужими людьми или вообще отберут, а меня заставят перебраться в какой-нибудь подвал, мне стало страшно, и я… затаилась. В объявлении было сказано, что в первую очередь будут отбирать жилье у семей нацистов. Я поняла, что американцы быстро проведают, кем ты был при Гитлере, и решила: будь что будет! Каждый день, каждый час ждала, что они придут… — Она умолкла, опустила голову, заново переживая мучительные дни.
— Ну, а потом? — спросил Адальберт, не глядя на Ангелику. Она вздрогнула и, не поднимая глаз, продолжала:
— Потом явился Арчибальд Гамильтон, сказал, что он работает в американской военной газете «Старз энд страйпс»…
— На каком языке он это тебе сказал? — поинтересовался Адальберт.
— Он говорит по-немецки почти как мы с тобой. Спросил, где муж и есть ли от него известия, я ответила, что тебя призвали в самом конце войны, вот уже несколько месяцев от тебя нет вестей, и я думаю, что ты… убит. — Ангелика закусила губу.
— А он?
— Он сказал, что американская комендатура… словом, вытащил бумажку, там было напечатано, что верхний этаж передается в распоряжение этому Гамильтону…
— Как он себя ведет?
— Очень вежливо. У него есть номер в «Гранд-Отеле», но там шумно, а ему нужно место для творческой работы. Иногда он не выходит оттуда целый день, иногда принимает у себя кого-нибудь, чаще всего американцев, но, бывает, и немцев… — Она умолкла.
— Ангелика, скажи мне правду, — глухо произнес Адальберт, впиваясь взглядом в ее лицо. — Между вами… есть что-нибудь?
— Нет! — воскликнула Ангелика. — Ничего и никогда! Ведь у меня есть муж!
— Скажи мне… куда вы направлялись несколько дней назад, поздно вечером?.. Он держал тебя под руку. Скажи мне, и я пойму. Мне будет горько, но я пойму… Умоляю, скажи правду!
— Да, это было, он пригласил меня недавно в кафе, — тихо произнесла Ангелика, — и я согласилась. Надо было поддерживать с ним нормальные отношения, ведь этот Гамильтон — очень удобный и… выгодный жилец. Он платит деньги за квартиру в американских долларах… Кроме того, я как бы нахожусь под его защитой, он подполковник, его не могут так просто вышвырнуть и отдать наш дом другим. Ты говоришь, мы шли под руку?.. Ну и что? Ведь было совсем темно, а кругом так много камней, ям…
Адальберт молчал долго. Лицо его выражало страдание. Потом он положил руки на плечи Ангелике.
— Хорошо. Я верю тебе. В конце концов я обязан считаться с ситуацией, в которой ты оказалась.
— Ты мой муж, был и остаешься им. Никуда тебя больше не отпущу!
— Это вряд ли возможно, Гели. Мне придется остаться у Браузеветтера. Ты ведь знаешь его, такой маленький, похож на гнома, он бывал у нас в те далекие счастливые времена.
— Да, я его знаю. Он из тех, кто всегда был предан Германии. Но почему тебе нельзя вернуться? Ты сам сказал, что твои документы в порядке. Кто может запретить мужу жить со своей женой?
— Гели, милая, муж и жена должны носить одну фамилию, а я теперь по документам Квангель. Гожусь разве лишь на роль кузена…
— Но ты… но ты мог бы… — начала Гели и вдруг умолкла, приложила палец к губам. — Это он, он, — шепотом произнесла она, — у него свой ключ…
Теперь Адальберт явственно услышал приближающиеся шаги. Бежать или хотя бы попытаться спрятаться в одной из комнат было уже поздно: он все равно столкнулся бы с этим Гамильтоном в столовой. И в этот момент решительная маленькая Ангелика схватила Адальберта за руку и потянула за собой… В столовую они вошли одновременно с Гамильтоном. Секунды хватило Адальберту, чтобы разглядеть человека, которого он уже много дней ненавидел издалека: высокий рост, отлично сшитая форма, светлые волосы расчесаны на косой пробор, лет сорока — сорока пяти.
— Поистине сегодня утро приятных неожиданностей! — преувеличенно бодро сказала Ангелика. — Представьте, из Берлина вернулся мой двоюродный брат, а я уже считала его погибшим! Знакомьтесь: мистер Арчибальд Гамильтон, герр Квангель.
Арчибальд Гамильтон
— То, что вы видите на лице моего брата, — в голосе хозяйки слышалось неподдельное страдание, — это память о нацистском лагере.
— Какое изуверство! — сочувственно произнес Гамильтон. — И долго вы пробыли в лагере?
— Два года.
— Почему сразу не вернулись в Нюрнберг?
— О, мистер Гамильтон, это было не так легко! Проходил проверку в русской военной администрации, потом в немецкой полиции. Словом, получил свидетельство, что являюсь жертвой фашизма, и вот приехал… к сестре. Как будто мое лицо само по себе не является свидетельством.
— Вы сами из Нюрнберга, герр Квангель? Семья у вас есть?
— Была. Все погибли во время бомбежки. Дом сровняли с землей.
— Гм-м, — задумчиво произнес Гамильтон, — при такой ситуации мне следует освободить этаж, который я оккупировал.
— Ни в коем случае! — настойчиво произнес Адальберт. — Пока вы здесь, квартира Ангелики защищена. Кто знает, кого вселят сюда, если вы ее покинете.
— Если удастся преодолеть формальности и полицейские трудности, — осторожно сказала Ангелика, — герр Квангель мог бы занять одну из нижних комнат.
— Но это стеснит вас… — начал было Гамильтон, но Ангелика прервала его:
— Что вы, мистер Гамильтон! Две комнаты для одинокой женщины более чем достаточно.
— У меня есть кое-какие связи с полицейским управлением, и я мог бы попытаться…
— Боже мой! Неужели мы можем надеяться?..
— Американцы не звери, — сказал Гамильтон. — Помочь мученику лагерей — мой долг.
— О, мистер Гамильтон, благодарю вас! — растроганно произнесла Ангелика. — Сейчас я угощу вас кофе, вчера удалось достать мокко на черном рынке! Думаю, что не откажетесь посидеть с нами. — И она, придерживая полы халата, выбежала из столовой.
Некоторое время оба молчали. Потом Гамильтон спросил участливо:
— За что же вы угодили в лагерь, герр Квангель?
— Вопреки приказу Гитлера расстреливать пленных комиссаров и коммунистов я дал возможность трем из них бежать.
Гамильтон взглядом выразил удивление и восхищение его мужеством.
«Только не преувеличивать!» — предостерег себя Адальберт. Все очень просто, и нет нужды в детально разработанной легенде. Патер заверил его, что никакая проверка не опровергнет того, что значилось в документе. Шрамы «жертвы фашизма» были в буквальном смысле налицо, а документы, как сказал патер, зарегистрированы всеми организациями, которые ведали денацификацией.
Конечно, легенду на всякий случай Адальберт придумал и сейчас решил ею воспользоваться. Итак, он, военнослужащий вермахта, помог бежать трем русским коммунистам, был судим, за недостаточностью улик не расстрелян, а заключен в Аушвитц, где ему довелось пройти все круги ада, — дальнейшее уже совпадало с его собственным опытом, о пытках и издевательствах Адальберт мог рассказать без запинки.
Но вместо расспросов Гамильтон произнес:
— Вы долго заставили себя ждать, герр Хессенштайн.
— Что?.. Что вы этим хотите сказать? — растерялся Адальберт.
— Только то, что я занял верхний этаж в надежде, что вы рано или поздно вернетесь сюда, в свой дом.
— Я не понимаю…
— Вы все понимаете, герр Адальберт Хессенштайн, бригадефюрер СС, — глядя прямо ему в глаза, жестко сказал Гамильтон.
Чутьем гестаповца Адальберт сразу почувствовал, что этот Гамильтон не простой газетчик и служба в «Старз энд страйпс» скорее всего для него такая же «крыша», легенда, как для него, Адальберта, история с «жертвой фашизма». Итак, сомнений не было: американец устроил ему ловушку в собственном доме.
В столовой появилась сияющая Ангелика, она успела переодеться в легкое домашнее платье, на подносе дымились три кофейные чашечки.
— Надеюсь, вы не скучали? — светским тоном спросила она.
— Нет, мы отлично развлекли друг друга, — без тени иронии ответил Гамильтон. — Разумеется, если можно считать развлечением рассказ о тех муках, через которые прошел герр Квангель.
Ангелика почувствовала напряженность, царившую за столом, но отнесла ее на счет сложившейся ситуации: оба они, конечно же, испытывали неудобство, Адальберт — потому что ему придется жить в собственном доме на положении квартиранта, Гамильтон — потому что занимает половину дома и является причиной этого неудобства.
Гамильтон первым допил свой кофе и встал.
— Прекрасный кофе. Спасибо, фрау Хессенштайн, к сожалению, надо идти.
Адальберт поднялся следом.
— Если разрешите, я провожу…
Возле лестницы, уже поставив ногу на ступеньку, Гамильтон повернулся к Адальберту.
— Влево от дома есть маленький ресторан, я думаю, что в наших общих интересах встретиться там завтра, ну, скажем… в четыре часа. — И преувеличенно громко закончил: — До свидания, герр Квангель. Еще раз — со счастливым возвращением.
Когда Адальберт вернулся, Ангелика, склонившись, протирала тряпкой полированную поверхность стола.
— Ангелика, слушай, — тихо сказал Адальберт, опираясь на спинку стула, — он все знает.
— Все знает?! — недоуменно переспросила она. — Но что именно?
— Мое настоящее имя. Мы в мышеловке, Ангелика.
Она бессильно опустилась на стул.
— Но как это может быть? — спросила Ангелика со страхом и недоверием. — Он журналист, не имеет никакого отношения к твоей работе, никогда не был в Берлине…
— Он не тот, за кого себя выдает. Повторяю, для нас он страшен.
— И что же делать теперь? — с отчаянием спросила Ангелика. — Неужели опять начнутся твои скитания?
— Нет, — Адальберт покачал головой, — этого я больше не выдержу. Я буду жить здесь, с тобой. Сейчас пойду к Браузеветтеру, возьму свой рюкзак, и пусть будет что будет.
…У Браузеветтера Адальберт застал четырех незнакомцев.
Хозяин представил Адальберта, довольно напыщенно сказав при этом, что если национал-социализму в Германии суждено возродиться, то усилиями именно таких людей, как Хессенштайн. Они пожали друг другу руки и снова принялись обсуждать план операции по захвату заключенных. Судя по тому, что они говорили, план был близок к осуществлению — осталось раздобыть еще три грузовика и оружие…
Адальберт задал несколько отрезвляющих вопросов: известно ли «Нибелунгам» общее число солдат, охраняющих Дворец юстиции, и чем они вооружены; какое время для налета они считают наиболее благоприятным и почему. Ответы разочаровали Адальберта. Оказалось, что из ста членов организации в Нюрнберге сейчас находятся не более шестидесяти… Только одно обнадеживало: американец Майкл Уиллинг передал «Нибелунгам» план охраны Дворца, его входов и выходов, а также расположения камер.
На том беседа завершилась, и члены организации распрощались с Браузеветтером и Адальбертом, назначив день следующей встречи.
— Мне кажется, — поделился своими сомнениями Адальберт, — что в плане много авантюрного. Не ясно, как в действительности обстоит дело с грузовиками, куда они повезут обвиняемых, до сих пор неизвестно, сколько солдат охраняют Дворец юстиции…
— Ты не хуже меня знаешь, что подобные дела не могут идти как по маслу, — несколько обиженно заметил Браузеветтер.
— Будущее покажет, — решил не обострять разногласий Адальберт. Он рассказал другу об Ангелике и о том, что решил вернуться в свой дом. Разговор с американцем, не выходивший из головы, Адальберт, сам не понимая почему, решил утаить.
Браузеветтер был искренне рад, что его друг вновь обрел жену и дом. Они тепло попрощались, предварительно условившись, по каким дням Адальберт будет приходить к Браузеветтеру для встречи с членами «Нибелунгов».
Он направился к себе, помахивая рюкзаком, одолеваемый тревогой, почти паникой. Кто же все-таки выдал его этому американцу? Патер Вайнбехер? Исключено, он так много сделал для Адальберта в Берлине. Врачи? Но им грозило бы длительное тюремное наказание, если бы они обмолвились кому-нибудь хоть словом о произведенной ими незаконной операции. Да и какие связи могли быть у этих людей с сотрудником американской военной газеты? Жена Крингеля или ее отец, в квартире которых он нашел приют и понимание? Нет, это тоже невероятно. Завтра предстоит встреча с этим Гамильтоном. Возможно, он сотрудник американской разведки, но от этого мало что проясняется…
Мысли Адальберта перекинулись на «Нибелунгов». Хотелось верить, что это серьезная, способная к решительному действию организация. Но что-то — главным образом ход подготовки к операции — подсказывало Адальберту, что тут есть значительный элемент самонадеянности и легковесности. Он понимал, что провал операции вызовет у американских властей поток репрессий, который может утопить не только «Нибелунгов», но и всех оставшихся в Нюрнберге национал-социалистов.
Нет, не такие люди должны стоять во главе организации. «А какие же?» — мысленно спросил себя Адальберт. Ответ пришел мгновенно: такие, например, как он, кадровый сотрудник гестапо, генерал СС. У него бы хватило решимости, энергии, умения возглавить «Нибелунгов». А то, что этот Гамильтон, знающий о его прошлом, будет жить с ним в одном доме, лишь укрепит его, Хессенштайна, безопасность.
Эту ночь Адальберт впервые за долгие месяцы провел в постели со своей любимой женой. И опять давняя мечта, владевшая им с того дня, когда они стали мужем и женой, захватила его. Адальберт хотел сына. Он вырастил бы его так, как завещал воспитывать молодое поколение фюрер, — бесстрашным, жестоким, готовым на все ради торжества национал-социалистской идеи… Ведь именно ему, сыну Адальберта Хессенштайна, в числе других молодых людей надлежит в недалеком будущем возродить Германию из праха и пепла, пролить потоки крови, уничтожая тех, кто стоит на пути четвертого рейха.
Он понимал, что сегодня в разрушенной, голодной Германии, вопиющей об отмщении, не время мечтать о сыне, и все же эта ночь была для него долгожданным счастьем, счастьем было проснуться в собственной постели с мыслью, что тебя ждет завтрак, приготовленный Ангеликой…
Да, он заслужил этот день, заслужил, не пожертвовав ни одним из своих принципов, не отрешившись ни от чего, во что верил. Радость настолько переполняла его, что Адальберт едва не забыл о свидании с Гамильтоном, а когда вспомнил — опять подступила тревога…
Снова Гамильтон
Толстый кельнер в белой не очень чистой куртке, увидев растерянно озирающегося Адальберта, ткнул пальцем в свободное место за одним из столиков. В кафе было шумно, столы неряшливо заставлены пивными кружками.
— Видите ли, — Адальберт ближе подошел к кельнеру, — у меня здесь назначено свидание. Возможно, он запоздал, это американец…
— О-о! — воскликнул кельнер. — Я понимаю. Прошу, уважаемый господин. — Он быстро прошел за стойку, отворил внутреннюю дверь, в полумраке Адальберт увидел узкую лестницу. — Прошу наверх, уважаемый господин.
В небольшой комнате наверху стояли два стола. За одним сидел Гамильтон, второй был пуст. Адальберт не сразу узнал американца, он впервые видел его в гражданском костюме.
— Добрый день, господин Квангель. — Американец указал Адальберту на стул. — Надеюсь, не откажетесь от глотка виски? — Гамильтон взял бутылку за горлышко, двумя резкими движениями плеснул в стаканы. — Начнем с самого важного — выпьем! — И, приподняв стакан, он сделал глоток.
— Я, если позволите, с содовой. — Адальберт долил в стакан из второй бутылки. — Прозит! — Он тоже сделал глоток и поставил стакан на стол.
— Итак, — сказал Гамильтон, — за наше третье знакомство. Первое было заочным, вы тогда еще маялись в Берлине. Второе — в вашем доме вчера. Третье — сейчас. Как прикажете называть вас? Квангель? Хессенштайн?
— Квангель, — сухо ответил Адальберт.
— Хорошо, — сказал Гамильтон, — я питаю уважение к документам, особенно столь безукоризненным, как ваши. И все же…
Гамильтон собрался подлить ему виски, но Адальберт прикрыл ладонью свой стакан.
— Предпочитаю вести серьезные разговоры на свежую голову. — Губы его дернулись. — Особенно с таким серьезным человеком, как вы. Будем говорить прямо: вы ведь разведчик?
— О, не надо столь прямолинейно, герр Квангель, — подняв ладонь, предостерег Гамильтон. — Давайте обойдемся без детективного антуража. Разве это имеет для вас значение, кто я?
— А что же имеет?
— То, что мне известны некоторые факты. Ну, скажем, происхождение ваших шрамов. О зверствах нацистов много говорится на процессе, но, поверьте, история с раскаленным прутом, которым вас стегали по лицу, слишком фантастична. Шрамы ваши — результат специальной операции в клинике доктора Брауна, разве не так? Далее, — продолжал Гамильтон, — ваш документ — чистейшая липа, хотя, должен признать, не худшая из тех, что мне попадались на глаза. Наконец, вы такой же двоюродный брат фрау Ангелики, как я. Вы ее муж. Ваше возвращение в пенаты затянулось, но я, как видите, человек терпеливый.
Выхода из ловушки Адальберт не видел.
— Что вы от меня хотите? — Он понимал, что игра близка к завершению.
— Я предлагаю подумать, — мягко, с участием сказал Гамильтон, — разумно ли вам и фрау Ангелике в сложившихся обстоятельствах оставаться в Германии?
Хессенштайн ожидал чего угодно, только не этого.
— Вы предлагаете мне покинуть родину? — вскричал он.
— Не кипятитесь. Ваша родина сейчас — огнедышащий вулкан, его кратер — Дворец юстиции. Можно ли всерьез представить, что подсудимые выйдут оттуда живыми?
— Немецкий народ не допустит гибели своих вождей! — убежденно сказал Адальберт.
— А как их можно спасти? — с иронией в голосе спросил Гамильтон. — Вооруженным путем?
— Хотя бы и так! — вырвалось у Адальберта.
Гамильтон на минуту примолк, как бы обдумывая сказанное, потом продолжил:
— Это утопия. И к тому же будем откровенны: зачем Германии эти два десятка имен, скомпрометированных во всем мире?
— Они символизируют ее силу и независимость!
— Чисто митинговая тирада, — усмехнулся Гамильтон. — Четвертый рейх?
— Я буду бороться за него, пока жив! И не только я.
— Господин Хессенштайн, — отодвигая стакан с виски, сказал Гамильтон, — давайте прекратим игру в сыщиков и разбойников и поговорим как политики. Да, сильная Германия нам нужна. Только без всяких ваших «дранг нах остен» и охоты за евреями, хотя я и сам их недолюбливаю, впрочем, как и негров. Есть высшая цель возрождения Германии — это борьба с коммунизмом. Вот что в первую очередь нужно вам и нам, американцам, так же, как англичанам и французам.
— Те, кто сейчас на скамье подсудимых, тоже считали эту цель одной из главных.
— Согласен. Но заодно они хотели раздавить Англию и Францию, а там дошла бы очередь и до нас, до Америки. Вот почему эти ваши геринги, кальтенбруннеры и прочие в будущие вожди Германии не годятся. Во главе Германии должны отныне стать другие люди. Пусть они исповедуют национал-социализм, но главной их целью должна быть борьба с большевизмом. Никаких соглашений с Россией! Впрочем, вы уже показали истинную цену таким соглашениям — вспомните сорок первый год! Никаких заигрываний с Восточной Европой — ей суждено стать марионеткой в руках России. Борьба с коммунизмом — внутри Германии и вне ее. Но для этого нужны новые люди. Надо создать где-нибудь в Южной Америке — скажем, в Бразилии, Парагвае или Аргентине — крепкий кулак из публично не скомпрометированных нацистов, которые возьмут на себя руководство возрождением антикоммунистической Германии. До тех пор, конечно, пока обстановка не позволит им снова вернуться в страну.
— Нет! — вскричал Адальберт. — Я вырос и жил на земле Германии, я предан идеям, которые вдохновили третий рейх! Мой долг — бороться за его восстановление здесь и только здесь!
— Послушайте, Хессенштайн, — хмурясь сказал Гамильтон. — Вы работали в гестапо, имеете генеральский чин, у вас внешность воина — откуда эта страсть к громким фразам? Насколько мне известно, разведчики предпочитают делать дело, а не витийствовать. — Лицо американца снова приняло участливо-доброжелательное выражение. — Хорошо, Адальберт. Я понимаю вас, хотя предупреждаю, что серьезные акции после того, как суд вынесет свое решение, будут весьма затруднены, а в Нюрнберге в особенности. Я понимаю, вам трудно бросить город, где находится ваш дом… Я просто высказал предложение. Альтернативы, по правде говоря, не вижу. Думайте, Квангель. А пока вы у себя дома, и я позабочусь, чтобы вас особенно не беспокоили. — Гамильтон встал, задержал в своей руке руку Адальберта. — Должен предупредить, — тихо сказал он, — если вы примете мое предложение, это потребует от вас некоторых расходов. За безопасность надо платить, мы оба деловые люди.
— У меня есть сбережения, они спрятаны в надежном месте.
— Боюсь, вы неправильно меня истолковали. Мне вовсе не нужны золотые и бриллиантовые побрякушки — подарите их фрау Ангелике. Но вместе с ними вы захоронили записные книжки — одну, две, сколько? Я не знаю, что в них, но мне безумно хочется их прочесть. Книжки — вот цена моего покровительства вам, если вы решите покинуть страну. — Гамильтон выпустил руку Адальберта из своей крепкой ладони. — Не назначаю свидания, поскольку мы больше, чем соседи. Живите спокойно, герр Квангель, и заботьтесь о фрау Ангелике — честное слово, она этого достойна.
Предатель?
Кадровый гестаповец, последние годы занимавшийся слежкой за людьми, шантажом, пытками, Хессенштайн хорошо знал разведывательные, а точнее, шпионские методы и не мог представить, каким образом засекреченная работа в лагерях могла стать известной американскому журналисту, явившемуся в Нюрнберг, чтобы освещать судебный процесс. Ясно, что это никакой не журналист, хотя он время от времени и подсовывает ему, Адальберту, статейки и заметки в газете американской армии. Что он, за дурака, что ли, его держит?
К тому разговору они больше не возвращались. Но Адальберт еще долго не мог успокоиться. Уехать из Германии?! Покинуть свою опозоренную землю, устраниться от борьбы, которую, несомненно, развернут оставшиеся в живых преданные национал-социализму люди? Никогда!
И тут он получил еще один удар, удар ножом в спину. Вот что произошло.
Через несколько дней после беседы с Гамильтоном Адальберт направился к зданию суда. Он часто по дороге к Браузеветтеру старался пройти мимо Дворца юстиции, взглянуть на него хотя бы издали. В душе все еще жила тайная надежда, что процесс будет прекращен, непримиримые разногласия между западным и коммунистическим миром вырвутся наружу и суд будет отсрочен под каким-нибудь формальным предлогом. Так вот, через несколько дней после разговора с Гамильтоном его снова потянуло к этой каменной ограде с двойными чугунными воротами, за которой возвышалось массивное четырехэтажное здание, соединенное переходом с другим, длинным и тоже четырехэтажным зданием — тюрьмой.
Но на этот раз он увидел нечто неожиданное. Усиленные отряды до зубов вооруженных американских солдат оцепили Дворец, Адальберту не удалось даже близко подойти к тому месту, откуда он обычно угрюмо взирал на здание, в застенках которого проходила медленная казнь лучших людей Германии. Больше того, поблизости от Дворца стояли нисколько танков и бронемашин…
Сердце тревожно забилось: неужели кто-нибудь из «Нибелунгов» проговорился о налете? Нет, убеждал он себя, это исключено! Люди, которых он видел у Браузеветтера, неспособны на предательство. Но если не они, кто же?! И вдруг страшная, отравляющая душу догадка пронзила Адальберта: ведь это он, он сам выдал Гамильтону готовящийся план! Адальберт попытался восстановить слово в слово все, о чем они говорили с этим проклятым янки… Вспомнил, как убежденно заявил: немецкий народ вырвет своих вождей из тюремных камер. «Как, — насмешливо спросил Гамильтон, — вооруженным путем?» — «Хотя бы и так!» Его оскорбила убежденность американца в бессилии немцев, фраза вырвалась в запальчивости, в эти мгновения мысли его были далеко от «Нибелунгов», да и сам Гамильтон, судя по всему, отнесся к этому восклицанию как к пустой, лишенной смысла браваде…
Неужели этот янки, как змея, исподволь сумел выпытать у него тайну «Нибелунгов» и поспешил донести американским властям, что готовится вооруженный налет на тюрьму? Неужели предателем оказался он сам, Адальберт? Если он провалил тщательно готовящуюся акцию, тогда он должен сам приговорить себя к смерти и сам привести приговор в исполнение!
А вдруг все это просто чистое совпадение? Может быть, Гамильтон вовсе не придал значения той его фразе и усиление охраны Дворца продиктовано совершенно иными, чисто внутренними причинами? Да, да, он должен взять себя в руки, надо выкинуть из головы эту нелепую мысль, просто американец напугал его своей осведомленностью, способностью читать в душе собеседника.
Адальберт ускорил шаг. Он шел не домой, не к Ангелике. Утаить от нее, что произошло, он был не в силах, рассказать — тем более. Он шел к Браузеветтеру. Если услышать смертный приговор — то от друга по общему делу.
Браузеветтеру достаточно было одного взгляда на Адальберта, чтобы понять: что-то случилось.
— Я только что был на Фюртштрассе, — задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы, сказал Адальберт, — охрана здания усилена вдвое или втрое.
— Ну… и что из этого следует?
— Дитти, ты действительно не понимаешь? Это значит, что кто-то предал организацию, кто-то из «Нибелунгов» сообщил американцам, что готовится налет.
— Исключено, — усмехнулся Браузеветтер. — Во-первых, потому, что все они преданные люди. А во-вторых… — Браузеветтер невесело покачал головой. — Послушай, Ади, будем смотреть правде в глаза…
— Да не тяни же, черт побери! Что случилось?
— В том-то и дело, что ничего, — глухо ответил Браузеветтер. — Налета не будет. Все оказалось пшиком, мифом. Грузовиков достать не удалось. Оружие? Два-три десятка пистолетов. Начинать налет при таком вооружении — заведомо обречь организацию на провал.
— Но… тогда почему же американцы усилили охрану?
— Я знаю об этом столько же, сколько и ты. А что касается «Нибелунгов»… Хочу тебя информировать: по общему мнению, организация оказалась слабой, недееспособной. Мне известно, что сейчас создается новая организация, примерно с теми же целями, но гораздо более мощная. Она будет называться «Паук», главная ее задача — помочь бывшим эсэсовским руководителям покинуть страну.
— Как покинуть? А как же Мастер? — недоуменно воскликнул Адальберт. — Ведь он, по твоим словам, стоял во главе «Нибелунгов»?
— Теперь он один из тех, кто встал во главе «Паука». И входят в него не только «Нибелунги», но и аналогичные объединения во всей Баварии.
— Если бы это зависело от меня, то во главе нюрнбергской организации я бы поставил тебя, — сказал Адальберт, глядя прямо в глаза Браузеветтеру.
— Меня? — с усмешкой переспросил тот. — О нет, Ади, я не руки, я голова, точнее — мозг. Ты знаешь, что я предан нашей партии с первых дней ее существования. И пусть у меня нет членского билета, но моя душа и, главное, мой мозг принадлежат партии. Моя задача — дать лозунг. Сейчас вся ненависть немцев направлена против американцев, англичан, французов и, конечно, русских. Но американцы — это особая статья, их впору пожалеть, потому что они не понимают собственной выгоды. Им нужна Германия как промышленный придаток главной империи Запада, но если бы они были дальновиднее, то поняли бы, что Германия им нужна как форпост антикоммунизма!
Хессенштайн подумал о Гамильтоне. Похоже, Дитрих недооценивает американцев: выгоду свою они понимают и упустить ее не хотят.
— О русских говорить не приходится, — продолжал Браузеветтер, — Розенберг и другие призывали ненавидеть русских, потому что они русские, то есть по расовому признаку, а ненавидеть их нужно потому, что они коммунисты. Коммунизм — главный враг Германии. И не только Германии! — Браузеветтер на какое-то время умолк, словно хотел подчеркнуть значимость сказанного. — Несомненно, фюрер и его партия всегда призывали к уничтожению коммунизма, но этот призыв иной раз растворялся во множестве других лозунгов: антиеврейских, милитаристских, мистических. Сейчас мы должны сказать: антикоммунизм — вот наша цель. Главная! Только на ненависти к коммунизму может возродиться из праха Германия — четвертый рейх! — Браузеветтер вытер платком лоб.
— У нас, в Баварии, коммунистов не так уж много, — сказал Адальберт, — хотя они, конечно, достаточно сильны в советской зоне.
— А кто мешает нам, истинным немцам, проникнуть и туда? Смотри не только вокруг себя, Ади. Смотри вперед и дальше!
— Ты веришь, что нам удастся взять реванш?
— При одном условии: реванш — это не только возвращение утраченных земель и все такое прочее, реванш означает сведение счетов с коммунизмом вообще. Будущее за нами, Адальберт!
Пока Хессенштайн шел домой, воодушевление, которое охватило его после беседы с Дитрихом, сошло на нет, опять подступили тревога и уныние. Итак, «Нибелунги» оказались несостоятельными, налета на Дворец юстиции не будет, по крайней мере в ближайшее время. Почему же усилили охрану здания? Неужели виной всему случайно оброненная им, Адальбертом, фраза?
Этот Гамильтон, несомненно, разведчик, и притом кадровый: очевидно, занимает довольно высокий пост. Под крышей армейской газеты мог скрываться резидент или хотя бы его представитель. Откуда он знает, что делал Адальберт в Берлине? От патера? Где он теперь, патер? Затерялся в сегодняшней неразберихе, уехал в свой Ватикан? Адальберта по-прежнему возмущало предложение Гамильтона. Как все просто на сторонний взгляд: бросить дом, родину, опустить руки. Подумать только: Южная Америка! Это невероятно! Расплатиться за это бесценными записными книжками, выдать тайну, обладание которой может в недалеком будущем принести огромную пользу рейху!
Да, трезво признавался себе Адальберт, ничтожные «Нибелунги» не помогут возрождению Германии, даже десятки, сотни «Нибелунгов». Движению явно не хватает вождя, не только «Нибелунги» — вся Германия нуждается сейчас в человеке с железной волей. А что если бы во главе организации действительно встал Браузеветтер? А почему, собственно, Браузеветтер? Почему не он сам, Адальберт Хессенштайн, человек, который шагал в ногу с фюрером не один год, хорошо знал его методы завоевания души народа, знал, как было создано гестапо — эта беспощадная удавка на горле каждого, кто не считался с волей фюрера, знал, как наладить связи с фабрикантами и заводчиками, чтобы выкачивать из них необходимые для нацистского государства деньги… Адальберту представилось, что он стоит на трибуне, вытянув вперед руку, и ревущая толпа приветствует его…
А мне предлагают бросить Германию, отречься от нее, с горькой злобой подумал Хессенштайн.
Кинохроника
— А я тебя жду, Ади, не могу дождаться, — сказала Ангелика, как только увидела Адальберта на пороге. — Сегодня мы идем в кино. Раздевайся быстрее, поешь, и пойдем. Я уже взяла билеты.
— Что за мысль пришла тебе в голову? — спросил Адальберт, вешая пальто в передней. — Какая картина?
— «Нюрнбергские призраки», — из кухни ответила Ангелика. — Это про суд.
— Я уже видел этот фарс, — угрюмо произнес Адальберт.
— Нет, Ади, ни ты, ни я этого еще не видели! — ответила Ангелика из кухни. — Я прочла в «Нюрнбергер Нахрихтен»: это новая хроника-монтаж — не отрывки, как до сих пор, а весь суд по наши дни включительно. — Она появилась в столовой с подносом, на котором стояли тарелки с жареной свининой, конечно, с черного рынка. Ладно, подумал Адальберт, пойду, назло самому себе пойду, чтобы еще раз увидеть, как уничтожают Германию.
И вот они сидят в темном кинотеатре. Заголовок, титры… На экране — зал, отделанный мореным дубом, на длинном постаменте — судейский стол, за ним расселись могильщики Германии. Русские, англичане, американцы, французы…
Слева от входа — скамьи для подсудимых. Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель… Их доставляют сюда по одному через подземный ход. Они здороваются друг с другом. По-разному: один подчеркнуто приветливо, другой — с гримасой отворачивается, чтобы не видеть остальных. Солдаты американской военной полиции окружают скамьи подсудимых. Главный обвинитель от Советского Союза произносит речь. Адальберт хорошо знает и эти кадры, и эту речь, успел запомнить и эту резкую, убийственную, как жало змеи, фразу: «Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений…»
«Ложь, ложь! — молча, не разжимая губ, кричит Адальберт. — Впервые было создано великое, могучее государство, тело которого сейчас рвут, как шакалы, пришельцы в иноземной военной форме!»
«Варварская агрессия, направленная на истребление целых народов… Потоки крови и слез… 50 миллионов жизней — вот цена гитлеровских преступлений…» Все это Адальберт уже слышал, он пропускает мимо ушей надоевшие цифры — число убитых, замученных и сожженных, — иногда только мстительно произносит про себя: «Значит, мало, больше надо было!»
Речи обвинителей не производят на Адальберта никакого впечатления, к тому же это явный монтаж, за полтора часа режиссеры вознамерились показать, что происходило на процессе в течение долгих недель. Допросы! Этого Адальберт еще не видел. Ради того, чтобы услышать, что скажут бывшие вожди рейха, стоило прийти сюда. Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер… Он ждал, он не сомневался в том, что подсудимые, по крайней мере некоторые из них, произнесут не защитительные, а обвинительные речи, как это сделал когда-то болгарский большевик Димитров на процессе о поджоге рейхстага.
Но очень скоро Адальберт понял, что его ожидания напрасны. Казалось, выступают не бывшие вожди, а мелкие чиновники, которые если и были виноваты в чем-нибудь, то только в том, что безоговорочно выполняли приказы Гитлера. Обвинители буквально припирали их к стене, предъявляли стенограммы прежних выступлений, обвиняли их в развязывании второй мировой войны, в истреблении миллионов людей в концлагерях, в десятках других преступлений против человечества. В ответ они твердили свое: «Не виновны». Затаив дыхание, слушал Адальберт допрос Кальтенбруннера, ведь еще не так давно этот человек был его начальством, ни одна акция, касающаяся гестапо, лагерей, не осуществлялась без его приказа; Адальберт едва ли не молился на него, считал образцом национал-социалиста. На вопросы обвинения, имел ли Кальтенбруннер какое-либо отношение к тому, что делалось в доме на Принц-Альбрехтштрассе, в концлагерях, присутствовал ли лично при казнях заключенных, истреблении евреев, он должен был гордо ответить: «Да. Знаю. Имел. Присутствовал. Верил, что поступал в соответствии с долгом, и верю в это сейчас». Но с экрана доносилось другое:
«Было ли вам лично известно или имели ли вы какое-либо личное отношение к каким-либо зверствам, совершенным в концлагерях во время войны?»
«Нет». И так на все вопросы обвинения: «Нет. Нет. Нет».
Один за другим заключенные на разные лады упоминали фюрера — только для того, чтобы свалить на него вину за расстрелы и зверства во всех оккупированных странах. С экрана обвиняемые говорили мало, давались лишь короткие выдержки из речей, но голос за кадром объяснял, что обвиняемый такой-то говорил час, а такой-то — час с лишним.
Появлялись свидетели обвинения, казалось, им не будет конца. Были показаны документальные киносвидетельства, мелькали трупы замученных в концлагерях, валил дым из крематориев… Несколько раз Адальберт порывался встать и уйти, но Ангелика с силой прижимала его колено, заставляла сидеть на месте, шептала ему в ухо: «Ты обратишь на себя внимание. Это опасно, опасно!» Наконец сеанс кончился. В напряженной тишине люди стали покидать зал.
Так же, как и другие, Адальберт и Ангелика шли до самого дома молча.
На ступенях они столкнулись с Гамильтоном — тот как раз вставлял ключ в замочную скважину.
— Добрый вечер, — приветливо сказал Гамильтон, вынимая ключ и вежливо предоставляя Адальберту самому открыть дверь своей виллы. — Откуда так поздно?
— Мы были в кино, — Адальберт пропустил вперед Ангелику и Гамильтона.
— А я, с вашего разрешения, решил переночевать здесь: достаточно провести несколько дней в этом пчелином улье, «Гранд-Отеле», чтобы ощутить всю прелесть покоя в частном доме… Ну, не буду вам мешать. — Гамильтон направился было к лестнице, Ангелика укоризненно взглянула на мужа.
— Чашку кофе, мистер Гамильтон! — предложила она.
— Откровенно говоря, с удовольствием выпью кофе в семейной обстановке, — любезно ответил Гамильтон, — один вид ресторана в «Гранд-Отеле», переполненного судьями, адвокатами, прокурорами, наводит на меня уныние…
Через несколько минут все трое сидели за круглым столом в гостиной. И перед каждым дымилась чашка ароматного мокко.
Сделав глоток, Гамильтон спросил:
— Какую картину вы смотрели? Драму? Комедию?
— Комедию, — резко ответил Адальберт.
— Новую? Как называется?
— «Нюрнбергские призраки», — Хессенштайн раздраженно передернул плечами. — Фарс! Тенденциозный монтаж с вырванными из контекста фразами обвиняемых. Никогда не поверю, что такие люди, как Геринг или Кальтенбруннер, могли вести себя столь постыдно.
— Что же вас могло бы убедить в этом, герр Квангель? — с иронической усмешкой спросил Гамильтон.
— Не знаю… Хочется проникнуть в их души… — после паузы ответил Адальберт. — Достаньте мне, герр Гамильтон, пропуск хотя бы на одно заседание, ведь вы человек со связями.
— Поверьте, это ничего не даст. Почему вы уверены, что именно на этом заседании вам откроются души подсудимых? Для этого надо было следить за процессом с самого начала, что, как вы понимаете, уже невозможно. Даже, — Гамильтон усмехнулся, — при моих связях.
За столом установилось молчание. Гамильтон встал.
— Я, очевидно, задерживаю вас, пора спать. Да и я хотел бы лечь пораньше. Спокойной ночи.
— Какой позор! — глухо сказал Адальберт, когда шаги Гамильтона затихли. — Если верить хронике, все они трусы. Трусы и предатели. Бывали моменты, когда мне хотелось вскочить и крикнуть на весь зал: трусы!
— Эти люди хотят спасти свою жизнь. Им ничего больше не остается, как сваливать все на фюрера, — сказала Ангелика.
— Не смей так говорить! — сжимая кулаки, воскликнул Адальберт. — Тот большевик болгарин тоже боролся за свою жизнь, ему тоже грозила смерть, но он не побоялся во всеуслышание объявить суд над ним лживым и чуть ли не плюнуть в лицо Герингу! Почему он мог, а эти, там, в кино, кет? О, если бы я оказался среди них в зале суда, клянусь памятью фюрера, я бы встал и сказал все, что думаю об этих судьях, сказал бы, что Гитлер был великим человеком и все, что он приказывал делать, шло на пользу Германии.
— Но мы проиграли войну, Ади, — тихо произнесла Ангелика. — И потом… ведь все, что показывали в хронике… было! От этого никуда не уйти! Я уже не раз задавала себе вопрос: как мы могли с такой армией, с таким вооружением проиграть войну?
— Гели, — Адальберт едва сдерживал гнев, — но разве ты не знаешь, как фюрер объяснял причину? Предательство со стороны определенной части генералитета! Я был близок к окружению фюрера, и мне не раз доводилось слышать его мнение о наших трусливых генералах. Нам с тобой не приходилось всерьез говорить об этом, но теперь я скажу: фюрер еще до заговора сорок четвертого года с настороженностью, будем говорить прямо — с недоверием относился к высшему офицерству. И хотя рейхсвер в тридцать пятом был преобразован в вермахт, он продолжал оставаться наследием проклятой Веймарской республики и в отличие от СС был все же в какой-то степени чужеродным организмом.
Ангелика сидела, опустив голову. Она не все понимала из того, что говорил муж, и никогда не осмеливалась вступать с ним в спор.
— Я вспоминаю одну беседу с доктором Геббельсом, — снова заговорил Адальберт. — Это было в Берлине, когда русские уже вторглись в Восточную Пруссию. Доктор тогда сказал, что в тридцать четвертом расстреляли Рема и всю верхушку СА вместо того, чтобы перестрелять генералов. Ты знаешь, конечно, что Рем хотел поставить СА над армией? И правильно бы сделал!
Ангелика с сочувствующей улыбкой глядела на мужа. Уже много лет, с тех пор как национал-социализм в ее душе взял верх над католичеством, она жила его интересами. Она привыкла к его мыслям, привыкла к кругу его знакомых — почти все они были эсэсовцы, работники гестапо, так же, как теперь привыкла к его обезображенному лицу.
И еще она понимала, что Адальберт жаждет деятельности, хочет предпринять нечто такое, что стало бы кирпичом в фундаменте новой Германии — нет, Германии старой. И это было правдой. Но что именно надо делать, Адальберт не знал. Ему хотелось стать пусть не первым человеком, каким был Гитлер, но одним из тех, чье слово будет законом для других. Он мысленно не раз перебирал свои возможности, мечтал, что со временем ему и его единомышленникам удастся выковать такую организацию, которой под силу не только взорвать здание суда, но и воссоздать СА — колонны штурмовиков, марширующих по улицам, исповедующих ненависть к коммунизму, готовых стереть с земли не только коммунистов, где бы они ни находились, но и саму веру в этот коммунизм!..
Но как, как? Гамильтон хочет, чтобы Адальберт покинул родину — ради того, чтобы когда-нибудь вновь ее обрести. Принять его предложение — значит признать, что только под руководством Америки можно воссоздать Германию. А ему, Адальберту, хотелось не подчинения, а неограниченной власти.
— Хочешь, я прочту тебе стихи? — неожиданно спросила Ангелика.
— Какие стихи? — удивился оторванный от размышлений Адальберт.
— Вот послушай:
Ты разочарован, ты опустошен. Зачем же цепляться за прошлое? Ты научился умирать ради Гитлера, А теперь научись жить ради Германии!— Откуда это?
— Стихи обращены к немецкому офицеру, и напечатаны в «Нюрнбергер Нахрихтен», — ответила Ангелика, — я вырезала их и выучила наизусть.
— Мне не нравятся эти строки, — угрюмо сказал Адальберт. — Здесь противопоставлены фюрер и Германия. А это одно и то же.
— Было одно и то же, — с печалью сказала она.
— Было и есть! Фюрер мертв, но дух его бессмертен. Во имя бессмертия этого духа я и живу.
— А я живу ради тебя, — сказала Ангелика, — следовательно, ради того, чем живешь ты. Я сделаю все, что ты скажешь: если надо — убью, отравлю… Хочешь, чтобы я убила Гамильтона?
Адальберт почувствовал ком в горле, он боялся, что Ангелика увидит слезы, и прижался лицом к ее плечу…
Поздно ночью ему послышались чьи-то шаги. Гамильтон?.. Впрочем, может быть, это Адальберту только приснилось.
Их души
Так шли дни — однообразные, мрачные для Хессенштайна.
Во время последней встречи Браузеветтер обнадежил его известием, что «Паук» набирает силу, действует на территории Германии и Австрии и что возглавил его, кажется, неизвестно где сейчас скрывающийся Отто Скорцени.
«Паук» становился надеждой беглых эсэсовцев: организация помогала им создать о себе «легенду» и затем переправляла в Испанию, Южную Америку или страны Ближнего Востока.
Город жил слухами. Говорили, что найдена и арестована личная секретарша Гитлера Мари-Текла Вайхельт, что Геринг умер от инфаркта в американском госпитале…
В газетах было опубликовано распоряжение баварских властей. В нем говорилось, что до сих пор в Баварии выселение национал-социалистов из их квартир осуществлялось недостаточно быстро и повсеместно; для покрытия острой нужды в жилплощади и в соответствии с распоряжением властей каждый бывший национал-социалист, независимо от даты его вступления в партию, должен немедленно освободить свою квартиру, если в ней нуждаются лица, подвергавшиеся преследованиям по причинам политического или расового характера, а также лица, не состоявшие в НСДАП.
Что делать? Что делать?! Круг опять сужался. Как быть, если Гамильтон уедет, — ведь не вечно он будет сидеть тут, в Нюрнберге, — неужели Адальберта и Ангелику тотчас вышвырнут из дома?
В последний раз они виделись с Гамильтоном два дня назад. Американец поинтересовался, не принял ли Адальберт какое-либо решение.
— Не забудьте, время работает против вас, и я не всесилен. — Гамильтон усмехнулся.
Хессенштайн сухо ответил, что документы, интересующие Гамильтона, принадлежат не ему, и без указания своего бывшего начальства он не вправе ими распорядиться.
— Где оно, ваше начальство? На скамье подсудимых? Не пора ли задуматься, сосед, кому вы служите? Неужели вы до сих пор не убедились, что люди, сидящие на скамье подсудимых, недостойны плевка?
— Им смотрит в глаза смерть, — мрачно ответил Адальберт. — Даже львы, если их загнать в клетки, осветить юпитерами и бесконечно колоть железными прутьями на глазах глумливого сборища, не смогут вести себя, как цари зверей.
— А наедине с доброжелательным человеком они бы вновь превратились во львов? Послушайте, Хессенштайн, не так давно вы высказали желание проникнуть в души обвиняемых… ведь так? — неожиданно спросил Гамильтон.
— Я понимаю, это неосуществимо, — безнадежно ответил Адальберт.
Хорошо. Отложим это. А пока мне хотелось бы проникнуть в вашу душу. Представьте, что обвиняемые каким-то чудом оказались на свободе, скажем, там же, куда я рекомендую отправиться вам. С чего бы они начали действовать? Конечно, с захвата власти. Но те, кто в Южной Америке, уже вряд ли допустят это. Они, возможно, предпочтут иметь среди своих фюреров такого человека, как, например, вы, Хессенштайн. При Геринге, Кальтенбруннере и других вы пешка, а без них ваш вклад в дело будущей Германии может быть огромен. Что вы на это скажете? — И Гамильтон, сощурившись, посмотрел в глаза Адальберту.
— Я не могу ответить на ваш вопрос, не зная, что в действительности представляют собой сегодня вожди, — не сразу ответил Адальберт.
— Да, — вздохнул Гамильтон, — опять желание проникнуть в их души… Пожалуй, я организую для вас небольшое свидание. С человеком по имени Гилберт. Едва не забыл: у меня для вас не вполне приятная новость. Мне стало известно, что некий Хессенштайн числится в списках разыскиваемых военных преступников. — Увидев, как побледнел Адальберт, американец добавил: — Впрочем, вам пока беспокоиться нечего, ведь вы — Квангель.
…По городу ползли слухи, что в стране объявился некий ефрейтор, который считает, что он призван стать новым фюрером, и проявляет те же симптомы: мания величия плюс одержимость идеей террора, — что и его предшественник из Браунау. Зовут его Карл Хампель, ему 24 года. В Нордене, маленьком восточно-фрисландском городке, была его «резиденция», отсюда он пытался совершить переворот. Он называл себя «фюрером немецкого освободительного движения», основанного «по великому примеру Адольфа Гитлера». Месяц за месяцем он писал угрожающие письма военной администрации, полиции и различным людям, занимающим сегодня видное положение: он, фюрер немецкого освободительного движения, расстреляет и перевешает их. Одновременно он призывал население поднять восстание, поджигать общественные здания и осуществлять террористические акты против сотрудников немецких ведомств и учреждений.
«Кто он, этот человек?» — задавал себе вопрос Адальберт, когда в газетах появилось сообщение, что «новый фюрер» приговорен к смертной казни. Действительно маньяк или самоотверженно преданный делу Гитлера человек, опиравшийся на единомышленников, готовых на все ради восстановления рейха? Если верно последнее, значит, речь идет о реальной попытке вернуть прошлое, пусть неудачной. Но ведь другая, третья, пятая попытки могут оказаться успешными?
Все это были очередные фантазии, сто раз пережеванные, потерявшие свежесть; никаких реальных путей Адальберт не видел. Браузеветтер был готов связать его с «Пауком», но «Паук» и Гамильтон занимались, по сути, одним: помогали бывшим нацистам бежать за границу, а это по-прежнему казалось Адальберту постыдным, неприемлемым для подлинного борца за восстановление той Германии, которую он любил, которой был предан.
Он устал от сомнений, от борьбы с самим собой…
И вот сегодня, вернувшись от Браузеветтера, Хессенштайн нашел в столовой короткую записку: «Прошу вечером заглянуть ко мне». Подписана она была инициалами Арчибальда Гамильтону.
Адальберт поднялся на второй этаж. Гамильтон был не один. В верхней гостиной Адальберт увидел еще одного американца — тоже в военной форме, лет тридцати пяти — сорока. Он сидел на узком, обитом плюшем диване, положив рядом с собой толстую папку. Адальберт обратил внимание на его лицо: оно было мягким, приветливым. Где-то он уже видел этого человека, давно, чуть ли не в день приезда в Нюрнберг… Цепкая память разведчика-гестаповца уже через минуту выдала ответ: сойдя с поезда, Адальберт долго бродил по городу, не решаясь показаться Ангелике… А на следующее утро, движимый каким-то мазохистским чувством, пришел к Дворцу юстиции, где отпевали великую Германию. Подъехала машина, в ней рядом с шофером сидел этот человек. Адальберту запомнилось, с какой непринужденностью, почти небрежно он помахал перед носом охранников карточкой-пропуском и направился к чугунным воротам… И вот этот человек здесь, в его, Адальберта, верхней гостиной. Как назвал его Гамильтон? Гилберт, кажется, Гилберт…
Указывая на Адальберта, Гамильтон сказал гостю:
— Хочу представить вам кузена нашей очаровательной хозяйки. Его настоящее имя… Квангель. Ему безумно хочется взглянуть на ваших подопечных, так сказать, изнутри. Газетам и кинохронике он не верит, поскольку имел основание боготворить Германию его высокопревосходительства фюрера, ну и всех тех, кто сегодня восседает во Дворце юстиции — не среди судей или публики, конечно. Я рад возможности познакомить Квангеля с человеком, который знает верных соратников фюрера лучше, чем любой из нас. Итак, слово предоставляется свидетелю обвинения, или, лучше сказать, защиты, но объективной.
Американский офицер, с которым Адальберту выпал случай побеседовать, пользовался, в силу своей должности, исключительным доверием тюремной администрации. Некоторые считали его врачом-психиатром, но он им не был. В отличие от профессиональных тюремных психиатров, врачей Келли и Голденсона, Гилберт был психологом. Прибыл он в Нюрнберг 20 октября 1945 года. Кто прислал его? Говорили, что он приехал по просьбе тюремной администрации, но скорее всего инициатива учреждения должности психолога исходила от американской разведки, которая не случайно остановила свой выбор на Гилберте.
«Моя главная задача, — напишет впоследствии Гилберт, — состояла в том, чтобы повседневно поддерживать тесный контакт с заключенными и информировать начальника тюрьмы полковника Эндруса об их моральном состоянии, а также всячески способствовать тому, чтобы они соблюдали во время суда дисциплину и порядок… Я имел свободный доступ к заключенным в любое время дня и ночи… Я никогда не делал пометок в их присутствии, но тщательно записывал все мои беседы с ними и наблюдения, как только выходил из их камер, зала заседаний или столовой».
…И все же Гилберт не был вполне удовлетворен. Потому что, помимо задачи содействовать саморазоблачению заключенных, он имел и сверхзадачу: выяснить местонахождение сокровищ, припрятанных нацистами. Предполагалось, что огромные ценности были захоронены где-то в Альпах в труднодоступном районе.
Узнать, где они спрятаны, — в этом заключалась главная задача, возложенная на Гилберта американской разведкой. Он не касался впрямую этой темы во время бесед с заключенными, не имел полномочий предложить им в качестве выкупа жизнь, если они выдадут тайны альпийских сокровищ. Нет, он пытался расположить их к себе, утешал, как мог, старался вывернуть наизнанку их души, завоевать полное доверие, чтобы в подходящий момент коснуться ненароком того, что интересовало пославших его в Нюрнберг…
Адальберт поначалу с некоторым недоумением всматривался в лицо Гилберта, с которого не сходило доброжелательное выражение; он не понимал, зачем Гамильтону понадобилась эта встреча. Зато сам Гамильтон отлично знал, что делает. Важно было сорвать в присутствии этого верноподданного маску с вождей нации, лишить властителей душ их мученического ореола. Гамильтон готовил новых вождей, ему представлялось, что Хессенштайн с его прямолинейностью и мужественными шрамами мог бы стать одним из тех, кому можно поручить дело восстановления рейха. Но главным было все-таки не это, не желание во что бы то ни стало убедить Хессенштайна, обратить его в новую веру. Главное — получить заветные записные книжки с именами гестаповской агентуры и кодовыми обозначениями огромных сумм, хранящихся в швейцарских банках. Это давало возможность значительно пополнить группу нацистских руководителей, переправленных в Южную Америку, которым предстояло издалека руководить духовно и материально неонацистским движением в самой Германии.
— Герр Квангель, — сказал Гамильтон, — в лице нашего друга Гилберта вы видите человека, который знает больше других и которому можно верить. В камерах, где томятся ваши кумиры, он чувствует себя как дома. Это правда, Гилберт, что вы видели Лея за день до того, как он покончил самоубийством? — поинтересовался Гамильтон.
— Да, — ответил Гилберт. — Я был у него вместе с тюремным психиатром. Лей был крайне возбужден, расхаживал взад и вперед по своей камере. На нем была американская солдатская куртка, некоторые из заключенных носили такие куртки. Когда мы его спросили, как он готовит свою защиту, он разразился тирадой: «Как я могу готовить защиту? Вы считаете, что я должен защищать себя от обвинений во всех этих преступлениях, о которых я ничего не знал? Если после этой кровопролитной войны нужны еще ж-ж-жертвы на потребу м-м-мстительности победителей, — продолжал Гилберт, имитируя голос Лея, — очень хорошо…» — Перелистывая страницы толстой тетради, которую он вынул из папки, Гилберт рассказывал, как Лей прислонился к стене в позе распятого и, сделав драматический жест, проговорил: «Поставьте нас к стенке и расстреляйте! Все это очень хорошо — вы победители. Но с какой стати волочить меня на суд, как п-п-п… как п-п-п?..» Тут начал заикаться и застрял на слове «преступник»; после подсказки Гилберта добавил: «Да, я даже не могу выговорить это слово…» Он несколько раз повторял одно и то же, расхаживал взад и вперед по камере, жестикулировал и заикался в крайнем возбуждении. Ночью его нашли удавившимся. Разорвав армейское полотенце на узкие полоски, он связал их концами, сделал петлю и прикрепил ее к трубе туалета. Полковник Эндрус, рассказал Гилберт, не сразу сообщил другим заключенным о самоубийстве Лея, лишь несколько дней спустя известил их об этом циркулярным письмом.
— А Геринг? — спросил Адальберт. — Неужели и он?..
— Что ж, пожалуйста, — Гилберт снова заглянул в тетрадь. — Гитлера он называл «духом зла», а когда я спросил Геринга, знал ли он о преступлениях нацистов в концлагерях, тот стал валить все на Гиммлера. Вот запись: «…Я понимаю, что немцев будут всегда осуждать за эти зверства. Но они были настолько неправдоподобными — даже те немногие слухи, которые до нас доходили, — что нетрудно было убедить нас, что все это сплошная пропаганда. У Гиммлера были свои отборные психопаты, которые занимались такими вещами, а от нас это держали в секрете. Вы психолог, вы должны в этом разбираться. Я этого объяснить не могу».
— А что говорил Геринг о Риббентропе? — торопливо задал новый вопрос Адальберт.
— Примерно следующее, — ответил Гилберт, — что против него лично он ничего не имеет, но как министра иностранных дел никогда его всерьез не принимал. Фон Нейрат был человеком крупного масштаба, с глубоким пониманием происходящего, порой он возражал Гитлеру, спорил с ним… А Риббентроп был безмерным эгоистом — виноторговец, преуспевший на своем поприще, но не имевший ни должной подготовки, ни такта для того, чтобы заниматься дипломатией.
…Странное, непривычное ощущение охватывало Адальберта: мягкий завораживающий голос Гилберта проникал не только в сознание, он как бы вливался во все поры души, на мгновение Адальберт попытался освободиться от этого ощущения, подумав: «Что это? Гипноз?» — но уже в следующую минуту снова превратился в слух, перестал сопротивляться власти Гилберта.
— «Я говорил Гитлеру, — сказал Геринг, — что если фюрер хочет вести какие-нибудь дела с Англией, то он с большим успехом может воспользоваться для этой цели моей помощью… Но, несмотря на свое невежество, Риббентроп был надут, как павлин…»
Перед Хессенштайном вставали люди без принципов, они даже не пытались — защитить фюрера, отстоять идеи, которые он проповедовал! Адальберт силился противопоставить тому, что слышит от Гилберта, свои прежние впечатления о вождях рейха, — ничего не получалось, образы, воссозданные Гилбертом, оказывались сильнее.
— А как вел себя Франк? — спросил Адальберт, уже понимая, что и тут его ждет разочарование.
— Его ответы были весьма специфичными, — ответил Гилберт, перелистывая страницы своей тетради, — один из них я записал целиком, вот: «…Сидя в этой камере в полном одиночестве, я многое понял. Дело даже не в процессе. Но какая ирония судьбы и небесного правосудия! Вы знаете, есть божественное наказание, гораздо более опустошительное в своей иронии, чем любое наказание, изобретенное когда-либо человеком! Гитлер являл собою дух дьявола на земле и не признавал никакой власти, большей, чем его собственная. Господь взирал на эту шайку язычников, раздувшихся от жалкого властолюбия, а затем просто смахнул их, потешаясь в гневе своем. Я вам говорю, гневный смех господа бога куда страшнее любой мести человеческой!.. Вот они, правители Германии, — каждый в такой камере, с четырьмя стенами и унитазом, — ожидают суда, как обыкновенные преступники. Разве это не доказательство того, что господь потешается над кощунственным стремлением человека к власти?.. И вот я сижу здесь, но я это заслужил: я был в союзе с дьяволом…»
Адальберт не верил своим ушам. «Гитлер — дух дьявола… союз с дьяволом…» — разве когда-нибудь раньше в публичных выступлениях или даже в приватном кругу кто-нибудь из вождей рейха осмеливался произнести нечто подобное?! А Гилберт говорил уже о Кальтенбруннере: железный руководитель РСХА утверждал, что отдавал распоряжения, прямо противоположные тем приказам, которые сам подписывал и многие из которых Адальберт лично принимал к исполнению… Адальберт слушал Гилберта и понимал, что тому нет нужды говорить неправду. Точно так же, как и у заключенных не было оснований кривить душой перед психологом. Ведь ответы не протоколировались, в любой момент они могли отречься от сказанного, да и свидетелей не было. Что же заставляло Геринга и других поносить фюрера, проклинать друг друга, забыв о достоинстве? Кейтель, начальник штаба верховного главнокомандования, до того дошел, если верить Гилберту, что «кланялся и шаркал ножкой перед каждым лейтенантом, который заходил в его камеру, и утверждал, что всегда был мелкой сошкой…».
То, что говорил психолог, было страшным. Не только мертвых — Гитлера, Гиммлера, Геббельса — поносили их соратники, но и друг друга. Да, конечно, каждый из них боролся за свою жизнь, надеялся, что Гилберт представит его судьям и прокурорам в выгодном свете… «А честь национал-социалиста? Куда исчезла она?…» — спрашивал себя Адальберт.
— На другой день после смерти Лея, — вспоминал Гилберт, — я и врач-психиатр обошли камеры заключенных: Штрейхер во всем обвинял евреев, Гесс находился или делал вид, что находится в состоянии полной амнезии, — он ничего не знал и не помнил. Геринг считал Гесса сумасшедшим, подтверждение тому — факт его полета в Англию. Если бы у Гитлера было намерение добиться мира с Англией, то он, Геринг, при своих контактах с англичанами мог бы организовать это в течение двух суток… Все они поливали друг друга грязью, каждый утверждал, что не имел понятия о преступлениях, о которых говорилось в обвинительном акте, или был вынужден их совершать по прямому указанию Гитлера. Все точно сговорились, а может быть, им и в самом деле удалось сговориться? — валить все на Гитлера…
Слушая Гилберта, Адальберт снова и снова вспоминал о давнем процессе в связи с поджогом рейхстага и о том, как вел себя этот коммунист Димитров перед судьями, перед самим Герингом… А ведь ему тоже угрожала смерть! Почему же он не боялся ее?
…Они разошлись в полночь. Ангелика уже лежала в постели, но не спала.
— Я многое понял, Гели, — мрачно сказал Хессенштайн, раздеваясь. — И прежде всего, что подсудимые — даже если они останутся в живых — уже недостойны встать во главе новой Германии.
Он еще не мог прийти в себя, его поразило противоречие между добродушным тоном этого Гилберта и страшной правдой о людях, которых он, Адальберт, боготворил. Очень хотелось рассказать все Ангелике, но в последнее время она и без того выглядела встревоженной, неспокойной. Адальберт погладил ее по щеке и почувствовал, что ладонь его стала влажной.
— Что с тобой, Гели? Почему ты плачешь?
— Потому что… просто я устала сегодня… — отвернувшись, тихо ответила Ангелика. И добавила: — В последние дни на рынке столько народу, меня совсем затолкали…
— Ну что ты, дорогая? Успокойся. Завтра встану пораньше и сам куплю все необходимое. — Адальберт лег. Все-таки он не мог не поделиться с Ангеликой своими впечатлениями. — Сейчас Гамильтон познакомил меня с одним человеком, так называемым психологом, который видится с заключенными каждый день. Я бы хотел думать, что Гамильтон специально подстроил эту встречу, чтобы заставить меня от всего отречься, но ты знаешь, я не могу не верить этому психологу: очень похоже, что все они, даже Геринг и Кальтенбруннер — жалкие трусы.
Ангелика по-прежнему молчала.
— Ну что с тобой, дорогая? — охваченный тревогой, на этот раз уже за Ангелику, спросил Адальберт, пытаясь ее обнять. — Я хочу рассказать тебе…
— Я тоже хочу тебе рассказать… — неожиданно прервала его Ангелика. — Я не была сегодня на рынке…
— Ну и что из того? — недоуменно спросил Адальберт.. — Из-за какой-то чепухи…
— Это не чепуха, Ади, — тихо и отрешенно произнесла Ангелика. — У нас будет ребенок.
— Что?! — приподнимаясь на постели, воскликнул Адальберт.
— Я была не на рынке, а у врача, Ади. Сегодня он сказал мне окончательно: я беременна. — Она наконец повернула к нему голову. — Успокойся, Ади. Ты ведь всегда хотел иметь сына…
Да, он всегда хотел иметь ребенка. Мальчика. Ангелика — тоже. Еще давно по взаимному согласию они решили, что у них будет сын сразу, как только Германия победит и все снова встанет на свои места, жизнь войдет в прежнее, нормальное русло… Но сама мысль о ребенке теперь, когда все в стране рухнуло, когда он сам находится на полулегальном положении, казалось ему невероятной, ужасной! Да, Адальберт всегда хотел иметь сына, которого он сможет воспитать в том же духе, в каком был воспитан сам, воспитать его смелым, беззаветно преданным делу, в котором он, Адальберт, видел главный смысл своей собственной жизни…
— Ты уверена, что врач не ошибся? — почти без надежды произнес Адальберт.
— Теперь — да. Уверена, — твердо и даже жестко ответила Ангелика. И опять — напряженное молчание.
— Боже мой! — воскликнул наконец Адальберт. — Но ведь еще есть время, еще не поздно…
— Не поздно — что? Убить ребенка? — еще жестче спросила Ангелика.
— Гели! Как ты можешь?..
Эту ночь они провели без сна. Адальберт говорил, что, наверное, им следует принять предложение Гамильтона и уехать в тихую, далекую страну, но тут же вспоминал об условии Гамильтона: отдать хранящиеся в тайнике записные книжки. Выдать американцам списки гестаповской агентуры и кодовые обозначения денежных заграничных фондов партии — значит стать предателем, и это клеймо ему придется носить всю жизнь, как шрам поперек лица! Он не сможет занять достойное, подобающее бригадефюреру СС место среди соратников, которые уже покинули Германию и теперь готовы посвятить свою жизнь восстановлению рейха. О его предательстве наверняка станет известно там, где ему придется жить, родившийся у него за границей ребенок будет носить клеймо сына предателя, и национал-социалистская деятельность будет для него полностью исключена!
На следующий день Адальберт пошел к Браузеветтеру и рассказал о своем горе. Но чем мог помочь ему старый учитель?
Только один человек — таинственный Мастер — был правомочен освободить Адальберта от клятвы хранить связанную с его работой в гестапо тайну.
Мысленно Адальберт не раз поднимал третью справа от колонки каменную плиту, опускал в образовавшееся отверстие проволоку с крюком на конце, чтобы зацепить плотно завернутый в клеенку сверток, поднимал его наверх и… Он понимал: никто из нынешних тайных национал-социалистских руководителей не позволит ему отдать списки американцам.
Но тогда Гамильтон вправе считать себя свободным от обещания помочь им с Ангеликой, вместе с их будущим ребенком, покинуть страну…
Браузеветтер выслушал Адальберта с сочувствием, сказал, что попробует связаться с Мастером, но, похоже, старик и сам не очень верил в удачу.
Однако день спустя к Адальберту на черном рынке подошел неизвестный человек и, глядя в сторону, негромко сказал, что Браузеветтер просил его зайти сегодня в девять вечера.
Мастер
Весь день Адальберт бродил по городу, он не мог заставить себя пойти домой, вспоминал заплаканное лицо Ангелики и не знал, что сказать ей, какое решение предложить. Избавиться от ребенка? Сохранить его и покинуть Германию? И то и другое казалось немыслимым, оскорбляло его лучшие чувства. Убить ребенка, о котором он столько мечтал? Отдать Гамильтону записные книжки и всю остальную жизнь чувствовать на себе клеймо предателя? Нет, он не мог взглянуть в глаза Ангелике и потому бродил по городу с одного рынка на другой, чтобы хоть как-то убить время, бродил как неприкаянный, терзаемый тем же ощущением безысходности, которое рвало душу, когда он скитался по развалинам Берлина, не зная, каким будет его следующий шаг.
Бесконечно тянулось время, мучительно теснились в душе Адальберта сомнения, опасения, надежды… Неужели у Браузеветтера его ждет свидание с Мастером?
Дом Дитриха был виден издалека, Адальберт ускорил шаг и тут обратил внимание, что возле дома медленно прохаживается какой-то человек. Наблюдение? Слежка? Адальберт остановился, между ним и домом оставался какой-нибудь десяток метров, и тут человек, что прохаживался у крыльца, неожиданно обернулся и быстро направился к нему. И тогда Адальберт узнал его. Узнал по короткой куртке и рябоватому лицу. Это был тот самый человек, который утром подошел к нему на черном рынке, чтобы передать приглашение Браузеветтера. Приглашение или приказ?
Рябой подошел к Адальберту вплотную и тихо сказал:
— Я только что от Браузеветтера. Вам надо идти со мной.
— А где же сам Брау…? — начал было Адальберт, но рябой прервал его:
— Ему все известно. Он выполняет вашу просьбу. Следуйте за мной.
Рябой быстро двинулся к дому, но до крыльца не дошел, свернул за угол. Адальберт в растерянности шел за ним. И тут он увидел то, что меньше всего ожидал увидеть: позади дома Браузеветтера стоял маленький автомобиль. Рябой открыл дверцу.
— Садитесь! — пригласил и в то же время приказал он.
— Но зачем?! — воскликнул Адальберт. — Куда вы хотите меня везти? И где герр Браузеветтер?
— Я повезу вас туда, куда вам надо и где вас ждут, — сказал рябой и на этот раз уже тоном явного приказа повторил: — Садитесь!
У машины было две дверцы, и вмещала она только двоих.
Они быстро миновали город, лавируя среди руин, — рябой, судя по всему, был опытным водителем, — и вскоре очутились в лесу; меж сквозных деревьев вилась узкая, хорошо расчищенная дорога, голые ветви почти касались ветрового стекла, и Адальберту казалось, что лес и ветви хотят задержать его, предостерегают…
Рябой включил фары. Ехали в полном молчании, оно угнетало Адальберта, он спросил:
— Что это за машина? Явно не немецкая.
— Американская, — односложно ответил рябой. Ехали недолго, минут через пятнадцать машина вырулила на поляну, в центре которой стояла небольшая белая вилла. Окна ее были зашторены, над верандой второго этажа чуть колыхался флаг, в темноте Адальберт не мог разобрать, чей именно. Вблизи виллы вышагивали взад и вперед несколько человек — охрана. Рябой мигнул фарами и затормозил. Два охранника подошли к машине, держа правые руки в карманах пальто.
Рябой открыл со своей стороны дверь и тихо сказал:
— «Паук». К Мастеру.
Сердце Адальберта заколотилось. Он был на пороге тайны. Как вести себя? Будет счастьем, если Мастером окажется кто-либо из бывших руководителей гестапо или партии, тогда можно разговаривать совершенно откровенно. А если это незнакомый, чужой человек, выплывший на поверхность только теперь и ставший во главе подпольной национал-социалистской организации? Можно ли в этом случае полностью доверять ему?
Рябой шел впереди, Адальберт — за ним, а охранники, держа руки в карманах, — по обе стороны от Адальберта. Рябой поднялся по широким ступеням и распахнул белую дверь.
Адальберт оказался в обставленном изящной белой мебелью холле. Двери, ведущие внутрь виллы, были тоже белыми. Рябой открыл одну из них и отошел в сторону.
— Входите.
Адальберт перешагнул порог. Комната, в которой он теперь оказался, была тоже белой, белый с золотом диван, обитый светлым плюшем, небольшой застекленный шкафчик с книгами, стол, на котором горела лампа под низким зеленым абажуром, а за столом, на фоне белой шторы-маркизы, сидел грузный человек в коричневом, похожем на балахон одеянии.
— Разрешите? — тоном военного, входящего к старшему по чину, спросил Адальберт. Коричневая туша шевельнулась, человек повернулся лицом к Адальберту и…
Он едва не вскрикнул, узнав патера Вайнбехера.
— Эт-то вы?! — заикаясь от неожиданной радости, воскликнул Адальберт.
— Я, сын мой, — патер вышел из-за стола и подошел к Хессенштайну.
— Но как… откуда… почему вы здесь?
— Все в руках божьих, — с улыбкой ответил патер.
Адальберт не мог прийти в себя, захотелось упасть перед патером на колени, поцеловать руку, в которой чуть постукивали черные четки, — он хотел сделать это не потому, что верил в бога, а от охватившей его легкости, почти счастья. Вайнбехер поднял руки, возложил их на голову Адальберта, благословляя его, и тот не удержался, ткнулся губами в широкий рукав коричневой сутаны.
— Как живешь, сын мой? — спокойным, мягким голосом спросил Вайнбехер. Но Адальберт был не в состоянии отвечать, мысли, одолевавшие его по дороге, все сразу толкались наружу; не веря себе, он спросил о главном:
— Вы… Мастер?
— Все служители церкви — мастера душ человеческих, — с добродушной улыбкой на мясистом лице произнес Вайнбехер.
— Но тогда… — начал было Адальберт.
— Спрашивай обо всем, что требует твоя душа, — щуря свои маленькие глазки, поощрил его патер.
— Отец мой, я все помню, все! Вы спасли меня в Берлине. Вы излечили мою душу от отчаяния и растерянности, вернули мне веру в свои силы и в будущее Германии. Вы возродили того Адальберта, каким я был до войны.
— Изменилось только твое лицо, — с усмешкой сказал Вайнбехер.
— И этим я обязан вам! Это спасло меня, позволило вернуться в Нюрнберг, снова соединиться с Ангеликой… Но теперь… — Адальберт осекся. — Теперь я в тупике.
— Когда человек оказывается в тупике, он обращается к богу или к его служителю.
— Спасибо, отец! — с неподдельной искренностью воскликнул Адальберт. — Но тупик, в котором я оказался, настолько безысходен, что даже бог…
— Не кощунствуй!
— Но вы просто не знаете…
— Я знаю все.
— Когда я вернулся домой, оказалось, что второй этаж моего дома занят…
— …американцем по имени Арчибальд Гамильтон.
— Верно! — воскликнул Адальберт. — Совершенно верно! Оказалось, что Гамильтон знает обо мне то, что могло знать только мое непосредственное начальство или… или вы, отец. Он предлагает мне, — идя в открытую, сказал Адальберт, — предлагает мне покинуть Германию и переехать в Америку…
— Пока в Южную Америку, — тоном учителя, исправляющего ошибку ученика, сказал Вайнбехер.
— Но я хочу остаться на родине! Хочу здесь бороться за восстановление Германии!
— Все в свой час, сын мой. Начать придется издалека и сызнова. В Южной Америке, в частности в Аргентине, уже находятся многие лучшие люди нашей с тобой Германии. Например, Крингель. Именно там будет создан политический и финансовый центр восстановления рейха.
— Но вы-то останетесь здесь! — пробормотал Адальберт, ошеломленный новостью о Крингеле.
— Я — везде, где идет борьба с безбожниками, — ответил Вайнбехер.
— Но почему именно я должен уехать?
— Потому что ты сильный человек и займешь там, в Южной Америке, подобающее место.
— А здесь, в Германии, остаются только слабые?
— Им нужно еще расти, набирать силу. Лучшие уже истреблены или будут истреблены на другой день после приговора. И тогда оставшимися будут руководить люди оттуда.
— Но разве Гамильтон, разве американцы заинтересованы в возрождении национал-социализма?
— Они христиане, а значит, они с теми, кто борется с врагами господа. Ты меня понял?
Да, Адальберт понял. Вайнбехер повторил то, о чем он сам не раз в последнее время задумывался, о чем говорили и Браузеветтер и Гамильтон: национал-социализм — враг большевистской России, а значит — союзник той Америки, которая, не упуская ни одной из своих выгод, жаждет создать антисоветскую Германию.
— Вспомни: когда ты был вызван в прошлом году в Берлин, от кого пришел вызов?
— От Кальтенбруннера. Крингель сказал мне в Берлине, что шеф собирается провести важное совещание.
— Ты знал его тему?
— Да. Речь должна была идти о ликвидации заключенных в концлагерях в случае приближения войск противника.
— Совещание состоялось?
— Да. Его проводил Крингель, Кальтенбруннер выехал куда-то по неотложным делам.
— Куда?
— Этого никто не знал. По крайней мере ни я, ни Крингель.
— Я знал, — лаконично сказал Вайнбехер. — Кальтенбруннер был в это время во Франции, он проводил сверхсекретное совещание в отеле «Мезон Руж». Там присутствовали люди почти со всех континентов. Темой совещания было обсуждение механизма рассеивания национал-социалистов… С тобой никогда никто не говорил на эту тему?
Вайнбехер смотрел на Адальберта испытующим взглядом. И вдруг Адальберт вспомнил: тогда, на Принц-Альбрехтштрассе, где полупьяные офицеры торопливо меняли одежду, чтобы не быть опознанными, набивали рюкзаки деньгами, золотом, кто-то прошептал прямо у него над ухом: «Кальтенбруннер приказал опускаться на дно…» Тогда Адальберт посчитал слова этого гестаповского офицера проявлением постыдной паники. Но сейчас…
— Я получил в свое время сигнал… но не придал ему значения, — повинился Адальберт.
— Я чувствую, что для тебя недостаточно советов Гамильтона и моих тоже. Считай их отныне не советами, но приказом. Приказом тех, кого бог сделал твоими руководителями.
— Значит, вы велите мне ехать, отец?
— Повелевает бог и передает эти повеления через верных слуг своих.
— Спасибо, отец, — тихо произнес Адальберт, понимая, что Мастер сказал все, что хотел или мог сказать. — Прощайте, я буду помнить о вас и о ваших словах вечно.
— Память человеческая слаба, но на твою память, сын мой, я хотел бы надеяться. — Адальберт поклонился и пошел к двери. И снова услышал голос Вайнбехера; как бы продолжая незаконченную тему, патер сказал: — Мы только что говорили о памяти, Адальберт. Ты надеешься на свою?
— Все, что связано с Германией и вашими советами… — начал Адальберт, останавливаясь и снова поворачиваясь к патеру, но тот не дал ему договорить.
— Ты спросил у меня все, что хотел? — Вайнбехер пристально смотрел на Адальберта.
— Да, теперь все, — несколько растерянно ответил Адальберт, думая при этом: «Ведь не о судьбе же нашего будущего ребенка, не о том, быть ему или не быть, должен был спросить я?» И вдруг вспомнил. Ведь он забыл посоветоваться с патером относительно самого важного — требования Гамильтона! — Простите меня, отец, — поспешно проговорил Адальберт, — вы, как всегда, правы. Я забыл спросить о главном: этот Гамильтон готов помочь нам уехать только при условии…
— Отдай! — сухо и властно прервал его Вайнбехер.
— Но, отец мой, вы же знаете, что по роду моей работы я имел… словом, у меня хранятся списки людей, которые помогали мне тогда… Агентура… В умелых руках она и сейчас может быть использована…
— Отдай! — еще более резко повторил патер. — Все попадет в надежные руки.
— А деньги? Я имею в виду денежные суммы партии, которые хранятся в швейцарских банках. У меня есть коды…
— Неужели ты разучился понимать меня, сын мой? — спросил Вайнбехер с оттенком неодобрения в голосе. — Ты требуешь от меня суесловия, а я предпочитаю краткость. Отдай! Ты понял?
…Они расстались.
Выруливая на лесную просеку, рябой на мгновение включил фары, их свет облил белоснежную виллу, и Адальберт на этот раз отчетливо рассмотрел рисунок на флаге. Это был красный крест.
Конец первой книги
КНИГА ВТОРАЯ
ЧАСТЬ I
Пролог
В середине сентября 1946 года самолет американской авиакомпании «Пан-Америкэн» летел над безбрежными водами Атлантики по направлению к Южной Америке.
В числе нескольких десятков пассажиров, преимущественно аргентинцев, уругвайцев и американцев, был немец — человек, которого с начала его жизни и до недавнего времени звали Адальберт Хессенштайн. Вместе с ним летела его жена Ангелика.
В течение последнего года Адальберт дважды менял свою фамилию — сначала он стал Квангелем, потом — Альбитом. Так, по документам, именовался он и сейчас: Хорст Альбиг. Этот человек, в прошлом бригаденфюрер СС, занимавший высокий пост в гестапо, — бежал от своего прошлого, от его теней. Он был худощав, на висках его проглядывала появившаяся в последнее время седина, и всем своим обликом он мало отличался бы от остальных пассажиров, если бы не его лицо.
Оно было страшным. Его бороздили глубокие шрамы. Так мог выглядеть студент-дуэлянт в старой Германии или солдат-фронтовик, получивший тяжелые ранения.
Адальберт и Ангелика летели в Южную Америку из Германии. Летели кружным путем. Решением Контрольного Совета побежденной и оккупированной Германии было запрещено иметь даже гражданскую авиацию. И, чтобы добраться до Южной Америки, бывший бригаденфюрер и его жена должны были лететь на самолетах иностранной авиакомпании и по пути сделать три пересадки.
Последняя была в Нью-Йорке.
…Стюардесса указала новым пассажирам места. Из трех кресел в одном из рядов крайнее, у окна, было занято, а два других оставались свободными. Адальберт-Хорст закинул на багажную полку два небольших чемоданчика, усадил Ангелику в кресло у прохода, а сам занял среднее.
Удобно пристроившись, он бросил мимолетный, но внимательный взгляд на соседа, сидящего у окна. Глаза этого человека были закрыты — он, видимо, уже успел задремать. На вид ему было лет сорок пять — пятьдесят. Холеное, гладко выбритое лицо. Никаких особых примет, если не считать очков в массивной золотой оправе.
Адальберту не хотелось иметь соседа — ведь это означало, что раньше или позже с ним придется вступить в разговор. Он помнил прощальное предостережение Гамильтона: «Никаких новых знакомств в пути». И в самом деле, любая беседа предполагает необходимость рассказывать что-то о себе. Но даже самая правдоподобная, тщательно отработанная легенда о своем прошлом внушала Адальберту опасения. Конечно, будет гораздо лучше, если сосед окажется американцем, бразильцем, шведом — одним словом, кем угодно, лишь бы не немцем. Если тот обратится к нему, Адальберт даст понять, что не знает его языка. А совсем хорошо будет, если он так и не проснется до посадки в Буэнос-Айресе. Адальберт снова взглянул на соседа. Тот улыбался и блаженно причмокивал во сне.
«Прекрасно!» — подумал Адальберт. Он прикрыл свою беременную жену пледом и тихо сказал:
— Постарайся заснуть, дорогая. Путь нам предстоит долгий…
Затем он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Ровное гудение моторов убаюкивало его. Ему стало казаться, что вокруг никого нет и он висит в воздухе, где-то между небом и землей. И по мере того как Адальберт погружался в сон, тени прошлого — далекого и совсем недавнего — обступали его плотным кольцом. Теперь ему уже казалось, что он снова лежит в берлинских развалинах в ночной тьме, среди таких же, как и он, бездомных немцев. То ему чудилась большая крыса. Он видел ее рядом с собой, видел ее злые хитрые глазки и острые хищные зубы. Казалось, она только и ждала, чтобы вонзить их в оголенную, из-под задравшейся штанины, ногу Адальберта.
— Прочь! Вон! Уйди! — закричал он во сне, проснулся и долго не мог понять, что находится в самолете.
Потом он заснул снова, и перед ним встала картина «черного рынка». Вот к нему подошел человек в темных очках, державший что-то в зажатом кулаке. Он разжал кулак, и Адальберт увидел несколько маленьких ампул.
— Что это? — недоуменно спросил он. — Морфий?
— Нет, нет, — полушепотом ответил человек в темных очках, — но это именно то, что вам нужно! Я научился разгадывать людей с первого взгляда. Впрочем, мой товар может пригодиться сейчас многим…
— Да что это, черт побери? — чуть ли не выкрикнул Адальберт.
— Цианистый калий, с вашего разрешения, — прозвучало в ответ. — Для тех, кто не приемлет сегодняшний мир. Никаких страданий — ампулу в рот, и спустя мгновение все, что было, останется позади. Верьте мне, я фармацевт, у меня была своя аптека…
— Подавитесь вы своими ампулами! — крикнул Адальберт.
Этот сон повторялся не раз. Увидев человека в темных очках, Адальберт уже знал, что будет дальше. И все повторялось снова и снова.
Адальберту хотелось задушить этого торговца смертью, но, когда он протягивал к нему руки, человек в очках исчезал. Нет, не сразу. Он как бы растворялся в воздухе. По частям… Вот остались голова и верхняя часть туловища. Потом — только ладонь с ампулами. Еще мгновение, и исчезали все следы торговца небытием, и только откуда-то издалека слышался его голос:
— Цианистый калий… Цианистый калий…
Наконец Адальберт проснулся. Он чувствовал себя разбитым, тревожные мысли, как осы, жалили его сознание.
Адальберт бросил взгляд на жену. Она полулежала в соседнем кресле, укрытая шотландским клетчатым пледом, который принесла заботливая стюардесса. Ангелика дремала. Плед на ее вздутом животе тихо колебался в такт прерывистому, затрудненному дыханию. О, как Адальберт боялся преждевременных родов! Ни он, ни сама Ангелика не могли точно высчитать, сколько времени уже длилась беременность. По мнению врача, она приближалась к завершению. Значит, роды могли наступить в ближайшую неделю или даже в любой день…
Еще не так давно Адальберт считал, что с ребенком надо повременить. Сначала — потому, что отдавал все свои силы карьере в нацистской партии и в гестапо, а ребенок мог стать помехой, потом — из-за войны, перевернувшей жизнь в Германии вверх дном. Но теперь-Теперь, приняв по требованию Гамильтона и патера Вайнбехера решение покинуть родину, где после капитуляции над ним нависла угроза суда и многолетнего заключения, если не смертной казни, Адальберт жил надеждой на рождение сына. О дочери он даже не думал. Ему нужен был сын, которого он мог бы воспитать как подлинного национал-социалиста. А в том, что национал-социалистическая Германия возродится из пепла, Адальберт не сомневался.
Что же в конечном итоге побудило его воспользоваться предложением Гамильтона и выехать в Аргентину? Во-первых, страх, не оставлявший Адальберта ни на минуту: он боялся, что его опознают, несмотря на пластическую операцию. Во-вторых, его убедили заверения Гамильтона в том, что в Парагвае и Аргентине собирается сейчас весь цвет национал-социализма. Эти люди понадобятся Германии, когда пробьет час ее возрождения, а пока — пусть на расстоянии — они будут способствовать приближению этого часа.
И Адальберт принял условия Гамильтона, тем более что «Мастер» — патер Вайнбехер — распорядился отдать американцу хранившийся в тайнике список нацистской агентуры, работавшей в концлагерях. Гамильтон был щедр: он разрешил Адальберту взять себе золото и платину, припрятанные там же.
Настаивая на том, чтобы Адальберт немедленно отправился в Аргентину, Гамильтон не раз беседовал с ним об этой стране. Он рассказывал о поселениях немецких эмигрантов, о том, как успешно они занимаются ремесленнической и коммерческой деятельностью, об огромном влиянии пронацистских кругов на аргентинскую политику. Ведь еще в 1931 году в Буэнос-Айресе было создано объединение, назвавшее себя местной организацией НСДАП.
…И вот он приближается к неведомой стране, которая всегда казалась ему почти нереальной.
До сих пор для Адальберта существовало только два мира: немецкий, частью которого был он сам, и враждебный, ненавистный ему мир «красных». Теперь он приближался к миру третьему.
Адальберту было бы трудно сказать, сколько прошло времени, прежде чем он услышал тихое позвяки-вание и увидел в проходе стюардессу, катившую столик, уставленный бутылками и стаканчиками. У каждого ряда кресел стюардесса останавливалась. Адальберту не хотелось вступать с ней в разговор, и когда она подкатила свой столик к креслу, в котором дремала Ангелика, он закрыл глаза. Но было уже поздно — стюардесса успела увидеть, что он не спит.
— Что-нибудь выпить, сэр? — спросила она.
До сознания Адальберта не сразу дошла эта простая английская фраза, и он пробурчал в ответ что-то нечленораздельное.
— Не угодно ли выпить? — снова спросила стюардесса, на этот раз по-немецки.
— Нет, спасибо! — автоматически ответил Адальберт тоже по-немецки.
— А ваш сосед? — спросила стюардесса.
— Не знаю. — Он спит, — неприязненно ответил Адальберт.
— Я вовсе не сплю! — несколько обиженно произнес человек в золотых очках. — Двойное виски с содовой. Без льда, пожалуйста!
Он говорил по-немецки без малейшего акцента.
— Яволь, майн либер герр! — словно обрадовавшись, защебетала стюардессса. Она взяла со столика бутылку и стала наливать виски в высокий стакан.
— Немного простудился, боюсь льда, — неожиданно обратившись к Адальберту, сказал сосед.
«А ведь это немец!» — с опаской подумал Адальберт.
Минуту-другую он соображал, как ему поступить. Этот незнакомец, конечно, слышал, как он, Адальберт, обменялся немецкими фразами со стюардессой. Делать теперь вид, будто он не знает немецкого, было бы еще менее разумно, чем признаться, что это его родной язык. Все сомнения разрешила Ангелика. Она вдруг открыла глаза и спросила:
— Нам еще долго лететь?
— О-о! — воскликнул сосед, разбавляя виски содовой водой из маленькой бутылочки. — Фрау, стало быть, тоже немка? Рад познакомиться. Разрешите представиться: Хайнц Готшальк.
Он вынул из нагрудного кармана пиджака сигару и, чуть приподняв ее, спросил Ангелику:
— Вы не возражаете?
— Нет, нет! — ответила Ангелика.
Готшальк извлек из кармана брюк золотую зажигалку, закурил и, пригубив виски, сказал, обращаясь на этот раз к Адальберту:
— А вы напрасно отказались. Отличное виски! Немного помолчав, Адальберт решил все же представиться:
— Хорст Альбиг. А это моя жена — Ангелика.
— Очень приятно! Лететь нам еще долго, фрау Альбиг! — расплылся в улыбке Готшальк, мельком взглянув на свои часы. — Насколько я понимаю, мы соотечественники?
— Вы живете в Германии? — вместо ответа спросил Адальберт.
— О нет! Я живу в Аргентине. Адальберт ощутил некоторое облегчение.
— И давно?
— Можно сказать, с незапамятных времен, герр Альбиг! Родители переехали в Аргентину, когда мне было семь лет.
«Семь лет!» — мысленно повторил Адальберт, наскоро подсчитывая, когда это могло быть. На вид Готшальку было лет пятьдесят. Значит… если, скажем, сорок три года тому назад… тысяча девятьсот третий!.. Получается, все прошло мимо этого человека. И первая мировая, и рождение национал-социализма, и третий рейх, и разгром Германии…
— А вы? — спросил Готшальк. — Вы живете в Аргентине?
— Нет, но буду жить! — твердо произнес Адальберт.
— Вы… вы из беженцев? — пристально вглядываясь в лицо Адальберта, спросил Готшальк.
И вдруг Адальберт с тревожным чувством осо знал, что как-то незаметно для себя он подошел к «красной черте», к которой не следовало приближаться и которую уж во всяком случае нельзя было пересекать.
— Я раненый офицер вермахта, — торопливо произнес он, — лечу к родственникам в Аргентину… для продолжения лечения…
— Как я вам сочувствую! — проникновенным тоном произнес Готшальк. — Эта ужасная война! Сколько жертв, сколько лишений, сколько страданий!
«Черта с два ты страдал в своей Аргентине!» — со злобой подумал Адальберт.
— Я всей душой с моими соотечественниками! — растроганно продолжал Готшальк. — Бывали моменты, когда я хотел вернуться на родину и воевать.
— Но вы успешно преодолели это желание? — будучи не в силах сдержаться, иронически спросил Адальберт.
— Не надо корить меня, дорогой Альбиг! — чуть ли не жалобно проговорил Готшальк. — Поймите, на моих плечах огромная скотоводческая ферма. Она требует неусыпных забот. Но сердцем своим я всегда был с фюрером. Хайль Гитлер! — снижая голос, произнес Готшальк и слегка приподнял правую руку.
— Хайль! — буркнул Адальберт, все еще кипя злобой. Потом спросил с плохо скрытой издевкой: — Откуда же у вас такая ферма? Досталась в наследство?
— Вы не ошиблись. Но надо сказать, что после смерти родителей я значительно расширил ее.
— И как же вам это удалось?
— Что тут можно ответить? — пожал плечами Готшальк. — Немцы, с давних пор осевшие в Аргентине, имеют сильное влияние на экономику страны. Они вложили большой капитал в химическую промышленность, в сельское хозяйство, в городской транспорт… Словом, мне очень повезло. Меня поддержали соотечественники. Они знали мои убеждения…
«Ах, у тебя еще есть и убеждения! — подумал Адальберт. — Мы за свои убеждения платили кровью. А ты… ты значительно расширял свою ферму!»
Но, несмотря на неприязнь к Готшальку, Адальберт не удержался и спросил:
— А вы не боялись открыто высказывать свои симпатии, когда шла война?
— Почему я должен был бояться? — удивился Готшальк. — Аргентина — страна демократическая. У нас выходят газеты, все эти годы сочувствовавшие рейху. Я их выписываю и регулярно читаю.
Ангелика, внимательно прислушивавшаяся к разговору, неожиданно спросила:
— Простите, а немецкие школы там есть? Готшальк бросил взгляд на прикрытый пледом живот Ангелики, понимающе кивнул и ответил:
— Ну, конечно! И две из них — «Германиа-шуле» и «Гете-шуле» — знает вся Аргентина!
«Очевидно, этот преуспевающий тип не врет, — подумал Адальберт. — Все, что он говорит, совпадает с тем, что Гамильтон рассказывал об Аргентине».
Адальберту хотелось расспросить Готшалька еще о многом, но он промолчал. Многолетняя работа в гестапо приучила его к сдержанности.
— Рад был познакомиться с вами, — пробурчал Адальберт и, немного помолчав, добавил: — У нас еще есть время поспать.
Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Готшальк повернул голову к окну.
«Обиделся! — подумал Адальберт. — Ну и пусть! Не могу же я идти на риск в конце концов».
Радость ожидания охватила его и тут же сменилась щемящим чувством тревоги. Ребенок… Мальчик, конечно! Теперь их трое. Теперь он должен думать о безопасности всей семьи.
«Но разве это зависит только от меня? — мелькнуло у него в голове. — Я же не знаю, что ждет нас в Аргентине. Смогу ли я там бороться за восстановление рейха? Если верить Гамильтону… Впрочем, к чему загадывать? Еще несколько дней, и все будет ясно. Нет, даже раньше! Как нас встретят, куда повезут, что скажут — все это уже будет ориентиром… А что, если Гамильтон обманул меня? Он любой ценой хотел заполучить списки агентуры, а добившись своего, отправил меня за океан, чтобы замести следы. Может быть так?…» Одна тревожная мысль сменяла другую.
Адальберт не заметил, как задремал. Проснулся он оттого, что Ангелика дернула его за рукав пиджака.
— Ади, Ади, смотри! — взволнованно проговорила она.
Адальберт открыл глаза. И увидел светящееся табло: «Закрепите ремни безопасности! Не курить!»
«Значит, скоро, уже очень скоро мы будем на месте!» — подумал он.
Подумал с радостью. И с горечью. С радостью — от сознания, что он уже недосягаем для русских, не-досягаем для немцев, которые предали Германию. Горечь порождалась сознанием, что от родной Германии его теперь отделяют тысячи и тысячи километров.
«Господа! — раздался усиленный репродуктором голос стюардессы. — Через несколько минут наш самолет приземлится на аэродроме в Буэнос-Айресе. Экипаж самолета сердечно поздравляет пассажиров с завершением долгого путешествия и надеется еще не раз увидеть их на нашем борту!»
…К самолету подкатили трапы, и человеческий поток устремился к двери. Адальберт понял, что ее уже открыли, ощутив дыхание раскаленного воздуха.
Стюардесса, стоявшая у двери, помогла Ангелике переступить порог. Следом за женой вышел на трап и Адальберт. Теперь лишь десять металлических ступенек отделяли его от аргентинской земли.
Адальберт взглянул вниз. Немного поодаль стояло несколько человек, всматривавшихся в лица пассажиров, которые медленно спускались по трапу. Время от времени то один из встречавших, то другой радостно взмахивал рукой и устремлялся к трапу. Объятия, поцелуи…
Адальберт понял, что среди пассажиров были very important persons [4], - иначе встречавшим не разрешили бы подойти так близко к самолету.
Неподалеку, у длинного застекленного здания аэропорта, стояло несколько автомашин. «Может быть, одна из них ожидает нас, — подумал Адальберт. — Как-никак все это машины немецких марок; „Мерседес“, „БМВ“, „Хорьх“…»
Взглянув на соседний трап, по которому тоже спускалась цепочка пассажиров, Адальберт увидел Готшалька. Сойдя вниз, тот уверенно зашагал по направлению к машинам. Шофер, стоявший около синего «Мерседеса», услужливо распахнул перед ним дверцу…
Адальберт понимал, что если кто-либо и встречает их, то сможет опознать его только по изуродованному лицу. Поэтому он стал поворачивать голову вправо и влево, чтобы его отовсюду могли увидеть.
Но напрасно. Судя по всему, никто его не встречал, никому он не был нужен.
И тут, как назло, Ангелика, чуть обернувшись, спросила:
— За нами кто-нибудь приехал, Ади? Ведь ты говорил… — Она умолкла.
— Наверное, ждут в здании аэропорта, — угрюмо ответил Адальберт. А про себя подумал: если и там их никто не встретит, то придется взять такси и поехать в какой-нибудь отель — деньги у него, слава богу, в избытке. А потом? Потом — полная неизвестность.
…Они влились в поток людей, направлявшийся к большим дверям аэровокзала. До Адальберта доносилась разноязыкая речь, но, к своему разочарованию, он на этот раз не услышал, чтобы кто-нибудь говорил по-немецки.
Очередь у застекленной будки с надписью «Паспортный контроль» выстроилась довольно длинная.
Зал, в котором находилась будка, был переполнен: туда и сюда сновали сотни людей — белые, желтые, черные. Гул стоял такой, словно все эти люди старались перекричать друг друга. Адальберт был близок к отчаянию. Их и здесь явно никто не встречал.
— У меня нет больше сил! — не поворачивая головы, еле слышно проговорила Ангелика.
— Милая, потерпи, нам осталось совсем немного, — вполголоса ответил Адальберт, — совсем немного, и ты сможешь прилечь…
Когда Ангелика и Адальберт приблизились к будке, он поставил чемоданчики на пол и, обойдя жену, протянул в окошечко два удостоверения Красного Креста.
Полицейский стал просматривать документы, время от времени поглядывая то на фотографии, то на Адальберта и Ангелику. Это продолжалось недолго — какие-нибудь две минуты, но Адальберту они показались вечностью. Нет, снимки были, конечно, в полном порядке: он сфотографировался уже после пластической операции. Аргентинские въездные визы выглядели весьма убедительно. Хорст Альбиг — и имя, и фамилия звучали вполне правдоподобно. Becпокоиться вроде бы не о чем…
И все же у него замирало сердце. Каждую секунду он ждал, что полицейский отложит удостоверения в сторону и сухо скажет: «Вам придется немного обождать! Ваши документы нуждаются в дополнительной проверке».
Но этого не произошло. Чиновник сделал какую-то пометку в большой тетради, взял со столика штемпель на длинной деревянной ручке и с лихим стуком поставил печати на удостоверениях Адальберта и Ангелики. Затем он протянул им документы и сказал по-немецки, хотя и с чудовищным акцентом:
— Аллее ин орднунг. Битте шен! [5]
— Данке! — пробормотал Адальберт и добавил немного громче: — Данке шен!
За будкой тянулся довольно узкий проход, и туда устремлялись люди, прошедшие проверку паспортов.
По ту сторону барьера толпились встречающие. То один, то другой, расталкивая толпу, бросался к проходу и сжимал в объятиях кого-либо из только что прибывших. Поцелуи, слезы, радостные возгласы…
Адальберт замедлил шаг в надежде, что и к нему кто-нибудь обратится, но все было напрасно. Их никто не встречал. Что делать, что делать?! Бригаден-фюрер СС Адальберт Хессенштайн, привыкший отдавать приказы и внушать людям безотчетный страх, человек, который еще совсем недавно мог одним росчерком пера отправить кого угодно на тот свет, сейчас чувствовал себя как ребенок, неожиданно оказавшийся в чужом городе, одинокий и забывший в панике адрес своих родителей.
Усилием воли он попытался взять себя в руки. «Не надо терять голову! — сказал он себе. — Деньги у меня есть — это самое главное. Надо получить багаж, взять носильщика, выйти на улицу — у аэропорта наверняка есть стоянка такси. Доберемся до отеля и сразу же вызовем врача, чтобы он осмотрел Ангелику, а затем…»
Адальберт старался не думать о том, что будет «затем». Ясно одно: либо Гамильтон обманул его, либо не сработало что-то в бюрократической машине и в Буэнос-Айрес не сообщили об их приезде. И в результате он с беременной женой будет предоставлен самому себе… Тут он заметил еще одно ограждение. На большом щите, укрепленном на двух столбиках, было написано по-испански:
«ADUANA».
«Что это может означать? — подумал Адальберт. — Еще одна проверка?» У него не было опыта заграничных поездок. До сих пор весь мир был сосредоточен для него на Германии. Остальные страны он воспринимал как далекие звезды. Подойдя ближе ко второму ограждению, он увидел за ним нескончаемые полки-прилавки, на которых находились раскрыт тые чемоданы, и понял, что загадочная «ADUA-N А» означала просто «Таможня». По ту сторону полок стояли люди в униформах — не то военные, не то полицейские. Они склонялись над чемоданами и быстро осматривали их содержимое. Потом резко захлопывали крышки чемоданов, наносили на них мелком какой-то условный знак, и после этого пассажир, стоящий по другую сторону прилавка, забирал свой чемодан и исчезал с ним в толпе у выхода из аэропорта.
«Конечно, это таможня! — с тревогой подумал Адальберт. — Сейчас они начнут копаться в наших чемоданах».
Его вещи еще не пришли, хотя в стороне, у стены, росла груда чемоданов, которые доставляли туда носильщики. Пассажиры, окружавшие эту груду, выискивали в ней свои вещи и ставили их на таможенную полку.
Самое ценное — миниатюрные изделия из золота и платины — Адальберт с помощью Ангелики хитрое умно зашил в потайные карманы своего пиджака, в обшлага брюк, хотя до самого отъезда так и не узнал, что именно разрешается ввозить в Аргентину и за что надо платить пошлину.
И снова страшная мысль вонзилась в мозг Адальберта: «А что если меня подвергнут личному обыску? Отберут ценности, которые обеспечили бы нам безбедную жизнь по крайней мере в течение двух-трех лет-Правда, бумажник набит долларами. Но вдруг их постигнет та же судьба?»
Груда чемоданов постепенно уменьшалась. Опустел и таможенный прилавок.
— Ади! — услышал Адальберт голос Ангелики. — Вон наши вещи. Надо взять носильщика и…
— Помолчи! — одернул ее Адальберт. Он сделал несколько шагов по направлению к чемоданам, но в этот момент услышал негромкий, но отчетливый мужской голос:
— Герр Альбиг?
В первый момент Адальберт не обратил на этот вопрос никакого внимания. Но спустя мгновение спохватился: «Но… но ведь это я — Альбиг! За такую забывчивость можно и головой поплатиться».
Он приподнялся на цыпочки, напряженно вглядываясь в ту сторону, откуда раздался голос. И увидел… В конце таможенного прилавка стояли два человека в цветных рубашках с расстегнутыми воротниками. Один — высокий, в темных очках, с сединой в густых волосах, другой — пониже ростом, в соломенной шляпе. Встретившись взглядом с Адальбертом, человек в шляпе высоко поднял руку и, приветливо помахав ею, снова крикнул:
— Герр Альбиг! Подойдите к нам, пожалуйста! Он говорил на чистом немецком языке, и это очень обрадовало Адальберта. Чуть ли не бегом он бросился к дальнему концу прилавка… Все, что происходило потом, он видел как бы в тумане. Откуда-то появились носильщики, они подхватили чемоданы, на которые им указал Адальберт, и поставили их на прилавок. Таможенник, даже не заглядывая внутрь, сразу же сделал на них пометки мелком. Носильщики снова подхватили чемоданы… Адальберт начал отдавать себе отчет в происходящем только тогда, когда очутился в каком-то маленьком автобусе. Чемоданы были уже в багажнике. Человек в соломенной шляпе широким жестом указал на сиденье, предназначенное для двух человек. Адальберт заботливо и осторожно усадил Ангелику, сам сел рядом, а те двое разместились сзади. В автобусе их ожидал еще один незнакомец средних лет.
Черноволосый парень в пропотевшей — рубашке сел на шоферское сиденье и повернул ключ зажигания. Затарахтел мотор…
— Ну вот, герр Альбиг, — сказал за спиной Адальберта тот, кто был в, шляпе, — теперь мы наконец можем спокойно поговорить. Как вы перенесли столь длительный перелет? Фрау Альбиг, наверное, очень устала?
Адальберт все еще не мог прийти в себя от столь резкой перемены: только что он чувствовал себя одиноким и бездомным в чужой стране, где он никому не был нужен, и вдруг., теплая встреча, приветливые люди, удобный микроавтобус…
Однако зрелище, представавшее перед Адальбертом, с интересом глядевшим в окно, было не самым привлекательным: по обе стороны шоссе стояли убогие, покосившиеся домишки. Время от времени микроавтобус обгоняли грузовые машины. На заднем борту чуть ли не на каждой из них была намалевана краской какая-то надпись.
— Что там написано? — с любопытством спросил Адальберт, обернувшись к своим спутникам.
— Это все шутки, герр Альбиг! — ответил человек в шляпе. — Аргентинцы — веселые люди. Перевести вам? На борту вон той желтой машины написано: «Ищу невесту, новенькую, прямо с конвейера». А на той зеленой, которая ее обгоняет: «Верь в свою звезду, и счастье тебе обеспечено!»
Адальберт подумал, что эти слова могли бы сейчас стать его девизом.
— Извините, герр Альбиг, ведь мы еще вам не представились, — продолжил разговор тот, кто был в шляпе.
— Какие бы имена и фамилии вы ни назвали, мы бесконечно благодарны вам за встречу, — сказал Адальберт. — Вы даже не можете себе представить, что мы с женой пережили… Ведь мы уже подумали, что нас никто не встретит.
— Ну, что вы, что вы! Такого и быть не могло, — с легкой усмешкой проговорил человек в шляпе. — Итак, меня зовут Альфред Вайслер, а моего коллегу — Кальвай. Отто Кальвай.
— Вы, конечно, немцы? — спросил Адальберт.
— Еще бы! Такие же, как и вы, герр Альбиг. А мой друг — американец. Мистер Артур Крэймер.
Молчаливый незнакомец слегка наклонил голову.
«Вы связаны с мистером Гамильтоном?» Эта фраза чуть было не сорвалась с языка Адальберта. Но он осекся. «Такие вопросы не задают! — сказал он сам себе. — Я не в гестапо. И эти люди — не мои подследственные. Все надо предоставить естественному ходу событий. К тому же и так ясно, что эти ребята находятся в тесном контакте с Гамильтоном и его ведомством. Что ж, тем лучше!»
И все же он не мог удержаться:
— Простите, а куда мы сейчас едем? Может быть, мой вопрос несколько бестактен. Я понимаю, что должен во всем полагаться на вас. Но… вы же видите… моя жена… Меня, естественно, беспокоит, что…
— Перестань, Ади! — с неожиданной резкостью прервала его Ангелика. — Я не единственная женщина на свете, которая через это проходит.
— Хорошо, хорошо, — покорно проговорил Адальберт и, немного помолчав, снова спросил: — Но все же, если это не секрет, скажите мне, пожалуйста, куда мы направляемся?
— В вашу резиденцию, герр Альбиг. Одним словом, туда, где вам и вашей супруге предстоит поселиться, — ответил Вайслер. — Хочу заранее предупредить вас: это не отель, а, так сказать, частный пансион, который содержит наша соотечественница. Правда, он находится не в самом городе, а на одной из его окраин… Но, полагаю, вам будет там уютнее. Никаких любопытных и назойливых соседей. Это, собственно говоря, пансион, рассчитанный на одну семью. Мы очень обрадовались, когда узнали, что он недавно освободился. Насколько мне известно, материальных затруднений вы не испытываете?
— На первое время я обеспечен, — сдержанно ответил Адальберт.
— Думаю, что все будет хорошо. В районе, где находится предназначенная для вас вилла, живут и другие немецкие семьи. Должен сказать, что никто из них не нуждается. Аргентина — страна гостеприимная. Особенно, когда речь идет о наших соотечественниках.
Он бросил взгляд на Ангелику. Лицо у нее было восковое, глаза закрыты, голова откинута на спинку сиденья.
— Гели, родная, — наклоняясь к уху жены, прошептал Адальберт, — ты себя плохо чувствуешь?
— Больно! — Голос Ангелики прозвучал так, словно он донесся откуда-то издалека.
— Ради бога, не волнуйтесь, герр Альбиг! — наигранно бодрым тоном проговорил Вайслер. — Неподалеку от вашего пансиона есть маленькая, но очень хорошая больница. Если потребуется срочная медицинская помощь… — Сделав неопределенный жест, он умолк.
Адальберт перевел взгляд на американца. С момента их встречи тот не произнес ни слова. Судя по всему, он не знает немецкого.
— Насколько я могу судить, — сказал Адальберт, обращаясь к Вайслеру, — ваш друг не говорит по-немецки?
— Нет, почему же? — возразил Вайслер.
— Я говорю по-немецки, — вдруг сказал Крэймер и добавил: — Во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы меня понимали друзья.
— Да вы отлично говорите! — воскликнул Адальберт, несколько покривив душой.
— Господин Крэймер представляет в Аргентине Американский Красный Крест, — вмешался в разговор Вайслер. — Я тоже сотрудник Красного Креста и, стало быть, в известной мере подчиняюсь мистеру Крэй-меру. А поскольку вы оказались в Аргентине благодаря заботам этой организации, все мы связаны друг с другом, так сказать, коллегиальными узами. Впрочем, мы поговорим об этом на месте, то есть на вашей вилле, герр Альбиг.
— А еще далеко? — поинтересовался Адальберт.
— Нет! Мы уже почти приехали. Адальберт прильнул к окну.
Машина свернула с автострады влево и теперь мчалась по узкой асфальтированной дороге. Еще один поворот, и за высокой металлической оградой показался двухэтажный каменный домик. К первому этажу примыкала крытая застекленная веранда. Шофер дал два резких гудка, и какие-то пестрые птицы в испуге сорвались с окружающих дом деревьев…
Машина затормозила и несколько секунд спустя остановилась у широких лестничных ступенек, ведущих на веранду. Тотчас же растворилась дверь, и на пороге появилась худощавая, немолодая женщина в пестром переднике. Голову ее прикрывала наколка, а на ногах были домашние туфли.
Шофер потянул к себе рычаг и открыл дверь микроавтобуса. Первым из машины выскочил Вайслер. Двумя прыжками он преодолел ступени лестницы и, очутившись на веранде, преувеличенно весело воскликнул:
— А вот и мы, фрау Вольф! Наступил конец вашему одиночеству! Познакомьтесь с вашими новыми постояльцами: фрау и герр Альбиг.
— Добро пожаловать, господа! — негромко по-немецки произнесла женщина. — Не могу вам передать, как приятно чувствовать себя среди своих.
У нее был типично баварский выговор, и это с радостью отметил про себя Адальберт.
А немка тем временем спустилась с веранды, подошла к распахнутой двери автобуса и, обращаясь к сидевшим в нем людям, сказала с легким поклоном:
— Вальтрауд Вольф к вашим услугам, господа!
И в это мгновение Ангелика громко застонала.
— Сейчас мы организуем перенос ваших вещей… — начала было Вольф, но Адальберт прервал ее:
— Ради бога! Прежде всего надо помочь моей жене перебраться в дом и уложить ее в постель.
Казалось, только сейчас Вальтрауд заметила вздувшийся живот Ангелики.
— О боже! — воскликнула она. — Как же это я, старая дура, не обратила внимания… Ваша жена может сама передвигаться?
Ангелика приподнялась было со своего кресла, но тут же со стоном упала обратно.
— Помоги мне, Ади, — еле шевеля потрескавшимися губами, проговорила она и протянула Адальберту руки.
— Разрешите мне, герр Альбиг! В конце концов это женское дело! — решительным тоном произнесла Вальтрауд. Затем она наклонилась к уху Вайслера и, говоря тихо, чтобы ее не слышала Ангелика, сказала: — Надо немедленно вызвать врача и акушерку. Такими вещами не шутят.
…И через десять, и через двадцать лет Адальберт не забудет этого мучительного, хотя и короткого перехода. Осторожно приподняв Ангелику, они с огромным трудом помогли ей спуститься со ступенек автобуса и подняться на веранду.
Они медленно миновали столовую и приблизились к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Адальберт увидел стол с вышитой скатертью, буфет в стиле «бидермайер», этажерку с фарфоровыми пастухами и пастушками, старые гравюры. Над лестничной площадкой в небольшой серебряной рамке висел портрет Гитлера, и Адальберт задержал шаг, устремив свой взор. на портрет.
Это те прошло незамеченным для фрау Вольф.
— Осталось от прежних жильцов… Впрочем, если господа пожелают, я сниму портрет.
— Ни в коем случае! — отрезал Адальберт.
— Я вас хорошо понимаю, — вполголоса сказал Вайслер. И тут же, точно вспомнив о самом главном, спросил: — Ваш телефон в порядке, фрау Вольф?
— В полном порядке, герр Вайслер! Позвольте, я вас провожу.
Они ненадолго вышли из комнаты. А когда вернулись, Вайслер сказал:
— С медиками договорились. Врач и акушерка выезжают. До больницы тут каких-нибудь пятнадцать минут езды.
— Прошу вас наверх! — сказала Вольф.
Они молча поднимались по лестнице: впереди шествовала Вальтрауд, как бы указывая путь. За ней следовала Ангелика, которую с обеих сторон поддерживали Адальберт и Вайслер.
Они вошли в спальню. Посредине комнаты стояла широкая кровать, прикрытая кружевным покрывалом, у изголовья — старомодная тумбочка, а несколько в стороне — глубокое кресло, обитое темно-зеленым бархатом. У стены слева располагался дубовый платяной шкаф, а у стены справа — комод с широкими выдвижными ящиками, там же стояло трюмо.
Вольф шагнула к кровати, резким, энергичным движением сдернула кружевное покрывало, откинула одеяло и, повернувшись к Ангелике, сказала:
— А теперь в постель, моя дорогая. Я сейчас помогу вам раздеться… Полагаю, господа мужчины нас на некоторое время оставят.
— Я ни за что не уйду! — воскликнул Адальберт.
— Решение этого вопроса я беру на себя, — сухо проговорила Вольф. — Я мать двоих сыновей… Они погибли на Восточном фронте… В жизни каждой женщины бывают минуты, когда присутствие мужа, даже горячо любимого, крайне нежелательно. Как только фрау Альбиг немного отдохнет, я приглашу вас наверх.
— Пойдемте, Адальберт, — в первый раз назвав его по имени, сказал Вайслер. — Вы только помешаете. А у фрау Вольф достаточно большой опыт. Ради здоровья вашей супруги… пойдемте! — И он слегка подтолкнул его к двери.
— Ну, а теперь присядем, поговорим, — сказал Вайслер, когда они спустились вниз.
Крэймер сел за стол, рядом с ним расположился Вайслер, а напротив — Адальберт.
— Итак, герр Альбиг, — медленно и внушительно проговорил Вайслер, — чем же вы намерены заняться в Аргентине?
В этот момент у входной двери раздался резкий звонок, и они услышали голос спускающейся фрау Вольф:
— Врач!.. Я сейчас открою.
Звонок и слова Вольф как бы перенесли Адальберта из настоящего в еще более тревожное будущее. «А хорошо ли они знают свое дело, эти аргентинские медики?» — подумал он.
Адальберт стал вспоминать книги, которые он когда-то читал, — описания того, как женщины погибали во время родов.
В сопровождении фрау Вольф в комнату вошли врач, невысокий, лысый старик в белом халате, и молодая женщина в форме сестры милосердия. У старика в руках был небольшой черный саквояж, а сестра несла металлический ящик, на крышке которого был изображен красный крест.
Вайслер и врач обменялись несколькими фразами. Но, поскольку они говорили по-испански, Адальберт, разумеется, ничего не понял.
Вальтрауд Вольф указала медикам на лестницу и пошла вслед за ними. Адальберт устремился было туда же, но Вальтрауд резко обернулась и подняла руку с обращенной к нему ладонью, давая понять, что наверх сейчас никого больше не пустит.
Адальберт понуро вернулся к столу, за которым сидели Вайслер и Крэймер, и тяжело опустился на стул.
— Мы сделали все, что только можно было сделать, — с мягкой сочувственной улыбкой обращаясь к Адальберту, проговорил Вайслер. — На счастье фрау Альбиг — да и на ваше тоже — в больнице дежурил очень хороший гинеколог. Я доктора Хефтмана знаю, это опытный врач…
— Но почему вы не обратились в лучшую клинику города? Ведь я могу за все заплатить! — воскликнул Адальберт.
— Если бы мы обратились, как вы говорите, в лучшую клинику, то потеряли бы два-три часа. Едва ли это было бы разумно…
Адальберт отсутствующим взглядом, словно загипнотизированный, смотрел на лестничную площадку. Ему показалось, что до него доносятся тихие стоны.
Вскоре на площадке появилась Вальтрауд Вольф.
— Как она? Скажите мне правду: как она? — дрожащим голосом спросил Адальберт.
— Она рожает! — буркнула Вальтрауд и устремилась вниз по лестнице.
— Может быть… надо что-нибудь сделать, как-то помочь?
— Нужна вода, горячая вода! — крикнула на ходу фрау Вольф, скрываясь за дверью, которая, очевидно, вела на кухню…
Адальберт попытался взять себя в руки. Как странно устроена жизнь, подумал он. Сколько стонов и криков приходилось ему слышать за все эти годы. Но человеческие страдания оставляли его равнодушным. Он зверел, когда кто-нибудь из его лагерных агентов сообщал, что группа заключенных — чаще всего русских или поляков — готовила побег. Он выходил из себя, когда эти люди на допросе отрицали свою вину. Но ни их упорство, ни их страдания не трогали Адальберта… Ангелика? Да, ее он любил. И мысль о том, что она может уйти навсегда, приводила его в отчаяние.
Долюе время они молча сидели за столом. Наконец Вайслер нарушил тягостное молчание:
— А ведь вы так и не ответили на мой вопрос, герр Альбиг. Как вам представляется ваша дальнейшая жизнь в Аргентине?
Адальберт нахмурился. Вопрос, конечно, резонный, но бестактный. Сначала Вайслер должен был бы ввести его в курс дела, а не задавать вопросы.
— Я приехал сюда, герр Вайслер, — сдержанно ответил Адальберт, — чтобы продолжать борьбу за Германию, за страну, ради которой без колебаний пошел бы на смерть…
Он не мог не заметить, что глаза Вайслера иронически сощурились.
— Отлично! — воскликнул тот. — Но как вы намерены вести борьбу? Стрелять в новых хозяев Германии через океан?
— Вы хотите сказать, что борьба невозможна?
— Нет, нет, герр Альбиг, — вмешался в разговор Крэймер, — борьба не прекращается и прекратиться не может, пока на свете существует большевистское государство, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но оказалось, что уничтожить Советскую Россию силой оружия мы пока еще не в состоянии. Пока мы даже не можем подмять красную зону Германии. Поэтому центр тяжести нашей борьбы следует перенести в сферу экономики. Советы сами живут впроголодь и, естественно, не могут поддерживать мало-мальски приемлемый уровень жизни в своей оккупационной зоне. Я уже не говорю о других странах Восточной Европы. Поэтому нашим оружием будет доллар и фунт. В соответствующей экономической системе, которую мы создаем, и для вас найдется подходящее место… Как бы вы посмотрели, герр Альбиг, на то, чтобы мы ввели вас… ну, скажем, в сельскохозяйственный бизнес? Для начала я имею в виду аргентинское отделение одного из немецких банков. Подумайте, какие возможности открываются на этом пути! Субсидирование подпольных нацистских организаций в Германии, закупка для них оружия, которое переправлялось бы куда надо…
— Но я не могу отличить рожь от пшеницы! — воскликнул Адальберт и невольно вспомнил фермера Готшалька.
— Это и не будет входить в ваши задачи. Мы хотим использовать ваш военный и разведывательный опыт для создания организационной базы, — назидательным тоном проговорил Крэймер.
«Кончена моя жизнь борца против коммунизма, — с горечью подумал Адальберт. — Из меня хотят сделать канцелярскую крысу».
— Я вижу, — сказал Вайслер, — что слова нашего друга Крэймера повергли вас в уныние. Но надо смотреть правде в лицо. Вспомните, как создавался третий рейх…
— Силой оружия! — прервал его Адальберт.
— А откуда мы его брали? Разве не закупали у крупных индустриалистов? И на какие деньги? Разве мы смогли бы создать империю без помощи Круппа и Флика? Без помощи Шахта и других?
— Они симпатизировали нам, потому и помогали!
— Не слишком ли это сентиментальная трактовка для бригаденфюрера СС? — усмехнулся Вайслер. — Однако шутки в сторону, герр Альбиг! Вас ждет ответственная работа, нужная национал-социализму. И главное..
В этот момент сверху донесся душераздирающий женский крик. Все вскочили из-за стола. Адальберт первым бросился к лестнице… И тут на площадке появилась Вальтрауд Вольф. Она протянула вперед руки с растопыренными пальцами, словно отталкивая приближающегося Адальберта. Все остановились.
— Ради бога, господа, пока сюда нельзя. Назад, пожалуйста! Это распоряжение врача.
Адальберт медленно повернулся. Страшный вопль все еще звучал в его ушах. Он остановился, мертвой хваткой вцепившись в перила лестницы. К нему обращались, его о чем-то спрашивали и Вайслер, и Крэймер. Но смысл их слов не доходил до его сознания.
Наконец дверь на верхней площадке снова раскрылась и послышался младенческий крик. Адальберт хотел броситься в спальню, чтобы увидеть, может быть, в последний раз свою Ангелику. Но тут из комнаты вышел врач. Его белый халат был покрыт кровавыми пятнами.
«Так приходит смерть», — подумал Адальберт. И хотел было закричать: «Ну! Говорите же! Если вы убили ее, я… я вас пристрелю на месте…»
— Ведь герр Альбиг — это вы? — негромко спросил врач, обращаясь к Адальберту.
— Я! Я! — оглушительно крикнул Адальберт. — Ну, говорите же! Ее больше нет?
— Их теперь двое, герр Альбиг. Вы отец. Поздравляю вас с сыном.
Путешествие в будущее
…И снова все было так, как четверть века назад. Над шторами, прикрывающими вход в кабину пилотов, вспыхнула надпись: «Закрепите ремни безопасности. Не курить».
Затем раздался голос стюардессы…
Да, повторилось почти все. Но это уже был самолет не американской авиакомпании «Пан-Америкэн», а западногерманской «Люфтганза», и полет через Атлантику предстоял по маршруту: Буэнос-Айрес — Франкфурт-на-Майне. И стюардесса обращалась к пассажирам сначала на немецком языке, а затем на испанском и на английском.
…Этот самолет был почти вдвое больше того, на котором летел когда-то Хессенштайн-Квангель-Альбиг. Кресла были более мягкими, в отделении первого класса — по два в ряду, в туристическом — по три. Тихая музыка лилась из невидимых репродукторов, бесшумно струился прохладный воздух из вентиляторов над креслами — словом, если где-то в далекой, недостижимой высоте и вправду существовал рай, то здесь было создано его подобие: полный комфорт, блаженный покой, неземные улыбки ангелоподобных стюардесс.
В одном из салонов первого класса сидел Альбиг. Нет, не Адальберт, а его сын Рихард. Он положил на соседнее свободное кресло плоский чемоданчик из черной кожи, который отец подарил ему ко дню рождения. Рихарду было около двадцати пяти лет, но выглядел он старше. Худощавый, подтянутый, мускулистый, он был натренирован занятиями в военно-спортивном клубе.
С ленивым любопытством Рихард наблюдал, как люди занимают места. Внезапно его внимание привлекла высокая стройная девушка с голубой сумкой «Люфтганзы» через плечо. «До чего же хороша!» — подумал Рихард. Белокурые волосы, собранные в пучок, огромные глаза, слегка подкрашенные губы, осиная талия. Скорее инстинктивно, нежели сознательно, он быстро убрал с соседнего сиденья свой кейс и, наклонившись к проходу, громко сказал по-немецки:
— Пожалуйста, фройляйн! Здесь свободно!
Она улыбнулась, тихо ответила «данке» и направилась к Рихарду.
«Слава богу, она немка!» — подумал он. Латиноамериканцев Рихард не любил, как не любил метисов, индейцев и негров. Он придумал слово «пестромазые» и обозначал так всех людей черной, желтой или смешанной расы. К американцам же он относился с некоторым подобострастием.
— Меня зовут Рихард Альбиг, милости прошу! — сказал он, когда девушка подошла к креслу.
— Sehr angenehm! Ich heifie Gerda Wallenberg [6].
Она закинула на багажную полку свою сумку и села.
Рихарду мучительно хотелось завязать с ней разговор, но он не знал, с чего начать. И тут в проходе возникли две стюардессы. Одна из них начала объяснять, как пользоваться спасательным жилетом в случае аварийной посадки на воду, а вторая стала демонстрировать, как с ним надо обращаться.
Когда стюардессы закончили свои объяснения и удалились, Рихард неожиданно для самого себя обрел дар речи и с усмешкой сказал Герде:
— Приятное напутствие! А как быть с акулами?
— Я не знаю их привычек, — тоже с улыбкой ответила Герда. — Надеюсь, что мы придемся им не по вкусу.
Слово «мы» как бы объединило Рихарда с нею, и он почувствовал себя увереннее.
— Может быть, вы хотите немного поспать? — вежливо осведомился Рихард. — Я сейчас достану плед…
Не ожидая ее ответа, он вскочил и снял с багажной полки один из пушистых клетчатых пледов.
— Спасибо, герр Альбиг! — поправляя на себе плед, сказала Герда. — Я и в самом деле попробую задремать. Целую ночь не спала…
— Прощальная вечеринка с друзьями?
— Да нет! — покачала головой Герда. — Я торопилась в Буэнос-Айрес из Парагвая, боялась упустить этот самолет. Следующего пришлось бы ждать три дня.
Теперь появились темы для разговора. Что она делала в Парагвае? Живет ли в Аргентине? Приходилось ли ей бывать в Германии?.. Но Рихард решил не быть надоедливым, только сказал: «Постарайтесь отдохнуть!» И при этом подумал: «Перелет долгий — успеем еще наговориться».
Герда закрыла глаза… Она, видимо, была очень переутомлена — теперь Рихард заметил синеватые круги под ее глазами.
«Ничего, время у нас будет! Перелет долгий, — повторил он про себя. — А что если и мне немного подремать?» Его клонило ко сну — ведь он встал очень рано, отец разбудил его чуть свет, мать тоже проснулась, и втроем они принялись упаковывать вещи. А их было много — Рихард отправлялся в Германию не на неделю, не на месяц, а навсегда.
Впрочем, слово «навсегда» не возникало в разговорах с родителями. Отец не раз — по различным поводам — произносил фразу: «Когда ты вернешься…» Но Рихард твердо знал: он не вернется. Никогда. Он обретет наконец подлинную родину и не покинет ее до конца своей жизни.
Рихард откинулся на спинку кресла и нажал кнопку под правым подлокотником. Спинка резко подалась назад. Он еще раз взглянул на Герду. Она безмятежно спала. Рихард тоже закрыл глаза.
В глубинах его подсознания проплывали, переплетаясь между собой, обрывки сновидений. Германия. Рихард знал ее по рассказам отца, по книгам и газетам, которые он усердно читал в университетской библиотеке. И вот теперь все это оживало перед его мысленным взором.
…Отец столько раз рассказывал ему о фюрере, о мюнхенском путче, о факельных шествиях штурмовиков, о стадионе, где тысячи и тысячи людей рукоплескали Гитлеру.
Картины реалистические сменялись видениями мистическими. Бесстрашный Зигфрид представал перед ним в красном тумане в мундире эсэсовского офицера…
Рихард родился в тот день, когда его родители прибыли в Буэнос-Айрес. Об этом ему не раз говорила мать. А отец — когда Рихард подрос — использовал чуть ли не каждый свободный вечер, чтобы рассказывать сыну о Германии. Он хотел, чтобы Рихард любил свою далекую родину, любил ее героическое прошлое, неразрывно связанное с подвигами нацистов — рыцарей третьего рейха.
Рихард жадно ловил каждое слово отца. Он только не мог понять, почему отец, занимавший столь высокий пост в гестапо, не оказался среди подсудимых в нюрнбергском Дворце правосудия. Хитрость? Изворотливость? Помощь верных друзей? Так или иначе, ему удалось спастись. Это хорошо. Но почему он после окончания войны покинул Германию? В глубине души Рихард не мог найти оправдания отцу, который лишил родины себя, жену и еще не родившегося тогда сына.
Да, отец преуспевал здесь, в столице Аргентины. Он занимал пост управляющего банком и поддерживал тесные связи с Германией — особенно после образования Федеративной Республики. Чуть ли не каждую неделю их дом посещали какие-то немцы. Рихард не знал их, но отец говорил, что это представители правления Баварского банка. Он запирался с ними в своем кабинете, а потом, за вечерним чаем, делился с Рихардом и Ангеликой последними новостями из Германии.
С одним из представителей Баварского банка у Рихарда сложились дружеские отношения. Звали его Клаус Вернер, и останавливался он почему-то не в отеле, как другие, а у них в доме.
Клаус был лет на пять старше Рихарда. Он охотно отвечал на все его вопросы о Германии, но в общении был резок и с первых же дней знакомства держался с ним, как офицер с солдатом. Рихарду это даже нравилось — у него возникало ощущение, будто он приобщается к повседневной жизни далекой родины.
Рихард не раз водил Клауса в военизированный спортивный клуб, организованный местными нацистами. Но когда он спросил своего нового друга, как ему там понравилось, тот презрительно скривил губы:
— Что толку размахивать оружием за десять тысяч километров от реального врага?
На Рихарда эти слова произвели глубочайшее впечатление. Он вспоминал их вновь и вновь всякий раз, когда отец — после очередного визита представителя Баварского банка — приглашал несколько человек из немецкой колонии Буэнос-Айреса и рассказывал им о политической обстановке в Германии.
Рихард нередко присутствовал на этих сборищах. Он сидел с книгой в руках в некотором отдалении от круглого стола, за которым беседовали взрослые. Но не читал. Он вслушивался в рассказы о стычках между подлинными патриотами Германии и еврейско-ли-беральными предателями, о боевых митингах, о взрывах бомб и о многом, многом другом… Да, партия Гитлера потеряла своего великого вождя, но она возродилась под другим названием. Ныне новая, национал-демократическая партия использует все возможности для того, чтобы заявлять о своем существовании и готовности к активной борьбе.
И снова и снова Рихард задавал себе мучительный, безответный вопрос: почему отец, безгранично преданный третьему рейху, не остался на родине, чтобы продолжать борьбу в подполье?
Однажды он спросил об этом Клауса. Тот усмехнулся, сощурил свои колючие глаза, пожал плечами и сказал:
— Наверное, твой отец надеялся, что ты продолжишь его дело…
И вот тогда в сознании Рихарда родилась мечта о переезде в Германию. С каждым днем мечта эта крепла и наконец захватила его целиком. Он знал, что предстоят выборы в бундестаг, и был уверен, что именно сейчас наступает роковой час для немецкого народа. Ведь, судя по газетам, социал-демократ Брандт в случае победы на выборах заключит предательские договоры с Москвой и со всем восточным блоком…
Когда Клаус после очередного приезда в Аргентину возвращался в Германию, связь между друзьями не обрывалась. Они вели оживленную переписку. Клаус сообщал — разумеется, не называя имен и фамилий — об очередных акциях, предпринятых членами национал-демократической партии, которой теперь руководил некто фон Тадден, и все более и более настойчиво звал своего друга в Германию.
Наконец Рихард решился поговорить на эту тему с отцом. Он зашел в его кабинет поздно вечером. Отец, как и всегда после ужина, сидел за своим большим письменным столом, заваленным бумагами. Не зная, как подступиться к делу, Рихард стал говорить о том, что мечтает о каких-то глубоких переменах в своей жизни. Неопределенность его высказываний вызвала у отца раздражение:
— Не мямли! О чем речь? Может быть, ты влюбился и собираешься жениться?
Рихард был не прочь поухаживать за сговорчивыми девушками, но вопрос отца был так далек от того, что его сейчас волновало, что он смешался и выпалил:
— Я хочу уехать в Германию! Минуту-другую Адальберт молчал, потом слегка развел руками и медленно проговорил:
— Что ж, это вполне естественное желание. Можешь поехать по туристскому маршруту…
— Нет! — порывисто воскликнул Рихард и, словно испугавшись звука своего голоса, произнес уже тише, но твердо: — Я хочу уехать в Германию навсегда.
От неожиданности Адальберт откинулся на спинку кресла, шрамы на его лице побагровели.
— Пойми меня, отец, — торопливо заговорил Рихард, — я не могу жить на краю света, когда Германии так нужны молодые люди, готовые бороться за ее возрождение. Я знаю, ты не можешь не одобрить моего решения. Именно ты!
Рихард даже не сознавал, в какое трудное положение он поставил отца. С одной стороны, Адальберта радовало, что сын хочет идти по его стопам, что его уроки — рассказы о героическом прошлом третьего рейха — не прошли даром… Но вместе с тем Адальберта охватывала тревога. Ведь у парня нет никакого опыта конспиративной работы, а в Германии сейчас разброд. Примкнув к партии фон Таддена, Рихард со своими максималистскими установками может легко попасть в руки предателей, исступленно рвущихся к власти. И тогда он действительно не вернется. А ему, Адальберту, остается уже не так много… Да и Ангелика не пережила бы потерю сына. После долгой паузы Адальберт произнес:
— Еще раз хорошенько все взвесь! Мы вернемся к этому разговору.
…И этот последний разговор Рихард помнил во всех деталях.
— Итак, ты не изменил своего решения? — с печалью в голосе спросил Адальберт. Он сидел в глубоком кожаном кресле и в упор смотрел на сына.
— Нет! — твердо ответил Рихард.
— Что ж, — тяжело вздохнув, сказал Адальберт, — у тебя было достаточно, времени все обдумать. Послушай, Рихард, — пристально всматриваясь в голубые глаза сына, проговорил он, — я все же до конца не могу понять: что тебя так тянет в Германию?
— Твое прошлое! — резко ответил Рихард.
— Мое прошлое? — переспросил Адальберт.
— Да! Точнее, вся твоя сознательная жизнь. Ты отдал ее национал-социалистической Германии. Не твоя вина, что немцы оказались недостойными своего вождя и своего отечества…
Внезапно сновидения Рихарда оборвались. Перед глазами его возникли зеленые занавеси, прикрывающие проход в самолете, и погасшее табло над ними.
— Я не разбудила вас? — раздался участливый женский голос. Рихард посмотрел на свою соседку. Гсрда, видимо, уже давно не спала. Волосы ее были причесаны, губы чуть подкрашены бледно-розовой помадой. Она показалась Рихарду еще более привлекательной.
— Я не спал, — сказал он.
— Еще как спали! — с приветливой и слегка насмешливой улыбкой воскликнула девушка. — Я сидела не шелохнувшись, боялась разбудить вас.
Рихард немного смутился.
— Наверное, я и сам не заметил, как задремал, — виновато произнес он.
— Нет ничего лучше сна, когда совершаешь длительный перелет, — назидательным тоном проговорила Герда. — А вот мне заснуть так и не удалось. В моем кресле, видимо, что-то испортилось: спинка откидывается только наполовину.
— Давайте поменяемся местами, — с готовностью откликнулся Рихард.
— Нет, спасибо, теперь в этом уже нет нужды. Спать не хочется…
В этот момент послышалось тихое позвякивание, Зеленые занавеси, отделяющие первый класс от туристического, раздвинулись, и в проходе появилась стюардесса с катящимся столиком. У каждого ряда кресел она останавливалась, с улыбкой повторяя одну и ту же фразу: «Кофе, джин, пиво, виски?»
— Вот чашечку кофе я бы сейчас выпила с большим удовольствием! — сказала Герда.
— А чего-нибудь покрепче не угодно ли? — с добродушной усмешкой спросил Рихард.
— Не откажусь! — задорно тряхнув головой, ответила девушка и, обратившись к стюардессе, уже подкатившей свой столик, сказала: — Джин с тоником и кофе.
— Мне то же самое, — проговорил Рихард.
— Яволь, яволь! — отозвалась стюардесса. Приладив полочки-столики к креслам Рихарда и Герды, она поставила на них бутылочки с тоником, налила в высокие бокалы джин, а потом наполнила чашечки дымящимся кофе из большого термоса.
Рихард подлил тоник в стаканы и торжественно произнес:
— Прозит! За наше знакомство. За то, чтобы оно не прекращалось ни в воздухе, ни на земле. Вас зовут, кажется, Герда?
— Герда Валленберг. А вас — Рихард, не так ли?
— Рихард Альбиг к вашим услугам, фройляйн, — с улыбкой ответил он.
Они выпили по глотку.
— Вы живете в Аргентине? — спросил Рихард.
— Нет, нет! — ответила Герда, ставя свой стакан на столик. — Я живу в Мюнхене.
— Что же вас заставило отправиться в такую даль?
— Работа, — коротко ответила Герда.
— Как это понимать? — с любопытством спросил Рихард.
— Пишу книгу.
— Ах вот как! — полуиронически, полууважительно протянул Рихард. — Роман, я полагаю?
— Да нет, что вы! Это сугубо политическая книга. Я собираю материалы о происках американцев — в районах скопления немецких иммигрантов.
— И что же вы хотите доказать?
— Я хочу доказать, что американцы исподволь готовят нацистские резервы для Германии.
— Вы уверены, что у американцев нет других дел, более важных и интересных?
— Есть, конечно. Но и это для них немаловажно.
— Гм-м… Послушаешь вас, можно подумать, что вы живете в той Германии, которая оккупирована большевиками.
— Вы имеете в виду ГДР? Я там бывала. И, честно скажу, не заметила никаких признаков того, что вы называете оккупацией.
— А вы, может быть, коммунистка? — Рихард подозрительно сощурил глаза.
— Я просто хочу писать правду, — спокойно сказала Герда.
— Какую правду? — не без сарказма спросил Рихард. — Уж не о том ли, как в третьем рейхе сжигали ни в чем не повинных людей? Или пили кровь младенцев? Вы принимаете эти россказни всерьез?
— Меня удивляет ваш вопрос, — сухо ответила Герда.
— Не понимаю, чем он вас удивляет. Я как историк знаю, что на побежденную страну победители вешают всех собак. Так было в прошлом, и, надо полагать, так будет всегда.
— Вы, наверное, неонацист? — пристально взглянув на него, спросила Герда.
Рихард понял, что зашел слишком далеко.
— И как только эта мысль могла прийти вам в голову? — спросил он с наигранным возмущением.
— А почему же нет? — спросила Герда, пожимая плечами. — Ведь вы спросили, не коммунистка ли я.
«Боже, какой я дурак! — подумал Рихард. — Судьба свела меня с очаровательной девушкой, а я затеял никому не нужный политический спор!»
Герда демонстративно отвернулась. Это разозлило Рихарда. «Ну и черт с тобой! — подумал он. — Не хочешь разговаривать, не надо!»
Тут показалась стюардесса с катящимся столиком, на котором теперь лежали газеты и журналы. Когда она подошла ближе, Рихард громко спросил:
— Что у вас есть интересного?
— На каком языке? — осведомилась стюардесса. — На испанском, английском, немецком?
— На немецком, конечно! — буркнул Рихард, оглядывая стопки газет и журналов. Потом сказал: — Дайте мне, пожалуйста, «Штерн», «Цайт» и «Шпигель».
В еженедельнике «Цайт» внимание Рихарда привлекла статья о предстоящих выборах в бундестаг. Один из абзацев он перечитал дважды.
«Единственный вопрос, — говорилось в статье, — сводится к следующему: может ли наше государство примириться с существованием национал-демократов — партии, которая ничего не в состоянии предложить, кроме своих мелкобуржуазных эмоций. То, что она хочет перевернуть государство вверх дном, не доказано. То, что она могла бы перевернуть государство вверх дном, — мысль, порожденная бессилием демократической системы».
Слова «хочет» и «могла» были набраны курсивом. «Лихо написано!» — подумал Рихард. В «Шпигеле» его заинтересовало интервью парламентского статс-секретаря министерства внутренних дел Кеплера, высказывавшегося по вопросу о «социологии» национал-демократической партии: «Нельзя отмахиваться от мысли, — заявил Кеплер, — что с политической точки зрения едва ли было бы целесообразно разогнать партию, ядро которой, возможно, и состоит из нацистов, старых или новых, но которая в значительной своей части представлена недовольными, неудовлетворенными и, быть может, даже консервативными элементами».
На другой странице цитировался девиз НДП: «Мы — не последние представители вчерашнего дня, а первые представители дня завтрашнего!»
«Если ведущие западногерманские газеты и журналы так много пишут о национал-демократах, — подувал Рихард, — то это значит, что НДП — весьма влиятельная и активно действующая партия. Все, что говорил Клаус, — чистейшая правда».
А когда на второй странице партийного издания «НДП-Курир» он прочитал призыв «Помогайте НДП в ее тяжелой борьбе!», то решил сделать денежный перевод сразу же по прибытии в Мюнхен — адрес банка и номер текущего счета национал-демократической партии указывались на той же странице.
Сложив газету, Рихард посмотрел на свою соседку.
— Герда, дорогая, не будем ссориться! — мягко сказал он. — Я наговорил лишнего, вы наговорили лишнего… Словом, забудем это! — Он поднял стакан с недопитым джином и весело воскликнул: — За мир и дружбу, как любят говорить наши друзья-коммунисты.
Герда усмехнулась, но все же подняла овой стакан. Они чокнулись и выпили.
— Вы замужем? — как бы подводя черту под недавней размолвкой, спросил Рихард.
— А вы женаты? — спросила она вместо ответа.
— Был бы женат, если бы встретил вас раньше.
— Так уж и сразу5 — рассмеялась Герда.
— Не надо иронизировать. Я счастлив, что познакомился с вами. Вы только подумайте: я лечу в Германию, на свою родину, но у меня там нет ни друзей, ни родственников. И вдруг милосердный господь посылает мне вас! Вы учитесь? Или служите? — спросил он.
— Окончила университет два года назад, — ответила Герда.
— А какой факультет?
— Журналистики…
— Неплохо! — воскликнул Рихард. — Вы работаете в журнале или в газете?
— Я не состою в штате какой-либо редакции. Я принадлежу к категории «вольных художников», к числу тех журналистов, которых американцы называют «фри-лэнс». — Сотрудничаю в разных изданиях.
— У вас есть родители?
— Отец уже умер. А мать живет во Франкфурте-на-Майне. Преподает в школе математику. Я училась в Мюнхене, а потом осталась там жить. А вы в каком городе живете?
— А я… — нерешительно проговорил Рихард, — я всю свою жизнь прожил в Буэнос-Айресе.
— В Буэнос-Айресе? — слегка повысив голос, переспросила Герда.
— Да, — сказал Рихард.
— Значит, ваш отец… — начала было Герда, но тут же осеклась.
Рихард мысленно договорил ее невысказанный вопрос: «Значит, ваш отец был нацистом и бежал, когда Гитлер проиграл войну?» Чтобы предупредить возможность такого вопроса, он сказал:
— Мой отец был крупным специалистом по финансовым делам, и вскоре после окончания войны ему предложили работать в одном из аргентинских банков. Мне было тогда года два или три. Естественно, что отец забрал с собой меня и мою мать.
— А зачем вы едете в Германию сейчас? — спросила Герда.
— По служебному делу, — ответил Рихард. И, немного помолчав, добавил: — Я всю жизнь мечтал побывать на родине. Но отец удерживал меня под разными предлогами. А вот теперь я своего добился.
— Значит, вы даже не представляете себе, как выглядит страна, в которой родились?
— Как вам сказать… Я представляю себе Германию по фильмам… по книгам, по газетам и журналам. Использовал каждую возможность, чтобы расспросить о Германии тех, кто оттуда приезжал.
— И какое же у вас сложилось впечатление? — спросила Герда.
— Думаю, что Германия — лучшая страна в мире. Я, конечно, говорю о той части Германии, которая принадлежит немцам, а не русским… Скажите, как немка немцу, ведь я не ошибаюсь?
Он задал этот вопрос с особой, интимно-дружеской интонацией в голосе.
— Да, я, конечно, люблю Германию, — задумчиво ответила Герда, — хотя, если говорить откровенно, далеко не все там так уж хорошо.
— Не все? — переспросил Рихард. — А что именно вам не нравится?
— Я думаю, будет лучше, если вы увидите все своими глазами, а не моими.
— Но вы все-таки скажите! — продолжал настаивать Рихард.
Герда пожала плечами:
— Например, мне не нравится, что очень многие люди не имеют работы.
— Лодыри! Или коммунисты! — со злобой сказал Рихард и тут же стиснул зубы, поняв, что опять сорвался.
— Не думаю, что речь идет только о лодырях и коммунистах, — медленно проговорила Герда, как бы не замечая тона Рихарда.
В салоне самолета как-то разом потемнело.
Рихард взглянул в окно и увидел, что они летят сквозь тучи. Где-то в отдалении вспыхнул зигзаг молнии. Самолет тряхнуло. В течение нескольких секунд — они показались Рихарду вечностью, — самолет падал, точно потеряв управление. Рихард ощутил холод в груди.
Он не помнил, сколько прошло времени, прежде чем за окном снова появилось голубое небо: самолет преодолел облачность, «воздушную яму» и ушел от грозового фронта. Радостное чувство избавления охватило Рихарда, и он только сейчас ощутил плечо Герды, прижатое к его плечу.
— Успокойся, дорогая! — сказал он и провел рукой по ее шелковистым волосам.
Эти слова вырвались у Рихарда как-то неожиданно для него самого — несколькими минутами раньше он даже не решился бы обратиться к ней на «ты». Но именно эти слова вернули Герду к реальности. Она увидела себя как бы со стороны и, отпрянув от Рихарда, откинулась на спинку своего кресла.
— Боже мой! — проговорила она. — Мне показалось, что мы летим в пропасть.
Хотя Рихард был перепуган ничуть не меньше Герды, он проговорил небрежным тоном:
— Пустяки, Герда! Сама смерть вовсе не страшна. Страшно то, что из-за нее ты не сможешь осуществить свою жизненную цель.
— А какая у тебя жизненная цель? — тоже переходя на «ты», с легкой улыбкой спросила Герда.
— Моя цель? Борьба.
— С кем? Во имя чего?
— Я хочу выполнить свой долг. Долг немца, — ответил Рихард и тут же торопливо добавил: — Я имею в виду укрепление нашей республики.
Он умолк и нежно провел ладонью по руке Герды, лежавшей на подлокотнике, который разделял их кресла.
— Испугалась? — спросил он ласково.
— Немного, — ответила она. — А ведь ты мне так и не сказал, что будешь делать в Германии.
У Рихарда внезапно появилось желание сказать этой девушке все: и то, что его давно уже влечет земля предков, и то, что ему надоела жизнь в Аргентине, опостылели улицы с их цветным сбродом и крикливыми толпами.
Но все же он сдержался. Излишняя откровенность была бы сейчас ни к чему.
— Ты веришь в судьбу? — неожиданно спросил Рихард.
— В судьбу? — чуть насмешливо переспросила Герда. — В каком смысле? В мистическом?
— Сам не знаю в каком. Но я это представляю себе так. Существуют два человека, не имеющие никакого понятия друг о друге. Они разделены границами, физическими барьерами, политическими взглядами и кто знает еще чем… И в одном случае из десяти тысяч самые невероятные обстоятельства вдруг сводят этих людей. А встретившись, они сразу осознают, что предназначены друг для друга.
— Как это понимать? — удивленно вскинув брови и широко раскрыв голубые глаза, спросила Герда.
— Не знаю. Предназначены, и все тут! Может быть, им суждено стать верными друзьями… а может быть, и в ином смысле, если речь идет о мужчине и женщине.
— Мистика! — сказала Герда, негромко, рассмеявшись. — Все это чистая случайность, судьба тут ни при чем.
— Пусть так, — согласился Рихард, — речь идет в конце концов не о терминологии. Но я все же убежден, что есть какая-то необъяснимая закономерность в том, что мы оказались в одном самолете, что ты сидишь рядом со мной и что мы вместе пережили серьезную опасность.
— Боже мой, Рихард! — воскликнула Герда с нескрываемой иронией. — Ты, видимо, склонен все драматизировать. Да, действительно, рядом с тобой оказалась я, а могла оказаться и любая другая женщина. А насчет «серьезной опасности»… Неужели ты так мало летал, что до сих пор ничего не знаешь о всяких воздушных сюрпризах?
— Гм-м, — пробормотал Рихард. — А в Германии меня тоже ожидают сюрпризы?
— Какого рода сюрпризы ты имеешь в виду?
— Политические, конечно. Какие же еще?.. Газеты сообщают, что в Федеральной Республике развертывается борьба против восточных договоров. Как ты понимаешь, я говорю о договорах с большевистской Россией и ее сателлитами.
— Борьба? О какой борьбе ты говоришь? — слегка нахмурившись, спросила Герда.
«Стоп! — мысленно приказал себе Рихард. — Опять я болтаю лишнее!»
— Точно сказать не могу, — стараясь держаться спокойно, ответил Рихард. — Ведь я сужу о том, что происходит в Германии, лишь по прессе и по рассказам немцев, приезжающих в Буэнос-Айрес. Но у газет, как ты знаешь, разные политические направления… Да и люди, конечно, бывают разные. И я понимаю, что желаемое нередко выдается за действительное.
— Тогда воздержись от выводов, пока не приедешь в Германию, — назидательно проговорила Герда.
Пока что их связывала тоненькая ниточка, и достаточно было одного неловкого движения, одной необдуманной фразы, чтобы ее порвать.
Задумавшись, Рихард стал глядеть в окно с таким вниманием, будто там можно было увидеть что-либо, кроме белых и серых облаков, с которыми самолет, казалось, состязается в беге.
Потом он сунул руку в карман пиджака и достал пачку перехваченных широкой резинкой конвертов.
Это были письма от Клауса, и для Рихарда они служили талисманом, охраняющим его будущее… Всего он захватил с собой четыре письма. Теперь он стал вынимать их из конвертов и перечитывать. Клаус писал, что наслаждается атмосферой борьбы, давал понять, что состоит в нескольких неофициальных, хотя и не запрещенных властями, национал-демократических организациях, связан с военно-спортивными кружками и совсем недавно получил первый приз за «стрельбу по тарелочкам». Тысячи людей принимают участие в разного рода антикоммунистических манифестациях, требуют, чтобы Советский Союз, Польша и Чехословакия отдали Германии земли, принадлежавшие ей по праву до войны.
Последнее письмо, которое перечитал Рихард, содержало настоятельный призыв вернуться — не приехать, а именно вернуться в Германию.
…Перед вылетом из Буэнос-Айреса Рихард дал Клаусу телеграмму, в которой сообщил дату своего прибытия во Франкфурт-на-Майне и номер рейса. Он просил встретить его в аэропорту.
Аккуратно рассовав письма по конвертам, Рихард положил их в карман и вскоре услышал голос стюардессы, объявившей, что через двадцать минут самолет приземлится на франкфуртском аэродроме. Повернув голову в сторону Герды, он не увидел ее — кресло было пустым. Очевидно, она обиделась, когда Рихард демонстративно углубился в чтение писем, поняла, что тонкая ниточка, связавшая их, оборвалась, тихо встала и пересела на другое место.
Теперь же, после объявления о предстоящей посадке, нечего было и думать о том, чтобы найти ее в самолете. Не обращая никакого внимания на призывы стюардесс не покидать мест до полной остановки самолета, некоторые нетерпеливые пассажиры уже стояли в проходе и стягивали с полок свою ручную кладь. Рихарда охватило отчаяние. «Я потерял Гер-ду. Я потерял ее!» — стучало у него в висках.
Самолет уже катился по бетонной дорожке, постепенно замедляя ход. Потом мягко остановился.
Схватив свой кейс и буквально сорвав с вешалки пальто, Рихард ринулся в проход, ведущий к ближайшей двери. Он надеялся, что с площадки трапа можно будет увидеть всех, кто находится внизу. Но вместо трапа он оказался в примыкающем вплотную к двери туннеле, который уже был заполнен пассажирами. И тогда Рихард крикнул, сам испугавшись своего громкого голоса:
— Герда!
Какие-то люди повернули головы на крик, но Герда не отозвалась.
…Пройдет время, и Рихард попытается понять, почему эта девушка вдруг стала ему так дорога. А пока он знал только одно: ее ни в коем случае нельзя потерять!
Работая локтями и пытаясь протиснуться вперед, Рихард влился в туннель вместе с толпой пассажиров. Наконец этот поток вынес его прямо в зал аэропорта. Увидев человека в форме, подносившего ко рту микрофон «воки-токи», Рихард бросился к нему и, путаясь в словах, проговорил умоляюще:
— Ради бога!.. Я потерял свою родственницу… У меня ее деньги и документы…
Человек в форме опустил микрофон и спросил:
— Фамилия? Имя?
— Герда! — воскликнул Рихард. — А фамилия… фамилия — Валленберг!
Человек в форме поднес микрофон к губам и негромко, но отчетливо произнес:
— Фрау Герда Валленберг! Вас разыскивает родственник. Задержитесь у паспортного контроля!
Звуки этих слов, усиленные репродуктором; донеслись до Рихарда откуда-то сверху.
И тут он вспомнил, что у выхода его должен ждать Клаус. Но это там, по ту сторону таможни. А Герда?.. Где ему найти Герду?!
И вдруг из большой группы людей, толпящихся у окошка паспортного контроля, до него донесся женский голос:
— Рихард! Я здесь!
Его охватило непреодолимое желание броситься навстречу Герде, обнять ее, расцеловать.
— Куда ты исчезла, Герда? — воскликнул Рихард, когда они наконец пробились друг к другу.
— Просто пересела немного вперед, ближе к выходу, — ответила Герда, пожимая плечами. — К тому же мне показалось, что ты больше не хочешь со мной разговаривать. Как это тебе пришло в голову вызвать меня по радио?
— Герда, ты останешься здесь, во Франкфурте?
— Да. На два-три дня. Хочу погостить у матери.
— А в Мюнхен ты приедешь?
— Конечно, приеду. Я ведь там живу.
— Мы увидимся? — с надеждой в голосе проговорил Рихард.
— А так ли уж это необходимо? Ведь познакомились мы случайно… Да и то едва не поссорились.
— Ради бога, не придавай этому никакого значения! Это я во всем виноват. Не сердись. Знать, что ты живешь в одном городе со мной, и не видеть тебя… Это просто невыносимо.
Они стояли в очереди к паспортному контролю.
— Ты явно преувеличиваешь, — усмехнулась Герда. — Там, в Мюнхене, ты быстро освоишься, приобретешь друзей…
— Десятки новых друзей не заменят мне тебя! Пойми, Герда, я ведь ни на что не претендую. Только хочу с тобой видеться, хотя бы изредка… Прошу тебя!
С минуту она молчала. Потом, видимо, приняв решение, сказала:
— Хорошо. Запиши мой мюнхенский адрес. Рихард поставил свой кейс у ног, сунул руку в карман пиджака и нащупал один из конвертов с письмом от Клауса. Он вытащил его, затем щелкнул шариковой ручкой и сказал:
— Пишу!
Герда снова немного помолчала, будто сомневаясь в правильности своего решения, потом сказала:
— Хартманнштрассе, 88. Это недалеко от Променаден-плац. А телефон 53-24-85.
— Меня должны встречать, — сказал он Герде. — А тебя?
— Очевидно, придет мама, я ей телеграфировала, — ответила она.
Рихард и Герда остановились у выхода, и тут Рихард увидел, как от группы встречающих отделилась коренастая фигура Клауса! Они бросились друг Другу навстречу. Клаус широко раскинул руки и сдавил Рихарда в своих объятиях.
— Наконец-то! Сейчас поедем! — радостно проговорил Клаус. — А где же твои вещи?
— Да вон там! — Рихард указал в сторону Герды. — Но прежде всего я хочу познакомить тебя с моей попутчицей. Мы сидели в самолете рядом и познакомились.
И вдруг он увидел, что на прежнем месте нет ни Герды, ни ее коляски. Почему она вдруг опять исчезла? Может быть, ушла, чтобы не мешать встрече друзей?
— Ну, где же твоя… как ее там зовут? — нетерпеливо спросил Клаус.
— Я… я не знаю, — растерянно проговорил Рихард. — Она только что была здесь… Наверное, ее встретила мать и…
— Ладно, забудь о своей девчонке! — с неожиданной резкостью сказал Клаус. — В Мюнхене найдешь другую. Скажи на милость, в самолете познакомились!.. Ладно, пошли к машине! — Он взглянул на часы и добавил: — А не то придется платить штраф. Тут со стоянками строго…
— Ну, подождем еще минуту, — умоляюще произнес Рихард.
Он не мог понять, куда делась Герда. Второй раз она внезапно исчезает. И сейчас это уже совсем непонятно. Наверное, все-таки она увидела в толпе свою мать и бросилась к ней. «Впрочем, — мысленно утешил себя Рихард, — я же знаю ее мюнхенский адрес и телефон!»
— Ты что, не слышишь? — окликнул его Клаус. — Вот уж не думал, что ты зацепишься за первую попавшуюся юбку. Пошли!
Действовать!
Несколько минут спустя они уже мчались в машине-малолитражке. Рихард неотрывно смотрел в окно, мысленно сравнивая Франкфурт с Буэнос-Айресом. Все говорило в пользу немецкого города. Здесь не было таких толп белых, черных и желтых прохожих, не было аляповато размалеванных лотков с дешевыми сувенирами, не было грузовиков с претендующими на остроумие надписями на заднем борту.
Франкфурт. Тихий и благопристойный город. По крайней мере так казалось Рихарду, хотя по улицам тянулись нескончаемые вереницы машин, временами создававших «пробки». Людей тоже было много, но в отличие от аргентинцев одеты они были не крикливо, а вполне прилично, если не считать молодых парней, щеголявших в коротких кожаных куртках и потертых джинсах.
«Как странно! — вдруг подумал Рихард. — Мы едем уже минут двадцать, а Клаус не сказал мне ни слова, даже головы в мою сторону не повернул… В чем дело? В конце концов я приехал сюда по его приглашению».
Наконец он не выдержал этого тягостного молчания.
— Что такое, Клаус? — спросил он. — Ты недоволен, что я приехал? Или что-нибудь случилось в последние дни?
— Нет, ничего не случилось, — по-прежнему не поворачивая головы, ответил Клаус. — Поверь, я очень рад твоему приезду.
— Так в чем же дело?
— Если хочешь знать правду, мне не нравится твоя дружба с этой девкой. Я видел, как вы вместе выходили из здания аэропорта. Кто она такая, ты хоть знаешь?
— Не понимаю, — пожал плечами Рихард. — Герда была моей соседкой в самолете. Она журналистка. К тому же она живет в Мюнхене. Как ты думаешь, о чем я мог разговаривать с хорошенькой девушкой во время многочасового полета?
— С хорошенькой девушкой беседовать не возбраняется, — сказал Клаус, — с хорошенькой девушкой, но не с врагом.
— Врагом?! — изумленно воскликнул Рихард. — Что это все значит?
— Ты знаешь ее фамилию? — спросил Клаус.
— Да. Валленберг.
— Вот именно! — сказал Клаус. — Как только я увидел твою Герду, мне сразу вспомнилось, что она не раз бывала на наших митингах.
— Ну и что?
— А то, что через день или два в какой-нибудь газете появлялась злобная статейка, подписанная инициалами «Г. В.».
Клаус искоса взглянул на Рихарда.
— Но послушай! Может быть, это просто совпадение!
— Поверь мне, — сказал Клаус потеплевшим голосом, — к тебе это не имеет ровным счетом никакого отношения. Ты мой друг, и, честно говоря, мне самому неприятно, что я не смог скрыть своего отношения к этой… Герде. Но я убежден, что не ошибаюсь. Герда Валленберг то и дело выступает в печати против нашего движения. Черт ее знает, в какой газете она работает! Во всяком случае, она нередко бывает на наших митингах, а потом поднимает визг о растущей фашистской угрозе. Теперь понял?
— Просто не верится! — нерешительно проговорил Рихард. — Мы провели с ней вместе столько часов… А о политике почти не говорили. Впрочем, кажется, Герда что-то сказала о росте безработицы в Германии. Вот и все Но мне показалось, что она настроена несколько критически…
— Надеюсь, ты ничем не выдал своих убеждений? И не говорил, зачем ты едешь в Германию?
— Да нет же! — неуверенно произнес Рихард.
— И правильно сделал! Иначе ты тут же оказался бы на крючке у наших противников… Значит, о своих симпатиях к НДП ты не упоминал?
— Конечно, нет.
— Ну и молодец! — уже совсем по-дружески сказал Клаус и добавил: — Если ты с ней где-нибудь случайно столкнешься, сделай вид, что не узнал ее. Договорились?
— Да, да, — поспешно ответил Рихард и, резко меняя тему разговора, спросил: — Как идет предвыборная кампания? Наши ребята уверены в победе?
— К власти мы на этих выборах не придем. Но в том, что наберем достаточно голосов, чтобы иметь свою фракцию в бундестаге, я не сомневаюсь.
Рихарду стало немного не по себе, когда он начал вспоминать свои разговоры с Гердой. Конечно, из его высказываний она легко могла заключить, что национал-социализм он не осуждает. Но Герда тоже не слишком скрывала свои политические симпатии. «Может быть, мне это только теперь кажется, после того, что сказал Клаус? — подумал Рихард и мысленно произнес: — Ладно! Как бы то ни было, все контакты с ней следует оборвать».
— А куда ты меня везешь, Клаус? — спросил он. — Где я буду жить?
— Я присмотрел для тебя в Мюнхене пансионат неподалеку от центра города. Довольно уютный и к тому же недорогой. Относительно, конечно.
Машина мчалась мимо худосочных рощиц, лугов, пестревших пятн-ами выцветшей прошлогодней (травы, деревушек, лепившихся вокруг церквей с готическими шпилями, мимо каких-то казематов за колючей проволокой. Читая названия населенных пунктов на дорожных указателях, Рихард понял, что автострада оставляет все города в стороне, и ему оставалось только читать надписи на указателях: Ашаффенбург… Ротенбург… Динкельсбюль… Нойбург… Дахау…
Последняя надпись вызвала у него прилив злобы и одновременно любопытство. Злобу потому, что слово «Дахау», сколько он себя помнил, употреблялось в газетах, журналах и книгах, которые ему доводилось читать, как своего рода символ зверств, приписываемых национал-социализму врагами третьего рейха. Сколько раз Рихард беседовал с отцом на эту тему и сколько раз слышал от него, что все россказни о газовых камерах, массовых расстрелах, печах для сжигания трупов — еврейско-коммунистическая клевета Отец объяснял сыну, что Германия не могла не изолировать своих врагов и поэтому лагеря были жизненной необходимостью.
— Дахау, — задумчиво проговорил Рихард, когда они проехали указатель с названием этого города. — Как ты думаешь, Клаус, есть хоть какая-нибудь доля правды в том, что утверждают наши противники?
— Сплошная ложь! — угрюмо отозвался Клаус. — Да, в лагерях наказывали провинившихся, иногда и расстреливали… А как прикажешь поступать с теми заключенными, которые бунтовали, готовили побеги, нападали на солдат охраны? Я тебе так скажу: мало врагов мы тогда истребили, очень мало!
— Верно! — с облегчением сказал Рихард.
Машина тем временем свернула с автострады и въехала в какой-то пригород.
…Пансионат находился в небольшом трехэтажном особняке. В холле их встретил портье — пожилой человек в серой форменной куртке.
— Комната для господина Альбига! — отчеканил Клаус и добавил: — Я зарезервировал ее неделю назад.
— Яволь, майн герр! — приторно улыбаясь, сказал человек в серой куртке и повторил вслед за Клаусом: — Комната для господина Альбига.
Он положил на стол маленький картонный квадратик — анкету, которую Рихард под наблюдением Клауса тут же заполнил. Слева на столе лежала кучка буклетов. Увидев, что это путеводители по Мюнхену, Рихард взял один из них и положил в карман.
— Вещи в машине? — осведомился портье и, не дожидаясь ответа, крикнул: — Ганс! Вещи господина Альбига.
Тотчас же из узкой боковой двери выскочил парень в синей блузе, крикнул «яволь» и бросился к выходу.
— Машина открыта! — успел сказать ему Клаус. Минуту спустя парень вернулся в холл, неся два больших чемодана.
— Второй этаж, комната двадцать восемь, — сказал портье, протянув ключ. И добавил: — Завтрак с семи до девяти утра.
По ковровой дорожке, устилавшей лестницу, они поднялись на второй этаж.
Отперев дверь, Рихард увидел просторную комнату с двумя окнами, выходившими во двор, — их можно было открывать, не опасаясь городского шума. Между окнами стоял массивный письменный стол, а на нем — несколько старомодный телефон и лампа под зеленым абажуром. Справа от двери сверкал никелем небольшой умыв-альник под круглым зеркалом в деревянной рамке. Сбоку от правого окна манила к отдыху кушетка, обитая зеленым бархатом. У левой стены стояла кровать, прикрытая пуховой периной. В середине комнаты возвышался круглый стол, а вокруг него — три стула с изогнутыми спинками.
— Что ж, пойдем перекусим, а потом на некоторое время расстанемся, — сказал Клаус. — Ты, конечно, захочешь вымыться с дороги. Здесь есть душ, по коридору направо. Буфет на первом этаже.
— Ты надолго собираешься покинуть меня? — робко и даже с какой-то опаской в голосе спросил Рихард. Комната показалась ему вдруг неуютной, и его охватило чувство безотчетной тревоги.
— Мне еще надо уладить кое-какие дела. А ты должен как следует отдохнуть после такого длительного перелета Советую тебе после душа сразу же завалиться спать. Смотри, какое роскошное ложе! — Он сел на кровать, похлопал по перине обеими руками и воскликнул: — У баварских королей такой постели не было! Завтра, — проговорил он, вставая и потягиваясь, — мы займемся твоими делами, зайдем в банк, погуляем по городу, пропустим по кружечке пива, а попозже, может быть, заглянем в какой-нибудь ночной бар… Все будет хорошо, Рихард, уверяю тебя. Ты тут быстро освоишься. Если денег хватит, купишь себе машину. Подумаем о твоей работе.
— Ты говоришь о службе?
— Ну, конечно. Тебе же нужен постоянный заработок. Ведь ты не собираешься жить на средства отца до конца своих дней!
— Подожди, Клаус, — решительно сказал Рихард, — присядем на несколько минут. — Они сели. — Я хочу поговорить с тобой серьезно. Ты знаешь, что я приехал в Германию не для того, чтобы протирать штаны в какой-нибудь конторе. Я должен действовать, понимаешь, действовать! Как? Где? Этого я еще не знаю. Но когда мы с тобой беседовали в Аргентине, ты обещал мне, что я смогу включиться в активную борьбу. Сразу же по приезде. Немедленно.
— Боюсь, что ты воспринял мои слова очень уж буквально, — покачал головой Клаус. — У нас еще нет гражданской войны. Схватить автомат и броситься в бой пока нельзя. Нет, дружище, сегодня наша борьба носит более будничный характер. Но вместе с тем она сложнее и изощреннее, чем уличные схватки, хотя без них дело не обходится… Сейчас, например, главный вопрос — это предстоящие выборы. Если ты хочешь принять участие в борьбе, ты должен сначала осмотреться, освоиться с нашими методами и тогда уже занять место в строю… Болтаться без дела ты не будешь! — твердо сказал Клаус. — И раз уж ты такой нетерпеливый, я тебе завтра кое-что покажу. Идет?
— Спасибо, ты меня успокоил!
— А теперь пойдем поедим. Тут неподалеку вполне приличный ресторан. Я его присмотрел, когда искал для тебя пансионат.
«Да, — подумал Рихард, — сначала, конечно, надо закусить и выпить пару кружек пива…» Сколько раз отец в Аргентине мечтательно вспоминал о баварском пиве!
В ресторане они провели не менее часа. Наконец Клаус встал и сказал:
— Значит, давай решим так: сегодня — тут уж ничего не поделаешь — ты будешь предоставлен самому себе. Прими душ, побрейся, поваляйся на диване, почитай газеты — кстати, киоск в двух шагах от твоего пансионата. И ложись спать пораньше. А завтра будь готов к девяти часам. Я за тобой заеду!
— И куда мы направимся? — нетерпеливо перебил его Рихард.
— Не торопись с вопросами. Всему свое время. А теперь я провожу тебя домой. Нет, нет, не возражай! Доведу до двери твоей комнаты.
На прощание они обменялись крепким рукопожатием, а потом — нацистским приветствием. Клаус ушел. Рихард остался один. Он открыл свои чемоданы, вынул вещи, аккуратно разместил их в шкафу. Потом стал раздеваться, предварительно вынув из карманов паспорт, деньги, чековую книжку, блокнот, письма Клауса. Взгляд Рихарда невольно скользнул по записи, сделанной на одном из конвертов. Это был адрес Герды: Хартманнштрассе, 88. И номер телефона.
Сердце его учащенно забилось. Но он тут же сказал себе: «Забудь! С этим покончено. Ты получил приказ». В голове его мелькнула мысль: разорвать конверт и выбросить в мусорную корзину.
Он зажал конверт между пальцами и уже готов был сделать резкое движение, чтобы разорвать его, но на какое-то мгновение задержался. И подумал: «Нет, я все-таки оставлю конверт у себя. Но никогда больше не взгляну на него. Пусть это будет моим первым испытанием на родной земле. Испытанием на выдержку, на готовность беспрекословно подчиняться приказам…»
Приняв душ, Рихард после недолгих колебаний остановил свой выбор на темно-сером костюме в едва заметную красную полоску. Но сначала он не торопясь побрился, а потом надел голубую сорочку, темно-синий галстук. Потом взглянул на часы, которые отец подарил ему незадолго до отъезда, и увидел, что они показывают двадцать минут шестого.
«Что же мне теперь делать? — подумал Рихард. И вспомнил: — Ах, да, надо пойти купить газеты».
Он разложил по карманам документы и деньги, запер дверь ключом, на котором была выгравирована цифра «28», и спустился на первый этаж.
Положив ключ на стойку портье, спросил:
— Газетный киоск, кажется, за углом налево?
— Яволь, майн герр! — ответил портье и, взяв ключ, добавил: — Данке шен!
Рихард направился к двери, но вдруг остановился и, вернувшись к стойке, спросил:
— Скажите, пожалуйста, а нет ли здесь поблизости какой-нибудь читальни?
— Если вы хотите просмотреть подшивки газет или журналов, — услужливо ответил портье, — то для этого вам даже не надо выходить на улицу. Пожалуйста, по лестнице вниз! Там разложены подшивки…
И он указал на узкую винтообразную лестницу, на которую Рихард раньше не обратил внимания.
«Свежие газеты я просмотрел еще в самолете, — подумал он, — а вот почитать более ранние было бы любопытно…»
Рихард спустился вниз по лестнице и вошел в довольно большую комнату, где стояли три длинных стола. На них аккуратными стопками лежали газеты и журналы. В комнате никого не было.
Он вытащил номер «Штерна», перевернул несколько страниц, и ему сразу же бросилась в глаза фамилия канцлера Кизингера.
«Интересно, как его тут жалуют», — подумал Рихард и погрузился в чтение.
«Курт Георг Кизингер, бундесканцлер, за свое нацистское прошлое подвергся нападкам со стороны писателя Генриха Белля, — сообщал „Штерн“. — В статье, опубликованной на страницах газеты „Цайт“, Белль писал: „Она (моя мать) укрепила меня в ненависти к проклятым нацистам — в особенности к той их разновидности, к которой принадлежит господин доктор Кизингер: холеные нацистские бюргеры, которые не пачкают себе ни пальцы, ни жилетки и которые после 1945 года продолжают разгуливать с полным бесстыдством“.
„Ничего себе демократия!“ — подумал Рихард, невольно покрутив головой.
В „Шпигеле“ было напечатано интервью с Адольфом фон Тадденом. На вопрос журналиста, поинтересовавшегося его реакцией на ругань по адресу НДП, которую допускает в своих речах кое-кто из людей, близких к правительству, Тадден ответил, что „против его партии ничего реального предпринять нельзя“.
— Герр Альбиг! — раздался вдруг чей-то голос. Вздрогнув от неожиданности, Рихард повернул голову и увидел портье, стоящего на пороге.
— Герр Альбиг, — повторил он, — вас просят к телефону.
Рихард не сразу понял, кто ему мог позвонить. Потом сообразил: „Клаус! Конечно, это Клаус! Кто, кроме него, знает мой адрес и номер телефона?“
— Господин, который желает с вами поговорить, — продолжал портье, — сказал, что уже несколько раз звонил вам, но никто не ответил. А я вспомнил, что вы спрашивали про читальню, и решил…
— Иду! — воскликнул Рихард. — Откуда можно говорить? Подняться к себе в комнату?
— Нет, нет, герр Альбиг, не утруждайте себя! Телефон у меня на стойке. Прошу вас! — С этими словами портье повернулся и стал подниматься по лестнице.
На дальнем краю стойки Рихард увидел телефон. Взяв трубку, он сказал:
— Алло! Альбиг слушает.
— Здравствуй, мой юный друг! — раздался в трубке незнакомый голос. — Как долетел, как устроился?
— Простите, с кем я говорю? — в полном недоумении спросил Рихард.
— Это Арчибальд Гамильтон. Разве отец ничего не говорил тебе обо мне?
„Да, да, — вспомнил Рихард, — перед моим отъездом отец действительно назвал имя какого-то американца — кажется, Гамильтона, с которым он был знаком в сороковые годы“.
„Наверное, какой-нибудь старикашка! На кой черт он мне нужен?“ — подумал тогда Рихард.
— Что же ты умолк? — снова раздался голос, и только теперь Рихард уловил едва заметный иностранный акцент.
— Я слушаю вас, — торопливо ответил он, еще не решив, как обращаться к американцу, „герр Гамильтон“ или „мистер Гамильтон“. — Отец говорил мне о вас. Спасибо, что позвонили. Но откуда вы узнали мой номер? Ведь я только сегодня приехал.
— Интуиция! — словно избегая прямого ответа на этот вопрос, сказал Гамильтон. — Так вот, прежде всего запиши мой номер телефона…
— Минуту! — прервал его Рихард. — Я только возьму записную книжку.
Портье, стоявший в двух-трех шагах от телефона, услужливо протянул Рихарду листок бумаги и шариковую ручку.
— Слушаю вас, мистер Гамильтон!
— Два-два-восемь-шестъ-пять-девять, — четко произнес Гамильтон, а Рихард, записывая, подумал: „Чисто американская манера называть каждую цифру отдельно!“
— Спасибо, мистер Гамильтон, — сказал он, записав номер и возвращая ручку портье. — Я вам обязательно позвоню.
— Это не деловой разговор, — проговорил Гамильтон с оттенком недовольства в голосе. — Нам надо встретиться. Скажем, завтра.
„Но ведь завтра ко мне приедет Клаус, а я не знаю, какие у него планы“, — подумал Рихард.
— Да, — промямлил Рихард, — но один мой аргентинский знакомый… завтра».
Он не решился упомянуть имя Клауса. Однако Гамильтон сам назвал его имя.
— Ничего с твоим Клаусом не случится! — сказал он. — Ну, ладно. Жду тебя послезавтра в семнадцать ноль-ноль. Машина — черный «мерседес» — будет у твоего пансионата в шестнадцать сорок пять. А пока до свидания. — И он положил трубку.
«Только спорт!»
На другой день, в начале девятого, Рихард спустился в буфет, сел за свободный столик и попросил подошедшую официантку принести ему омлет, булочку, вишневый джем и какао.
Без пяти девять он уже был наверху, в своей комнате, — Клаус обещал приехать к девяти утра. Ровно в девять в дверь постучали.
— Войдите! — громко сказал Рихард. Дверь открылась. На пороге стоял Клаус.
— Рад видеть тебя, — сказал он, протягивая обе руки навстречу Рихарду. Они обнялись. — Ты уже поел?
— Все в порядке, — ответил Рихард и добавил шутливым тоном: — Готов к бою!
— Не терпится? Должен тебя разочаровать: сегодня бой не предвидится. Мы лишь кое-что посмотрим. Поедем в военно-спортивное общество.
— В Буэнос-Айресе ты видел, как занимается такой кружок, и сказал мне тогда: «Легко размахивать оружием за десять тысяч километров от врага». Я запомнил эти слова… А заниматься гимнастикой под носом у врага, по-твоему, намного лучше?
— Любая армия занимается боевой подготовкой, — поучительно произнес Клаус. — Поехали!
Они уселись в машину Клауса, быстро миновали окраины города, выехали на шоссе, потом свернули на какую-то лесную просеку. Здесь в отличие от шоссе не было никакого движения — казалось, их машина была единственной.
Чем дальше, тем хуже становилась эта проселочная дорога, петлявшая в лесу. Машину изрядно потряхивало на рытвинах. Откуда-то донеслось эхо глухих выстрелов.
Наконец впереди показался высокий забор, затем — наглухо закрытые ворота. У ворот прохаживался какой-то парень в брезентовом плаще и надвинутой на лоб кепке. Неподалеку стояла полускрытая деревьями грузовая машина. Увидев приближающийся «фольксваген», парень быстрым шагом пошел навстречу, держа правую руку в кармане плаща.
Клаус опустил боковое стекло машины, высунулся и помахал приближающемуся парню, слегка откинув назад кисть руки.
Тот замедлил шаг, приветливо улыбнулся и, ответно взмахнув рукой, сказал:
— С приездом! Добро пожаловать!
Затем он повернулся, подбежал к забору, и минуту спустя ворота распахнулись. Клаус направил машину внутрь, за ограду.
На большой площадке несколько групп молодых ребят занимались каратэ и боксом. Еще одна группа стреляла по мишеням из мелкокалиберных винтовок. Слева от ворот Рихард увидел какое-то низкое деревянное строение. В центре площадки стоял человек лет пятидесяти в теплом мохнатом свитере. Он резко повернулся к машине, но, увидев высунувшегося из окна Клауса, приветливо улыбнулся.
Клаус поставил машину у забора, неподалеку от ворот, вышел из нее и жестом предложил Рихарду последовать его примеру.
— Привет, герр Штольц! — сказал он человеку в свитере, — я привез вам заморского гостя. Знакомьтесь, герр Рихард Альбиг! Он приехал из Аргентины и теперь будет постоянно жить в Мюнхене.
На небритом лице Штольца появилось нечто вроде улыбки, но его приспущенные веки не могли скрыть настороженного взгляда.
— Считайте, что он свой человек, — продолжал Клаус. — В Буэнос-Айресе был связан с нашими ребятами. Скоро вступит в НДП. Я за него ручаюсь.
Штольц и Рихард обменялись рукопожатием. Рихард едва не вскрикнул от боли — с такой силой Штольц сжал кисть его руки в своей огромной ладони.
— Подполковник запаса Генрих Штольц! — гаркнул он, вытягиваясь и глядя прямо в глаза Рихарду. У него был голос человека, привыкшего отдавать приказы.
— Продолжайте, пожалуйста, ваши занятия, — сказал Клаус, — мы не хотим отрывать вас от дела.
Штольц молча повернулся и сделал несколько шагов в сторону каратистов. Рихард знал толк в этой японской борьбе и с удовлетворением спортсмена отмечал про себя каждый удачный удар.
Сначала Рихард попытался определить, настоящие ли это боевые схватки или только их имитация. В аргентинских военно-спортивных кружках происходили примерно такие же бои, но искусство заключалось в том, чтобы, правильно применив тот или иной прием, все же не причинить боль противнику. Подлинная борьба шла лишь на показательных соревнованиях.
Здесь же, судя по всему, удары наносились всерьез, и время от времени кое-кто из каратистов падал на землю. В таких случаях Штольц кричал:
— А ну, вставай, не прикидывайся!
Одни вставали после первого или повторного окрика и через две-три минуты снова занимали боевую позицию, но других приходилось уносить в дом.
— А что там, в доме? — спросил Рихард.
— Да ничего, — ответил Клаус, — обычная раздевалка. И аптечка есть. Кое-какие медикаменты для слабаков: нашатырный спирт, сердечные…
— И врач там есть? — поинтересовался Рихард.
— Врач? — удивленно переспросил Клаус. — Ты что, спятил? Это же боевая организация НДП, а не школа гимнастики для маменькиных сынков!
Клаус и Рихард еще с полчаса молча наблюдали за схватками. Потом раздался громкий и хриплый голос Штольца:
— Стоп! Все замерли.
— Теперь к ямам! — приказал Штольц.
Рихард только сейчас заметил, что у дальней стороны забора, куда направились все парни, возвышаются два земляных холмика.
— Подойдем поближе, — сказал Клаус, — это весьма занятное упражнение! Тебе понравится.
Когда они подошли вплотную к холмикам, Рихард увидел две свежевырытые ямы. На дне каждой лежало по лопате. Штольц тем временем скомандовал:
— Принести снаряды!
Какой-то парень побежал в дом. Через две-три минуты он вернулся с охапкой резиновых прутьев и положил их на краю одной из ям.
— Кто у нас сегодня на очереди? — спросил Штольц, вытащил из брючного кармана блокнот, раскрыл его и объявил: — Грюндель и Лисснер! Верно?.. Приступайте!
Два высоких парня вышли из цепочки, сняли с себя рубашки и спрыгнули в ямы. Они подняли лопаты и воткнули их в холмики свежевырытой земли. Потом встали, словно по команде «смирно». Ямы были им по грудь.
— Засыпай! — гаркнул Штольц.
И тут же двое из цепочки схватили лопаты и начали поспешно засыпать ямы. Вскоре над поверхностью земли остались только головы и плечи стоявших в ямах людей.
— Итак, — объявил Штольц, — Грюндель — это коммунист. Лисснер — еврей. На-чи-най!
То, что произошло дальше, показалось Рихарду невероятным. Цепочка людей медленно двинулась вперед. Каждый поочередно брал из кучки резиновый прут и наносил им резкий удар по шее, плечам и груди полузарытых парней. Сначала хлестали первого, потом второго. При этом плевали им в лица и выкрикивали: «Смерть красным!», «Долой Брандта и компанию!», «Бей жидо-масонов!», «Получай, рус!».
«Коммунист» Грюндель и «еврей» Лисснер лишь зажмуривали глаза, когда над ними заносился прут. А получив удар, резко откидывали головы назад.
«Что же это такое?!» — подумал Рихард. Он, конечно, понимал, что стоящие в ямах люди не имеют ни малейшего отношения к коммунистам или евреям. И все же подсознательно начинал ощущать чувство злобы к избиваемым. Рихард вспомнил рассказы отца о том, как разделывались в лагерях с коммунистами, евреями, цыганами, русскими, поляками. Под свист прутьев эти картины вставали перед его глазами.
И Рихарду стало казаться, что перед ним — закопанные в ямы враги. Те, кто в свое время готовил покушение на фюрера, те, кто сейчас хочет поражения национал-демократов на выборах, те, кто стремится уничтожить НДП, единственную истинно немецкую партию, и утвердить в Германии господство русских.
Руки Рихарда незаметно для него самого сжались в кулаки. Его охватило страстное желание принять участие в экзекуции, подбежать к ямам, схватить прутья и бить, бить, бить…
Наконец последний в цепочке нанес свои удары. Лица избиваемых стали неузнаваемыми: они были покрыты грязью и кровоподтеками.
— Пре-кра-тить! — скомандовал Штольц.
И тогда все — кто лопатами, кто руками — начали откапывать избитых людей. Их вытащили из ям. «Коммунист» Грюндель тыльной стороной ладони стер кровь с лица, пошатнулся, но удержался на ногах и, как показалось Рихарду, с вызовом оглядел избивавших его людей. «Еврей» Лисснер сделал два-три шага и упал, во весь рост растянувшись на земле.
— От-мыть! — приказал Штольц. Двое подхватили Грюнделя под руки, а четверо других подняли Лисснера за плечи и за ноги и направились к одноэтажному дому.
Десятки вопросов вертелись на языке Рихарда. Какова цель этой экзекуции? Не озлобляет ли она парней? Провинились ли в чем-нибудь эти Грюндель и Лисснер?..
— Ну что? — щуря свои злые глаза, спросил Клаус. — Производит впечатление?
И тогда Рихард стал задавать свои вопросы.
— Подожди! — прервал его Клаус. — Господин подполковник и так тебе объяснит, что к чему.
— Все очень просто! — сказал Штольц, пожимая плечами. — Это своего рода закалка, воспитание стойкости и выдержки. Мы готовимся к предстоящим боям — их время наступит. И вот представьте себе, что кого-нибудь из наших парней захватят враги. Думаете, с ними будут вести беседы на философские темы? Нет! Их будут пытать. И по сравнению с этими пытками наша закалка — невинная забава. Тем не менее, повторяю, это упражнение рассчитано на укрепление воли, на воспитание выдержки и готовности перенести любую боль. И прошу вас запомнить, герр Альбиг: официально мы занимаемся здесь только спортом.
— Понятно? — спросил Клаус.
— Да, — уже не раздумывая, ответил Рихард.
Он действительно многое понял. И прежде всего — то, что подготовка к грядущим боям ведется здесь всерьез. Рихард даже не спрашивал, почему эта «спортивная» база находится в густом лесу и так тщательно охраняется. Он представил, какой вой подняли бы левые газеты, доведись им узнать о том, что здесь происходит. На всякий случай он все же спросил:
— А если сюда сунется кто-нибудь из посторонних?
— Все предусмотрено, — ответил Штольц. — Если мы услышим какой-либо подозрительный шум за забором, я немедленно подам команду «Гимнастика!» и все перейдут к обычным упражнениям для белоручек.
— А если кто-нибудь нагрянет в момент испытания, которое я только что видел? — спросил Рихард.
— Вообще-то говоря, это почти невероятно. Во-первых, за два-три километра от ворот выставлена охрана. Она очень хорошо замаскирована. Вы кого-нибудь заметили, когда ехали сюда?
— Никого, — ответил Рихард. — Вот только у самого забора стоял какой-то парень.
— Вот видите! — удовлетворенно воскликнул Штольц. — О вашем приезде охрана была предупреждена. Если все же случится так, что незваные, гости нагрянут сюда в момент испытания, охрана затеет с ними длительные пререкания, а мы тем временем успеем извлечь наших ребят из ям.
…Все это произвело на Рихарда глубочайшее впечатление. На фоне этой подлинно боевой активности их сборища в Аргентине выглядели детскими играми. Но тут вдруг его обожгла неожиданная мысль.
— Скажи мне, Клаус, — спросил он, — а как потом складываются отношения между теми, кто был в яме, и остальными?
— Это нелепый вопрос, — ответил Клаус. — Каждый из членов группы побывал и внизу и наверху.
— Значит, по очереди?
— Разумеется.
— А ты… ты выдержал бы такое испытание? — Я его выдержал. Иначе и быть не могло.
— Стало быть…
— Стало быть, я прошел соответствующую подготовку в этом кружке. Иначе я не мог бы стать тем, кем стал.
— А кем ты стал, Клаус? — Рихард понизил голос. — Я об этом никогда тебя не спрашивал, так сказать, напрямую.
— Мог бы и спросить! Я руководитель боевой молодежной группы, сочувствующей НДП.
— И такие группы есть повсюду в стране?
— Нет. Если говорить откровенно, их пока еще немного. Это наша мюнхенская инициатива.
— И я стану членом твоей группы?
— Будущее покажет, — с загадочной усмешкой ответил Клаус.
— Когда мы опять увидимся? Завтра?
— Даже раньше. Я заеду за тобой сегодня вечером. А завтра ты пойдешь на митинг, один из предвыборных митингов НДП. Мы будем его охранять.
— Охранять? — удивился Рихард. — От кого?
— От коммунистов, социал-демократов и прочих лженемцев. Они пользуются любым случаем, чтобы срывать мероприятия национал-демократической партии.
— Погоди, Клаус! — воскликнул Рихард. — Я совершенно упустил из виду: завтра я должен встретиться с одним человеком. Извини, что я не сказал тебе об этом раньше.
— Что это еще за «человек»? — насторожился Клаус.
— Видишь ли… я сам толком не знаю, — сказал Рихард. — Когда я уезжал из Буэнос-Айреса, отец рекомендовал мне нескольких знакомых, к которым я могу обратиться в случае каких-либо затруднений. Среди этих знакомых он назвал некоего Гамильтона.
— Гамильтона? — пытливо всматриваясь в лицо Рихарда, переспросил Клаус. — Американца?
— Да. Отец говорил, что в свое время Гамильтон помог ему и моей матери перебраться из Германии в Аргентину. Честно говоря, я об этом американце не вспоминал. Но вчера вечером Гамильтон сам позвонил мне. До сих пор не могу понять, откуда он узнал, что я уже приехал, не говоря уже о номере телефона…
— Та-ак… — многозначительно протянул Клаус.
— Он предложил, чтобы мы встретились сегодня. Но, поскольку ты должен был утром за мной заехать, я решил сначала рассказать тебе о его звонке. Короче говоря, он пришлет за мной машину завтра в пять вечера. Но если состоится митинг, то я отправлю этого Гамильтона ко всем чертям.
— С чертями ты не торопись! — сказал Клаус. — Митинг начнется в двенадцать и больше двух часов не продлится. При всех условиях к пяти ты будешь свободен. С Гамильтоном тебе надо встретиться… Думаю, что твой отец не дал бы тебе плохого совета.
— А ты-то случайно не знаешь, кто он такой, этот Гамильтон?
— Совершенно случайно знаю. Американский журналист. Представляет здесь несколько американских газет… Итак, выясни, что он хочет. С моей стороны возражений нет.
— В тот же вечер Клаус привез Рихарда к себе домой. Это была удобная, хотя и довольно скромно обставленная трехкомнатная квартира. В гостиной стоял небольшой обеденный стол, слева от двери — узкий диван, у противоположной стены — телевизор. Между двумя окнами располагался застекленный сервант, заполненный пестро расписанными пивными кружками. В кабинете Рихард увидел письменный стол, заваленный какими-то бумагами, на одном его краю стояла пишущая машинка, на другом — телефон. На стене висел большой портрет Гитлера. На книжной полке справа от стола книг было немного — десятка два или три. В спальне стояла небрежно застеленная кровать.
— Вот так я и живу, — с несколько виноватой усмешкой сказал Клаус. — Квартирка, как видишь, неплохая, удобная, но порядка в ней нет. Нанять служанку не решаюсь — чужой человек в доме ни к чему. Да и спать ей было бы негде. В самом деле, не со мной же! — добавил он и рассмеялся коротким смешком.
В этот момент Рихард услышал звонки, доносящиеся из передней: три коротких и один длинный.
— Свои, — взглянув на часы, сказал Клаус. — Ровно восемь. — И, уже направляясь к входной двери, добавил на ходу: — Сейчас мои ребята начнут собираться.
И действительно, в последующие десять — пятнадцать минут то и дело раздавались условные звонки.
Клаус бегал открывать дверь и, вводя в гостиную вновь пришедшего, представлял его Рихарду: «Курт… Герман… Вольф… Макс… Герберт».
«Совсем молодые люди! Я тут наверняка старше всех», — с удовлетворением отметил про себя Рихард.
Когда все подошли к столу, Клаус достал из серванта пивные кружки, не торопясь расставил их, а затем принес несколько бутылок пива. Откупорив их, он сказал:
— Садитесь, друзья!
Когда все гости расселись, Клаус заговорил снова:
— Я хотел бы рассказать вам кое-что о нашем новом товарище. Он приехал сюда из Аргентины. Как вы знаете, многие достойные люди покинули нашу страну, когда русские ворвались в Германию. Большинство из них устремилось в Аргентину и Парагвай, потому что антикоммунистические правительства этих стран всячески способствовали такой иммиграции. За последние десять лет я не раз бывал в Аргентине, где и познакомился с родителями Рихарда. Отец его, несмотря на преклонные годы, все еще работает. Он ведает аргентинским отделением банка, с которым связан и я. Положение, которое он занимал в третьем рейхе, — надежная гарантия его преданности нашему делу… Рихард жил мечтой о возвращении в Германию — особенно с тех пор, как узнал о создании национал-демократической партии. Завтра он вместе с нами будет участвовать в охране митинга. Особых схваток я не предвижу, но, что ни говори, это будет для Рихарда своего рода боевым крещением. А теперь выпьем за его здоровье. Хайль!
Клаус встал и поднял кружку, наполненную пенистым пивом. Все остальные тоже встали и протянули к центру стола свои кружки.
Когда с пивом было покончено, Клаус сказал:
— Ну, вот… теперь я пойду и приготовлю кофе. А вы пока можете поближе познакомиться с нашим новым товарищем. — И вышел из комнаты.
Некоторое время за столом царило молчание. Рихард не знал, следует ли ему начать разговор или надо ждать, пока к нему кто-либо обратится.
Наконец рослый, широкоплечий парень лет двадцати, которого Клаус назвал Куртом, обратился к нему с вопросом:
— Значит, тебя зовут Рихардом? Что ж, хорошее немецкое имя! Сколько раз ты уже бывал в Германии?
— Ни разу, — ответил Рихард.
Ему трудно было преодолеть свою скованность — он чувствовал себя новичком среди этих ребят, явно уже видавших виды.
— То есть как это ни разу? — недоуменно спросил подстриженный почти наголо парень.
Рихард почувствовал, что краснеет. Он боялся, что сейчас последует вопрос: «Какой же ты немец, если ты родился на чужбине и никогда не был в Германии?»
Собравшись с духом, он сказал:
— Я родился в Аргентине вскоре после того, как мои родители прибыли туда Но то, что вам сказал Клаус, — чистейшая правда. Я мечтал приехать в Германию. И вот наконец я здесь…
— А потом ты вернешься в свою Аргентину танцевать танго? — с насмешкой спросил белобрысый юноша в очках, сидящий рядом с Куртом.
— Погоди, Вольф! — осадил его Курт. — Откуда ты знаешь, что он делал в Аргентине? Ведь там есть наша организация…
Рихард был глубоко задет. Он так мечтал вернуться на родину, и вот теперь, когда его мечта сбылась, он от своих же слышит такое.
— Я не танцевал в Аргентине, — сказал Рихард, с трудом подбирая слова. — Я работал на благо Германии. Занимался в немецком военно-спортивном лагере. На протяжении последних трех лет через мои руки проходили деньги, которые мы собирали и пересылали в Германию для национал-демократической партии. Спросите у Клауса, он не раз приезжал к нам в качестве партийного курьера, и мы подружились. Я поставил целью своей жизни…
Рихард умолк. У него перехватило дыхание, и он не мог выговорить ни слова. А хотел он сказать многое. И прежде всего то, что он вырос в подлинной нацистской семье, что его отец лично знал Гитлера, Геринга и Гиммлера…
В это время дверь, ведущая в кухню, открылась, и на пороге появился Клаус с большим подносом в руках. На подносе стояли маленькие чашечки.
— А вот и кофе! — весело воскликнул Клаус. Он опустил поднос на стол и начал расставлять чашечки с ароматным кофе. — Думаю, однако, что сначала следовало бы опрокинуть по рюмочке шнапса.
Он снова вышел из комнаты и вернулся, держа в одной руке бутылку, а в другой — рюмки.
— Что ж, дорогие друзья, — торжественно произнес Клаус, наполнив рюмки, — прежде всего предлагаю еще раз выпить за здоровье нашего нового товарища Рихарда Альбига. Он услышал зов родины и вернулся в Германию, чтобы принять участие в нашей общей борьбе. Прозит!
…Алкоголь развязал всем языки. На Рихарда посыпались вопросы. Его стали расспрашивать об аргентинских военно-спортивных кружках и о целях, которые они перед собой ставят. Кто-то спросил, приходилось ли ему участвовать в стычках с коммунистами. Рихард едва успевал отвечать на вопросы.
Затем Клаус повелительным жестом призвал всех к тишине и сказал:
— Ну, довольно, друзья! Теперь займемся делом. Где будет происходить завтрашний митинг, вам известно, а Рихарда я привезу сам. Очень важно, чтобы каждый из вас привел с собой людей, сочувствующих нашему делу. Надо будет занять, так сказать, ключевые позиции: на улице, у входа, и внутри зала, у дверей. Как вы знаете, довольно широкий проход разделяет зал на две части. Наши ребята займут места по обе стороны прохода, чтобы в случае чего сразу же броситься к дверям и блокировать их. Я с Рихардом и двумя связными сяду в первом ряду. Мы будем охранять наших ораторов от коммунистов, евреев и прочих подонков, которые могут явиться на митинг, чтобы сорвать его. Предотвратить это невозможно — митинг открытый…
Клаус говорил еще долго. Обмакивая указательный палец в свою кружку с недопитым пивом, он чертил на столе различные схемы. Здесь ряды, здесь проход, здесь двери… Задавал вопросы и Рихард. Ему казалось, что он уже освоился в этой компании, которая еще недавно была такой чужой. Он снова вспомнил рассказы отца о ранних годах становления национал-социализма, о том, как его дед был среди штурмовиков, охранявших мюнхенскую пивную, в которой выступал Гитлер… Рихард чувствовал, как его обволакивает атмосфера конспирации. Вот она, подготовка к реальным делам, о которых он так долго мечтал!
…Расходились они поздно. Рихард попрощался с каждым из уходящих, с радостью ощутив крепкие, мужские рукопожатия. Он понял, что его «приняли», что в его преданности делу никто не сомневается.
Митинг
Было уже около полудня, когда Рихард и Клаус подошли к большому зданию, похожему на ангар. Машину Клаус оставил на соседней улице. Рихард обратил внимание на яркие афиши, расклеенные на стенах домов. На первой же, которую он прочел, огромными буквами было напечатано:
Митинг!
Кто мы, национал-демократы!
Чего мы хотим? И почему?
НДП приглашает всех желающих на митинг,
который состоится в помещении «Людвиг-Паласта»
У входа в «Людвиг-Паласт» толпился народ. Один за другим подъезжали автобусы. Люди, выходившие, из них, тотчас же устремлялись к дверям. Рихард стал внимательно присматриваться к участникам митинга. Он ожидал, что они в чем-то должны быть похожи на своих предшественников, — хотя бы носить сапоги и коричневые рубашки. Но он ошибся: никто — ни молодые, ни пожилые — своей одеждой не подражали ни штурмовикам, ни эсэсовцам.
Молодые напоминали скорее отпрысков состоятельных семей. Многие из них носили галстуки с традиционными узорами и вполне респектабельные пиджаки. Если внешне их что-то и объединяло, то лишь стрижка — короткая, как у армейских новобранцев.
Клаус, судя по всему, хорошо знал многих из тех, кто толпился у входа. Он обменивался с ними быстрыми рукопожатиями, приветливыми кивками и многозначительными улыбками.
Лицо одного человека средних лет, в плаще с поднятым воротником, показалось Рихарду очень знакомым.
«Кто это?» — подумал он. И тотчас же вспомнил: да это же Штольц, тот самый, который руководил «гимнастическими упражнениями»! За ним двигалась группа молодых людей, и Рихард понял, что это были ученики Штольца.
У самых дверей группа разделилась: одни, расталкивая толпу, вошли в зал, другие остались на улице.
«Охрана!» — догадался Рихард.
— Не отставай! — сказал ему Клаус.
Они прошли вперед, и тут Рихард заметил, что у самого входа, точно контролеры, стоят двое ребят из цех, с кем он познакомился накануне у Клауса.
Войдя в зал, Рихард осмотрелся. Он увидел высокий деревянный помост, сколоченный, видимо, на скорую руку. На помосте стояла довольно странная трибуна. Странная потому, что она была прикрыта большим стеклянным колпаком, хотя и без задней стенки. Сквозь стекло был виден микрофон на штативе, а над трибуной висело полотнище, на котором огромными буквами было написано:
НДП — партия истинных немцев-патриотов!
Через весь зал тянулись ряды откидных стульев. Многие из них уже были заняты. Красочные плакаты на стенах зала взывали:
Голосуйте за НДП!
Долой большевистских оккупантов!
Да здравствует Германия в ее исторических границах!
Вскоре после того, как они вошли в зал, к Клаусу подскочил молодой человек и, склонив голову набок, вопросительно поглядел на него.
— Привет, Франц! — тихо сказал Клаус. — Держись поблизости.
Франц молча кивнул и исчез. Рихард понял, что это тот самый связной, о котором Клаус упоминал накануне.
Они прошли вперед и сели в первом ряду, у самого прохода. На соседний стул Клаус положил газету — видимо, занял место для Франца. Рихард посмотрел на часы: двенадцать тридцать. Значит, до начала митинга остается еще полчаса.
Несколько минут спустя снова появился Франц. Он шепнул Клаусу несколько слов, тот скороговоркой пробормотал что-то в ответ. Рихард продолжал оглядываться по сторонам. Его особенно интересовали плакаты. На некоторых упоминалось имя Вилли Брандта, министра иностранных дел и потенциального кандидата в канцлеры от социал-демократов. Перед глазами Рихарда снова встала надпись, которую он увидел на стене дома, когда въезжал в Мюнхен: «Брандта к стенке!»
Клаус тронул его за плечо:
— Франц сказал, что к зданию приближается какая-то демонстрация. Очевидно, коммунистические подонки. Но полиция не допустит срыва нашего митинга. Наряды полицейских уже прибыли. Я дал команду закрыть двери и никого больше не пускать. Народу и так уже много.
Рихард обернулся и увидел, что в зале оставалось совсем мало пустых стульев.
— А это что за колпак? — спросил он, указывая на трибуну.
— Пуленепробиваемое стекло! — отрезал Клаус. Рихарда охватило волнение, он почувствовал себя, как солдат, к которому приближается незримый противник.
— Ты думаешь, будут стрелять? — тихо спросил он.
— Нет, — ответил Клаус. — Обычно на наших митингах стрельбы не бывает. Но надо предусмотреть любую возможность.
— У тебя есть оружие? — уже полушепотом спросил Рихард.
— Нет, — покачал головой Клаус. — Только вот это. — И он слегка приподнял над коленями сжатые кулаки.
— Значит… драка?
— Это тоже заранее неизвестно. Но когда выступает руководитель партии…
— Фон Тадден?! Но ты мне ничего не сказал…
— Во-первых, не кричи! — одернул его Клаус. — А во-вторых, я сам только что узнал об этом. От Франца.
— Но разве Тадден здесь, в Мюнхене? — не в силах унять свое волнение, воскликнул Рихард.
— Наверняка я сказать не могу, — ответил Клаус. — Он разъезжает по стране в своем бронированном автомобиле и на этот митинг может не поспеть. Будем надеяться, что…
Он умолк, потому что в это мгновение вспыхнул свет Нескольких прожекторов, установленных в углах зала. Их лучи были направлены на застекленную будку. Дверь в стене, к которой примыкал помост, распахнулась, и на трибуне появился пожилой человек величественной осанки.
Многие из сидевших в зале вскочили со своих мест и стали хором скандировать:
— Тад-ден!.. Тад-ден!.. Тад-ден!
Внезапно раздался чей-то громкий свист, но он был заглушён топотом ног и взрывом аплодисментов.
Рихард тоже хлопал в ладоши. Самозабвенно. Он никогда еще не видел фон Таддена, разве что на фотографиях в газетах и журналах, и теперь впивался в него взглядом, словно стремясь запомнить все — и его квадратную челюсть, и широкий с залысинами лоб, поблескивающий в лучах прожекторов, и седые виски, и черный костюм, и серый галстук, выделяющийся на белой сорочке…
Наконец фон Тадден поднял правую руку, а левой придвинул к губам микрофон, давая собравшимся понять, что он хочет говорить.
И вот в притихшем зале раздались усиленные громкоговорителями слова фон Таддена:
— Соотечественники! Друзья! Спасибо вам всем за то, что вы пришли на наш митинг. Враги нашей партии — иными словами, враги Германии — утверждают, что мы не пользуемся поддержкой народа. Пусть они посмотрят на людей, собравшихся по нашему зову! Пусть услышат их аплодисменты! Это аплодируют не мне, а нашей славной национал-демократической партии!
Снова раздались аплодисменты.
Фон Тадден поднял руку и продолжал:
— Наши противники утверждают, что мы — фашистская партия. Ложь, ложь и еще раз ложь! Мы — демократическая партия. И мы докажем это не словами, а делом, когда на предстоящих выборах получим депутатские мандаты в бундестаг.
Рихард сидел с широко открытыми глазами. Он слушал Таддена, говорившего, что Германия никогда he примирится с потерей земель, которыми завладели ее враги. Он снова и снова повторял, что восстановление границ 1939 года НДП считает своей главной политической целью.
Оратор поносил коммунистов, именуя их агентами Москвы, а заодно и социал-демократов, легко смирившихся с расчленением Германии. Потом стал говорить о безработице. Он обвинял правительство в том, что оно открыло границы страны для инородцев, которые захватили рабочие места, по праву принадлежащие немцам.
Зал снова разразился аплодисментами. Неистово хлопал в ладоши и сам Рихард, не отрывая взгляда от Таддена. Ему казалось, что вот сейчас председатель партии бросит боевой клич, и немецкий народ, взявшись за оружие, сметет негодное правительство. Ему чудилось, что на улицах уже маршируют штурмовые отряды…
И вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Откуда-то из задних рядов зала к трибуне метнулся какой-то небольшой круглый предмет.
«Бомба!» — мелькнуло в сознании Рихарда, и он инстинктивно сжался, втянув голову в плечи.
Но это была не. бомба. Ударившись о стеклянную преграду, круглый предмет раскололся с едва слышным хрустом, и по стеклу потекла желтая струйка. И тут, как по сигналу, из разных концов зала на трибуну полетели тухлые яйца и перезрелые помидоры. Разбиваясь о стекло, они растекались на нем желтыми и красными струями.
«Позор!», «Долой!», «Прекратите!», «Таддена ко всем чертям!», «Хайль!», — все эти крики сливались в единый оглушительный хор.
— Что происходит? — Рихард обернулся к Клаусу. Но тот куда-то исчез.
И вдруг из разных рядов взлетели пачки листовок. Рассыпаясь в воздухе, они падали на плечи и головы сидящих в зале людей. Пошарив по полу, Рихард поднял несколько листовок и сунул их в карман.
В это время со стороны входа в зал послышался какой-то гул и прожекторы погасли. Все, кто сидел на стульях, вскочили со своих мест и бросились к выходу. В проходе началась давка.
Растерянный Рихард тоже устремился к выходу, во застрял в плотной толпе людей. Внезапно он ощутил на своем плече чью-то руку и, повернув голову, увидел Клауса.
— Спокойно, не торопись! — отчеканил тот. И добавил скороговоркой: — Там, снаружи, идет драка. Тебе ввязываться нельзя, можешь угодить в полицию. У тебя иностранный паспорт! — пояснил он. — Могут выслать из страны за участие в беспорядках.
— Я его выкину! — воскликнул Рихард. — Мои родители чистокровные немцы!
— Ладно, ладно, — оборвал его Клаус, — веди себя осмотрительно!
Наконец людской поток вынес Рихарда на улицу. А там уже в разгаре была ожесточенная потасовка. Слышались выкрики: «Нацисты проклятые!», «Предатели Германии!», «Бей коммунистов!», «Фашистские палачи!», «Жидо-масоны!». Рихард порывался ввязаться в драку, но его удерживал то ли инстинкт самосохранения, то ли приказ Клауса.
Полицейские не пытались разнять дерущихся, они окружили их и, казалось, заботились только об одном: не допустить, чтобы в схватке приняли участие люди, сбегавшиеся со всех сторон.
Рихарда толпа вынесла за пределы полицейского окружения. Теперь он стоял в стороне, наблюдая за дерущимися. Время от времени перед ним мелькало окровавленное лицо Клауса. «Сейчас начнется стрельба!» — почему-то подумал он, прижимаясь к стене дома. Но никаких выстрелов не последовало. Кое-кто из участников схватки орудовал дубинками, велосипедными цепями, металлическими прутьями. Неожиданно к Рихарду подскочил Клаус.
— Проваливай отсюда! — крикнул он. — На параллельной улице стоит моя машина. Беги туда и жди меня!
— А как же ты? — спросил Рихард.
— Подчиняйся приказу! — гаркнул Клаус и снопа исчез в толпе.
«Приказу? — повторил про себя Рихард. — Не много ли он на себя берет?»
Вместе с тем какое-то шестое чувство подсказывало Рихарду, что Клаус играет здесь ведущую роль и ему надо беспрекословно подчиняться. Он дошел до ближайшего переулка, свернул на параллельную улицу и еще издали увидел машину Клауса.
До сих пор Рихард знал о столкновениях между неонацистами и их врагами лишь по газетам и письмам Клауса, но теперь он воочию убедился, что в Германии происходят настоящие схватки — вроде тех, о которых он читал в книгах, описывающих зарождение национал-социализма.
Прошло не менее получаса, прежде чем на улице появился Клаус. Вид у него был растерзанный, на лице виднелись кровоподтеки. Его сопровождали три рослых парня.
— Сейчас поедем! — сказал Клаус и, повернувшись к своим спутникам, отдал распоряжение: — А вы отправляйтесь по домам и приведите себя в порядок. Вечером я вам позвоню.
Он нащупал ключи от машины в кармане своих порванных брюк и открыл переднюю дверь. Ухватившись за руль, Клаус плюхнулся на сиденье, затем протянул руку к противоположной двери и потянул за рычажок на ней.
— Садись! — сказал он Рихарду.
Тот обошел машину, открыл дверь и сел рядом с Клаусом, который уже успел вставить ключ в замок зажигания.
Затарахтел мотор, и машина двинулась.
— Значит, митинг сорван? — с горечью в голосе спросил Рихард.
— Да, — угрюмо ответил Клаус. — Его сорвали социал-демократы и коммунисты. Впредь будем умнее.
Какое-то время оба молчали. Потом Рихард спросил:
— Куда мы едем?
— Отвезу тебя домой. Не забудь, — Клаус взглянул на часы, — через час с небольшим у тебя встреча с Гамильтоном.
«Дался тебе этот Гамильтон!» — чуть не вскрикнул Рихард. Было бы гораздо лучше, если бы Клаус заехал сейчас к нему, ведь у него столько вопросов!
Но Клаус был мрачен и неразговорчив. Рихард понимал, что его друг должен привести себя в порядок, промыть ссадины на лице, переодеться…
— Я позвоню тебе завтра утром, — сказал Клаус, когда машина остановилась у пансионата.
— Спасибо тебе! — взволнованно произнес Рихард, прежде чем выйти из машины. — Спасибо! Теперь я хоть представляю себе, как вы боретесь, какие трудности вам приходится преодолевать. Жаль только, что я сам не принял участие…
— Всему свое время, — прервал его Клаус. — До завтра!
Гамильтон
…Машина остановилась у многоэтажного серого дома. Шофер снова выскочил из машины, обежал ее и, открыв заднюю дверцу, сказал:
— Мы приехали, герр Альбиг. Я провожу вас.
Он быстрыми шагами направился к высокой застекленной двери. Едва поспевая за ним, Рихард окинул взглядом медные таблички по обе стороны двери. На них было что-то выгравировано по-английски, но у него не было времени остановиться и прочесть надписи.
Шофер по-прежнему шел впереди. Они поднимались по узорной металлической лестнице, устланной красной дорожкой. На площадке второго этажа Рихард увидел две массивные двери. Шофер услужливо распахнул дверь слева. Рихард последовал за ним по широкому коридору. Из комнат, мимо которых они проходили, доносились дробь пишущих машинок и стрекот телетайпов, слышались обрывки телефонных разговоров… Видимо, здесь находилась какая-то редакция. На дверях поблескивали медные таблички с английскими фамилиями, которые, конечно, ничего не говорили Рихарду.
Наконец они подошли к плотно закрытой двери, й Рихард ощутил какое-то странное волнение, когда на табличке, прикрепленной к двери, прочитал надпись: «Арчибальд С. Гамильтон».
Шофер открыл дверь и сказал с порога:
— Герр Альбиг к мистеру Гамильтону.
— Минуточку! — сказала девушка, сидевшая за большим столом. Она встала, шагнула к двери, обитой красной кожей, и скрылась за ней.
Несколько секунд спустя она появилась снова:
— Прошу вас, герр Альбиг, мистер Гамильтон вас ждет.
Она оставила дверь открытой и отошла в сторону. Рихард перешагнул порог…
Он увидел немолодого мужчину, с сединой в висках, в сером твидовом пиджаке, из нагрудного кармана которого выглядывал уголок белого платка. Ему можно было дать и шестьдесят лет, и даже пятьдесят.
Не успел Рихард войти в комнату, как Гамильтон встал из-за стола и сделал несколько шагов ему навстречу. Они остановились посредине комнаты, друг против друга. Гамильтон положил руку на плечо Рихарда и, разжав тонкие губы, сказал:
— Так вот ты, значит, какой!
Он смерил его взглядом своих, стального цвета, почти не мигающих глаз.
— По фотографии я тебя представлял несколько иначе. Правда, тогда ты был еще маленький… Твой отец прислал мне ее много лет назад…
«О фотографии он мне ничего не говорил», — хотел было сказать Рихард, но вместо этого спросил:
— На каком языке мне говорить с вами, сэр? Английский я знаю, но не очень хорошо.
— А я, как видишь, знаю немецкий, и, по общему мнению, весьма неплохо, — с улыбкой сказал Гамильтон. — Ведь я прожил в Германии в общей сложности лет двадцать пять, если не больше. Первые годы в Нюрнберге, а потом вот здесь, в Мюнхене…
Он произнес слово «Мюнхен» не по-немецки, а по-английски — «Мьюник».
— Что ж, присядем, мой молодой друг, — предложил Гамильтон и, не снимая руки с плеча Рихарда, подвел его к полированному круглому столику, стоявшему в углу кабинета. Он усадил его в кресло около столика, а сам еел в другое, напротив.
— Так, так! Очень рад тебя видеть, — сказал Гамильтон. У него была какая-то странная улыбка: улыбались только губы, а глаза оставались холодными. — Я получил письмо от твоих родителей. Они просят, чтобы я помог тебе на первых порах.
— Извините, мистер Гамильтон, — виновато проговорил Рихард, — мне следовало бы начать с того, что родители шлют вам сердечный привет. Отец велел мне обязательно разыскать вас сразу же по приезде.
Судя по всему, Гамильтону было приятно это услышать.
— Ты, наверное, голоден? — участливо спросил он.
Рихард отрицательно покачал головой.
— Что-нибудь выпьешь? Кофе, пиво, виски, джин? Не знаю, к чему ты пристрастился там, в Аргентине.
Пить Рихарду тоже не хотелось. Но из вежливости он сказал:
— Джин с тоником, если можно.
— О'кэй! — воскликнул Гамильтон, встал и подошел к полированному книжному шкафу, одна из полок которого была уставлена бутылками, стаканами и рюмками. Не отходя от шкафа, он наполнил бесцветной жидкостью высокие стаканы, захватив их пальцами одной руки, а другой взял миниатюрную бутылочку с тоником. Вернувшись к столику, стал наливать тоник в стакан Рихарда.
— That's enoughl Thank you! [7] — сказал Рихард.
— А у тебя вполне сносное произношение, — одобрительно кивнул американец и подлил немного тоника в свой стакан. Вдруг он стукнул себя ладонью по лбу и воскликнул: — Проклятый склероз! Я совсем забыл про лсд. Подожди!
Он снова встал и подошел к тумбочке, стоявшей около книжного шкафа. Когда он открыл ее, Рихард увидел, что это холодильник. Гамильтон снял с полки хрустальную вазочку, наполненную кубиками льда, и поставил ее на столик. На краю вазочки висели серебряные щипцы. Рихард взял их и, захватив кубик льда, опустил его в стакан. Гамильтон положил себе три кубика.
— За твой приезд и за твоих родителей! Прежде всего — за фрау Ангелику. Ведь дороже матери нет ничего на свете. Прозит! — сказал он, поднимая свой стакан.
Они отпили по глотку.
— Послушай, — чуть наклоняясь над столом, проговорил Гамильтон, — ты ведь еще ничего не рассказал о твоих родителях. Ну, об отце я кое-что знаю. Старина Адальберт, судя по всему, процветает. А как мать? Сколько ей сейчас лет?
Этот вопрос застиг Рихарда врасплох. В самом деле, сколько же лет матери? Несколько неуверенно он ответил:
— Я думаю, лет за шестьдесят…
— Time flies [8], - задумчиво произнес американец, но тут же снова перешел на немецкий: — Она была очень красива, когда судьба свела меня с… с твоими родителями.
Немного помолчав, он усмехнулся и сказал:
— Ну, а теперь вернемся из далекого прошлого в сегодняшний день. Тебя не помяли в этой потасовке?
«Что он имеет в виду? Сегодняшний митинг? — подумал Рихард. — Но откуда он знает, что я там был?»
— Все в порядке, — неопределенно ответил Рихард.
— Насколько мне известно, — продолжал Гамильтон, — в аэропорту тебя встретили и доставили в пансионат… Так?
— Да. Спасибо. — Рихард глядел на американца в упор. — Вы имеете в виду Клауса? Да, он меня встретил. Клаус — мой старый приятель. Он несколько раз приезжал в Аргентину. И мы с ним переписывались. Он давно звал меня в Германию…
— Та-ак… — задумчиво протянул Гамильтон. — Что ж, Клаус неплохой парень…
«А вы-то его откуда знаете?!» — чуть было не воскликнул Рихард. И, хотя он сдержался и внешне не реагировал на замечание американца, разные мысли и предположения одолевали его, как рой растревоженных пчел.
«Почему Гамильтон так добивался встречи со мной? Почему он держится не просто вежливо и приветливо, а с какой-то затаенной радостью? Может быть, мне это только кажется?»
Но вопросов Рихард не задавал. Что-то его удерживало. Он ждал, что американец раскроется больше, и тогда будет ясно, как себя надо с ним вести…
— Год или полтора назад, — снова заговорил Гамильтон, — твой отец писал мне, что ты поступил в университет.
— Да. На исторический факультет, — ответил Рихард. — Но с тех пор прошло больше двух лет.
— И за это время ты успел окончить университет? — спросил американец, поднимая свои густые брови.
— Нет, — ответил Рихард, — я закончил только два курса.
— И что же ты собираешься делать дальше?
— Когда начнется учебный год, поступлю в Мюнхенский университет.
— А что привело тебя в Германию? Только честно!
— Зов предков, — коротко ответил Рихард.
— Значит, ты романтик? — прищурив глаза, спросил Гамильтон.
— Речь идет не о романтике, а о патриотизме.
— Отец говорил тебе, что со мной можно разговаривать откровенно?
— Да. Он говорил, что в свое время вы оказали большую услугу ему и моей матери.
— Назовем это так… Но тогда расскажи более конкретно о цели твоего приезда. Должна же она существовать.
— Она существует.
— Ив чем она состоит?
— Прежде всего я хочу стать историком, мистер Гамильтон.
— И поэтому ты бросил университет?
— Нет, не поэтому, конечно… Впрочем, может быть, отчасти и поэтому.
— Не говори загадками!
— Тут нет никакой загадки. Я хочу изучать историю моей страны, живя здесь, а не на другом конце света.
— Ты сказал «отчасти». А что еще?
— Для меня реальная история Германии начинается с Фридриха Великого. А продолжили ее Бисмарк и Адольф Гитлер. Коммунисты изувечили нашу историю. Так вот, я хочу бороться за возрождение Германии. В рядах национал-демократической партии. Как? Я еще сам не знаю. Могу сказать только одно: любыми способами.
— Ты думаешь, у НДП хватит сил, чтобы поставить Германию на рельсы, с которых ее столкнули? — спросил Гамильтон, глядя на Рихарда своими немигающими, точно стеклянными, глазами.
— Не знаю, — неуверенно ответил Рихард.
— А я знаю, — твердо сказал американец. — У расчлененной Германии сил не хватит. Ей нужны союзники. По крайней мере один мощный союзник.
— Союзник? — переспросил Рихард. — Вы имеете в виду. — Вот именно! Соединенные Штаты Америки, — подсказал Гамильтон.
— Но… но ведь Америка воевала против Германии! — воскликнул Рихард. — Какая же новая цель заставит ее теперь с ней объединиться?
— Борьба с коммунизмом! — четко произнес Гамильтон и слегка ударил кулаком по столу.
Теперь Рихард поверил, что американец говорит с ним вполне откровенно.
— Да. Я понимаю, — сказал он. — Вы, конечно, правы.
— В таком случае выпьем за взаимопонимание! — улыбнулся Гамильтон и поднял свой стакан с недопитым джином. — Итак, ты намерен вступить в НДП? — немного помолчав, спросил он.
— Конечно.
— И принять гражданство ФРГ? Ведь у тебя аргентинский паспорт и виза на три месяца?
— Да… Я даже не знаю, насколько трудно будет уладить все формальности.
— С божьей помощью все легко. Gott mit uns [9], как любят говорить твои соотечественники.
— Вы не могли бы в этом случае выступить в роли господа бога? — с улыбкой спросил Рихард.
— Попробую, — сказал Гамильтон, — но при одном условии.
— Каком? — насторожился Рихард.
— Ты вступишь в НДП и займешься политической деятельностью всерьез. Я хочу, чтобы ты сделал карьеру в партии, которая, возможно, со временем придет к власти.
— Вы хотите, чтобы я стал политиканом, одним из тех, кто с утра до вечера чешет языком? — с раздражением воскликнул Рихард.
— Я хочу только одного, — чеканя слова, ответил Гамильтон. — Я хочу предостеречь тебя: никаких авантюр! Ты должен тщательно изучить политическую ситуацию в Германии. В результате выборов у власти могут оказаться социал-демократы во главе с Брандтом. И тогда правительство пойдет на примирение с Москвой и со всем восточным блоком. А задачей твоей партии станет борьба за то, чтобы оставить германский вопрос открытым, а положение на восточных границах считать лишь временным.
— Большое спасибо за ваши советы, — с несколько преувеличенной вежливостью проговорил Рихард. — Я их, конечно, учту. И если мне предложат участвовать в какой-либо схватке, я обязательно посоветуюсь с вами.
— О-бя-за-тельно! — с расстановкой повторил Гамильтон, сверля Рихарда своим взглядом. — Иначе отдашь богу душу где-нибудь под забором. Кстати, имей в виду: затеешь какую-нибудь глупость, я узнаю об этом еще до того, как ты успеешь ее сделать.
— Еще до того?.. — удивленно переспросил Рихард. — Каким образом?
— Считай меня пророком. Или ясновидящим. Впрочем, я, конечно, шучу! — Гамильтон встал…
Что ж, на сегодня хватит. Не знаю, запомнишь ли ты мои советы, но об одном помни: ты мне дорог.
— Но чем я заслужил… — .начал было Рихард.
— Считай, что мне дорог каждый борец против коммунизма. А о моих давних связях с твоими родителями я уже не говорю.
Гамильтон подошел к письменному столу, черкнул что-то в блокноте и вырвал листок. Затем выдвинул верхний ящик и достал оттуда какой-то конверт. По-дейдя к Рихарду и протягивая ему листок, он сказал:
— Это мой телефон. Звони мне в любое время… И возьми конверт.
В большом незаклеенном конверте Рихард увидел пачку денег.
— Что вы, мистер Гамильтон!.. Зачем?.. Как можно?! — растерянно пробормотал Рихард, пытаясь вернуть конверт американцу.
Но Гамильтон, заложив обе руки за спину, сказал с усмешкой:
— В компанию, которую ты со временем возглавишь, я хочу войти на правах акционера. А пока я настоятельно рекомендую тебе сменить пансионат на собственную квартиру. Либо купить, либо снять на длительный срок. А это обойдется недешево.
— Но у меня много денег! — воскликнул Рихард, все еще пытаясь отдать конверт Гамильтону. — Отец об этом позаботился.
— Денег никогда не бывает слишком много, — наставительно произнес американец. — Особенно при здешней дороговизне. Я рад, что в свое время помог твоим родителям. А теперь я хочу хоть немного, помочь сыну… — И уже повелительным тоном добавил: — Положи деньги в карман. И прекратим разговор на эту тему!
Рихард понял: возражать бесполезно. Он сунул конверт во внутренний карман пиджака.
— Вот и хорошо! — улыбнулся Гамильтон. — Он подошел к Рихарду еще ближе: — А теперь попрощаемся!
Тот протянул было руку, но Гамильтон, обхватив его голову обеими руками, прикоснулся своими тонкими, плотно сжатыми губами ко лбу Рихарда.
Потом, слегка оттолкнув его от себя, сказал:
— А теперь поезжай. Машина у подъезда. И звони. Мы еще не раз встретимся.
По дороге в пансионат Рихард пытался разобратьея в том, что произошло. Он думал: «Что ему от меня надо, этому американцу? И кто он в конце концов такой?»
Выходя из кабинета Гамильтона, Рихард еще раз взглянул на медную табличку справа от двери. Там было написано:
Арчибальд С. Гамильтон «Америкэн Джорнэл»
Рихард знал о «Америкэн Джорнэл» — правда, больше понаслышке. Кажется, это была крайне правая газета, как и все издания Херста. «Но какое Гамильтону дело до меня? — размышлял Рихард — В том, что он говорил, явно ощущалась какая-то цель.
Но какая? Удержать меня от реальной борьбы? Склонить к так называемой политической деятельности, иными словами, пустопорожней болтовне? Может быть, отец просил американца „присмотреть за сыном“? Может, Гамильтон так старается потому, что и отец в свое время оказал ему какую-то услугу? И еще эга история с деньгами…»
Вспомнив о деньгах, Рихард вытащил из кармана конверт и заглянул в него.
«Нет, — подумал он, — отказаться от реальной борьбы меня не уговоришь. И деньгами тоже не купишь! Обо всем этом надо рассказать Клаусу. Ведь он знаком с Гамильтоном».
…Было около семи вечера, когда Рихард вернулся в пансионат. Он вдруг почувствовал, что очень голоден. Подойдя к стойке портье и взяв свой ключ, он спросил:
— Буфет еще открыт?
— Да, конечно, — ответил портье и добавил: — Для вас тут записка, герр Альбиг.
Не оборачиваясь, портье протянул руку назад, немного пошарил в одной из ячеек для ключей и вытащил оттуда сложенную вдвое бумажку. Не отходя от стойки, Рихард развернул ее и прочитал: «Звонил герр Клаус Вернер. Просил передать герру Альбигу, что уезжает на два дня в Дюссельдорф по банковским делам. Советует воспользоваться этим временем и осмотреть город. По возвращении немедленно позвонит».
«Так, так, — подумал Рихард, — значит, два дня я должен провести, как праздношатающийся турист».
В буфете он заказал сосиски с кислой капустой и кружку пива. Примерно в половине восьмого вернулся наконец в свой номер. Сев за стол, вынул из кармана конверт и стал пересчитывать деньги. Десять тысяч марок! «Завтра отнесу их в банк», — решил Рихард, засунул деньги в свой разбухший карман, но, увидев, что он очень оттопыривается, решил избавиться от ненужных бумаг. Вытащил из кармана смятые листовки, которые подобрал на митинге, потом несколько толстых конвертов с письмами Клауса.
«А зачем я таскаю их с собой» — подумал Рихард, бросив конверты на стол. На верхнем он увидел запись: «Хартманнштрассе, 88, тел. 53-24-85. Герда Валленберг».
Герда!.. За весь день он ни разу не вспомнил о ней.
Но теперь… Теперь Рихард стал вспоминать все… Вот она сидит рядом с ним в самолете… Вот она прижалась к нему, когда самолет провалился в воздушную яму…
Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Рихард схватил телефонную трубку и, услышав гудок, стал медленно набирать номер, записанный на конверте: «Пять… три… два..» Наконец он набрал все шесть цифр. В трубке раздался продолжительный гудок. Сердце Рихарда колотилось так, что ему хотелось схватить его рукой и замедлить биение… Сейчас он услышит ее голос. Один длинный гудок. Пауза. Телефон свободен. Второй гудок… Сейчас она возьмет трубку. Третий гудок… Четвертый… пятый… седьмой… и девятый. После десятого Рихард положил трубку. «Ее нет дома, — подумал он. — Может быть, еще не — приехала в Мюнхен». На всякий случай он снова снял трубку и набрал номер. Первый сигнал… второй… третий…
«Нет! — Рихард тяжело вздохнул, — Бесполезно».
Герда
На другое утро Рихард проснулся с таким ощущением, будто его кто-то толкнул. Мелькнула мысль, что он не успел сделать что-то очень важное… Немного погодя, однако, он во всех деталях вспомнил вчерашний вечер, когда тщетно пытался дозвониться Герде.
Рихард взял с тумбочки часы. Десять минут девятого. «Если она в Мюнхене и вернулась поздно вечером, то сейчас наверняка еще спит», — подумал он. Герда говорила ему, что она журналистка «фри-лэнс» и, стало быть, не обязана торопиться с утра на работу. «Пусть поспит еще часок!» — мысленно произнес он.
Рихард снял пижаму, принял душ, оделся и спустился вниз. Поздоровавшись с портье, вспомнил, что где-то по соседству находится газетный киоск. Он выбежал на улицу, купил «Зюддойче Цайтунг», «Цайт», «НДП-курир» и вернулся обратно в гостиницу. В буфете он заказал свое любимое блюдо — яичницу с колбасой — и неторопливо накрошил туда хлеба.
Не успел он покончить с яичницей, как официантка принесла ему небольшой фаянсовый кофейник на белом никелированном подносике и молочник. Рихард наполнил чашку крепким кофе и разбавил его сливками. Потом взглянул на часы. Без четверти девять. Раньше, чем в начале десятого, звонить Герде неудобно.
Он стал просматривать газеты, прихлебывая кофе. Сначала он взял «НДП-курир», орган национал-демократической партии. На первой же странице увидел заголовок, набранный крупным шрифтом: «Красные срывают мирное собрание НДП».
Под заголовком был помещен большой снимок: здание с куполообразной крышей, толпа людей у дверей, несколько поодаль — полицейские машины и сами полицейские с поднятыми дубинками. Текст под снимком гласил: «Вчера разъяренные банды коммунистов и социал-демократов сорвали предвыборный митинг НДП и не дали говорить председателю партии фон Таддену. Вооруженные палками и велосипедными цепями, они прорвались в зал, где происходил мичинг, и устроили там крввавое побоище. Вызванные отряды полиции пытались навести порядок, но безуспешно. В целях самозащиты они были вынуждены пустить в ход дубинки Уже в самом зале им удалось утихомирить хулиганов, которые забрасывали трибуну тухлыми яйцами и помидорами. Виновность левых экстремистов не вызывает никаких сомнений. Ее подтверждают и разбросанные ими листовки, которые мы воспроизводим».
Тут же были помещены фотографии двух листовок, на которых четко выделялись лозунги: «Долой неонацизм!» «Да здравствует компартия!» «Москва с нами!»
Эти листовки, утверждала газета, выдают с головой тех, кто затеял беспорядки.
В памяти Рихарда ожила картина вчерашнего митинга. Да, написано все правильно.
Он стал просматривать другие газеты. Сообщения о митинге были в каждой, но они отличались друг от друга и по объему, и по тону. Покончив с газетами, Рихард посмотрел на часы. Было около десяти. «Пора!» Он быстрыми глотками допил остатки уже остывшего кофе, свернул газеты в трубочку и торопливо направился наверх, в свою комнату.
…Он протянул руку к телефону. А что, если и на этот раз никто не ответит? Что тогда делать? Позвонить еще раз вечером? Или завтра утром?
Но мысль, что ему придется провести весь день в полном одиночестве, была невыносима. «Впрочем, — подумал вдруг Рихард, — ведь это хорошо, что Клаус уехал! Если я и встречусь с Гердой, то с гарантией, что Клаус не увидит нас вместе».
Он услышал продолжительный гудок и стал набирать номер, который теперь уже знал наизусть: Пять… три… два… Перед тем, как набрать последнюю цифру, «пять», Рихард замер. Потом разом, словно бросаясь в холодную воду, повернул диск. Прошло несколько секунд. Один гудок, второй, третий…
И вдруг, после четвертого сигнала, Рихард услышал в трубке легкий щелчок, а затем женский голос:
— Да! Слушаю!
— Герда? — крикнул Рихард так громко, что сам испугался своего голоса.
— Да, я. Кто это говорит?
— Рихард!
— Кто?
— Рихард… Рихард! Мы вместе летели в самолете. Неужели ты не помнишь?
Он был готов к чему угодно, но не ожидал, что Герда не узнает его голоса.
— А-а, Рихард! — проговорила Герда, и ему показалось, что она произнесла его имя с радостью.
— Да, да, это я! Когда ты приехала? Я звонил тебе вчера вечером.
— Вчера и приехала. Еще в первой половине дня. А вечером была с друзьями в ресторане.
Последняя фраза слегка кольнула Рихарда. Он умолк.
— Куда ты пропал? — раздался недоуменный голос Герды. — Что-то с телефоном? Алло, Рихард!
— Да, да, я слушаю! — воскликнул он, испугавшись, что Герда положит трубку.
— А я уж решила, что нас прервали, — сказала она. — Ну… как ты устроился?
— Да вроде бы все в порядке. Пансионат небольшой, но вполне приличный.
— А где находится твой пансионат? Рихард назвал улицу.
— Что ты делал эти два дня? Осматривал город?
— Н-нет, — немного запинаясь, ответил он, — просто приходил в себя после длительного перелета.
— И даже не осмотрел Мюнхен. Почему? — с удивлением спросила Герда.
— Потому что ждал тебя! — выпалил Рихард. — Хотел, чтобы ты показала мне город.
— Что ж, — сказала Герда, — как-нибудь встретимся, погуляем…
— Нет, нет! Я хочу, чтобы мы увиделись как можно скорее! Что ты делаешь сегодня?
— Сегодня? — переспросила Герда. — Но ведь я только вчера приехала. Накопилась куча дел… Например, сейчас собираюсь пойти в редакцию.
— А потом?
Рихард понимал, что своей настойчивостью он может отпугнуть Герду, но желание увидеть ее во что бы то ни стало заглушало голос рассудка.
— Потом?.. — повторила Герда и, немного помолчав, неуверенно добавила: — Еще не знаю. Может быть, редакция даст какое-нибудь задание.
— А после этого? — не унимался Рихард.
— Послушай… — начала было она, но он прервал ее.
— Герда, — чуть ли не умоляюще проговорил он, — мы же все время друг друга теряем! Сначала в самолете, потом в аэропорту. Я и оглянуться не успел, как ты куда-то исчезла. Прошу тебя, давай встретимся сегодня! В любое время… когда ты сможешь.
— Ну, хорошо, — после короткого раздумья сказала Герда. И спросила: — У тебя есть машина?
— Нет. Откуда? — ответил Рихард, и его охватила тревога. Неужели из-за отсутствия машины сорвется их встреча?
— Хорошо, — на этот раз уже решительно сказала Герда. — У меня машина есть. Я за тобой заеду.
— Ну, если тебе нетрудно… — пробормотал Рихард.
— Ладно, — прервала его Герда, — давай договоримся так. Сейчас около десяти. Значит, в два часа дня я подъеду к твоему пансионату. Я буду в маленьком желтом «фольксвагене».
— Хорошо! Спасибо, Герда! — вне себя от радости воскликнул он. — Я буду ждать тебя у входа в пансионат с половины второго.
— Я же сказала: в два.
— Все равно! Я выйду раньше, чтобы не разминуться с тобой.
— Ну, ладно! У тебя, судя по всему, очень много свободного времени. Итак, я подъеду в два.
В ожидании заветного часа Рихард уселся в кресло, взял газеты со стола и положил их себе на колени. Но сразу же приступить к чтению он был не в состоянии. Его не оставляли мысли о Герде. Он пытался представить, как он увидит ее за рулем «фольксвагена», думал о том, куда они поедут и с чего начнется их разговор.
Но тут Рихард снова вспомнил, что Клаус запретил ему встречаться с Гердой. Она, мол, пишет статьи, направленные против НДП, и подписывается инициалами «Г. В.».
Рихард принялся поспешно перелистывать газеты. Он не глядел на их названия, не читал статей, его интересовало только одно: подпись «Г. В.». Но этих инициалов он так и не увидел. Подумав, что он мог их не заметить, Рихард стал уже более внимательно просматривать статьи и заметки, имевшие хоть какое-то отношение к НДП.
Но они были либо без подписи, либо под ними стояли фамилии, ничего Рихарду не говорящие. Убедившись, что Гсрда к ним непричастна, он со вздохом облегчения достал из кармана пиджака шариковую ручку и стал отчеркивать абзацы в заинтересовавших его статьях и заметках. Зачем? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Но его не оставляла смутная мысль об использовании этих материалов в каких-го дискуссиях или, может быть, в спорах с Гамильтоном, если придется с ним еще раз встретиться.
Рихард прочитал, что министр внутренних дел Мерк в своей речи в ландтаге заявил: «Хотя и нельзя сказать, что наше государство сотрясают беспорядки, тем не менее не следует упускать из виду, что все больше и больше приходят в движение силы, целью которых является насильственное свержение существующей государственной структуры».
«Кого он имеет в виду? — подумал Рихард, подчеркивая этот абзац. — Коммунистов? Нет, сейчас вся политика вертится вокруг НДП и ее возможных успехов на осенних выборах. Говоря о насильственном свержении существующей государственной структуры, министр, конечно, имеет в виду цели НДП — пусть до поры до времени скрытые».
Далее он прочитал, что мюнхенцам все еще угрожают не разорвавшиеся со времен войны бомбы: за последние двадцать пять лет на территории города их было обнаружено сто двадцать три.
Подчеркивая это сообщение, Рихард подумал, что можно было бы устроить хороший взрыв и отнести его на счет такой бомбы.
Статья о цветных и «полукровках» в Германии… Заметка о том, как чернокожего выставили из отеля… «Взломщики приехали на грузовиках»… «Ограблен во время богослужения»… «Цены стремительно растут»… «Главный вокзал — пристанище воров и уголовников»… «На крыше одного мюнхенского рыбного магазина — перед объективами американских кинокамер — писатель Гюнтер Грасс ругал последними словами бундесканцлера Курта Георга Кизингера, министра финансов Франца Йозефа Штрауса и издателя Акселя Шпрингера»…
«Хватит!» — устало проговорил Рихард. Его охватило гнетущее ощущение собственного бессилия. Он думал о том, что в стране идет борьба за власть — и отнюдь не только в стенах бундестага. С каждым днем она достигает все большего и большего накала. Где-то взрываются бомбы, министры опасаются свержения правительства, растет неприязнь к «полукровкам» и к иностранцам, захватывающим рабочие места, которые по праву принадлежат немцам. Время действовать! А Клаус даже не дал ему возможности вступить в схватку с коммунистами! Старик Гамильтон уговаривает его стать парламентским болтуном.
Да и сам фон Тадден не призывает партию взяться за оружие и устроить врагам Германии такую же «хрустальную ночь», какую фюрер в свое время устроил евреям. Нет! Он ограничивается пустопорожними политическими лозунгами, видимо, не понимая, что они ровным счётом ничего не стоят, если их не подкрепить силой.
И вдруг Рихард вспомнил о своем намерении, которое до сих пор не осуществил. Еще в самолете он прочитал газетное объявление: тот, кто хочет помочь НДП, может перевести деньги в банк — на текущий счет этой партии. Он тогда запиеал номер счета на одном из конвертов с письмами Клауса. И Рихард принялся перебирать конверты. Вот номер телефона Герды… Скоро, теперь уже очень скоро он ее увидит! Потом Рихард нашел нужный ему конверт. Там было написано: «т/с 9078450».
Может быть, использовать время, остающееся до приезда Герды, — узнать у портье адрес ближайшего почтового отделения и сбегать туда? Нет, пожалуй, не стоит. Вдруг там очередь и он не успеет обернуться? Лучше сделать по-другому. Ведь Герда заедет за ним на машине. Он попросит ее остановиться у почты или у банка и подождать, пока он…
«Какую же сумму перевести? — Рихард нащупал в кармане толстую пачку денег, полученных от Гамильтона. — Ну, скажем, тысячу марок».
Он придавал этому денежному переводу особое значение. Как-никак это первое реальное действие, которое свяжет его с НДП. Пусть пока еще формально, но все же свяжет…
Как Рихард и сказал Герде, в половине второго он уже стоял у входа в пансионат.
Движение на этой улице было односторонним, и автомашины тянулись нескончаемой вереницей. Останавливаться можно только на противоположной стороне, и Рихард с тревогой подумал, что в этом потоке машин он не разглядит «фольксваген» Герды. Он решил заблаговременно перейти на другую сторону, но полосатая дорожка перехода была довольно далеко. Чуть ли не бегом он устремился к ней и, дождавшись зеленого света, перешел на другую сторону улицы. Затем вернулся назад и остановился напротив пансионата.
…Время тянулось медленно. Рихард подумал, что следовало бы купить цветы для Герды, но тут же вспомнил, что небольшой цветочный магазин находился на той же стороне улицы, что и его пансионат. Однако идти обратно он не решился, тем более что его часы показывали уже без десяти два.
Герда приехала ровно в два. Он еще издалека увидел маленькую желтую машину. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Рихард поднял руку и бросился прямо в поток автомобилей по направлению к «фольксвагену». Со скрипом и визгом тормозили машины, пронзительно гудели клаксоны, но он ничего не видел и не слышал. Ничего, кроме желтого «фольксвагена».
Герда едва успела затормозить. Рихард рванул дверь и плюхнулся на низкое сиденье рядом с ней.
— Ты что? — возмутилась она. — Думаешь, ты у себя в Буэнос-Айресе?
— Герда, извини, ради бога! — тяжело дыша, пробормотал Рихард. — Я боялся, ты проедешь мимо… Давай на минутку остановимся… я… я хочу посмотреть на тебя…
Герда усмехнулась, слегка притормозила и, пропуская идущие справа машины, стала приближаться к тротуару. Когда «фольксваген» остановился, Рихард сжал руки Герды, все еще лежавшие на рулевом колесе. Она повернулась к нему. Светловолосая, голубоглазая, она смотрела на него с едва заметной улыбкой.
— Мы расстались так недавно, — сдавленным от волнения голосом произнес Рихард, — а кажется, что прошла вечность.
— Не преувеличивай! — сказала Герда, теперь уже широко улыбаясь. — Ты явно склонен к преувеличениям… Впрочем, я тоже о тебе вспоминала.
— Это правда? — воскликнул Рихард.
— Я всегда говорю правду, — ответила она, взмахнув своими длинными ресницами, и добавила: — Если особые обстоятельства не вынуждают меня лгать.
Эти слова она произнесла, словно думая о чем-то своем…
Рихард промолчал. Герда убрала свои руки, и у него возникло ощущение, будто она отдалилась от него.
И все же его захлестывала радость: Герда здесь, рядом!
«Сказать ей, как я провел эти два дня? — думал он. — Рассказать ли о митинге и о том, что там произошло? Впрочем, она наверняка знает об этом из газет. Все подробности, кроме одной: что я там тоже был… Нет! Не надо говорить на политические темы. И так из-за политики у нас была размолвка в самолете».
Молчание нарушила Герда. Она спросила:
— Так какие же у тебя планы на будущее?
— Сначала хочу осмотреться, — слегка пожимая плечами, ответил Рихард. — Увидеть нынешнюю Германию… как бы это точнее выразиться… в натуральною величину. Прежде всего, конечно, Мюнхен… А потом уже буду думать о работе.
— Имей в виду, что найти работу далеко не так просто, — заметила Герда.
— Да, ты говорила мне об этом в самолете. Но сейчас я думаю о временной работе. А осенью, возможно, поступлю в университет.
— Но ведь ты историк. Значит, окончил университет в Буэнос-Айресе?
— Если говорить откровенно, Герда, то не окончил.
— Почему?
— Как тебе сказать… Я выбрал себе узкую специальность — историю Германии. И решил, что лучше всего ее приобретать здесь.
— Ив какой же университет ты намерен поступать?
— В Мюнхенский. Или в Эрлангенский, это ведь недалеко от Мюнхена.
— Ну, ладно! — сказала Герда. — А пока мы теряем время. Поехали осматривать город. Только предупреждаю: по-настоящему осмотреть Мюнхен невозможно даже за месяц, не то что за несколько часов. По я надеюсь, что некоторое представление ты все же получишь.
— Это лучше, чем ничего, — ответил Рихард. — Да и к тому же мы будем вместе, а эхо для меня гораздо важнее любых достопримечательностей.
— Тогда поехали! — Герда повернула ключ зажигания. Тихо затарахтел мотор. Машина тронулась.
Рихард неотрывно смотрел в окно. Перед его глазами, казалось, оживали цветные фотографии из иллюстрированных журналов, которые он читал в Аргентине.
…Почему он остановил свой выбор на Мюнхене? Потому ли, что тут жил Клаус? Или потому, что город славился своим университетом? Или потому, что Баварию считал землей истинных немцев? Ведь не какой-нибудь другой город, а именно Мюнхен стал колыбелью национал-социализма!
Рихард смотрел в окно, даже забыв на какое-то время о сидящей рядом Герде. Мимо проплывали старинные дворцы, готические церкви, тенистые скверы, затейливые памятники. Попыхивая трубками или сигарами, на скамьях отдыхали старики в тирольских шляпах с перьями.
— Красивый город! — сказал Рихард, не поворачивая головы. — А как называется улица, по которой мы сейчас едем?
— Принцрегентенштрассе.
— А это что за громоздкое здание?.. Вон там, слева, мы его только что проехали.
— Хочешь посмотреть? — спросила Герда, выруливая к тротуару и останавливая машину. — Здание это, можно сказать, в какой-то мере историческое…
Они вышли из машины и вернулись к большому дому с колоннами.
— А почему оно вошло в историю?
— Гитлер задумал его как «Храм искусства». Но надо сказать, что фюреру не повезло с самого начала. Закладывая здание, он сделал три традиционных удара молотком, и рукоятка молотка сломалась…
— Тем не менее, — как бы возражая Герде, заметил Рихард, — здание очень красивое. Одни колонны чего стоят!
— Нам оно не нравится, — слегка передернув плечами, сказала Герда.
— Кому это «нам»? — настороженно спросил Рихард.
— Мюнхенцам, — ответила Герда, делая вид, что не замечает тона, каким Рихард задал свой вопрос. И добавила: — А насчет колонн… именно из-за них здание прозвали «Аллеей вареных колбас». Впрочем, о вкусах не спорят.
Рихарда резануло пренебрежение, с которым Герда говорила об этом здании. Но он промолчал. Какая, в сущности, разница? Осмотр города был для неге? лишь поводом увидеться с Гердой и пробыть с ней как можно дольше. Они вернулись в машину.
— Ay тебя есть какие-нибудь родственники в Мюнхене? — неожиданно спросила Герда, поворачивая ключ, который оставался в замке зажигания.
— Нет, — ответил Рихард, когда машина тронулась.
— А тот парень, который встречал тебя во Франкфурте… Он кто? Просто знакомый?
Этот вопрос удивил Рихарда. Значит, она все-таки успела увидеть Клауса перед тем, как исчезла?
— Да, и даже очень близкий. А ты что, знаешь его?
— Откуда мне его знать? — пожала плечами Герда.
— Видишь ли, — объяснил Рихард, — он довольно часто бывает в Аргентине. По делам банка, в котором работает мой отец. В Буэнос-Айресе мы и познакомились.
— Обрати внимание на этот дом, — торопливо сказала Герда, притормаживая машину. Тон у нее был такой, словно разговор о Клаусе уже не представлял для нее никакого интереса.
Рихард взглянул в сторону, куда указывала Герда. Они проезжали мимо массивного трехэтажного здания.
— А что в нем особенного? Что там помещается? — спросил он, когда Герда остановила машину.
— Сейчас? Обыкновенное музыкальное училище.
— Ну и что?
— Сейчас-то ничего! Но тебе как историку, наверное, интересно будет узнать, что именно в этом здании было подписано небезызвестное «Мюнхенское соглашение». Надеюсь, о нем-то ты слышал?
— Еще бы! — с обидой воскликнул Рихард. — Можешь не сомневаться! Англия и Франция удовлетворили тогда законные территориальные притязания Германии.
— За счет Чехословакии, — иронически проговорила Герда.
— Я лично считаю, что за счет ликвидации несправедливости. Судеты — немецкая земля! — выпалил Рихард. И добавил: — А после войны снова восторжествовала несправедливость.
— И поэтому НДП требует восстановления Германии в границах тридцать девятого года? — спросила Герда, слегка прищурив свои голубые глаза.
«Стоп! — скомандовал себе Рихард. — Никаких разговоров об НДП!»
— Я, к сожалению, плохо представляю себе программу этой партии, — сказал он, разводя руками. — Но полагаю, что такую же позицию занимают очень многие немцы. Я, конечно, имею в виду патриотов.
— Честно говоря, мне не по душе патриотизм, который может привести к третьей мировой войне… Мой отец погиб в сорок пятом под Берлином.
— Прости меня, Герда! — Рихард дотронулся до ее руки. — Ты мне ничего не говорила о своих родителях.
— Отца я не помню. Но мать много рассказывала мне о нем. Он был типографским рабочим. Я его полюбила, так сказать, заочно. И возненавидела войну!.. Кстати, я до сих пор ничего толком не знаю о твоих политических взглядах.
«Осторожно, осторожно!» — мысленно приказал себе Рихард. Потом проговорил ни к чему не обязывающим тоном:
— Какие там взгляды! Просто я люблю Германию. А война… Нет, мне тоже не хотелось бы воевать.
— Если так, то мы с тобой единомышленники, — удовлетворенно проговорила Герда. — Но надо знать Германию, чтобы полюбить ее по-настоящему. Ты родился в Аргентине и прожил там всю жизнь. И Германия для тебя — понятие отвлеченное.
— Вот я и надеюсь, что ты меня просветишь, — сказал Рихард, улыбнувшись. — Между прочим, как ты думаешь, кто победит осенью на выборах?
— Трудно сказать… — уклончиво ответила Герда. — К тому же я не была в Германии больше месяца.
— Социал-демократы? Или, может быть, коммунисты? — не унимался Рихард.
— Будущее покажет, — коротко ответила она. — Не думаю, что коммунисты получат места в бундестаге.
— А НДП? — спросил Рихард.
— Возможно, — сказала Герда и, как бы прекращая разговор на эту тему, заключила: — Ладно, поехали дальше! — Посмотрела на часы и добавила: — У меня в распоряжении не так много времени. Как и полагается настоящим туристам, давай начнем осмотр с вокзала.
…Впрочем, у вокзала Герда даже не остановила машину. Когда они проезжали мимо этого мрачного здания, она сказала:
— Вот это и есть Главный вокзал. Если верить газетам, то после войны он стал пристанищем профессиональных мошенников, воров, хулиганов и прочих уголовников. Полиция не в силах с ними справиться.
Рихард, глядя в окно, мысленно отмечал названия улиц, по которым они теперь проезжали. Шиллерштрассе… поворот… Петтенкоферштрассе… поворот… Зендлингерштрассе… Слева промелькнула большая церковь с множеством башенок и барельефов. Герда только успела сказать: «Адамкирхе»…
Потом машина вырвалась на площадь, пересекла мост через Изар и оказалась на речном островке, название которого значилось на большой эмалированной табличке: «Музеумсинзель».
— Вот здесь находится знаменитый Немецкий музей, — сказала Герда. — Осмотришь его как-нибудь без меня, сейчас нет времени.
…От дворцов и церквей, мимо которых они проезжали, у Рихарда голова уже шла кругом. Неожиданно Герда остановила машину у тротуара.
— А здесь мы ненадолго выйдем. Вот это, — указала, она, — Мюнхенский университет. Я его выпускница… В годы после первой мировой войны у него, надо сказать, была дурная слава. И он ее заслуживал… В двадцать третьем многие студенты были сторонниками гитлеровского путча, а десять лет спустя восторженно отплясывали вокруг костров, на которых фашисты сжигали книги… Но были и другие страницы в его истории. При входе в здание ты увидишь мемориальную доску, установленную в память о «Белой Розе» — самой известной из мюнхенских групп Сопротивления. Во время войны члены группы — брат и сестра Шолль — разбрасывали антинацистские листовки. Их поймали и казнили. К вынесению смертного приговора Шоллям и ряду других студентов был причастен прокурор Вальтер Ремер. Но после войны он даже не был привлечен к ответственности. Более того, его назначили на высокую должность в Федеральном министерстве юстиции…
Рихард почувствовал, с какой злобой Герда произнесла последнюю фразу.
«Так кто же она, кто? — мучительно размышлял он. — Коммунистка? Или, может быть, всего лишь беспартийная либералка? Тогда это не так страшно».
…Они снова сели в машину и двинулись дальше. На углу Тюркенштрассе и Бриннерштрассе Герда указала на ничем не примечательное здание с вывеской «Банк».
— А вот здесь находился так называемый Виттельбахский дворец. В нем размещалось городское управление гестапо. Здание снесли, когда я была еще девчонкой, и на его месте построили другое. Впрочем, — усмехнулась Герда, — дом приобрел известность еще в девятнадцатом году, когда здесь была резиденция мюнхенского советского правительства… В Аргентинском университете вам об этом рассказывали? Нет? Еще живы немцы, которые в свое время называли этот дом Красным дворцом. Впрочем, может быть, его окрестили так потому, что фасад дворца был выложен красным кирпичом.
— А как называется эта площадь? — спросил Рихард.
— «Площадь жертв национал-социализма».
— А «Площади жертв коммунизма» в Мюнхене нет? — ехидно спросил Рихард. — Не думаю, что приход коммунистов к власти — пусть даже на короткий срок — обошелся без жертв.
— Возможно, не спорю, — ответила Герда, пожимая плечами, и задумчиво добавила: — А какая борьба обходится без жертв?
…Они молча подошли к машине. Перед тем, как включить мотор, Герда взглянула на часы:
— Не обижайся, во времени у меня в обрез. Успею только отвезти тебя в пансионат.
— Как? Уже? — воскликнул Рихард. Мысль о том, что они скоро расстанутся, была невыносимой. — Жаль, что ты так торопишься, — сказал он сумрачно. — Ты не поверишь, но иногда мне кажется, что я приехал в Германию только ради встречи с тобой! — И неожиданно для самого себя спросил: — Скажи все-таки, если не секрет, ты замужем?
— Хотя это и государственная тайна, но я охотно выдам ее, — весело проговорила Герда. — Нет, я не замужем. Может быть, ты хочешь сделать мне предложение?
— Ты, конечно, шутишь. Или даже смеешься надо мной, — с грустью сказал Рихард. — Нет, я не осмелился бы сделать тебе предложение. У меня еще даже нет работы. Я понимаю, что такой муж тебе не нужен. Но если бы ты захотела иметь настоящего друга… Если бывает любовь с первого взгляда, почему не может так же возникнуть и дружба? Она менее требовательна, чем любовь… Ты, очевидно, хорошо обеспечена?
— С чего ты это взял? — удивленно приподнимая брови, спросила Герда.
— Ну, а как же?… Летаешь по всему свету, у тебя машина.
— Нет, — серьезно ответила она, — ты ошибаешься. Мой отец погиб на войне, как я тебе говорила. Мать еле сводит концы с концами. Разъезды? Но ведь я журналистка и езжу не за свой счет. Машина? Это развалюха куплена в рассрочку.
— Так… понятно… — задумчиво произнес Рихард. — Прости меня за эти расспросы… Но все же как-то странно: мы ведь могли никогда не встретиться с тобой.
Некоторое время они ехали молча.
Рихарду не терпелось посмотреть на места, связанные с именем фюрера, — в первую очередь, конечно, на знаменитую пивную. Но он не решился попросить Герду повезти его туда. Он понимал, что она не питает особых симпатий к национал-социализму, и поэтому не хотел проявлять повышенного интереса к этой теме. Но внутренне он пытался найти какое-то оправдание Герде. Ведь рядом с ней не было такого убежденного национал-социалиста, как его отец, да и училась она уже в такие времена, когда история третьего рейха преподавалась тенденциозно, когда учителя пытались очернить, оклеветать фюрера…
— Послушай, Герда, — сказал Рихард, — в нашем распоряжении еще есть немного времени. Может быть, заедем в какой-нибудь ресторан или кафе?
— Сейчас я отвезу тебя домой, — твердо ответила она, — а насчет еды сама позабочусь. Да мне и есть-то сейчас не хочется.
— Хорошо, — покорно проговорил он, — подбрось меня домой.
…Он вошел в пансионат, взял ключ от своей комнаты, поднялся на второй этаж, открыл дверь. Комната была убрана, постель застелена, газеты, которые он разбросал, аккуратно сложены в стопку на столе.
Рихард сел в кресло и посмотрел на часы. Спуститься вниз и пообедать? Да нет, есть ему не хотелось. Он прикрыл глаза и стал перебирать в памяти все детали свидания с Гердой. Вот он увидел ее желтый «фольксваген» в потоке машин. Вот они колесят по городу, время от времени останавливаясь то тут, то там… Вокзал. — Университет… «Белая Роза»… Мутные воды Изара… Рихарду казалось, что и сейчас рядом с ним сидит Герда в своей синей кожаной куртке, ее светлые волосы собраны сзади в пучок и перевязаны ленточкой, длинные пальцы охватывают рулевое колесо…
Когда они возвращались, Рихарда охватило непреодолимое желание обнять Герду и поцеловать ее на прощание, но они попрощались, даже не пожав друг другу руки. Когда Герда затормозила свой «фольксваген» у подъезда пансионата, раздались нетерпеливые гудки идущих сзади машин. Они лишь успели перемолвиться двумя-тремя фразами, и Рихард выскочил на тротуар.
Да, за все время поездки не произошло ничего, что давало бы ему повод считать эту встречу каким-то новым этапом в их отношениях. Ничего! Герда держалась спокойно, даже несколько отчужденно, можно сказать, как добросовестный гид.
«Я увижу ее! И не раз! — стал успокаивать себя Рихард. — Конечно, несколько дней надо выждать». И тут его охватила тревога: «Да, но ведь к тому времени вернется Клаус! А он строжайше запретил мне встречаться с Гердой. Правда, Мюнхен — большой город. Можно найти такое место, где Клаус нас наверняка не увидит. И все же…»
И все же Рихарду тяжело было сознавать, что он не подчинился приказу Клауса. Он вспомнил, как отец, рассказывая ему о зарождении национал-социализма, не раз повторял, что одним из нерушимых законов организации была верность.
«А я здесь только четвертый день и уже нарушил этот закон! Может быть, повиниться Клаусу? — думал Рихард. — Нет, ни в коем случае! Это означало бы захлопнуть перед собой дверь, у порога которой я уже нахожусь. Клаус — человек непримиримый. Он сделает все, чтобы не допустить меня в боевую организацию НДП… Как же быть? Проститься с мечтой, ради осуществления которой я приехал в Германию? Нет, об этом страшно даже подумать. Но может быть, Клаус подозревает Герду без всяких оснований? Ведь в газетах, которые я просмотрел, не было ни одной статьи, ни одной заметки, подписанной инициалами „Г. В.“. Правда, Герда в эти дни не была в Мюнхене… Нет, надо убедить Клауса, что он ошибается. Но как? Сказать, что Герда, прямая и решительная девушка, не стала бы скрывать, что она коммунистка?.. Хорошо, пусть у нее либеральные взгляды. Она их открыто высказывает. Наверное, таких людей в Германии немало».
«Разве чувство к ней может помешать мне выполнять свой долг? — убеждал он себя. — Да я расстанусь с ней немедленно и навсегда, если случится что-либо подобное!»
И тут он осознал, что Герда — пусть невольно — уже помешала ему выполнить свой долг. Ведь еще утром он решил, что воспользуется ее машиной, чтобы заехать в банк и перевести деньги в фонд НДП. Номер текущего счета фонда он переписал на листок из блокнота и сунул его в карман пиджака. Сунул и забыл… Рихард почувствовал, как кровь прилила к лицу. Он понимал, конечно: ничего не изменится, если деньги поступят в фонд НДП на один день позже. Да и к тому же какая-нибудь тысяча марок мало что изменит в бюджете партии… И тем не менее ему было неприятно сознавать, что он забыл о своем долге, пусть чисто символическом, именно из-за Герды.
Он вскочил с кресла, выбежал из комнаты и запер дверь. Не сдавая ключа портье, быстрыми шагами вышел на улицу и стал всматриваться в поток машин, пытаясь разглядеть в нем свободное такси.
Несколько минут спустя он увидел темно-красный «гольф» со светящимся «гребешком» такси.
Хотя Рихард по дороге в гостиницу уже успел побывать в этом банке, где у него был открыт текущий счет, он не очень четко представлял себе, далеко ли банк от пансионата.
Оказалось, что не так уж далеко. Минут через десять машина остановилась у знакомого уже подъезда, над которым красовалась надпись, выведенная золотыми буквами прямо по стене: «Коммерцбанк».
Толкнув застекленную вращающуюся дверь, Рихард оказался в большом зале. Он сразу же вспомнил, где находится окошечко, к которому подходил в прошлый раз. И узнал клерка, который обслуживал его тогда.
— Добрый день! — сказал Рихард. — Я хотел бы положить на мой счет девять тысяч марок. А на этот счет я попросил бы вас перевести тысячу марок. — И он протянул в окошко листок из блокнота.
— С удовольствием! — приветливо улыбаясь, ответил клерк. Он узнал своего клиента. — Вы желаете сделать именное пожертвование в фонд НДП?
На мгновение задумавшись, Рихард ответил:
— Нет, анонимное.
Само собой разумеется, он не боялся указать свое имя. Но считал, что будет гораздо скромнее выступить в роли анонимного сторонника партии. Ведь он просто выполнил долг сердца. И знать об этом будет только он один.
Вся банковская операция заняла несколько минут. «Теперь домой?» — подумал Рихард, засовывая в карман свою чековую книжку и квитанцию. Ему вдруг захотелось есть. Ведь с самого раннего утра у него и маковой росинки во рту не было. Но тут его осенила неожиданная мысль.
— Извините, — снова обратился он к столь любезно встретившему его клерку: — Вы не слышали о такой пивной.:, она называется «Бюргербройкеллер».
— О-о! — снова расплылся в улыбке клерк. — Кто же в Мюнхене ее не знает? Розенхаймерштрассе. Это в районе Мариенплатц.
— А Мариенплатц отсюда далеко?
— Нет, недалеко. Выйдя из банка, повернете налево, а затем — во второй переулок направо. Вскоре вы окажетесь на Мариенплатц.
— Спасибо, — сказал Рихард. — Теперь найду.
— Вы, очевидно, первый раз в Мюнхене? — спросил клерк.
— Почему вы так думаете? — поинтересовался Рихард.
— У вас отличный немецкий язык, но не баварский. А мы, как вы знаете, говорим на диалекте. Нас не всегда понимают в Берлине или, скажем, в Гамбурге.
— Да, я приехал совсем недавно, — почему-то смутившись, проговорил Рихард.
— Что ж, добро пожаловать! Мюнхен — самый гостеприимный город в Германии.
…Рихард довольно быстро добрался до Мариенплатц. Выйдя на площадь, он увидел Новую Ратушу и застыл в немом восхищении перед этим торжеством готики. Множество остроконечных башенок, каменные изваяния святых, окна, напоминающие амбразуры средневековых замков, ниша, в глубине которой, точно на театральной сцене, виднелись какие-то сказочные персонажи в причудливых национальных костюмах. По обе стороны взмывающей ввысь башни развевались государственные флаги, а на самой ее верхушке стояла величавая фигура Христа. Он раскинул руки, то ли стремясь обнять, то ли благословляя всех, кто находился внизу.
Вдоль первого этажа тянулась колоннада, из-за которой поблескивали витрины магазинов. Под окнами второго этажа стояли длинные ящики с красными цветами. На просторной площади перед ратушей автомобильного движения не было — она была целиком отдана во власть пешеходов.
Рихард подошел к дому, на фасаде которого выделялось название:
БЮРГЕРБРОЙКЕЛЛЕР
С замиранием сердца он перешагнул порог. Он думал о том, что в свое время этот порог переступал фюрер. Да и не только он: все его соратники. У Рихарда было такое ощущение, словно он вступил в Прошлое, в героическое Прошлое Германии…
По большой комнате сновали официанты, державшие по две-три кружки пива в каждой руке. Справа и слева, перпендикулярно к стенам, стояли длинные деревянные столы. Десятки людей сидели за этими столами на таких же деревянных скамьях, склонившись над кружками с пивом и тарелками с едой. Все они говорили наперебой, гоготали, со звоном чокались кружками, чуть ли не заглушая хилый оркестрик, игравший где-то там, в глубине. Четыре оркестранта были одеты в национальные баварские костюмы.
Под окнами лежали, упираясь днищами в стену, большие бочки с блестящими медными кранами. Официанты то и дело подставляли под них пустые кцуж-ки.
Давно уже Рихард не ощущал такого радостного подъема. Конечно, и там, в Буэнос-Айресе, были хорошие немецкие пивные, и он их усердно посещал. Но сейчас он вспомнил о них как о бледном отражении «Бюргербройкеллера».
Рихард стал пробираться между снующими официантами, мимо столов в поисках свободного места. Но все скамьи были заполнены людьми, и, судя по всему, никто из них уходить не собирался.
И вдруг сквозь разноголосый гомон и звуки оркестра прорезался оклик:
— Рихард!
Но он даже не обернулся в сторону, откуда раздался голос, решив, что просто ослышался.
— Рихард, давай сюда!
Он оглянулся. С дальнего конца одного из столов ему махал рукой какой-то широкоплечий парень.
Увидев, что Рихард наконец заметил его, парень крикнул еще громче:
— Валяй сюда! Есть место!
«Да кто же это такой?» — пытался сообразить Рихард, продвигаясь вдоль стола и задевая лешем спины сидящих на скамье людей. И вдруг вспомнил. Это же Курт! Да, Курт — один из тех, кто был у Клауса вечером, накануне митинга.
— Здорово, дружище! — сказал Рихард с улыбкой.
— А ну, приятель, подвинься немного! — обратился Курт к своему соседу справа и даже слегка подтолкнул его в бок. — Этот парень приехал издалека. Он наш, окажем ему мюнхенское гостеприимство!
Рихард опасался, что возникнет перепалка, но ничего подобного не произошло. Люди за столом потеснились, и образовалось небольшое свободное пространство.
— Устраивайся поудобнее! — сказал Курт. Рихард перешагнул через скамью и кое-как уселся.
— Что будешь есть? Что будешь пить? — спросил Курт.
— Не знаю, — ответил Рихард, взглянув на пустую тарелку, стоящую перед Куртом. — А ты что ел?
— Сосиски. Только не говяжьи, а телячьи. Тут их готовят на славу. И, конечно, пиво. — Он ткнул пальцем в большую фаянсовую кружку с откинутой крышкой.
— Ну, тогда и я то же самое, — сказал Рихард.
— Разумное решение, — одобрил Курт и гаркнул на весь зал: — Герр обер!
Склонивщемуся над его плечом официанту в белой куртке он сказал, кивнув в сторону Рихарда:
— Телячьи сосиски и кружку пива для моего Друга.
Выпрямившись и приосанившись, официант сделал пометку в своем блокнотике и исчез.
— Ты бывал здесь раньше? — спросил Курт.
— Нет, — ответил Рихард и, немного помолчав, добавил: — Впрочем, да, бывал.
— Как это понимать? Бывал или не бывал?
— В мыслях бывал… Я очень хорошо представлял себе эту пивную.
— Знаешь о ней из книг?
— Да, из книг. И по рассказам отца о моем деде. А уж он-то бывал здесь нередко.
— Значит, еще до войны?
— Задолго. В двадцать третьем году.
— О-о, понимаю! — протянул Курт многозначительно.
— Я рад, что встретил тебя, — искренне сказал Рихард. — Часто бываешь здесь?
— Этого я не могу сказать… Когда карман пуст, особенно не разгуляешься.
— А «ты где работаешь? — поинтересовался Рихард.
— Спроси лучше, где работал! — с неожиданной злобой проговорил Курт.
— Бросил работу?
— Не я бросил работу, а работа бросила меня. Вот уже три месяца, как наслаждаюсь полной свободой. Раньше был шофером.
— Ты что же… безработный? — с сочувствием спросил Рихард.
— До чего же ты догадлив! — иронически вое кликнул Курт. И добавил с горечью: — Проклятая страна! Иногда хочется разбить ее вдребезги.
Эти слова отозвались острой болью в душе Рихарда. До встречи с Куртом его обволакивала царившая здесь атмосфера непринужденности и веселья. Но два слова, всего лишь два слова — „проклятая страна!“ — повергли его в уныние.
Официант принес тарелку с толстыми сосисками и горкой тушеной капусты. Почти беззвучно он поставил на стол большую пивную кружку с откидной крышкой.
— А ты не хочешь повторить — указывая на пиво, спросил Рихард. — Я угощаю, — и, не дожидаясь ответа, обратился к официанту: — Еще одну кружку!
— Спасибо, друг! — потеплевшим голосом сказал Курт. — Тут у меня еще стаканчик шнапса. Это тебе обойдется…
— Деньги пока есть, — прервал его Рихард и поднял свою кружку: — Ну, за встречу!
— За встречу! — повторил Курт. — За то, чтобы идти рядом до самой победы.
Они чокнулись.
Появился официант, протянул руку между их головами и, подхватив пустую кружку, поставил перед Куртом полную.
— Спасибо, — сказал Курт, кивнув официанту. Обхватив кружку обеими руками, он обратился к Рихарду: — Я во время первой же нашей встречи распознал в тебе товарища, партайгеноссе, как говорили в былые времена… Ну, за что мы теперь выпьем?
— За борьбу! — ответил Рихард. — За борьбу решительную и беспощадную. И за верность!
— За верность! — повторил Курт. — А Брандта — к стенке!
Они снова чокнулись и поднесли кружки к губам.
— А где пропадает Клаус? — спросил Рихард. — Мне передали от пего записку: вроде бы уехал на пару дней по банковским делам.
— Не знаю, — ответил Курт, пожимая плечами. — Никаких сигналов от него пока не было.
— А между тем время не терпит. Мы должны провести какую-то решительную акцию. Акцию, которая произведет впечатление на всю страну. Ведь до выборов остались считанные месяцы… Кстати, как ты оцениваешь наши шансы?
— В стране, где бок о бок живут десятки тысяч зажравшихся бюргеров и сотни тысяч- безработных вроде меня, уверенным ни в чем быть нельзя, — махнув рукой, ответил Курт. — Мы должны раскачать страну. Пробудить в сердцах немцев стыд за проигранную войну, за потерянные земли… И разве можно мириться с тем, что разные турки, греки и прочие проходимцы отнимают у нас заработки?
„Он явно опьянел“, — Рихард с опаской оглянулся на соседей. Но они были заняты своими разговорами и ни на кого не обращали внимания.
— Ты считаешь, — спросил Курт, заметив настороженный взгляд Рихарда, — что люди, сидящие за этим столом, думают иначе? Хочешь, я сейчас встану и крикну: „Хайль Гитлер!“. Уверен, что они ответят „Хайль!“
Рихард понял, что Курта развозит все больше и больше.
— Потише, друг, потише! — предостерег он его. — Уверен, что здесь, как, впрочем, и всюду, достаточно предателей.
И тут произошло нечто неожиданное. Худой старик, сидевший напротив, метнул на Курта взгляд, полный презрения, и проговорил надтреснутым голосом:
— Значит, хочешь крикнуть „Хайль Гитлер“? А в морду получить не хочешь?
До сих пор он обхватывал своими узловатыми пальцами стоящую перед ним пивную кружку, но теперь положил сжатые в кулаки руки на стол.
— Уж не ты ли, старая рухлядь, дашь мне в морду? — прошипел в ответ Курт.
— Найдутся охотники и помоложе меня, — не отводя глаз, ответил старик. — Значит, по Гитлеру соскучился?
— Я соскучился по работе, а при нем безработицы не было. И поганых рож не было видно — ни черных, ни желтых, ни еврейских.
— Зато были концлагеря, а потом война, — сказал старик. — И миллионы убитых.
— Ты что же, из жидов будешь? Или из коммунистов? — подаваясь вперед, спросил Курт.
— Я немец. И коммунист. А войну просидел в Дахау.
— К черту предателей! А Брандта к стенке! — выкрикнул Курт так громко, что соседи стихли и повернули головы в их сторону.
„Мне надо уходить отсюда, немедленно уходить!“ — подумал Рихард. Он вспомнил, как его предостерегал Клаус, как Гамильтон уговаривал его не ввязываться в стычки. Для владельца иностранного паспорта это очень опасно.
— Я должен идти, Курт. — Он достал из кармана двадцать марок и положил их на стол. — Надеюсь, ты извинишь меня. В доме, где я живу, рано запирают двери… Я рад, что обрел настоящего друга.
Не слушая протестов Курта, он перелез через скамью и быстрыми шагами направился к выходу.
Когда Рихард вернулся к себе в комнату, на Мюнхен уже опустилась ночь. Он уселся в кресло и посмотрел на часы. Было начало одиннадцатого. „Часок посмотрю телевизор и завалюсь спать“, — решил он. И вдруг его обожгла мысль: а не позвонить ли Герде? Зачем? Просто из вежливости. Спросить, как доехала, как себя чувствует.
Рихарду очень хотелось услышать ее голос. Но он одернул себя: „Нельзя быть навязчивым!“ И неожиданно вспомнил, как один аргентинский друг обучал его искусству завоевания женских сердец. Он сравнивал это с шахматной игрой. Надо тщательно обдумывать каждый ход. Особенно в начале и в середине игры. И все время помнить: обратно ходы брать нельзя. Только в конце игры, уже обеспечив себе несомненный успех, можно ринуться в лобовую атаку.
Верно! Приятель был прав. Надо выждать два-три дня, пусть она сама захочет встретиться. И тогда позвонить.
Рихард включил телевизор. Показывали какой-то мультфильм. Ему это было неинтересно, но он решил дождаться программы новостей — ~ она повторялась довольно часто. За свое терпение Рихард был вознагражден: программа открылась интервью с Адольфом фон Тадденом. Корреспондент телевидения беседовал с руководителем НДП на его квартире. Фон Тадден сидел у обеденного стола, покрытого белой кружевной скатертью. У стены стаял сервант, на нем — большой радиоприемник. Торшер с матерчатым абажуром подчеркивал неофициальность обстановки. Интервьюер сидел у стола, слева от Таддена.
— Добрый вечер, уважаемые телезрители, — начал передачу журналист, — меня зову Макс Келлер, и я представляю здесь баварское телевидение. Мы переживаем сейчас бурную предвыборную пору». Кто победит? ХДС/XCG? Социал-демократы.? Какие шансы у НДП? Во всяком случае, интервью, которое любезно согласился нам дать repp фон Тадден, заинтересует многих из вас. Итак, герр фон Тадден, в ряде своих выступлений — как на предвыборных митингах, так и в печати — вы высказывали твердую убежденность в том, что в результате выборов НДП получит места в бундестаге. А что будет, если ваши надежды не оправдаются? Ведь тогда вам, очевидно, придется уйти с поста, который вы сейчас занимаете? — Келлер произнес эту фразу с такой улыбкой, словно сказал своему собеседнику нечто очень приятное.
Тадден слегка пожал плечами, немного подумал и неторопливо проговорил:
— Недавно один израильский журналист сказал мне, что во всей Федеративной Республике он не встретил ни одного политического деятеля, который сомневался бы в том, что НДП пройдет в бундестаг и будет иметь там свою фракцию.
…Интервью продолжалось долго. Тадден утверждал, что многие рабочие, члены социал-демократической партии, уже перешли на сторону НДП. Он ссылался при этом на победу своей партии на земельных выборах в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртен-берге.
Далее он сказал, что решительно отвергает договор о нераспространении ядерного оружия, выступает против признания ГДР и границы по Одеру-Нейссе…
Тут вдруг на экране появился диктор и объявил:
— На некоторое время мы прервем интервью с господином фон Тадденом, чтобы передать срочное сообщение: в Дюссельдорфе левые экстремисты пытались похитить оружие со складов бундесвера. Полиции удалось отбить атаку нападающих. Есть жертвы…
— Пресловутый Борх, — продолжал диктор, — о котором так много писали наши газеты, наконец предстанет перед судом. Этот террорист из «красной бригады» обвиняется в зверском изнасиловании несовершеннолетней девочки. Следственные органы долго искали свидетелей преступления, и теперь они найдены. Продолжаем интервью с председателем национал-демократической партии господином фон Тадденом.
И снова на экране возникли, Тадден и Келлер. Теперь разговор зашел о положительной программе НДП. На вопрос Келлера, правда ли, что в случае прихода к власти национал-демократическая партия восстановила бы «третий рейх», Тадден ответил резко отрицательно, всем своим видом как бы подчеркивая, что считает этот вопрос оскорбительным. «Наша задача, — сказал он в заключение, — состоит в том, чтобы заставить другие партии сдвинуться вправе.».
Интервью окончилось Диктор объявил, что сейчас будет показана вторая часть кинофильма «Дневник горничной». Рихард не видел первой часта и поэтому выключил телевизор. Снова усевшись в кресло, он стал обдумывать интервью, которое дал фон Тадден. Самому Ge6e он мог признаться, что оно его не удовлетворило. Никаких призывов к активным действиям. Намек, явно спекулятивный, на то, что, придя к власти, НДП фактически оставит в стране все без перемен.
«Ничего! — стал утешать себя Рихард. — Это лишь предвыборная болтовня. А настоящие боевики действуют. Взять, например, только что переданное сообщение о попытке захвата оружия в Дюссельдорфе!»
«В Дюссельдорфе… — мысленно повторил он, — в Дюссельдорфе… Почему мне запомнилось название этого города?»
Он вскочил, открыл шкаф, в который уже повесил свой костюм, решив, что завтра наденет другой, и стал рыться в карманах пиджака… Ага, вот эта записка, которую еще днем передал ему портье!
Он разгладил смятый листок и прочел:
«Уезжаю на пару дней в Дюссельдорф Клаус».
«Значит, он был в Дюссельдорфе! — проговорил про себя Рихард. — В Дюссельдорфе!..»
ЧАСТЬ II
«К-К-К»
Клаус появился на следующий день утром. Лицо его явно осунулось, на правой щеке выделялся пластырь, прикрывавший, очевидно, рану или царапину…
— Что с тобой, Клаус? — встревоженно спросил Рихард, кладя обе руки на плечи своего приятеля и притягивая его к себе.
— Ничего! — угрюмо, даже резко ответил Клаус, освобождаясь от объятий Рихарда.
— А что у тебя на лице?
— Ерунда. Поцарапал бритвой.
— Ты завтракал? — Рихард усадил Клауса на кушетку.
— Да. Ты тоже?
Рихард утвердительно кивнул. Какое-то время они оба молчали. Клаус явно скрывал что-то важное.
— Я слышал по телевидению, — произнес наконец Рихард, — что в Дюссельдорфе вчера или позавчера была совершена попытка захватить армейский склад бундесвера. Ты что-нибудь знаешь об этом?
Неожиданно Клаус вскочил и, сжав кулаки, громко произнес, скорее выкрикнул:
— Знаю! Знаю, черт побери! Наши ребята пытались захватить этот проклятый склад!
— Но зачем?!
— Зачем? Ты что, маленький, что ли? Зачем захватывают военный склад? Чтобы достать оружие! Оно нам понадобится в ближайшее время…
Клаус вытер рукавом пиджака пот, выступивший на лице, снова сел на кушетку и, опершись локтями о колени, сжал ладонями виски.
— Все шло отлично, — каким-то несвойственным ему отрешенным голосом, точно оставшись наедине с самим собой, произнес Клаус. — Почти две недели наши люди наблюдали за этим проклятым складом. Он располагался на отлете, километрах в двух от казарм. Казалось, рассчитали все — и расположение постов, и интервалы между сменами караула… Не знаю, предал нас кто-либо или часовых оказалось больше, чем обычно… Словом, мы едва сумели оттащить наших раненых к «пикапу», стаявшему в лесу.
— Ты лично принимал участие в операции? — спросил Рихард.
— А ты что же, думаешь, что я пью пиво, когда наши ребята рискуют собой?
Клаус резко поднял голову и посмотрел в упор на все еще стоящего перед ним Рихарда.
— Почему меня с собой не взял?
— Звонил несколько раз, но ты где-то болтался. «Если бы он знал, где и, главное, с кем я „болтался“, — с тревогой, даже со страхом подумал Рихард.
— Гулял по городу, — поспешно ответил он. — Между прочим, заходил в пивную „Бюргербройкеллер“. Там встретил Курта.
Рихард не случайно упомянул о Курте, тот всегда может подтвердить, что они вместе сидели в пивной.
Рихард опустился на кушетку рядом с Клаусом и положил руку ему на колено.
— Каковы наши дальнейшие планы?
— Есть один, — ответил Клаус. — Вот послушай. Тебе имя „Борх“ что-нибудь говорит?
— Борх? — переспросил Рихард и подумал: „Звучит знакомо. Но где, кем и когда оно называлось?“
И вдруг вспомнил. Ну, конечно, это имя вчера по телевидению называл диктор!
— Что-то в связи с каким-то судом? — неуверенно спросил он Клауса.
— Вот именно! — подтвердил Клаус. — А теперь слушай внимательно. Этот Борх обвиняется в изнасиловании и убийстве некой Ирмы Хаузсп. Несовершеннолетней. Готовится так называемое предварительное слушание этого дела. Там будет решено, виновен ли он и подлежит ли суду.
— Ну, а какое нам до этого дело? — нетерпеливо перебивая Клауса, спросил Рихард.
— Слушай, когда старшие говорят, — назидательно произнес Клаус. — Этот Борх не так давно был членом молодежной террористической организации. Потом отошел от нее. Для многих немцев все эти „красные бригады“ и прочие связаны с коммунистами, хотя те от них всячески открещиваются.»
Рихард все еще смотрел на Клауса недоумевающе.
— Не понимаешь? — щуря в усмешке свои злые глаза, спросил Клаус. — А ведь и ребенку должно быть ясно. Мы врываемся в зал с оружием в руках. Укладываем на пол двух-трех полицейских охранников, публику, судей, самого Борха и делаем вид, что хотим его утащить. Потом отступаем и скрываемся.
— А Борх? — с еще большим недоумением спросил Рихард.
— Борх остается на своем месте.
— Так в чем же смысл операции?
— А в том, что, отступая, мы разбрасываем листовки. С лозунгами. Ну, например: «Долой буржуазное правосудие!», «Свободу нашему товарищу!» или: «Борх, Москва с тобой!».
— И в результате?.. — все еще с сомнением начал было Рихард.
— А в результате, — не дав ему договорить, продолжал Клаус, — на другой день все крупнейшие немецкие газеты будут сладострастно описывать, как группа вооруженных коммунистов пыталась захватить и спасти от суда своего товарища — насильника и убийцу. Это произведет впечатление на избирателей почище, чем любой наш митинг. Понял?
Да, теперь Рихард понял. Понял он и другое: зачем Клаусу и его товарищам потребовалось оружие, которое они пытались захватить в Дюссельдорфе. Само слово «оружие» вызывало в Рихарде тревожно-радостную дрожь. Разве он приехал в Германию не затем, чтобы с оружием в руках бороться за торжество национал-социализма? Наверное, и Клаус, и высшие руководители НДП поняли наконец, что одной парламентской болтовней власть не завоевывают.
— Откуда же мы возьмем оружие? — спросил Рихард.
— Одолжим у американцев, — с усмешкой ответил Клаус.
— Ты шутишь?
— Не в том я сейчас настроении, чтобы шутить, — угрюмо ответил Клаус. И, помолчав немного, добавил: — Сейчас пойду домой, посплю немного.
— Так поспи у меня! И кровать и кушетка к твоим услугам! — воскликнул Рихард. — Ведь еще и часа не прошло, как ты появился здесь.
Рихард хотел понять, зачем пришел Клаус, ведь, кроме сообщения о неудаче в Дюссельдорфе и самого общего разговора о предстоящей акции с этим Бор-хом, у него никакой цели не было.
Клаус, как видно, проник в его мысли. Он сказал:
— Хочешь спросить, зачем я приехал к тебе, раз уже был дома? Сейчас объясню. Я звонил тебе не от себя, а из вокзального автомата. Домой сразу не поехал, боялся полицейского хвоста. Возможно, что BFS [10] пасла меня от самого Дюссельдорфа. Поэтому я решил попетлять, а потом уже поехать к себе. Теперь я убедился, что хвоста нет, поэтому исчезаю. Если все пойдет так, как я рассчитываю, то завтра утром позвоню. Во всяком случае, предупреждаю: завтра в восемь вечера собрание нашей группы. Разработаем подробный план предстоящей акции.
Но Клаус позвонил раньше, — в этот же день, около семи вечера. Он предупредил Рихарда, что завтра в девять утра заедет за ним и что предстоит дальняя поездка.
Ровно в девять утра в дверь постучали, Клаус никогда не давал повода заподозрить его в неточности. Рихард был уже готов.
— Херайн! [11] — поспешно крикнул он.
Клаус вошел. Он, видимо, успел хорошо отдохнуть, по крайней мере лицо его не выглядело столь измученным и землистым, как вчера, и чистая узкая полоска пластыря на его щеке уже — не вызывала сомнений в том, что рана или просто царапина была незначительной.
— Доброе утро! — сказал Клаус, протягивая Рихарду руку. — Ты готов?
— Яволь, майн генерал! — по-военному ответил Рихард. — Куда и к кому мы едем?
— Скажу, когда выйдем. Хотя не думаю, что тобой кто-либо заинтересовался настолько, чтобы устанавливать подслушивающие аппараты., Они спустились вниз. После того, как Рихард положил свой ключ на стойку портье, Клаус остановился в двух-трех шагах от двери, ведущей на улицу.
— Так вот, — обращаясь к — Рихарду, вполголоса сказал он. — Надеюсь, ты слышал об американской организации, которая называется ку-клукс-клан?
— И… что же? — удивленный неожиданным вопросом, спросил Рихард. Конечно, он знал, о «Клане», люди в белых балахонах и остроконечных; капюшонах с разрезами для глаз не раз встречались ему и на страницах газет, и на-, экранах телевизоров. — Это те, которые линчуют негров?
— Плевать нам на негров! Впрочем, у нас тоже есть секция «Клана», которая занимается турками, итальяшками и прочим сбродом, сидящим на шее немцев и лишающим их работы. Но сейчас разговор не об этом. Для нас важнее, что «Клан» входит в американскую Антикоммунистическую лигу и связан с такими же организациями в других странах. Понял?
— Понял и рад это слышать. Но к кому же мы едем?
— К Джону Райту, сержанту американских военно-воздушных сил. Но он не просто сержант, а европейский организатор и комендант ку-клукс-клана в Германии. Пока все. А теперь едем!
Клаус решительно открыл дверь и вышел на улицу.
Рихард последовал за ним. Он ожидал увидеть машину Клауса. Но ни у подъезда, ни поблизости не было припарковано ни одного автомобиля.
— Мы пойдем пешком? — удивленно спросил Рихард.
— Не паникуй. Машина здесь, за углом.
Они прошли несколько десятков метров и завернули за угол в переулок. Но и там машины. Клауса Рихард не увидел. Только одинокий «пикап» стоял, прижавшись к кромке тротуара.
— Ну, а где же твоя машина?
— А это, по-твоему, что? — указал на «пикап» Клаус. — Тяжелый бомбардировщик?
Он подошел к машине, достал из кармана связку ключей и открыл дверь.
— Полезай!
…Минут через тридцать они выехали за город.
— Ну теперь-то ты можешь мне сказать, куда и зачем мы едем? — уже не без раздражения в голосе спросил Рихард.
— Теперь могу, — не поворачивая головы, ответил Клаус. — Мы едем на американскую военно-воздушную базу. Там находится аэродром, с которого взлетают и на который садятся самолеты с атомными бомбами на борту. Тебя это устраивает?
Рихард удивленно пожал плечами:
— Но кто ж туда нас пустит?
— Пустят машину, а мы, так сказать, при ней и проверке не подлежим. Кстати, руководит полетами тот самый сержант Джон Райт, о котором я тебе говорил. Впрочем, не волнуйся: от того места, где мы встретим Райта, до аэродрома еще не меньше десяти километров. Так что в шпионаже нас не заподозрят.
— И этот Райт даст нам оружие?
— Конечно, даст, — с самодовольной улыбкой ответил Клаус. — Ему ведь тоже надо докладывать своему белобалахонному начальству о конкретной помощи, оказанной НДП.
— Еще вопрос: почему ты взял с собой именно меня?
— Если говорить откровенно, то, во-первых, потому, что ты еще не успел примелькаться в Германии. За тобой нет слежки ни со стороны нашей контрразведки, ни коммунистов. Это первое. А второе — ты хорошо знаешь английский.
Они довольно долго ехали по загородному шоссе, время от времени сворачивая на его ответвления в соответствии с указателями, за которыми внимательно следил Клаус и которые ничего не говорили Рихарду. Иногда мимо них проносились машины, чаще всего «джипы», заполненные людьми в американской военной форме, а в небе стоял почти непрерывный гул от пролетающих самолетов. Наконец справа от шоссе появился какой-то населенный пункт, то ли деревня, то ли дачный поселок. Покрытые шифером крыши чередовались с коттеджами типа «бунгало», длинными и одноэтажными. У некоторых из них стояли «джипы». Сквозь просвет между строениями виднелась небольшая речка, а вдали — шлагбаум и будка для часового.
— Ну, — усмехнувшись, качнул головой в сторону шлагбаума Клаус, — туда мы не поедем. Пока обойдемся без тяжелых бомбардировщиков. А вот в этих коттеджах живет персонал, обслуживающий аэродром. Наш Джонни, очевидно, самый младший здесь по чину, но как представитель «Клана» пользуется большим влиянием.
Клаус был прав. Когда он затормозил машину возле одного из коттеджей, Рихард заметил, что дом отличается от многих остальных своей окраской, двумя антеннами на плоской крыше, радио- и телевизионной, телефонным проводом, уходящим из стены коттеджа куда-то вдаль, по направлению к шлагбауму.
Клаус подошел к двери и нажал кнопку звонка. Рихард встал за его спиной. Дверь быстро открылась. На пороге стоял американский солдат.
— Мы к мистеру Райту, — сказал по-английски Клаус. — Он нас ждет.
— Нес, сэр! — четко ответил солдат.
В этот момент за его спиной появился рослый военный с черными усиками. Стрижка его и прическа отдаленно напоминали те, что отличали Гитлера.
— Здравствуйте, мальчики! — приветливо сказал этот человек, делая шаг вперед и протягивая руку Клаусу.
Тот пожал ее и, указывая на Рихарда, сказал:
— А это Рихард Альбиг, о котором я упоминал.
— Рад познакомиться, сэр. — Райт, протянув Рихарду руку, спросил по-немецки: — Герр Альбиг не говорит по-английски?
— Говорю, — ответил Рихард. — Рад с вами познакомиться.
— Прошу, проходите, — сказал Райт и шире распахнул дверь, из которой только что вышел.
Они оказались в просторной комнате с деревянными, но словно отлакированными стенами, в углу комнаты стоял большой американский флаг со звездами и полосами, между двумя окнами, выходящими на речку, располагались круглый стол и возле него три деревянных кресла с ручками, на маленьком столике у противоположной стены поблескивали бутылки и высокие стаканы…
Внимание Рихарда привлекли фотографии по обе стороны флага, пришпиленные к стене. На фотографиях были люди в белых балахонах и треугольных капюшонах.
— Хотите посмотреть? — спросил Райт, заметив взгляд Рихарда — Что ж, не стесняйтесь, подойдите ближе. А ты, Клаус, присаживайся, все это ты видел уже не раз.
Воспользовавшись приглашением, Рихард подошел почти вплотную к стене. На одних фотографиях были изображены люди в балахонах и с вышитыми на них крестами — совсем как орден Железного креста, — идущие под развевающимся американским флагом, на других — большие, в человеческий рост, пылающие кресты, их окружали опять-таки «балахононос-цы». Балахоны были недлинными, чуть ниже колен, из-под них выглядывали обычные, штатского покроя, брюки…
Одна из фотографий особенно заинтересовала Рихарда. Па ней были запечатлены эсэсовец в полной форме и «клановец» в балахоне. Их правые руки были вытянуты в нацистском приветствии. На переднем плане стоял столик, покрытый белой скатеркой, на нем — черная маленькая подушка, с которой жутковато глядел пустыми глазницами человеческий череп.
На заднем плане висел какой-то плакат с рисунком и надписью.
Рисунок изображал рыцаря на покрытом попоной коне. Рыцарь, конечно же, был в балахоне, в поднятой руке он держал горящий факел. А надпись гласила: «Присоединяйтесь к ку-клукс-клану и сражайтесь за чистоту расы и нации!»
— Ну, хватит тебе разглядывать, иди садись с нами, — раздался голос Клауса.
Рихард поспешно обернулся. Райт и Клаус уже сидели за круглым столом с бутылками и стаканами.
— Виски? Джин? — спросил Райт.
— Немного виски, — ответил Рихард.
— С содовой? Если да, то я сейчас принесу.
— Нет, спасибо. Чистое.
Райт плеснул в один из стаканов виски и придвинул его ближе к Рихарду. Потом поставил другой стакан Клаусу и протянул к нему бутылку. Но Клаус прикрыл стакан ладонью:
— Нет, спасибо. Я ведь, за рулем. А к тому же в машине будет особый груз. Ведь будет, Джонни, да?
— Раз я сказал, значит, будет. Ты просил три карандаша и семь молотков. Верно?
— Так точно, Джонни.
— Машина у тебя закрыта?
— Да, вот ключи. — Клаус вытащил из кармана связку, протянул ее Райту.
Райт взял ключи.
— Одну минуту… — Вышел из-за стола и скрылся за дверью.
— Ну, как? — спросил Клаус. — Нравится тебе тут?
— Да, — ответил Рихард, — только немного удивляет. Эти фотографии, плакаты развешаны вот так; совершенно в открытую… Как этот Райт не боится?
— А чего ему бояться? — с усмешкой пожал плечами Клаус. — «Клан» в Штатах не запрещен.
— Да, но ты назвал этого Райта чуть ли не европейским организатором «Клана» и комендантом по Германии. А я всегда думал, что ку-клукс-клан специфически американская организация и действует только в Штатах.
— А ты не думай. Я ведь тебе говорил, что в Америке существует Антикоммунистическая лига. «Клан» в нее входит. У них отделения, явные и тайные, и в ряде других стран. Например, в Италии, во Франции и во многих других.
— И что ж, Райт всеми ими руководит?
— Ну, это ты хватил через край! В Германии, например, Райт подчинен человеку, с которым ты как будто знаком.
— Да? — удивился Рихард. — И как же его зовут?
— Арчибальд Гамильтон, — Клаус слегка понизил голос.
Рихард от изумления широко раскрыл глаза. Потом, все еще не веря, переспросил:
— Гамильтон?! Но он же представляет здесь «Америкэн Джорнэл»?! У него так и на табличке написано!
— Ха-ха! — коротко рассмеялся Клаус. — И тебе никогда не приходило в голову, что твой Гамильтон..
Клаус не закончил фразу, потому что в этот момент дверь открылась и в комнату вернулся Райт.
Он сел за стол, выпил оставшийся на дне его стакана виски, скрестил на груди руки и посмотрел на Рихарда.
— Ну, что ж, я ведь так и не успел еще поздравить тебя с возвращением в Германию. Видишь, я употребляю не слово «приезд», а именно «возвращение». Клаус сказал мне, что на тебя можно положиться, как на него самого, и это было приятно слышать. Со своей стороны хочу тебя заверить, что на меня можно положиться, как на самого Клауса.
Наступило молчание, нарушаемое лишь гулом самолетов, которые время от времени проносились, казалось, над самой крышей коттеджа. Первым нарушил его Райт. Обращаясь к Рихарду, он сказал:
— Клаус говорил мне, что твой отец был генералом третьего рейха.
— Да, — ответил Рихард. — Генералом службы безопасности.
— Твоя семья — в Аргентине. А ты приехал сюда. Зачем?
«Что он меня, допрашивает, что ли?» — с внезапным чувством неприязни подумал Рихард и, глядя прямо в глаза Райту, ответил:
— Чтобы сражаться за мою родину.
— Что ж, звучит красиво, — слегка наклоняя голову, сказал Райт. — Но вот у меня с Клаусом есть некоторые разногласия относительно способов борьбы. Ваша НДП напоминает мне армию, стоящую в тылу. Митинги, плакаты в городах, свастика на еврейских могилах… Ваш фюрер, кажется, начинал куда более активно. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что у вас нет лозунга, который объединил бы всех немцев. Мы уже не раз спорили на эту тему с Клаусом.
— Что вы имеете в виду, какой лозунг? — спросил Рихард, отношение которого к Райту теперь менялось к лучшему с каждым его новым словом.
— Ну, например, борьба за чистоту немецкой расы. Если этот лозунг смог объединить немцев вокруг Гитлера, то теперь, если бы его громко, на весь мир, провозгласила НДП, она обеспечила бы себе успех на выборах. Что же касается «Клана», ему не слишком удобно открыто вмешиваться в немецкие дела. Тем более в самой Германии, где мы всего лишь часть американской армии. Когда в одном американском гарнизоне в Баварии наши ребята сожгли кладбищенский крест просто для того, чтобы напомнить о своем существовании, ваши коммунисты и социал-демократы потребовали выяснения, на каком основании была уничтожена «правительственная собственность», а тех, кто зажег крест, привлекли к ответственности. Как вы думаете, за что? «За появление в нетрезвом виде и нарушение ночного спокойствия». Вот так! Словом, мы предпочитаем помогать НДП негласно.
— Ну, так как насчет карандашей и молотков? — спросил, вмешиваясь в разговор, Клаус.
— Они уже в машине, — ответил Райт, — извини, забыл вернуть ключи. — Он вытащил из кармана связку ключей и бросил ее на стол перед Клаусом.
— Тогда мы поедем! — сказал, вставая, Клаус. — Вечером нам предстоит небольшое собрание. — Он протянул руку Райту и проникновенно произнес: — Спасибо тебе, друг.
— Не за что! — ответно пожимая руку Клаусу, сказал Райт и добавил: — Мы боремся за одно дело.
Когда Рихард следом за Клаусом влез в машину, он увидел в проходе между сиденьями длинный ящик. Ему показалось, что ящик похож на гроб.
— Посмотрим, что там такое? — предложил Рихард.
— Ты не в еврейской лавочке! — резко оборвал его Клаус. — Там то, что мы просили.
— Карандаши и молотки? — иронически спросил Рихард.
— Вот именно, — без тени усмешки ответил Клаус. Затарахтел мотор.
…К дому Клауса они подъехали около шести вечера. Въехали во двор, откуда в квартиру вел так называемый «черный ход».
Втащили наверх ящик, предварительно убедившись, что во дворе никого нет. Затем Клаус пошарил на кухне, нашел широкую стамеску и стал открывать крышку ящика. Это оказалось совсем нетрудно: она была приколочена лишь несколькими гвоздями.
Минуты через две-три Клаус поднял крышку, и Рихард увидел оружие. В ящике лежало три автомата «Узи» израильского производства и семь небольших немецких пистолетов «вальтер». Все это было завернуто в отдельности в промасленную бумагу… Клаус долго прятал оружие.
Время уже приближалось к семи вечера.
— Мы забыли с тобой об одном, — сказал, посмотрев на часы, Клаус. — Поесть. С раннего утра у нас, кроме пары глотков виски, ничего во рту не было.
— Ты голоден? — спросил Рихард.
— Это роли не играет. Человеку положено есть хотя бы два раза в день. В десятке шагов от моего дома есть пивная. С горячей едой, разумеется. Я предлагаю спуститься вниз и…
Они сытно поели, выпили по кружке пива и съели по порции «шлагплатте». Около восьми уже вернулись домой к Клаусу. А в восемь из прихожей стали доноситься условные звонки.
К четверти девятого вся группа была в сборе, те же самые ребята, которые собирались здесь несколько дней назад, накануне митинга. Особенно сердечно, как со своим старым знакомым, Рихард поздоровался с Куртом.
Как и в прошлый раз, Клаус принес из холодильника пиво, расставил кружки и сказал с сожалением:
— Простите, друзья, шнапса на этот раз нет. Правда, кое-что другое будет, бодрящее, но это — в конце нашего разговора.
Затем Клаус подробно изложил все детали предстоящей «акции».
— Сейчас я начерчу план зала суда. Мне уже удалось его изучить. Так вот, В течение нескольких минут Клаус рисовал. Очертив квадрат зала, он стал помечать места секретаря суда, судьи, стенографистки, прокурора, адвоката, место обвиняемого… Затем ровными полосами прочертил скамьи зрителей, кружочками — вход и выходы из аала, окна, посты полицейских охранников… «Галками» пометил места, которые следует занять участникам «акции».
Закончив чертеж, Клаус подвинул блокнот на середину стола.
— Посмотрите внимательно. Все вам ясно? — Коротко остриженные головы почти сомкнулись над чертежом. — Еще одна деталь, — сказал Клаус, пришу всех иметь маски, для этого подойдут чулки. Как только раздастся моя команда, все наденут маски. Я не хочу, чтобы какое-нибудь из наших лиц запомнилось бы хоть одному из присутствующих.
…Они сидели еще долго, разглядывали план, забыв о недопитом пиве. Посыпались вопросы; кто имечмю и на каком месте должен находиться? Через какие двери или окна следует начинать отход? Что делать, если охранники начнут стрельбу и кого-нибудь ранят?
— Этого не должно быть, — твердо и решительно произнес Клаус. — Наша ставка — на внезапность и панику. Мы пользуемся ею и скрываемся. Еще раз показываю, где кто сидит и каким способом выбегаем из зала. Бежать по улицам по одному. Через какие-нибудь пять — семь минут вы будете уже далеко. Потом соберемся у меня. Прошу вас в оставшиеся дни осмотреть здание суда и наметить наиболее удобные пути для отхода. Ко дню акции все прилегающие к зданию улицы, дворы и подвалы должны быть вами хорошо изучены. Ясно? Итак: маски-чулки у каждого из вас должны быть. Оружие и листовки будут розданы здесь, у меня, в воскресенье, в это же время.
Следующие дни Рихард провел в бездействии, если не считать поездок к зданию суда и осмотра прилегающих к нему улиц, проходных дворов — словом, возможных путей бегства после того, как «акция» будет завершена.
Несколько раз Рихард намеревался позвонить Гер-де, но, уже положив руку на телефонную трубку, так и не поднимал ее.
Ему звонил Гамильтон. Но у Рихарда не было желания ни встречаться с ним, ни даже говорить по телефону. Поэтому всякий раз, едва заслышав голос американца, Рихард произносил только одно слово: «Ошибка» — и клал трубку.
Он побывал в университете и выяснил все свои возможности поступить туда с начала нового учебного года. Оказалось, что это будет совсем несложно: просто за две-три недели он должен подать заявление и приложить имеющуюся у него справку об окончании двух курсов университета в Буэнос-Айресе.
И еще одна мысль нередко посещала Рихарда: намерение приобрести небольшую, но собственную квартирку и купить дешевую, пусть подержанную автомашину. Он еще не советовался на этот счет с Клаусом, но, ежедневно читая газеты, внимательно просматривал объявления о сдаче в наем или продаже квартир. Так прошла еще одна неделя пребывания Рихарда в Германии…
Суд
Заседание суда первой инстанции было назначено на понедельник в двенадцать часов дня.
В воскресенье вечером собрались на квартире у Клауса, где хозяин дома раздал участникам акции оружие. Те, кто носил длинные куртки-анараки и мог спрятать оружие под полой, получили автоматы «Узи», остальным, в том числе и Рихарду, достались пистолеты «вальтер».
Каждый продемонстрировал перед Клаусом умение обращаться с оружием. Затем Клаус вынес из соседней комнаты пачку листовок, и Рихард сразу сообразил, что и те листовки, которые разбрасывались на недавнем митинге, где прогнали с трибуны фон Тад-дена, были заготовлены и розданы все тем же Клаусом, у которого, по-видимому, была тесная связь с какой-то типографией.
У здания суда Рихард появился часа за полтора до начала, чтобы еще раз запечатлеть в памяти все переулки и проходные дворы, которые можно будет использовать для отхода. Войдя в здание, он увидел на втором этаже закрытую дверь и на ней объявление: «12.00. Дело Борха. Предварительное слушание». «Еще не менее часа должно пройти, прежде чем эта дверь откроется…» — подумал Рихард и снова вышел на улицу. Он нащупал небольшой пистолет, засунутый под ремень в брюки, и его охватило чувство решимости и уверенности.
Но вдруг Рихард ощутил страх. А что, если его случайно встретит здесь Герда? Как объяснить ей, что он делает тут, возле здания суда? Это предположение было нелепым: Герда обычно разъезжает в машине и, конечно же, из окна своей «букашки» никогда не обратит внимание на бродящего в толпе пешеходов Рихарда. Но завтра он обязательно позвонит Герде…
В странной ситуации он оказался! От Герды Рихард держал в секрете свою связь с НДП. Она понятия не имеет, что он участвовал в митинге, слушал фон Таддена, теперь же готовится к акции, цель которой возбудить ненависть к коммунистам. А от Клауса у Рихарда была тайна прямо, так сказать, противоположного характера: ведь вопреки его строгому приказу он поддерживал связь с Гердой, один раз провел с ней почти день, разговаривал по телефону…
Эта раздвоенность мешала Рихарду жить. «Верность — наш девиз!» — говорили в старой нацистской партии. И он, Рихард, с радостью принял бы участие в любой операции партии, даже с опасностью для собственной жизни, однако никогда не изменил бы этому девизу. Но, обманывая Клауса, разве он не обманывал партию?
Стал накрапывать дождь. Рихард пожалел, что не захватил плащ, однако идти за ним теперь, когда его часы показывали уже десять минут двенадцатого, было рискованно.
Рихард перешел на другую сторону улицы, зашел в какой-то подъезд и оттуда стал наблюдать за зданием суда.
Никто из группы пока не появился. Рихард продолжал ждать, ему не хотелось входить в зал суда первым, хотя свое место — на скамье, перед загородкой, за которой должны находиться обвиняемый и охранник, — он хорошо знал. Рихард нащупал в кармане пиджака нейлоновый чулок-маску, а потом еще раз дотронулся до пистолета.
И в этот момент увидел, как по противоположной стороне ко входу судебного здания подходит Клаус. Он был в плаще, левая рука его была прижата к бедру, значит, он решил взять с собой автомат, оружие куда более надежное, чем пистолет..
Еще несколько незнакомых Рихарду людей вошли в подъезд суда. Часы Рихарда показывали 11.40. Он быстро, лавируя между машинами, перешел, вернее, перебежал на другую сторону и лицом к лицу столкнулся с входящим в подъезд Куртом.
Оба сделали вид, что не знают друг друга. И все же по движению губ Курта Рихард понял, что тот шепотом произнес слово «хайль!». Рихард в ответ приподнял правую руку.
Дверь в зал суда была уже открыта, около нее стоял полицейский, однако вход был свободным, и Рихард вошел в зал.
Первым делом он огляделся, чуть задержавшись у входа. Все было именно таким, как он себе представлял, судя по описанию Клауса.
Перед Рихардом тянулось несколько рядов соединенных друг с другом деревянных стульев — места для зрителей, и некоторые из них были уже заняты. Между рядами оставалось достаточно широкое пространство. Впереди виднелся пока еще пустой длинный судейский стол, за ним дверь в стене, а перед ним другой стол, маленький. Слева от них стояли еще два небольших стола, очевидно, для обвинителя и адвоката.
Рихард занял крайнее правое место в первом ряду и оказался всего в двух-трех шагах от огороженного круглыми деревянными перилами пространства. Там одиноко стоял стул, а позади него, в стене, виднелась плотно прикрытая дверь: очевидно, за ней сейчас находился обвиняемый.
Клауса Рихард увидел тотчас же, как вошел в зал; он занимал крайнее левое место в первом ряду, у слегка приоткрытого большого окна. Другие члены группы — Курт, Герман, Вольф, Макс и Герберт — сидели на предназначенных им местах, в последнем ряду у входа. Словом, при желании все входы и выходы из зала, включая окна, по первому же сигналу могли быть заблокированы.
Прошло еще несколько минут, дверь за столом судьи раскрылась. Из двери появились двое мужчин, они заняли места обвинителя и защитника, девушка-стенографистка уселась за маленьким столиком, стоявшим перед судейским столом…
И наконец, появился сам судья с папкой в руке. Все на мгновение встали.
— Введите подследственного! — громко объявил судья, усаживаясь за своим столом.
Дверь, ведущая в огороженное пространство, открылась. Оттуда вышел полицейский, а следом человек средних лет. На нем была помятая одежда, да и лицо его показалось Рихарду каким-то помятым. Полицейский указал этому человеку — он, конечно, и есть Борх! — на стул, а сам встал за его спиной.
Судья начал читать обвинительное заключение…
Но Рихард не вслушивался в его слова, а все время поглядывал в сторону Клауса, ожидая условного сигнала. Он прозвучал скоро. Не успел судья дочитать заключение, как Клаус вскочил и, оглушительно крикнув: «Всем оставаться на местах!» — выхватил из-под плаща свой автомат, стал водить стволом над головами сидящих в зале людей — зрителей и участников судебного заседания.
На Клаусе уже была маска. «Когда только он успел ее надеть?» — подумал Рихард, мгновенно вытаскивая из кармана свой чулок и натягивая его на голову, — операция, которую он много раз репетировал дома. Затем выхватил револьвер и, направляя его на полицейского, крикнул:
— Всем лечь, стреляю!
Ошалевший от страха и неожиданности полицейский грохнулся на пол. Теперь из разных концов зала неслись крики: «Лежать! Стреляем!», «Свободу Борху!», «Да здравствует ГКП».
Все люди уже лежали в проходах между рядами. Прокурор и защитник сидели на корточках, вытянув вверх руки, судья исчез где-то за своим столом.
В этот момент с нескольких сторон зала взлетели листовки. Они медленно опускались, покрывая лежащих людей точно дырявым саваном.
Рихард, держа на мушке своего «вальтера» распластавшегося полицейского, вдруг увидел, как Борх, который только что лежал рядом со своим охранником, внезапно вскочил, одним резким движением перемахнул через перила и очутился почти рядом.
Мысль, что его нельзя отпускать, иначе весь смысл операции пойдет насмарку, едва не заставила Рихарда выстрелить в Борха в упор, но полученный от Клауса приказ: «Не стрелять!» оказался сильнее. Какие-то доли секунды Борх озирался, ища, очевидно, наиболее безопасный путь для бегства, но в этот момент Рихард изо всех сил ударил его рукояткой своего пистолета в висок. Тот упал. И тут же раздалась громкая команда Клауса: «Отходим!» Рихард бросился по заранее намеченному пути к ближайшему окну, вскочил на стоящий у окна стул, затем на подоконник, разбил стекло и, почти не чувствуя боли от порезов, спрыгнул вниз.
Окно располагалось на уровне второго этажа, но Рихарду повезло, он спрыгнул удачно: внизу, под окном, стоял большой металлический ящик, наполненный мусором, Рихард угодил прямо в него, а мусор, наполовину заполнивший бак, самортизировал прыжок. В эту минуту сверху послышались выстрелы, очевидно, полицейские, тот, который охранял Борха, и те двое, что стояли снаружи у запертых входных дверей в зал, пришли наконец в себя и открыли огонь.
Перебравшись через край бака, Рихард спрыгнул на землю и устремился к воротам, ведущим на улицу.
Только выскочив из двора и пробежав несколько метров, отпугивая своим видом встречных прохожих, Рихард на ходу стянул с головы маску и помчался дальше, стремясь скорее достичь тихого переулка.
И вот теперь он несся, не разбирая пути, с единственной целью как можно скорее добежать до того переулка, в котором — он знал это — есть два проходных двора. Рихард не замечал ни людей, ни едущих по улице машин, в том числе и большого черного лимузина, который почему-то медленно ехал вдоль кромки тротуара, двигаясь примерно с той же скоростью, с которой бежал Рихард. Но он не замечал этого автомобиля. Призывным маяком был теперь уже видный Рихарду угол переулка, спасительного переулка, в который ему предстояло свернуть.
Наконец он достиг этого угла и свернул направо, не замечая, что черная машина не отстает и теперь снова движется вровень с ним, бегущим к воротам проходного двора.
До ворот оставалось метров пятьдесят, не больше, когда Рихард услышал командный голос:
— Садись в машину! Быстро!
Он обернулся и только теперь заметил движущуюся вровень с ним автомашину. Задняя дверца ее была приоткрыта, и виднелась придерживающая ее изнутри чья-то рука.
Почему Рихард соскочил с тротуара прямо к машине? Почему, отрывая дверцу от придерживающей ее руки, бросился в кабину и сел, точнее, упал прямо на мягкое сиденье? Понял ли он, что в этой машине его спасение? Или, измученный стремительным бегом, задыхающийся, мокрый от пота, просто подчинился инстинкту самосохранения и, не раздумывая, нырнул в так кстати оказавшуюся рядом машину?
Откинувшись на спинку сиденья и протерев залитые потом глаза, он увидел, что рядом сидит какой-то человек. Полиция! Он метнулся было к ручке теперь уже закрытой двери, чтобы выскочить из машины, но человек схватил его за плечо и с силой отбросил обратно на спинку сиденья.
— Ты что, и в самом деле сошел с ума?! Сидеть! — властно прозвучал над ухом Рихарда голос.
Машина рванулась вперед, с каждой секундой увеличивая скорость. Рихард опустил голову на грудь, чувствуя, что попал в ловушку. И в этот момент снова ощутил на своем плече прикосновение руки. Только теперь оно было мягким, даже дружеским.
— Ты что, не узнаешь меня, Рихард?
Рихард повернул голову к своему соседу и вдруг…
— Гамильтон? — Рихард едва шевелил внезапно пересохшими губами и поспешно, еще не веря самому себе, повторил: — Мистер Гамильтон?!
— Ну, конечно, это я, Рихард, — ответил по-немецки Гамильтон. — Неужели ты сразу не узнал меня?
— Но как я мог подумать, что это вы? — пробормотал Рихард. — Такие совпадения случаются раз в сто лет.
— А вот это совпадение произошло именно тогда, когда ему и следовало произойти.
— Невероятно!
— Я увидел тебя не случайно, Рихард. Я ждал твоего появления на улице.
— Вы хотите сказать… — начал было Рихард, но Гамильтон прервал его:
— Да, именно это я и хочу сказать.
— И все-таки я не могу понять, repp Гамильтон, каким образом вы заметили меня. На тротуаре было столько народа…
— Но не все бежали так, точно за ними гнался сам дьявол, — усмехнулся Гамильтон.
Рихард не нашелся, что ответить. Пролепетал что-то насчет автобуса, который якобы догонял, но умолк на полуслове. Потом сказал:
— Как же вы оказались здесь?
— Ехал мимо, — коротко ответил Гамильтон.
— Слишком странное совпадение, чтобы поверить.
— А если я скажу, что ждал тебя, ты поверишь? — Конечно, нет!
— Тогда остановимся на первом предположении. Оно, как видно, тебе понятнее.
И тогда невероятная на первый взгляд догадка пришла в голову Рихарда.
— Вы что… знали?
— Знал не знал, какая теперь разница? Главное, что ты в безопасности. Итак, что же ты делал в здании суда?
Рихард на мгновение задумался, прежде чем ответить. Он уже понимал, что американцу, видимо, многое известно, но все еще пытался как-то выбраться из паутины, которой обволакивал его Гамильтон.
— Я… Я просто зашел в суд. Ну, ради любопытства, — неуверенно проговорил Рихард. — Я и в Аргентине часто заходил в суды послушать какое-нибудь уголовное дело. Это все равно что читать детективный роман.
— Какой же роман тебе попался на этот раз?
— Так, чепуха. Изнасилование какой-то девчонки. Скука. Потом увидел, что времени — уже второй час, а в два мне должны позвонить домой. Вот я и сорвался с места.
— И еще кто-нибудь сорвался со своих мест? — прищурившись, спросил Гамильтон.
«Знает. Ну, конечно же, он все знает! — подумал Рихард. — Играет со мной, как кошка с мышью».
Он не ответил на вопрос Гамильтона. Лишь постарался переменить тему разговора:
— Куда мы едем? — настороженно спросил Рихард.
— А куда бы ты хотел?
— Если можно, домой, в гостиницу, улица…
— Хорошо, — согласился Гамильтон. — Домой так домой. Только не к тебе, а ко мне. Я думаю, что возвращаться к себе домой тебе в ближайшее время не вполне безопасно. Никто не может поручиться, что твое присутствие в суде, ну… и все последующее прошло никем не замеченным. А у людей из полиции хорошая зрительная память. Особенно на лица.
«Но я же был в маске!» — чуть было не воскликнул Рихард, но сдержался. Этому Гамильтону и так, по-видимому, многое известно. Ни к чему пополнять запас его знаний. Может быть, и в самом деле лучше провести с ним час-другой и постараться рассеять его подозрения.
Рихард промолчал. Он стал пристально глядеть в окно машины, стараясь вспомнить, как выглядела та улица, на которой располагалось бюро Гамильтона.
Но чем дальше они ехали, тем более Рихард убеждался, что они находятся совсем в другом районе юрода. Гамильтон ничего не говорил шоферу. Это был не тот человек, который приезжал за Рихардом несколько дней тому назад. Он был старше и в отличие от того, первого, носил усы. Гамильтон ни разу не обратился к нему, да и тот все время молчал, видимо, зная, куда ему надлежит ехать.
Наконец машина остановилась возле небольшого трехэтажного дома явно старинной постройки. Окна первого этажа были прикрыты белыми складчатыми шторами — «маркизами», а сам дом казался сделанным из серого неотшлифованного гранита. Три широкие каменные ступеньки вели на крыльцо, прикрытое от дождя и снега темно-красным металлическим козырьком.
— Ну, вот мы и приехали!
Итак, снова Гамильтон
— Ну, вот мы и приехали! — удовлетворенно произнес Гамильтон.. — В этом доме, — он легким движением руки показал на крыльцо, — я и живу.
Шофер поспешно вылез, обошел машину и открыл дверь, у которой сидел Рихард.
Гамильтон преодолел ступеньки первым. Вытащил из кармана ключи, открыл дверь и, чуть отойдя в сторону, сказал Рихарду:
— Ну, входи же!
Рихард нерешительно переступил порог и очутился в передней, оклеенной красноватыми, «под кирпич», обоями. Боковая, ведущая, очевидно, в кухню дверь открылась, и на пороге появилась женщина в коричневом платье, белом переднике и такой же белой наколке на волосах.
— А это наша Амальхен, — сказал из-за спины Рихарда Гамильтон, — мой менеджер и ангел-хранитель. Знакомьтесь, это Рихард, я надеюсь, что вы еще не раз увидите его здесь.
— Господа хотят что-нибудь перекусить? — с мягким баварским акцентом спросила Амалия, которую Гамильтон предпочитал называть уменьшительно-ласково «Амальхен».
— Да, но немного позже, — ответил Гамильтон. — А сейчас Рихард хочет принять ванну… или душ. Видите ли, Амальхен, с нами, точнее с Рихардом, случилось происшествие. Какой-то болван поехал на красный свет и едва его не сшиб. Рихард споткнулся и упал буквально в нескольких сантиметрах от автомашины, и, хотя она его не задела, он… ну, сами понимаете… Но до этого мы просто посидим минут десять, Рихарду необходимо, как это говорится по-немецки?.. Отдышаться!
— Яволь, яволь, майне геррен! — защебетала Амальхен. — Ах, какое несчастье! — Она всплеснула руками.
— Могло бы быть несчастье! — многозначительно сказал Гамильтон.
Амалия широко открыла другую, центральную дверь, а сама скрылась в глубине боковой комнаты.
Первая комната, в которой очутились Гамильтон и Рихард, была, очевидно, гостиной. Относительно небольшая, она казалась гораздо объемнее из-за зеркал, висящих на стенах одно против другого. Гамильтон подошел к окну и, потянув за шнурки, поднял гардины. Если до этого в комнате царил полумрак, то теперь она наполнилась дневным светом.
— Что ж, — спросил Гамильтон, — осмотрим квартиру? Впрочем, нет, сначала тебе надо вымыться. Кстати, ты поранил руку? Каким образом?
Действительно, с ладони к запястью у Рихарда стекала струйка крови.
— Ё стуле был гвоздь, — пробормотал он.
— Как только вымоешься, немедленно смажем, — в голосе Гамильтона Рихард почувствовал встревоженность. — Теперь пойдем дальше.
Они перешли в следующую комнату — несомненно, кабинет.
Рихард окинул быстрым взглядом большой письменный стол, на нем телефон, груду каких-то папок, раскрытый блокнот и распечатанный конверт, который Гамильтон сунул в стол, когда они проходили мимо; перед столом стояли два кожаных дивана, у стены — комод, один из ящиков которого был наполовину выдвинут., Из кабинета дверь вела в спальню, где все дышало теплом и уютом, за ней была ванная комната. Гамильтон, указывая путь, вошел туда первым, Рихард — за ним. Ослепительной белизны ванна была обложена голубыми плитками, такие же плитки прикрывали стены. На крючках висели халаты, полотенца, большая махровая простыня.
— Все это к твоим услугам, Рихард, — сказал Гамильтон. — Остается одна нерешенная проблема: во что тебе переодеться. Нижнее белье я сейчас принесу. Оно будет тебе велико, но неважно, под верхней одеждой не. видно. Брюки придется надеть свои, мои тебе будут не впору. Твой пиджак надевать нельзя, его надо будет отдать в чистку, а мой тоже будет слишком велик. Сделаешь так — наденешь мой свитер. У тебя дома есть во что переодеться?
Пока Гамильтон перечислял все, что Рихарду надлежит сделать, он молчал, может быть, потому, что американец произносил все это безоговорочным тоном, точно отдавал приказы. Но теперь, когда он задал прямой вопрос, Рихард, как бы вновь обретя дар речи, протестующе произнес:
— Да что вы, мистер Гамильтон! Спасибо большое, но все это ни к чему. Вымыться мне действительно надо, а потом доберусь домой и переоденусь. У меня дома все есть: и белье, и новый костюм… Я.
— Домой ты попадешь еще нескоро, — прервал его Гамильтон, — а до тех пор тебе надо в чем-то ходить. Сделаешь все так, как я говорю. Сейчас я принесу белье.
С этими словами Гамильтон, не ожидая ответа, вышел из ванной, оставив дверь полуоткрытой. Через две-три минуты до Рихарда донеслись звуки открываемых и закрываемых ящиков, а затем Гамильтон снова появился на пороге, держа в обеих руках стопу белоснежного белья.
— На, держи. Свитер подберем потам. Выбери себе, что больше подойдет по росту. И не торопись. Ничто так не успокаивает, как теплая ванна или душ. — С этими словами Гамильтон плотно прикрыл дверь ванной комнаты.
Сняв пиджак, Рихард увидел, что в нем и впрямь неприлично было бы идти по городу. Пыльный, в каких-то пятнах, один рукав порван: видимо, задел за что-то, когда прыгал в окно, и измазался, угодив в спасительный металлический ящик с мусором. Из полуоторванного кармана высовывался чулок-маска — как Гамильтон не заметил?
И тут Рихард вспомнил о своем «вальтсре». Пистолета не было. Очевидно, он, ударив Борха, выронил его и теперь, несомненно, получит серьезный нагоняй от Клауса.
Рихард был уверен, что Клаус благополучно выбрался из зала суда, и теперь он, наверное, тщетно звонит ему, Рихарду, домой. И хотя Гамильтон оказался его спасителем, неприязнь к американцу стала нарастать в душе Рихарда. «Какого черта ему от меня надо?» — подумал он. Ведь совершенно ясно, что сегодняшняя встреча не была случайной. Но, как ни странно, Рихарда особенно не удивлял сам факт осведомленности Гамильтона в делах группы Клауса. Навязчивое стремление американца опекать его, Рихарда, не только учить, «как жить», но и помогать ему материально, можно было объяснить старинной дружбой с отцом. Но все имеет границы. Если у Гамильтона и был какой-нибудь долг перед отцом, то он в прошлый раз заплатил его сполна и в переносном, и в прямом смысле этого слова.
«Ну, довольно! — оборвал свои мысли Рихард. — Прежде всего надо мыться!»
Множество тонких струек впились в его тело, окатывая с ног до головы, и спустя несколько секунд Рихард испытал блаженство. Он мылся долго. Не только потому, что это было ему приятно, но и из-за сознания, что после мытья ему наверняка предстоит тяжелый разговор с Гамильтоном, который хотелось оттянуть.
Наконец Рихард смыл с себя последние остатки мыла, стянул с батареи теплую простыню и стал усердно растираться. Одевшись, он ощупал содержимое карманов своих, к счастью, непорванных брюк и вышел в спальню, с удовлетворением отметив, что кровь из царапины на ладони исчезла. Комната была пуста Рихард открыл дверь в кабинет. За письменным столом сидел и что то писал Гамильтон. При виде Риэгарда он поспешно встал, улыбнулся и, идя ему навстречу, добродушно спросил:
— Ну, как, Рихард, не утонул в моем белье?
— Почти как раз, — в тон ему, заставляя себя ответно улыбнуться, ответил Рихард.
— Сейчас дам свитер, — сказал Гамильтон и, проходя мимо Рихарда, направился в спальню.
Через минуту-другую он вернулся с коричневым свитером в руках и, протягивая его Рихарду, сказал:
— Вот, держи. Я не носил его уже лет десять. Тогда был помоложе и потоньше.
Рихард взял свитер и, видя, что Гамильтон выжидающе смотрит, стал натягивать его.
— Отлично! — удовлетворенно проговорил Гамильтон, осматривая Рихарда. Потом неожиданно положил руки ему на плечи и на мгновение прижал к себе. — И вдруг спросил: — Сколько же тебе теперь лет?
— Двадцать четыре, скоро двадцать пять…
— Да… двадцать четыре… — как бы про себя повторил Гамильтон. — Быстро же летит время… — И вдруг громко крикнул, раскрывая дверь в гостиную: — Амальхен!
Раздался чуть слышный скрип дальних дверей, и на пороге появилась горничная.
— Ну вот, теперь мы что-нибудь поедим! — сказал Гамильтон и, оборачиваясь к Рихарду, произнес: — Мы, конечно, можем пойти в ресторан. Это тут, недалеко. Но я бы предпочел поесть в домашней обстановке. А как ты?
Рихард хотел отказаться, но, поняв, что этим обидит Гамильтона, послушно наклонил голову.
— Вот и прекрасно! — сказал Гамильтон. — Сейчас Амальхен приготовит нам сосиски, даст сыр, масло, кофе… Ну, и пиво, конечно. Так, Амальхен?
— Яволь, майн герр! — точно эхо, откликнулась горничная. Она слегка поклонилась и исчезла в дверях.
— Присядем, друг мой, — сказал Гамильтон, указывая на кресла у маленького круглого стола.
Но Рихард колебался. Ему снова не давала покоя мысль о Клаусе и других ребятах. Не совершает ли он предательство по отношению к ним? Ведь Клаус распорядился, чтобы после операции они собрались у него. Наверное, сейчас все уже в сборе и гадают: что случилось с ним, с Рихардом? Может быть, он попал в полицию, перетрусил и рассказал, как было дело? И о заранее подготовленном скандале в суде, и о листовках, а может, и о том, что «акцией» руководил он, Клаус… И теперь к нему на квартиру может каждую минуту нагрянуть полиция.
— Мне надо идти, — стараясь не глядеть в глаза Гамильтона, проговорил Рихард. — Срочно!
— Уйти сейчас? Не поев? Не посидев со мной? — недоуменно и недовольно проговорил Гамильтон. — Да еще срочно?!
И тогда Рихард решился.
— Мистер Гамильтон! Вы ведь наверняка знаете, что произошло в суде. Не говорите мне больше о случайности нашей встречи, я все равно не поверю!
Наступила короткая пауза. Гамильтон сощурил свои почти не мигающие глаза.
— Ну… предположим. И что же из этого следует? — То, что Клаус и другие ребята сейчас меня ждут.
— Ну, и подождут, невелика важность! — пренебрежительно произнес Гамильтон.
— Тогда… тогда разрешите мне хотя бы позвонить ему по телефону.
— Это… можно, — как показалось Рихарду, после некоторого колебания согласился Гамильтон.
Рихард бросился к телефону, но резкий окрик Гамильтона: «Подожди!» остановил его. Рихард замер у стола, уже подняв руку, чтобы снять трубку.
— Подожди, — уже спокойнее повторил Гамильтон, — это служебный телефон. Не надо вести по нему частных разговоров. — Он нагнулся, открыл тумбу стола, выдвинул один из ящиков и вынул из него телефонный аппарат. За ним тянулся, уходя в глубь ящика, шнур.
Гамильтон поставил аппарат на стол.
— Теперь можешь звонить.
Рихард снял трубку, набрал номер телефона Клауса. Стал считать гудки. Первый, второй, третий… Четвертый сигнал оборвался сразу же, и Рихард услышал голос:
— Слушаю!
«Это Клаус, Клаус!» — с радостью и успокоением подумал Рихард.
— Это я! — крикнул он в трубку, из осторожности не называя ни своего имени, ни имени Клауса.
Но тот, видимо, плевал на предосторожности.
— Рихард! Какого черта?! Где ты? Что-то случилось?
— Нет, нет, ничего! — торопливо успокоил его Рихард. — Я просто задержался! Расскажу при встрече.
— Ты что же, думаешь, мы тебя всю ночь будем ждать? — недовольно спросил Клаус.
— Я смогу приехать через час, — ответил Рихард, вопросительно посмотрев на стоящего рядом Гамильтона и, увидев, как тот нахмурился и поднял руку с вытянутыми двумя пальцами, поспешно добавил: — Максимум через два!
— Но где ты торчишь? — продолжал допытываться Клаус. — Твой домашний телефон не отвечает.
— Я не дома, — сказал Рихард.
— Так где же?
— Расскажу потом. Случайно встретил знакомого моего отца.
Рихард произнес эти слова, сознавая, что его объяснение звучало глупо. И, чтобы увести разговор в сторону, спросил:
— Как ребята?
— Пьют пиво и ругают тебя.
— Но я все объясню при встрече…
— Хватит! — вполголоса, но решительно произнес Гамильтон и положил ладонь на рычажки аппарата. Рихард услышал частые гудки.
Он опустил трубку и с упреком спросил Гамильтона:
— Зачем?
— Еще успеешь с ним наговориться, — пробурчал Гамильтон. — Думаю, еда уже на столе. Пойдем!
С этими словами Гамильтон сунул аппарат обратно в ящик, задвинул его, закрыл дверцу тумбы и повернул торчавший в замке ключ.
— А это что за телефон? — с любопытством спросил Рихард-.
— Частная линия. Ею пользуются серьезные бизнесмены, журналисты, ну и так далее. К обычной, городской, иногда может ухитриться подсоединиться конкурент, чтобы урвать передаваемую информацию. В данном случае я имею в виду крупные газеты, агентства новостей. Однако хватит о делах!
Они перешли в гостиную. На покрытом красной скатертью большом круглом столе уже были расставлены приборы, на белой стеклянной подставке лежали нарезанные ломтиками сыр, ветчина, рядом возвышались две запотевшие пивные бутылки.
— Садись! — сказал Гамильтон, отодвигая один из стульев с высокими спинками. — Хочешь выпить? Я имею в виду не пиво.
— Нет, спасибо, — покачал головой Рихард.
— Ну, и я не буду, — сказал, усаживаясь, Гамильтон. И добавил: — Нам предстоит серьезный разговор, мой молодой друг. Его лучше вести на трезвую голову.
Гамильтон произнес эти слова каким-то до сих пор несвойственным ему задушевным и вместе с тем серьезным тоном. Это удивило, точнее, насторожило Рихарда, но он промолчал.
Амальхен принесла сосиски, разложила их по тарелкам, исчезла, снова вернулась с большим фарфоровым кофейником в руках и поставила его в центре стола, рядом с пивными бутылками.
— Что-нибудь еще, господа? — спросила она, складывая на животе руки.
— Нет, — быстро ответил Гамильтон. — Нам надо поговорить. Поэтому посуду уберешь позже.
В ответ раздалось привычное «яволь!», и горничная ушла, плотно притворив за собой дверь.
…Они ели в полном молчании. Рихард не мог понять, почему именно, но он ощущал какое-то безотчетное чувство тревоги. Нет, его уже не волновал Клаус, Рихард знал, что с ним все в порядке, отодвинулись куда-то вдаль, в прошлое, история в суде и стремительный бег по улице… Что же тревожило теперь Рихарда? Может быть, предупреждение о предстоящем «серьезном разговоре»? Что это будет за разговор? Наверное, этот Гамильтон станет читать ему нотации за невыполнение советов, которые он давал Рихарду во время прошлой встречи.
Когда с едой было покончено, Гамильтон предложил Рихарду перейти за другой, маленький стол.
— Значит, ты не прислушался к тому, о чем я тебе говорил? — произнес наконец Гамильтон.
«Ну, конечно! — со злостью подумал Рихард. — Я был прав! Тоже гувернер-воспитатель нашелся! И почему я должен ему подчиняться?!» Но вслух сказал:
— Я действую так, как мне подсказывают моя убеждения… и совесть.
— В чем же они состоят, твои убеждения? В желании восстановить гитлеровский рейх?
Гамильтон произнес эти слова, как показалось Рихарду, с оттенком иронии. Это возмутило его, и он еле сдержался, чтобы не ответить грубостью.
— Мистер Гамильтон, — сказал он, — для вас Германия — чужая страна. А для меня — родина. Мой отец едва не пожертвовал жизнью во имя ее процветания. И если бы не нападение России — при содействии Штатов, хочу добавить, — то сейчас Германия была бы властительницей мира!
— Если бы Россия не напала… — иронически повторил Гамильтон, но Рихард не дал ему договорить.
— Знаю, знаю, что вы сейчас скажете! — прервал он американца. — Слышал я все эти сказки! На поверженную страну можно валить все что угодно! Но я-то знаю правду! Мой отец занимал достаточно важный пост, был приобщен ко многим государственным тайнам. И он рассказывал мне, как обстояло дело в действительности. Наше выступление против России было чисто превентивным. И если бы фюрер не приказал начать реализацию плана «Барбаросса», Сталин бросил бы все свои славяно-монгольско-еврейские орды против нас. Он уже был готов к этому!
— Хорошо, Рихард, — примирительно сказал Гамильтон, — не будем заниматься историческими экскурсами. Речь сейчас идет не о Германии в сороковых годах, а о тебе — в конце шестидесятых. И это совсем разные вещи.
— Я неотделим от Германии! — воскликнул Рихард.
— Оставим громкие слова. Ведь речь идет о твоей судьбе. В конечном итоге о твоей жизни!
— Мистер Гамильтон, — сказал Рихард, стараясь говорить уважительно и даже с оттенком благодарности, — поверьте, я очень ценю вашу заботу обо мне. Но мы — разные люди. И дело тут не только в возрасте. Вы состоите на службе в своей газете или не знаю уж где. А я служу Германии. Моей Германии! — Рихард сделал ударение на слове «моей». — Это разные вещи. Между нами барьер!
— Ну, не такой уж высокий, как ты думаешь, — с незлой усмешкой проговорил Гамильтон. — И кроме того, барьер не мешает мне многое видеть и знать.
— Что вы имеете в виду? — спросил Рихард, не понявший смысла последней фразы.
— Ну, например, видеть тебя среди участников того митинга, знать о неудаче Клауса в Дюссельдорфе и о получении оружия на нашей авиабазе. Быть в курсе вашей сегодняшней проделки в суде…
Теперь Гамильтон смотрел прямо в глаза Рихарду.
— Вы… все знали?
— Мне пришлось тебе это сказать, чтобы ты понял наконец, что я не бросаю слов на ветер. У меня есть… ну, как бы тебе это сказать… магический кристалл.
— Да… — тихо произнес Рихард, — я понял. Значит, вы считаете, что путь к победе не тот, которым я иду?
— Сначала я хочу тебе сказать, что ты несколько примитивно представляешь себе путь, по которому пойдет страна. Не спорь! Ты полагаешь, что Германия повторит то, что происходило с ней три с половиной десятка лет назад. Сначала вы, сегодняшние штурмовики, терроризируете своих политических противников и привлекаете на свою сторону мелких бюргеров, безработных, ну и так далее. Потом получаете абсолютное большинство на выборах. Затем сегодняшний Гинденбург приглашает к себе сегодняшнего фюрера, назовем его фон Таддеы, и вручает ему пост канцлера и с ним всю полноту власти.
— Я не так наивен, как вы думаете, сэр! — сердито сказал Рихард.
— И все-таки я не ошибаюсь. Ход твоих мыслей примерно таков, как я его обрисовал. Может быть, ты сам не отдаешь себе в этом отчета.
— Так вы предлагаете мне отказаться от борьбы? — с вызовом спросил Рихард.
— Нет, — покачал головой Гамильтон, — я предлагаю тебе другое…
— Что именно?
— Рихард, поверь мне, я лучше тебя знаю обстановку в Германии. НДП переживает сейчас кризис, хотя ее представители и были избраны в ландтаги некоторых земель. И все же на протяжении двух последних лет влияние НДП падало. У этой партии нет шансов набрать на предстоящих выборах пять процентов, необходимых для того, чтобы получить места в бундестаге.
— Не пророчьте! — грубо сказал Рихард. — В Германии скоро будет создана группа «хранителей порядка», а потом мы создадим «гвардию фонда национального освобождения». Наши демонстрации на границах с так называемыми социалистическими странами — с ГДР, Польшей, Чехословакией — станут постоянными. Мы не остановимся против физического уничтожения тех руководителей средств массовой информации, которые повинны в разлагающей деятельности. Все это, вместе взятое, склонит на нашу сторону подавляющее большинство честных немцев…
…Не отдавая себе отчета, Рихард выкладывал Гамильтону все, что говорил ему Клаус, — и в Аргентине, и здесь, в Мюнхене. Рихарду, порывистому, легко воспламеняющемуся, сейчас и в голову не приходило, что он, сам того не замечая, выдает партийные тайны. Он буквально захлебывался словами и закончил свою сбивчивую речь восклицанием:
— Германия еще будет хозяйкой Европы, и вы это увидите!
— Надеюсь, что я этого не увижу. Потому что хозяйкой Европы станет в конечном итоге Америка.
— Нет, никогда! Мы с радостью примем помощь Штатов в борьбе с коммунизмом, я знаю, что у вас существует Международная антикоммунистическая лига, нам рассказывал об этом Райт там, на авиабазе…
— Когда по моему поручению снабдил вас оружием?
— Мне нечего от вас скрывать, раз вы и так все знаете. Но вы не знаете одного: мы победим! И, когда мы встретимся после нашей победы, я напомню вам все, о чем вы сейчас говорите.
— Если все пойдет так, как идет, то мы не встретимся, Рихард! Я скоро уеду…
— Уедете? Но куда? И почему?
— Срок моего пребывания в Германии заканчивается, и меня отзывают домой, в Штаты…
Почему он произнес эти слова с печалью? Неужели ему, проведшему столько времени в Германии, не хотелось на старости лет вернуться домой? Правда, там, за океаном, его никто не ждал. У него был дом, особняк в Филадельфии, уже четверть века стоявший пустым, — у Гамильтона не было семьи. Но он уже не ощущал в себе достаточно сил, чтобы начинать жизнь сначала.
Была у Гамильтона и другая причина, чтобы разочароваться в жизни: в Ленгли в последнее время им явно были недовольны. Главный резидент ЦРУ, находившийся в Бонне, уже несколько раз намекал, что ему, Гамильтону, не удастся обеспечить победу НДП на предстоящих выборах, что победить могут социал-демократы или двухпартийный союз ХДС/ХСС, и тогда… тогда дело кончится советско-германским договором. И осуществление заветного желания НДП восстановить Германию в границах 1937 года отодвинется куда-то вдаль…
Не так давно курьер из Вашингтона передал Гамильтону прямое указание готовиться к скорому отъезду.
Что ж, Гамильтон был теперь богатым, до конца своей жинзи обеспеченным человеком, и перспектива спокойного существования на родине не так уж страшила его…
Если бы не одно важное обстоятельство. Оно, это обстоятельство, потрясло всю душу Гамильтона, окаменевшую, зачерствевшую уже много лет назад, недоступную почти никаким чисто человеческим эмоциям.
И это потрясение заставило его через свою агентуру в группе Клауса следить за каждым шагом Рихарда, оно же заставило Гамильтона ждать сегодня его появления у здания суда, прервать бег Рихарда и привезти его сюда…
И все нынешние разговоры с Рихардом, касавшиеся и немецкой истории, и будущего Германии, и дальнейших перспектив НДП, Гамильтон вел, все еще будучи потрясенным и мучительным усилием воли скрывающим это потрясение. Но когда вырвалась фраза о предстоящем отъезде в Америку, он уже не мог больше сдерживаться. Не мог потому, что видел, чувствовал — Рихард воспринял это сообщение как совершенно обыденное, мало его трогающее, может быть, даже чем-то радующее: ведь тем самым он избавлялся от навязчивого попечительства, а то, что забота его, Гамильтона, вызывала у Рихарда с трудом сдерживаемое раздражение, он видел.
И тогда Гамильтон, чувствуя бесцельность, бесперспективность своих попыток переубедить Рихарда, остановить его на пути к собственной гибели, решил сделать первый шаг…
— Да, — повторил он, — я скоро уезжаю. И в этой связи хочу сделать тебе одно предложение… — Я бы хотел, чтобы ты уехал со мной в Америку, — с трудом сбрасывая часть мучающего его груза, произнес Гамильтон.
— В Америку? — изумленно переспросил Рихард. — Вы что это, всерьез?
— Послушай меня, Рихард, послушай без предубеждения. — Гамильтон положил руку на подлокотник кресла, в котором сидел Рихард. — Тебе скоро исполнится двадцать пять лет, верно? У тебя до сих пор нет законченного образования. Какие перспективы открывает перед тобой жизнь здесь, в Германии?
— Осенью я поступлю в университет! — протестующе сказал Рихард. — И вообще… вообще то, что вы мне сейчас предложили, звучит просто нелепо!
— Но почему? — пожал плечами Гамильтон. — В Америке ты мог бы закончить свое образование…
— Плевать я хотел на образование! — воскликнул Рихард. — Я немец, солдат фронта, пусть пока еще тайного!
— Понимаю. Но тайная борьба тоже требует особых знаний, навыков, профессионализма, если хочешь. При желании ты мог бы окончить в Соединенных Штатах специальную школу. И наконец, если твое желание не изменится, вернуться в Германию уже зрелым офицером-разведчиком.
— А до тех пор отсиживаться в глубоком заокеанском тылу? — возмутился Рихард. — Я оставил семью, мать, любимого отца. Я решился на это только потому, что поставил долг перед родиной превыше всего. Отец отговаривал меня, боялся за мою жизнь. Но в конце концов понял меня и согласился. А теперь… Как я буду выглядеть в глазах отца, когда он узнает, что я променял жизнь под его крышей не на Германию, а на то, чтобы, прожив в ней меньше месяца, удрать в Америку?
— В глазах отца?.. — с какой-то странной задумчивостью повторил Гамильтон. И после короткой паузы медленно, с усилием, точно преодолевая внезапный спазм, произнес: — Я твой отец, Рихард!
— Что?! — Рихард вскочил со своего места.
— Сядь! — повелительно произнес уже овладевший собой Гамильтон.
— Вы хотите сказать, что забота обо мне дает вам права моего второго отца? — все еще стоя, сжимая кулаки, продолжал Рихард. — Или вы полагаете, что купили это право за деньги, которые мне в прошлый раз дали? Так я готов швырнуть вам эти деньги обратно!
— Сядь, я тебе говорю! — уже более жестко повторил Гамильтон.
Рихард почувствовал, что силы покидают его. Он невольно опустился в кресло.
— Еще раз говорю тебе: я твой настоящий отец, — сказал на этот раз тихо, даже мягко Гамильтон. — Адальберт Хессснштайн, ныне Альбиг, которого ты всю свою жизнь считая своим отцом, — мужественный и честный солдат. Я уважаю его заслуги в борьбе с коммунизмом, иначе не помог бы ему и Ангелике перебраться в Аргентину. Но… он не твой отец.
— Но какие лее у вас основания… — начал было Рихард, однако Гамильтон остановил его:
— Подожди. Я понимаю, как тяжело тебе все это слышать, но ты должен знать правду. Война — это не только сражения с оружием в руках. Война меняет судьбы людей, ставит их в такие отношения друг к другу, о которых они и подумать не могли в мирное время. Словом, тогда, в сорок пятом, меня послали на работу в Нюрнберг. Предоставили хороший помер в гостинице. Но мне хотелось иметь свою личную, пусть небольшую, но удобную, тихую квартиру. В американской комендатуре дали несколько адресов на выбор. Я и сейчас помню, как позвонил в дверь небольшого особняка. Мне открыла невысокая молодая белокурая женщина, к которой я сразу почувствовал необъяснимую симпатию. Потом я узнал ее имя — Ангелика.
— Перестаньте! — снова сжимая кулаки, воскликнул Рихард.
— Нет, подожди. Ты должен выслушать все это, иначе не поверишь… На мне была форма американского военного корреспондента. Я представился фрау Ангелике и показал бумажку из комендатуры. Ангелика сказала, что живет одна, что ее муж или убит, или пропал без вести на фронте и что на втором этаже дома есть две свободные комнаты… Я решил взять их. Сказал, что буду платить продуктами или долларами… Мы договорились…
— Я все понял, все! — снова воскликнул Рихард. — Остальное можете мне не рассказывать! Моя мать голодала, жила с черного рынка, и вы купили ее, да, да, купили, своими продуктами, своими проклятыми долларами!
— Нет, нет… — смущенно пробормотал Гамильтон, а потом продолжил уже более твердо: — Ей действительно было тяжело… Продавала или выменивала на продукты оставшиеся ценности. Кроме того, она жила одна в доме из пяти комнат, три внизу занимала сама, две верхние оставались свободными. Ее могли выселить как жену бывшего гестаповца или, во всяком случае, заселить верх… Мое пребывание стало для нее своего рода охранной грамотой…
— И вы потребовали компенсацию за эту грамоту?!
— Я ничего не требовал, Рихард, пойми! Но ты представь себе ситуацию: одинокая женщина и одинокий мужчина, ещё далеко не старые, живут вместе в пустом доме… Ты уже достаточно взрослый человек, Рихард, и не можешь не понимать… Да, очевидно, я не был ей противен…
— Прекратите! Я не хочу слушать всю эту грязь! — отворачиваясь от Гамильтона, крикнул Рихард. Потом овладел собой и спросил холодно и отчужденно: — Как долго это продолжалось?
— Вплоть до неожиданного появления мужа Ангелики. Того, кого ты считаешь своим отцом. С этого момента наши отношения, естественно, прекратились.
— Но откуда же у вас уверенность…
— Я знал, что ты задашь этот вопрос. И у меня не будет выхода, кроме как… — Он запнулся, встал с кресла и сказал: — Подожди минуту.
С этими словами Гамильтон вышел в соседнюю комнату и быстро вернулся, держа в руках какой-то конверт.
— Я получил это по своим каналам, спустя день после твоего приезда. Я не хотел давать тебе это письмо. Но если все мои слова бессильны… На, прочти. — И Гамильтон протянул Рихарду конверт.
Тот взял письмо, едва удерживая его в руке, пальцы внезапно точно окостенели. Конверт был распечатан. Рихард вытащил из него сложенный вдвое листок плотной бумаги. Развернул этот листок, и сердце его забилось так сильно, что он ощущал его биение не только в груди, но и в висках: едва взглянув на покрывающие бумагу строчки, Рихард узнал почерк своей матери. Она писала:
«Арчи, милый! Это письмо — из прошлого. Тебя окликнули, ты оглянулся, внезапно увидел за собой пропасть, и вот оттуда, из ее бездонной глубины, до тебя доносится сейчас мой голос.
В Германию отправляется наш сын, Рихард. Я подчеркиваю это слово „наш“. Да, да, Рихард — наш сын, мой и твой. Никаких сомнений быть не может, я все высчитала, как только он родился, уже здесь, в Аргентине, в первый же день нашего приезда. Высчитала и поклялась богу и себе, что сохраню это в тайне до конца моих дней не только от мужа — это бы его убило, — но и от тебя, Арчи. Я никого не виню в том, что произошло между нами столько дет назад, никого, кроме себя.
Но сейчас речь идет не обо мне, Арчи. Речь идет о Рихарде, о моем единственном сыне, по существу, еще юноше, который сейчас находится рядом с тобой. Рихард уехал в Германию для того, чтобы, как он говорил, бороться за дело, которому его „отец“ посвятил всю свою жизнь…
Я знаю Рихарда так, как может знать только мать. Он честен, порывист, неудержим… А в Германии сейчас, судя по газетам, неспокойно, там бросают бомбы, стреляют, и кто знает, может быть, одна из пуль предназначена для нашего Рихарда…
Заклинаю тебя, Арчи, возьми его под свою опеку. Защити, оборони его словом, действием, но только сохрани, удержи, если увидишь, что он идет навстречу смерти. Я не хочу, не могу думать о том, что Рихард станет жертвой во искупление нашего греха.
Твоя когда-то Гели.
P. S. Умоляю, уничтожь это письмо, но пусть оно живет в твоем сердце. И еще: если Рихард последует твоим наставлениям, то сохрани от него нашу тайну. Иначе… пусть он узнает все.
Г.».
…Рихард уже давно прочел эти несколько десятков строк, но по-прежнему держал письмо перед глазами, держал окостеневшими пальцами, чувствуя, что не в силах их разжать.
— Ты что, плохо разбираешь почерк своей матери? — раздался в ушах Рихарда голос Гамильтона. — Отдай письмо!
С этими словами он взял, скорее, вырвал письмо Ангелики, вложил в конверт и спрятал его во внутренний карман своего твидового пиджака.
Потом сказал, стараясь говорить мягко и проникновенно:
— Я представляю себе, Рихард, что происходит сейчас в твоей душе. Да, я мог и но показывать тебе это письмо, твоя мать предусмотрела такую возможность. Но… вспомни последние строки: там говорится об условии, при котором я могу сохранить письмо в тайне от тебя. Однако я вижу, ты не следуешь моим советам. Более того, я подозреваю, что ты и впредь не будешь меня слушаться, и тогда я понял, что должен показать тебе письмо… Ты молчишь?
…Рихард сидел, не произнося ни слова. Все окружающее как бы отодвинулось от него, ушло в почти неразличимую даль. Рихард не видел сейчас ничего и никого: ни Гамильтона, ни комнаты, в которой находился… Теперь у него никого нет — ни отца, посвятившего жизнь служению рейху, ни матери. Он проклинал ее в душе. И сам он был не тот, каким считал себя раньше: не чистокровный немец, не ариец, а полукровка. В его жилах течет не только американская, но, может быть, даже и еврейская кровь, кто знает происхождение этого Гамильтона..
Наконец Рихард пришел в себя. Он встал. Тихо сказал:
— Я пойду.
— Куда ты пойдешь? — спросил, тоже вставая, Гамильтон.
— Домой.
— Тебя отвезут, Рихард. Я понимаю, тебе хочется сейчас остаться одному. Ты воспринимаешь все, что узнал, как драму. Но ты переживешь ее, я знаю. Ведь ты сильный человек, Рихард. То, о чем ты узнал, не сможет и не должно заставить тебя воспринимать жизнь иначе, чем до сих пор. В конце концов то, что я предложил тебе, — на время уехать в Штаты, было вызвано не только желанием, пусть эгоистическим, еще какое-то время быть рядом с тобой. Ты прошел бы там школу, которая удвоила, утроила бы твои силы, твой опыт. И ты смог бы вернуться в Германию созревшим для больших дел. В малом отражается большое. Германия не добьется господства в Европе без американской помощи. Так и ты, не пройдя американскую школу, останешься здесь всего лишь мальчиком на побегушках, к тому же постоянно рискующим жизнью. Разве тебе это неясно?.. Ну, почему ты молчишь?
— Я уже сказал: нет! — твердо ответил Рихард. Теперь им постепенно стала овладевать новая мысль. Да, то, что он узнал, было ужасно. Но он должен искупить вину своей матери. Отстоять право быть подлинным немцем. Нет, не советам этого американца, чужого для него человека, будет он следовать. Наоборот, он еще смелее пойдет навстречу любым подстерегающим его опасностям. Горькое сознание того, что произошло, лишь укрепит его волю к борьбе.
— Может быть, ты переночуешь у меня? — спросил Гамильтон.
— Мне надо быть дома! — резко оборвал его Рихард.
— Хорошо. Тогда я сейчас вызову машину. — Гамильтон вышел из гостиной в кабинет.
Рихард услышал, как Гамильтон произнес несколько слов по телефону. Потом он вернулся, сказал:
— Машина будет минут через пятнадцать, — и опустился в кресло.
И снова наступило молчание.
Рихард старался не смотреть на Гамильтона, а тот, откинувшись на спинку кресла, сдавил ладонями свои седеющие виски. Наконец он откинул голову и, тоже не глядя в сторону Рихарда, спросил:
— Ты никогда не простишь мне того, что случилось?
Рихард молчал.
— Встань на мгновение на мое место, — продолжал Гамильтон, — я одинокий человек. У меня никогда не было детей. И вдруг я приобрел сына. Могу ли я не радоваться этому?
— Приобрели? — с презрением спросил Рихард. — Вы, американцы, всегда что-нибудь приобретаете. И в Южной Америке. И в Германии, на черном. рынке после войны. Вы хотели бы приобрести и саму Германию. Да, мы можем и хотим быть вашимч союзниками в борьбе с коммунизмом. И здесь, в Германии, и во всем мире. Но «приобрести» нашу страну так же просто, как вы «приобрели» сына, вам не удастся. Да я и не верю вам!
— Не веришь… во что?
— Что я ваш сын. Мать могла ошибиться.
— В таких вопросах женщины никогда не ошибаются, Рихард.
— Пусть так. Вы «приобрели» сына. Но я не приобрел отца. Он у меня уже есть. И если я поначалу откликнулся на ваш телефонный звонок и пришел к вам, то только потому, что видел в вас друга моего отца А вы его предали!
— Опомнись, Рихард, что ты говоришь! Ты не в силах перенести себя в обстановку тех лет, в обстановку хаоса, разорванных войной семейных связей, поисков душевного пристанища…
«И вы нашли его в постели моей матери?!» — эти слова чуть было не сорвались с губ Рихарда. Но он сдержался. Однако Гамильтон, видимо, прочел его мысли.
— О каком предательстве ты говоришь? — с наигранным, как показалось Рихарду, негодованием воскликнул Гамильтон. — Твоя мать считала, что ее муж убит!
— Но потом он вернулся и какое-то время вы жили в доме втроем… Словом, я тоже умею считать, мистер Гамильтон!
…В этот момент в дверь осторожно постучали. Вошла Амалия.
— Пришла машина, майн герр! — негромко сказала она.
— Пусть подождет, — недовольно проговорил Гамильтон.
— Нет! — поднялся Рихард. — Если это за мной, то я поеду.
Когда машина уже подъезжала к гостинице, Рихард вспомнил, что на нем свитер Гамильтона.
— Подождите несколько минут, — сказал он шоферу.
Быстрым шагом, задержавшись у стойки портье лишь для того, чтобы взять ключ, Рихард поднялся в свою комнату, снял, точнее, содрал с себя свитер Гамильтона и завернул его в старую газету. Накинув пиджак, не запирая дверь, он сбежал вниз и отдал сверток шоферу.
— Это мистеру Гамильтону. Лично, в руки. Спасибо.
Отчаяние и надежда
.. И вот он снова один. Мысль о том, что надо позвонить Клаусу, даже не приходила ему сейчас в голову. Он сел в кресло и, опустив подбородок на грудь, закрыл глаза. И тогда его со всех сторон обступили нюрнбергские призраки.
Да, он никогда не был в Нюрнберге, но у матери сохранился семейный альбом, который не раз просматривал Рихард. На одной из фотографий был запечатлен дом, в котором жили его родители, — красивый двухэтажный особняк. И сейчас он как бы «примысливал» к этому дому, к его комнатам своих(отца и мать, еще молодых, таких, какими они выглядели на других фотографиях. В своем воспаленном воображении он видел сейчас Гамильтона и свою мать выходящими из дома, представлял себе их в различных ситуациях: за утренним кофе, обедающими в ресторане, видел — воочию видел! — как Гамильтон обнимает его мать, и тогда ногти сжатых в кулаки пальцев Рихарда впивались в его ладони и ненависть к американцу охватывала все его существо. Потом перед Рихардом возник образ его обманутого отца, да, в мыслях своих он не мог думать о нем иначе, как о своем отце, единственном, незаменимом, представлял себе его в эсэсовской форме, с молниями-рунами в петлицах и с нацистской повязкой на левой руке, — красной лентой с белым кругом и свастикой в центре…
Несгибаемый борец за дело фюрера, за торжество Германии, одним росчерком пера вычеркивавший из жизни предателей, жидомасонов и прочих недочеловеков, он сам стал жертвой предательства, причем в собственном доме.
Как гордился Рихард своим чисто немецким — и, по рассказам втца, во многих поколениях — происхождением, да и мать его была чистокровная немка… Этот факт, помимо многих других, с детских лет укреплял Рихарда в убеждении, что его место в Германии, в рядах мстителей за поражение родной страны в минувшей войне. Он читал и перечитывал не только «Майн кампф», но и все статьи, брошюры, которые были написаны фюрером еще до того, как, будучи вместе с Гессом заключенным в Ландсбергскую тюрьму, он стал диктовать своему соседу по камере главный труд своей жизни и самую великую книгу, которую когда-либо рождало человечество. Он читал и перечитывал Розенберга, знатока расистской теории, мечтал, что когда-нибудь посетит то таинственное племя, живущее где-то среди вершин и пропастей Гималаев, племя, от которого произошла тысячи лет назад истинная арийская раса. Но это — это потом, размышлял Рихард, а до тех пор он должен жить и бороться в Германии, среди своих соплеменников… И вот оказалось, что немцы, истинные немцы, лишь наполовину могут считаться его братьями по крови. Он — полукровка!..
Кто может точно проследить происхождение этих проклятых янки? Кто может быть уверен, что большинство этих пришлых со всего мира людей не ведут свое происхождение от каких-нибудь индейцев, негроидов, метисов и, уж конечно, евреев?..
Могла ли жизнь нанести ему, Рихарду, удар сильнее? Неожиданно ему пришла в голову мысль: уничтожить, убить этого проклятого Гамильтона! Тогда все сохранилось бы в тайне, и он, Рихард, по-прежнему оставался бы сыном Хорста Альбига, истинного немца, арийца, верного борца за дело фюрера.
Но нет, это утопия. Убийство такого человека, как Гамильтон, с его связями, явными и тайными, было бы обязательно раскрыто, и ему, Рихарду, грозило бы пожизненное заключение, если не смертная казнь.
«Так что же мне делать? — снова и снова в этот час мучительных раздумий спрашивал себя Рихард. — Как смыть позор своего рождения?» И каждый раз он находил только один и тот же ответ: в борьбе. Он должен брать на себя самые рискованные, самые опасные поручения, пусть смерть всегда стоит за его спиной, он все равно не будет оглядываться! И пусть отступит перед ним все то, что он мысленно назвал «нюрнбергскими призраками». Пусть само слово «Нюрнберг» отныне вызывает в нем не тот час, когда он был зачат в грехе и предательстве, и не позорный суд над вождями рейха, но воспоминание о том, что этот город был вторым по значению в истории национал-социализма — любимой фюрером ареной торжественных партийных съездов, символом притягательности его непобедимых идей.
Раздался резкий телефонный звонок Он как бы вернул Рихарда из прошлого в настоящее.
Но лишь после третьего звонка он снял трубку.
— Алло!
— Рихард? — услышал он голос Клауса — Какого черта, Рихард?! Где тебя носит?
— Но я же тебе сказал… Встретил знакомого моего отца. Он оттуда, из Аргентины.
— Нашел время ходить в гости! Из-за тебя.. — Клаус запнулся.
— Что «из-за меня»? — встревоженно спросил Рихард. — Если надо, я сейчас приеду.
— Все давно разошлись, — по-прежнему недовольно ответил Клаус — Приеду к тебе я. Что ты сейчас делаешь?
Рихард посмотрел на часы.
— Ничего. Я недавно вернулся.
— Ладно, жди! — буркнул Клаус и повесил трубку.
«Что случилось? — подумал Рихард. — Может быть, все дело в том, что я выронил там, в суде, свой пистолет и его подобрала полиция? Но ведь все остальное я сделал точно по инструкции!»
Мысль, что он все же в чем-то поступил неправильно, вытеснила из сознания Рихарда все, что мучило его. Нет, неверно! Теперь к ощущению собственной неполноценности присоединился, усилил его недовольный тон, каким говорил с ним Клаус, и, главное, фраза, которую он не докончил: «Из-за тебя…»
…Клаус появился скоро. Он вошел в комнату без стука.
— Ты все еще мальчишка, парень! Из-за тебя чуть не сорвалась вся операция!
— Но почему, Клаус?! — воскликнул Рихард. — Что я сделал такого?
— На кой черт ты ударил этого Борха пистолетом? Он грохнулся на пол как убитый! Вспомни, как была задумана операция. Коммунисты и другие красные решили освободить своего единомышленника Борха. С этой целью и было предпринято нападение в зале суда. Но попытка не удалась. Коммунисты, то есть мы, были вынуждены оставить Борха в покое и разбежаться. Но какой был смысл похитителям нападать на самого Борха? Это же нелепость! Что завтра напишут газеты? О какой попытке выручить Борха может идти речь, если один из «похитителей» бьет его пистолетом по голове? И к тому же в качестве улики оставляет там, на полу, свой пистолет! Ты что, не знаешь, что каждое оружие имеет свой номер и полиции ничего не будет стоить выяснить, откуда к нам попал этот пистолет?
Да, всего этого Рихард не учел. Он не только сорвал операцию, но и оставил след, ведущий далеко, к американскому «Клану».
Клаус был прав. Он, Рихард, лишил всю задуманную «акцию» какого-либо смысла. И пистолет… Номер! — об этом Рихард и вовсе не подумал. А Борха он ударил потому, что иначе тот мог сбежать, снова попасть в руки полиции, и там бы легко установили, что никто не собирался его похитить!
— Я ударил его потому, что боялся, что он убежит тем же путем, что и я, через окно, — растерянно проговорил Рихард. — А пистолет выронил при ударе. Если бы я начал искать его в этой суматохе, то меня наверняка бы задержали. Конечно, мой пистолет в руках полиции — это катастрофа.
— На наше общее счастье, катастрофы не произошло, — сказал сумрачно Клаус. — Вот твой пистолет!
И Клаус, засунув руку в задний карман брюк, вытащил оттуда так хорошо знакомый Рихарду «вальтер».
— Клаус, друг, как тебе это удалось?!
— Такая моя судьба — выручать разгильдяев! Я успел подобрать пистолет там, где ты его уронил.
— Отдай мне его, прошу! — умоляюще воскликнул Рихард, протягивая руку к пистолету.
Но Клаус резким движением опустил его обратно в карман брюк и презрительно сказал:
— Сначала научись обращаться с оружием.
— Значит… ты больше мне не доверяешь? — упавшим голосом проговорил Рихард и подумал при этом: «Боже, если бы Клаус знал, что я не просто разгильдяй, но даже и не чистокровный немец! Он вышвырнул бы меня из своей группы! Что бы мне оставалось делать! Вернуться назад, в Аргентину? Или., или принять предложение Гамильтона и уехать в Соединенные Штаты?..»
Наконец Рихард собрался с духом.
— Клаус, я прошу тебя, умоляю! Назначь мне еще одно испытание, такое, где ставкой была бы только моя жизнь! Разреши мне рассказать на собрании группы, как все это произошло! Я надеюсь, они поверят мне! Поймут, что все случившееся объясняется только стечением обстоятельств. Что я так же верен нашему общему делу, как и до сих пор!
— Будущее покажет, — коротко ответил Клаус, но Рихарду показалось, что в его голосе появились нотки снисходительности. — Кстати, — сказал он, — что это эй «аргентинский знакомый», у которого ты проторчал столько времени, вместо того чтобы явиться на сбор?
— Это… Гамильтон, — ответил Рихард нерешительно, потому что не знал, как Клаус воспримет его слова.
— Га-миль-тон? — с удивлением, как показалось Рихарду, переспросил Клаус.
— Да. Он увидел меня из окна своей машины, когда я удирал из здания суда. Предложил подвезти. Мы заехали к нему домой…
«Ни слова больше, ни слова!» — мысленно приказал себе Рихард. Но, к его удивлению, Клаус и не задавал больше никаких вопросов. Видимо, ответ Рихарда хотя и удивил, но все же удовлетворил его.
А Рихард по-прежнему хотел объясниться.
— Уверяю тебя…
— Ладно, — прервал его Клаус. — Подождем до завтра. А теперь я ухожу. Приехал для того, чтобы выложить все, что я о тебе сейчас думаю. Прощай! — И вышел из комнаты.
Рихард опять остался один. И уже очень скоро нюрнбергские призраки снова окружили его со всех сторон. Но теперь среди них был и Клаус Рихарда теперь мучило не только то, что он услышал от Гамильтона, но и сознание, что ему, уже ему лично, предъявлено обвинение в срыве операции…
И в этот момент Рихард подумал о Герде… «Гер-да… Герда!..» — мысленно повторял Рихард. Он должен увидеть ее, говорить с ней, забыть обо всем на свете, кроме нее..
Но сможет ли он, перегруженный горестями, вести себя с Гсрдой как ни в чем не бывало, разговаривать о посторонних, чуждых ему вещах — об исторических местах Мюнхена, о его архитектуре, словом, о чем угодно, но не о том, что сейчас терзало его? И, кроме того, увидеться с Гердой значило бы еще раз нарушить один из категорических запретов Клауса и, следовательно, ко всем своим мукам прибавить еще одну…
И все же… Герда! Он хочет, должен увидеть ее… Рихард бросился к аппарату, стал лихорадочно набирать номер Герды.
— Слушаю!
В первое мгновение Рихард был не в состоянии произнести хоть слово — горло сдавил спазм. Но уже в следующею секунду со страхом, что Герда, не услышав ответа, может положить трубку, он крикнул:
— Герда! Здравствуй, дорогая! Это Рихард!
— А-а, Рихард! — доброжелательно отозвалась Герда. — Куда же ты пропал?
Эти ее слова, тон, каким она их произнесла, прозвучали для Рихарда чуть ли не признанием в любви. Сам не отдавая себе отчета в том, что он говорит, почти не слыша своего голоса, задыхаясь от волнения, Рихард обрушил на Герду поток слов:
— Я скучаю по тебе, Герда, мне очень одиноко, мне надо увидеть тебя, на улицах я высматриваю твою машину, дома гляжу на телефон в надежде, что ты позвонишь, что я снова услышу твой голос, прошу тебя, давай встретимся, где хочешь, когда хочешь, но мне надо… надо…
Рихард произнес все это без пауз, на одном дыхании и теперь запнулся, умолк.
— Ты знаешь, — после короткого молчания прозвучал в трубке голос Герды, — я… я тоже чувствую себя одиноко…
Тон, которым Герда произнесла эти слова, был несвойственным для нее. Обычно Герда говорила с ним несколько нравоучительно, или иронически, или даже чуть заносчиво. Но сейчас голос ее как-то поблек. В нем не было страшившего Рихарда безразличия, скорее в нем звучала какая-то затаенная грусть.
…Они сели за маленький двухместный столик, заказали макароны «по-неаполитански» и графинчик вина «Кьянти».
Рихард неотрывно смотрел на Герду. Ему казалось, что если он отведет от нее взгляд, то Герда исчезнет, растворится в клубах сигаретного, сигарного и трубочного дыма, плавающих в воздухе.
На Герде, как и в прошлый раз, была синяя кожаная куртка, и белокурые волосы ее были закручены в тугой клубок на затылке. Вот только глаза…
Рихарду показалось, что голубые глаза Герды как-то поблекли, потеряли свой обычный цвет. Или это только почудилось, потому что их голубизна стала не столь заметной, сливаясь с какой-то странной синевой под глазами.
«Косметика?» — подумал Рихард. Но, вглядевшись, понял, что никакой косметики на лице Герды не было. Что же изменилось в ее глазах? Ну, может быть, белки слегка порозовели, точно после бессонной ночи.
В ресторанчике играл одинокий скрипач, очевидно, итальянец. Играя, он прохаживался между столиками, иногда задерживаясь то у одного, то у другого, и наклонялся к посетителям, прежде всего к дамам…
Герда показалась Рихарду на этот раз сдержанной и даже печальной. И тем не менее никогда еще с момента совместного полета из Аргентины, никогда раньше Рихард не ощущал такой близости к ней, как сейчас. Он сказал Герде, что мучительно хотел позвонить ей все эти дни, но девушка ответила, что это было бы бесполезно, потому что три последних дня она провела во Франкфурте: у нее умерла мать. На Рихарда, который только что узнал о своей собственной елейной трагедии, слова Герды произвели тяжелое впечатление.
Он понял, почему так изменился цвет ее глаз, откуда синева под ними…
Конечно же, Герда плакала. Наверное, много плакала. Может быть, даже и тогда, когда она говорила с ним по телефону, лицо ее было мокрым от слез.
Рихард пробормотал:
— У меня дома тоже не все в порядке… — Подумал немного и добавил: — Тяжело заболел отец. — Потом, положив ладонь на лежащую на столике руку Герды и, сочувственно глядя в ее печальные глаза, заговорил снова: — Мне так хочется утешить тебя, милая Герда! Только знаю, словами, какими бы они ни были, горя не поправишь. Есть раны, залечить которые может только время.
— Спасибо, Рихард, — тихо сказала Герда. — Мы часто по самым случайным поводам произносим слово «никогда». Но истинное его значение познаешь только, когда теряешь близкого тебе, родного человека. Я не помню своего отца, но ведь я знала, что никогда его не увижу. Никогда… И вот теперь — мать. И снова «никогда»! Это… это просто не умещается в моем сознании. — Глаза Герды наполнились слезами. — Пока человек жив, — продолжала она, — всегда остается надежда. Я уверена, твой отец поправится.
«Нет, дорогая, нет! — мысленно произнес Рихард. — Для меня он фактически умер».
Они молча принялись за спагетти, густо посыпанные тертым сыром, запивая их глотками белого, очень терпкого вина. Потом официант принес «капучино» — кофе в длинных, прозрачных стаканах, над которыми возвышались горки взбитых сливок.
— Почему ты вдруг замолчал? — неожиданно спросила Герда.
— Я не могу, Герда, — ответил Рихард, которого ее вопрос не застал врасплох. — Я все время мысленно разговариваю с тобой. Говорю, как рад, что мы снова встретились, что все это время думал о тебе, что уже несколько раз порывался позвонить по телефону, но боялся, понимаешь, боялся!
— Чего же?
— Твоего отказа. Твоих слов: «Позвони как-нибудь в другой раз».
— Теперь я бы уже так не сказала… — задумчиво произнесла Герда. — Похоронив мать и вернувшись домой, я почувствовала себя очень одиноко. И подумала: почему ты не даешь о себе знать?
— Это правда, Герда?
— Я бы не хотела, — чтобы в наших отношениях была ложь.
Рихард ничего не ответил, но с горечью подумал, что все-таки они не совсем откровенны друг с другом. Она… она не до конца говорит ему о своих политических убеждениях, а он скрывает от нее горе, которое его постигло. И тем не менее как хорошо, что они сейчас вместе! Волнуясь, Рихард опять накрыл ладонью лежащую на столе руку Герды.
«Какая у нее мягкая кожа… и рука такая теплая…» — подумал он.
— Не надо, — сказала Герда, — на нас смотрят.
— А мне наплевать, пусть! — горячо произнес Рихард.
Однако Герда убрала руку, несмотря на то, что ей было приятно его прикосновение. «В чем дело? — спросила она себя. — Что со мной происходит?»
Они вышли на улицу. Было еще не поздно, часы Рихарда показывали всего без десяти десять.
— Давай погуляем немного, — предложил Рихард. — Видишь, какой хороший, теплый вечер! Специально для нас…
Он взял Герду под руку и повел в сторону, противоположную той, где стояла ее машина. Герда не сопротивлялась. Движением руки она слегка подтянула рукав своей кожаной куртки, и Рихард смог сжать своими пальцами ее оголившееся запястье. Хотя, судя по всему, они находились далеко от центральной части города, улица была хорошо освещена светом витрин магазинов, неоновыми рекламами…
Неподалеку Рихард увидел какой-то сквер. Между деревьями был виден свет. Очевидно, там располагалось кафе или пивная.
— Пойдем, посидим где-нибудь на скамейке под деревом. — И Рихард повел Герду в сторону сквера.
Герда подчинилась Рихарду столь послушно, что ему показалось, куда бы он ее ни повел, что бы ни предложил, она так же покорно подчинилась бы его желанию. Они уселись на скамье под старой ветвистой липой, и Рихарду захотелось, чтобы ее ветви скрыли его с Гердой от прохожих, от всего мира.
— Герда, — немного задыхаясь от вновь охватившего его волнения, сказал Рихард, — тебе может показаться, что я обманываю тебя, когда говорю, что не могу без тебя, не могу знать, что ты где-то рядом, но невидима и недостижима… Я понимаю, у меня нет никаких прав на тебя, я ни на что не могу надеяться… Да, мы провели долгие часы вместе в самолете. Потом встретились еще, но только один раз. И вот сейчас — это наша третья встреча. Только третья!.. Могу ли я поверить, что у тебя есть какое-то чувство ко мне? И можешь ли ты поверить в мою искренность? И потом, кто я такой? Недоучка, без специальности, без работы, живущий на деньги, которые посылают мне родители. Кому я нужен?
Он не придумывал, не подготавливал слова и фразы, которые произносил, они рождались где-то в глубине души и срывались с его губ как бы помимо воли… Да, так было, и Герда не могла не почувствовать этого.
— Мне тоже хорошо с тобой, Рихард, — тихо сказала она, чуть придвигаясь к нему. И тогда Рихард решился… Он обнял Герду, обнял не сильно, робко, едва касаясь ладонью ее плеча. Так они сидели, не произнеся больше ни слова, точно их души и в самом деле молча разговаривали между собой.
…Больше между ними ничего не произошло. Когда Герда подвезла Рихарда к его гостинице, он, прежде чем выйти, неуверенно сказал:
— Может быть, зайдешь ко мне, Герда? Всего на несколько минут.
Она отрицательно покачала головой.
— Тогда, — сказал Рихард, теряя последнюю надежду, — может быть, мы подъедем к твоему дому и я зайду к тебе? А потом я дойду домой пешком…
— Нет, — тихо, но решительно произнесла Герда. И после паузы добавила: — Не сейчас… не сегодня…
И вот Рихард снова в своей комнате. И снова один. Но это было уже совсем другое, непохожее на недавнее одиночество. Сознание, что он вновь обрел Герду, ощущение, что она и сейчас рядом с ним, не оставляли Рихарда ни на минуту. Он боялся потерять это ощущение, боялся, что его вновь захватят мысли, которые еще недавно так угнетали его. Он посмотрел на часы, увидел, что время близится к одиннадцати, и сказал себе: «Спать! Немедленно спать! Утром решу, что делать дальше».
Рихард быстро разделся и потушил свет. Но и в наступившей тьме ему чудился образ Герды. Ему хотелось как можно скорее уснуть, уснуть, пока Герда еще где-то здесь, рядом…
Сколько он проспал? Час, два, три?.. Рихард не смог бы ответить на этот вопрос. Он вздрогнул, как or сильного толчка, не сразу поняв, что именно его разбудило. Но спустя несколько секунд уже догадался: эго телефон. Звонки следовали один за другим.
«Кто бы это мог быть? — с тревогой подумал Рихард. — Кому я понадобился среди ночи!»
— Алло, слушаю! — поспешно крикнул он.
— Это я, — услышал Рихард голос Клауса. — Ты что, нарочно не подходишь к телефону?
От звонка Клауса Рихард не мог ждать ничего хорошего.
— Я уже спал, — недовольным тоном ответил он.
— Спа-а-л? — удивленно протянул Клаус. Рихард взглянул на часы: было двадцать минут первого — и резко ответил:
— А что я должен был бы делать в такое время?
— Ну, мало ли что! — с усмешкой, как показалось Рихарду, произнес Клаус. — Мог бы, например, посмотреть ночные «Последние известия».
— А что интересного я бы там увидел? — на этот раз уже почти грубо произнес Рихард.
Но на Клауса резкость тона Рихарда, видимо, совсем не подействовала.
— Ну, кое-что увидел бы, вернее, услышал. Например, о попытке коммунистов похитить из зала суда некоего Борха.
Рихард вздрогнул и крепче прижал трубку к уху.
— Что ты говоришь? — еще не до конца осознавая то, что сказал Клаус, переспросил Рихард.
— То, что ты слышишь. Красные совсем распоясались в нашей стране! И куда только смотрит полиция?! Диктор сказал: на суд напали коммунисты в масках, разбросали свои большевистские листовки, хотели похитить Борха, но им это не удалось. Борх снова заключен в тюрьму. Словом, интересное сообщение, прямо как детективный роман. Посмотрим, что завтра будет в газетах.
— Спасибо, что рассказал мне, Клаус! — взволнованно произнес Рихард. — Это все?
— А тебе этого мало? Ладно, желаю сладкого сна. Кстати, завтра заходи ко мне, я верну твою игрушку… Ну, этот… магнитофон. Все. Пока!
Герда
С тех пор прошло больше двух месяцев. В начале каждого из них Рихард получал из Буэнос-Айреса от того, кого по-прежнему считал своим отцом, письма и довольно крупные денежные суммы, получил письмо и от Гамильтона, уже из Соединенных Штатов. Он писал Рихарду, что все его попытки встретиться с ним до отъезда или хотя бы поговорить во телефону ни к чему не привели, и ему стало ясно, что Рихард избегает его Одновременно с письмом на имя Рихарда от Гамильтона пришел довольно солидный денежный перевод. Присланные деньги Рихард тут же отправил назад, по адресу, указанному в письме.
После того, памятного Рихарду вечера, на другой день, он прочел в газетах сообщения, схожие по содержанию с той телепередачей, о которой ему рассказал Клаус. Большинство из них изложили происшествие в суде как попытку «красных» вызволить сообщника. Цель «акции» оправдалась. И лишь одна газета, которую Рихард не удосужился прочесть, коммунистическая «Унзере Цайт», охарактеризовала налет как нацистскую провокацию. Но Клаус, который показал Рихарду эту газету, сказал, что на нее не стоит обращать внимания, что тираж ее ничтожен, а занятая ею позиция никого не убедит.
Заметка в «Унзере Цайт» была напечатана без подписи как редакционная информация, но Клаус не без ехидства заметил Рихарду, что, «наверное, тут не обошлось без твоей Герды».
— Нет, уверен, что нет! — вырвалось у Рихарда.
— Откуда такая уверенность? Ты что, видел ее после того, как приехал в Мюнхен? — с подозрением спросил Клаус.
— Если бы заметку написала Герда, то она должна была бы находиться вчера в зале суда. И тогда я наверняка бы увидел ее. Да и ты тоже. Верно?
Клаус пожал плечами и ничего не ответил: видима, довод Рихарда показался ему убедительным.
За время, прошедшее с момента того памятного свидания с Гердой, многое в жизни самого Рихарда изменилось. Он осуществил свое желание и с помощью Клауса приобрел за относительно небольшую сумму маленькую двухкомнатную квартиру в доме, принадлежавшем доживающему свой век бывшему национал-социалисту, знавшему, как оказалось, по совместной службе отца Рихарда, которого тогда еще звали Адальбертом Хессенштайном.
За квартирой последовала покупка машины, подержанного, прошедшего уже несколько десятков тысяч километров «оппель-кадета». Текущий счет Рихарда в «Коммерц-банке» значительно «потощал», но все же обеспечивал ему безбедный прожиточный минимум, учитывая регулярные поступления из Буэнос-Айреса.
Все это время Рихард не раз встречался с Гердой в городе, стараясь организовывать свидания в таких местах, где почти не было шансов на случайную встречу с Клаусом. А потом… Потом Герда после очередного свидания подвезла Рихарда не к гостинице, в которой он тогда еще жил, а к своему дому. И тихо сказала: «Зайди!»
…Вот тогда это свершилось… Они ни о чем не договаривались заранее и, может быть, еще за полчаса не знали, не думали, что это произойдет.
Герда приготовила кофе, они сидели в ее однокомнатной квартире, в креслах возле маленького столика, на три четверти заваленного газетами и журналами. Они пили кофе молча, в последнее время Рихард получал особое удовольствие от этих бессловесных бесед, которые исключали какие-либо неожиданные вопросы, не заставляли Рихарда искать осторожные, окольные ответы. В эти минуты они, по крайней мере Рихард, чувствовали, что им хорошо вдвоем, просто хорошо без всяких попыток как-то выяснить, объяснить друг другу свое состояние.
А потом… уже потом они молча и опять-таки безмолвно лежали в темноте, время от Бремени освещаемые фарами проезжающих мимо дома автомашин. Наконец Рихард тихо, точно кто-нибудь, кроме Герды, мог его услышать, сказал:
— Милая! Я вот сейчас лежу и думаю, как это могло произойти, что мы большую часть нашей жизни не знали друг друга? Наверное, у бога слишком мнрго было дел и он не смог раньше свести нас!
— Ты веришь в судьбу? — так же тихо спросила Герда.
— А ты?
— Нет, не верю. Человек в конце концов поступает так, как подсказывает ему разум.
— А сердце?
— Да, конечно, и сердце. Но и то и другое в отдельности может обмануть. А вместе — никогда.
— Ты всегда поступаешь так, как тебе велит разум и сердце?
— Я стараюсь так поступать.
Рихард просунул руку под голову Герды. А она стала гладить его лицо, едва-едва прикасаясь кончиками пальцев. Когда они доходили до губ Рихарда, он целовал ее пальцы и еще крепче прижимался к ней. Потом приподнялся и стал целовать ее глаза. И вдруг почувствовал на своих губах легкий соленый привкус. Он быстро высвободил руку, которой обнимал Герду, и положил обе ладони на ее глаза. Да, они, конечно, были влажными.
— Что с тобой, Герда, дорогая? — с испугом воскликнул Рихард. — Ты плачешь? Ты раскаиваешься в том, что случилось?
— Нет, Рихард, нет! — поспешно ответила Герда. — Прости меня. Прости, что в такой момент я вдруг вспомнила о своей бедной матери. Представила, как она лежит в земле… одна… одна в бесконечности. И я, ее единственная дочь, уже ничего не могу для нее сделать. Освободить от пластов земли… сбросить крышку гpo6a… помочь ей подняться, встать. — Герда, родная моя, забудь об этом, забудь хотя бы на время, не растравляй свою душу!
Рихард мучительно думал, какие найти слова, что бы сказать, чтобы утешить ее. И вдруг у него вырвалось:
— У меня тоже недавно случилось горе. Я тоже потерял отца!
— Ты?! — с удивлением спросила Герда. — Но почему ты мне ни слова не сказал об этом? От чего он умер?
— Рак, — произнес Рихард первое пришедшее ему в голову. И тут же подумал о том, что опять сам же воздвиг между ними недоговоренность и умолчание.
— Но почему же, — с еще большим недоумением повторила Герда, — почему ты ничего не сказал мне об этом?
— Я не хотел прибавлять к твоему горю еще и свое, — продолжал лгать Рихард, одновременно уговаривая себя, что, по существу, говорит правду. Он крепче прижал к себе Герду и почти прошептал ей на ухо: — Герда, давай забудем… На какое-то время забудем о своих горестях. Мы оба не виноваты в том, что случилось. Давай думать о будущем! Ведь мы теперь очень близкие друг другу люди.
— Хорошо, — покорно согласилась Герда. — Попробуем забыть и думать о будущем.
Рихард нежно провел ладонью по ее ставшим уже сухими глазам, погладил ее голые плечи, как бы желая усыпить ее, отвлечь от грустных мыслей…
Да, все это время Рихард жил как бы двойной жизнью. Принимал активное участие в деятельности группы Клауса, — в налетах на коммунистические собрания, охраняя сходки национал-демократов, срывая по ночам предвыборные плакаты ГКП или рисуя на них свастику.
Он жил двойной жизнью и как бы в двух мирах. Одним из них был мир борьбы за восстановление Германии как четвертого рейха, за победу НДП на предстоящих выборах. В этом мире для Рихарда царил, распоряжался его судьбой Клаус, его приказы были для него непререкаемы…
Все, кроме одного: запрещение не только видеться с Гердой, но даже думать о ней. Потому что Герда с каждым днем все более и более олицетворяла для Рихарда другой, чуждый тому, первому, мир.
Нет, для Рихарда этот мир был далек от политики, он даже не интересовался, действительно ли Герда связана с компартией. Рихард знал, чувствовал лишь одно: ставшие теперь близкими отношения с Гердой задевали в его душе какие-то донные, неведомые ему струны, его безотчетно, неумолимо влекло к ней.
Ну, а Герда? Чем мог завоевать ее этот странный, импульсивный парень, сочетавший в себе зрелость мужчины с инфантильностью подростка? Очевидно, она сердцем ощущала всю глубину чувства, которое испытывал к ней Рихард, и противостоять этому чувству была не в состоянии.
Да, он еще не знал, что Герда была коммунисткой, членом Германской коммунистической партии. И, хотя Рихард никогда прямо не говорил ей о своих симпатиях к НДП, она подсознательно чувствовала, что он придерживается чуждых ей политических взглядов. Но и она, и он, подобно двум кораблям, идущим по изобилующим мелями и подводными рифами житейскому морю, сознательно и в то же время инстинктивно избегали опасных мест, старательно их обходили.
Может быть, Рихард думал, что своей любовью, пусть не сейчас, позже, но все же сумеет привлечь ее на свою сторону и политически? Но, может быть, Герда то же самое думала о Рихарде?
Так или иначе они продолжали встречаться. Когда Герда разрешила Рихарду приходить к ней домой, ему стало легче соблюдать свою тайну от Клауса. Тем более что после истории с Борхом тому не в чем было упрекнуть Рихарда. Он аккуратно, дисциплинированно выполнял все решения группы и личные приказания Клауса. Рихарду казалось, что чем активнее он будет принимать участие в «акциях», чем безжалостней будет к врагам национал-социализма, тем менее преступной станет его связь с Гердой, тем скорее искупит он позор своего рождения.
Утром одного из августовских дней толпы народа стояли на тротуарах Мюнхена. Люди, запрокинув головы, смотрели в голубое небо, в котором хорошо различимый самолет проделывал фигуры высшего пилотажа.
Время от времени он оставлял за собой струю белого дыма, рисуя огромные буквы:
НДП
Такую «воздушную рекламу» жители города видели впервые. Самолет время от времени исчезал, очевидно, продолжая свой акробатический полет над другими, соседними городами, потом возвращался вновь, оставляя за собой белый след — НДП.
Днем телевидение сообщило, что самолет пилотировался старым немецким летчиком Гельмутом Васкампом, который, заключив соответствующий договор с руководством НДП, в солнечные дни стартовал с дюссельдорфского аэродрома и на своем одномоторном самолете «АТ-6» «отрабатывал» количество закупленных букв.
…Днем на квартире Клауса состоялось очередное собрание группы. Клаус сказал, что руководство одобрило предложенный им от имени группы план захвата какого-нибудь универмага, и приказал, чтобы за предстоящую неделю, оставшуюся до реализации плана под кодовым названием «Супермаркет», члены группы выбрали подходящий магазин, познакомились бы с расположением прилавков, кабин для примерки одежды, входов и выходов…
Рихард с нетерпением ждал окончания собрания. На вечер у него было назначено свидание с Гердой. Даже после приобретения квартиры Рихард остерегался приглашать ее к себе домой, где всегда можно было ожидать внезапного, без предварительной договоренности, посещения Клауса.
К восьми вечера Рихард поехал к Герде, оставил свою машину на параллельной улице, включил противоугонную «секретку» и пошел к дому, где жила Герда, пешком.
Она, увидев Рихарда, развела руками, сказала, что дома у нее ничего нет, даже кофе, что она лишь полчаса назад вернулась из редакции своего «женского журнала», очень спешила, боялась, что Рихард ее не застанет, и поэтому ничего съестного по дороге не купила.
Герда призналась, что хочет есть, Рихард ответил, что тоже еще не обедал, и они решили пойти в тот самый, расположенный неподалеку в сквере, на открытом воздухе, ресторанчик, защищенный от любопытных взглядов густыми кронами деревьев.
Еще совсем недавно они с Гердой сидели неподалеку от этого кафе или ресторана на скамейке, укрытые густыми ветвями деревьев. Это была их «переломная» встреча.
Они вышли из дома и направились в сквер, туда, где меж деревьев пробивался свет расставленных на столиках свечей. Сев за столик, заказали самую обычную немецкую еду — сосиски с тушеной капустой, пиво, несмотря на то, что Герда его не любила, и кофе.
Все главное между ними уже было сказано, и сейчас они просто наслаждались тем, что снова вместе… И в этот момент раздался чей-то громкий возглас:
— Герда!
Рихард вздрогнул. Привычный страх, что его может увидеть с Гердой если не сам Клаус, то кто-нибудь из членов группы, охватил Рихарда. Он поспешно огляделся и увидел, как из-за одного из столиков, едва заметных среди зеленых ветвей, встал какой-то человек и направился к ним.
При тусклом свете свечей Рихард не сразу разглядел его лицо, не смог определить, молод или стар. На нем был хорошо сшитый костюм из поблескивающей материи.
— Чао, Герда! — сказал он, подходя вплотную к столику, за которым сидели они с Рихардом. — Как ты сюда забрела?
Рихард увидел, что человек этот молод, лет тридцати, не больше, аккуратно подстрижен и причесан.
По фамильярности его тона, по тому, что он называл Герду на «ты», Рихард понял, что они старые знакомые.
— Ты отлично знаешь, Герберт, что я живу тут рядом.
— Да, это я знаю. Но, может быть, ты познакомишь меня со своим кавалером? — Герберт иронически сощурил глаза.
— Это не мой кавалер, а просто хороший знакомый, — сухо ответила Герда — Его зовут Рихард Альбиг.
— Хелло, герр Альбиг! — прежним своим тоном произнес Герберт и протянул Рихарду руку. Тот встал и пожал ее — Вот что, друзья, — весело проговорил Герберт, — а можно я присоединюсь к вам? Я один, окруженный свечами, точно покойник в гробу.
Рихард заметил, как дрогнули губы Герды, и подумал, что этот Герберт, наверное, не знает о ее недавнем горе, иначе не стал бы напоминать о покойниках. Тем не менее Герда гостеприимно сказала:
— Давай перебирайся к нам!
Герберт быстро перетащил свою тарелку и недопитую кружку пива на их столик, сел на свободное плетеное кресло и, подняв кружку, провозгласил:
— Ну, прозит. За знакомство!
Они с Рихардом сделали по глотку каждый. — А что делаешь в этом районе ты? — спросила Герда.
— Если говорить откровенно, хотел повидать тебя. Но наткнулся на запертую дверь.
— Почему же ты сначала не позвонил?
— Сам не знаю, — с улыбкой пожимая плечами, ответил Герберт. — Я был на совещании. А когда оно кончилось раньше, чем ожидалось, вышел на улицу, вспомнил, что ты живешь тут неподалеку, и решил зайти, как говорится, «на огонек». Но никакого «огонька» не было, ты в это время уже пировала здесь. К счастью, я проголодался, иначе не забрел бы сюда, в этот «эдем», и не увидел бы тебя.
Рихарду не понравилось, что они — Герберт и Герда — разговаривали сейчас друг с другом, как бы забыв о его присутствии. И он решил вмешаться в разговор, причем сделал это не самым удачным образом. Рихард спросил, обращаясь к Герберту на «вы»:
— А что за совещание у вас было?
— Ну… в связи с предстоящими выборами, — ответил Герберт.
Рихард заметил, что при этом он вопросительно посмотрел на Герду, а та сделала еле заметный отрицательный знак головой. Рихард почувствовал острую неприязнь к этому Герберту. Ему захотелось спровоцировать его, вызвать на политический разговор, заставить раскрыться.
— Видели вчера самолет, который рисовал в воздухе буквы?
— НДП? — спросил Герберт. — Один из предвыборных трюков так называемых национал-демократов.
— Рихард плохо осведомлен о наших межпартийных распрях, — поспешно вмешалась в разговор Герда. — Он недавно приехал из Аргентины. Хочет поступить в наш университет. На исторический.
— А-ах, вон оно что! — с пониманием и вместе с тем с удивлением признес Герберт. — Значит, вы познакомились, когда ты была там, в Аргентине?
— Мы познакомились в самолете, на пути в Германию То, что между Гердой и Гербертом явно существовали какие-то отношения, и ироничный, насмешливый тон, которым говорил, обращаясь к нему, Рихарду, этот человек, и тот самый кивок, которым Герда явно дала знать Герберту, чтобы тот не распространялся на политические темы, — все это, вместе взятое, вызвало у Рихарда еще большее раздражение.
Ему стало казаться, что если он не перейдет в наступление, то явно уронит себя не только в глазах Герберта, но и Герды. Еще совсем недавно зорко следивший за тем, чтобы не выдать Герде своих политических взглядов, не говоря уже о прямом участии в деятельности НДП, Рихард сейчас хотел только одного: любым способом как-то скомпрометировать этого Герберта в ее глазах.
— По-вашему, НДП не имеет права на предвыборную кампанию? Это вы называете демократией? — глядя прямо в глаза Герберту, едко спросил Рихард.
— Ну, — с коротким смешком ответил тот, — по-моему, НДП и демократия — понятия, далекие друг от друга так же, как северный и южный полюса.
«Он коммунист, — подумал Рихард, — несомненно, коммунист!» Тот факт, что Рихард видел перед собой живого враги, раздразнило его еще больше.
— Почему вы с такой злостью говорите об НДП? — спросил он. — Насколько я знаком с программой НДП, она просто отстаивает право народа Германии на формирование своей судьбы.
— Поживете в нашей стране подольше, тогда поймете, что к чему, — снисходительно произнес Герберт.
— Вы, как я догадываюсь, коммунист?
— Гм-м, — неопределенно промычал тот и сказал уже внятно: — Во всяком случае, в чем-то сочувствующий.
— Друзья, перестанем говорить о политике, — неожиданно вмешалась в разговор Герда. — Давайте лучше закажем еще пива… или кофе.
Но Рихард и Герберт как бы пропустили ее слова мимо ушей.
— Значит, вы сочувствуете и захватнической политике коммунистов? Их насильственным притязаниям? — продолжал провокационные вопросы Рихард.
— Что вы имеете в виду?
— А вам неясно? Значит, вы не считаете захват исконных немецких земель и расчленение Германии насильственными действиями? Вы за признание окончательного раздела Германии?
— Послушайте, герр Альбиг, — спросил, уже не скрывая своей неприязни, Герберт, — вы что, национал-демократ?
— Я… я просто немец, человек, который считает, что примирение с этим разделом означает предательство интересов народа!
Герберт ничего на это не ответил, наступило напряженное молчание…
Стремление этого Герберта высмеять политические взгляды Рихарда, непроницаемую завесу которых он так неосторожно приоткрыл, свидетельствовало не только о явной враждебности Герберта этим взглядам, но и о желании унизить его, Рихарда, высмеять перед Гердой. И та не произнесла ни слова в его поддержку, даже не постаралась дать ему понять, что Герберт просто ее старый знакомый, может быть, сослуживец и только…
На другой день, вечером, приехав домой к Герде, Рихард попытался заговорить о вчерашней встрече, иронически, неприязненно отозвался о Герберте, стараясь по тому, как будет реагировать на это Герда, определить ее подлинное к нему отношение. Но ничего подозрительного не заметил. Герда сказала, что уже давно знакома с Гербертом, что он работает в издательстве, издающем «женский журнал», и что никогда не интересовалась его политическими взглядами, хотя и предполагает, что они достаточно «левые».
«Нет! — уже несколько успокоенный, сказал про себя Рихард. — Между ними ничего нет. Так притворяться Герда бы не смогла».
…Расставшись с Гердой после полуночи, Рихард вернулся домой, а на другой день с утра приехал на своем недавно приобретенном «оппеле» в центр города, оставил машину в одном из переулков и, выполняя поручение Клауса, стал обходить встречающиеся ему, расположенные на первых этажах универсальные магазины, стараясь определить, какие из них наиболее подходят для предстоящей на следующей неделе «акции».
Но к вечеру, когда Рихард вернулся домой, в свою новую квартиру, мысли о Герде и Герберте снова нахлынули на него. Ему стало казаться, что Герберт сейчас находится у Герды или она ждет его прихода. Сначала Рихард решил позвонить ей, но тут же понял, что в этом случае ничего не сможет узнать. И вдруг ему пришла в голову нелепая мысль: он сейчас, немедленно должен поехать к дому Герды и проследить, не войдет ли в него Герберт или не выйдет ли он из подъезда.
Он быстрым шагом дошел до ее дома и занял наблюдательный пункт в подворотне одного из дворов, на противоположной стороне. Отсюда он хорошо видел подъезд и окна первого этажа дома Герды. Окна были освещены — значит, она у себя.
Как уже не раз в последнее время, Рихард находился сейчас в состоянии амока — смятении чувств. Он не думал о том, сколько ему придется ждать. Сейчас было около восьми вечера. Если Герберт появится, думал он, то скоро, а если он уже у Герды, то выйдет из подъезда, возможно, часам к двенадцати ночи. Рихард установил себе контрольный срок — с восьми до двенадцати — четыре часа.
Единственное, что Рихард еще не решил, это что он сделает, если увидит Герберта приближающимся к подъезду или выходящим из него. Да он и не думал об этом сейчас. Им владело непреодолимое желание, своего рода категорический императив: убедиться в верности или неверности Герды.
Не думал Рихард и о нелепости своего намерения: ведь если даже предположить, что между Гердой и Гербертом существовала какая-то интимная связь, то почему они должны были встретиться именно сегодня вечером, а не завтра или в любой другой день недели? И почему, если Герберт придет к Герде сегодня, то должен уйти к двенадцати, а не остаться у нее до утра?..
Рихард не помнил, сколько он простоял таким образом, переводя взгляд с подъезда на освещенные окна Герды… Иногда ему казалось, что он видит за тюлевыми шторами, прикрывавшими эти окна, сначала силуэт Герды, потом еще какой-то другой, силуэты двигались, приближались друг к другу, сливались воедино… Один раз Рихард не выдержал и перебежал на противоположный тротуар, чтобы оказаться рядом с окнами… Но, простояв под ними несколько минут, понял, что эти силуэты были просто игрой его воображения.
Лавируя в потоке движущихся машин, Рихард вернулся на свой наблюдательный пункт.
…Он не заметил, каким образом возле него оказался полицейский.
— Что вы здесь делаете, майн герр? — сверля Рихарда взглядом и держа правую ладонь на кобуре пистолета, спросил он. — Я наблюдаю за вами уже около двух часов. Мой пост на той стороне улицы.
Все это было для Рихарда столь неожиданно, что он не сразу сообразил, что ответить. Потом сбивчиво произнес:
— Я — у меня… Мне здесь назначено свидание. — И добавил уже более определенно: — С девушкой.
— Если девушка не приходит на свидание в течение двух часов, то она недостойна того, чтобы уважающий себя мужчина ее ждал. Если, конечно, у нее нет уважительной причины.
— Да, да, вы правы, — уцепившись за последнюю фразу полицейского, быстро проговорил Рихард. — Наверное, с ней что-то случилось… Может быть, заболела. Я сейчас уйду, господин полицейский, и позвоню ей из дома по телефону.
— На вашем месте я сделал бы это по крайней мере полтора часа назад, — снисходительно заметил полицейский.
Выстрел
Предвыборная борьба в Германии разгоралась. Теперь против НДП стали наиболее активно выступать профсоюзы. В Эссене, например, НДП арендовала большой зал, чтобы провести очередной предвыборный митинг. Но когда члены партии подъехали на автобусах, то оказалось, что зал заседаний заняли две тысячи рабочих и проводят там свое собрание.
Американская «антикоммунистическая лига» прислала в Германию своего представителя, профессора из Чикаго, который на большом митинге, организованном НДП в Даррингене, произнес речь, почти целиком напечатанную в «Дойче Националь Цайтунг», в «Дер Таг» и в «НДП Курир».
В этой речи искушенный в красноречии профессор заявил:
«…Если НДП обзывают нацистской партией, то такой яр(лык ей приклеивают не за границей: это делают здесь, в Германии… Мы, американцы немецкого происхождения, — продолжал оратор, — и поныне храним верность Германии и боремся за ее восточною территорию. Мы от этого не отступимся, потому что землю, которую немцы возделывали на протяжении восьмисот лет, нельзя просто так отдать за какие-нибудь два десятилетия. И если находятся политические деятели, которые уже сейчас готовы отказаться от этих территорий, то — не обижайтесь на меня — в моих глазах они предатели!»
Профессор закончил свою речь следующими словами:
«В рамках демократической системы нельзя запретить партию, будь то христианские социалисты, социал-демократы или какую-либо другую. Все они имеют право на свое мнение и на деловую дискуссию. И если против этой новой национальной партии всеми средствами ведется борьба, то мы должны сказать: видимо, кое-кто в Бонне чувствует, что под ним шатается стул…»
Еще в недавнем прошлом многое говорило о том, что НДП идет от успеха к успеху. Ее представители стали депутатами в ландтагах Рейнланд-Пфальца, Шлезвиг-Гольштейна, Нижней Саксонии, Баден-Вюр-тенберга, а также в парламенте Бремена. Но в 1969 году положение стало меняться. Если еще совсем недавно наиболее право настроенные иабиратели отходили от ХДС/ХСС вследствие создания «Большой коалиции» и стали поддерживать НДП, соблазненные ее радикальными обещаниями в кратчайшие сроки не только ликвидировать безработицу, но и вообще восстановить былое могущество Германии, то, убедившись, что слова остаются только словами, обманутые в своих ожиданиях, перестали поддерживать НДП.
Более того, «Большая коалиция», то есть ХДС/ХСС совместно с социал-демократами, перешла к более гибкой «восточной политике», сделала проблему формирования отношений с социалистическими странами предметом широких, открытых дискуссий, это тоже возбудило брожение умов, в особенности у тех немцев, которые до сих воспринимали как «истинно германские» только лозунги НДП.
Снова в повестку дня различных митингов и дискуссий стала нота Советского правительства правительству ФРГ, с которой Москва выступила еще два года назад в связи со съездом НДП в Ганновере. В этом документе Советское правительство напоминало и правительству Федеративной республики, и правительствам ряда других стран — тех, кто раньше входил в антигитлеровскую коалицию, а теперь объединенных в агрессивном блоке НАТО, — об их международно-правовом долге.
Но тот факт, что советская нота была оставлена Бонном и вообще странами НАТО без внимания, усилил в ФРГ антифашистскую борьбу, активизировал профсоюзы. Антифашистские настроения в стране все более усиливались. В 1968 году в Мюнхене был создан комитет «Январь-68». Его председателем стал писатель и президент «Немецкой лиги в защиту прав человека» Франк Арнау, а заместителями — баварский профсоюзный деятель Ксавер Зенфт и писатель Бернт Энгельман. В связи с тридцать пятой годовщиной прихода нацистов к власти «Январь-68» провел в Мюнхене антифашистскую демонстрацию. В том же году в Дахау состоялся Европейский слет протеста против фашизма и неонацизма. В нем участвовали 15 тысяч человек. Его участники выступили за европейскую безопасность и взаимопонимание между народами…
Какой вывод сделало из всего этого руководство НДП? Только один и главный: надо действовать — объявить беспощадную войну антифашистам и прежде всего коммунистам, натравить на них ту часть еще окончательно не сформировавшего своих взглядов населения, которая смогла бы сыграть решающую роль на выборах в сентябре нынешнего, 1969 года.
Неоштурмовики из группы Клауса, конечно же, не проникали в хитросплетения западногерманской политики. Но, связанные через тайные каналы с ее различными сторонами, они глубоко усвоили главную цель своего нынешнего существования. Эта цель определялась двумя словами — провокации и террор.
«Политика» группы Клауса, если ее действия можно было называть этим словом, развивалась в двух направлениях: во-первых, показать населению, что НДП существует, что она является единственной в Германии партией дела, а не слова, а во-вторых, восстановить немцев против Коммунистической партии Германии. Для этого они прибегали к несколько однообразным, но обычно успешным провокациям, — вступали в драки с коммунистами и социал-демократами, громили книжные магазины, в том числе и принадлежавшие НДП, и обязательно оставляли на месте преступлений листовки, из которых следовало, что инициатором драк и погромов неизменно была Германская компартия.
Рихард целиком одобрял тактику НДП и если видел в ней какие-нибудь недостатки, то прежде всего в том, что главное направление ее политики, то есть явный, почти открытый террор, несколько отставало от акций чисто пропагандистского характера.
«Действовать, надо действовать!» — неоднократно повторял мысленно Рихард. Он сравнивал заискивающие, как ему казалось, интервью и речи фон Тадде-на, нынешнего руководителя НДП, со множеством оговорок чисто парламентского характера и думал о том, как бы повел себя на его месте подлинный вождь, то есть фюрер…
Когда Рихард узнал из газет, что в Кесселе Клаус Коллей, один из телохранителей фон Таддена, выстрелил в двух антифашистов, то этот неизвестный Рихарду Коллей стал на какое-то время его героем…
Он спрашивал себя: почему прошлогодний налет на здание, где помещалось боннское бюро ГКП, налет, сопровождавшийся стрельбой по окнам, не имел никакого продолжения? Почему подобные акции не производятся сейчас?
Рихард, этот еще молодой, но уже сформировавшийся нацист, никак не мог понять, усвоить разницу между Германией далеких двадцатых — тридцатых годов и нынешней ФРГ, хитросплетения боннской политики казались ему легкоразрешимыми, если десятки тысяч людей возьмут в руки пистолеты и дубинки.
За два дня до предполагаемой «акции», налета на универмаг, основной состав группы Клауса вновь собрался у него на квартире.
Каждому было предложено слово для сообщения, какой именно универмаг он предлагает в качестве объекта для нападения. Одно за другим предложения отвергались по различным причинам: или в предлагаемом районе было слишком много полицейских постов, или пути отхода оказывались неудобными, или кассы предлагаемого магазина располагались слишком близко одна от другой.
Общее одобрение вызвал только один план, тот, который предложил Рихард. Он недаром потратил много времени, обходя «супермаркеты». В «его» магазине было только два входа и выхода, кассы находились на значительном расстоянии друг от друга; только в двух местах, на серых, поддерживающих потолок колоннах, под стеклом, располагались кнопки противопожарной сигнализации, хотя это, конечно, не исключало наличия под прилавками другой сигнализации, связанной с полицией.
Клаус предложил, не теряя времени, всем вместе отправиться и осмотреть этот магазин, а через полтора часа вновь собраться и обсудить все еще раз.
Предложенный Рихардом объект, как выяснилось, удовлетворил всех. Затем Клаус провел последний инструктаж. Он сводился к тому, что члены группы должны, как и при налете на суд, получить у него оружие, иметь при себе маски-чулки. Сигналом для того, чтобы надеть их и приступить к действиям, послужит отданный через мегафон приказ Клауса «Всем лечь!» и предупредительный выстрел в воздух, который произведет он же.
Одновременно все должны будут натянуть маски, выхватить оружие и направить его на тех, кто к этому времени будет находиться в магазине; трое должны стоять у касс и держать под прицелом кассиров, двое других блокируют застекленные двери и наклеивают изнутри объявление «Закрыто», чтобы никто с улицы не мог ни войти в магазин, ни выйти из него. Остальные изымают из кассы все имеющиеся там деньги.
На всю операцию отводится пятнадцать минут. Затем по команде «Отход!» все разбрасывают листовки и устремляются к дверям, оказываются на улице, стараются смешаться с прохожими или скрываются в ближайших дворах или подъездах.
Сбор для подведения итогов операции на другой день в девять утра здесь, на квартире Клауса. Захваченные деньги необходимо принести с собой.
Затем посыпались вопросы. Клауса спрашивали, в каких случаях можно будет пустить в ход оружие, не целесообразно ли дать очередь из автоматов поверх уложенных на пол людей, чтобы сразу же парализовать их волю к какому-либо сопротивлению, и, главное, что будет написано в листовках, поскольку прежние тексты вряд ли подойдут: изъятие денег не характерно для тактики коммунистов. Когда был задан именно этот вопрос, Клаус встал из-за стола, вышел в соседнюю комнату и, вернувшись с листовкой, сказал, поднимая руку:
— Это копия с оригинала. Оригинал заканчивают печатать в типографии. А копию я вам сейчас прочту.
И Клаус, по-прежнему стоя, начал читать:
— «Немцы! Мы, члены единственной до конца честной партии Германии — НДП, приносим свои извинения за экспроприацию некоторых находившихся в кассах сумм. И мы, и вы знаем, что террор, ограбления и т. п. чужды нашей партии, — это свой ственно коммунистам и прочим левакам, желающим обобрать и физически уничтожить своих политических противников, а честных предпринимателей лишить их собственности, которая в цивилизованном государстве является священной. Но у нас нет выхода. Избирательную кампанию коммунистов, социал-демократов и прочих врагов Германии, как известно, субсидируют Москва, так называемая ГДР и компартии других стран. Мы же — НДП, партия порядка, можем использовать в своей мирной деятельности только добровольные пожертвования своих членов. А за аренду помещений для собраний, за изготовление предвыборных плакатов и за все другое надо платить. Мы остались без средств. А выборы, как говорится, на носу. Поэтому мы позволили себе занять деньги у немецких налогоплательщиков, которые выиграют гораздо больше, если НДП получит места в бундестаге. Итак, простите нас!
Национал-демократическая партия Германии». Окончив чтение, Клаус опустил руку с зажатой в пальцах листовкой и после паузы спросил:
— Ну как?
Какое-то время все молчали, точно ошарашенные. Как, открыто признаться, что вину за ограбление магазина берет на себя НДП?! Почувствовав общую растерянность, Клаус усмехнулся, снова занял свое место за столом и, положив перед собой листовку, поучительно сказал;
— Вы, кажется, слишком привыкли к штампам в нашей оперативной работе. А надо отвыкать. В чем сила этой листовки? В том, что, признаваясь в своей акции, мы аргументируем ее тем, что коммунистов кормят Москва и ГДР. И что если, упаси боже, они выиграют на выборах, то ФРГ грозит превращение в советского или восточногерманского сателлита. Добавлю, что текст этой листовки, с которым я вполне согласен, составлен не мной, а с помощью наших руководителей и… американских друзей.
Именно эти последние слова Клауса привлекли особое внимание Рихарда. Ему уже давно было ясно, что между спецслужбами Соединенных Штатов и НДП существует тайная связь И, более того, несомненно, какая-то связь существовала между американскими и германскими спецслужбами. Потому что в ином случае трудно было предположить причину, по которой «акции» НДП, как правило, проходили без особых для нее последствий, если не считать столкновений с обычной полицией и шума, поднимаемого газетами.
В то время как остальные члены группы, оправившись наконец от непривычного для них содержания листовки, начали задавать Клаусу различные вопросы и высказывать свои сомнения, Рихард взял лежавшую на столе листовку, внимательно ее перечитал и сказал:
— Я голосую за эту листовку!
В конце концов к его мнению присоединились и остальные
…На другой день члены группы получили от Клауса оружие и пластмассовые сумки-пакеты, в которые были уложены листовки. Вручая Рихарду его «вальтер», Клаус с многозначительной улыбкой сказал:
— Надеюсь, на этот раз ты докажешь, что умеешь им пользоваться.
Вечер, предшествующий налету, Рихард провел один в своей маленькой квартире. Он не звонил Герде с того времени, как они были в кафе «Под липами». Что же удерживало его? Во-первых, чувство стыда после слежки за ее домом. Стыд при воспоминании о том, как он, будто ожидающий подаяния нищий, два часа проторчал в подворотне, вместо того чтобы зайти к Герде и рассеять свои подозрения или убедиться в их справедливости. Но он не зашел. — И кто знает, может быть, именно в это время Герберт был у нее или пришел позже, когда его, Рихарда, уже прогнал полицейский…
И, кроме того, завтра предстояла «акция». Не думать о ней он не сможет, даже если рядом будет Герда. Значит, снова раздвоенность! А смысл своего общения с Гердой Рихард видел прежде всего в слитности, не только в физической близости, но именно в слитности душ…
Рихард, не раздеваясь, лег на постель, закрыл глаза и стал думать о завтрашней «акции». Итак, они входят в застекленные двери.
…Итак, они вошли двумя группами в обе двери разом. Большинство членов группы было вооружено пистолетами, двое скрывали под своими куртками автоматы «Узи». В пластмассовых сумках лежали листовки.
Рихард помнил последнее напутствие Клауса: операция может пройти успешно только в том случае, если займет максимум 15–20 минут, желательно даже меньше. В ином случае они так или иначе привлекут внимание полиции. А если ей удастся блокировать входы и выходц, вся группа окажется в мышеловке и придется вступить в перестрелку с полицией, что вовсе не входило в планы «акции».
Итак, все шло по расписанию. Рихард и еще двое членов группы прошли в дальний конец магазина, к серой колонне, близ которой находилась одна из касс. Здесь помещался отдел готового платья. Покупатели снимали вместе с вешалками пальто, куртки и примеривали их тут же или забирали с собой в прикрытые легкими шторами специальные кабинки-примерочные.
Рихард не видел, как оставшиеся у дверей члены группы сразу заперли их изнутри на задвижки и наклеили объявления «Закрыто».
Ему казалось, что время тянется очень медленно, но фактически прошло лишь три — пять минут до того, как раздался громкий, усиленный мегафоном голос Клауса: «Всем лечь!»
Следом прозвучал негромкий, очевидно, пистолет Клауса был снабжен глушителем, выстрел.
…Сначала легли не все. Многие, очевидно, еще не отдавали себе отчета в происходящем и растерянно озирались Тогда Рихард выстрелил поверх голов людей — пуля ушла в противоположную стену — и зычно крикнул:
— Всем лечь!
Люди стали поспешно опускаться на пол, некоторые были с детьми и старались прикрыть их своими телами…
Через минуту-другую все, в том числе и кассирша — объект особого внимания Рихарда, — лежали на полу. Рихард видел, как его товарищи в масках обегают кассы и засовывают в карманы захваченные деньги. Операция пока что проходила удачно и приближалась к концу.
В этот момент Рихард заметил, как лежащий у основания колонны рослый, светловолосый молодой человек стал медленно подниматься на колени с явным намерением встать и дотянуться до выделяющейся на сером фоне красной кнопки пожарной тревоги. И вдруг… вдруг Рихарду показалось, что лицо этого человека ему знакомо. Спустя еще мгновение Рихард уже не сомнеаался, что это был Герберт, да, да, тот самый проклятый Герберт, который отравил его отношения с Гердой, враг — не только по убеждениям, но и враг личный. Чувство ненависти охватило Рихарда. Он забыл обо всем, забыл все указания Клауса, не видел лежащих на полу, обхвативших головы руками людей, перед глазами его маячил сейчас только Герберт, который уже успел встать на колени, втянув голову в плечи, и рука которого медленно шарила по поверхности колонны.
— Лежать! — истерично выкрикнул Рихард. Но на Герберта это не произвело никакого впечатления. Больше того, он уже сделал движение, чтобы подняться с колен, теперь его ладонь отделяли от кнопки какие-нибудь два десятка сантиметров.
На весь магазин прозвучал голос Клауса:
— Отход!
И тогда Рихард снова выстрелил. На этот раз прямо в него, в этого проклятого коммуниста, его соперника… Тот рухнул на пол.
Все, кто был в масках, кинулись к дверям, на ходу разбрасывая листовки. Потом к ним присоединился и Рихард. Достигнув дверей, они стянули с голов свои маски и бросились в открытые теперь двери на улицу.
Оказавшись на тротуаре, они увидели спешащих к магазину полицейских, на ходу вытаскивающих пистолеты и дубинки. Откуда-то издалека донеслось завывание полицейской сирены.
На проезжей части напротив магазина столпились люди, привлеченные выстрелами, донесшимися из-за закрытых дверей магазина.
Вместо того чтобы бежать прочь, Рихард нырнул в толпу и остановился там среди людей. Это был ловкий ход. В то время как полицейские устремились в погоню за теми, кто бросился врассыпную, Рихард спокойно стоял в толпе, наблюдая, как из дверей магазина стали наконец выходить задержанные там покупатели, взлохмаченные, растерянно озиравшиеся, как вскоре подъехала полицейская машина, а несколько минут спустя и фургон «скорой помощи». Затем пришла машина телевидения.
Не став дожидаться того, что произойдет дальше, Рихард выбрался из толпы и спокойно, неторопливо направился к своему оставленному за два квартала от магазина «оппелю».
Всгореон уже был дома.
…До сих пор Рихард держал себя в руках. Но, повернув ключ от входной двери и перешагнув порог своей квартиры, он вдруг почувствовал, как сильно бьется его сердце. Стук его ощущался не только в груди, но и в висках, руках — словом, во всем его теле.
Рихард опустился в кресло и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, как после напряженной физической зарядки, поднимая и опуская на колени кисти рук.
Но сердцебиение не проходило.
Сидя в кресле и закрыв глаза, Рихард как бы заново переживал все происшедшее. Ему вдруг стало казаться, что полицейские заметили его, преследовали его машину и с минуты на минуту ворвутся сюда, к нему, в его квартиру.
Рихард уговаривал себя, убеждал, что это нелепость, что никто не мог его заметить, когда он стоял в толпе или шел к своей машине.
Но о чем бы сейчас ни думал Рихард, какие бы картины ни восстанавливал в памяти, на первый план все время выступала одна: рухнувший на пол после выстрела Герберт.
Он убил его! Конечно, убил! Потому что стрелял почти в упор. Ну, а что ему оставалось делать? Дожидаться, пока тот нажмет кнопку пожарной сигнализации? «Нет, я поступил правильно, другого выхода не было», — убеждал себя Рихард.
Он гнал от себя мысль о том, что выстрелил в Герберта именно потому, что узнал его, что им руководила возможность, желание — пусть подсознательное — уничтожить человека, чье существование отравило ему жизнь, его отношения с Гердой, внезапно вставшего между ними.
Рихард позвонил Клаусу, чтобы узнать, всем ли участникам «акции» удалось благополучно скрыться. Но телефон Клауса не отвечал.
Позвонить Герде? Сделать это было не в его силах. Он не сможет говорить с ней как ни в чем не бывало. «Позвоню завтра», — сказал себе Рихард, а если она сама сообщит ему, что во время налета на магазин был убит Герберт, что ж… придется разыграть удивление, высказать соболезнование… Но хватит ли у него сил сохранить в этом разговоре самообладание? Рихард не мог ответить на этот вопрос, только, представляя, что слышит голос Герды, снова почувствовал сердцебиение.
«Нет, надо подождать утренних газет, — подумал Рихард, — тогда будет ясна официальная версия сегодняшней „акции“. И поскольку, судя по выстрелам, предупредительному, произведенному Клаусом, и двум другим, сделанным Рихардом, был убит только один человек, то не исключено, что имя коммуниста Герберта будет в газетах названо.
Все это значительно облегчит разговор с Гердой. Конечно, Рихард выскажет ей свое возмущение действиями НДП, перешедшей, по-видимому, от идейной борьбы к террору, и посожалеет о смерти Герберта.
„Впрочем, — подумал Рихард, — зачем ждать завтрашнего утра? Ведь не исключено, что об „акции“ будет сообщено в одном из вечерних телевизионных выпусков“.
И Рихард включил свой маленький телевизор, который приобрел, когда переезжал на новую квартиру. Шел репортаж с выставки тортов из здания Немецкого театра. По другой программе сообщалось о смерти первого в Германии человека, которому было пересажено сердце; еще по одной программе диктор рассказывал о самой крупной сенсации в мюнхенском зоопарке — девятилетняя самка орангутанга Кесси благополучно родила двойню…
Рихард раздраженно выключил телевизор и посмотрел на часы. Было двадцать минут второго. Это означало, что с момента завершения „акции“ прошло совсем немного, времени и ожидать каких-либо сообщений по телевидению было пока рано.
Рихард вспомнил, что сегодня еще не обедал, и, хотя есть ему совершенно не хотелось, он, чтобы как-то убить время, вышел из дома и направился в расположенную неподалеку закусочную, предварительно запрятав свой пистолет за решетку вентиляционного отверстия в стене.
Долгожданное телесообщение было передано лишь в девять вечера. Впившись взглядом в экран, Рихард наблюдал знакомое ему здание, скопление людей возле него, видел, как подъезжают полицейские машины. И вот на фоне так хорошо теперь знакомой Рихарду картины появился диктор и объявил, что сегодня, после полудня, группа замаскированных налетчиков ограбила универмаг „Все для вас“. Нападающие похитили наличные деньги из касс и разбросали листовки, в которых ответственность за нападение берет на себя партия национал-демократов, оправдывая свои действия недостатком средств для ведения предвыборной кампании, в то время как ГКП, главный противник национал-демократов, щедро субсидируется из Москвы и других так называемых социалистических стран.
„Во время налета, — продолжал диктор, — нападающие произвели три выстрела, одним из которых был тяжело ранен покупатель, согласно оказавшимся при нем документам, тридцатилетний инженер-электрик Бруно Цимерман, член партии ХСС, чья кандидатура была выставлена на предстоящих выборах в ландтаг Баварии“.
В то время как диктор произносил эти слова, на заднем плане показались люди в белых халатах. Они держали носилки, на которых лежал до половины прикрытый простыней человек, и направлялись к стоявшей у тротуара санитарной машине-фургону. Задние двери фургона были распахнуты, и, когда санитары втаскивали в него носилки, лицо раненого на мгновение оказалось хорошо различимым. Это было лицо того самого человека, которого Рихард принял за Герберта.
Ужас сковал Рихарда. Его неподвижный взгляд был прикован к телеэкрану, хотя санитарная машина уже уехала, а спустя минуту-другую изображение магазина и все, что было с ним связано, исчезло и на экране остался только диктор, который рассказывал что-то о конкурсе говорящих птиц… Рихард оцепенело сидел перед экраном.
Наконец он пришел в себя. Выключил телевизор и стал поспешно ходить взад и вперед по комнате, мысленно повторяя: „Нет, нет! Не может быть… Это был Герберт! Я узнал его! Это был Герберт, Герберт! — Он остановился на мгновение. — Хорошо, — решил он, — сейчас я проверю!“
Он схватил телефонную трубку и набрал номер Герды. Она ответила тотчас же.
— Здравствуй, дорогая, — сказал Рихард, стараясь ничем не выдать своего волнения.
— Здравствуй, Рихард, милый! — послышалось в ответ. — Рада тебя слышать! Куда ты пропал?
Герда говорила дружески, даже ласково. Ничто не показывало, что она взволнована его звонком.
— Немного простудился и пару дней не выходил, — произнес Рихард первое пришедшее ему в голову объяснение.
— Так почему же ты не позвонил? Я бы приехала к тебе, вызвала бы врача.
— Да ерунда! — небрежно ответил Рихард. — Я просто не хотел тебя волновать. А сейчас уже все в порядке, температура нормальная.
— Тогда, может быть, приедешь?
— А не поздно? — Рихард бросил взгляд на часы.
— С каких пор ты стал беспокоиться о времени? — то ли с усмешкой, то ли с обидой в голосе спросила Герда.
— Тогда, если не возражаешь, я сейчас приеду.
— Жду! — Герда положила трубку.
По дороге Рихарда неотступно преследовала мысль о том, что вместо Герберта он убил или тяжело ранил ни в чем не повинного человека. О, насколько бы легче ему было, если бы тот человек оказался Гербертом, коммунистом! Оставалось только одно оправдание: рука этого Бруно, или как там его звали, — была уже вблизи кнопки сигнала тревоги.
…И вот Рихард входит в квартиру Герды. Она встречает его с радостной улыбкой. На ней домашний халат, туго перетянутый поясом, отчего и без того тонкая талия кажется еще тоньше, ее обычно собранные в тугой пучок волосы сейчас распущены, на лице Герды нет никакой косметики, даже губы не подкрашены, и поэтому глаза ее кажутся Рихарду еще более голубыми, чем обычно.
И снова, как всегда, когда он встречал Герду, Рихарда покинули все мысли, все, кроме одной: сознание, что Герда рядом, что они опять вместе и ничто и никто не в силах их разлучить.
Впрочем, на этот раз одна затаенная мысль все же как бы скреблась глубоко в душе Рихарда. Ведь если Герберт жив, значит, по-прежнему есть основания предполагать, что между ним и Гердой существуют отношения не только дружеские… Это подозрение все еще копошилось в душе Рихарда даже в тот момент» когда они обнялись и поцеловались.
— Идем на кухню! — сказала Герда, опуская свои руки и мягко освобождаясь от объятий Рихарда.
Когда ты позвонил, я решила приготовить кофе. Вода, наверное, уже закипела.
В кухне стоял небольшой квадратный стол, покрытый цветной клеенкой, и возле него, по обеим сторонам, два стула. На газовой плите похлопывал крышкой кипящий эмалированный чайник.
— Сейчас я займусь кофе, — сказала Герда, снимая чайник с конфорки. — А ты посиди. К сожалению, почему-то запоздали вечерние газеты. Наверное, из-за этого налета на магазин. Ты смотрел телевидение?
— Да, — коротко ответил Рихард.
— Какое варварское нападение! Я еще понимаю — просто ограбить кассы. Но при этом убить ни в чем не повинного человека!
— Но телевидение сказало, что он не убит, а ранен.
— Тяжело ранен! — поправила его Герда и добавила: — А может быть, он уже умер в больнице.
Рихард ничего не ответил, исподлобья наблюдая, как Герда достает из висящего на стене белого шкафчика банку с кофе, а из холодильника бутылку сливок.
— Я думаю, что сливки надо немного подогреть, иначе кофе будет холодным, — деловито произнесла Герда, отлила из бутылки немного сливок в маленькую кастрюльку с длиной ручкой и поставила на огонь. Затем снова подошла к настенному шкафчику, достала из него пачку печенья, Надорвала бумагу и положила пачку на стол. Потом сняла с огня кастрюлю со сливками, достала с полки две чашки, насыпала в них кофе…
— Тебе с сахаром? — спросила она.
— Да, если можно, — ответил Рихард.
— А я считаю, что сахар только портит вкус кофе, — сказала Герда, ставя на стол сахарницу. — Ну… кажется все. Извини за скудость стола. Я дома не веду никакого хозяйства.
…Они молча выпили кофе и перешли в спальню.
— Ты останешься? — спросила Герда.
Рихард вздрогнул. Проклятая мысль о Герберте вновь засвербила в душе.
— Да, если разрешишь, — не глядя на Герду, произнес Рихард и неожиданно для самого себя добавил: — И… если ты никого не ждешь.
Подняв голову, Рихард заставил себя посмотреть прямо Герде в глаза. Он увидел в них недоумение.
— В каком смысле «жду»? — удивленно спросила Герда. Она приподняла брови, и от этого ее большие глаза стали казаться еще больше.
— Ну, у тебя же есть знакомые, кроме меня? — Кого ты имеешь в виду?
«Я скажу! Сейчас я ей все скажу! — внезапно принял решение Рихард. — Я не могу больше мучиться! Я расскажу ей, как стоял в подворотне напротив, расскажу, что двигало моей рукой, когда я стрелял в того человека!..»
Но вместо этого Рихард спросил, пристально глядя на Герду:
— Тебе давно звонил этот… ну, как его… Герберт?
— Звонил сегодня вечером, — пожала плечами Герда. — А что, он тебе нужен?
— Я подумал, что, может быть, он нужен тебе? — сорвались с губ Рихарда слова.
— Ты что имеешь в виду? — спросила Герда, медленно вставая. — Ты предполагаешь, что я могу… с двумя?! Подонок!
Никогда до сих пор Рихард не слышал, чтобы она произнесла что-либо с таким возмущением, обидой, негодованием…
Герда сжала кулаки, повернулась к Рихарду спиной и громко сказала:
— Уходи! Убирайся! И немедленно!
О, с какой радостью воспринял все эти гневные, возмущенные слова Рихард, хотя теперь окончательно убедился, что стрелял не в того, какой тяжкий груз снимали эти слова с его плеч! Теперь он знал, что Герда никогда не обманывала его. Такое возмущение, такое негодование не могла бы сыграть даже самая великолепная актриса! В них кричала правда, неподдельная, чистая правда, и чем резче, чем унизительнее для Рихарда звучала она, тем легче становилось ему дышать, тем больше он любил Герду.
— Герда, прости! — умоляюще произнес Рихард.
— Уходи! — жестко повторила она. Но Рихард не двигался с места.
— Пойми, — прижимая руки к груди, сказал он, — для меня уйти сейчас от тебя — значит уйти совсем… Может быть, даже уйти из жизни!
Герда повернулась к нему.
— Как ты мог, — уже спокойней произнесла она. — Ты… это… это первый случай в моей жизни… После такого короткого знакомства… всего каких-нибудь два-три месяца… и я… я решилась… а теперь ты…
Герда умолкла. Рихард видел, как ее большие глаза наполнились слезами. И тогда он вскочил, резким, судорожным движением привлек ее к себе и сбивчиво, торопливо, задыхаясь от волнения, заговорил:
— Герда, родная моя, милая, как ты можешь обвинять себя в чем-то? Ты не позволила бы мне даже поцеловать тебя, даже прийти к тебе сюда, если бы не знала, не чувствовала, что ты для меня — все, что я не могу жить без тебя! Я люблю тебя больше всех на свете…
…Поток слов, который Рихард обрушил на Герду, был сумбурным, бессвязным, без пауз, без выделения отдельных фраз. Рихард, еще крепче прижав к себе Герду, стал покрывать ее лицо поцелуями, шепча нежные, безумные слова. Она не отстранялась, не отворачивала лица. И лишь когда Рихард наконец умолк, осторожно освободилась из его объятий, провела тыльной стороной ладони по своим глазам, мокрым от слез.
— Хорошо, Рихард, забудем, — произнесла Герда. — Я снова верю тебе. Верю в твою искренность, в твои чувства… Ведь это главное, что привлекло меня к тебе. В нашей жизни, к сожалению, правда переплетена с ложью, и иногда невозможно их разделить… Ты спросил меня о Герберте… Он близок мне, потому что предан правому делу. Но это совсем другая близость, она совсем не похожа на нашу с тобой. Наша — это другое, она соединяет сердца. А та дружба, с Гербертом… как тебе это объяснить… Она в чем-то больше нашей, а в чем-то гораздо меньше. Словом, мне трудно тебе это объяснить.
— И не надо! — воскликнул Рихард. — Мне вполне достаточно того, что ты сказала. Я счастлив. Еще раз прости!
Герда молчала. Казалось, что в своих словах она дошла до какого-то невидимого порога, переступить который не решалась. И это интуитивно почувствовал Рихард. Он понимал, что Герду и Герберта связывает какая-то тайна, но так же интуитивно ощущал, что она не содержит угрозы его отношениям с Гердой. И все же какая-то недоговоренность между ними осталась.
Рихард понимал, что дальнейшее выяснение отношений может завести их в тупик. Главного — признания Герды, что он для нее единственный, — Рихард добился и теперь понимал, что этот разговор продолжать не нужно.
Он тихо спросил:
— Ты все еще хочешь, чтобы я ушел?
— Нет, — после короткого колебания ответила Герда. — Останься.
…Рихард проснулся поздно — часы показывали двадцать минут десятого. Он лежал в постели один. Приподнявшись на локте, Рихард крикнул:
— Герда, где ты?
Ответа не последовало. Рихард вскочил с постели, выбежал на кухню, открыл дверь в ванную комнату. Ее не было нигде. В недоумении Рихард вернулся в спальню и заметил записку, маленький листок бумаги, приколотый булавкой к зеленому матерчатому абажуру настольной лампы. Он сорвал записку и прочел:
«Рихард, мой дорогой Рихард!
Ты так сладко спал, что я не решилась разбудить тебя. А у меня уже в 9 дела в городе. Кофе и печенье там, где и вчера, — на кухонном столе. Если будешь голоден, придется тебе зайти в кафе, — это недалеко, как выйдешь из дома, пройди один квартал налево. „Под липы“ не ходи, это место принадлежит только нам и когда мы вместе. И еще — ключ в двери. Можешь оставить его у себя — у меня есть второй. До встречи. До скорой, я надеюсь…
Твоя Герда (я подчеркиваю это слово „твоя“).»«P. S. На телефонные звонки не отвечай».
Рихард дважды перечитал записку, поцеловал ее и, сложив, сунул в нагрудный карман висевшего на стуле пиджака. Затем он набросил на плечи халат Герды, вышел на кухню, налил в цветастый чайник воды, зажег газовую конфорку и поставил на нее чайник. Чашка, блюдце и ложечка были уже приготовлены, так же как и банка с растворимым кофе, печенье и сахарница.
Рихард решил, что, пока закипит чайник, он успеет принять Душ.
Видимо, Герда рассчитывала, что Рихард захочет это сделать, во всяком случае, чистая мохнатая простыня и полотенце висели отдельно от остальных купальных принадлежностей.
На стеклянной полочке под небольшим круглым зеркалом стояли несколько баночек с кремами, лежали мочалка, зубная щетка в прозрачном футляре и паста. Рихард автоматически стал искать бритву, чтобы, как обычно, побриться перед душем, но ничего похожего не было ни на полочке, ни в шкафчике, где стояли флаконы с шампунем.
Отсутствие бритвы вызвало у Рихарда удовлетворение. Ведь это означало, что никто из мужчин не остается в этой квартире, не остается даже на одну ночь, — ведь не стал бы он каждый раз приносить бритву и уносить ее с собой.
Умывшись и одевшись, Рихард заспешил к кипящему чайнику и приготовил себе кофе.
Затем вернулся в спальню и застедил постель. Случайно взгляд его упал на низкую, плотно прикрытую дверь. «Что там такое? — подумал Рихард. — Кладовая или гардеробная?»
Рихард вспомнил, что при нем Герда ни разу не открывала эту дверь. Оклеенная обоями того же цвета, что и стены, она до сих пор не привлекала его внимания. Но теперь, когда он остался один в квартире Герды, Рихарду захотелось посмотреть, что там, за дверью. Он подошел к ней и попытался открыть. Дверь была заперта, однако ключ торчал в замке. Рихард повернул его, толкнул дверь, и она открылась.
В небольшой комнатке царил полумрак, шторы, прикрывавшие единственное окно, были задернуты. На мгновение Рихарда охватило чувство неловкости: не злоупотребляет ли он доверием Герды? Но желание проникнуть еще глубже в ее личную жизнь, ее интересы, привычки заставило Рихарда зажечь свет. Он исходил от маленькой настольной лампы. Сам стол тоже был маленьким, заваленным какими-то бумагами, в пластмассовом стаканчике виднелись ручки и карандаши, а возле стола, на полу, стояла портативная пишущая машинка. Словом, этот более подходящий для предметов женского туалета столик был превращен в письменный. Слева от столика к стене примыкала небольшая книжная полка, забитая книгами и папками…
Рихард еле удерживался от соблазна покопаться в бумагах, вытащить с полки наугад несколько книг и узнать, что же пишет и что читает Герда, когда остается одна. Но страх, что, вернувшись, она сможет обнаружить, что кто-то рылся в ее бумагах, останавливал Рихарда. Он понимал, что если Герда догадается, что он не только проник в ее запертый на ключ кабинет, но даже сунул нос в ее бумаги, всякое доверие к нему будет потеряно.
«Так что же делать?» — стоя посредине комнаты, размышлял Рихард. Желание проникнуть в скрытую от его глаз сторону жизни Герды, выяснить наконец обоснованность подозрений Клауса в том, что Герда была коммунисткой и под псевдонимом выступала в печати с материалами, направленными против НДП, — это желание было слишком велико. Однако Рихард заставлял себя преодолеть соблазн просмотреть бумаги на столе. Он подошел к полке с книгами и стал изучать их корешки Он увидел «Майн кампф» Гитлера, сборник его речей, двухтомник Маркса, несколько книг Ленина, шеститомник Черчилля, книги Бенедетто Кроче «Германия и Европа», Даллина «Германское правление в России», Даллеса «Германское подполье»…
Рихард понял, что его намерение по книгам узнать политические симпатии Герды безнадежно. Ведь она кончала журналистский факультет и, естественно, читала книги самых разных авторов, изучала различные политические направления.
Тогда он, будучи уже не в силах противостоять своему желанию, подошел к столику, чтобы рассмотреть хотя бы лежащие на поверхности бумаги. Взгляд его упал на папку с края стола. Открыть ее, не двигая с места, ему ничего не стоило. Он так и сделал. Сначала Рихард увидел рукописный листок и уже по первым строкам его определил, что это было письмо от матери Герды, наверное, последнее или одно из последних.
Уже несколько осмелев, он приподнял письмо, не перевертывая его, и обнаружил под ним небольшую фотографию. Герда была изображена на ней вместе с пожилой, с морщинистым высохшим лицом женщиной, — очевидно, это и была ее мать.
Рихард стал осторожно перекладывать письма и открытки. Тут было разное: поздравления с Новым годом, с днем рождения, — словом, стало ясно, что в этой папке хранится интимная переписка Герды. Рихард уже был готов закрыть папку, но в это мгновение ему попался на глаза плотный картонный квадратик. Наверху крупными красными буквами было типографски напечатано: «Германская коммунистическая партия. Пригласительный билет». Далее из текста следовало, что «Германская коммунистическая партия приглашает Герду Валленберг в город Эссен, на Учредительный съезд ГКП, который состоится 12–13 апреля 1969 года». Далее следовала подпись — чье-то неразборчивое факсимиле.
Рихард резким движением захлопнул папку. От легкого дуновения ветра на пол со стола упала еще какая-то отпечатанная на машинке, сложенная вдвое бумага.
Рихард поспешно поднял ее и прочитал. На плотном листке стоял гриф: «Социалистическая единая партия Германии».
Какое-то «Общество историков-марксистов» приглашало фройляйн Герду Валленберг приехать в ГДР в конце года и сделать доклад на собрании общества на тему «НДП и международный нацизм».
Рихард поспешно сложил бумагу по прежним сгибам и, не помня точно, с какого места она слетела, положил на край стола.
И в эту минуту услышал звонок у входной двери, а еще минуту спустя громкий стук В первое мгновение он подумал, что это вернулась Герда, что сейчас она войдет сюда и застанет его за шпионским занятием. Но тут же вспомнил, что в дверном замке торчит ключ. Тогда Рихард на цыпочках подошел к двери узнать, кто мог столь настойчиво звонить и стучать, но в это время услышал шорох, а затем увидел большой белый конверт, который кто-то подсовывал снизу в дверную щель.
После этого звонки и стук прекратились. Какое-то время Рихард не решался поднять конверт, но после короткого размышления взял его и прочел адрес Герды и обратный адрес внизу: штамп газеты «Унзере Цайт». Почтового штемпеля на конверте не было, очевидно, его доставил нарочный.
«Унзере Цайт» была коммунистической газетой, это Рихард знал.
Он отнес конверт в спальню, положил его на видном месте, затем вернулся в кабинет Герды к письменному столу и уже смелее стал проглядывать бумаги, стараясь не смещать их с мест, на которых они лежали. Неожиданно на глаза ему попалась листовка, одна из тех, что были разбросаны в зале суда над Борхом…
Точно обжегшись, Рихард отпрянул от стола. Если раньше он боялся, так сказать, «наследить», то теперь опасался другого: найти явные доказательства, что Герда состоит в коммунистической партии. Ведь если он получит прямые доказательства этому, значит, Клаус был прав в своих подозрениях. Но из этого Рихард должен был сделать вывод, что, с каждой встречей все более сближаясь с Гердой, он совершает прямую измену своему делу.
До сих пор Рихард мог полагать, что подозрения Клауса вздорны, ничем не обоснованы и поэтому связь с Гердой не считал преступлением перед партией.
Но если он убедится, воочию убедится, в обратном?!
Рихард еще раз окинул взглядом стол, книжные полки и, быстро выйдя из комнаты, запер дверь. Потом он вынул свой блокнот и написал: «Герда, дорогая моя! Спасибо за заботу. Я отлично выспался, выпил, как ты велела, кофе и теперь ухожу. Ухожу с мыслями о тебе. Буду звонить в ближайшее время. Твой Р.
P. S. Утром принесли конверт. Я положил его на тумбочку. Р.».
Эту записку Рихард приколол к абажуру лампы на то самое место, где Герда оставила свою записку. Затем он прошел на кухню, вымыл чашку, из которой пил кофе, еще раз осмотрел спальню и кухню и отправился домой, заперев за собой дверь ключом, теперь принадлежащим ему.
Только два чувства жили теперь в душе Рихарда. Первым была любовь к Герде. Вторым — еще более остро вспыхнувшая ненависть к Германской коммунистической партии. Она представлялась ему в виде мрачной и грозной силы, пытающейся отнять у него Герду, стеной, непреодолимым препятствием, неумолимо растущим между ними.
Нет, Рихард не распространял свою ненависть на Герду. Вопреки логике, в противоречии со здравым смыслом ему казалось, что эта совсем еще не так давно запрещенная в стране партия еще раньше или теперь, когда стала легальной, захватила своими щупальцами Герду, втянула в орбиту своего влияния, воспользовавшись ее молодостью и политической неопытностью…
О, если бы Герда не скрывала от него своих истинных взглядов! Тогда он, Рихард, сумел бы воспользоваться многолетними уроками своего отца, убедить Герду в том, что так называемая ГКП — это организованная агентура Москвы, что годы, проведен-ьые страной под руководством фюрера, были годами формирования и подъема истинно немецкого духа… Да, он убедил бы ее, привлек на свою сторону, напомнил бы Герде, либерально настроенной девушке, что фюрер также был и за рабочих, и за социализм, недаром эти два слова присутствовали в названии созданной им партии.
Проклятые коммунисты! Как отвоевать у них Герду?! В своем воспаленном воображении Рихард представлял себе ГКП в виде чудовищного спрута, хищного осьминога, которого без колебания расстрелял бы из автомата, из пушки, если бы ему представилась гакая возможность! Был ли Рихард теперь уверен, что Герда является членом этой ненавистной ему партии?
Нет, не до конца. Может быть, то, что он обнаружил в ее комнате, и этот присланный из коммунистической газеты пакет, и дружба, которая явно связывала ее с Гербертом, свидетельствовали лишь о симпатиях к ГКП или вообще к радикалам, но не больше. И теперь обнаруженные им приглашения на съезд ГКП в Эссене, на марксистское сборище в ГДР и этот пакет из «Унзере Цайт», предупреждения Клауса — все это вместе взятое убеждало Рихарда в том, что Герда — коммунистка, и все более и более возбуждало его не против Герды — нет, любовь Рихарда точно броней защищала ее, но против той силы, которая отнимала у него Герду, — против компартии.
…Даже раздавшийся телефонный звонок не смог оторвать Рихарда от его мыслей, он медленно подошел к телефону, снял трубку и сказал: «Слушаю!»
— Рихард? — раздалось в трубке. — Появился наконец! Ты что, не ночевал дома?
Несомненно, это был голос Клауса. Этот последний его вопрос разом вернул Рихарда к действительности… «Неужели… неужели он знает?!» — подумал Рихард, уже готовый впасть в панику.
— Я… я был в ночном клубе, — пробормотал Рихард первое пришедшее ему в голову объяснение и тут же, поняв всю его бессмысленность, добавил: — Мне необходимо было… словом, мне нужна была разрядка.
— Раз-рядка? — иронически повторил Клаус. — Тогда немедленно приезжай ко мне. Для тебя приготовлена хорошая разрядка.
В тоне Клауса Рихарду послышалась, помимо иронии, и явная угроза.
— А в чем дело? — робко спросил он, имея в виду вчерашнюю акцию. — Ведь все прошло благополучно.
— Прекрати болтать по телефону! — резко оборвал его Клаус — Мы ждем тебя.
Раздались частые гудки. Клаус повесил трубку.
Допрос
Когда Рихард в сопровождении открывшего ему дверь Клауса вошел в столовую, он увидел, что за хорошо знакомым ему круглым столом сидят все члены группы.
В отличие от прошлых встреч на столе не было ни бутылок с пивом, ни рюмок со шнапсом. Стол был пуст и поблескивал своей полированной поверхностью. Но главное, что почувствовал, едва войдя в комнату, Рихард, была какая-то необычно напряженная, удручающая атмосфера.
Рихард не смог бы объяснить, в чем она выражалась. В том ли, что стол был непривычно пуст, или в том, что большинство сидящих за ним опустили головы, когда Рихард вошел, а те, что поздоровались, отделались едва заметными кивками.
Два стула за столом были незанятыми, — один, разумеется, принадлежал Клаусу, другой, по-видимому, предназначался Рихарду. Именно на этот стул указал ему Клаус. Потом, не садясь, а только облокотившись о спинку второго, пустого стула, сказал:
— Я хочу принести извинения за Рихарда Альби-га. Как и все мы, он знал, что сбор назначен на сегодняшнее утро. Тем не менее вовремя не явился. Мои попытки разыскать его по телефону ни к чему не привели, хотя я звонил ему и вчера поздно вечером, и даже ночью, и рано утром. Лишь минут сорок тому назад он оказался дома. Я приказал ему немедленно приехать сюда. Теперь Он здесь, и мы можем задать ему необходимые вопросы. Вопрос первый: где ты был все это время и почему не явился утром, как было условлено?
«Что это — допрос, суд?» — подумал Рихард. Резкие вопросы Клауса и непроницаемые лица остальных и впрямь создавали впечатление какого-то судилища.
На вопрос Клауса Рихард не ответил. Он промолчал потому, что не знал, что сказать. Повторить тот ответ, который он дал Клаусу по телефону — насчет ночного клуба, — он не мог, сознавая, что ответ этот был нелеп.
— Почему ты молчишь? — снова раздался резкий, испытующий голос Клауса. — В конце концов нам небезразлично, где ты шатаешься по ночам, нас тревожило, что при отходе ты мог попасть в полицию и там расколоться, выдать всех участников «акции»…
— Нет! — крикнул Рихард. Он мог снести все что угодно, кроме обвинения в сознательном предательстве. — Я не меньше, чем вы, ненавижу коммунизм и предан нашему делу!
— Слова, одни слова! — саркастически произнес Клаус. Потом неожиданно спросил: — Ты встречался с этой девкой? Ну, как ее там? С Гердой?
Этот вопрос прозвучал для Рихарда настолько неожиданно, что он вздрогнул. Мысли, одна обгоняя другую, точно в сумасшедшем хороводе, пронеслись в его голове.
Что известно Клаусу? Знает ли он что-нибудь? Видел ли он или кто-нибудь из сидящих сейчас здесь, за столом, его с Гердой? Или Клаус ничего не знает, а спрашивает просто так, на всякий случай?..
— Нет, — после короткой паузы ответил Рихард, отводя взгляд в сторону.
— Допустим, — с неприязнью сказал Клаус. — Тогда ответь на один главный вопрос: кто тебе разрешил во время «акции» стрелять в человека? О первом выстреле я уже не говорю.
К этому вопросу Рихард был более или менее подготовлен.
— Во-первых, — твердо произнес он, — этот тип лез к кнопке противопожарной сигнализации. Во-вторых, я принял его за коммуниста.
— Во-от как?! — иронически протянул Клаус. — У него что же, на лице это было написано?
— В те минуты, — стараясь до конца овладеть ситуацией, ответил Рихард, — я был убежден, что видел его еще на том митинге, на котором выступал фон Тадден, Он бросал в трибуну тухлые яйца и помидоры. Я его хорошо запомнил.
— Но ведь теперь известно, что этот человек никакой не коммунист! Ты же слышал вчерашнее сообщение по телевидению? Или по крайней мере читал сегодняшние газеты?
— Возможно, я ошибся, — пробормотал Рихард.
— Тогда еще один вопрос, — не унимался Клаус. — Какое ты вообще имел право стрелять уже после, ты понимаешь это, после моего приказа отходить?
Но теперь Рихард уже чувствовал твердую почву под ногами.
— Я выстрелил почти одновременно! Ну, может быть, чуть-чуть позже. А сигнал тревоги, если была бы нажата кнопка, разве он не привлек бы и пожарных, и полицейских? Они появились бы в считанные минуты!
Все сидящие за столом теперь напряженно слушали перепалку между Клаусом и Рихардом, переводя взгляды с одного на другого.
— Да, они появились подозрительно быстро, — не без ехидства произнес Клаус в ответ на последние слова. — В этой связи мы хотим спросить тебя еще кое о чем… Совсем недавно наши люди видели тебя в кафе «Под липами». Ты пришел туда с какой-то женщиной, но уже очень скоро к вам присоединился человек… молодой мужчина.
Такого удара Рихард не ожидал.
«Как это могло случиться? Кто видел? Почему Клаус не спросил меня об этом раньше? Что делать? Как быть? Все отрицать? А если признаться, то как и в чем именно?..»
Наконец он спросил с единственным пока что желанием выиграть время, узнать, кто из присутствующих видел его, и затеять с ним спор:
— Я хочу, чтобы партайгеноссе, который, как ты утверждаешь, видел меня, встал и уточнил, когда и е кем он видел меня.
— Тебя видели другие, — не сводя с Рихарда глаз, ответил Клаус. — Пока ты еще наш товарищ. Не скрою, что нам неизвестно, кто была та женщина. Но зато про мужчину все известно. Это коммунист, активный враг нашей партии. За ним ведется наблюдение, но опять-таки не нами, а другим подразделением НДП. Так что про него можешь ничего не рассказывать. Но кто была та женщина? Герда?
— Ничего подобного! — воскликнул Рихард. — И, кстати, разве я монах и не имею права на личную жизнь?!
— Твоя жизнь принадлежит нашей партии. — Клаус произнес эти слова сухо, без всякого пафоса, и поэтому они показались Рихарду еще более неумолимыми.
— Да, — опустив голову, сказал Рихард. — Ты прав. Вне партии для меня нет жизни.
— Это была Герда? — снова спросил Клаус.
— Да нет же! — чуть не со слезами на глазах крикнул Рихард, понимая, что признание будет означать конец его отношениям с Гердой и еще многое другое, пока что не предвиденное. — Я вышел пройтись, увидел это лесное кафе, зашел, все столики были заняты, кроме одного. За ним сидела и пила кофе неизвестная мне девушка. Не буду отрицать, что она мне сразу понравилась, я попросил разрешения присесть… Ну, вот… А потом к нам неожиданно подошел этот парень. Он тоже искал место. Оказалось, что девушка и он знакомы. Вот и все!
Рихард выпалил это разом и, только произнеся: «Вот и все», — подумал, сколь неубедительно звучит его объяснение. Но ничего более правдоподобного он придумать сейчас не мог.
— Хорошо, — сумрачно произнес Клаус, — садись. И он первым опустился на стул. Сел на свободное место и Рихард.
Клаус обвел взглядом сидящих за столом и до сих пор молчащих людей и спросил:
— Кто-нибудь хочет что-либо сказать? Я сейчас оставляю в стороне недисциплинированность Рихарда. Она проявляется уже второй раз. Первый — во время акции в суде. В универмаге — второй. Но, к счастью, и первая, и вторая акции нам удались. Я сосчитал деньги, которые вы мне передали, оказалось восемьдесят шесть тысяч марок. Они будут сданы в кассу партии. Но… — Клаус сделал паузу, — не этот вопрос меня сейчас беспокоит. Мне горько произносить эти слова, но я подозреваю, что Рихард имеет связь с коммунистами. В этом случае все наши дальнейшие акции находятся под угрозой.
— Ты смеешь… — вскакивая со стула и сжимая кулаки, начал было Рихард, но сидевший рядом с ним Курт, тот самый, с которым он встретился в гитлеровской пивной, схватил его за руку и почти насильно усадил.
— Не выходи из себя, Рихард, — сказал он. — Что касается меня лично, то я верю тебе. Но человек, на которого пало подозрение, обязан оправдаться, в этом нет ничего зазорного. Ведь мы все зависим друг от друга.
Рихард тяжело дышал. На лбу его выступил пот.
— Клянусь, памятью фюрера, — сдавленным голосом проговорил он, — клянусь именем бывшего бригаденфюрера СС — моего отца… я… я ненавижу коммунизм и коммунистов.
В этот момент сидевший за столом напротив Рихарда Вольф, белесый парень в очках — Рихард невзлюбил его со времени первого знакомств а, — стукнул ладонью по стол.
— Я еще давно говорил, что этот Рихард не мог пройти в своей знойной Аргентине необходимую закалку. Пусть возвращается и танцует танго.
Рихард мысленно обругал себя за то, что оставил Дома, за вентиляционной решеткой, свой «вальтер». Иначе он всадил бы в этого белобрысого мерзавца всю обойму. Но сейчас… сейчас даже ударить Рихард его не мог, очкастый сидел слишком далеко от него.
— Успокойтесь, друзья! — повелительно сказал Клаус. — Мы собрались здесь не для рыночной склоки, а для выяснения важного дела. Рихард, ответь. Вопрос Номер один: тебе приходилось еще раз встречать того человека, по имени Герберт? Я прав, его звали Гербертом?
— Да, он назвал это имя, когда девушка, с которой я сам едва познакомился, познакомила нас. Видел я его еще раз? Никогда. Впрочем… впрочем, вы ведь мне все равно не поверите, если я скажу…
Рихард замялся.
— Что скажешь? Почему ты замолчал? Боишься говорить правду? — прикрикнул на него Клаус.
— Я скажу правду, — на этот раз твердо произнес Рихард. — Мне показалось, что тот человек, в которого я стрелял в универмаге, и Герберт как две капли воды похожи друг на друга. Короче, я принял его за Герберта. Коммуниста. Может быть, потому и выстрелил.
— Когда надо будет стрелять в коммунистов, получишь команду. А пока, пожалуйста, без самодеятельности. Итак, какое будет ваше решение? — спросил Клаус, обводя взглядом всех сидевших за столом.
— Я думаю, — сказал Курт, — с него хватит нашего предупреждения. А в его преданности нашему делу я не сомневаюсь.
«Правильно, согласны…» — загудел хор голосов. Рихард почувствовал облегчение.
— Ладно, — махнул рукой Клаус.
— Но если возникнут подозрения в предательстве… — начал было белобрысый, но Клаус прервал его словами:
— …Тогда получит пулю в затылок. Понял? — спросил он, обращаясь к Рихарду.
— Понял, — наклонил голову Рихард. Потом резко поднял ее. — Я прошу дать мне поручение. Я готов рискнуть жизнью…
— Когда понадобится, рискнешь, — оборвал его Клаус. И после паузы сказал: — Теперь, когда мы все в сборе, и после того, как Рихард благополучно вернулся, можно не бояться налета полиции. Я хочу вам кое-что рассказать. Этой ночью я был на совещании руководителей охранных отрядов НДП Мюнхена. Кстати, — он посмотрел в сторону Рихарда, — оттуда я и звонил тебе ночью. Я не буду называть фамилию выступавшего на совещании человека. Ограничусь тем, что скажу: это был один из руководителей НДП, ведающий боевыми отрядами партии. Он напомнил нам, что выборы на носу, однако уровень нашей активности не соответствует чрезвычайности положения.
Руководитель, я буду называть его просто так, напомнил, что движение национал-демократов не должно рассматриваться как только чисто мюнхенское и даже как только западногерманское. Нам, национал-демократам, нужна не только вся Германия, но и вся Центральная Европа. И это не только мечта. Мы узнали, например, что в Судетах и в северной части Италии — особенно в Австрии — боевые отряды не побоялись перейги к прямому террору против коммунистов и социал-демократов. Почему именно к террору? Ну, в Италии, например, для того, чтобы сломить сопротивление нынешнего правительства, германизировать Южный Тироль и присоединить его к Австрии, которую мы считаем двенадцатой немецкой землей.
Клаус умолк и обвел глазами присутствующих, как бы желая понять, какое впечатление производят на них его слова. Убедившись, что все смотрят на него неотрывно, Клаус продолжал:
— До сих пор наши акции ставили своей главной целью свалить вину за возникающие беспорядки на компартию. Но теперь этого мало. Накануне выборов мы должны проявить свою силу, запугать коммунистов и показать немцам, кто является в Германии единственной партией действия. Мы должны внушить страх так называемой левой прессе, дать ей понять, что на каждую направленную против нашей партии клеветническую статью мы ответим взрывами бомб и автоматными очередями. Словом, друзья, начинается новый этап нашей борьбы. Не забывайте: времени остается мало! И в этой связи, — после короткого молчания произнес Клаус, — имеется конкретное предложение…
Он снова умолк, как бы подогревая нетерпение, отражавшееся на лицах слушателей.
— Какое?! — выкрикнул Рихард.
— Помолчи, сейчас узнаешь, — осадил его Клаус. — В ходе совещания между Представленными на нем «группами действия» были распределены намечаемые на ближайшее время акции. Одну из них я предложил поручить нам. Дело в том, что в конце недели состоится небольшая, но важная коммунистическая сходка, на которую соберутся представители отделений ГКП из ряда городов. Дата и место сходки нам известны. Так вот, есть предложение — угостить их на десерт бомбочкой. Ее легко бросить с улицы в окно второго этажа дома, где эти московские агенты будут заседать. Нам надлежит решить два вопроса: первый — согласны ли мы провести эту акцию и второй — кому мы поручим ее осуществить. А теперь — слово за вами.
Раздался одобрительный гул голосов.
— Итак, все «за»? — спросил Клаус. — Значит, вопрос второй…
И тогда с места вскочил Рихард.
— Друзья, партайгеноссен! — захлебывался от волнения Рихард. — Я прошу… я умоляю вас, поручите эту акцию мне! Я все время мечтал о действиях. Не о разбрасывании листовок и не о драчках на митингах, а о настоящих действиях, таких, которые вписали в историю Германии штурмовые отряды СД. Да, теперь наша очередь! Клаус сказал, что акция опасна. Тем больше у меня прав взять ее на себя и тем самым рассеять ваши недавние подозрения. Если вы мне откажете, я этого не переживу!
— Погоди, сядь! — требовательно произнес Клаус. И, когда Рихард подчинился, продолжил: — Откровенно говоря, когда я попросил поручить акцию нам, то подумал о Рихарде. Но потом… потом, когда я после нашего совещания, еще затемно, позвонил Рихарду и не застал его дома… А когда мне передали, что видели его в кафе вместе с коммунистом… Словом, я начал сомневаться… Мне показалось…
— Забудь об этом, все забудьте! — прервал его Рихард. — Уничтожать коммунистов, дожить до основания четвертого рейха — в этом главная цель моей жизни! Я знаю, каждый из вас достоин, чтобы акцию поручили именно ему, но сейчас для меня это стало вопросом смысла жизни. Я не смогу жить, если вы мне откажете!
— Что ж, — после паузы задумчиво произнес Клаус, обращаясь к Рихарду, — у тебя есть некоторые основания претендовать на эту акцию. И главное то, что ты, кажется, не в состоянии держать в руках оружие, чтобы так или иначе не пустить его в ход. Я имею в виду ту историю в суде и ту, что произошла в магазине. Как, друзья, — спросил Клаус, обводя взглядом присутствующих — окажем и на этот раз Рихарду доверие?..
Так во имя чего!
В последующие дни Рихард трижды побывал в районе, где находился тот двухэтажный дом на окраине Мюнхена. Здесь не было зданий из бетона и стекла. Деревянные, как правило, дома стояли поодаль друг от друга. Их разделяли небольшие палисадники, огородики, просто зеленые лужайки.
Тот дом выглядел почти так же, как и все остальные. Обычный двухэтажный жилой дом. Никаких вывесок. Крытый железным навесом подъезд, к которому вели несколько широких ступеней. Узкие окошки были прикрыты шторами. Окно, указанное Рихарду Клаусом, — третье слева. К счастью, второй этаж был невысок, примерно два человеческих роста от земли. Если выйти на проезжую часть и оттуда, как следует размахнувшись, метнуть в окно гранату, она наверняка достигнет цели.
Рихард хорошо помнил занятия в нацистском военно-спортивном кружке в Аргентине. Бросок гранаты в приближающийся танк, прямо в люк или под гусеницу, в бетонный дот или просто во вражеский окоп — все эти приемы нападения и защиты тщательно отрабатывались в кружке.
В последние два дня перед акцией Рихард не раз выезжал на окраины Мюнхена, оставив близ шоссе машину, углублялся в лес и, найдя подходящее, большое, одиноко стоявшее дерево, приступал к тренировкам. Гранатами служили камни, которыми он заполнял свою брезентовую сумку…
Итак, отход метров примерно на десять, потом, пригнувшись, рывком по направлению к дереву. Размах, бросок и падение. Затем тут же, после воображаемого взрыва, вскочить на ноги и бегом в сторону.
Тренировки проходили удачно. Из десяти бросков девять камней попадали прямо в дерево.
«Попасть, — говорил себе Рихард, — не фокус. Главное суметь тотчас же скрыться». Да, надо успеть избежать возможных прохожих на улице. Они могут попытаться его задержать.
Впрочем, вряд ли. Грохот взрыва, конечно же, ошеломит их. Кое-кто от испуга бросится плашмя на тротуар или на проезжую часть улицы. Пяти минут Рихарду будет вполне достаточно, чтобы убедиться, что бомба достигла цели, вскочить на ноги раньше других и убежать. Куда? Рихард заранее изучил возможные пути отхода. Сначала налево до первого переулка. Поворот расположен метрах в пятидесяти от боевой позиции. В конце переулка стоит большой полупустой деревянный ящик для мусора. Если возникнет погоня — укрытие в ящике. На всякий случай захватить с собой пистолет. А если полиция сразу не появится, то миновать переулок, выскочить на параллельную улицу и смешаться с пешеходами. Может быть, забежать в закусочную, она буквально в нескольких шагах от угла, спокойно сесть за столик, заказать пиво…
…«Акция» должна была состояться в пятницу, в два часа дня. В это время коммунистическая сходка, которая начнется в час дня, должна уже быть в разгаре, взрыв накроет их всех. Накануне, в четверг, Рихард получил от Клауса оружие — ребристую, похожую на большую грушу гранату.
Рихард чувствовал себя как человек, приговоренный к казни и неожиданно получивший помилование. Все то, что произошло в последнее время, — муки, которые он переживал после признания Гамильтона, терзавшие Рихарда подозрения, связанные с Гербертом и Гердой, наконец, недавнее судилище, которому его подверг Клаус…
Но теперь все это осталось позади. А впереди — только подвиг, который Рихарду предстояло совершить. «Мюнхенский взрыв» — хорошо бы под таким названием вошел он в историю борьбы Неонацизма за победу четвертого рейха.
В успехе порученного ему дела Рихард не сомневался. Сколько там, в той комнате, может собраться коммунистов? Судя по размерам дома и по близко расположенным друг к другу окнам, комйата небольшая и вряд ли вместит более пяти — семи человек. После взрыва и пожара, который сразу же наверняка возникнет, вряд ли кто-нибудь из собравшихся останется в живых.
…В пятницу Рихард проснулся рано. Первое слово, которое он мысленно произнес, было слово «сегодня»!
Его охватило волнение. Но Рихард усилием воли подавил его, приказав себе: «Спокойствие! Полное спокойствие. Иначе в решительный момент может дрогнуть рука и граната полетит не туда, куда надо».
Его часы показывали семь двадцать утра. Через тридцать — сорок минут можно будет пойти в закусочную. Она открывалась в восемь. Есть Рихарду совершенно не хотелось. Однако никаких изменений режима до тех пор, пока «акция» не будет завершена.
Рихард стал медленно одеваться. Вместо пиджака он надел серую нейлоновую куртку. Он выбрал ее из-за глубоких карманов: в них легко могли уместиться и пистолет, и граната. Застегнул «молнию» на куртке и в это время вспомнил, что не переложил в нее из пиджака ни документы, ни деньги. Подумав, Рихард ограничился пятьюдесятью марками, но документов не взял. Если ему суждено будет попасть в полицию, то ей не сразу удастся установить его личность.
Рихард был уже готов покинуть квартиру, но взгляд его упал на телефон, и он подумал, что в его отсутствие может позвонить Клаус. Тогда Рихард решил сам ему позвонить. Голос Клауса показался Рихарду вялым, точно звонок только что его разбудил.
— Ты еще спишь? — спросил Рихард.
— А сколько сейчас времени? — недовольно и явно спросонья спросил Клаус.
— Около восьми, — ответил, бросив взгляд на часы, Рихард.
— Что тебя подняло в такую рань?
— Сегодня пятница, Клаус, — с ударением на слове «пятница», произнес Рихард.
— Знаю, — уже более бодрым голосом ответил Клаус.
Тогда Рихарду пришло в голову спросить:
— Изменений никаких?
— Ты про самолет? Нет, улетает по расписанию, в два. Счастливого тебе полета, — ответил Клаус.
— Спасибо. Как только вернусь, немедленно позвоню, — сказал Рихард и положил трубку.
В закусочной он съел порцию сосисок с тушеной капустой и выпил вместо пива две чашки крепкого кофе без сливок. Часы показывали тридцать пять минут девятого. Еще рано. Еще очень рано!
Сердце Рихарда билось часто то ли от выпитого кофе, то ли от медленно, но все же приближающегося рокового часа. Он вспомнил вычитанную, кажется, в «Штерне» статью о самогипнозе. Надо сказать себе: «Я спокоен, я совершенно спокоен».
Рихард мысленно произнес эти слова, но какой-либо перемены не почувствовал, — сердце колотилось по-прежнему, его удары отдавались возле сонной артерии и солнечного сплетения.
«Надо походить по городу и успокоиться», — сказал себе Рихард. Он расплатился и вышел на улицу.
Еще вчера он решил не выводить из гаража свою машину. Добраться до нужной ему улицы пешком и на автобусах. На машине, конечно, быстрее, но она его свяжет. И вот сейчас Рихард решил еще раз прорепетировать поездку, благо что времени у него оставалось, как говорится, «вагон».
Ему пришлось сменить три автобуса. Вся дорога заняла сорок минут. Рихард медленно дошел до нужной ему улицы. Пешеходов на ней было мало, а автомашин и того меньше. Он взглянул на так хорошо уже знакомый ему двухэтажный дом. На некоторое время задержался на противоположной стороне тротуара. Потом стал переходить дорогу, приближаясь к дому. Цель сейчас у него была одна: твердо запомнить то место, с которого надо метнуть гранату. Это место он выбрал еще позавчера, — на дороге, метрах в семи-восьми от дома, на мостовой в асфальте была небольшая выбоина. На этом месте Рихард сейчас, пропустив проезжающую машину, задержался. Ровно настолько, чтобы снова и снова представить себе, как выхватывает из кармана руку с зажатой в ней гранатой, как размахивается, бросает гранату в окно и плашмя падает на мостовую. Тут же вскакивает и бежит по намеченному пути отхода. Словом, все это уже смотря по обстоятельствам.
Рихард дошел до тротуара и двинулся по нему в сторону от дома.
Минут через двадцать вернулся обратно и, зажав в кулак опущенную в пустой карман руку, повторил репетицию. Всю сначала. Потом снова взглянул на часы. Времени до совершения «акции» оставалось еще много. Примерно в половине двенадцатого он вернется домой. Более часа проведет у себя, чтобы полностью успокоиться, подождать, не позвонит ли Клаус («А вдруг какие-нибудь перемены?»), потом двинется в обратный путь и около двух будет на месте.
…Все шло по плану. Войдя к себе домой, Рихард снял нейлоновую куртку, туфли и прилег на так и не застеленную с утра кровать. Он закрыл глаза, хотя и с открытыми сейчас ничего не видел, кроме того окна. Только двухэтажный деревянный дом, только это третье слева, если. стоять напротив дома, прикрытое шторой окно. В новые японские часы Рихарда был вмонтирован будильник. Если поставить их на нужное время, то часы издавали сигнал — тонкий, прерывистый, похожий на комариный писк.
Рихард лежал неподвижно. Сердце его давно успокоилось, и он уже не ощущал его биения. Рихард, как это делал уже не раз, попытался как бы «примыслить» себя к этому дому, к этому окну. Вот он медленно сходит с противоположного тротуара на проезжую часть. Правая рука — в глубоком кармане куртки. Пальцы крепко сжимают гранату. До выбоины на мостовой остается не более двух шагов. Он быстро вынимает гранату, вытаскивает чеку. Если приближается автомашина, то пропускает ее. Счет идет на секунды. Часы показывают без четверти два. Перед глазами Рихарда то самое окно. Несомненно, что там, за окном, все уже давно в сборе. Но Рихард никого не видит: окно плотно зашторено. Он резким движением отводит назад руку с зажатой в ней гранатой. Рывок рукой назад. Затем резкое движение приподнятой рукой вперед. Граната достигает окна. Слышен звук разбиваемого стекла. Рихард падает наземь… На этом игра его воображения кончается. Он еще не представляет себе, что и в какой последовательности произойдет дальше. Взрыв? Язык пламени из окна? То и другое одновременно?..
…Часы издают комариный писк. Рихард вскакивает с постели, придвигает стул к вентиляционному люку, вынимает оттуда гранату и пистолет. Кладет их на стол. Надевает туфли и куртку. Кладет гранату в правый карман, пистолет — в левый. Опускает в карман брюк лежащие на тумбочке ключи от машины. Он изменил решение и поедет на машине, так будет вернее Часы показывают десять минут первого. Клаус не звонил. Значит, никаких перемен, все, как условлено Рихард почувствовал, что не может больше оставаться дома.
Без четверти час Рихард выходит из свой машины на ближайшей к Боннерштрассе улице. До него доносится какой-то странный звук, точнее, мелодия. Да, да, кто-то играет — кажется, на кларнете — хорошо известную Рихарду песенку «О, meine lieber Augustin». Достигнув заветной улицы, Рихард видит, что у того дома, рядом с тем самым окном, почти под ним, стоит, прислонившись к стене, какой-то старик и выводит — впрямь на кларнете — свою нехитрую мелодию. На старике длинный, порванный в нескольких местах свитер. Седые волосы космами спадают на лоб. У ног его лежит кепка. Рихарду не видно, есть ли в ней деньги.
Подумал ли он о том, что взрыв может так или иначе задеть этого жалкого нищего? Нет.
Часы показывали без двадцати час. Все еще рано.
И тогда Рихарда охватывает чувство любопытства. Почему бы ему не побродить взад и вперед по улице, не упуская, конечно, из вида тот дом? Почему бы не посмотреть на тех, приговоренных им к смерти людей, которые будут входить в подъезд? Заставить себя вернуться домой Рихард уже не мог.
Дул холодный, порывистый ветер. Рихард застегнул воротник, перешел на противоположный тротуар, медленно миновал крыльцо — объект его наблюдений, перешел улицу обратно — словом, стал бродить «вокруг да около» дома, стараясь не выпустить его из поля зрения. Наконец, Рихард увидел, как двое мужчин среднего возраста, один с портфелем, другой с кожаной папкой под мышкой, приблизились к дому, оба взглянули на свои ручные часы, поднялись по ступенькам и исчезли в сумраке подъезда.
Через две-три минуты шторы, прикрывающие слева окно, раздвинулись, впуская в комнату дневной свет. Рихарду стало окончательно ясно: эти двое пришли именно туда, в ту комнату. Внезапно он подумал: а не явится ли на эту «сходку» тот самый Герберт, который, пусть ненадолго, но все же отравил его жизнь? «Вот это было бы очень кстати!» — с чувством неутоленной мести подумал Рихард и нащупал в кармане куртки шершавую поверхность гранаты.
Но нет, Герберта среди входящих в этот дом не было Пришел еще какой-то совсем молодой парень, потом женщина в спортивном свитере, серой фланелевой юбке и вязаной шапочке. Еще несколько человек подошли и скрылись в подъезде Рихард насчитал уже семь человек: шесть мужчин и одну женщину.
«Коммунистические ублюдки!» — с ожесточением произнес про себя Рихард. Он испытывал чувство злобы и одновременно чувство гордости, что в то время, как другие члены группы Клауса занимаются болтовней или организацией пустых скандалов, ему, Рихарду, поручено привести в исполнение единственно справедливый по отношению к врагам Германии приговор: смерть!
…Нищий музыкант по-прежнему не отрывал своих губ от мундштука кларнета. Только теперь он играл не идиллического «Либер Аугустина», а лихую «Розамунду», весьма популярную среди солдат минувшей войны. Он играл, невзирая на ветер, несущий по улице обрывки газет, окурки сигар и сигарет, конфетные обертки.
И вдруг в конце улицы остановилась машина — маленький желтый «фольксваген».
Рихард еще ни о чем не подумал, еще никаких ассоциаций не родилось в его тревожном сознании, но подсознательное чувство страха уже охватило его.
По улице проезжали и останавливались, высаживая пассажиров, машины разных марок и цветов, в том числе «фольксвагены», и желтые мелькали, но ни одна из них не вызвала в Рихарде смутного чувства тревоги. Ни одна, кроме этой. Сам не отдавая себе отчета в том, что делает, он бросился под арку ворот, откуда можно было обозревать всю улицу, в том числе и дом на противоположной стороне.
«Нет, нет! — повторил он про себя, — это не та машина, не та, это совпадение, мало ли желтых „фольксвагенов“ ездит по улицам Мюнхена?»
Та, в которой он когда-то путешествовал по городу с Гердой, была иная… Больше! Нет, меньше!.. Словом, это не та, не та!..
Но глаза Рихарда уже видели, как именно из той машины вышла Герда, ему даже показалось, что он услышал стук захлопываемой дверцы.
«Не та, не она!» — стучало в висках Рихарда, но Герда уже шла вдоль тротуара. На ней была так хорошо знакомая Рихарду кожаная куртка, ветер колыхал конец повязанного на шее ярко-синего шарфа, на плече висела большая прямоугольная сумка…
Герда шла быстрым шагом по направлению к тому проклятому дому.
«Нет, этого не может быть, — мысленно кричал самому себе Рихард. — Это ошибка, совпадение, ей просто надо было приехать по каким-то своим делам на эту улицу, сейчас она пройдет мимо дома и даже не взглянет на него!»
Но Герда замедлила шаг, остановилась, вытащила из кармана куртки какой-то клочок бумаги, взглянула на него, потом обежала взглядом стены домов, видимо, сверяя адрес, и уже решительным шагом направилась к подъезду именно этого двухэтажного деревянного дома…
«Стой, Герда, стой, беги отсюда!» — хотелось крикнуть Рихарду. Н(C) горло его перехватил спазм, точно сама невидимая смерть сжала на нем свои костлявые, сильные пальцы А Герда между тем беспечно поднялась по ступеням и скрылась в подъезде.
Часы Рихарда показывали без двух минут час. Это означало, что двумя минутами позже там, в доме, должно начаться совещание, а после этого его участникам суждено погибнуть или получить тяжелые ранения. Это означало, что и Герда будет убита или ранена… может быть, смертельно…
«Что делать, что делать?! — беззвучно спрашивал себя Рихард. — Уйти, скрыться?!»
Но оттягивающая карман его куртки граната напоминала, что это означало бы не выполнить приказ. Это означало бы предать партию, предать заветы отца, нет, не того проклятого американца, а другого, чистокровного немца, беззаветного борца за дело фюрера…
Рихард представил, как стоит за круглым столом в квартире Клауса, почувствовал на себе полные гнева и презрения взгляды товарищей. Нет, не случайно он нарушил приказ и в зале суда, и в том магазине, не случайными были его тайные встречи с Гердой — это кровь презренного метиса говорила в нем, толкала на измену делу партии!..
«А Клаус? — внезапно задал себе вопрос Рихард. — О, он, конечно, знал, что Герда будет на этом собрании! — И тут же ответил себе: — А если и знал? Или, наоборот, не имел понятия? Какое это может иметь значение, когда речь идет о долге национал-социалиста?! О, она понимала, на что шла, эта Герда, когда связала свою жизнь с врагами Германии! Так пусть свершится неизбежное!..»
«Вперед!» — приказал себе Рихард.
…Издалека приближаются сразу несколько автомашин. Очевидно, их задержал красный свет ближайшего светофора, а теперь они все двинулись на зеленый. Кларнетист продолжает играть. Рихард видит, как какой-то прохожий бросает ему в кепку монету. Старик, не отрывая кларнета от губ, низко кланяется. Часы на руке Рихарда издают едва слышный писк.
Рихард делает рывок на мостовую, стремясь достигнуть той самой выбоины. Он спешит оказаться на избранной им боевой позиции, пока его не отделят от дома приближающиеся автомашины. Кто-то из шоферов, видимо, заметил его и еще издали начинает сигналить.
В эти секунды Рихард не слышит ни сигналов, ни звука кларнета. Он выхватывает из кармана куртки зажатую в кулаке гранату, вырывает из нее чеку, бросает последний взгляд на окно и, прицелившись, со всего размаха швыряет в него смертоносную ребристую грушу.
Что было потом?
Рихард не смог бы восстановить последовательность всего, что произошло в следующие секунды. Звон стекол. Оглушительный взрыв. Язык смешанного с дымом пламени, вырвавшийся из окна. Скрип, визг тормозов. Все, все вместе…
Но в эти последние секунды Рихард ничего не видел. Бросив гранату, он рухнул, распластался на мостовой, предохраняя себя от осколков. Однако репетиции не прошли даром. Он тут же вскочил, петляя, бросился бежать между рядами уткнувшихся друг в друга машин, крича:
— Бомба! Где-то взорвалась бомба!
…Через две-три минуты здесь уже собралась толпа Откуда-то внезапно появившиеся пешеходы, шоферы и пассажиры, выскочившие из машин… Рихард обернулся, бросил взгляд на раздуваемый ветром язык пламени, рвущийся из окна и все еще лизавший наружную стену дома… Кто-то кричал в толпе:
— Я видел его, я видел! Полиция! Где полиция?! И тогда смешавшийся с толпой Рихард тоже стал кричать:
— И я его видел, он убежал! Полиция!
Он уже давно скинул с себя куртку, чтобы не быть опознанным по одежде, и теперь размахивая ею, придерживая лежащий в кармане пистолет и делая вид, что рвется к дому, чтобы тушить пожар. Затем, убедившись, что никто не собирается его задерживать, Рихард выбрался из толпы и, постепенно замедляя шаг, пошел в намеченном заранее направлении. Спешившие ему навстречу люди спрашивали:
— Что там произошло? Откуда взрыв? Он охотно отвечал:
— Бомба! Какой-то негодяй бросил бомбу в окно.
Рихарду везло. Не только он один, но и еще многие прохожие отделялись от толпы и спешили уйти в сторону, боясь повторного взрыва или возможной перестрелки или просто не желая оказаться на месте происшествия, когда появится полиция.
Рихард повернул за угол, миновал переулок и только там уже надел куртку, пригладил растрепавшиеся волосы и свернул на параллельную улицу.
Уже не мысль о спасении, а совсем другая целиком владела теперь Рихардом: акция удалась! Он выполнил приказ! Доказал и Клаусу, и всем остальным, что страх не ведом ему, а ненависть к коммунистам беспредельна.
Дойдя до заранее облюбованной пивной, он открыл дверь и вошел. Пивная была наполнена лишь наполовину, и Рихарда встретили десятки любопытных и встревоженных взглядов. Сидевшие за ближайшим к двери столиком люди стали наперебой спрашивать его:
— Вы слышали взрыв? Где он произошел? Кажется, где-то поблизости?
Рихард в ответ пожимал плечами и отвечал, что на улице все спокойно, но взрыв он слышал и думает, что это случилось где-то неподалеку. Он уселся за свободный столик и заказал подошедшему официанту кружку пива.
В это время откуда-то издалека, но все приближаясь, донеслось завывание полицейских сирен.
Верно это или нет, что преступника часто неотвратимо тянет на место совершенного им преступления? По крайней мере Рихарда тянуло. Это была не мистическая, безотчетная тяга. Ему хотелось узнать, сколько врагов пострадало от взрыва, а если удастся, то увидеть их в лицо. Увидеть, есть ли среди них Герда. Если да, то, значит, он, Рихард, — настоящий национал-социалист, что приказ партии для него превыше всего.
Звук сирен постепенно смолк, и Рихард понял, что и полицейские и санитарные машины, очевидно, уже подъехали к дому. Следовательно, если он хочет узнать, сколько там убитых и раненых, то надо вернуться.
Он снова снял куртку, носовым платком вытер лоб, делая вид, что ему жарко, расплатился, не допив пиво, и, проговорив, ни к кому не обращаясь: «Пойти, что ли, посмотреть…», вышел на улицу.
Рихард увидел, что люди на тротуарах явно спешили туда, где произошел взрыв. Он смешался с пе-шеходами, миновал переулок и скоро оказался на знакомой улице. Еще издали Рихард почувствовал запах гари, а дойдя до конца переулка, увидел, что соседняя улица окутана дымом.
Однако в это время подул ветер. Он раздувал пожар, но постепенно рассеивал дым. На мостовой и на тротуаре напротив того дома стояла большая толпа людей. Над ней возвышались кузова полицейской, пожарной и санитарной машин.
Толпа была разделена широким проходом, образованным двумя шеренгами полицейских, выстроившихся от подъезда дома до того места, где вплотную друг к другу стояли машины — фургоны с опознавательными надписями и знаками на бортах.
Стена, в которой находилось то окно, была черной от гари и копоти, и по ней стекали струи воды, — очевидно, пожарные только что закончили свою работу. Оконная рама с выбитыми стеклами, с разводами сажи вокруг на стене напоминала подбитый глаз какого-то чудовища.
Рихард уже успел втиснуться в толпу и пробраться почти к самому проходу, где, взявшись за руки, стояли полицейские. Его переполняло чувство гордости. Это он, он все устроил, он швырнул прямо в глотку коммунистам гранату, из-за него собралась здесь эта толпа, примчались эти машины! Кто из группы Клауса, включая и его самого, мог бы похвастаться таким же подвигом? Сегодня вечером этот подвиг станет известным всей партии, всему Мюнхену, всей Германии!
Недалеко от порога дома Рихард увидел лежащее на тротуаре тело старика нищего, недавно игравшего на кларнете. Его длинный свитер был забрызган кровью, кровью и сажей были покрыты седые волосы.
Рихард взглянул на часы: 13.40. Только немногим более получаса заняла вся операция.
Он подошел уже почти вплотную к шеренге полицейских. Прислушался к говору окружавших его людей. Одни убеждали других, что бомбу бросили коммунисты, для этого, мол, в Мюнхен из Восточной Германии была заслана целая террористическая группа, другие, обрывая их, обвиняли «проклятых нацистов»…
Внезапно все смолкли. В подъезде показался человек в белом халате. Медленно переступая, он сжимал ручки носилок. Второй санитар держал носилки с другой стороны. Неторопливо, буднично выполняя привычную работу, они вошли в образованный полицейскими коридор.
Рихард был доволен, что сумел пробраться так близко к проходу. Отсюда он увидит всех, кого уничтожил или смертельно ранил. Вот этот тип, которого сейчас проносят мимо, конечно, мертв. На вид ему лет тридцать, а может быть, окажется и больше, если смыть с лица кровь, прикрыть рассеченный осколком гранаты лоб. «Туда тебе и дорога!» — подумал Рихард. Еще полчаса назад он, наверное, выкрикивал свои коммунистические лозунги. А раньше подстрекал судетских или эльзасских немцев против национал-демократов. Предатель!..
Гордость за содеянное переполняла все существо Рихарда. Значит, он готов, он может преступить все — дружбу, любовь — ради партии.
Пронесли на носилках второй труп. Убитому было явно за пятьдесят, пустой окровавленный рукав пиджака свешивался с носилок. Ничего, на том свете вторая рука ему не понадобится. Третьей пронесли женщину. У нее была вырвана нижняя челюсть, и на ее месте осталось только черно-красное месиво. «А ты чего полезла? — со злобой подумал Рихард. — Забыла разве старонемецкую заповедь для женщин: кирхе, киндер, кюхе! — церковь, дети, кухня!»
Четвертым из подъезда вынесли мужчину. Его сложенные в кулаки руки были сжаты на груди. Губы чуть шевелились. Еще жив! Ничего, подохнет в больнице.
Шофер одной из санитарных машин завел мотор. Полицейский захлопнул задние двери. Фургон отъехал. На его место встал второй.
А пятые носилки уже показались в подъезде… так сколько же всего их было в этом осином гнезде?!
Санитарные носилки приближались к тому месту, где стоял Рихард. И вдруг он замер, окаменел от ужаса. Голова убитой была повернута слегка набок, ветер сбросил с нее покрывало, светлые волосы слиплись от крови, а глаза, неподвижные голубые глаза, казалось, в упор смотрели на Рихарда. Это была Герда.
Она глядела на него своими мертвыми, но широко раскрытыми глазами. Смотрела, как показалось Рихарду, с мольбой, жалостью и презрением.
— Стойте! — крикнул во весь голос Рихард. — Она ведь жива, жива!
Стоящий впереди Рихарда полицейский резко оттолкнул его, а один из санитаров со злой усмешкой громко проговорил:
— Мертвее, парень, не бывает!..
«Герда, Герда! — закусив губы, чтобы снова не вырвался крик, мысленно кричал Рихард. — Это ошибка, встань, я здесь, рядом, Герда!..» Но носилки уже приближались к автомашине.
Рихард, сам не сознавая, что делает, работая локтями и кулаками, стал выбираться из толпы. Его влекла прочь какая-то необъяснимая сила. Казалось, что кто-то громко кричит ему в уши: «Беги, беги, скрывайся скорее отсюда!..»
Преследуемый взглядом Герды, ничего не видя перед собой, кроме ее широко раскрытых глаз, точно подгоняемый в спину раскаленным железом, Рихард бежал вперед. Только спустя несколько минут он сообразил, что инстинктивно стремится к своей машине.
Сесть за руль, вставить ключ в замок зажигания, — все это отняло у Рихарда считанные секунды. Он повернул ключ, включил сразу вторую скорость, нажал на газ и, развернув машину, бросил ее вперед.
Улица была с односторонним движением. Рихарду надо было повернуть налево, но он, не отдавая себе отчета в том, что делает, повернул направо, против движения…
Встречные машины сигналили ему, шарахались в стороны. Но ничто не могло задержать Рихарда. Он мчался вперед, только вперед, временами заезжая колесами на тротуар, кого-то сбил, но и это не остановило его. Очередной светофор он проскочил на красный свет под оглушительный свисток полицейского, свернул из крайнего ряда влево, «подрезая» поток машин…
Люди на автобусных остановках разбегались в стороны, едва завидев эту бешено мчавшуюся и, казалось, потерявшую управление машину.
Знал ли Рихард, куда мчался, куда спешил? Нет. И тем не менее подсознание, во власти которого он сейчас находился, гнало его к определенной цели. Этой целью был дом, в котором жил Клаус. Еще полчаса назад Рихард не думал о нем, но сейчас, ощутив на себе взгляд мертвых глаз Герды, он был обуян новой, непреодолимой, безотчетной страстью: его вело неистовое желание убить, уничтожить Клауса. Совсем недавно Рихард был упоен своей готовностью пожертвовать во имя партии всем, что у него было дорогого, гордостью, что на его долю выпало свершить подвиг, пожертвовать Гердой во имя национал-социализма, что, если понадобится, он совершил бы подобный подвиг и во второй, и в третий раз…
Но сейчас все это ушло из его души. Жила только месть, месть Клаусу за то, что тот заставил его убить Герду.
…Вскоре раздались гудки полицейской сирены. В зеркале Рихард увидел мигающую фарами машину. Она была еще далеко. Рихард сильнее нажал на акселератор, машина сделала резкий рывок, продолжая свой сумасшедший бег, и наконец выскочила на ту улицу, к тому дому, к которому Рихард так неудержимо стремился.
Он резко затормозил, выпрыгнул на тротуар, не заглушив мотора, переложил пистолет из левого кармана куртки в правый, бросил взгляд назад, увидел бежавших по улице полицейских, услышал непрерывною трель свистков и вой сирен, бросился к двери, ведущей в квартиру Клауса, и, одной рукой нажимая на кнопку звонка, другой стал колотить в дверь.
Дверь открылась. На пороге стоял Клаус.
— Это ты! — закричал Рихард. — Ты знал, знал, что она там, это ты, ты, ты!
Он выхватил из кармана пистолет и, почти упираясь стволом в грудь Клауса, выпустил в него всю обойму.
Клаус упал, наполовину вывалившись на тротуар. Рихард бросил на труп уже ненужный пистолет и отпрыгнул назад. Повернув на мгновение голову, он увидел полицейских — они были совсем рядом! — и бросился бежать.
За его спиной прогремели выстрелы. Но ни одна пуля не задела его..
Он бежал вперед без цели, без малейшей надежды на спасение, не бежал, а скорее летел вперед, не видя ничего, кроме широко раскрытых глаз Герды. Заметил впереди переулок и решил свернуть туда, чтобы оторваться от полицейских, но в это — время ощутил сильный удар где-то в боку, ниже спины.
Рихард еще бежал, даже не чувствуя боли, не понимая, что ранен… Он свернул в переулок, бросился в ворота первого попавшегося двора и вдруг ощутил, что летит вниз… Секунды спустя он понял, что упал в какой-то открытый люк, в канализационный колодец или в подвал.
Рихард пошевелил пальцами, и ему показалось, что он опустил их в лужу… Да, это была постепенно увеличивающаяся лужа его собственной крови. Он видел какие-то трубы, тянувшиеся по стенам подвала. Он чувствовал, как жизнь с каждой минутой покидает его.
Эпилог
…И тогда появились крысы. Сначала одна, потом другая. В подвале был полумрак, рассеянный свет едва проникал сюда через открытый люк. Полицейские свистки и сирена постепенно затихали и наконец смолкли. Наступила тишина. Крысы несколько осмелели. Одна из них сделала несколько коротких прыжков туда, где лежал в луже крови Рихард. Вторая, видимо, заметив, что человек лежит неподвижно и никак не реагирует на приближение ее более смелой подруги, тоже осторожно продвинулась вперед.
Не показались ли они Рихарду нюрнбергскими призраками? Ведь отец часто рассказывал ему, как скрывался в нюрнбергских подвалах и как почти вплотную к нему приближались голодные крысы.
Но Рихард ничего этого не видел и ничего не чувствовал. Он был мертв.
Ему не суждено будет узнать, что национал-демократическая партия, ради победы которой он был готов убивать, взрывать, душить, потерпит провал на сентябрьских выборах, что воля большинства народа ФРГ заставит новое правительство заключить мирные договоры не только с Москвой, но и с Польшей, и Чехословакией, что пройдет немного лет и студеные морозы «холодной войны» по инициативе Советского Союза и других социалистических стран сменятся периодом разрядки..
Ничего этого и многого другого Рихарду не суждено было узнать. У него уже давно была изуродована душа, а теперь убита и плоть…
Лишь через несколько дней дворники случайно обнаружили его уже разлагающийся труп…
________________________________
1987–1989Примечания
1
Так назвал свою книгу о Рузвельте Дж. Бернз, заимствовав этот образ у Макиавелли (А Ч.).
(обратно)2
Неведомы беды мои никому, И боль мою люди не знали. Неведомы беды мои никому, И мне не уйти от печали (англ.). (обратно)3
Но замерли стрелки часов навсегда В тот миг, когда дедушка умер (англ.). (обратно)4
Очень важные персоны (англ.)
(обратно)5
Все в порядке. Пожалуйста! (нем.)
(обратно)6
Очень приятно! Меня зовут Герда Валленберг (нем.)
(обратно)7
Этого достаточно, спасибо! (англ.)
(обратно)8
Время летит (англ.)
(обратно)9
С нами бог (нем.)
(обратно)10
«Ведомство по охране конституции» и политическая полиция. Контрразведка ФРГ
(обратно)11
Войдите! (нем.)
(обратно)
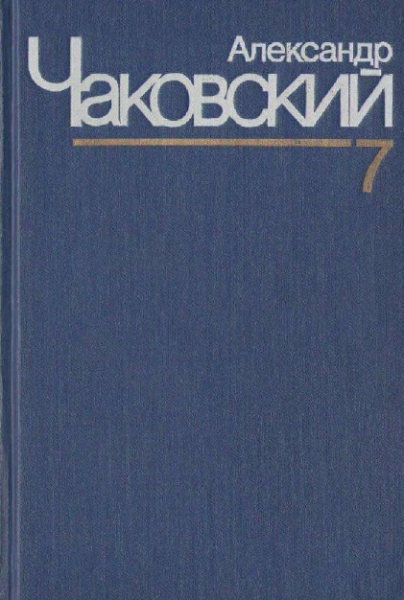



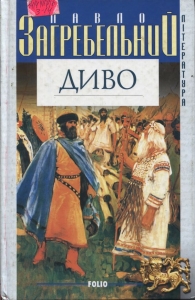
Комментарии к книге «Неоконченный портрет. Нюрнбергские призраки», Александр Борисович Чаковский
Всего 0 комментариев