Гнев Перуна
Часть первая В СЕТЯХ ДИАВОЛА
Не удерживай слова, если оно может помочь.
Ибо в слове познаётся мудрость, и в речи — познание.
Из книги премудрости Иисуса, сына Сирахова.Высокий костлявый старец широко ступал узкой тропинкой, вросшей бурьяном, которая пилась вдоль насыпи. Если отсюда, с этого крутого взгорья, посмотреть вниз, куда беспорядочной толпой как бы сбегают яворы, осины, вербы, дубы, густые заросли черёмухи и бузины, то сквозь их ещё оголённые ветви можно разглядеть широкую светлую полоску реки. Это Днепр. Старые прищуренные глаза хотя и видели далеко, но уже не могли хорошо рассмотреть нынче, каков он, этот полноводный Днепр, в этот момент — тихий или гневный. Наверняка всё же шумел белыми гребнями волн. Наверняка. Ибо иначе сегодня и не могло быть! Сегодня всё должно было возмущаться, восставать, расплёскивать гнев, подобно тому как он клокочет в душе этого седого старца.
По другую сторону дорожки, вверху за насыпью, тянется деревянная стена. В кремнистую землю этого высокого правого берега Днепра крепко вцепились высокоглавые храмы Печерской обители. Туда не хотел смотреть.
Сердито стучал сучковатым посохом о тропинку, по сторонам которой шелестели на ветру ещё прошлогодние стебли череды и цикория.
Не замечал этого. Большая сухая рука в синих сухожильях до боли в суставах сжимала посох. Подставлял лицо пахучему апрельскому ветру. Пьянило терпким молодым зельем, почками, влажностью земли. Дурманило голову. Путались редковатые, но длинные, до плеч, седые волосы. Путалась густая белая борода. Прозрачно вылинявшие старческие глаза напрягали зрение, всматривались вдаль. Но вряд ли что-то видели. Сердито бормотал:
— Горе тебе, человек, которого сын человеческий предаёт. Горе тебе...
Кому посылал эти слова? Бросал их себе в душу, дабы сделать ей ещё больнее? Или хотел ими сразить кого-то из своих обидчиков?..
На спине ветер надувал парусом чёрную рясу. Она хлопала о колени, облипала ноги. Старец не замечал этого. Хмурился. Под сморщенными веками глаза таили гнев.
Шевелились старческие сухие уста. Негоже монаху, служителю Всевышнего Господа, поддаваться мирской суете, где подстерегает тебя везде диавольское искушение. Обращайся, человек, в молитвах своих ко Всеблагому, возложи тяжесть тленного жития земного на его плечи, а своим терпением и смирением достигай покоя для души!..
Терпением и смирением...
Ан нет! Диавол от самой заутрени сегодня ловит душу отца Нестора в свои сети! С того часа, как узнал, что игумен Печерской обители сообщил черноризцу-книжнику, что забирает у него державный пергамен и отдаёт новому летописцу — Сильвестру[1]... Ибо того хощет новый князь... Владимир Мономах[2] того жаждет!..
Забрать его пергамен! Сколько лет Нестор труды свои вкладывал в него! Сколько дум над ними передумал! Душою сам возносился и иных, несмысленых, желал вознести над мелочностью и ничтожностью жалкого мира. А теперь эти мозгляки никчёмные вырвали у него самое дорогое. Забирают чадо его, кровию, потом, пылкой мыслью взлелеянное за все эти долгие и многотрудные лета.
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, которые запираете царство небесное человекам, ибо сами не входите туда и хотящих войти не допускаете...»
Стукнул посохом о твёрдую каменистую тропинку — случайно попал в босую ногу. Пусть! Пускай болит и тело. Может, душе полегче станет...
Уста шептали молитвы-раскаяния. «Боже, посмотри на смирение моё и на труд мой честный и прости все прегрешенья мои!.. Ибо грешен есмь!.. Ежедневно грешил помыслами, денно и нощно умножая эту сокровищницу познания для людей. Ибо забыл, что всеблагий Господь учил: «Где сокровища ваши, там и сердца ваши». И ещё сказал о таких, как он: «Безумец! В эту ночь душу твою возьму, собранное же тобой — кому достанется?»
Грешен отец Нестор. Считал, что эти его сокровища — человеческие души обогатят, посеют мудрость и добро в сердцах неразумных. Теперь же постиг, что всё это — лишь бесовские сети. Никому не нужны на сем свете те его знания и его правда. Наверное, и в самом деле: лишь на небесах, среди райских садов и белокрылых ангелов витает мудрость и умножает добро в душах праведных. На сей же грешной земле для них существуют лишь искушения...
Молиться... молиться ему следует. Нести поклонное чело святому Господу, чистой Богородице, Матери Божьей, и своим отречением от суеты и терпеньем этого унижения и оскорбления его души добыть право хотя бы на потустороннее признание Богом. А сей грязный, смрадный мир да сгниёт в блуде, страстях, братоубийствах! Ему же, отцу Нестору, теперь до него дела совершенно нет!..
Теперь пускай отец Сильвестр... Но почему Сильвестр?
Обида снова горячо бунтует в Нестеровой душе. Почему именно сей ничтожный лукавец, для которого не существует ничего святого и доброго на земле?.. Ведь он же что угодно напишет в державном пергамене! Может вознести никчёмного, может унизить великого. Правда человеческая никогда его не тревожила. А ведь летописец потому и имеет право на прошлое, что сохраняет правду для будущего!
Но не будет Нестор печалиться за этого Сильвестра. Ему отныне нужно спасать свою душу. Оградить себя верой и надеждами в Бога и в добро, наполнить себя равнодушием к миру сему, дабы достойно уйти из него. Его тропа вот-вот оборвётся... Навсегда...
Неcтор изо всех сил принуждает себя думать о собственной душе и собственном спокойствии. Как спасти свою душу? Только душу. Ибо силу плоти он давно убил в себе. Пусть отныне не встречается его душа с кознями диавола! Пусть ангелы проведут её сквозь адские мученья к свету Божьего милосердия. Аминь.
Монах вдруг остановился. Утомлённо сомкнул веки. Вдохнул на полную грудь. Обеими руками схватился за посох.
Пришёл ведь... Вот и конец его тропинке...
Посмотрел вниз, на широкие заплавы Днепра. На синюю даль лесов. Благодать Божья! Красота земли-матери...
За этой кручей, на которой он стоит, Днепр-река круто поворачивает направо и прячется в зелёно-мглистых волнах лесистых горбов. Под ногами — обрыв высокого берега. Дикие заросли и кустарники. А над головой — высокое синее небо. Порывы ветра подгоняют белые растрёпанные облака. Низко плывут они над днепровскими склонами. Касаются мягкими крыльями верхушек храмов и тополей. Будто хотят подхватить с собой и отца Нестора, великого грешника земного, дабы вознести его над миром. Надо всей весенней землёй, которую он так горячо любил, которую пылко желал засеять добром и мудростью. Потому человек и грешен, что верил в невозможное. Ведь это только Всеблагому дано!
Ещё грех единый знает он за собой: любит наслаждаться красотой мира. А может, это и не грех, ибо всякая красота — творенье духа Божьего... Потому она и успокаивает его уничтоженное, разбитое сердце и взволнованные мысли.
Что есть в человеке более низменное, как не суета мирская? Погляди, человек, вокруг себя, на этот безмерный и вечный мир, и ты почувствуешь своё величие и ничтожество своих стремлений. Что ты еси под небесами? Быстро меркнущая искра, мимолётная слабая вспышка. Не способна она озарить землю ни Сердцем, ни Мыслью, ни Словом. Для этого ещё нужно, чтобы окрест тебя умели прислушиваться к твоему Слову, а не к собственной гордыне или же к собственному ничтожному страху...
Безутешная обида снова заныла в старческом сердце. Ведь отдал людям всё богатство, которое носил в мыслях и в душе, а они взяли его своими грязными ручищами и бросили себе под ноги. Стоило ли столько лет над столом спину гнуть!..
Вновь бесовские искушения жгут мысли. Благой отец печерский владыка Феодосий[3], когда ещё был живой, учил братию монашескую не уповать на будущий день. Сколько чудес он сотворил во имя того, чтобы научить окружающих, как нужно жить сегодняшним. «Господь Бог сам проявит свою заботу, — говаривал, — за тех, кто молитвы ему посылает».
Он же, Нестор-черноризец, согрешил также и против этих поучений святого отца игумена: ведь беспокоился о будущем. Не о своём, правда, о будущем земли Русской и рода-племени русского. Вот и остались на душе его открытые раны. Солью посыпает их нынче. Забыл, что писали мудрые апостолы Божьи в святых мудрых книгах. А писали, что в большой мудрости — много печали; и кто умножает познанье, умножает скорбь человеческую...
Единственное покаяние для Нестора отныне — в посту и молитвах. Перейдёт он жить из монастырской кельи вот в эту свою пещеру. Четыре локтя в ширину, шесть — в длину. Дощатая скамейка, соломой устланная. Сверху дерюга. И всё. Братия будет приносить ему раз в три дня кусок чёрствого хлеба и глиняный кувшин с водой. Так повелося в обители ещё со времён первого игумена — Феодосия, который сей монастырь великолепный застраивать начал. А было это давно. Нестору тогда едва исполнилось семнадцать вёсен.
Припомнилось, с каким ужасом впервые увидел пещерку. Яма, нора — сырость и темень. В той пещерке жил Феодосий. Упал ниц перед святым старцем: «Благослови, отче, хощу остаться возле тебя! Хощу познать истинную веру, чтобы служить господину Богу всевышнему». — «Зачем, чадо моё, пришёл в это невесёлое место? Зачем убегаешь от сладостей земных, даруемых Богом людям? — Тот древний старец владел рокочущим гласом в могучем теле. Нестор не мог поверить тогда его словам. — Не каждый может выдержать наше житие. Не каждому такое терпение дано. Иди к людям, чадо. Иди в мир». — «Не пойду, отче. Благослови!» — с горячими слезами припал к его костлявым стопам. «Иль беда какая гонит тебя от суеты мира, сын мой? — наклонился над ним белоголовый старец. Его большая тёплая ладонь успокоительно легла отроку на голову. Голос Феодосия стал мягче, сочувственно дрогнул. Возможно, в тот миг вспомнил свою молодость святой человек. — Коль так желаешь, то оставайся возле меня. Укрепи свои силы верой. И готовься к своему подвигу, чадо моё...»
С тех пор минуло... Сколько же это? Где-то около полстолетия промелькнуло. Вот только теперь сосчитал! Было не до воспоминаний. То плоть свою буйную томил молитвами, бессонницей и голодом. То боролся с духом сатанинским и его чёрными ангелами в пещерке. Потом начал вписывать временные, уплывающие лета в пергамен. Отец Феодосий заповедал всем летописцам тем письмом крепить корни рода русского. Ибо распри вокруг, межусобицы, крамола княжеская... Должно, Бог разгневался на наш народ, потому что возлюбил поначалу больше других народов и честью отметил, дал просвещение больше других — потом же наибольше и наказал за тщеславие и гордыню княжескую...
«Прочь, прочь, размышления суетные!» Зачем снова припоминать ему дела мирские? И чтобы остановить теченье своих воспоминаний, начал запальчиво креститься. Убегал от себя.
Чудной человек в рясе — будто не ведает той истины простой, что от себя не убежать! И никто никогда не скрылся от себя...
— Челом тебе, брат! — вдруг слышит за спиной знакомый голос.
Но сразу никак не может припомнить, кто же это рядом с ним остановился возле его пещеры. Мысли его всё ещё путались меж этими взгорьями и кручами печерскими, где блаженный отец игумен, основатель обители Печерской, благословил молодого послушника на новую стезю в жизни.
Так и стоял с закрытыми глазами, вслушиваясь в минувшие лета, ожившие вдруг в нём. Поэтому молвил хрипловато, будто возвращаясь из тех ушедших дней:
— И тебе челом...
Неужели это новый печерский священник Сильвестр? Нашёл его здесь? Хочет поглядеть на его унижение и утешиться своим превосходством? Победой?
Решительно тряхнул белой бородой. Взглянул в вышину неба, будто просил у него силы погасить мятеж духа, вспыхнувший в нём с новой силой.
Стремительным шагом двинулся вперёд, выбрасывая далеко перед собою сучковатый посох.
За ним семенил плотный монах с чёрной гривой прямых волос, которые доставали до плеч и слипшимися космами рассыпались по спине. На его макушке сидела высоко подбитая новая скуфейка[4] из чёрного атласа. Кабы не чёрная ряса с блестящими затёртыми полами на его круглом животе, можно было подумать, будто и не монах это был, а черноглазый румянолицый мужичок, полный силы в широких плечах и уверенности в себе.
— К тебе я, брат, за благословеньем. — Слова Сильвестра догоняли Нестора.
Отец Нестор ускорил шаг. Не оглядывался. Не видел Сильвестра. Но по голосу ощущал, как тот униженно сгибается, втягивает короткую шею в плечи, как ладьёй складывает узкие, всегда влажные и липкие ладони и прикладывает к груди.
Видишь ли, к нему он... Но ведь отец Нестор благословенья не раздаёт. Есть простой черноризец, без сана! И слова его отныне ни к чему. Что теперь ему отведено на сем свете? Бить к земле челом. Со всеми соглашаться. Всем покорствовать. Да когда бы и поведал Сильвестру свои мысли — внял ли бы им он?
Человек, который вписывает годы в пергамен, пишет их в поученье наследникам простым и властителям могущественным, потому и должен возноситься мыслью далеко и постигать ею многое. Не только железным или костяным писалом[5] выцарапывать на жёсткой телячьей коже славные иль худые деянья владык мира или мудрых пастырей духовных! Не только сие. Но и своим розмыслом уметь оторваться от себя, от своих огорчений и обид, взнуздать собственную душу, лететь вперёд, дыбиться, выстоять, даже когда нет надежды, когда под ногами шатается земная твердь... Тогда дано тебе пройти сквозь смерть!.. Тогда можешь хулить одних и награждать похвальбою иль осужденьем иных...
Сказал бы сие Сильвестру, если б знал, что вот этому пониманию своему и высокости мысли можно научить сего человека!
Нестор остановился. Так же неожиданно, как сорвался было на стремительный шаг. Сильвестр едва не наскочил ему на пятки.
— Слово моё вряд ли поймёшь. Но скажу. Оторви очи от земли и погляди в небо. И погляди вокруг. На белый свет, сотворённый не рукотворно, а любовию великой. Да пусть этот мир и эта красота земная и великая доброта её — пусть войдут в твоё сердце и водят десницею твоею. Тогда поймёшь мудрость жизни. И писало твоё будет писать на пергамене истинные заповеди для сущих и для тех, кто придёт. Коль же не способен всё это взять в свою душу — пусты твои слова. Будут лишь плодить скудомыслие и холопство души. Помогай тебе Бог. Аминь. — Широко осенил крестом оторопевшего Сильвестра.
И уже тихим шагом двинулся дальше. Тяжело переставлял свои слабеющие ноги. Будто в тех своих словах оставил не только пыл души, но и силу, и частицу того огня, который обжигал его сердце. А возможно, вместе с ними передал свои думы и надежды и свою великую любовь к этому миру...
Кто знает... Сильвестр удивлённо сдвинул чёрные колючие брови и огляделся вокруг. Его короткая бородка задралась кверху. Странный отец Нестор! Мир как мир. Как сотворил его Господь Бог, так и поныне стоит. И вовеки стоять будет, будут ли они его созерцать или нет. Хе, отец Нестор напускает побольше тумана в свои словеса. Злится. Потому что именно ему отдали в руки дело Нестора. И отныне он сделает всё, дабы его имя, Сильвестра, осталось в памяти веков, а не имя этого горделивого дряхлого честолюбца Нестора.
Коль быть Сильвестру и дале таким вот старательным и с большим вниманием перехватывать в глазах владык мира их желания — добьётся он и чести епископской. Здесь, в Печерской обители, возможно, не удастся — слишком хорошо знает его здешняя братия мнишеская. А вот в Выдубичах иль в Германовом монастыре... Хе-хе, лишь бы сподобиться владыкам земным, нашлась бы для него кафедра епископская! — в Переяславле аль во Владимире, в Чернигове аль в Юрьеве...
Но главное — с чего начать. Дело сие новое для Сильвестра. У Нестора-книжника всё так складно получается. Ещё бы! Начитался греческих книг, и латыни, и сарацинских[6] разных скитальцев. А уж Святое Писание знает — никто, даже игумен-владыка не сравняется с Нестором... Понаписывал-то столько житий! О святом Борисе и Глебе[7]... и о блаженном основателе Печерской обители Феодосии... и ещё о... Господи Боже, научи и его, никчёмного раба, премудрым сим хитростям!
Сильвестр ускорил шаг, догнал Нестора.
— Брат! Поговори со мною о деле Божьем. Сам ведь знаешь — не виновен я ни в чём. Сказал же Господь: «Мнозии из последних да будут первыми». Ты всегда был среди братии первым. А я — последним. Нынче же — наоборот.
Нестор смиренно опустил глаза вниз.
— То, что должно быть, свершится. А то, что свершается, не что иное, как благо. Ибо это — воля Божья. Тако верую, брат Сильвестр. — Нестор первым сел на сухой горбик земли. — Стар есмь. Разумом оскудеваю. Духом слабею.
Сильвестр загнутым носком сапога коснулся сухого комка земли, тот вдруг рассыпался в прах.
— Яко и житие наше... Всё тлен. Всё рассыпается в прах, брат Нестор, — вздохнул Сильвестр.
— Не всё, — тряхнул редкими седыми космами Нестор и потянул с головы свою старую, потёртую на концах и помятую суконную скуфейку. — Нетленный дух людской, который остаётся в наших нетленных пергаменах. Сии каменные храмы также нетленны. Мы отойдём, а величье наше и сила наша — в них останутся.
— Грешные слова молвишь, отче Нестор. — В чёрных Сильвестровых глазах показалось выражение тупого упрямства. — На сей земле остаётся единая воля Всевышнего. А всё иное — тлен. Добыча для червей!
Нестор впервые взглянул Сильвестру в лицо. Крутоскулый, румянец на тугих щеках. Ни единой морщинки. Хотя уже за пятьдесят давненько перевалило Сильвестру. Неужели все эти годы сомненья и боль не касались его совести? Никогда и ни в чём не каялся брат Сильвестр? В своих словах и деяньях не сомневался?..
— Однако же истина есть, брат Сильвестр: добро рождает добро, а зло — всегда и во всякий час и на всяком месте — рождает только зло. Сладкие плоды вырастают ведь из сладкого корня, а горькие — от ядовитых отпрысков. Как вражда рождает ненависть, так и добро творит любовь и мудрый умысел.
— Всё тлен, брат. Вечна лишь воля Господа.
— Слово мудрое — нетленно. В нём душа и исходища мудрости рода людского. В нём — познание, неисчерпаемая глубина суть!
— Знаешь сам ведь, что познанье умножает скорбь людскую. Зачем же прибавлять печаль на земле?
— А этого бояться не надобно, коль уж взялся за писало. То — крест твой. Неси его терпеливо, яко Иисус Христос его нёс в свою смертную годину. Умей взнуздать своё нежеланье, свою леность, аще знай: всё имеет свою обратную сторону. Не было бы печалей, не знали бы люди радости. Нет вечного без суетного, брат, а великое — не существует без ничтожного. Главное — уметь разглядеть сущность. Ибо в Слове вмещается весь мир — великий и мизерный. В Слове. Аще бы постичь Слово, нужно любить этот мир таким, каков он есть. И нужно сердце своё держать на привязи у правды. Я знаю, брат, мои слова ныне горько бороздят твою душу. Любить ведь ты сладости жизни, а не правду. Любишь тщеславие, потому и унижаешься без нужды. Нет величия в твоей душе. И жажды знаний нет. Какой же мудрости научит твоё слово? Разве что... холопству и уничижению души... Охо-хо! Лучше бы ты, брат, помолился Богу да отказался от сего непосильного для тебя труда. Ты ведь и без этого достигнешь высокого сана. Отдай лучше мой пергамен брату Даниилу альбо Еремее. Честные они братья — ко всему справедливы душой, хотя и не учёные зело.
Сильвестр тяжело сопел коротким ноздреватым носом. Глазами что-то выискивал в земле.
— Я разве что... Не рвался к твоему пергамену. Говорил игумену: дайте другую работу. А он своё — имеешь красное письмо. Азы и буки, сам ведь знаешь, брат, у меня каждому милуют глаз.
Нестор привстал с бугорка, долго разгибал свою окостеневшую спину. Приставил ладонь к челу, всматривался в сизую даль. Будто кого-то выглядывал.
В тусклых, вдруг поблекших больших очах старца мелькнула холодная отрешённость. В самом деле, зачем всё это говорить Сильвестру? Разве кто стал лучше, услышав о себе хулу? А он... душу свою выворачивает! Сказано ведь: не давайте святыни псам и не мечите жемчуг ваш перед свиньями, ибо потопчут его ногами своими и, возвратясь, растерзают вас. Пусть бы растерзали его, Нестерово, тело. Пусть бы распинали его на кресте... Но Сильвестр будет терзать его душу, единственное чадо его — летописание, пергамен его. Что захочет — вырежет и выбросит. Что захочет игумен альбо князь-волостелин — допишет...
Давящим бугом[8] перехватило его старческое горло. Снова диавол искушает его... Снова горит душа!
В пещеру... Живьём зарыться в землю. Отказаться от воды и хлеба. Пока в теле не застынет кровь. Пока в голове не погаснет мысль. И пока на устах и в сердце не умрёт его Слово... Его недосказанное Слово — людям...
Тяжело шлёпали босые заскорузлые подошвы на тёплой от солнца, вытоптанной братией тропе. Посох, на который теперь он склонился грудью, едва поддерживал его тело. Быстрее, быстрее убегать от сих мыслей, которые бунтуют в нём гордыню, которые возвращают его в суетный мир. Совершить свой последний подвиг — найти своё вечное умиротворение в пещерке...
Сильвестр тащился за ним.
Спустились извивистой, едва видимой среди сухих бурьянов и кустарников тропкой, подошли к глинистому разлому обрыва. Нестор пошарил вокруг рукой, нащупал сноп из сухих ветвей ивняка, потянул на себя. Перед ним открылась чёрная нора, дохнула в лицо сыростью и плесенью. Вот здесь его последнее место на земле.
Трижды перекрестился. Вознял кверху вдруг ослепшие от горячей мглы очи. Согнулся и полез в эту нору. Широкими плечами продирался вглубь, земля сыпалась ему за ворот, в лицо. Сухая земля. Будто сухой земляной дождь.
Обернулся, позвал:
— Брат Сильвестр, закрой влаз[9] в пещеру бурьяном. А сверху — засыпь землёй. И молись за меня Всевышнему...
Сие были последние слова Нестора на этой земле... Даже Сильвестру на какую-то минуту стало жутко — так спокойно человек оставляет белый свет...
Сильвестр нагрёб в охапку сухих ветвей, забросал ими сверху нору, начал обсыпать острые выступы глинистого обрыва. Красновато-каменистая лавина почвы с грохотом посыпалась вниз и плотно завалила последнее пристанище Нестора. Оно уравнялось с окружающим видом всего обрыва. Будто так и было вечно. Рука Сильвестра поднялась к челу:
— Помоги ему, Боже...
Возвратился к обители той же тропинкой, которой уже никогда не пройдёт брат Нестор.
Сильвестр огляделся, как бы надеясь, что длиннорясая фигура белобородого монаха вот-вот замелькает над обрывом. Поспешно осенял своё чело и грудь спасительным крестом, отгоняя страх, дабы укрепиться силой в душе, дабы не выпустить из рук того дела, которое так неожиданно свалилось на него.
Когда миновал ворота обители, заметил, как монахи, работающие на огороде и во дворе, провожали его недобрыми, колючими взглядами. Но когда он подошёл к ним ближе, их спины наклонились ещё ниже к земле. И Сильвестр зло кривил свои тугие красные губы. Постойте, он заставит их ещё целовать его следы!.. Помоги ему в этом сила небесная!
Не хотел открывать глаз. Неизвестно сколько уж миновало времени оттоле, как он оставил мир. Думал, умер уже. Да нет. Мысль ясно вспыхнула вновь и осветила внутренним светом его сырую затхлую пещерку. Под боком, на скамье, шуршит ещё прошлогоднее сено. Глухо вокруг и темно. Но слов для молитвы не было. Не было и слов раскаяния. Тяжёлое забытье первых дней прошло. Теперь остро слышал запах корней. Дух земли. Слышал, как кто-то над головой топал, даже сухая земля сыпалась с потолка. Кто там?.. Послышалось, будто голос Яна Вышатича. Будто зовёт его... Подожди-ка, ведь Ян умер несколько лет назад... Преставился... Но всё же будто его голос звал Нестора из пещеры... «Иди сюды-ы!»...
Наконец шаги умолкли. Нестор тогда понял, что это снова начались у него бесовские видения.
Теперь, вишь, недолго колотится нечистая сила возле него.
А раньше! Когда был моложе... Чего только не творила с ним!
Как только не издевалась, как только не голосила! На колесницах огненных диаволы грохотали над ним, в сопели, и в дуды, и в прегудницы[10] дудели. Даже оглох от этого шума. Самым тяжёлым было, когда злые духи заходили к нему в пещеру с сияющими светлыми лицами, улыбающиеся, ясноокие. И так ласково приговаривали: «Сие наш Иисус Христос. Кланяйся ему. Кланяйся!» Понимал, что это подлог, коварство. Отбивался от бесов святым крестом и молитвой.
А они хватали его за руки, за ноги, раскручивали и со всего размаху бросали в чёрную бездну, которой не было ни конца ни края. Он задыхался, размахивал ногами и руками, взвивался телом — но не было ему остановки. Тогда хватал себя за бороду, за волосы, лишь бы за что-то зацепиться и остановить этот ужасный полёт. Остановить!.. А вослед ему нёсся громовый хохот. Все вокруг него дрожало от этого зловещего гагаканья. Танцевали тучи, кричали звёзды, и он подпрыгивал в какой-то шальной пляске. От этого терял силы и камнем падал вниз. Падал! Даже в ушах свистело. Даже останавливалось дыхание в груди. Исчезали мысли... И он умирал...
Лишь тогда бесы покидали его и исчезали. Чтобы снова объявиться через некоторое время и, ухватив за волосы, таскать по земле и с размаху бить головой о каменные стены...
Отец Феодосий поучал: нужно строже блюсти себя в молитвах от помыслов скверных и от бесовского искушения. То диаволы разжигают у черноризцев, наипаче у молодых, вожделенные воспоминания, грешные намерения и желания. А ещё нужно сытной еды стеречься, многоядства и пития безмерного также. Они же умножают лукавые помыслы, из-за них же и случается грехопадение...
Отец Феодосий был первым игуменом Печерской обители, которую заложил схимник Антоний[11]. Хотя в книгах был он не слишком смысленый, беспокоился о том, чтобы его братия монашеская была научена книжному чтению и писанию. Тогда же он заложил в монастыре обучение: отец диакон по имени Никон обучал всех книжной мудрости. Монахи прозвали его Никон Великий. И в самом деле, сей муж был великим не только своим телом и своим терпением в нелёгком труде научителя, но велик был своей мудрой учёностью — читал по-гречески, по-латыни, иудейские книги разумел и арабские, знал все уставы монастырские и все правила церковные.
Молвили сведущие, когда-то Никон Великий[12] был пресвитером[13] княжьей церквушки в Берестовом селении, что над Днепром. Он первым и вырыл в кручах себе пещеру, куда приходил творить молитву. А потом князь Ярослав Мудрый[14] приблизил его к себе, возлюбил его за учёность. В той же пещере поселился гражанин из Любеча — Антоний, который возвращался из хождения в греческую землю, где стал монахом-схимником. К печерскому отшельнику сбежались гонимые и обиженные, жаждавшие спрятаться от мира, который порабощал тело и душу. Говорили, к Антонию-схимнику убежал и первый русский митрополит Илларион, когда гнев византийцев обрушился на князя Ярослава за своеволие... Вот в те времена и Никон Великий объявился здесь... Кое-кто загадочно намекал, что Никон и есть Илларион, которого Антоний тайно постриг в монахи.
Все на свете знал этот Никон. Его келия была забросана свитками пергамена, книгами, глиняными и восковыми дощечками с таинственными письменами. Уже позже передал кое-что из своего богатства молодому ученику Нестору.
Нестор жил тогда в келиях, построенных первым игуменом обители Феодосием с Божьей и княжеской помощью. Строил он их руками черноризой братии, конечно. С того времени, когда мысль Нестора коснулась Слова и оно открыло ему новый мир, жизнь его в обители стала иной. Наполненной и тяжёлой. Как бы прозрел после многолетнего сна.
Всё, что исчезло, стало вдруг сущим. Великие брани, трудные походы, славные подвиги, а также обиды, распри, мятежи, лесть и гордыня людская. Он стал всё это осмысливать. И, осмысливая, стал записывать. Так, для себя сначала. И казалось тогда, что пергамен, засеянный зёрнами слов, дышал новой жизнью, что писало его вещее... Казалось ему, что золотом отсвечивают имена великих мужей. Но писал он и о низости, зависти, лести. Из этого ведь никчёмного бытия состоит жизнь! Из этой же чёрной грязи можно разглядеть и уразуметь святое величие...
Вспоминает нынче — снова горит душа. Грешил, грешил писаниями своими, ибо жаждал знать многое. Грешил и теперь, ибо припоминал суету людскую. Свою никчёмность припомнил... Как против Бога руку поднимал. Как с волхвами[15] водился... Извилистой стезей водил его диавол в молодые годы. А возможно, так Господь Бог ему определил, дабы он потом глубже мог вникнуть в жизнь и в силу Слова нетленного и в силу духа человеческого...
Давно когда-то, ещё при первых Полянских князьях[16], град Васильков называли просто: Княж-городок. В центре его стояли деревянные идолы — Дажьбога, Сварога и бога Перуна также. Ведь он был защитником славянского народа. У старых деревянных капищ[17] здешний народ творил свои моленья, приносил в жертву богу Волосу самых лучших быков, устраивал гульбища. Ибо так требовали Полянские боги — Род и Рожаницы, которые опекали полянское племя и беспокоились, чтобы сила его не иссякла. От тех давних времён и брал своё начало род славного Туряка. Там, где нынче вознёс свою главу храм Святого Успения, стояло девятиглавое приземистое капище Перуна. А напротив, за рвом, который ограждал святое место, где жили души добрых богов, начиналась улица. Первая изба принадлежала огнищанину[18] Туряку. Он был славен своей силой и упрямством. К нему прислушивались старые мужи на вечах, ибо Туряк умел своим мудрым словом повести за собой.
Этого Туряка боялся сам князь Владимир[19], часто заезжавший в Княж-городок. Во времена великой смуты, когда Владимир крестил землю и начал ставить церкви, силой принуждая всех молиться новому Богу, Туряк бросился к нему. Швырнул к его ногам свой меч, гордо повёл плечами и громко, дабы всё вече услышало, молвил:
— Княже, сечёшь древо, на котором сидишь. Губишь обычай, которым держится наш род. На землю нашу пагубу кличешь. Почто делаешь так?
— Молвишь сие, ибо неразумен есть! — вспыхнул князь Владимир. — Не познал мудрости книжной и не ведаешь Христова ученья. А он учит людей: многотрудная жизнь земная — ничего не стоит. Смерть принесёт настоящее отдохновение на небесах. Все равны перед Богом и его силой. Всем он дарует прощенье за грехи, коли уверуешь в него.
— Лжа и обман это, княже! Нет иной жизни, кроме земной. И грехи наши земные могут простить нам на земле люди и наши земные боги. Иного не дано!
Покатилась буйная голова Туряка к подножию поверженных идолов. И ещё много голов градских мужей полегло рядом. Князь же Владимир повелел всех старых кумиров выбросить в озеро, а на месте девятиглавого капища поставить храм Успения.
С того времени стал исчезать со света род Туряка. Было у него восемь сыновей и две дочери, а уж скоро остался один, самый меньший сын — Гюрята и его род. Но что это за род — жена да един сын! Только изба стояла та самая. Теперь уже не возле капища, а возле церкви.
Но, как и давно, как и от века, гражане пахали землю, косили сено, выпасали лошадей и волов. Как и предки их, кланялись тёплому солнцу — Ярилу-Дажьбогу, ставили окрины[20] с мёдом и молоком под дубом щедрой Росодавицы[21], радовались вестунам богини весны Живы — ластовицам, водили хороводы, приносившие в дом оратая[22] хлеб и добро.
Наипаче — на Ярилов день.
Васильковцы издавна чествовали этот праздник. Проходил он после того, как все нивы заволочены и засеяны. Тогда Ярило-свет садился на своего белого коня, надевал на златые кудри венец из золотистых цветов одуванчиков, на плечи набрасывал епанчу[23] из серебристого кружева, в одну руку брал оброть, в другую — пучок колосьев. И так объезжал всю вспаханную хлеборобами землю. Над разрыхлёнными пахучими нивами тогда стояли долгие яркие весенние дни. В день Ярила — в самый ясный день весны — самая красивая девушка из окрестных поселений, в таком же венце из одуванчиков, садилась на белого коня и ехала в поле. За ней шли и стар и мал. Пели песни и дарили ей цветы. Она должна была задабривать ими Ярило-Солнце и просить у него, чтобы он принёс всем им богатый урожай на полях. Девушки и парни брались потом за руки, шли ряд на ряд:
Ой, мы в поле выйдем, выйдем! Ой, мы с Ладом[24] выйдем, выйдем! Ой, мы просо насеем, насеем... Ой, мы с Ладом насеем, насеем...Звенели песни над нивами. Эхо перекатывалось с холма на холм.
Вдруг в храме Успения отец Михаил ударил во все колокола. Люди вздрогнули — что такое? Гюрята Туряков лишь усмехнулся:
— Зачем пугаетесь? Наш святой отец хочет приостановить эти гульбища идольские и песнопения ногайские! Супротив его Бога они. Креститесь побыстрей, грешники!..
Некоторые стали крестить себя. Другие медленно поворачивали назад ко граду — шли к церкви отмаливать свой грех, ибо забыли истинного Бога и творили танцами и песнями старым идолам молитвы.
Гюрятин парень Наслав возвращался домой последним. Подошёл к растерянной Яриловой невесте, девушке Гаине, которая всё ещё сидела на белом коне. Взял жеребца за оброть, повёл за собой.
В вечернем небе уже мерцали звёзды. Пьяняще пахло сладким молодым листьем. Сердце тревожили песни, которые таяли в синеве густых сумерек.
Темень вечера разрезал высокий девичий голос, который будто отрывался от других голосов, что мягко стелились над землёй:
Ах, как в первом броде кукушечка кукует, А во втором броде — соловушка щебечет. Ах, пришла весна-красна, травушка зелёная!У двора Васильковского кузнеца старого Претича Наслав подал Гаине руку. Девушка устало сползла с седла и упала ему в объятия.
— Пусти-и... — Гаина вырывалась из его рук. А он и не почувствовал, что больно стиснул её. — Ох, как у медведя лапы... — Она укоризненно застонала, а Наславу невдомёк: ей нравится его сила или она возмущена ею.
— Около плуга хожу, потому и сила...
Гаина ведёт лошадь ко двору — завтра нужно отдать богатому смерду Топиле. Одолжили на праздник. Наслав стоит неподвижно. Что сказать ей? Какими словами остановить? Хотя бы на миг ещё задержать.
Перехватил узду. Сам повёл лошадь к конюшне. Остро и знакомо пахнуло конским потом и помётом. Гаина молча шла следом.
— Завтра с отцом поеду в Киев. Бочонки повезём на княжий двор — от нашего конца[25] бондарского. В храм Святой Софии зайдём, — хвастал Наслав.
— Пойду уж... спать... — Гаина зевает.
— Иди, — торопливо согласился Наслав и затаил в себе вздох. Время и ему на сеновал.
Выезжали в Киев на рассвете. Ещё ранняя зорька не позолотила края неба, как две повозки, доверху нагруженные бочонками, лоханями, деревянными вёдрами, покатились хорошо уезженной дорогой к стольному граду земли Русской. Медленно покачивали рогатыми головами волы. На первой повозке гейкал на волов Васильковский бондарь Гюрята, на другой — его сын Наслав.
Лежал на полосатой дерюге, постланной на охапке сена, додрёмывал и мысленно разговаривал с той гордячкой Претичевой — Тайной. Пожалуй, Васильковский ковач не согласится отдать свою пригожую дочь сыну простого оратая и бондаря Гюряты. Захочет взять богатея в зятья, а то купчину, либо отдаст за гривны какому боярину или князю в наложницы. Такие времена пришли, что нынче девичья красота продаётся за злато и серебро. Или за звание княжеского стольника[26], мечника[27], постельничего[28], сокольничего[29]. Так повелось в граде ещё со старых времён греховодного Владимира. Когда он крестился и принял себе новое греческое имя — Василий, с тех пор и Княж-городок переиначили — велел называть Васильков-градом. Но своей жизни изменять не желал. Как и раньше, в городке стояли терема князя Владимира-Василия, где пребывали его жёны — Рогнеда-полочанка[30], грекиня-черница, болгарка, от которой же сыновья Глеб и Борис. А в других теремах собраны девицы-красавицы, которые тешили старого греховодника. Кабы не эти щедрые утехи, дожил бы могучий князь Владимир до глубоких лет, не ведая телесной немощи и ранней старости. Но не слушал мудрых советов — проматывал своё здоровье в тех теремах, слабел телом и разумом из года в год. И чем больше слабел, тем отчаяннее бросался в буйства, веселья, разгулы. Требовал наполнять свои терема молодыми отроковицами, осыпал златом и серебром родственников тех безымённых красавиц, возводил в чины, приближал к своему столу, набирал в дружину.
Поганое зелье не сей, само взрастёт. Меньшие князья, бояре, мечники княжеские начали и себе заводить такие терема, устраивать гульбища, не боясь ни людского суда, ни Божьего наказания. Умыкали девиц и юных жён, покупали, тащили силой. Уповали на всепрощение Всевышнего — и поэтому ставили ему храмы, одаривали Божьи обители землями, охотничьими угодьями, сёлами, узорочьем, златом...
С тех времён васильковчане научились продавать дочерей богатеям. В семье радовались, когда рождалась девочка. Парень что — смерд, оратай, пастух, ковач или зодчий-здатель. Горек его заработок. Или ещё горше — частые походы князей требовали многих воинов. Костьми этих сыновей засеяна степь половецкая, дороги да перевалы Угорских гор. Чёрные тучи воронья кружат над ними каждое лето... Печаль сушит душу... Но юная дочь могла принести отцу своему и огнищу, и землю, и скот, и серебро, да и тёпленькое местечко около князя. Это радость.
Так и приучались девицы сызмальства ожидать своей счастливой долюшки.
От невесёлых раздумий ещё больше разжигалось сердце у Наслава. А Гаина? Может, и она ожидает-выглядывает княжеских слуг? Может, потому и не хочет одарить его своей лаской? Что он? Ни богатства, ни красоты. Длинноногий, рукатый парень-оратай. Ходит в холстине до колен, сорочке и белых узких, из холста же, портках. Никаких оловиров[31] или куниц на шапке. Тяжёлый труд от зари до зари. На земле, возле скота, на лесных роздертях[32]... Не пара красавице златокосой, которую поселяне избрали Яриле в невесты.
Но разве разум может сердцу приказать — не любить Гаину? Не ходить вечерами под тыном у её избы? Не мечтать о ней в бессонные весенние ночи?..
И Наслав страдал. От этого худел, обозначились скулы, в больших серых глазах часто появлялась какая-то осторожность и задумчивость, испуг, боль. Знал, в скором времени мать найдёт ему жену, коль в лето он сам не приведёт её в хату: Такой обычай рода славянского. Земля не может оскудевать без рабочих рук, а княжеский двор — оставаться без достатка и ратников.
Не знал, как поговорить об этом с Тайной. Не посылать же к ним старост, не спрашивая у неё согласия. Можно было бы и так сделать. Но потом не избавишься от стыда на всю окрестность, коль вместо вышитых рушников старосты пустой горшок принесут для него!
Вот по возвращении из Киева и поговорит с нею. Что будет, то и будет. Ждать больше нельзя — перевяжут его рушником с нелюбимой!
— Гей, гей-гей!.. — лениво гейкал Гюрята на волов и крутил плетью над серыми их хребтами. Те ускоряли шаг, и колеса повозок крутились какое-то время быстрее. А потом снова шли тише.
Уже солнце блеснуло за лесами, когда Наслав заметил впереди всадников. Мчали галопом, сбивая копытами пылищу. Пригибались к гривам высоконогих лошадей, только на солнце сверкали их шеломы. Вскоре всадники приблизились к возам, осадили своих коней. Обступили со всех сторон. Какие-то они странные, эти вои[33]. В железных кольчастых кольчугах, будто шли на рать, над шеломами развевались длинные белые хвосты. Что за люди?
— А что хозяин везёт? Пиво? Мёд? — говорили тоже как-то странно, хотя и понятно.
Пока Гюрята и Наслав растерянно рассматривали их, вой начали переворачивать мечами и копьями бочонки, корыта, лохани, которые с грохотом раскатывались по сторонам, ударялись боками, врезались в придорожные камни, теряли обручи и клёпки.
— Князю во двор везём! Это дань князю! Не трогайте! — Гюрятины губы посинели и дрожали от гнева. — Сие труд людской! Весь конец бондарей доверил нам отвезти на княжий двор...
— Ого-го! То есть и для нас! — гоготали вой, наклоняя кувшины и лагвицы[34], выцеживая себе в рот пиво, которое Гюрята с сыном взяли для себя в дорогу. — Давай мёд! Давай пиво! — кричали на него.
Озлобленный Гюрята соскочил с повозки, вытащил из её днища дубовую жердь и со всего размаху ухнул ею нескольких грабителей по головам. Загудело кованое железо шлемов.
Грабители вмиг разбежались, но тут же неистово выхватили мечи и пошли на него. Гюрята ошалело водил очами, отступил назад, но круг замкнулся. Тогда он молниеносно взмахнул своей жердью, треснул ею по железным кольчугам нескольких всадников.
— Грабители... бесчеловечные! Чтоб вас гром убил!.. Наслав, выдирай из повозки жердь! Наела... — Голос его вдруг оборвался.
И Наслав, бросившись к повозке, остановился как вкопанный. Он увидел... Нет, он не закрыл глаз... Два меча одновременно врезались отцу в грудь и в спину...
Гюрята какой-то миг стоял, обернувшись лицом к сыну, из его рук вывалилась дубина...
— Беги... — тихо сказал Гюрята.
Но хлопец услышал. Отступил к придорожным зарослям.
— Го-го-го! — ринулись на него двое взбешённых от крови ратников.
Парень изо всех сил сорвался на бег. Между кустов... между пней... к лесу... к густому лесу, который отступил от дороги, освобождая землю для плуга. Там спасенье!..
Два всадника завернули назад. Зачем гоняться за беглецом, лучше ведь поискать ещё хмельной браги или мёда. Наверное же, Васильковские бондари дань князю платили не только вот этим хламом. Бочонки, ушаты, корыта, кружки летели сейчас с возов, катились по дороге, застревали в бурьянах. Наслав сделал несколько кругов и остановился. Спрятался за густым ольшаником. Какие-то необыкновенные это были разбойники-тати. Не те ли это ляхи-вои[35], которые, говорят, пришли с князем Изяславом Ярославичем[36] в Киев? Бандитское отродье... Почто отца закололи? Его отца? Теперь васильковцев заставят платить правёж[37]. Или в яму долговую бросят — чтобы сгнил там, потому как их добро, их труд не защитил от ворога...
Тем временем грабители начали издеваться над волами. Разгонялись на конях — и всаживали мечи в серые бока тяжелотелых волов. Те вращали кровавыми глазищами, отчаянно размахивали величественными рогатыми головами в ярмах и жутко мычали... Даже страшно становилось...
Упал Наслав на землю. Тело его вздрагивало, пальцы вцепились в ещё влажную тёплую землю...
Оцепенение постепенно сковало его. Почему добрые земные боги сотворили в человеке столько злобы?
Но скоро почувствовал над собой шум весеннего леса. Щебетанье, свистенье, токанье, кукованье. Пьяняще будоражили голову молодые клейкие листья тополей. Дурманил горьковатый дух ожившей дубовой коры, прошлогодней хвои, размякшей на солнце сосновой смолы.
Куда ему идти? Прислонился спиной к тёплому от солнца стволу берёзы, а в душе холодком поползла тревога. Всадники-грабители, наверное, уже были в граде. Что сотворили там они? Пустынной дорогой побежал назад.
Ещё издали увидел, что над градом Васильковом клубится чёрный дым. Над Васильковом пылал пожар. Средь бела дня. Среди ясного весеннего дня. У церкви Успения металась толпа ошалевших людей — с детьми, мешками, узлами. Кто тянул на верёвке корову, кто пригнал волов. Напуганно дрожали овцы и козы. Толпа ломилась в дверь церкви. Но каменная храмина не могла вместить всех. Люди брали её приступом. Вопили женщины, отчаянно орали дети, причитали старухи. Молились старым кумирам. Проклинали нового Бога и одновременно просили его заступиться от напасти и разорения.
— Сие наказание вам пришло за игрища поганские!
— Смиряйтесь, терпите, христиане, Бог воздаст вам!
— Накликали на себя беду теми гульбищами волховскими!
— Люди! Люди! Сие наши старые боги разгневались на нас. Забыли мы их заповеди. К лесу идите! К Перунову капищу!
— Волхвы! Волхвы с нами! Наши заступники!
А деревянный Васильков-град пылал ещё сильнее. Будто Солнце-Ярило подбрасывало в пламя ещё и свой огонь...
— Волхвы! Вот они — среди нас! Ведите нас...
Два белоголовых старца в серых холщовых рубищах выбрались на паперть.
— Спасите нас! Отведите беду! — Люди протягивали к ним руки.
Наслав ещё не мог опомниться — огромный и добротный дом Гюряты догорал в ярком красном пламени. Мама! Где же она?
— А-а-а! — Высокий женский голос отчаянья повис над толпой. Все притихли. — А-а-а! — жуткий вопль пронзил насквозь сердце Наслава. Это был голос матери. — А-а-а! — ужасный безнадёжный человеческий крик... И — тишина. В адском пламени обвалились пылающие стропила. Столп искр пыхнул в небо...
— Сгорела... — прошептали рядом. — Сердешная... Её закрыли на замок грабители, а дом зажгли...
— Тише... тише... Говорят волхвы!..
— Старые наши боги ожидают от вас раскаяния. Вас обманули крестители-греки. Обучают лжи. В их писаниях нет правды! — натужным высоким голосом шепелявил белобородый старец на паперти. — Мудрость не в книгах. Мудрость в старых обычаях рода и в душах живых. Почто ищете истину в словах? Истина — в деяньях справедливых...
— Верим тебе!..
— Не слушайте его, люди! — раздался над склонёнными головами знакомый голос отца Михаила. — Сё вам наказанье за игрища идольские! За хулу истинного Бога — Христоса!
— Лицемерны твои слова! — обернулся к нему волхв. — Подлая ложь в них! Зовут ко смирению, а сами освящают насилие и жестокость сильных.
Толпа гудела.
— Возвратите нас в лоно старой веры! Не хотим надевать на шею ярмо смирения! Не хотим неба! Дайте нам жить здесь, на земле...
— Поставим новые капища! Как у дедов было.
Гражане уже не глядели на догоравшие избы. Тронулись вослед за двумя волхвами и уходили из проклятого богами града, в котором новый всемогущий Бог и его апостолы не смогли защитить их от беды. Бежали от мира, в котором жили ложь, страх, сомненье.
Вместе со всеми уходил и Наслав с волхвами из города.
Сбежавшие васильковчане всё лето жили табором в Боярском лесу. Поставили новое капище Перуну, зарыли стены его глубоко в землю, крыша — вровень с землёй, прикрыли её сухими листьями. Только из небольшого глиняного дымохода, будто из-под земли, ночью и днём струился сизый пахучий виток дыма. Это возле жертвенника волхвовал старый Сновид, принося немудрые жертвы богу огня — поленья берёзы, сосны, дуба. Мужи давно уже ушли из Боярщины вместе с младшим волхвом — Ростом. Где-то ходили в окрестной земле, ночью нападали на боярские погосты или на подворья ненасытных тиунов[38] и биричей[39], часто, забрав всё, поджигали или громили их. Тогда в таборе васильковчан появлялся хлеб и добрая животина. Этим и жили.
Но чем дальше, тем больше такая жизнь становилась нестерпимой. Лето миновало. Приближались дни вереса[40] месяца. А там не заставит себя ожидать и зима со снегами и морозами. Кое-кто тихо исчезал, из таборища, наведывался на старое подворье. Кто-то уже беседовал с отцом Михаилом, кое-кто уже разузнал, будут ли прощены грехи сбежавшим за то, что надругались над новым Богом и творили требы старым богам — Яриле и Перуну.
Говорят, что добрый отец Михаил ходил в свой храм Божий и в молитвах ко Всевышнему просил прощения заблудшим овцам из стада своего. После этого ответил ходокам из табора, что Бог всемилостивый, потому и послал на землю к людям своего сына — спасать их от греха и сетей диавола. Молвил ещё, чтобы все они возвращались обратно и начинали хозяйство своё восстанавливать, ибо оскудевает земля, становятся пустыми онбары и овины у княжеских людей и у князя. А сие — противно Богу! Ещё молвил, будто греховный князь Изяслав, старший сын мудрого Ярослава, переступил заповедь отца своего и привёл чужаков-грабителей, чтобы наказать киевлян, которые его изгнали с княжеского стола. Но всевидящий Бог наказал уже его. Горе тому, кто ищет помощи у разбойников!
Нынче братья Изяслава изгнали его с отцовского стола, и на нём воссел средний Ярославич — Святослав[41], князь черниговский. Так случится и с теми Васильковскими бунтарями, которые ночами ходят по боярским дворам и творят грабежи и разбой. Будут наказаны зело! Будут гореть в огне адском! Ещё отец Михаил поведал, что к Василькову прибыл княжеский воевода Ян Вышатич[42] со своей дружиной, тишину и порядок будет водворять в окрестных лесах.
Это тот самый знаменитый Вышатич, который из славного рода Добрыни, служившего ещё старому князю Игорю и Святославу[43]. Отныне — не избежать васильковцам карающей десницы Божьей!..
Крепко задумались васильковчане. Не простит Бог христианский погрешений их, не поможет здесь заступничество отца Михаила. Нужно сидеть тихо. А тут ещё приблудился к ним черноризец-расстрига из Печерского монастыря, из-под Киева — Еремея. Принёс новости странные: будто отец игумен этой обители Феодосий и вся братия монашеская денно и нощно проклинают нового князя киевского Святослава. Ибо тот переступил заповедь отцовскую, вступил в вотчину своего брата старейшего. Сие великий грех супротив Бога и супротив обычаев Русской земли. И изгнанный из Киева Изяслав снова возвращается в свою землю с помощью ляхов.
Затаились васильковчане. Снова ожидать беды! Ярославичи, вишь, подняли меч один против другого. Людям нет ни от кого защиты — ни от князей, ни от богов... Ибо растеряли старых и не имеют веры новым.
Волхв Сновид предостерегал: «Не возьмут вас, люди, новые боги в своё сердце, ибо любят они не правду, а угодничество, принимают славословье пустое от бесславных, низких, ленивых духом и скудных разумом. Адское наказанье упадёт на тех, кто мыслию и душою пребывает в смятенье. Наказанье!..»
Наказанье... наказанье... Бедного простолюдина везде ждёт безысходность... Наказанье от князей и мужей княжьих за татьбу[44] и пожоги; наказанье за отступничество от старых богов и за сомненья в новых... Кто поможет бедняку на белом свете?
— Лишь от старых кумиров ожидайте помощи! — тряс белой бородой сухой, с воспалёнными от ночных бдений глазами Сновид. — Лишь на них уповайте душой. Дайте в жертву Перуну, защитнику нашему, людской крови. Дабы свои огненные стрелы гнева направил он против врагов наших. Како сие делали ваши предки — не жалели богам наилучших, наикрасивейших меж собой. А коль сами не пожелаете избрать, присмотритесь один к другому — боги укажут вам на своего избранника!
Чем возразишь мудрецу, которому кажется, что он всё знает? Как остановишь толпу, в душе которой посеян страх и сомненье? Табор жил в гнетущей тревоге. Женщины, старухи, отроки, дети — со слепым повиновением ожидали слова от того, кто ночью и днём беседовал с богами и знал их волю. На кого укажет его перст?
Восемьдесят лет русичи уже ставили христианские храмы и давали обеты молиться греческому Богу, который пришёл на Русь из блестящей Византии. Святители запретили обычай проливать на жертвеннике людскую кровь и жестоко наказывали виновных.
За это время люди отвыкли даже в мыслях от подобных жертв. А вот сей мудрый волхв снова напомнил им о забытом обычае предков. Но никто не чувствовал в своём сердце зова разгневанного Перуна — все хотели жить и умирать своей смертью, но не жертвенной.
Капище обходили стороной. Хотя бы мужи возвратились скорее с Ростом! Хотя бы раду[45] сотворили вечевую[46]! Вдруг на солнечной зелёной поляне, усеянной цветами золотистых колокольчиков — ключей от солнца, — появился Наслав. Пригнал несколько пар говяд[47] и лошадей. Привёз несколько кожаных мешков зерна. Будет детям хлеб, будет каша, будет мясо!
— Наслав! Наслав! Да спасут тебя боги! Где мужи наши? Где отцы чад наших? Что нам делать? Боги жаждут людской жертвы!..
Утомлённый дальним переходом, Наслав отошёл от поляны на безлюдное место у кустов дикой малины, упал там на тёплую траву. Лица касались упругие батожья пышно разросшейся земляники. Над головой часто стучал невидимый дятел, посвистывали рябчики и синицы, где-то неподалёку, у небольшого озера, дудел удод. Утомлённые глаза отдыхали на зелёном цветущем разнотравье.
Перевернулся на бок. Против него, где поляна граничила с лесом, росли густые кусты малины. Чьи-то руки наклоняли длинные ветви её и обирали сладкие ягоды, бросая их в глиняный полумисок[48]. Кто это? Белый платок то мелькал, то исчезал в густых зарослях. Вот снова показался белый платок и под ним — золотистая коса на спине. Гаина!
Украдкой пополз к малиннику, поближе к девушке. Поднял мягкий комок земли, бросил в её сторону. Гаина испуганно огляделась, вокруг — никого.
Наслав бросил в неё камешек. Он легонько ударил ей в грудь и закатился за ворот сорочки.
— Ай! — завопила Гаина и метнулась из малинника. Выбежала на поляну и как обезумевшая помчалась мимо костров и опанов[49]. Понеслась к капищу.
Женщины на поляне замерли. Что случилось? Боги подали ей свой знак?
И страх, и затаённая радость, и облегчение на сердце охватили вдруг всех. Не им пришлось... Не их кровным... Претичевой Гаине!.. Красавице Васильковской... Яриловой невесте.
Странное и тяжёлое смятенье смешалось с тревогой и острой жалостью.
Старый Претич первым учуял беду. Грузно поднялся с пня, на котором сидел и шилом пошивал воловьи шкуры — делал лапти. В этот миг пред ним упала его старуха. Застонала с болью.
— Иди к Сновиду! Проси милости! Пусть вымолит у Перуна помилование! Ид-ди-и! — резкий, пронзительный вопль её вдруг разрезал тишину солнечного дня.
К ним со страхом приближались люди. Стояли, однако, в стороне. Тихие, любопытные, настороженные... и безвольные...
Из-под белого платка старой жены Претича выбились космами седые волосы. Она рванула на старческой высохшей груди сорочку, мокрым от слёз лицом припала к земле. Глухие рыдания сотрясали её худое маленькое тело.
— Молись, жена. Молись нашему защитнику Перуну. Да снимет с нас свой гнев. Проси доброго Дажьбога, дабы светом своим щедрым ублажал алого Дива[50]. Кабы не размахивала Обида[51] над нашими головами лебедиными крыльями... Молись.... — Старый Претим не вытирал слёз. Будто ослепший, направился к капищу.
Голосила-рыдала, к земле никла старая Претичиха.
Понуро стояли вокруг неё люди. И тоже плакали.
Когда к ним подошёл Наслав, то никак не мог понять, что стряслось. Мыслями был всё ещё там, за малинником, выглядывал Гаинку. Умчалась... Но ведь должна была вернуться!
Теперь с удивлением вслушивался в вопли матери Гаинки.
Потом увидел идущего от капища белого старца. За ним медленно ступала Гаина. Старый Претим плёлся позади, слепыми от слёз глазами неотрывно смотрел на Сновида.
Вдруг Претим споткнулся, упал на землю. Наслав бросился к нему, посадил на пень.
— Что с тобой?
— Гаину нашу... ох... позвал к себе Перун.
— Гаинку?! — вскрикнул Наслав. И сразу всё понял.
А Сновид, взяв Гаину за руку, поучал:
— Благословите её для тяжкого часа, люди. Вечная тишина и вечный покой уготованы чистой душе. Не знать ей больше ни горя, ни болезней, ни беды. Не потревожит пусть сердце избранное печаль! Перун убережёт её от бесчестия и падения! Люди, молитесь, пусть отлетит из душ ваших жалость и печаль. А избраннице Перуновой — пусть в сердце откроется иная радость.
Гаина онемело стояла и испуганным, оцепеневшим взглядом кого-то искала. Какой-то отрады... помощи...
Её глаза встретились со взглядом Наслава. Вздрогнула, двинулась к нему, но в тот же миг остановилась. Испуганно глядела на тихо причитавших женщин... В стороне сидела её мать, обезумевшая от горя. Казалось, она не видит Гаины.
— Оденьте её во всё новое, — обратился Сновид к старухам. Сам же взял её за руку и снова увёл к капищу.
Наслав бросился за ним. Вырвать Гаину из рук волхва! Но остановился — всё равно она не пойдёт с ним. Не поверит ему. Ведь она верит в своё избрание...
Бежать!.. Звать мужей из похода... Спасти жизнь Гаине, она не должна так просто умереть... на жертвеннике...
Густой лес сдерживал бег коня и горячность мыслей. Наслав злился, бил пятками коня в бока, дёргал за узду. Но скоро остыл. И тогда в его воспалённый мозг пришла здравая мысль: волхв Рост не будет освобождать Гаину, которую сам Перун избрал себе в жертву. Скажет: старым богам нужны наилучшие, наичистейшие, безгреховные души. Потому Наслав должен сказать о великом Ганнином грехе. Какой же грех он знает за нею? Долго вспоминал. Перебирал в памяти всё, что знал.
Наконец вспомнил. При рождении Гаина крещена была в церкви своими родителями. Отец Михаил подтвердит. Тогда её нарекли Анной. Но, следуя дедовским обычаям, люди называли своих детей старыми именами. Мать с пелёнок называла свою дочь Тайной, Гайкой, ибо рядом с Претичевой хатой, в гае-роще, целое лето висела колыбель ребёнка, там и выросла девочка. Потом забыли её христианское имя. Но всё равно это грех, что она имела христианское имя. Вот как и он, Наслав. При крещении его назвали Иаков...
Согласится ли Рост за этот грех отвести от девушки смерть? Скажет: не её это вина, что родители крестили и имя христианское дали. Душа её чиста. Потому и позвал её Перун на свой огонь.
Наслав остановился. Нужно ехать в град. К отцу Михаилу. И чем ближе подъезжал, тем больше убеждался, что иного выхода нет...
Отец Михаил, как только увидел неизвестного всадника возле своей коновязи, сразу вышел на крыльцо. Почувствовал, с чем-то важным прибыл незнакомец. Слишком зачумлённый, слишком растрёпанный у него вид. С секирой за поясом, босоногий, торопливость в движениях...
Отец Михаил был крепок и ладен собой. В плечах — косая сажень, голос имел зычный, яко ерихонская труба, слышен его глас издалека. Как затянет в церкви «Аллилуйя!» — кажется, купол над храмом поднимается вверх. Чёрная его борода начиналась от самых глаз и в щетинистых чёрных кудрях прятала всё лицо. А глаза у отца Михаила были огромные, серые, внимательные. Казалось, они примечали всё, что грешный человек жаждал спрятать в душе. А ещё были примечательны у отца Михаила руки — огромные, увесистые. Весной они не гнушались плуга — свою ниву Михаил пахал сам. В жатву шёл в поле с косой за плечами. Пела она в его руках. Стеной опадало доспевшее жито.
Васильковчане всегда опасливо поглядывали на него. Увидев издали, ревностно крестились, как на апостола. Бывало, что не ту руку вознимали для креста, — отец не сердился. Ласково подходил, поправлял: «Вот так-то, чадо... так-то!» — гудел густым голосом своим. Из-за этого его ещё пуще боялись. А что, если и в самом деле сей христианин был доверенным истинного Бога?
Но Бог снова, кажется, испытывал его силу духа и долготерпение: сбежавшие не возвращались в город. Что мог сделать он? В руках у него — лишь святая молитва и святой крест. Воины его — слова из священных писаний далёких пророков, которые в очень давние времена своей самоотверженностью и верой умножали стадо Христово. Для русичей сии слова были малопонятны. Потому он и мозговал над тем, как сделать эту веру греческую, чужую, более близкой сердцу русича. Самым понятным могло быть — всепрощенчество и благодать, которых всю свою жизнь ожидает бедняк от высших сил. Потому на сие и напирал.
Когда в Василькове объявился с дружиной новый киевский тысяцкий воевода Ян Вышатич, чтобы выловить в лесных пущах ослушников, отец Михаил решительно запротестовал. Негоже наказывать уже наказанных. Их час скоро придёт — возвратятся в свои дворы, сядут на своей земле. Хлебороб-оратай не может жить без нивы, не может детей своих кормить только звериной. Да и осень... осень надвигается!.. Будут снова платить исправно князю Святославу потяги[52], правежи, виры[53]... Яко и брату его Изяславу Ярославину платили...
Воевода не знал, как быть. Или послушаться мудрого совета отца Михаила, или оголить мечи и броситься выполнять слово Святослава, князя черниговского, который нынче стал киевским князем.
Отец Михаил понимал, что князь Святослав торопился натолкать чрево своё, дорвавшись к золотому столу киевскому Ярослава Мудрого.
Воевода Ян не смел ослушаться своего князя. Собирался всё же пойти на лов волхва Роста, дабы наказать злодеев-грабителей за татьбу и пожоги. И ведь правда: разбойники сии не только губят хозяйское добро, но творят ещё большую несправедливость — сеют смуту, непослушанье, смятенье в душах окрестных поселян, бунтуют, против Бога гордыню возносят. Но сказано же: «Бог противится гордым, а смиренным даёт благодать». И ещё: «Оголяют мечи нечестивые и натягивают лук свой, дабы сразить тех, кто идёт прямой дорогой, но меч их войдёт в их же сердце и луки их сломаются же, а нечестивые сгинут!»
Так обучал псалмопевец Давид. Так оно и есть.
Отец Михаил отступил перед домоганиями воеводы — пусть идёт в лес.
И вдруг этот странный вестун.
— К тебе, отче, — неуверенным голосом молвил Наслав. — Прибежал из леса.
У отца Михаила взвились густые чёрные брови.
— С чем же приехал, сын?
Голос вкрадчиво-спокойный, а глаза — стерегут каждое движение.
— Спасай, отче, людей... Волхвы! Кровь людскую хотят пролить на требище Перуновом. Спаси! — Наслав вдруг упал на колени.
Отец Михаил сразу всё понял. Быстро перекрестился. Прошептал испуганно:
— Кто пошёл против жизни — да заплатит жизнью...
— Но, отче... ты учил, что Бог наш Христос — милостивый. Люди низкие — жестокие из-за слепоты своей. Просвети их... Помилуй!..
— Конечно же... Люди невиновны в пролитии крови. Виноваты волхвы. Молись, сын мой, о прощении людских грехов — и тебе воздастся. А я скажу воеводе Яну. Ты поведёшь его дружину к табору. Это далеко?
— Нет, в Боярском лесу. У озера.
— Пойдём, расскажешь воеводе сам.
— Отче благой, попроси воеводу, чтобы никого не наказывал. Попроси!
— Хорошо... — пробормотал отец Михаил. Он шагал так стремительно и быстро, что Наслав едва успевал за ним.
Воевода Ян Вышатич пировал со своими воями. Отец Михаил велел отроку позвать воеводу сейчас же.
Наконец Наслав мог рассмотреть вблизи знаменитого Яна. Знаменитого подвигами своих предков.
Роста невысокого, мелок в кости, узкогруд. Отпрыск славных воевод княжьих не вызывал у него доверия. Разве способен что-то сделать этот воевода? Слишком мелок, мелок во всём. Совершенно не проявлялась в нём сила его былинного предка Добрыни, даже правнука его, знаменитого книжника новгородского — Остромира, от которого были Вышата и его сыновья Вышатичи — Ян и Путята[54].
Отец Михаил учтиво склонился перед воеводой.
— Бог просветил нас. Беги с дружиной своею к Боярскому лесу. Спаси людей от волхвов. Пусть меч твой сеет христианскую веру, воевода! Послужи Господу-вседержителю и вместе с тем — князю нашему.
Ян придирчиво рассматривал отца Михаила, потом незнакомца, переминавшегося за спиной священника.
— Знаешь, где волхвы? — уколол глазами Наслава.
— Знаю, — печально вздохнул Наслав. — Здесь только Сновид да жёны с малыми детьми. А тех... иных... не ведаю...
— Найду и тех, — твёрдо пристукнул Ян пятками своих мягких сапог. — Всех на осине подвешу! — угрожающе взмахнул небольшим кулачком и потом решительно рассёк ладонью воздух. Снова крутнулся на пятках, крикнул отроку: — Зови дружину!
Наслав оттолкнул рукой отца Михаила.
— Воевода, обещай дать всем прощенье! Обещай, воевода! — горячо заговорил он. — Те люди ведь ни в чём не повинны!
Михаил шевельнул густыми бровями и обратился к Яну:
— Бог прощал и людям велел...
— Коли Бог, то и я. Прощу! — блеснул тот косоглазо в сторону священника и дробно засмеялся.
Поляна потонула в лесном мраке. Только слышалось бессильное причитание старой Претичихи и моленье Сновида. Люди стояли вокруг Перунова дуба, под которым пылал огромный костёр. Пламя поднималось над головами, трещало и вверху рассыпалось снопами искр. Огонь-огневище Перунов...
— Перуне-господине! Пошли к нам своих зорких лучников, с очами пылающими, с истоками кипящими! — Сновид говорил негромко, вытянув руки к пламени. Но каждое слово его жгло расплавленной смолой сердце Наслава. — Даём тебе в дар белое тело, честную душу невесты твоей благолепной, её очи светлые-пресветлые, её перси — тугие-невинные. Кабы нас ты защитил от печали-тоски, кабы стрелами своими сразил врагов наших... А коль узришь нашу неискренность, коль души наши запутались в сетях обмана и лжи — испепели нас с родом нашим, разверзи под нами Пековые недра, и пусть вечно наши кости горят в огне живом...
Издали Наславу не видать, где стоит Гаина. Знал, что стоит там, у костра. Стоит, наверное, привязанная к стволу дуба, уже мёртвая душой, хотя и живая ещё телом.
Воевода Ян, воеводушка! Что же ты выжидаешь-высматриваешь за кустами? Налети вихрем, выхвати её, ещё живую и тёплую!..
Нетерпеливо волнуется под Наславом конь. Колотится, готовое выскочить из груди, сердце...
За спиной вдруг — разбойничий свист. Будто зловещий Див. С гиканьем ринулась лавина всадников к костру. Многоголосый женский вопль разрезал тишь. Воины Яна оттолкнули людей, пробрались к волхву. А он, сразу всё поняв, будто занемел с поднятыми вверх руками.
— Вяжите его. Пусть перед Богом христианским теперь отвечает за свои грехи! — могучим голосом огласил поляну отец Михаил. Откуда выкатился!
Но Сновид вдруг сделал два шага вперёд и вошёл в костёр. Пламя облизало его одежду, затрещала борода и волосы на голове — вмиг они почернели. Задымилась сорочка.
Отец Михаил бросился к волхву:
— Не убежишь, разбойник, от расплаты! Дашь ответ людям! — Изо всей своей молодецкой силы ударил Сновида ногой по заду — и тот будто выпал из костра и рухнул наземь.
Кто-то из дружинников ухватил Сновида за руку и потащил по земле, сбивая на нём огонь, охвативший одежду. Катали по траве, срывали тлеющие клочья рубахи и штанин. Осмолённый почерневший волхв дымился, как сырое полено.
Наслав тем временем отвязывал верёвки, которыми была привязана к дубу Гаина.
— А кто она? — удивлённо остановил коня возле них воевода.
— Дочь Васильковского ковача, — пробасил отец Михаил. — На Ярилов день вознесли её яко избранницу для Ярила-Солнца, а нынче — в жертву Перуну приготовили!
— Лепая[55] девица! — восторженно воскликнул Ян и соскочил с седла.
— Помилуй, Господи, грешницу... — осенял её широким крестом священник. — Кабы не сей парень...
— Как же имя этой красной девицы? — Ян бесстыдно рассматривал её мертвенно-бледное лицо и грудь, будто глазами ощупывал животину, которую собрался покупать.
— Гаина она, — после молчания ответил Наслав.
— Во крещении получила имя Анны! — громогласно возмутился отец Михаил.
— Лепота!.. Лепота!.. — кружил Ян вокруг девушки. — Возьму в свой терем.
— Не дам! — расправил плечи Наслав.
— О?! — вдруг очнулся Ян, внимательно всматриваясь в пылающие глаза парня.
— Довольно наших девиц в теремах боярских да княжьих... наложницами...
— О?! А может, хочу её взять в жёны. А? — хитро прищурился Ян к Наславу. — Нет у меня жены, а отныне — будет! Отец Михаил!..
— Просвети Господь тебя... — растерянно отступил от него Васильковский поп.
— Как скажет она! — бросил оземь верёвки Наслав и отошёл от воеводы.
Гаина отрешённо стояла. Не верила в своё спасенье. Глаза были широко раскрыты.
— На коня её! К лечцу[56]! Пусть пошепчет... Испуг пусть выльет из души её! — крикнул воевода дружинникам.
— Грех берёшь на себя, воевода. Не Божье сие дело — ведьмовское! — возмутился Михаил.
— Это уж моё дело, отец! — увернулся от него Ян и легко вскочил в седло.
Наслав бросился к Гаине, схватил её обмякшее тело в охапку и бросился бежать.
— Отобрать её! — вскипел воевода в седле, даже на стременах поднялся.
Два сильных дружинника вмиг настигли Наслава, вырвали Гаину из его рук и понесли к своим коням.
— Где волхв? Где Сновид? — вдруг вспомнил Ян Вышатич. — А, вот ты... Но где же брат твой?
Наслав весь дрожал. Нужно хотя бы Роста спасти... Дабы не выпустили дружину воеводы из Боярского леса. Отошёл в глубь густого леса. Тихо свистнул. Рядом оказался его конь. Уже издали расслышал сердитый голос Яна:
— Зачем людей губишь, лукавец? Держи ответ перед нами!
— И перед Богом! — пробасил отец Михаил.
Воевода Ян Вышатич творил суд над волхвом. Сновид ещё дымился. Безбородый, безбровый, безволосый, с чёрными лохмотьями на обожжённом теле, сквозь которое просвечивались рёбра и острые старческие локти, он был похож теперь на костлявого голошеего неоперившегося птенца, нечаянно выпавшего из гнезда.
— Перед твоим Богом я не в ответе, — с дымом выдохнул Сновид. — Твой Бог не защитил людей от беды. Твой Бог чужой нам. Не может согреть наше сердце. Лишь может... охолопить его!
— Почто сквернословишь, волхве? — загремел на Сновида отец Михаил. — Вот видишь, он помог спасти жизнь невинной дочери ковача. Сие его перст указал нам путь сюда.
— Её защитил не ваш Бог — это Перун отдал её людям...
— Когда твои боги такие всесильные, волхве, пусть спасут они тебя от моего меча! — Воевода выхватил из ножен меч и занёс над головой Сновида.
Сновид гордо поднял голову. Двинулся к костру.
— Держите! Бросится в огонь! — вскрикнул воевода.
— Не брошусь, воевода. — Волхв еле собрал силы для тех слов, — Мои боги говорят мне, что ты не сотворишь мне ничего, Ян. Я ведь защищал людей от напастей и голода.
— Защищал татьбой? Грабежом? Где твой брат Рост?
— Мой брат Рост не грабитель и не злодей. Он отбирает лишь то, что богатеи забрали у смердов. Зерно и животину, дабы дети не померли от голода.
— Рост со своими людьми убивает велеможных[57], сеет непослушание и смуту. Он примет смерть. И ты примешь смерть.
— Сие благо, воевода, — смерть! Но мои боги говорят мне, что я не умру. Буду жить сам, и вера моя будет жить.
— Брешут твои боги, волхве. Свяжите его, эй, дружина! Заткните глотку, пока не найдём Роста!
— Уже утро, воевода, — сонно пробасил отец Михаил. — Утренница сеется на небе.
Вышатич посмотрел вверх. Над чёрной полосой леса, которая снизу отсвечивала розовыми вспышками угасающего костра, синел край неба. Он делался на глазах прозрачным, более широким.
Воевода утомлённо опёрся на рукоять меча. Кто-то дёрнул его за стремя. Ян Вышатич испуганно вздрогнул. Кажется, он задремал в седле? Помнит густую синь края неба над лесом, а теперь там разлит розовый свет.
Перед ним стоял неизвестный старец.
— Ты воевода Ян?
— Я. А ты кто? — Вышатич крепче стискивает коленами бока своего длинногривого коня. Тот напрягся, наставил уши, готов был в любой миг сорваться с копыт.
— Я Рост, — вызывающе расправил плечи длиннобородый.
— Рост? — Вышатич не мог поверить.
— Сам к тебе пришёл. Отпусти брата моего Сновида. Наши боги добром тебе воздадут.
— Ваши идолы? Ха-ха! Вот эти деревянные обрубки? Ничего не могут они, эти колоды неотёсанные. А ты от Бога истинного будешь иметь наказание. Яко и брат твой соумышленник. Ты, может, ещё большее наказание будешь иметь, ибо сколько погромил властоимцев! Сколько людья совратил в грех! Эй, дружина!
Старец молча протянул руки вперёд.
— Позорище вокруг и лжа... Бери меня, воевода. Приму смерть с братом своим.
— Достойно молвишь, волхве, — обрадовался Вышатич. — Но откуда узнал, что я здесь?
— Боги молвили мне об этом.
— Боги?! — Ян Вышатич нахмурил светлые брови. — А может, тот парень?..
Волхв Рост промолчал. Ему стало безразлично окружающее — и прошлое, и будущее, и заповеди, и молитвы. Душа его слишком была утомлена бедами и борьбой. Он ожидал покоя. В отличие от своего старшего брата, Сновида, Рост не владел отчаянно упрямой верой в старых богов. Жил более земной и греховной жизнью, ближе к сердцу принимал обиды и горести людские. Теперь же предпочитал пойти в царство Пека[58], нежели бездеятельно наблюдать, как вокруг торжествует ложь, обман, как процветает лицемерие, а истина обрастает неправдой, как велеможные и попы обкрадывают память человеческую, как охотно люди убивают собственными руками и свой старый обычай, и своё великое прошлое... В будущем не было уже места ни для него, ни для его брата Сновида.
— Бери меня, воевода, сам.
— Бог наш с нами! Это он просветил тебя, грешник, и привёл на стезю покаяния! — приближался с дружинниками отец Михаил. — Да святится имя твоё, о Господи!..
Дружина Яна Вышатича возвратилась во град в полдень. Били колокола в храме Успения, как в пасхальный день. Печальной цепочкой тянулись к своим разорённым хозяйствам люди. Им обещано прощенье грехов за отступничество. Теперь от них ожидали смирения, покорности и исправных платежей князю.
На отдельной подводе везли двух волхвов. Люди со страхом глазели на этих мужей. Они были привязаны верёвками к перекладине, какую вытесали ещё в лесу из трёх осин.
— Смотрите, злокознивцев поймали!
— Исчадия сатаны...
— Что вам говорят ваши боги? Почему не спасают?
Кое-кто из гражан бросал в них комья земли, палки, черепки. Такова уж судьба поводырей, которые не оправдали надежд...
Сновида и Роста распяли на кресте, установленном на церковной площади, и сожгли живьём. Ни стона, ни проклятий не услышали люди из уст старых волхвов. Пепел от этого костра рассеяли по ветру. С тех пор осталось одно грустное воспоминание.
Долго люди обходили стороной Боярский лес и заброшенное капище в нём. А потом исчезли из памяти людей имена Сновида и Роста.
Зато долго ещё помнили воеводу Яна и его пребывание в Василькове-граде.
На Дмитрия Мироточивого, праздник которого падает на месяц октябрь, воевода отыграл свою свадьбу в княжеских теремах. В жёны взял дочь кузнеца, ту самую Гаину, которую выхватил прямо из волховского пламени.
Отец Михаил ещё долго в своих проповедях рассказывал о Божьем персте, который указал Яну Вышатичу дорогу к требищу, помог разгромить мятежников и спасти суженую свою, Богом для него избранную жену — Анну Претичеву. Кто был сим перстом Божьим, отец Михаил не говаривал. Воевода также не вспоминал Наслава. К чему? Так более доверия и больше славы ему.
Наслав же о себе ничего не мог сказать. Был далеко от воеводиного ока. Побаивался, что Яновы мечники охотятся за ним, убежавшим татем. Ибо отряд Роста весь был схвачен. Некоторых повесили ещё в лесу, некоторых бросили в яму-поруб, а кое-кто купил себе прощенье изменой. Сбежавший печерский черноризец, который приблудился к Росту, тот самый Еремея, да Наслав не знали, где приклонить голову.
Вот так оба и появились на Печерских кручах под стольным градом Киевом.
Стояла глубокая осень. Ветер подгонял тяжёлые стада обвисших серых облаков над взгорьями правого берега Днепра. Сердито пенились седые мутные воды реки, даже казалось, что ворчит она и кружит в чёрных водоворотах шальные круги, поглощая всё, что, случалось, падало с берега в воду. С прибрежных дубрав и лесов тучами поднимались сухие жухлые листья, уже прибитые изморозью первых холодов. Оголились каменные и деревянные стены Печерской обители. Чёрными слепыми норами воззрились к небу узкие влазы в монашеские пещеры схимников, которые нынче опустели. Черноризая братия перебралась за стены, в кельи. Надо всей монастырской горой кружили стаи крикдивого воронья. Предвещали морозы, снега, буревеи...
Двух приблудших нищих в обитель не пустили. Вратарь-мних оповестил о приказе отца игумена — никого из мирян не впускать во двор монастыря. Дальним странникам отводился небольшой дом вне монастыря.
Там можно было остаться на ночь, согреться у печи, похлебать постных щей или чечевичной похлёбки, которую сам Иисус Христос с удовольствием хлебал. И только к заутрене да на вечернюю молитву можно было попасть в монастырский храм.
Еремея ходил насупленный и угнетённый. Мучился мыслью: примет ли его назад отец игумен Феодосий и какое покаянье назначит ему за ослушание?
Кутаясь в рваную монашескую рясу, дабы спрятать своё грешное тело от леденящего ветра, вратарь-мних сочувственно пританцовывал около этих двух приблудших. Топал на месте почерневшими, в трещинах подошвами, не знал, чем помочь этим бездомным. Сколько нынче голодных и оборванных бродит по дорогам от града ко граду, от села к селу!.. Холопы[59], изгои[60], рядовичи[61], закупы[62], разорённые княжескими продажами, вирами, боярскими правежами и потягами... Люди, изгнанные из своих огнищ половецкими набегами... И всякий иной разорённый убогий люд...
Вдруг монах-вратарь что-то припомнил. Вытянул голову из старого грязного платка, который был накручен вокруг шеи, дохнул гнилью зубов в лицо Еремее:
— Или вот что: завтра князь Святослав приедет к обители. Будет мириться с отцом Феодосием. Наш игумен не хочет признать старейшинство на Руси черниговского князя. Игумен упрям. Говорит: попустишь грех сей одному, иные князья начнут один другого со столов спихивать и мятежить. Оттого земле нашей горе и разоренье.
— Правда сие, брат... — кивнул дырявой скуфейкой Еремея. Вратарь обрадовался, что нашёл понимающего собеседника, оживился.
— Говорит: старейший князь должен держать в узде меньших князей. Дабы меньшие слушали старшего. Яко сие водится среди братии нашей. Никто не может ослушаться ни игумена, ни пресвитера.
Пробудились ни свет ни заря. В душном виталище[63] странноприимного дома полно людей. Спали все вповалку, на постеленной на земляном полу соломе. Спали одетые и обутые, плотно прижавшись один к другому спинами. Густой, будто вязкий воздух пропах крепким потом, портянками, сыромятиной, овчиной. От печи-мазанки, из-под заслонки, тянуло сизым угаром — заброшенные в печь вечером дрова не горели, шипели и обугливались. Сквозь небольшое окошечко продирался свет угасающих звёзд. Время к заутрене. Странники зашевелились, заохали, зашептали молитвы. У каждого было своё горе, своя беда, от которой желали попросить заступничества и помощи у отцов черноризцев.
Богомольцы торопились к церкви. За ними направлялись Еремея и Наслав.
В маленькой деревянной церквушке Успения Богородицы, поставленной ещё первым монахом печерским Антонием с братией, уже неистово бил поклоны отец Феодосий.
Еремея и Наслав едва протиснулись за порог церкви — там уже было полно монахов. Все уважительно слушали негромкое бормотание престарелого Феодосия. И чем больше слушали его моленье, тем большая оторопь брала за душу. Не Божьи слова, не молитвы произносил Феодосий. Какие-то проклятья богохульные возносил гласом своим против нового киевского князя Святослава!
— Не по закону воссев на отчем престоле, грех великий сотворил властелин. Изгнал брата своего старейшего, который был ему вместо отца, в чужую землю лядскую. Глас крови убиенных вопиет на тя, княже, до Бога, яко кровь Авелева на Каина! На гонителя и убойника, братоненавидника и согрешителя пошли, о Господи, свою карающую десницу, да утвердился бы на земле нашей закон старейшинства во благо всей Руси... Да убоится сын восстать супротив отца, а меньший брат на старшего руку возняти!.. Да быти в законе заповедям Ярослава, сына Володимирова, первокрестителя и апостола земли Русской!.. Утверди мя, Господи, духом своим... в сём благом деле! Ничто же ми не мило тако в жизни своей — ни утрата благодатьства, детей, земли... яко мила мне сила и могущество земли Русской...
— Поди сюда, — тихо позвал Еремея Наслава. — Мне это чудится или в самом деле такие слова молвит игумен?
— Мне также... будто чудится... против князя коромолит[64]!
Феодосий же возносил руки к алтарю:
— Верни, о Господи, законного князя нашего, христолюбивого Изяслава, сына Ярослава Мудрого, и сотвори закон...
Невменяемость игумена захватила и монахов. Они ошалело били поклоны и осеняли себя крестом.
Наконец Феодосий устал. Братия зашуршала одеждами, затопала, расступилась, пропуская своего пастыря к выходу. Еремея и Наслав протолкались ближе к нему. Наконец расстрига поймал минуту, упал на колени перед игуменом.
— Владыка благой! Помилуй мя и не сотвори гнева на слабость духа. Позволь вернуться под десницу твою в обитель!
Высокий белобородый старец в простой грубой рубахе тяжело опёрся на подставленное плечо своего келейника.
— Сие ты, Еремея? Вернулся?
— Я, отец святой... Прости...
— Поднимись, сын мой. Со слезами буду молить Бога, дабы душу твою буйную упокоил и научил терпению.
Еремея ухватил старческую руку игумена и приложился губами. Старец не отнимал руки. Смотрел вперёд себя куда-то вдаль, уже мыслью витая далеко от покаявшегося грешника. Вдруг его взгляд остановился на незнакомом лице парня.
— А это кто?
— Побратим мой, отче. Прими его в своё стадо...
— Прими, отче... — Наслав склонил голову на грудь.
— Хощеши быти достойным черноризцем, присмотрись к нашему житию нелёгкому, чадо. К молитвам, к труду неусыпному во имя Бога.
— Хотел бы, отче... в монашеский сан... — бормотал Наслав.
— Благое твоё хотенье, чадо, и помысел благодатный. Но взвесил ли свои силы? Довольно ли имеешь терпения блюсти суровые законы нашего быта? Не позовёт ли тебя назад богатство и слава суетного мира? Господь ведь учил: «Никто же, поклав руки свои на рало и глядя назад, недостоин быть в царстве небесном». Тако и мних. Подумай вначале. Иди к отцу Никону, пресвитеру. Будешь послушником.
Игумен закрыл старческие веки, отдыхая от слов. Потом двинулся медленно ко вратам.
Монастырский привратник уже нёсся навстречу игумену, отбивая на бегу поклоны.
— Владыка! Князь Святослав перед вратами давно стоит. Но ты велел не пускать его к обители. Я и не открыл ворот.
Игумен величественно остановился. Выпрямил спину, занёс вперёд свой сучковатый посох.
— Теперь велю открыть.
Перед вратами, которые спешно открыл монах, стоял князь Святослав со своей свитой.
— Повелел мне прибыть, владыка, а сам не пускаешь в обитель. — В князевом голосе слышится обида.
— Се бо вельми ся радую, — ответил Феодосий, — брат мой моё слово исполнил! — Гордо поглядел в лицо князя. — Теперь иди.
Князь Святослав Ярославич, третий сын Ярослава Мудрого, был уже в летах. Приземист, с седыми прямыми волосами на голове, подрезанными под круг. Округлённое, отяжелевшее тело делало его похожим на могучий дубовый пень. Он неуверенно сделал шаг навстречу высокой осанистой фигуре игумена, который от величественного чёрного клобука казался ещё более высоким.
— Отче! — Князь Святослав ещё раз неуверенно шагнул к Феодосию. — Боялся, что не пустишь меня в обитель свою.
— И не пустил бы, кабы не печаль моя и не боль моя за прегрешения твои зело великие, княже...
Святослав растерялся. Оглянулся на своих бояр, будто искал у них силы. Наслав вместе со всеми посмотрел на тех, у кого князь Святослав искал поддержки. В то же мгновенье узнал среди них воеводу Яна. Он единственный на этот беспомощный взгляд Святослава выступил ему навстречу и уверенно положил руку на рукоять меча. Возможно, от этой его готовности уверенность вернулась к князю. Наслав тем временем спрятался за чью-то широкую спину — не узнал бы его воевода!..
Еремея понял встревоженность Наслава. Наклонился к нему:
— Не бойся, отец Феодосий нас не выдаст.
— Истину молвлю тебе, отче, — тем временем, осмелев, Святослав приближался к игумену, — коль возвестили бы мне, что отец мой восстал из мёртвых, не был ся тако радоваться, яко твоей благосклонной воле позвать меня сюда. — Князь уже приложился к руке игумена. Оторвавшись, продолжал: — Давно ведь желаю, отче, побеседовать с тобой и духовными словесами насытиться.
— Да что гнев наш против власти державной? — Феодосий, впрочем, даже головы не склонил перед князем. — Сия власть — выше всего. За неё должен Богу молиться. Идём, князь.
Святослав, прижимая к груди соболью шапку, медленно ступал вослед игумену. Старался поймать суженными от напряжённою внимания зрачками мысли и намерения Феодосия. Что сделает дальше? Какие слова ему приготовил?
Лицо игумена было суровым и непроницаемым. Взгляд — углублённый в какую-то тревогу, которая стянула вокруг глаз сухую, восковую кожу лица.
В свои глубокие лета отец Феодосий хотя и сник силой, но телом казался таким же могучим, каким прославился среди печерских жителей. Когда-то ему ничего не стоило, бывало, ночью, когда вся братия засыпала, перетереть на жерновах всё зерно для выпекания хлебов, которое распределялось для помола поровну между многими монахами. Мог также подняться на рассвете раньше других и порубить все дрова, заготовленные для рубки на неделю. Не шелохнувшись, мог сидеть на земле, у пещеры, с оголённой спиной, в которую впивались мухи, оводы, комары, и прясть шерсть, чтобы из неё соткать одежду для всей братии. Вельми терпелив и упрям в труде был сей отец Феодосий, как и неисчерпаем в своих молитвах. С таким же упрямством теперь он стоял на защите непоколебимости киевского княжеского стола и закона державы.
Закон! — сие главная сила, которая должна придавить своеволие буйных Рюриковичей[65] и заставить их клонить свои мятежные головы перед Властью, освящённой Божьим Словом. Закон! — сия сила, считал игумен, должна утвердить единодержавие, какого достигли ещё Владимир Креститель и Ярослав Мудрый с помощью Церкви.
Теперь рассыпалось это единовластие. Князь Ярослав Мудрый пред смертию поступил неразумно, разделив землю между тремя оставшимися в живых своими сыновьями — Изяславом, Святославом и Всеволодом[66]. Теперь началась распря между ними. Заводчиком в ней стал волостель[67] Чернигово-Северской земли, сей лукавец Святослав, что так послушно и виновато шёл нынче за игуменом.
Молча двинулись в храм. Молча молились — каждый о своём. Потом зашли в тесную келию игумена.
— Ещё в Чернигове слышал о силе твоего слова, отче. Ты еси светоч на земле Русской. — Святослав откровенно льстил.
— Да. Но ведь хотел меня заточить? — ясно и спокойно взглянул Феодосий князю в глаза. Эта ясность не дала возможности Святославу слукавить.
— Грешен есмь, отче... прости...
— Бог простит...
— Искренне тебе молвлю: не хотел ты признавать меня киевским великим князем. Велел ведь в ектении[68] и сейчас называть киевским князем Изяслава, — обиженно исповедовался новый киевский властелин.
— Правду тебе сказали твои доносчики, — спокойно согласился Феодосий. — Ибо ты супротив закона пошёл и неправдой сел на отчий престол. Велик бо грех есть переступать заповедь отца и закон державы! — Сурово поднял вверх указательный палец.
— Грешен есмь. Прости! Не имей гнева на меня. Брат мой Изяслав хотя и старейший, но безвольный. Окружил себя иноверцами и купчинами.
— Ведаю сие. Изяслав верой был нестоек. Но это уже наши хлопоты. Князю приличествует быть веротерпимым. Отец его — Ярослав — поставил в Новеграде епископом Луку Жидяту. Он сподобился великому князю силой своей веры. Жидяту выкрестил сам Илларион. И был он, Жидята, истинным христианином, яко и апостол Павел, и иные апостолы Христа.
— Да, но Лука Жидята был истинным, а брат мой — колеблющийся в вере. Сам говоришь.
— Но разве из-за этой его неустойчивости ты отобрал у него отчий стол? Разве ты из-за этого пограбил его золото и перетащил его в свои онбары?
— Грешен, отче...
— Если чувствуешь сей грех — верни брату киевский стол. По закону русскому.
Святослав вздохнул. Взглядом что-то высматривал в золотистой верхушке собольей шапки, которую мял в руках.
— Не потому стол отобрал, дабы ему возвратить. Сему не бывати! — твёрдо молвил. — Но без твоей поддержки, велемудрый отче, мне долго не удержаться в Киеве. Иные князья меня столкнут, снова начнутся крамолы между нами... Подопри меня. Утверди в Законе Божьем своим словом. Ты ведь знаешь, что, когда брат мой Изяслав изгнал из пещеры схимника Антония, я ведь дал ему защиту в Чернигове, на Болдиных горах. И Печерскую обитель я никогда не забывал. И ещё больше буду жаловать землями, и лесами, и добром всяческим. — Святослав оглядел келию. — Тесно у вас уже стало. Нужно ставить новые храмы и новые келии. Подарю обители вот эту гору, которая возле обрыва. Ставьте с братией новую церковь. И денег дам.
Феодосий вздохнул. Хитёр этот Святослав. Знает, как подойти к игумену.
— За подарок обители — благодарение тебе... — Феодосий немного подумал и досказал: — И слава. Но не забывай — на чужом месте сидишь. Ломаешь силу, какой держится крепость земли — закон.
Феодосий устал от этих поучений и увещеваний. Твердолоб и упрям сей Ярославич и к власти жаден. Не отдаст её добром.
Святослав молча вышел из келии. На пороге перекрестился, прислушиваясь. Кажется, отец Феодосий не послал ему вдогонку проклятия. И на том — спасибо!
Поспешил к своим боярам.
— Ян и ты, Чудин, сегодня же пришлите обители мёда, воска, зерна из моего двора — ко столу святым отцам. Пусть молятся за нас.
— Сегодня и будет! — первым поклонился Вышатич и двинулся к воротам. За ним все остальные со Святославом во главе...
— Всё же угомонили Феодосия, — прошепелявил им вслед Еремея, провожая свиту недобрым взглядом. — Стар уж стал. К Божьему раю готовится...
После того как Феодосий в своей пещере благословил молодого послушника, пресвитер печерский отец Никон постриг его в монашеский сан и нарёк новым именем. Отныне навеки исчез стыдливый парень Наслав. На свет явился молодой сероглазый монах Нестор, вдумчивый и молчаливый. Дни и ночи просиживал он над книгами. Читать был научен сызмальства, ещё в Василькове, где со времён князя Ярослава дьяки брали в науку смекалистых. Но писать не умел. Тяжёлое это дело — выводить азы и буки на пергамене, составлять из них слова, а в те слова вкладывать мысли. Чтобы не пустыми были... Нестор целый год положил на сие умение свой труд. Пока не одолел мудрости писания. А потом с удовольствием просиживал над пергаменами — то переписывал из Четьи-Минеи[69], то что-то своё уже выводил. Интересно, когда твои мысли в слова выливаются...
Неожиданно тихий монастырский рай обернулся для него адом. Виной было и не книжное обучение, к которому пресвитер Никон посадил молодого мниха, и не труды в трапезной или на монастырской ниве. Его тело вдруг начали истязать бесовские искушения. Лукавые проделки диавола мучили молодого постриженника и днём и ночью. Путали-запутывали его сердце в сетях воспоминаний, от которых, считал, он отрёкся навсегда.
Наипаче допекал диавол, когда приводил в его келию образ Гаины. В её глазах то потухало синее пламя, то покрывалось сизым пеплом, то снова пылало. Она протягивала к нему руки и вдруг начинала рыдать: «Зачем спас меня от Перунова огня? Почто отдал косоглазому слюнявцу?»
Нестор тогда срывался в бег. Перебирался через монастырскую стену, продирался сквозь чащобу и едва видимой тропинкой направлялся к Перевесищу, а потом, мимо Лядских ворот, поднимался к Княжьей горе. Невдалеке от княжьего двора, у самого Боричева спуска — узвоза[70], возвышался розовато-каменный терем тысяцкого Яна Вышатича. Дом его был высок, о пяти башнях, стоявших рядом одна возле другой. Дом был на подклети, имел большие окна, кругло вырезанные вверху и украшенные резьбой. В рамы окон были вставлены цветные прозрачные пластины, похожие на смальту, какие изготовляли греческие рукоделы для дворцов своих царей.
Сей терем скорее напоминал пышные хоромы великого князя, которые невдалеке когда-то поставил и украсил Владимир.
Вокруг Янового дома были выстроены медуши[71], бретьяницы[72], онбары, псарни, соколярня; конюшни стояли далее, за большой оградой, которая разделяла двор боярина на две части и окружала его дом глухой стеной. А далее, за ограждённым двором, у спуска на подольские улицы, были поставлены хлевы, курятники, коровники, хижины для дворовой челяди. Здесь мычала, блеяла, ревела, гоготала в сотни голосов домашняя животина, меж которой носились постоянно десятки погонщиков, челядников, поваров...
Сюда боярин, видимо, редко заглядывал. Здесь хозяйничали стольники, конюшие, тиуны, биричи, каких было полно во всяком добром боярском дворе. Да и в своих пышных палатах Ян не задерживался около боярыни. Непоседливый воевода постоянно был в походе — то шёл в полюдье, за данью для князя, то в далёкую Ростовскую землю или на Белоозеро мятежи тушить. То составить с иным волостителем — мелким или могущественным — ряд-договор на мир или войну. Воинственный Святослав Ярославич утверждал себя на всей земле и лукавством, и лестью, и раздачей земель — и мечом. Бросал свои рати со старшим сыном Олегом на половцев, посылал на помощь полякам, на Вислу, против чехов. Принимал немецких послов и хвалился пред ними златом и серебром, узорочьем и пушниной. Дабы и в далёких землях ведали об его богатствах и могуществе. И в самом деле, император Священной Римской империи Генрих IV[73], который жаждал вначале помочь изгнанному братьями князю Изяславу, опешил от тех богатых даров, которые привёз его посол Бурхард Трирский из стольного града Русской земли. В немецкой хронике позже было записано: «Бурхард привёз королю столько злата, серебра и драгоценных одежд, что никто не помнит, дабы когда-нибудь такое богатство привозилось в немецкую державу». Генриху сразу расхотелось помогать нищему-изгою князю Изяславу...
Ян был верным помощником князя Святослава. Метался по всей Русской земле — из конца в конец. Там бряцал мечом, там звенел золотом, там действовал наговором. Только на большие праздники христианские возвращался домой. Со всей дружиной своей шёл в храм, отмаливал содеянные грехи, чтобы сразу броситься творить новые... На то ведь милосердие Божье и существовало...
Боярыня Гаина сидела в хоромах одна. За все годы своего неожиданного замужества не могла привыкнуть, что стала боярыней, что имела право повелевать, что это даже требовалось от неё как от хозяйки и распорядительницы неисчислимых богатств рода Вышатичей в Киявье[74], в Поросье, в Новгороде Великом, на Белоозере...
Тихая, смиренная боярыня проводила свои дни в беседах с учёными монахами и монахинями. Наипаче с игуменьей женской обители Святого Петра, которая была невдалеке, против Софии. Учёная игуменья Анна, в миру Янка, дочь переяславского князя Всеволода Ярославича, была обучена книжной премудрости и завела в монастыре схолу для девочек, палату милосердия для больных и немощных. Тянула к себе и молодую боярыню.
Служанки Вышатича поначалу угодливо кланялись своей господарыне в пояс и предупредительно заглядывали в рот. Но скоро почувствовали её незлобивую натуру, доброту и махнули рукой. Блаженная, не иначе, их боярыня! Старшая горничная Килина, которую все называли проще — Килька, уверяла, что боярыня не в своём уме, что ничем она в доме не занимается, лишь сидит над книгами. Наверное, потому, что душой уже побывала в Перуновом пламени и вкусила сладость идольского грехопадения.
Гаина знала об этих пересудах и принимала их со смиреньем. Людям языки ведь не укоротишь. Мир они ценят и мерят по своей короткой мудрости. Что поделаешь? Правда людская — не среди людей, она выше.
Трудно было узнать в боярыне Гаине бывшую Ярилову невесту. Небольшая, но тугая грудь, крепкий стан, раздавшиеся плечи — всё говорило о тоскливой женской перезрелости. Только лицо приобрело какую-то ещё большую пылкую привлекательность. Тонкие нити тёмных бровей потемнели. Огромные серые глаза с чёрной радужкой у зрачков как-то стали более глубокими, встревоженными. Над верхней губой появился нежный золотистый пушок. Она редко когда стягивала с головы чёрный платок, так же как и широкое чёрное навершие поверх белой сорочки.
Так и жила. Или влачила существование. Этого не знала сама.
После завтрака всегда садилась за стол, листала тяжёлые страницы огромных книг. Килина жалостливо вздыхала — такой жене да доброго бы мужа, да детей в подол! Вот! Что же их боярин худосочный! Его больше тянет к славе, к походам, к гульбищам. Все ищет, чем бы далее свой род прославить. Дед его Остромир проуславил, вишь, Евангелием красным, отец — Вышата — цареградским походом. А он и его меньший братец, разгульный Путята, измельчали, гоняясь за славой. А она — эхма! — махнёт крылом перед ними — и растает, яко дым. Беги, воевода, догоняй!..
Килина первой заметила у двора высокого молодого мниха. Он часами простаивал у ворот. Или прохаживался вокруг дома. Кого поджидал? Конечно же не её, рябоватую половчанку, которую подобрал воевода Ян в половецкой степи!..
Когда ворота раскрывались и был виден весь двор, дом с двумя крыльцами, монах тот настороженно всматривался в лица людей.
Не спрашивали у черноризца ничего. Когда б и спросили — не сказал бы. Он ведь и себе боялся признаться, кого выжидает. Но Килина скоро поняла: боярыню! Конечно же уже всех перемерил своими глазищами.
Чернец же и в самом деле хотел видеть боярыню, желал узнать, счастлива ли она. А может, ещё хотел рассказать о том забытом Наславе, который когда-то, в каком-то сказочном сне водил её белого коня, неумело обнимал, снимая с лошади... а потом ещё бежал лесом искать для неё спасения... Он ведь спас ей жизнь... Какова же она теперь у неё?
Сколько солнцеворотов минуло с тех пор — Нестор в горячке не мог точно сосчитать. Три или пять. Не мог также припомнить все мгновенья, когда кровь горячо обжигала его сердце и память. Лишь одно знал сейчас — он должен увидеть её.
И увидел.
Гаина провожала игуменью Анну-Янку. Высокая, ещё молодая, но уже с морщинистым от частых постов лицом, эта учёная внучка Ярослава Мудрого шла впереди Гаины, быстро выбрасывая вперёд колени. Но вдруг останавливалась, чтобы Гаина могла поравняться с нею.
— Вижу, мой труд не пропал даром, сестра, — радостно молвила игуменья. — Греческие книги, какие ты переписала, стали нам большим подспорьем в монастыре. Иди к нам, будешь обучать сестёр.
— Не знаю, смогу ли...
— Кто же тогда и сможет!.. — улыбнулась Анна.
— Говорят, в земле хорезмийской есть много знатных лечцов и мудрых книг. Кабы достать их! — заглядывает Гаина в сухое лицо Анны.
— Вот пойду скоро в Царьгород, попрошу и сих. И арамейских, и ещё египетских.
— Нужно было бы ещё у наших знахарок сию науку перенять. Они много знают трав и истоков целебных.
— Свят-свят-свят! Да они же своим волхованьем и ведьмовством людей губят! Со старыми богами беседуют, заклятия ногайские на людей напускают! — От возмущения игуменья даже остановилась.
Гаина побледнела. Испуганно опустила глаза. Но всё же пролепетала:
— Я о травах говорю, матушка. Множество их на нашей земле растёт. И что ни травинка — то сила целебная. Знать бы о каждом стебельке... эту силу людям отдать...
Игуменья резко, как-то безжалостно и холодно заговорила:
— В тебе отзывается та сила колдовская, которая когда-то на костёр тебя привела. Молись, сестра! Забудь о том волхованье. Греческие книги — Богом освящены. Так мне ещё мать моя сказывала. А она — из царского рода, из Мономахов! Не слышала? О! Весь мир помнит великого царя Византии Константина Мономаха[75], деда моего!..
— Если бы нашу книгу написать и освятить — также пошла бы в свет... И была бы священной.
— Нашу? А достойны ли мы сотворить что-то своё? Разве что идолов деревянных! — Голос игуменьи стал трескучим и жёстким.
— Помилуй меня, матушка. Но выдаётся мне, что такая книга послужила бы нам лучше: греческое зелье тяжело нам доставать, а вокруг нас — сколько нашего целебного зелья! Не нужно было бы ходить за ним к ромеям.
— Греховные мысли живут, однако, в тебе, сестра. От тех старых кудесников и кумиров твои размышления. От них... Молись, да простит тебя Вседержитель...
Гаина молча склонила голову. Все укоряют её за старых богов и волхвов — от челядниц до высокородной игуменьи. Здесь уже все забыли о своих дедовских обычаях, о песнях Яриловых... Поют лишь чужие невразумительные песнопения... А своё, такое понятное, такое близкое, отбросили. Почему нужно отрекаться от него? Почему кланяемся чужому?..
Возвращалась домой. И вдруг встретила взгляд знакомых глаз. Сердце её ёкнуло. Наслав! Он ли? Монашеская ряса, скуфейка, борода...
Она пристально глядела в его лицо. Да, это он поджидает её. Неожиданно припомнила, что уже много дней видит эту высокую фигуру у ворот.
Какая-то сила заставляла смотреть на него не отрываясь.
— Наслав... — прошептала неуверенно.
— Я...
Гаина почувствовала тяжесть в теле. В ушах звон. Но — чудно! — с её памяти будто сползла пелена забвения.
Тёплый весенний ветер дохнул в лицо запахом вспаханных нив, ожившей коры и только что распустившихся почек. Прозрачными каплями весеннего сока обвешаны ветви берёз. Весь мир наполнен синевой неба и дыханием воскресшей земли. В золотистых лучах Солнца-Ярила едва приметно дымились-дышали паром ровно заволочённые и засеянные поля...
— Заходи же в дом, будешь гостем.
— Не знаю, могу ли... Я в пещерах... в обители...
— Идём всё же...
Тяжело пошатнулся, двинулся за нею.
Сидел в большой светлице с высокими окнами. Смотрел, как на белой стене играли цветные радуги от лучей, пробивавшиеся сквозь разноцветные прозрачные пластины тонкой смальты. От этих радуг торжественно сияли богатые иконы, выпуклые бока золотых и серебряных подсвечников, кувшинов, мис, чаш, тарелей, которые стояли плотными рядами на полках ларей для посуды. Много красоты рукотворной собрано в доме Вышатича!..
Нестор увидел стол, заваленный толстыми книгами, свёртками пергамена, обломанными и новыми писалами — костяными и железными.
— Знаешь греческое письмо? — улыбнулся ей.
— Матушка игуменья обучила.
Говорили о далёких делах, о чужих хлопотах. Прятали волненье встречи за холодными, спокойными словами. Боялись коснуться переполненной чаши воспоминаний, дабы не расплескать, дабы на землю не уронить ни единой капельки их...
За всем тем новым, незнакомым миром Нестор узнавал Гаину Претичеву, невзирая на свою приобретённую книжную мудрость, верившую в старое, доброе, верившую в счастье, которого не имела никогда и во имя которого для других — чтобы имели его — ступила в жертвенный огонь...
Больше чернец из пещер не появлялся на Вышатином подворье. Но с того единственного посещения что-то необычное начало твориться с боярыней.
Первой заметила это конечно же Килина. Удивлялась, что её господарыня с утра не садилась больше за книги, а уходила со двора. Как-то тайком поплелась за нею было и Килька. Но — разочаровалась. Боярыня её бродила вдоль берега реки, стянув с головы чёрный платок. Разувшись, забредала в воду, долго стояла, к чему-то прислушивалась. Иногда чему-то улыбалась, что-то шептала. Вскоре боярыня перестала наряжаться в чёрное навершье и чёрный платок. Надевала на себя то золотистую брачину[76] с серебряным вышиваньем на подоле, то голубого шелка шаль, то ещё какую-нибудь диковинку. Переплела свою светло-русую косу красной и голубой тесьмой, накрывала её прозрачной, как дым, шалью — убрусом[77], который сверху придавливал серебряный обруч, надетый на голову. Гаина совсем исхудала, стала снова юной и необычайно красивой. Женщины-горничные сразу догадались: в сердце их боярыни пришла наконец любовь.
Килина млела от любопытства: о ком вздыхает её боярыня? О том сероглазом монахе? А может, она колдует? Может, требы приносит старым богам?.. От догадок у горничной суживались и без того узкие глаза и перехватывало в горле. Потом в челядницкой избе Килька рассказывала, что боярыня, наверное, волшебством занимается, ибо хочет зельем чародейным привлечь вот этого русобородого монаха-красавца.
— Ой! — верили и не верили этим россказням. — Может быть, хочет детей начаровать себе? — строили догадки молодухи постарше. — При таком богатстве — и детей не иметь! Это беда! Род воеводы вымирает.
— Кто знает, может, и это...
Шептанья-пересуды осторожно выползали за ворота Вышатиного дома и тихими, невидимыми струйками растекались по Киеву. Боярыня Янова колдует с волхвами! С поганской силой знается. И всё это от черноризцев у нас пошло — от их тёмных душ.
Воевода Ян ещё не успел и коня расседлать после возвращения от половецкого хана Осеня, как на Святой Софии ударил вечевой колокол. Кони насторожили уши, как люди, вслушиваясь в это тревожное гудение набата.
К полудню вечевое гудение колокола перестало дрожать в хрупком морозном воздухе. Над городом упала тишина. Казалось, в ней тысячегласо тонко вызванивали мириады мелких осколков, которые оторвались от этого звона. Из них была соткана холодная голубизна неба, от них шло серебряное вызванивание голосов, шагов, даже скрип полозьев на снегу и короткий топот конских копыт.
Вдруг на звоннице вновь заговорили колокола. Но это уже не был зов на вече. Колокола били тяжело и тягостно — за упокой души.
Воевода за это время успел только зайти в светлицу и поклониться своей боярыне. Быстро переоделся в свой новый, расшитый внизу золотым узором кожух[78], обул чёрные, хорошо намащённые жиром сапоги, на голову насадил кудлатую шапку из серебристо-седой лисы и побежал к Софийскому собору.
Боярыня бросилась к сундуку, начала торопливо вытаскивать свой кожух, полушалок, сапоги. Она также желала знать, что произошло в граде.
А на Софийской вечевой площади до самого Бабиного Торжка уже с утра стояли тёмные, выбеленные сверху инеем толпы людей. Приглушённый гомон, отдельные возгласы — сразу ничего не разобрать. Во всём, впрочем, проглядывала какая-то растерянность.
Огромное сизое облако морозного тумана прозрачно колыхалось над толпой, которая дышала в него паром, и это облако будто заглатывало громкие возгласы и слова:
— Всеволода... Всеволода...
— Помер...
— Кто помер, люди?
— Святослав? Когда же?
— В обед!
Воевода Ян вместе с другими боярами и достойными мужами уже стоял на помосте под колокольней. Около него переминался с ноги на ногу киевский митрополит Иоанн. Это был муж удивительный — речист, хитёр, к простым и велеможным одинаково добр. Он единственный из всех митрополитов-греков, которые приходили на Русь со времени Владимира, изучил русскую речь.
Давно уже этот Иоанн сидел на митрополичьей кафедре в Киеве, освящал то одного, то другого князя, то третьего, кому Бог поможет спихнуть своего соперника-брата. Каждый из них уповал на поддержку митрополита, старался перекупить его милость.
Княжеские крамолы ослабляли заносчивых киевских державцев, которые со времён Ярослава Мудрого стремились выбиться из-под церковной зависимости Византии. Они не давали превратить Русь в провинцию ромеев-византийцев, как это издавна повелось с теми народами, которые принимали христианство из рук могущественной империи.
Нелёгкой была миссия греческих митрополитов на Руси — склонять князей к византийским законам да подбивать Русскую Церковь под руку цареградских патриархов. Своевольные русские князья, начиная от Ярослава Мудрого, не считались с намерениями митрополитов, более того! — даже хотели вообще избавиться от этих византийцев-ромеев. Недаром византийский книжник и письмотворец Михаил Пселл[79] в то время писал, что варварское племя русичей всегда люто и оголтело выступало против греческого преобладания и всегда изыскивало то или иное обвинение, дабы начать войну с Византией...
Много киевских тайн ведал митрополит Иоанн. И ныне, в этот тревожный зимний день, бояре и все киевляне, столпившись на вечевой площади, с осторожным любопытством поглядывали на Иоанна. Ян Вышатич предупредительно подвинулся к нему, легонько оттолкнув локтем отца Лазаря из Вышгородской княжеской обители и переяславского митрополита Ефрема. Странно: почему он оказался вдруг в Киеве?
Перед стоящими на помосте колыхалось в седом морозном тумане говорливое людское море. Белое солнце низко плыло на небосклоне и слепило глаза. Конец декабря месяца в Киеве был морозным и снежным. Уходил в прошлое год 1076-й от рождения Христа.
Боярин Чудин остановился на краю помоста и звонко ударил в било. Площадь вздохнула в ожидании. Чудин изо всех сил выкрикнул:
— Кияне! Помер наш князь Святослав. Неожиданно помер...
— Наказанье Божье принял!
— А мы и не звали его вечем в наш Киев! — закричали снизу, из толпы.
Боярин Чудин повернулся на возгласы, сердито свёл седые брови:
— Почто нынче об этом заговорили? Говорите теперь, кого на стол княжий позовём.
— Да никого!.. Сами управимся!..
Толпа шатнулась, заревела, даже эхом отозвались чувствительные колокола на софийской звоннице.
Боярин Чудин отодвинулся от края помоста и спрятался за спиной Иоанна. Ему показалось, что так же начинала реветь толпа горожан, когда впервые в Киеве, восемь лет назад, вспыхнула великая стань[80]. Именно тогда под стенами города появились впервые половецкие орды, которые разгромили ратников князей. А что, если вновь в Киеве начнётся мятеж?
— Позовём изгнанного князя Изяслава! — крикнул староста гончаров из киевского Подола, дебелый Бестуж.
— Не хотим Изяслава! Снова приведёт ляхов! Долой Изяслава! Трусливый князь!..
— Кияне, да покличем Всеволода из Переяслава! — снова подвинулся боярин Чудин к краю помоста.
— Всеволода! — отозвался вдруг переяславский митрополит Ефрем.
— Всеволода!.. — подхватило у помоста несколько десятков звучных голосов.
Митрополит Иоанн закивал им головой:
— Да... да!.. Всеволода!
На его груди болтался серебряный крест. Ян Вышатич удивлённо посмотрел на Иоанна— что-то в его тёмных глазах мелькнуло злорадное.
А Чудин тем временем шёпотом рассказывал Яну подробности. Странная смерть забрала Святослава. Обедал здоровым в своих хоромах вместе с отцом Иоанном. Ушёл почивать после обеда в свою ложницу — и помер. Сказали после — разрезал желвак. Больше ему ничего не известно.
Митрополит Иоанн дёрнул Чудина за рукав:
— Скажи всем: я даю своё согласие на Всеволода.
— Киевляне! — зычно крикнул Чудин. — Отец Иоанн, митрополит наш, даёт своё согласие на князя Всеволода!
Иоанн вознёс над собой крест.
— А-а-а!..
Чудин ударил снова в било, добиваясь внимания.
— Чудин, а Чудин! — тянется на цыпочках Ян Вышатич, стараясь дотянуться до уха рослого боярина. — А что же нынче молчит Печерская обитель?
— Известное дело — законного князя Изяслава желает.
— Тогда нужно бы и нам, брат... и всем людям достойным на этом стать. Законного звать из изгнанья!
— Уж поздно... Отец Иоанн благословил...
— Законность ведь укрепит нас. Прекратятся межусобицы между князьями.
— А раньше ты этого не говаривал, когда тебя сюда князь Святослав с собой привёл и возвысил! — уколол его за прошлое Чудин.
Вышатичу было не до обид. Стянул с головы шапку и решительно стал впереди митрополита Иоанна.
— Кияне! Добрые люди! Смерды и рукодельцы! Купчины и бояре! Слушайте!.. Слушайте-ка!..
Иоанн удивлённо уставился на вертлявого маленького боярина. Откуда он выскочил? Сии варварские обычаи никак не понять — не знаешь, чего ожидать на таком вече, где каждый говорит, что пожелает!..
Вышатичу удалось кое-как утихомирить первые ряды. Он звонко крикнул:
— Слушайте, люди, правду! Князь Святослав умер — его нет. Но есть законный киевский князь, Изяслав, который сидит в изгнании у ляхов. Отец его великий Ярослав сам посадил его на златой стол в Киеве. Так было угодно Богу. Так и по старым обычаям русским ведётся издавна. Зовите Изяслава! Законного князя зовите!
— А-а-а!..
— Пойдёте супротив воли Ярослава — пойдёте супротив обычая нашей земли!.. Супротив Бога!..
— А-а-а!..
— Изяслава!..
— Всеволода!..
Вышатич дёрнул Чудина за полу:
— Скажи и ты, брат. Видишь, люди колеблются. Пусть в земле Русской господствуют князья по старейшинству. Тогда уймётся крамола.
— Уже поздно. Отец Иоанн...
— Ты трус! — зло прошипел Ян в лицо Чудину. Кончик его острого носа побелел, губы дрожали. — Боишься сего гречина? — И вновь бросился к краю помоста: — Кияне!.. Кияне!..
Но его уже никто не слушал.
Вышатич скатился клубком по высоким ступеням помоста и начал пробираться сквозь толпу.
Ещё у Софии киевляне продолжали вечевать, а из южных Лядских ворот вырвались сани, запряжённые тройкой быстрых лошадей, и понеслись через Крещатый Яр и Перевесище к Днепру. Оттуда шёл хорошо наезженный путь по льду к Печерскому монастырю.
Настойчиво дёргали за щеколды, пока в привратной башне монастыря отодвинулось окошко. Чьи-то острые глаза придирчиво разглядывали неизвестных людей, топтавшихся перед обителью.
Время было предвечернее, и черноризая братия, начинавшая свой день ранними молитвами перед рассветом, теперь опочивала в келиях. Такой обычай завёл недавно почивший игумен Феодосий. Его преемник, новый печерский владыка Стефан, свято придерживался установленных преподобным Феодосием порядков и обычаев. В эти часы велел никого не пускать за стены обители.
Привратник долгое время не подавал голоса. Вышатич схватил палку и начал отчаянно колотить ею по воротам.
— Открой! Сие воевода Вышатич! — припал к окошку слуга воеводы — Бравлин.
— Не велено, — спокойно молвили из-за ворот. — Перед вечерней молитвой открою.
— Открой, а то снесу тебе голову! — рассвирепел Вышатич и выхватил из ножен меч. Грохнул о ворота, только загудели дубовые доски.
В окошке молчали. Бравлин снова начал колотить билом о ворота. После нескольких злобных ударов палка разлетелась в щепки. За воротами молчали.
Вышатич повалился на сани, закрыл глаза. Перекипал сердцем, успокаивал неистовое волнение в груди. В голове беспорядочным роем кружились мысли. И чем больше думал, тем больше удивлялся своей опрометчивости. Примчался сюда, а какие слова приготовил отцу игумену? Сгоряча не подумал. Вот Бог и остановил его пред тем важным шагом в его жизни. Теперь должен собраться с мыслями и найти единственное важное слово, способное склонить людей на его сторону и добиться успеха.
Но слово это не шло на ум, и в голове проносились давно забытые картины детства. Новгород Великий белокаменный... Пенистый мутный Волхв... Старый терем посадника Остромира. Потемневший от лет, но будто окаменевший от них и неподвластный времени. Сыростью гниющего дерева дохнула на него просторная хоромина — вся в иконах, с тёмными серебряными лампадницами. В резных дивных узорах подоконники и косяки дверей.
Под большой, украшенной золотом иконой на лаве сидит слепой старец. Это его отец, слепой Вышата. И зимой и летом Вышата сидит в кожухе, наброшенном на плечи, и бесконечно перебирает пальцами выпуклые чёрные чётки. Кроваво-синими ямами глазниц он уставился куда-то вверх, в потолок, задрав свою козлиную бородку и натужно собрав кожу лба, отчего смешно топорщились два редких кустика седых бровей, седой чуб, свисавший на чело.
Старый Вышата был совсем немощным. И часто плакал. По глубоким морщинам лица стекали широкие ручьи. Ян не мог без содроганья глядеть на эти слёзы. Кусал губы, стискивал кулачки, чтобы самому не расплакаться.
— Это ты, Ян? — Старик всегда угадывал, когда к нему вкрадчиво входил сын.
— Я, отец...
— Подойди, я посмотрю, какой ты вырос.
Вышата ощупывал плечи Яна, спину, голову.
— А какие у тебя волосы?
— Светлые.
— А почему руки такие слабые? Держи меч сызмальства.
— Держу.
— Тогда чаще ходи на ловы. Вишь, слабосильный какой!
— Буду ходить.
— Ох, наказал меня Бог слепотой. И тобой наказал. Вырождается наш великий род.
Ян опускал голову на грудь. Знал уже, что дальше отец будет укорять судьбу и Бога за то, что уродился такой хилый сын. И Ян начинал злиться. Разве он в том виноват, что род богатыря Добрыни киевского вот так измельчал на нём?
Впрочем — не в том сила человеческая. В разуме! Дед его Остромир прославил имя своё книжной учёностью, оставил внукам на удивленье великолепное Евангелие. Такой богатой книги, молвили сведущие, не найти ни в русской, ни в греческой земле.
Вышата, сын Остромиров, доканчивал жизнь свою в темноте и печали, в жгучей скорби и отчаянье за несвершённые намерения. Даже летописцы промолчали об этой его тяжкой доле, ибо они привыкли вести речь лишь о славе, а не о позоре. Потому Ян Вышатич обязан возродить славу своего рода.
— Я отомщу за тебя, отец, — твёрдо обещал Ян слепцу.
— Отомсти, Ян. За обиду князя Ярослава и сына его Владимира. Жив ли? Не слыхал?
— Говорят, умер...
— За обиду его и мою отомсти... Гречины ослепили нас, яко рабов своих мятежных. Не желали признать нас равными себе...
Ярослав Мудрый не покорялся грекам и не признавал свою землю провинцией империи. В Святой Софии в пику греческому митрополиту был избран свой, русский митрополит. А в приднепровских пещерах рос и набирал силы русский монастырь. И тогда в Цареграде в отместку за самовольство Киева жестоко расправились с полонёнными русичами, среди которых были Владимир, сын Ярослава Мудрого, и Вышата...
Своим утомлённым сердцем воевода Ян чувствовал: именно сейчас пришла к нему долгожданная минута мести, о которой завешал ему слепой отец... Вышатич теперь уразумел и ту лукавую усмешечку в глазах митрополита Иоанна. Это он, лукавец речистый, сеет крамолу между сыновьями Ярослава, расшатывает могучий киевский стол, дабы самому наконец править Русью — ставить на золотой киевский стол и смещать с него чванливых и слепых чад мудрого Ярослава, насаждать свои, ромейские законы, несущие русичам рабство. Вот оно, возмездие Ярославу Мудрому, пришедшее через его славолюбивых сыновей...
— Сие ты — воевода Вышатич? — склонился над Яном монах-привратник.
Ян оторопело смотрел на привратника.
— Игумен Стефаний тебя кличет. Иди. Я проведу.
Прошли к длинному каменному строению. Воевода знал, что это были новые келии для монахов, начатые ещё Феодосием и завершённые его преемником Стефаном.
В полутёмной келии было угарно от дурманящих запахов лада на лампадницах, которые мерцали перед киотом. На нём тускло высвечивались богатые, золотом и серебром отделанные оправы на иконах Богородицы, Вседержителя и его апостолов. На огромном столе из грубо отёсанных досок стоял высокий подсвечник. Пять вознесённых вверх чашечек-лепестков держали горящие восковые свечи. Ровное, ясное пламя едва потрескивало, разнося по келии пахуче-томительный дух чистого воска.
Ян, прищурив глаза, оглядел келию. В углу на деревянной скамье кто-то тёмный зашевелился, закряхтел. Это был Стефан в чёрной рясе, без клобука, без богатых уборов.
Отец Стефан подошёл к Яну, гостеприимно указал рукой на скамью, приглашая гостя сесть, и сам уселся у стола. Ровно льющийся свет горящих свечей давал возможность воеводе внимательно разглядеть игумена. Его сухое, изнурённое лицо и совершенно вылинявшие, бесцветные глаза выказывали не один десяток нелегко прожитых лет. Тяжесть минувшего согнула отцу Стефану и спину, потому он, помня это, постоянно выпрямлялся, встряхивая гордо головой. Будто тем движением желал сбросить со своих утомлённых плеч эту тяжесть.
— Знаю, воевода, что привело тебя сюда...
Вышатич не ожидал, что у этого тщедушного на вид старца такой молодой, зычный, густой голос.
Стефан медленно поднялся со скамьи, начал кружить по келии, при этом всё время оттягивал худыми жёлтыми пальцами воротник рясы, словно он давил его, мешал ему дышать.
— Сие митрополит Иоанн наколдовал... — начал было Вышатич.
— Не будет нашего благословенья князю Всеволоду. Пока живой есть законный киевский князь!
— Я хотел уговорить киян, отче... Но Чудин и другие бояре глаза запрятали.
— Ведаю про твои труды, воевода, — рокотал Стефан. — Вот он там был и всё видел и слышал, — кивнул он головой в угол, в сторону ложа. Оттуда выплыло старческое лицо какого-то монаха. А он и не заметил его! — Бояре киевские заняли первые места везде, имеют богатые волости, жиреют. Про свой род не вспоминают. Ибо нету рода и чести у рабов, которые похоронили свою память и вознеслись над подобными себе!
Стефан остановился, передохнул, провёл ладонью по влажному челу.
— Говорю... Когда ничтожные возвышаются, их желания творят зло. Убойтеся их, честные люди. Остерегайтесь тех, кто всем сыт и доволен и кто молча терпит зло!..
От подобных поучений Стефана скучно стало Вышатичу. Его душа рвалась к действиям. Едва уловил мгновенье, чтобы повернуть мысли Стефана в ином направлении.
— Нужно скорее скакать в Краков, отец. Нужно звать Изяслава Ярославича на Русь. Волею киян и печерской братии кликати его.
Стефан стал против Вышатича. Сморщенные обвисшие мешки под глазами, страшная худоба — настоящий великомученик, видно, недолго осталось страдать ему на белом свете.
— Согласен ехать?
— Согласен, — с готовностью склонил голову Ян. — Но... Всеволод ближе — в Переяславе. Раньше прискачет сюда.
— Надо было бы ему напомнить заповедь отца его, Ярослава: «Имейте любовь меж собою, чада мои, — вдруг отозвался голос монаха из темноты келии. — Коль будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то сгинете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих», молвил Ярослав.
— Он знает, он слышал сам сии слова от великого Ярослава, — кивнул на монаха игумен, — се наш пресвитер Никон.
Ян поклонился в угол.
— Так и передам Изяславу.
— А ещё скажи: слышал сии слова от мниха Никона, а когда-то отцом его был наречен яко Илларион. Сию заповедь принял из уст умирающего князя и записал в свой пергамен.
Вышатич вздрогнул от такой новости.
— Илларион?! Отец мой столько сказывал о нём!..
— Какие слова говорил? — удивился Стефан.
— Когда князь Ярослав высвятил Иллариона в митрополиты... И как война была... Мой отец слепым вернулся тогда домой.
— Ведаю гордого Вышату. Люто ромеев ненавидел.
— Отец мой так и не знал, где ты пропал. Считал — помер.
— Спрятался от мира и от соблазна греховного в пещерах. Ещё тогда. Принял схиму — оттоль и Никоном стал. Доживаю нынче свой век и стерегу заповеди Ярослава.
— Помогай тебе Бог... — Вышатичу показалось, что он говорит не с живым человеком, а с вечностью. С минувшим, которое вдруг прикоснулось к нему доверительно и таинственно. — Благослови! — Ян упал перед ним на колени.
— Да пребудет с тобою сила Господа Бога нашего, — зашептал над ним отец Никон.
Воевода шёл как во сне... Великий Илларион жив ещё... И он нынче — великий Никон... летописец и велемудрый книжник печерский. Князь Ярослав спрятал его в эти пещеры от гнева митрополита-гречина. Говорили, тогда новый митрополит Ефрем везде выискивал своего русского соперника... Гончие псы митрополита, разбежавшись по всей земле, выведывали убежище Иллариона, а Ефрем в священных книгах отыскивал достойное наказание русичу, который осмелился занять митрополичью кафедру и тем посягнуть на всесилие Византийской Церкви да ещё посмел в своих проповедях поставить народ русский среди великих народов, попирая тем самым преимущества первой в мире христианской державы. Говорил Илларион в «Слове о законе и благодати», что истина Божья одинаково всю землю наполнила верой. И ни один народ не должен возвышаться своим преимуществом большей истинности веры. Русские князья владычествуют не в худой и не в неведомой земле, но в той, что ведома и слышима есть всеми концами земли!..
Сии греховные слова Иллариона рождали чувство гордости среди русских, не сгибали их спины в слепом раболепии перед Цареградом. Илларион учил в своём «Слове»: Бог не презрел русичей, приведя их последними к учению Христа. Русский народ не унизил никаких народов и не хулил ничьего обычая, не творил иудейского совета, как кого распять, наоборот — сам кланялся распятому.
За эти слова Ефрем уготовил Иллариону сожжение на площади у Софии.
Но намерениям Ефрема не суждено было свершиться. Исчез великий Илларион. Доносчики приносили из разных мест удивительные известия: одни убеждали, что Илларион ушёл к волхвам и те своими заклятиями и чародействами превратили его в оборотня или дикого вепря. Другие молвили, что Илларион ушёл в греческую землю. Ещё сообщали, что Илларион спрятался в каком-то русском монастыре. Но в каком? Монастырей тех на великих просторах Руси появлялось как грибов после дождя. Найти его было так же невозможно, как если бы он и в самом деле стал оборотнем. Русские монастыри не признавали в большинстве своём митрополичьей власти, а были княжескими. Печерский же монастырь к тому же стал опорой единовластных киевских князей против притязаний Византии и был недоступен для киевской митрополии.
Великий Илларион, превратившись в схимника, не перестал быть великим воителем за силу и мощь Русской земли. «Не наводи, Господи, на нас напасти искушения, не предай нас в руки чужих, да не будет прозванный град твой Киёв пленённым, а стадо твоё — пришлым в земли не свои...» Сия молитва Иллариона была жива и ныне.
Киев да не будет пленённым!.. Да не будет! Мы ещё станем с тобой на прю, велемудрый и книжно речистый митрополит Иоанн!..
Воевода Ян собирался в далёкое путешествие поспешно. Из-за этой поспешности и лихорадочных размышлений не сразу вспомнил, что, вернувшись от хана Осеня, не поприветствовал, как должно, свою жену. Позвал служанку.
Килина в то же мгновенье выросла на пороге. Будто только и ждала зова боярина. Её глазки играли лукавством. Лицо пылало так, что резкие рябинки на коже казались белыми пятнышками.
Она приоделась. С чего бы это? Красные узоры на широких белых рукавах вышитой сорочки также, казалось, пылали. Ян заморгал глазами: сверху сорочки Килина натянула багряное, из греческой вольницы[81] безрукавое платье. То, которое он когда-то подарил своей жене.
— Где... боярыня?
Килина, извиваясь гибким станом, повела чёрной бровью.
— Богу, видать, молится. Где же ещё!
— А ты... почто эдак вырядилась?
— Боярин мой приехал — праздник для меня! — Килина облизала ставшие вдруг сухими от внутреннего жара губы.
— А платье... где взяла? — уже не так сурово, скорее с любопытством допытывался Ян.
— Боярыня пожаловала. За верную службу... Хи-хи-хи...
— Что... за служба такая? — насторожился воевода.
— Килька умеет служить, потому умеет и молчать, осподарю мой! — Она сложила руки на тугой груди.
Яна будто слепень укусил. Одним прыжком подскочил к служанке, изо всех сил стиснул её плечи.
— Г-говори! Почто крутишь хвостом? Ай забыла, на чьём хлебе живёшь?
— Разве я... что? Я ведь ничего не сделала! Да почём я знаю?
Выслушав её сбивчивую речь, Ян оттолкнул от себя Килину. Половецкое отродье поганское! Что плещет о его боярыне? С волхвами, мол, она!.. Нестором... Какой ещё такой Нестор?..
Килина от обиды всхлипывала, губы её дрожали.
Ян метнулся прочь из хоромины, распахнул дверь божницы. Гаина сидела за столом, расстелив под правой рукой свиток пергамена. Пальцем левой руки водила по строкам письма. В подсвечнике догорала свеча. В божнице было темновато.
Спокойно-печальным взглядом встретила она распалившегося воеводу. Для неё он так и остался воеводой. Мужем не стал.
Выражение смирения и кротости её исхудавшего утомлённого лица гасило ярость, успокаивало душу Яна. Сердце, как и когда-то, вдруг замерло, встретив вопросительно-удивлённый взгляд больших серых глаз Гаины.
«Ездишь-колесишь по далёким землям, а для кого славу-то добываешь? Где чада твои, где отпрыски рода твоего? Брат Путята, тот, вишь, всю славу рода и заберёт. Для сына своего Дмитра».
Но воевода Ян ни в чём не мог, однако, упрекнуть свою боярыню. За ним вина была. Надеялся на чудо.
Видел теперь — ошибся. Себя обманывал напрасными надеждами и ей душу покалечил.
С острым чувством собственной вины перед женой тихо сказал:
— Еду я, Гайка.
Она встала из-за стола.
— Снова... Далеко?
— В польскую землю.
— К Изяславу?
Ян вздрогнул. Молча отступил от мерцающего огарка свечи.
— Не бойсь, никому не скажу, — успокоила его.
— Игуменья Анна бывает у нас?
— Уже давно не бывала.
— Угу...
Что бы ей сказать? Что-то доброе, благожелательное! Да!.. На что это Килька-то намекала? В нём опять зашевелилась злость.
— Зачем Килину так жалуешь?
— Для неё ведь это единственная утеха — красивое одеянье. А мне — и так хорошо.
— А волхованье твоё? — опять вскипел.
Гаина удивлённо вытянула шею. Внимательно смотрела на порозовевшее, пошедшее пятнами лицо Яна. От злобы и без того косые глазки его, казалось, разбежались в разные стороны.
— Я не волхвую.
— Кабы уж волхвовала, так чтобы дитя мне принесла... Кому сей терем оставлю? И сии книги? И конюшни... и всё!
Лицо Гаины побелело. Глаза стали тёмными.
— Если так, уйду отсюда, Ян.
— Иди! — пристукнул ногой воевода. И вдруг осёкся: — Гайка... Гаина! Ничего не хочу от тебя. Сына подари!
— Но...
— Знаю! Моя вина... — И вдруг его маленькое жилистое тело вздрогнуло в немых рыданиях. Гаина растерялась. — Всё прошу... никто не будет знать...
Гайка поникла, съёжилась. Впервые за столько лет совместной жизни в её душе отозвалась человеческая жалость к Яну. Видать, и в самом деле большая печаль лежит на душе воеводы...
— Спаси мой род, ладушка моя! — шептал растревоженно воевода. — Иначе всё это достанется Путяте. Этому загребущему чревоядпу! Тот изо рта не постесняется вырвать...
— Что ты?! На грех меня толкаешь?
— Отмолим этот грех вдвоём, Гайка! Храм поставлю. Золото у меня есть!
— У богов, возможно, и выпросишь прощенье. А у себя?
— Гайка, что у себя? Мне уже полсотни лет. Надеяться не на кого. А тебе ещё жить да жить. Неужто тебе хорошо без чада?
— Не надо, Ян...
— Гаина, ладушка ты моя...
...Дивилась Килина. Впервые за столько лет боярыня сама собирала в дорогу воеводу. Хлопотала, чтобы хлеба и сухарей было достаточно. Чтобы лагвицы с медами не перемёрзли. Да и кожухов и шкур бросила в сани сколько нужно. И гридю Порею приказывала смотреть за Яном. Когда сани с воеводой выскользнули за ворота и понесли улицей, долго провожала их взглядом. Пока не улеглась белая метель, взбитая полозьями и конскими копытами.
На другой день начала собираться в дорогу и боярыня. Вздумалось Гаине наведать свой род смердовский, к отцу-матери заглянуть, в Васильков-град.
Снаряжала небогатый возок, не клала в него ни ковров, ни мехов. Госпожой в тереме оставила Килину. Отрокам и челяди дала волю на три дня.
Сама держала вожжи в руках, сама погоняла, как возница. Сказано ведь — смердовская порода!
Никто не провожал боярыню, не стоял у ворот, пока сани не скрылись вдали.
Когда ехала к Золотым воротам, встретила нескольких всадников и двухколёсных повозок богатеев киевских. Удивилась, приветствовали её как-то крадучись, отводя глаза в сторону... В этот ненадёжный час предпочитали не узнавать Вышатичиху. Кто ведает, каков гнев Божий накличет на своевольного воеводу митрополит Иоанн. А заодно и на них, ныне властвующих.
Удивлялась: измельчал род человеческий... Запутался в бесчестии и лицемерии. Дальше, подальше от сего пристанища лжи и ничтожества! Туда, на вольные нивы, к убогим обителям, где голодная, но чистая правда, где искренность людская согревает душу... К отцу-матери...
Белое солнце на белом небе и белая заснеженная земля сливались воедино, и казалось, нет границы между ними.
И дорога тоже, которою мчали сани Гаину, казалось, ведёт в белый, безмерно чистый простор небес. По сторонам санной дороги мертво спали леса под белым снежным покрывалом. И на душе от этого становилось тихо, чисто, торжественно.
Размеренно и дружно бежит тройка лошадей. Сани пружинисто выскакивают на пригорки и холмы, стремительно, будто оторвавшись от земли, летят вниз. Иногда в белой морозной мгле вставали придорожные селения. Кое-где в них высились колокольни церквушек.
Гаина и не заметила, как покраснело, замглилось солнце. Кончался короткий зимний день.
Из-за молчаливых, зачарованных зимним холодом пущ и дубрав выползали синие сумерки. Они становились всё более густыми, хватали за щёки острыми иглами, проникали к телу. Всё чаще из леса вырывался снежный ветер.
Солнце уже закатилось за край неба, когда из широкого заснеженного оврага вылетел белый снежный столп. Он кружился в шальном танце, подымая вокруг себя метелицу. Неожиданно этот снежный столп стал розовато-пурпурным, потом синим, дальше совсем как бы почернел и упал, рассыпавшись под копытами Ганниных коней.
Сердце её оборвалось. Что это? Какой-то вестун от богов? На добро ли иль на какую беду?
Едва успокоила биение сердца в груди. Хлестнула по крупам лошадей. Возвращаться назад — поздно. Да и кто сворачивает с дороги, которая обещает неизвестность?..
Резкий ветер рванул на её голове тёплую шаль. Тугой, колючий, безжалостный сивер...
Метнулись в стороны гривы и хвосты лошадей. Гаина испуганно поглядела вверх: над землёй нависло тяжёлое черно-сизое небо.
Уже было совсем темно, когда из свинцовых туч посыпался густой колючий снег. Щедрыми охапками ветер швырял ей снег в лицо, обсыпал сани, дерюгу, прикрывавшую сено. А до Василькова уж совсем рукой подать — каких-то три-четыре поприща[82].
Вдруг потерялась дорога. Полозья саней стали тонуть в густом рассыпчатом снегу. Лошади тяжело брели, низко опустив головы и подставляя широкие лбы пурге.
Ночь обступила Гаину со всех сторон. Лошади остановились. Лишь завыванье ветра вокруг и тревожное шелестение снежинок-льдинок.
Где она? Куда ехать? Неожиданно лошади резко дёрнули сани, бросились в сторону. Гаина едва удержала вожжи. Остановились. Тревожно заржали, настороженно подняли головы. Волки?.. До боли в зрачках всматривалась в темноту. В глазах поплыли розовые круги...
Снова дёрнулись сани, лошади бросились в другую сторону и ошалело понесли её... Сани перевернулись, Гаина выкатилась на снег, а сверху на неё свалилось сено и дерюга. Где-то в глухой мгле слышалось короткое разноголосое ржание, которое поглощала тьма.
— Стой!.. Стой!.. — Гаина выбралась из-под сена, бросилась за лошадьми. В ответ — лишь отдалённое всполошённое похрапывание...
Ноги увязали в снегу выше колен. Идти было некуда — везде мрак, но она шла. И когда уверенность уже оставила Гаину, увидела огоньки. То исчезали они, то вспыхивали. Наконец... Какое-то селеньице светило ей огоньками. И Гаина побрела на те огоньки. Споткнулась о какое-то полено. Наклонилась, — кажется, полоз от саней... Взяла в руки, оперлась. Легче стоять. И легче идти... И она пошла...
Снова замелькали огоньки. Но как-то странно — с другой будто стороны, с противоположной. Они не исчезали, двигались то стройной цепочкой, то полукругом. Только теперь почувствовала, что ветер сник, что падающий густой снег как бы стал мягче.
Подумала — всё это видение. И огоньки, и снег. У неё начался бред! Но чувство реальности не проходило. На ресницах застыли льдинки. Спина и грудь стыли от холодного пота.
Пошла на огни... Торопилась. Не отрывала взгляда от огоньков, боялась, чтобы они не ускользнули из виду... Волки?.. Всё равно... Лишь бы уж какой-то конец...
В этот вечер околица Василькова была растревожена злобным лаем собак. По улице с грохотом промчалась обезумевшая тройка лошадей, запряжённая в перевёрнутые сани. Кони коротко и испуганно ржали, фыркали, били копытами в снег, будто предупреждали о какой-то опасности.
Псы огромной стаей увязались за лошадьми и гнали их через все переулки прямо к озеру. В этот час здесь пылали костры. Девушки и парни доигрывали водокрещенский праздник. Ещё не определилось, кому должен принадлежать вырубленный изо льда и облитый красным свекольным квасом огромный крест-ордан. Днём отец Михаил освятил возле него в проруби воду. А вечером один конец города должен был идти в кулачный бой на другой конец: бондари жаждали победить в этом бою кожемяк или должны были уступить им ордан. Седоусые мужи, крепкие молодцы, отроки на глазах молодок и девиц, толпившихся у костров, показывали свою отвагу и силу. А заодно тайком кое-кто сводил счёты со своим обидчиком или откровенно завоёвывал благосклонность богини Славы[83]... Скрипит под ногами замерзший снег, хрустят льдинки на застывших стеблях аира, торчащих у берегов озера. Конец идёт на конец.
Неожиданно с высокого берега, где стояла ветряная мельница, на ледяное поле скатилась тройка обезумевших лошадей. Они неслись на людей, подминая под копыта заснеженные кусты и прибрежные заросли. Кто-то успел вывернуться, кто-то охнул, кого-то толкнуло в сторону перевёрнутыми поломанными санями. Лошади уже мчались между двумя рядами кулачников.
— Сани!.. Сани!.. — первыми закричали женщины. — Кто-то погиб! Сани перевёрнутые!..
Васильковчане заволновались. Где искать погибшего? Откуда примчались лошади? Больше всего горячились женщины. Возможно, человек ещё жив. Быстрее бросайте потеху — и искать!.. Пусть ордан достанется тому, кто найдёт человека! Вот это будет дело!
С зажжёнными факелами в руках они двинулись по следу шальной тройки лошадей, скрывшейся в ночи. Шли — след в след, потом развернулись полукругом. Потянулись все оставшиеся. Кричали, улюлюкали, свистели.
Вдруг паренёк Майко неожиданно упал. За что-то зацепился. Вскочил на ноги. Не сообразил сразу, что это было, двинулся вперёд. Потом вновь вернулся на место, где упал. Наклонился, пощупал рукой. Перед ним лежал в беспамятстве человек, весь залепленный снегом.
— Сюда!.. Сюда-а!.. — Майко осветил снег пламенем своего факела. Сбежались люди. На снегу увидели женщину. Глаза залеплены снегом, обмерзшие брови и ресницы. Без тёплого платка. Расстёгнутый кожушок.
— Жива ли?..
— Вот так Майко!
— Кто она? Не наша вроде бы...
— Узнаем... была бы жива...
Лишь под утро мать Майка, которую все называли Нега Короткая, оттёрла и отогрела замерзшую женщину. Смазала её гусиным жиром, напоила крепкой брагой, целебным зельем и мятой. Всю ночь возилась, шептала заклятья, кропила больную из чародейной чаши росой, собранной на Ярилов день. Положила её посреди избы на земляной пол, на свежесломанные сосновые ветки и отсекла топором их концы. А вместе с ними отсекла невидимые руки свирепого Чернобога, жаждущего отдать душу этой молодой женщины ненасытной Моране-смерти[84].
Уже перед рассветом Нега накрыла её веретьем и кожухами. Загасила лучину.
А Майко так и не смог уснуть. Сердце его распирала гордость. Все увидели, каков он. Старшие братья теперь не будут дразнить недорослем. С собой начнут брать в бой кулачный. Весь город о нём нынче заговорит. Вот видите, каков сын у Неги Короткой! Лишь четырнадцать ему, а остр на глаз...
Утром Нега подняла сыновей с тёплой постели. Старший сын, Тука, умывшись над лоханью ледяной водой, набросил на плечи сермягу, взял с сундука ковригу хлеба, щепотку соли — всё это мать приготовила ещё с вечера, — пошёл на хозяйский двор. Там он должен разломить хлеб на куски, посолить их и бросить в ясли коровам и волам, чтобы съели они эти кусочки вместе с сеном. От этого боги будут милостивее и щедрее, будут умножать всякую животину во дворе и беречь её от падежа. Средний же сын Неги — Нерадец — ухватил за дужки деревянные ведра и побежал к колодцу за водой. В первый день после водокрещения должны ходить за водой и хозяйничать возле скота мужчины. Обычай этот, не христианский, конечно, а древний, прадедовский, велел женщинам ничего в этот день не делать — ни прясть, ни шить, только можно было хлопотать у печи, готовить яства ко столу, дабы было чем потчевать гостей, которые с рассвета начинают ходить по избам с перевяслами из гречневой соломы.
«Добрый день добрым людям! Принесли вам гречневой колбасы! Вона сколько!» Так хлеборобы напоминали о том, что уже пришло время проверить зерно для посева.
Майко тихонечко притаился на печи и ждал, когда шелохнётся женщина, спавшая на полу, на соломе.
Наконец гостья приподняла голову, с удивлением рассматривая избу. Привстала, села, негромко окликнула:
— Кто здесь?
Нега Короткая стояла у печи, швыряла сухие дрова на под печи. Огонь быстро разгорался, лизал красным языком пламени дымоход. Прямо из дымохода сбоку в стене была дыра, через которую дым выходил наружу. Дымаря не было — за него нужно было платить большие гроши[85]. Бедные смерды должны были отказаться от такой роскоши и потому глотали постоянно дым, наполнявший хижины, так как тяга через эту дыру была, понятно, никудышной. Должно быть, на улице кружил ветерок, ибо дым вдруг заворачивал назад и валил в избу, разъедал глаза и щекотал в горле.
Нега локтем вытирала слёзы, которые от едкой гари текли по лицу, откашливалась и не могла сразу отозваться на слова женщины. Наконец оправилась от кашля.
— Как руки, ноги? Отошли?
— Горят будто в огне...
— Это хорошо. Кровь играет... Чья же будешь?
— Здешняя. Может, слышали — Претич-кузнец есть в Василькове.
— Претим?! Дак это ты — Гайка? Лю-у-доньки!.. Гайка наша прибилась! Что ж сама? Где твой боярушка?
— Уехал... в далёкие земли. А я — сюда. Родню проведать.
Нега сжала кулаки, подставила их под щёки.
— Так это ты и не знаешь? Горюшко! Нету уж ни отца твоего, ни матушки. Перед зимой померли. Вместе, будто сговорились. Какая-то зимница[86] тяжкая с ними приключилась.
Гаина побледнела, выпрямилась — да так и застыла от горя.
— Не оставят тебя боги, дочка, — бросилась к ней хозяйка. — Сие для них благо — не мучили их тела болезни и хворости. Померли враз и всё. Каждому бы такая смерть!
Гаина не слышала утешающих слов пожилой женщины. Или, может, была ещё не в состоянии понять их. Медленно стала опускаться на пол.
— Майко, быстрее воды! Боярыне плохо.
— Мам, разве это боярыня?
— Она, сынок, боярыня, Гайка наша... — Нега растирала Гаине руки и грудь, брызгала в лицо из ведра ледяной водой, что-то шептала, кому-то угрожала. Раздвинула пальцами крепко стиснутые зубы Гаины, налила в рот воды. — Одна беда не ходит, за собой другую беду водит, — вздохнула Нега. — Нерадец, сыну, это ты зашёл? Укрой её своей сермягой ещё...
— Кто сие, мама?
— Наша Гайка. Жена боярина Вышатича. Та самая...
Нерадец удивлённо стал её разглядывать. Она ведь! Её лицо неземной красоты! Когда-то, ещё молодым, тайно страдал из-за девицы. Тогда на Ярилов день глаз не сводил с неё!..
Гаина открыла глаза, вздохнула, начала тяжело подниматься на ноги.
— Пойду... к своему дому... Хотя бы поклонюсь душам отца и матери...
— В такой-то мороз? Ещё и не отогрелась...
— Пойду, тётушка. Спаси тебя Бог за помощь. Век буду помнить. Ты мне как мать родная ныне. Вернула меня к жизни.
Нега всхлипнула, вытерла кончиком платка заслезившиеся глаза.
— Нерадец, проводи боярыню. Какая же она молоденькая да хорошенькая!..
Нерадец бросился одеваться. Руки его дрожали. В небольших светлых глазах под широкими тёмными крыльями бровей затеплилась радость. Под острыми, немного выпирающими скулами лица неспокойно шевелились узловатые желваки. От этого его пшеничные усы смешно оттопыривались.
Нерадец мгновенно запряг сани, положил в них свежего сена. Терпеливо ожидал, пока выйдет Гаина и сядет рядом с ним. Наконец она молча села.
Нерадец пустил лошадь рысью.
Сани тихо поскрипывали по снегу, легко приминая полозьями обмякший уже снег. Направлялись к церкви Успения.
Лишь теперь Гаина поняла, куда ночью прибил её буран. Это было предградье Василькова, которое выросло за валами города: оратайский конец, беззащитно выходивший прямо в поле. Кое-где стояли избы со светлыми соломенными крышами. Должно, новые, недавно поставленные дома. Чаще всего это были беглецы из Поросья да с улучины днепровской, где нынче хозяйничали половецкие орды. Тысячные толпы русичей со своими семьями, скотом, утварью из года в год оставляли старые обжитые места окраин Русской земли и прибивались сюда, ближе ко княжьему Киеву, под защиту мечей киевских дружин...
Вот и улица Претичей. Не улица — заулок. Ни следа, ни тропинки у занемевшей избы Претича. У старого ковача не осталось детей, кроме Таины. На ней и замыкался их род.
Гаина поспешно сползла с саней, ринулась к дверям. Отбросила деревянную щеколду — в доме не было даже замка, — вошла в сени. На скамье, как и когда-то, стояли рассохшиеся деревянные ведра. Под потолком на жердине висели пучки калины, душицы, мяты. Мать как истинная русинка запасала эти травы на зиму от хвороб.
В избе всё так же, как и когда-то было. Вышитые белые полотнища рушников над окошечками. На столе — белая полотняная скатерть, припорошённая пылью. На ней — уже ссохшаяся паляница. Кто-то оставил для домового, чтобы дом стерёг.
— Если хочешь, затоплю печку, — тихо отозвался за её спиной Нерадец.
Гаина отрицательно мотнула головой.
— Кто же... схоронил их?
— Некому было... Мор напал на людей. Так мы с Тукой собрались да ещё двое парней... Старые люди нас на вече просили. Яко могильщики, ходили с заступами. Твоих вот здесь, за огородом, закопали...
Гаина впервые посмотрела на Нерадца.
Широкоплечий верзила, усы пшеничные — до плеч, и мнёт в руках шапку.
— Век не забуду... Почему же не поведали мне?
— Твоего воеводы боялись.
— Как зовут тебя?
— Нерадец.
— Хочешь — бери себе эту хату. Заимеешь жену — заводи хозяйство.
Нерадец отвёл глаза в сторону.
— Нету мне пары...
— Что так говоришь?
— Кроме тебя — никто сердцу не мил... — едва шевеля губами, произнёс он.
— Не нужно...
— Знаю!.. Это я так... Коль уж пришлось...
Гаина задумчиво сдвинула брови. О ней здесь ещё помнят. Душа её будто оттаивала, согретая человеческой мукой и болью.
— Я всё равно буду ждать тебя.
— Не нужно...
Нерадец надел шапку на густую копну своих рыжих волос.
— Говорю тебе, чтобы знала, коли что случится... — упрямо повторил он, глядя себе под ноги.
— Отвези меня в Киев, Нерадец... — тихо попросила Гаина. — Отвези... Мои кони унеслись...
— Найдутся! Я видел их вчера вечером...
— Найдутся — возьми себе. На новое хозяйство.
— Спаси тебя Бог, Гайка.
Только через три дня Нега Короткая разрешила Гаине ехать в Киев. Собирала её в дорогу как родную: вязала в узелки орехи, медовые пряники с маком; тайно била поклоны то иконе Богородицы чудотворной, висевшей в углу, то своей чародейной чаше, которая стояла на отдельной полке рядом с деревянными идолами. Не знала, каких богов и благодарить за щедрость боярыни. Лошади! Тройка лошадей!.. Прямо с неба свалилось богатство!
— Тука! Нерадец! Где же они, эти кони? — бросалась к сыновьям.
— Молвили, на кожемяцком конце их переняли.
— Так бегите же за ними! То ведь наши кони!..
Вскоре тройка гривастых лошадей била копытами в конюшне Неги Короткой.
...И снова над Тайной плыло неяркое зимнее солнце. Молчаливые леса в белых одеяньях снова манили сказкой, тайной. Что-то чистое берегли в себе. Что-то большое обещали.
Гаина им улыбалась благодарно. И белому небу, и белому солнцу улыбалась. И нелукавому Нерадцу.
Он закутывал её плотнее в бараньи шкуры и, будто невзначай, прижимал к своей груди. И ей было от этого хорошо.
— Слышь, Нерадче, вот у этих дубов тогда подкатился прямо ко мне высокий снежный столб, рассыпался перед ногами. Какой это был мне знак от Белобога? Как ты думаешь?
— Это метель начиналась.
— Смотри, вон какая-то хижина! Кто там живёт?
— Никто. Это хижина для охотников. Или для странников, чтобы отогреться зимой.
— А чем там отогреваться?
— Там есть печка, есть дрова. Нужно лишь огонь разжечь.
— А где огонь взять?
— Как — где? В кресале.
— До Киева нам ещё ой сколько... Я замёрзла...
— Чего же... можно и передохнуть...
Нерадец завернул лошадей к лесной хижине.
В ней было темно и холодно. Но на полу у печки лежали сухие берёзовые и сосновые поленья. Нерадец стал высекать огнивом искру.
Вскоре в хижине потеплело. Бело-розовое пламя щедро рассыпало вокруг себя горячие искры. Запахло живицей.
Нерадец подбросил берёзовых дровишек. Хижина сразу наполнилась запахом весны и ещё чего-то терпкого, неясного...
— Жарко... — Наконец Гаина согрелась.
Отодвинулась от огня. Стала снимать с себя тёплую одежду. Чёрный платок заменил вскоре кожух, прикрывая спину и плечи. Поправила под ним тугой венец кос. Прикусила губу.
«Что это со мной? — мелькнула в голове пугливая мысль. — Не подумал бы чего этот Нерадец...»
Перед глазами всё ещё вилась-извивалась белая дорога, а над ней висели белое небо и белое солнце... И всё вокруг было переполнено чистой, звенящей белизной...
Сидела притихшая на расстеленном кожухе, обхватив колени руками. И мысли — какие-то лёгкие и лукавые — несли и несли её куда-то... Почему-то вдруг вспомнила своего боярина... Да ну его!..
Нерадец снова занёс в хижину охапку дров. Стал подбрасывать в печь. А над лесом, наверное, уже вечер или ночь. Не знала, сколько времени сидела в сладком оцепенении. И не хотела знать...
Не удивилась, когда рядом с нею сел Нерадец. Не отклонилась, когда его тяжёлая рука торопливо сползла к её стану. А потом сильные руки легко подхватили её, как ребёнка, и с разгона, но мягко опустили на кожух.
— Ой... Нерадче... — ухватилась за его крепкую сильную шею. — Нера...
В хижине притухало пламя сухих берёзовых дров, обращаясь в искрящийся жар. Косматые тени испуганно метались по стене...
Янов повозник Порей то сдерживал лихих коней, то туже натягивал вожжи, чтобы пустить их побыстрее. Оба они уже со счета сбились, сколько времени мерили копытами своих лошадей заснеженные взгорья Бескидов[87].
Наконец в белой мгле стали вырисовываться тёмные очертания башен. Они врезались в небо острыми верхушками и круглыми маковицами каких-то больших строений. Из сизой дали всплывал Краков, стольный град земли малопольской[88].
Когда спустились в широкую долину, их остановили стражники.
Пришлось долго объясняться и быстро откупаться. Стражники хотя и видели, что эти двое путников не страшны для покоя их князя, всё же охотно взяли откуп и ещё охотнее окружили сани воеводы плотным кольцом. Потащили их к Вавелю — княжескому замку, где пребывали краковские князья со времён объединителя польских земель Болеслава Кривоуста[89].
Русский князь Изяслав Ярославин жил в замке своего тестя князя Мешка Второго. Невысокие, из серого камня палаты стояли на открытом незалеснённом холме, огороженном глубоким рвом и земляной насыпью. На расстоянии остановились леса, сползшие с недалёких горных хребтов, выслав вперёд, будто своих разведчиков, одинокие кряжистые дубы.
Стражники проехали вперёд, кому-то закричали — и через ров, соединив свои дощатые бока-половицы воедино, был переброшен неширокий мостик.
Воевода Ян и Порей уже несколько лет не видели князя Изяслава и забыли, как он выглядит. Но сразу поняли, что именно он, князь Изяслав, и его жена Гертруда, первыми бросились им навстречу с крыльца, на бегу надевая свои опашены[90].
Русоволосый, с настороженно-зоркими глазами, старший Ярославич был, говорили, более других сыновей мудрого князя похож на свою мать, шведскую королеву Ингигерду, дочь короля Олафа, которую на Руси перекрестили в Ирину. Но, наверное, в нём переборола горячая русская кровь — не мог дождаться, пока Вышатич откланяется ему с надлежащим почётом. Изяслав, сбежав с крыльца, подхватил под руку воеводу, заглядывая ему в лицо.
— С чем приехал? С чем? — Дыханье его перехватило от волнения. Пять лет изгнания! Пять лет позорной славы иждивенца польского двора!..
Прибежал сюда, спасаясь от руки брата своего меньшого Святослава, который, считай, за полы стянул его с отцовского стола. Правду сказать, прибежал сюда Изяслав с огромным обозом добра — серебра-золота прихватил достаточно, куниц, соболей, ковров, шелка бухарского, льняного полотна, медов, воска. Надеялся за это богатство купить чужих воев, которые посадят его снова на киевский стол. Но чужаки дань забрали, землю Русскую ограбили, а его не защитили. Взмолился было Генриху IV, могущественному императору Священной Римской империи, который воевал с самими папами римскими. Обещал ему и земли, и серебро, и воев...
Генриху нужны были серебро и ратники. Он и послал в Киев послов во главе с Бурхардом Трирским: «Почто забрал у брата его стол? Отдай сам, ибо заберём силой и вернём Изяславу!»
«Не отдам, откуплюсь от вас! У меня ведь больше серебра и золота, нежели у изгнанника братца. Смотрите-ка — и всем рассказывайте!»
И показал им сокровища Святой Софии киевской и сокровища княжеских монастырей и храмов. И велел дать послам Генриха столько, сколько каждый мог удержать в руках. Знал ведь, с собой на тот свет его не заберёшь, а на этом свете оно даст ему в руки власть. Но не знал другого — только нищие стремятся к золоту. Только ущербные и порочные покупают за него призрачность непрочной силы...
Впрочем, Генрих после этого отступился от Изяслава. И остался русский князь, старший Ярославич, иждивенцем краковского властелина... И вдруг — гонцы из Киева. Он их сразу опознал — бородатых русичей. Но... воевода Вышатич — правая рука Святослава?! С какими словами приехал от брата его мятежного, татя и богохульника дерзкого?
— Княже! — кланялся тем временем Вышатич Изяславу. — Слово к тебе имеют кияне... Иди в Киев.
— Кияне!.. А князь Святослав? — встревожился Изяслав.
— Князь Святослав преставился. Царство ему...
— А вече? — нетерпеливо спросил Изяслав.
— Вече?.. Оно за Всеволода...
— Но кто же меня хочет?..
— Киевские велеможцы и черноризцы печерские. Бери воев, иди на Киев. А мы — подсобим своими дружинами. Подставим плечи под твои стопы.
В глазах Изяслава остыла радость.
— Неверное сие дело...
— Отец Никон велел тебе передать: в земле Русской должна восторжествовать заповедь отца твоего — на столе киевском должно сидеть старшему в роде.
— Княже, не гневись на жену свою... — из-за спины выглянула Гертруда. — Возьми рать у отца моего. Послушай бояр. Забери назад киевский стол!
— Отец твой уже не даст мне своих ратников.
— Даст! Я напомню ему, как отец твой, Ярослав Мудрый, поплыл в лодиях своих на мятежников-мазовшан, которые, помнишь, перебили епископов, и попов, и бояр своих. Тогда он посадил на стол князя Казимира и сестру свою Добронегу в жёны ему дал!
— Забрали ведь у меня всё злато-серебро... Чем воям платить? — едва не плакал Изяслав.
— Победой, осподине мой! — гордо блеснула светлыми очами Гертруда и медленно направилась к крыльцу. Потом обернулась, величественно повела рукой перед собой: — Прошу дорогого гостя в палаты!
В палатах будто все забыли друг о друге. Каждый размышлял о своём. Изяслав не решался склониться к словам Яна. Уже слишком много было за его спиной обманных обещаний — и Генриха IV, и князя Мешка, и дружины лядской.
— Ян, а как игумен печерский? — наконец отозвался задумчиво Изяслав, пристально всматриваясь в глаза Вышатича.
— Отец Стефаний сказал: не будет от него благословенья князю Всеволоду, пока жив законный киевский князь. Закон и благодать должны крепить Русскую державу.
— Сие так... сие так... — размышлял вслух Изяслав. — Ещё великий Илларион оное говаривал. Но почему ты, воевода, раньше ублажал этого крамольника... братца моего Святослава, а теперь стоишь за закон?
Вышатич от неожиданного вопроса не знал, куда глаза девать. Потом, собравшись с духом, ответил:
— Я Не лукавлю, князь. Имел я почёт, и земли, и виры от моего благодетеля князя Святослава. Наказал его Бог за то, что закон и заповедь отца преступил. Теперь же хочу тебе служить. По правде. Весь мой род великим князьям верно служил. И слепой отец мой Вышата — сам ведаешь — мученья принял за честь отца твоего и за Русь.
— Да будет так, — недоверчиво наклонился вперёд Изяслав. — Пусть и так. Будешь мне верным — почитать буду и я.
Вышатич облегчённо вздохнул. Обвёл небольшие палаты взглядом. Стены обшиты дубовыми досками, на окнах — резные наличники. На стенах — иконы, свечи, пахнущие ладаном лампадки. Все как в палатах киевских...
Гертруда тихо подошла к стенному ларцу, сняла с полки два серебряных бокала, нацедила из лагвицы красного вина. Поднесла на подносе сначала Изяславу, потом Вышатичу. Склонила в неглубоком поклоне голову, обвитую шёлковым чёрным платком, играя небольшими, по-девичьи живыми глазками на худом, уже увядшем лице.
— Спасибо, Ян, что печёшься о нас и о внуках великого Ярослава, о наших сыновьях — Святополке и Ярополке[91]. Должны твёрдо исполняться заповеди Ярослава Мудрого. — Она глядела на Вышатича, но слова обращала к своему князю.
«У княгини недаром голова поседела... Духом тверда... И десницу Изяслава направляет... Мудра княгиня Гертруда!» — отметил про себя Вышатич.
От слов княгини о сыновьях Изяслав встрепенулся, будто кочет, невзначай задремавший на заборе. Вскочил со скамьи, обернулся к иконе, перекрестился.
— Погляди, Матерь Божья, на смирение моё и прости грехи мои...
Гертруда опустила ярко заблестевшие глаза. На её бледном, измученном лице шевельнулась победная улыбка. Приветливо бросила взгляд на воеводу: мол, всё в порядке, Ян, князь решился, князь возьмёт в руки меч! Подошла к Вышатичу.
— Какие же вести от сына нашего старшего — Святополка?
— В Туровской земле сидит. За болотами. Там тихо.
— Лишь бы тихо, — вздыхает Гертруда. — А дочь нашу Евпраксию мы здесь отдали за князя Болеслава!..
— Ещё одна Евпраксия осталась в чужой земле. Дочь князя Всеволода — та давно за императором Генрихом Четвёртым. Императрица! — Неизвестно почему Вышатич это произнёс с гордостью.
Гертруда плотно поджала сморщенные губы. И воевода понял неуместность своей гордости. Генрих IV, император Священной Римской империи, Генрих, который воевал со злобным Папой Григорием VII, который потрясал королевствами и епископствами во всей Европе, этот могущественный властелин Германской империи, был родичем Всеволода Ярославича. И Всеволод мог опираться на него в своих стремлениях относительно киевского стола. Слабосильный же польский князь Болеслав... Какую помощь может он оказать несчастному князю-изгою?..
Ян отступил от скамьи, держа в руке бокал с вином, тяжело провёл рукой по вдруг вспотевшему челу. Нелёгкая эта работа — быть послом от киевлян к князю с ранимым честолюбием...
— Воевода устал? Сейчас позову постельничего... Подожди... пойдёшь в свою ложницу, отдохнёшь с дороги...
Ян облегчённо закивал головой. Подальше, подальше от разговоров с княгиней и князем. А то ненароком опять что-нибудь сболтнёт лишнее.
— Мне скоро и назад, княгиня... Поеду в землю Волынскую. Князей тамошних поднимать с дружинами. В помощь князю Изяславу. На чужие рати нет надежды. Ляхи о своём кармане пекутся, а не о княжьей чести...
Тьфу ты, снова язык его не в ту сторону поворачивается!.. Забыл, что княгиня — полька! Гертруда отвела глаза в сторону.
— Не обессудь, княгиня. Говорю искренне.
Гертруда высоко подняла голову, направилась к двери. Она обиделась за своих родичей, о которых так неучтиво отозвался русский воевода. Но и возразить ему ничего не могла — ведь говорил-то он правду. Вышатич почувствовал, что сорочка прилипла к его спине. Плохой из него посол...
Князь Изяслав горько усмехнулся воеводе:
— Гордячка моя княгиня...
На другой день на конюшне, возле лошадей Вышатич разыскал своего верного гридя Порея. Тот только сопел, сильнее налегая на гребень, которым чесал бока лошади. Вышатич понял, что в сердце Порея кипит какая-то обида.
Ян выжидал, не начинал разговора. Но гридь упорно продолжал молчать. Тогда воевода решился:
— Возвращаться нам пора, Порей. Так велел князь.
— И слава Богу! — с неожиданной яростью согласился гридь. — Сам хотел просить воеводу об этом...
— Что так? — Вышатич осторожно оглянулся. Эта предосторожность понравилась Порею.
— Лукавые их челядины, — зашептал на ухо гридь. — Нашим лошадям в мешки... ячмень насыпали вместо овса! Чтобы наши кони зажирели и потеряли бег...
— Скажу князю!
— Не нужно. Я по-своему сделал.
— Как?
— Ячмень пересыпал в мешки их коням, а их овсом наполнил наши мешки.
— Лукавый еси, гридь, — засмеялся Ян.
— Должен быть таким... с лукавцами же...
— Ну-ну... За день приготовься в дорогу.
— Пане Ян! Пане Ян! — кричал, оглядываясь по сторонам, с крыльца постельничий князя. Увидев Яна на конюшне, бросился к нему. — Пане Ян! Князь Изяслав кличет. Там сольба[92] какая-то! От Папы Римского...
Изяслав с нетерпением ожидал Вышатича.
— Твой совет нужен, Яне. Послы от Папы Григория Седьмого прибыли. Из Рима. Епископ Беренский.
— Дивные дела твои, Господи... — растерялся Ян. — Чего-то им надобно?
Кто не ведал о грозном Папе Григории VII[93], который даже императора Генриха IV... на колени поставил в Каноссе... Дабы не посягал на всесилие владык Божьих...
Честь великая изгнанному русскому князю. Но за что?
Епископ Беренский ожидает их вместе с краковским князем Болеславом, приятно улыбается. Ясным внимательным взглядом смотрит в глаза Изяславу.
— Преосвященный отец Римской Церкви прощает твой грех, княже, что желал было с его врагом — Генрихом Германским — соединиться. Бог тебя наказал лукавством самого же Генриха.
— Наказал, отче, — вздохнул Изяслав, — Брат мой Святослав Черниговский купил Генриха русским золотом и серебром. Император и не дал мне своих кметей[94] против крамольника брата.
— Лицемерный Генрих уподобился окрашенному гробу, как сие говорится в Писании, сверху кажется великим и красивым, а в середине — полно костей, мертвечины и всякой нечисти...
— Грешен есмь, отче. Не ведал сего! Прозрел лишь нынче, — угодливо молвил Изяслав.
Вышатич удивлялся — откуда такое раболепие у князя Изяслава? Неужели годы изгнаний так сломили его гордыню?
— Если желаешь престольный Киев вернуть, обопрись на твёрдую руку Папы Григория. — Епископ с твёрдой ясностью посмотрел в лицо Изяслава, будто эту твёрдость хотел передать и князю.
Изяслав непонимающе уставился на епископа. Вышатич не выдержал, шагнул к епископу.
— Князь Изяслав уже возвращается в Киев. Кияне зовут Изяслава.
— Но! — поднял вверх палец епископ.
— Митрополит киевский, правда... Иоанн...
— Он есть схизматик, как и патриарх Михаил Кируларий! Они преданы анафеме истинною Римской Церковью! Новый патриарх — также еретик и схизматик. Все его митрополиты и епископы — суть руки диавола. Только Римская Церковь знает меру воздаяния за грехи.
— От греха разве можно избавиться, отче? — удивился Изяслав.
— Можно, коль проявить заслуги сверх положенных.
— Но ведь сущность Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Духа...
— Это схизматицкое толкование Бога! Бог единый, неделимый! — страстно заговорил посланец Григория VII. — Но князь Изяслав должен дать вначале обещание, что прогонит из Руси греков-ромейцев и всех еретиков-православных.
Ян Вышатич от радости даже ногой притопнул.
— Непременно прогоним, отче, сих пронырливых татей церковных! У нас должны быть свои митрополиты — русские. Как того желал Ярослав Мудрый.
Епископ сложил руки на груди. Отрицательно покачал головой.
— Русской Церкви должно перейти под покровительство и благословение Римского Папы. Только он имеет право на вселенское владычествование. Знай, князь, Папе Римскому от Бога даны два меча: один меч — духовный, другой — светский. Этот последний он может отдавать избранному им государю. Нет власти более высокой, чем власть Папы!
— Но ведь наша вера пришла из Византии...
— Не беспокойся, — нетерпеливо прервал князя епископ, — наши священники искоренят схизматицкое православье, простят грехи и князьям, и простолюдинам.
— Так вместо ромеев придут на Русь латиняне? — прищурил глаз Ян Вышатич.
— Придут! С радостию великою! — согласился охотно епископ. — И подопрут власть князя Изяслава.
— Сие нам не подходит, отче! — рассердился Ян. — На Руси князья должны опираться на бояр русских. Он наш законный князь. Законом и воссядет на отчий стол.
Вдруг откуда-то появилась Гертруда. Гневно пылало лицо.
— Осподине! — громко обратилась она к Изяславу. — Ты разрешаешь о делах своей державы судить твоему челядину?!
И без того косые глаза воеводы от такого оскорбления разбежались в разные стороны. Он — знаменитый воевода из знаменитого рода — челядин?
— Княгиня забыла, на чьи плечи исправека опиралась сила русских князей?! Я — русич и беспокоюсь о всей земле Русской.
Губы Гертруды дрожали. Русич! А она, вишь ты, лядская кровь — это не её дело, значит? Ей смеют указывать на это в её доме?
— Воевода должен ехать завтра же на Русь. Князь Всеволод, наверное, прибыл уже в Киев, — тихо молвил Изяслав. — Поторопись, брат...
Ещё кипя сердцем — видите, он челядин, — Вышатич медленно направился к двери.
— Бери помощь от Папы, Изяслав, — устало повторяет польский князь. — Не одолеешь сам брата своего своевольного. У него всё золото и серебро русское. А ты — нищ!
Изяслав вздрогнул, прикрыл веками глаза. Князь Болеслав, наверное, все эти годы расценивал его именно так?!
— Киевский стол достанется мне по закону русскому и по заповеди отца! По закону хочу сесть. С помощью русских людей.
Епископ обиженно стиснул тонкие губы. Глаза его угасли. Князь-изгой отказывается от помощи могущественного Папы?
— Князь земли Русской, сегодня пришла весть, что император Михаил Дука пал, а всесильный евнух Никифорица — убит. К власти пришёл Никифор Вотаниат. Но против него поднялся Никифор Вриенний. Неверные турки-сельджуки обсели землю византийскую до самой Пропонтиды... Везде поднимаются мятежи схизматиков-павликиан, они объединяются с ордами печенегов. На Дунае восстали болгары с Добромиром... Горе византийской земле! Нету ей помощи от Бога, а от Папы Римского — только проклятие! И Руси не будет помощи ни от кого. Пока не искоренит у себя православья. Аминь.
Епископ величественно поплыл к пылающему камину, простёр над пламенем замерзшие пальцы.
Изяслав стоял растерянный и ошарашенный.
— Мы ожидаем тебя вскоре, княже! — крикнул уже с порога Ян. И побежал по ступенькам.
Твёрдо ступают ноги воеводы Яна. Так ходит каждый, кто верит в себя и в свою силу. Без такой веры — нет победы!
Изяслав прислушивался к шагам воеводы...
Келия Нестора теперь перестала быть похожей на обычное жилище монаха. Куда ни взгляни — на столе, на ложе, на скамье — везде лежат скрученные в свитки и развёрнутые пергамены. Одни листы исписаны чёрными, из железа, чернилами, способными пережить все лихолетия столетий. Другие — ещё чистые. Но и на них будут письмена, которые должны служить людям века. Такова уж судьба писаний — служить людям.
Нестор сидел за столиком, выпрямив спину. Перечитывал старые пергамены. Их отдал недавно молодому черноризцу великий Никон, готовясь отойти в мир иной. Пусть приучается к сей работе. Пусть постигает её...
Странные мысли приходили Нестору в голову при чтении старых записей. «В лето 6360[95], индикта 15, когда начал царствовать[96] Михаил, начася прозывати Руска земля. О сём были уведомлены, яко при сем царе приходиша Русь на Царьгород, якоже пишется в летописании греческом. Так отселе почнём и числа положим...»
Сколько ни перечитывал эти строки никоновского летописания, а всё ж невдомёк было, откуда пошла она, Русская земля? И град её стольный — Киев...
«...И было (у Рюрика) два мужи... и испросились у него ко Царюгороду с родом своим. И поидоста по Днепру, и идучи мимо и узриста на горе градок. И спросили: «Чей сей градок?» Ответили им: «Было суть три брата — Кий, Щек, Хорив, иже сделали градок себе и изгинули, а мы сидим, род их, платим дань козарам...»
Кий, Щек и Хорив — давно отошли, а род их покорили себе хазары? «Аскольд же и Дир остались в граде сем и многи варяги совокуписта и начаста владеть польскою землёю...» — рассказывал старый летописец.
А ещё раньше, до варяг и до Кия, кто владел Полянского землёю? Не пишет о сём Никон. И греческие хроники не пишут.
Нестор отодвинул пергамен Никона, потянул к себе толстую книгу в деревянном окладе. Хроника Георгия Амартолы[97]. От сотворения мира и до недавних времён рассказывал сей книжник о разных событиях и народах. Обо всех — кроме русского. Будто не было этому народу места на земле...
Взял чистый кусок пергамена, макнул своё железное писало в маленькую глиняную кружечку, сверх которой лежала, сдвинувшись набок, крышечка — дабы чернила не высыхали. Начал царапать писалом пергамен — мягкая, хорошо выделанная кожа послушно поддавалась давлению руки. Вослед писалу осталась извилистая линия. От этой линии Нестор провёл вниз другую, потоньше. Потом макнул писало снова в чернила, медленно вывел мелкими буквами: «Сие удел сыновей Хамовых и Симовых, а сие — Иафетовых». Заглянул снова в Хронику Амартолы и начал чертить пергамен: как сыновья Ноя разделили между собою землю после великого потопа. И как потом уже их сыновья захватили себе в уделы земли и народы, когда Бог разгневался на людскую возносливость, смешав все племена и все языки, и рассеял по земле. Сыновья Сима, рассказывал Амартола, взяли себе восточные края, а сыновья Хама — южные, сыновья же Иафета — полунощные земли. От племён его пошли нарцы, еже суть словене...
Вот в писаниях чужестранных ещё сказано о русах-словенах, которые жили в Поморье. Здесь на речке Лаба был город Русислав. А на побережье Фриш-Гафа — стоял торговый город Руса. А у лютичей был град стольный — Кролевец, который стоял на речке Рюрик, что у лютичей означало — сокол. А стольный град бодричей — Рарог, то есть сокол. Град Макленбург когда-то также назывался Рюрик, то есть — Сокол! У сербов южных тоже есть град Сокол...
Рассказывали об этом в своих писаниях Иоганнес Магнус свейский, Торфей норвежский и Саксон Грамматик датский...
Велика славянская земля была издавна.
Нестор провёл извилистую линию сверху вниз и написал: «А сё Днепер. Суть земли полян и северян». Выше провёл несколько чёрточек, соединявшихся с Днепром, и написал: «Земля древлян и дреговичей». Рядом с ними — земля кривичей, вятичей... А ещё были уличи и тиверцы... и князь Чернь... и князь Люб... Вот о них недавно читал в другом пергамене...
Чертил, водил писалом, витал мыслью где-то в глубинах веков. Не услышал, как за его спиной склонилась чёрная тень. Вздрогнул, когда эта тень стала дышать ему в затылок.
— Что сие, чадо моё? — удивлённо прозвучал голос Стефана. Нестор невольно прикрыл рукой пергамен, но в следующее мгновенье убрал руку. Негоже прятать от владыки своего ни деяний, ни мыслей.
— Хочу, дабы всяк видел, где живёт на земле народ русский и какие племена словенские суть, — Нестор поднялся, склонился в почтении.
Стефан непонимающе напрягал старческие глаза и беспомощно хлопал веками.
— Сие река наша славянская — Днепр. Тут сидели поляне. Отец Никон написал о князьях их — Кии, Щеке и Хориве, — начал разъяснять Нестор. — А ещё раньше были у них иные князья — Чернь и Люб. Сие когда аланы-ясы шли на нашу землю, а ещё раньше, лета 470 от рождения Христа, русы из Ругии, от Поморья Балтицкого, с князем Одонацором, взяли гордый Рим и четырнадцать лет им владели...
Отец Стефан резко вскинул голову:
— Откуда ведаешь про сие?
— Из старых пергаменов, владыка. Вот, смотри... читал... Это всё отец Никон мне отдал. Хочет идти помирать в Тмутараканскую землю. Там обитель свою давно обосновал...
Игумен пожевал беззубым ртом.
— Неверные времена в Киеве нынче... Неверные... Один князь здесь, а другой — тоже идёт сюда. Брат на брата восстал. А Никон... будто убегает... Наверное, от князя Изяслава... Знаю...
Нестор молчал. Не ведал он настоящих намерений престарелого, но всё ещё мятежного отца Никона. Знал только, что Никон в своё время был против Святослава, когда тот захватил Киев не по старшинству. А ещё раньше ссорился с Изяславом, когда тот вместе со своей дружиной убежал от незнакомой тогда половецкой орды, которая впервые подкатила к земле Русской.
...Тогда на речке Альте княжеских воев побили половцы. Изяслав и его братья едва убежали и спрятались за валами своих городов.
Вот тогда киевляне ударили на вече. Собрались на торговище на Подоле и начали совещаться. Князья убежали, некому их защищать. И пришёл к ним из своей пещеры схимник Никон. Здесь, на торговой площади, собрался чёрный, худой люд Киева — смерды, гончары, кожемяки, рыбари и разный народ бродячий, нищенский, который никогда не мог пробиться в богатые княжеские храмы. Молился он в своих бедных церквушках, всё больше на Подоле, у Почайны, либо в тайных капищах давних своих богов за Глыбочицей-рекой требы клал...
И вот впервые тогда во время мятежа в Киеве, лета 1068, обратился он к простолюдинам, научал этих людей просить у князя мечей и лошадей, чтобы самим загородить поле копьями. Киевляне послушались старца — послали гонцов к Изяславу. Но Изяслав убоялся давать мечи мятежным киевлянам.
Тогда Никон взмахнул посохом: «Пойдёмте, люди, через мост, ко княжьему порубу[98]! Там сидит князь полоцкий Всеслав, внук Рогнеды[99]! Посадим его на киевский стол!»
Толпа повалила через мостик рва и ворвалась за ограду княжеского двора, к темнице. Топорами разрубили колоды поруба, из тёмной его ямы вытащили полуослепшего внука Рогнеды и Владимира — Всеслава. За год перед этим братья Ярославичи, едва отобрав у него Новгород и Минск, хитростью заманили его к себе и полонили...
Всеслав должен был слушаться толпы. Ополчил народ. Семь месяцев сидел на киевском столе — столе своего великого деда Владимира. Но тогда Изяслав явился в Киев с польскими дружинами. И Всеслав тайно сбежал — не желал стоять на пути у брата своего, который люто ненавидел его.
Изяслав, вернувшись в Киев, сел на великокняжеский стол. А сын его Мстислав жестоко расправился с мятежными гражанами — многих насмерть убил — и повсюду искал белоголового монаха-схимника. Великий Никон должен был убежать в Чернигов, к Святославу, потом в далёкую Тмутаракань. Вот тогда и обосновал там свою обитель. Многих постриг в монахи. Тмутараканцы весьма почитали киевского черноризца, который и здесь положил начало летописания времён минувших.
Нынче, молвят, в Киев снова возвращается из Польши изгнанный вторично братом своим Изяслав. Печерская братия и бояре смысленые звали его через Яна Вышатича. Никон сам благословил своим перстом боярина на сие законное дело. Но не вспомнит ли Изяслав через десять лет мятежного черноризца Никона? И Всеслава Полоцкого ему не пропишет ли плетью по спине?..
— Мятежную душу кто удержит на узде? — вздохнул Стефан. — А пергамены сии — спрячь. Тебе даю иное: надобно для обители и для проповеди церковной написать житие о святых мучениках русских — Борисе и Глебе. Свою кровь пролили они в межусобицах и распрях князей. Погибли от рук брата своего — Святополка Окаянного. Теперь время напомнить нашим князьям крамольным, что и они проливают братнюю кровь. Топят в ней землю нашу. Тебе, Нестор, Бог в душу вложил мудрое слово и розмысл гораздый. Тебе и писать.
— Но, владыка, ведь летописание о прошлом не окончено.
— Сие докончишь потом. Ещё будет у тебя время. Молодой ведь.
Стефан пожевал пустым ртом.
— Пиши жития. Непременно пиши! Очень нужно.
Игумен тихо ушёл. И будто весь мир Нестора унёс из его келии. Им взлелеянный мир, который так ярко предстал перед ним с этих старых пожелтевших свитков — примятых пергаменов, неизвестно и когда попавших в руки Никона...
Но ослушаться отца игумена Нестор не мог. Ведь сказано: «Всякая душа власть держащим да покорится, ибо нет власти, аще не от Бога...»
Метался по тесной келии — от стола к двери, туда и назад... С кем поделится мыслями и печалями своими? «Человек одинок на сем свете, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, и всем трудам его нету конца...» — говаривал мудрый Экклезиаст. И ещё такое: «Не будь духом своим поспешным на гневе, ибо гнев гнездится в сердце тупиц...»
Нет, не будет Нестор гневаться ни на кого. Экклезиаст охладил его сердце... Экклезиаст... В его поучениях нет и в помине Божьего помысла... Как попал он в сонм святых проповедников слова Божьего? Сей мудрец печалится о быстротечной жизни, зовёт не к молитве и посту, а к труду и знаниям. «Всё, что может рука твоя делать, по силам твоим делай, потому что в могиле, куда ты пойдёшь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости...» Экклезиаст в чём-то напоминал ему неугомонного Никона Великого.
Когда-то Нестор испугался было поучений сего мудреца. Показались они ему во всём еретическими. Теперь же, в минуты гнева или разочарований, снова вчитывался в них. Наверное, и ему нужно жить на земле так, как учит сей проповедник.
«И похвалил я веселье: ибо нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться; это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем...»
Нестор вздохнул. Вот и ему не мешало бы повеселиться нынче, выпить добрую чарку красного вина (где-то наверняка припрятал келарь в трапезной) — и подумать, как сотворить жития Бориса и Глеба. Правду молвил игумен: сие очень нужно, дабы этим кровавым и позорным братоубийством напомнить нынешним князьям о грехе, чтобы опустили свои руки, занесённые с мечами над головами друг друга...
Собрал свои свитки, связал их двумя бечёвками. Часть их отдаст учёному диакону Ивану — пусть запрячет подальше, другую часть оставит себе. Когда-нибудь, возможно, он ещё возвратится к ним.
А нынче слово его — о первых русских апостолах Борисе и Глебе. Но сначала нужно сердце своё наострить. Борис и Глеб... Сыновья первого самодержца всей Русской земли Владимира... Сыновья от четвёртой его жены — болгарки. Святополк же рождён грекиней-расстригой, которая была женой брата Владимира — Ярополка[100]. Владимир, убив Ярополка в борьбе за киевский стол, взял её себе в жёны. Говорят, тогда она была уже с дитём во чреве... А ещё были у Владимира жёны — Рогнеда из Полоцка и чехиня и грекиня-царевна Анна... Не о них речь нынче...
Нестор вышел из келии. Обогнул деревянные стены монастырского двора, стал спускаться по склону высокого днепровского берега. Под ним дышала свежестью великая славянская река.
Пьянящий дух только что распустившихся почек мягко ударил в лицо. А вокруг — будто Ярило-Солнце рассыпало по зелёной траве золотистые венчики одуванчиков. Ох, что же это он, грешный? Ярила, бога поганского, вспомнил! Прости, Боже милосердный, его душу языческую! Не его вина, что остался в нём и Ярилов день, и огнище Перуна, и песни-заклинания... Не оторваться ему вот так сразу от своего корня... от своих прадедовских обычаев... от своей земли...
— Наслав!.. Наслав!..
Или ему чудится знакомый зов в тонком шептании ветра? Или это воспоминание отозвалось в нём...
Оглянулся вокруг — нигде никого. Ох, растревожилась его память. Даже сердце так сильно застучало! Напрасно... Виновен, кажется, Экклезиаст: «И похвалил я веселье...»
Нет ему дороги назад, в суетный мир. Нет ему нужды возвращаться к земным радостям и бедам...
— Наслав!! Наслав! — уже близко. Тот же голос... Где-то внизу, под крутизной, на которой он стоял, кто-то карабкался вверх.
Наклонился вниз.
Хватаясь за кусты, наверх взбиралась женщина.
Вот последние усилия — и она рядом с ним на ровной площадке. Да это же Гаина!
— К тебе я, Наслав...
Нестор оторопел. Не мог вымолвить и слова. Не мог поднять на неё глаз. Новое искушение от Бога? За какие прегрешения? За Экклезиаста?
Наконец повернулся к ней лицом. Но взгляд не отрывал от земли.
— Извини... отец Нестор... исповедай меня... — шептала пылко Гайка. — Грешна есмь... На душе тяжело.
— Почто подкрадывалась, яко проскупица[101]? — строго спросил, пряча за этой строгостью терпкую истому во всём теле. Краем глаза взглянул на её разгорячённое лицо, на её пушистые тёмные ресницы и венец тугих кос на голове, прикрытых прозрачным шёлковым убрусом.
— В сию обитель жён не пускают, отец. А ты... не приходишь к нам. Я так долго тебя ждала! Обиду затаил?
Нестор молчал.
— А другому не могу доверить исповедь мою...
Нестор плотно, до боли в дёснах, сжал губы. Искушение сие... Новое искушение диавола...
— Я тебя слушаю... жона...
Гаина испуганно заморгала ресницами. Под ними влажно блеснула синь её глаз. Дрожащие пальцы теребили на груди кончик убруса.
— Помоги мне молитвой своей искренней... Нету сил у меня! Грешна... — вдруг закрыла лицо ладонями.
Нестор не шевельнулся.
— Молись, сестра, кайся в грехах своих. Обратись к Богу милосердному — он вернёт тебе покой.
— Молюсь ведь и денно и нощно... Уста мои и сердце моё почитают Бога. Но в душу не входит благодать. Великий грех ношу в себе...
— Откройся мне — и покайся. Буду молиться за тебя.
— Согрешила я. Отяжелела я...
В глазах Нестора почернел свет.
— Молись, Гайка...
— Не помогает ведь молитва, говорю... — горячо шептала ему в лицо. — Не сплю ночами. Как привидень хожу... Но... хочу дитя иметь! Хотела когда-то от тебя, Наслав...
— Ты ошибаешься, сестра... Я давно уже... Нестор...
— Но я не нашла тогда тебя! Не знала, как...
Нестор изо всех сил сомкнул веки. Его тонкие ноздри затрепетали. Запахло вспаханным полем... солнцем... одуванчиками... Где-то зазвенели голоса... Перекатывались с пригорка на пригорок, с холма на холм... «Ой, мы в поле выйдем, выйдем!.. Ой мы с Ладом выйдем, выйдем!..»
— Черноризец я. Грех так мыслить было!
— Почему грех? Любовь — не грех. Бог и есть любовь. В Святом Писании так и записано: кто пребывает в любви — пребывает в Бозе и Бог в нём пребывает. Разве не так говорил апостол Иоанн? Нет страха в любви, молвил он, настоящая любовь — отбрасывает его, ибо страх есть мученье... Я сама сие читала! Но теперь что? Страх мой распинает душу... Ты же — безгрешен и чист. Заступись за меня перед Богом! Пусть душа моя успокоится. Пусть на дитя моё не упадёт мой грех... Христом и всеми богами тебя умоляю!
Гаина упала на колени. Тело её безмолвно замерло в ожидании. Нестор не шевельнулся. Онемел.
«Ой, мы с Ладом выйдем, выйдем!..»
— Кто ж он? — неожиданно спросил — и ужаснулся своих слов. Лучше бы свой язык проглотил! Или ему не всё равно?
Гаина взглянула на него. Вся съёжилась. Поникла головой. Будто вдруг завяла, как сорванный цветок одуванчика.
— Не скажу, отче... — Выпрямилась. Вытащила из-за пазухи тяжёлый кошелёк. — Возьми. Сие гривны серебряные. На храм Божьей Матери.
Нестор глядел вдаль.
Сердце людское... Какую бездну, какую глубину таит оно в себе... Сколько радостей и скорбей в нём тонет... Вся жизнь человеческая в нём... Как стремительно оно летит ввысь... к солнцу... к вечности... И как пылко жаждет оно простого, земного счастья... Тёплого, близкого... Кто поймёт всё величие сердца людского? И способен ли он, простой земной человек, понять хотя бы своё сердце?
Гаина не дождалась слова от Нестора. Тихо поплелась по извилистой тропинке вниз, через заросли...
А он всё ещё стоял и глядел вдаль...
Почему суетная жизнь врывается так часто в спокойное течение его дней? Почему терзает его душу воспоминаниями о неосуществлённых надеждах?
Он никогда не сможет этого понять. Никогда! А что, если в этой непобедимости человеческого греха его земное — и единственное! — счастье, его земная вечность? «Ходи путями сердца твоего и взгляда очей твоих...» Кабы раньше знал этого Экклезиаста!.. Тогда наверняка не стал бы черноризцем. Скорее пошёл бы к волхвам кудесничать, кланяться Роду и Рожаницам, Дажьбогу и Перуну... дабы множили и оберегали его род на этой земле...
К пещере... Искупать сии еретические мысли постом... бессонницей... чтением псалмов... Учиться управлять своими желаниями...
Удивительно: живому человеку нет покоя и в Божьей обители. Жизнь настигает и здесь души людские, отреченные от неё. Вот так: Никон Великий всю жизнь воюет против засилья ромеев и против княжеских межусобиц... За ним отец Феодосий, а нынче немощный Стефан тайно освящает русских князей на киевский стол — вопреки митрополиту-гречину. И он, Нестор, идёт тою же тернистой стезей жизни. Хотя и желал бы здесь упрятаться от неё...
В пещере Нестору стало легче. Упал на скамью. Прикрыл глаза. Темень. Покой. Время остановилось. Или повернулось обратно и тащит его за собой туда, в прошлое. И он летит за ним... И нет ни горя, ни обид. Ни Гаины... ни её слёз...
И он своими помыслами перенёсся на полтысячелетия назад... Куда звало его Слово Никона... Куда он сам жаждал заглянуть. В его душе было только Слово. Древнее, как сей Мир...
Вот за спиной будто слышится чей-то хриплый голос: «Берегись!»
Что это? Бред? Сон?..
Над ним простор звёздного неба...
А перед глазами — трепещет пламя свечи. Колышется язычок огонька. Нестор пальцем водит по древнему пергамену. «Бере-ги-сь...» — шевелит губами. Сотворил слово. Маленькое слово. А за ним поднимается новый мир. Отошедший в прошлое...
Но постой, постой! С чего это всё началось?
Да! Началось с тревоги...
Часть вторая ТРЕВОГА СТЕПИ
Над степным океаном падали звёздные дожди. От земли острее потянуло сыростью; густые туманы дымились над долинами речек и опускались на травы седой росой. Зарев[102] месяц.
В вечерней тишине степи далеко слышен перестук конских копыт. Ухо улавливало фырканье и ржанье лошадей. Наверное, лошади также чувствуют новые запахи земли и трав. Незнакомые.
Будимир давно уже прислушивается к ним. Ему кажется, что в воздухе запахло свежим хлебом. Хлебом из нового зерна, который ныне пекут на подах жёны росичей и полян. Заканчивается месяц зарев, из последних колосьев сплели бороду богу Волосу[103], и уже, наверное, отпели жнецы свои песни. Но, возможно, именно в этот час ещё где-то поют их...
Будимир тронул пятками бока лошади. Вот-вот раздастся далёкий брёх псов. Сердце часто заколотилось. Как встретят росичи и поляне гонца улучанского племени? Им овладели неясные чувства тревоги, волнения, нетерпения. Конь под ним стремительно выбрасывал ноги вперёд — и мчал намётом, сквозь низкорослые степные травы и сухостой. Два коня коротко ржали и неслись вперёд.
Теперь, приближаясь к росичам, Будимир припоминал слова улучанского веча: они просят своих родичей прийти им на помощь. Снова на низы улучан Степь катит свои орды. Самим улучанам не удержаться ни в своём стольном граде — Пересечене, ни в своих землях, распаханных в приднепровской луке.
Будимир торопился. Быстрее! Быстрее!..
Грозная Степь катит свои табуны и кибитки на жилища и селения уличей. Ещё из памяти не исчезли воспоминания о гуннских нашествиях, о набегах гепидов, диких булгар... А это кто? Пока славяне этого не ведают. Пока с тревогой следят за ним, за Будимиром, который должен принести уличам-улучанам помощь от соседних племён — росичей и полян. И мать его, знает он об этом, прикладывая каждый раз к челу ладонь, сурово и тревожно вглядывается вдаль. Из-под белого платка, низко надвинутого на лоб, печально смотрят её серые глаза.
В них — тревога и скорбь. Эти глаза плыли перед ним, тревожа его сердце. Такого с ним ещё никогда не было.
Два года назад Будимира привели к капищу — огромному дубу, в который были воткнуты клыки дикого кабана-вепря. Под ним было требище — тут уличи приносили жертвы богам славянского племени. Волхв окропил его росой, собранной матерью весной. От этого окропления должны исчезнуть в нём все хвори и в грудь влиться мужская сила. Тогда Святогор-волхв надел на его голову глиняный горшок и острым лезвием ножа срезал длинные кудри, свисавшие до плеч. Снял горшок, и мать вручила сыну меч. А меньшие братья и сёстры — подали хлеб и кружку родниковой воды. Будимир принял всё это с трепетом — ведь отныне он должен защищать мечом свой род, свой хлеб, свои родники.
И вот теперь — он отправился в своё первое в жизни и, возможно, самое тяжёлое путешествие. Но почему-то всё нет и нет никакого селения. Не заблудился ли?
Вдруг конь под ним грохнулся на передние ноги, потом — на задние.
Будимир с разгона свалился на землю, упал грудью на шершавую сухую траву, ухом приложился к земле.
Земля безмолвствовала. Лишь слышен был тревожный топот лошадей, догонявших его. Коснулся рукой конской морды — конь сопел. Из последних сил вбирал в грудь запах степи. Загнал!..
Поднялся, приложил ладони к губам, по-разбойничьи свистнул. В темени вечера дружно откликнулось двуголосое ржанье. Будимир расседлал загнанного жеребца и вытер слезу на своих глазах...
Другой конь подошёл к нему, взмахнул приветливо гривой, послушно подставил спину для седла. Будимир погладил его по широкому лбу, почесал бока и мгновенно взлетел наверх.
— Что, брат Одар, — ласково прильнул к горячей гриве. — Неси со всех ног. Вон видишь, уже Месяц Сварожич[104] нам дорогу освещает...
Будимир поднялся в стременах. Протянул руки к месяцу.
— Ты, сын всемогущественного бога неба — Сварога, ты, ночное светило, отец вечной тьмы!.. Властелин снов и страж дубрав... Ты, охранитель тайн ночи и помощник татей... исцелитель больных и утешитель несчастных... Прислушайся к моей молитве... Помоги моему верному Одару! Дай силы его телу, а ногам быстроту... Защити от острого камня и стрелы коварной... помоги доброму Чуру[105]... Защити от неожиданной Мораны-смерти...
Будимир сложил на груди занемевшие руки. Подумал. Что ещё попросить у ясного, доброго бога ночного неба?
— К тебе моё слово... моё моленье... Не посылай туч на поле небесное, не прячь от глаз моих Белую дорогу[106] и Полунощную звезду[107]. Мой род за сие принесёт тебе в жертву самого большого тура, а я добуду из сухого древа живой огонь и во дни разгорания солнца зажгу и тебе бадняк[108]. Дабы и ты, Месяц Сварожич, набрался от живого тепла света и силы...
Будимир снова склонился над горячей шелковистой гривой Одара. Потом легонько тронул его бока стременами. Ночь только начиналась. Если всё время поглядывать на Великий Воз[109] и пересекать Белую дорогу, то к утру он должен увидеть стены Роденя, городка на речке Рось, где она соединяется с Днепром. Там и начинается земля росичей и полян.
Будимиру показалось, что путь от днепровской луки и Пересеченя до Роденя он одолеет быстро, за две ночи и день. Но было ему только шестнадцать лет, и он не послушал трезвых и рассудительных советов родичей ехать с осторожностью, давать лошадям передышку.
В нём играли силы молодой жизни, а в молодости трудно укротить буйства желаний трезвостью рассудка. И всё же никто ещё не захотел променять доверчивость неопытной молодости на мудрость преклонных лет. И это хорошо, ибо удальство юности способно творить земные чудеса и побеждать там, где мудрость обходит удачу стороной...
С вечера над Девич-горой, где стояла древняя каменная баба, пылали высокие костры. Если немного отойти от Лепесовки туда, где улица заканчивается высоким, неизвестно кем и когда насыпанным курганом, то можно было бы разглядеть, как у тех костров мелькали чёрные тени. То быстро проносились, будто всадники в степи, то медленно надвигались на огненную стену и исчезали. Но если подойти ещё ближе к той Девич-горе, можно было хорошо расслышать и девичьи песни, и молодецкие возгласы, катившиеся над нивами и лесами и тихо плескавшиеся в волнах Бугареки:
Да чьё ж это поле сном забылось, стоя? Сном забылось, забылось!.. Вновь запело, запело!.. Да чьё ж это поле вновь запело, стоя?Эта песня вечерняя будто укачивала тёмные избушки дулебских селений, полукругом раскинувшихся вокруг Девич-горы.
Улицами села Лепесовки проскакали двое утомлённых всадников. На них никто не обратил внимания. Это были гонцы от полян и северян, два достойных молодых мужа — Добрин и Власт, которые прибыли к вождям дулебского племени с тяжёлыми известиями. Всадники удивлённо переглянулись между собой: беспечно живёт народ дулебский! Распевает песни, водит хороводы на Девич-горе.
Беспечная жизнь... Да, слишком давно не видели дулебы врагов, которые катились со степи, откуда поднимается солнце, и чёрными тучами наваливались на славянские племена полян, северян, уличей. Дулебы сидят за сивером и полянами, их южные окраины давно обсели уличи и тиверцы; полунощную сторону стерегут градки и веси деревлян и дреговичей. Земля дулебов — вся в лесах, озёрах, реках. Ехать ордой нелегко — только нивами. Нынче они все в жнивье. Урожай собран. Везде веселятся — отмечают праздник доброго духа славянского народа Волоса, который печётся о хлебе, о худобине, о богатстве людей.
Плотники-умельцы уже и здесь обтесали срубленные осенью колоды, дабы завтра из них поставить посреди сельской улицы длинные столы и скамьи. Здесь начнётся застолье всех односельчан, гостей из соседних поселений. Эти столы будут ломиться от пышных караваев, пирогов с яблоками, коржами с маком, от мисок и полумисок с мясом, рыбой, свепетом[110].
Всё это ясно себе представляли Добрин и Власт, проезжая широкой улицей, где были свалены в кучу белые, только что обтёсанные доски для столов. Ибо все племена славянской речи имели одинаковые обычаи.
Гонцы не спешат на Девич-гору. Зачем говорить с молодыми? Им, посланникам племён, нужны старейшины родов. Слишком значительны их дела. А тех старейшин нынче можно найти за селением, в капище.
Прибывшие выехали за Лепесовку. На Девич-горе то песня, то смех, то закличь — к Берегиням и Оберегам славянского народа, жившим в лесах, в поле, на лугах, которые стерегли и оберегали избы, стодолы, онбары, медуши, оборы.
— Вокруг нигде ни одной заставы, — усмехается Власт.
— За нами ведь они, брат, за спинами наших племён. Потому и беспечны. Зачем им эта стража? Из полудня кочевой вал разобьётся о великий народ тиверский и уличанский. С востока — о наши и ваши головы. Привыкли...
— Наши племена — как забрала в степи. Кто только сунется туда — в нашу грудь целится.
— Должно, дулебы к нам не пристанут нынче... — размышлял вслух Добрин. — Эту беду снова самим нам придётся отбивать.
Остановились на околице Лепесовки.
Власт устало стащил с головы войлочную островерхую шапчонку.
— Я побуду возле лошадей. А ты, Добрин, сходи к ним сам. Был же когда-то, знаешь...
— Приходилось. Лучше не вспоминать нынче...
Добрин спрыгнул на землю, бросил узду в руки Власту.
Он знал, что здесь, на окраине Лепесовки, в дубовой роще, стоит старое капище дулебов, где живут духи добрых богов и души умерших предков дулебского рода.
Пять-шесть лет назад, когда булгары катили от Великой Реки, Добрин впервые прибыл к дулебам. Тогда поляне соединились с росами и тиверцами и оттеснили кочевников до берегов Русского моря. Дулебы лишь посмеялись в спины их воев: вы обороняйтесь, а мы в поле нивы вспашем. Дабы род наш не оскудел. Дружина у нас малая, не годна и меч держать... Но всё это была ложь. Добрин знал об этом, как и все поляне, и все росичи. Дулебам враг тот не угрожал, потому не хотели свои головы под чужие мечи подставлять.
Какой же ответ нынче дадут посланцам?
Переступив порог, Добрин попал в просторное помещение. Посреди него стоял вытесанный из белого камня бог дулебов Световид. Лики дулебского бога были высечены на четырёхгранном столбе, потому и был о четырёх лицах. Он одновременно глядел на все четыре стороны света — то с усмешкой лукавой на тонких губах, под длинным носом, то с жёстким прищуром глаз под насупленной бровью, то будто грустно всматривался вдаль или мечтательно углубился в свои раздумья. Голову Световида покрывала высокая шапка, напоминавшая бараньи шапки пастухов. Руки, также высеченные из камня, тяжело упирались в чёрен[111] меча, а внизу, под ногами, крепко упиравшимися в землю, будто вросшими в неё, были высечены два скрещённых копья и серп. Бог Световид, должно, также пахал землю, сеял хлеб, жал его и ломал копья тех, кто посягал на добытое в поте чела добро.
В эту ночь Световид всех встречал весёлой усмешкой. Ибо нынче дулебский народ праздновал день урожая, славил его, Световида, главного бога дулебов, а ещё бога зажиточности и богатства — Волоса.
На медных опаницах[112], стоявших у ног Световида, на пламени, шипели куски говядины, вепрятины, зарумяненные куропатки, гуси, утки. На широкой пательне[113] жарилась рыба, какой был богат Западный Буг и его заводи: круглобокие морены, пузатые караси, ожиревшие сомы, бескостные угри, тяжёлые осётры. А вокруг стояли кожаные мешки с зерном.
Высокий костлявый старец в длинной белой рубахе ходил вокруг требища, набирал зёрна в пригоршню и бросал их в жар.
Под деревянными стенами капища, сделанными из вертикально поставленных брёвен, на скамьях сидели старики Лепесовки и окольных сел. Они выбирали из снопов, лежавших возле их ног на земле, самые лучшие колосья и передавали молодым жницам, которые сидели здесь же, тихо напевая, и сплетали из тех колосьев и полевых цветов длинный венок — бороду для бога Волоса. Весной зёрнами из этого венка пахари начнут засевать своё поле. А нынче — они славили урожай этого лета.
Добрин, постояв у дверей, поклонился дулебскому кумиру Световиду и направился к старшинам. Старший волхв Остромов, почтенные мужи Годин, Вольга и Прибын выжидательно смотрели на гостя.
Если во время чародейства появлялся далёкий посланец, если на нём серая от пыли рубашка, а под глазами тёмные круги, то наверняка прибыл он с недобрыми вестями.
Неясная тревога наполнила капище. Старец чаще, нежели было положено, сыпал зерно на требище; жницы-вязальщицы стали сбиваться со слов песни — и всё же каждый продолжал своё дело. Волхвы дулебов, как и в иных племенах, заботились о том, чтобы из поколенья в поколенье внуки и правнуки пеклись о чести хлеборобской, дабы исчезло рабство души, и не мелели сердца, и не пересыхали реки памяти...
Старейший волхв дулебского племени начал говорить, сначала тихо, потом громче. Добрин стал вслушиваться в отдельные слова и вскоре проникся их смыслом.
— Пусть сын неба и земли, ясновидящий Световид, отведёт от нас напасть, пусть даст силы рукам и телу, дабы потом, зерном, чадами и своими могилами засевали мы землю. Дабы тело наше не утомлялось ни днём, ни вечером, ибо никто не ведает, какая нива даст урожай, а какую иссушат Стрибоговы внуки. Пусть душа человеческая не знает ни усталости, ни сомнений и мелочное не кажется ей великим, а великое — низким. Пусть душа нашего племени не опустошится. Ибо если душа станет пустой — пустым станет и мир, отпрянут от неё боги — и в землю изойдёт род наш... Прими, великий Световид, наш хлеб и наше моленье, не оскуди память нашу и род наш, дабы мир воздал нам своими плодами и утвердил нас на земле...
Женщины обвили венок вокруг каменного Световида, Остромов легонько провёл по нему рукою, и женщины сняли длинный венок с идола, положили его себе на плечи и понесли из капища. Им вослед волхв бросал зерно...
Только после этого Остромов подошёл к Добрину.
— Вижу тебя, Добрин, снова у нас. С чем приехал?
— Опасность нависла над нашей землёй. Поляне просят дулебов столковаться. С нами Сивер и Рось.
Остромов поманил пальцем старейшин:
— В толковины[114] просят нас поляне. Рать вместе держать.
Сухой, согбенный, будто перебитый надвое в пояснице Годин приставил ладонь к уху:
— Супротив кого?
— Сейчас не ведаем. Степь катит на нас орду. Чёрную орду.
— Должны совет держать!
Добрин грустно улыбнулся уголками губ; тогда, в первый свой приезд, ему сказали то же — должны совет держать. А потом отказали.
— У нас пущи. Большая орда не пройдёт через нашу землю. — Сухой смешок застрял в горле Година. — То уличам и тиверцам нужно кочевников бояться. Да вам.
— Сиверянам также. Их могут достать от Донца, — кашлянул в огромный потрескавшийся кулак Прибын. И сам он показался Добрину старой треснувшей печерицей.
Остромов знал, что слова эти будут горькими для полян. И это уже не в первый раз! Но подставлять плечи дулебского племени под мечи, какие их безусловно не достанут, не хотел.
Добрин обратился к волхву:
— Твоя речь, волхве, веле мудра. Кланяюсь тебе, что умеешь беречь обычай словенский и любовь к земле. Она щедро воздаёт вам за это, — Добрин склонил голову на грудь в кратком уважительном поклоне. — Но кабы в твоих словах была ещё одна заповедь — землю свою нужно беречь и умножать её богатства не только потом и серпами, но и мечами. Так учит волхв Полянский мудрый Славута. Память слова могут уничтожить чужие воины — вместе с именем народа. Так и велели тебе передать старейшины полян.
Старый волхв поклонился:
— Благодарю старейшин. Но у дулебов своя мудрость. Её освятил наш Световид. Потому и живём богаче всех племён словенских!
— Живете богаче, ибо за нашими спинами, волхве! — пылко ответил Добрин. — И не видите, что плодите измену — братьев своих в других племенах не желаете подпереть своими мечами. Разве Световид ваш не научил тому, что у израдцев[115] мелеет душа и гниёт корень?
— Старейшины все молвят: нету нашего согласия... Не так ли? — обратился Остромов к Годину и Прибыну. Те закивали головами. — Так и скажи своим старейшинам. Должны заботиться о своих делах...
Остромов первым вышел из капища. Добрин онемело стоял у каменного Световида, одним глазом невидяще подмигивающего кому-то, а другим лукаво усмехавшимся ему. Многоликий Световид, почему учишь лукавству детей своих? Разве дулебы, поляне, росичи, уличи — не единого корня славянского люди? Почему не научил волхва дулебского глядеть в небо? Неужто он умеет видеть лишь клочок земли под своими ногами и не умеет сердцем услышать силы и могущество всего народа славянского?..
Добрин медленно брёл к опушке, где его поджидал Власт. К Девич-горе несли венок Волосу, несли в руках зажжённые лучины, которые мигали во тьме как живые звёздочки, несли свои песни-заклинанья. И растревоженный ими властелин неба — Сварог, оставив свои небесные заботы, обсыпал жнецов-хлеборобов звёздным дождём. Добрин упал на тёплую траву.
Короткая мудрость правит словом Остромова — так и скажет он своим старейшинам. Вознёсся старец велеречивый гордостью своею над иными, и сердце его, и мысль его пленены слишком земными желаниями. Волхвы же — избранники богов — должны уметь сеять добро не только во имя живота своего и своих кровных... Беда, коль мудрый муж становится сытым и довольным собой...
От печальных раздумий Добрина оторвала песня. Она звучала то далеко, то будто совсем близко. Так близко, что вошла в его сердце вместе с высоким девичьим голосом:
Месяц ясный, месяц тихий! Освети нам вновь тропинку, Чтобы мы не заблудили и венок не потеряли. Наш веночек красный — словно месяц ясный, Ещё выше он плетня и дороже злата! Ещё выше он горы да яснее он зари!..Добрин вскочил на ноги. Неужто это её, Радкин, голос поднимается к звёздам? Неужто она ещё поёт девичьи песни? Пять лет тому назад услышал он здесь впервые этот голос. Но тогда ему было только шестнадцать вёсен... И не ведал он ещё, что в душе человека нет ничего более волнующего, чем звучание чистого звонкого голоса...
С тех пор он помнил Радку. Может, потому нынче и согласился снова приехать в Лепесовку, к Остромову.
«Месяц ясный, месяц тихий! Освети нам вновь тропинку...»
Пусть поспит немного Власт. Пусть наберётся силы и бодрости. Скоро он его поднимет — и подадутся они вдвоём к тиверцам. Но, может, им заехать к Радке? Забрать её с собой? Почему бы и нет — он ещё успеет переброситься словечком с девушкой. Утром волхв огласит: Добрин умыкнул девицу, яко дикий деревлянин или сиверянин. Почему не попросил её в жёны у старейшин, у отца-матери? Дулебки с радостью идут замуж за полян и за росичей — у тех одна жена, и почитают её, как единую мать своей семьи.
Но разве у Добрина есть хотя бы день? Нет и полной ночи. Должен торопиться...
Дядька Власт на своём веку наверняка не одну жену умыкнул с игрищ. Он поможет ему забрать Радку. И это не будет отступничеством ни перед своими богами, ни перед своим родом.
Добрин подошёл к лошади, снял путы с ног, вскочил на неё и двинулся к Лепесовке.
Молвили, что род росичей происходил от полян. Когда-то в древности он поселился на берегах тихой и приветливой речки, катившей свои воды через росистые луга. От этого — Рось. Нынче же этот род разросся в большой хлеборобский народ.
Могучий покровитель его — Род, которому поклоняются все боги неба и земли, который дарит жизнь всему живому, который пашет землю сохой или плугом и орошает её дождями, — был щедр к росичам. На густых сочных травах паслись тучные стада. Род был щедр и к людям — пахарям дарил здоровых жён, и те рожали крепких смышлёных детей. Из них вырастали умелые хлеборобы и отважные воины. Сызмальства их приучали умело держать рукоять плуга и тяжёлый двуосечный меч.
Так рассказывали уличане о росичах. Будимир всё это припомнил, когда увидел первые нивы со жнивьём. Росичи уже свезли весь хлеб в стодолы.
Над землёй вставало ясное утро. Солнце щедро рассыпало мириады серебристых капелек, оседавших росой на траве, листьях... Куда ни бросишь взгляд, везде блеск утренней росы... сияние высокого неба... сияние бесконечности, от которой и сам становишься будто выше, чище, светлее...
Будимир напоил Одара. Двух коней загнал в дороге. Теперь этого берёг пуще, нежели себя.
Стоял, высматривал место для переправы. Градки и селения росичей на противоположном — левом берегу... Правый берег сливается с небезопасной Степью, граничащей с днепровской поймой и Великой Улучиной.
Иссушенный ветрами, обожжённый солнцем широкий простор степи начинался от берегов Понтийского моря[116], которое ещё называлось Русским, а на восходе солнца соединялось с бесконечными раздольями каспийских равнин. Оттуда, из глубин никем не виденных ещё азиатских пространств, Степь всегда исторгала волны кочевников. Будто океан в бурю накатывал свои валы, так и Степь гнала эти орды по равнинам на запад.
Поэтому извечно племена славянской речи боролись с кочевой Степью. Многочисленные её орды с копьями, луками, иногда с мечами в руках не знали никакого иного занятия, кроме войны.
Народы-пахари, земледельцы, жившие в Поднепровье и в припонтийских степях, всегда были теснимы и разоряемы кочевниками. Потому они и отодвинулись с восточного, левого берега Днепра на север — в полосу лесов и лесистых рек, на правый берег.
Как и раньше, всех их соединяли общие обычаи, общие кумиры, единая речь. Но более всего их соединяли общие враги.
Вскоре Будимир увидел на противоположном берегу, на лесистом холме, многоверхий град — высокие земляные валы с забралами и сторожевой башней, крыши нескольких теремов и капищ. Это был Родень.
Будимир тронул коня и стал переплывать речку. Вот он и в земле росичей. Торная дорога, на которую вступил его Одар, привела Будимира к невысокой горе в предградье, которая отделялась от дороги большой балкой. Ему так и сказали: вначале будет гора Теребка и Холодный Лог.
На вершине Теребки возвышался девятиглавый терем. Девять островерхих покатых крыш его сияли в утреннем солнце красно-жёлтыми золотистыми лучами. Издали казалось, что терем этот похож на драгоценный камень, обтёсанный чьей-то чудодейственной рукой. Ему так и сказали: на Теребке увидишь капище росичей.
Между Теребкой с капищем и градом была также балка. Он знал — это, должно быть, Совкин Лог.
Издали рассматривал росский град. Хорошо поставили его росичи — со всех сторон кряжистой горы, на которой он стоит, балки и отвесные обрывы. Единственный подход к городу — вот эта дорога, ведущая прямо к воротам. Над ними возвышается сторожевая башня. Под её островерхой, как в избах, крышей — три оконца. Из них далеко проглядывается поле и берег у Днепра и Роси. Из них удобно также метать копья и стрелы.
Соскочил с коня, чтобы его не утомлять напрасно. На обочине дороги кое-где стояли копны.
Будимир поравнялся со жницей, которая приблизилась к дороге и поставила здесь сноп. Платок повязан до бровей. Одни глаза синели под ним. Жница была молода. Тонкий стан её перетягивал вышитый чёрными узорами пояс, белая сорочка, с красно-чёрными вьющимися стежками на рукавах, была ещё не вылинявшей. Подол сорочки искрился также красно-чёрным узором вышивки.
Увидев близко странника, жница остановилась, вытащила из-под локтя перевясло, закрутила его потуже, а глазами изучающе стала рассматривать незнакомца.
— Да придут в помощь боги, — поклонился ей Будимир. Она только захлопала в ответ белыми выгоревшими ресницами. — До града ещё далече? — Спросил чепуху — град был перед ним. Жница звонко захохотала. — А водицы попросить можно? — Будимиру вдруг захотелось услышать её голос.
Девушка перестала крутить перевясло, подбежала к копне, стоявшей рядом, вытащила из-под неё кувшин и глиняную кружку, плеснула в неё чистую воду.
— Старейшины нынче в граде? — вдруг вспомнил своё дело Будимир. — Я гонец. От уличей.
Лицо жницы будто посветлело под тонким загаром.
— Степь? — прошептала тревожно.
— Степь... Большая Степь... — вздохнул Будимир и двинулся дальше. Незавидна судьба тех, кто приносит плохие вести...
Будимир вскоре переступал порог княжеского дома. Что это был дом князя, сразу можно было догадаться, увидев над косяком двери в сенцах бунчук — конский хвост из чёрного блестящего волоса, сверху прикреплённый к концу древка большой круглой медяной пряжкой.
Князь Люб жил в большом доме. Такая же глиняная крыша, такие же низкие снаружи стены. Дом наполовину сидел в земле. В средине его ступеньки вели вниз. Зато горница была просторная и высокая.
В углу большого помещения, куда зашёл уличанин, стояла огромная печка на подмуровке из валунов. Как и стены, и потолок, печь была выбелена белой глиной, к тому же ещё и размалёвана красноватой и синей глиной — листья, цветы, петухи.
— Не стой на пороге, проходи, — незнакомый голос пригласил Будимира в виталище.
Он ещё не обвыкся хорошенько с полутьмой, наполнявшей горницу. Оконца в стенах пропускали не много света сквозь толстую шкуру бычьего пузыря.
Посреди избы стоял невысокий светловолосый человек в длинной белой рубахе, в узких полотняных штанинах и добрых лаптях.
— Я к князю Любу...
— Я и есть князь Люб...
— От уличей. От старейшин, и от волхвов, и от князя Вожика слово имею к тебе! — По обычаю, Будимир поклонился, коснулся правой рукой пола. — Степь идёт на наши и ваши поля.
— Сие ведаем. — Люб оглянулся к пристенной скамье. Там выжидательно и тихо сидели два бородатых старца. Видать, старейшины.
— Уличане просят вечем своим соединить наши мечи. Ни нам, ни вам самим не одолеть нашествие.
— Мудро говоришь. Но вчера вот прибежал новый гонец от князя Вожика. Принёс иные слова.
Будимир широко раскрыл глаза. Иные? Вожик передумал сам, без веча? Без волхвов? Его, Будимира, внука вечевого князя Белонога, послало вече своего племени, всех родов, которые собрались в стольном граде Пересечене! Он может поклясться в том всеми славянскими богами. Он может рассечь мечом свою руку или грудь и на том мече и на крови своей принести самую большую клятву — поклясться жизнью своей матери и своего рода. Да расступится пред ним сырая земля, если он не так передал волю народа уличанского!..
Юноша сделал шаг вперёд, метнул взглядом по избе, молниеносно сорвал со стены меч — тяжёлый княжеский меч — и поднял его над своей вытянутой вперёд рукой. Князь Люб спокойно сложил руки на груди, слегка прищурил глаза на уличанина.
Будимир понял — князь всё же ожидает этой клятвы на крови!..
Тяжёлый меч упал на руку. Под лезвием, на рукаве, закраснелось огромное пятно.
— Ах! — ахнул кто-то у него за спиной.
Будимир протянул меч Любу. Князь спокойно повесил его на место, кому-то, кто ахал за спиной Будимира, повелел:
— Купава, найди-ка кусок чистого полотна.
У Будимира зарябило в глазах.
Через какое-то мгновенье та самая девушка-жница перетягивала куском полотна его руку. Теперь белый платок не прятал её лица — был завязан концами назад. Он вспомнил её смех и улыбнулся ей.
— Как же буду молотить теперь твои снопы?
Девушка только заморгала золотистыми ресницами.
— Снопов не придётся молотить, — вместо неё ответил князь Люб. — Нынче придётся молотить аланов...
— Кто они? — удивлённо раскрыл глаза Будимир.
— Большой кочевой народ, который живёт в кибитках и доит кобылиц. На наши земли идут аланы-ясы...
Лишь сегодня утром князь Люб узнал об этом. Самая далёкая застава росичей, поставленная в степи на равном расстоянии между Росью и Тясмин-рекой, уже перехватила несколько всадников, которые выведывали дороги для всей орды. Утром, на рассвете, с заставы прибежал гонец с этой новостью.
— Купава, накорми хорошенько уличанина. Путь ещё далёкий у него...
— С тобой пойду биться, князь.
— Остуди своё сердце. Сядь, — посадил князь уличанина. Тот прижал к груди свою израненную руку.
— Но... братоненавистник Вожик! Дай немного воев, князь. Всех уличей приведу!
— Послушай, что молвлю тебе. Неси скорее ото всех нас поклон Славуте. Пусть поднимет на помощь другие племена. Наша поляница[117] русская загородит копьями степь. Но... Пока не подоспеет нам помощь — не одолеем... От тебя, сынок, будет зависеть, выжить нашим родам или костьми поле засеять. А уличи... Они и сами прибегут к нам. Им некуда ведь деваться. Так рассчитываю...
Высохшая от жгучего солнца степь стелила под копытами трёх конников сухую траву. В такую пору всадникам легче преодолевать степное безграничье. Полёгшие высокие травы не опутывали ног скакунов. Прибитые к земле ветрами и летними ливнями, они не давали копытам вгрызаться в черноземье. Но и рысью пускать лошадей нельзя. Лишь тихим шагом или галопом.
К полудню, оставив за спинами леса и нивы дулебского Побужья, всадники вступили в землю тиверцев. Второй день ехали степью, но пока что не встретили ни одного городка, ни одного селения. Даже ни одной нивы. Что же за народ, который имел громкую славу многолюдного и следов которого нигде не было?
Дядька Власт ехал впереди и всё беспокойнее оглядывался вокруг. Степь и степь. Кое-где редколесье. Пересохшие речки и ручьи. Или обрывистые глиняные упади[118].
Наконец на небосклоне поднялись очертания высоких курганов. Курганы всегда были вестниками близких поселений.
Власт оглянулся на двух всадников, ехавших за ним вослед. Глазами показал на небосклон. Отвязал от седла шлем. Надел на голову. Из кожаного мешка вытащил кольчугу — натянул на рубаху. То же сделал Добрин. Третий всадник не шевельнулся в седле. Это была Радка. Тревожно обвела карими очами вокруг. Вздохнула. У неё не было ратного снаряженья.
Власт поманил к себе Добрина.
— Идите вот к той упади, — плетью указал на глубокий и отвесный овраг. — Поищите воды. К посёлку поеду один. — Подтянул к седлу ременья тулы со стрелами и лук.
— Ни стада не видать, ни овечьих отар... Даже дымов нет, — отозвалась Радка.
— Нужно узнать почему, — устало произнёс Власт.
В быстрых глазах Власта Добрин заметил тревогу.
— Поезжайте. Я одна останусь. Я не боюсь! — умоляюще заглядывала Радка в лицо то Власту, то Добрину. — Вот спрячусь в этом овраге — и буду вас ожидать.
Добрин облегчённо вздохнул. Любящее сердце — понимающее...
— Только не выходи в степь. К вечеру вернёмся.
Радка спутала своего коня, пустила пастись. А сама начала спускаться по глиняным отвесам вниз...
Добрин и Власт были уже далеко...
За тремя курганами и в самом деле начинались нивы и сады. Издали, на равнине полей, они приметили земляные валы какого-то городка. Вот и он. Но снова дивились — их никто не встречал. Даже когда они подъехали к настежь раскрытым воротам городка.
Въехали в безмолвный город и убедились: люди оставили свои жилища.
Власт и Добрин повернули лошадей назад, как вдруг на дороге появилась согбенная, чёрная, как свежая пашня, старуха. Жилистые, в синих узлах руки упирались в сучковатую палку. Лица не было видно. Недуги так согнули её, что она лишь исподлобья могла смотреть на всадников.
Старуха оторвала посох от земли, помахала им. Оба со страхом в сердце подъехали ближе.
— Нету здесь людей. Ушли! — зашепелявила она.
— А ты что ж осталась, мать?
— Стерегу могилы предков. — Сказала — и утомилась. — Ох... землю свою стерегу...
Щёки её сморщенного лица дрожали как студень.
— Почему же люди ушли отсюда?
— Чёрная Степь... Катится сызнова... Чёрная смерть... Всем нам — смерть... Охо-хо... — Склонилась над посохом и виском легла на кулак, вцепившийся в конец палки.
Напоследок Власт ещё спросил:
— А далече отсюда до тиверских поселений?
— Далече. К устью Дуная пошли... Далече...
Оба тихо двинулись назад. Старуха, положив щёку на сучковатую палку, долго смотрела вослед всадникам. Они будто таяли за курганами в мареве горячего дня. Таяли, как и те долгие лета, которые остались в ней и тяжестью прошедшего пригнули её к чёрной земле предков. К той земле, которую она стерегла до последнего своего вздоха...
Тиверцы оставили земли своих отцов, на рать их не поднять уже. Скорее возвращаться домой...
Как всё женщины всех племён на свете, Радка прежде всего позаботилась, чем ей накормить мужчин. Собрала сухие ветки, кусты колючего перекати-поля, бурьянов. Кремневым огнивом высекла искру, разожгла огонь. Далее — оставленным Добрином луком и стрелами подбила несколько сытых куропаток. Они теперь шипели над огнём на вертеле. Пахучий дух дичи встретил возвратившихся всадников.
— Хорошая жена у тебя, Добрин. С голоду нигде не даст погибнуть.
Добрин счастливо улыбнулся.
— Потому и ждал пять лет.
— Это я ждала, — покраснела чернокосая дулебка. Певучим голосом извинительно протянула: — Так ведь, Добрюшко?
Добрину сладостно стало на сердце от её голоса.
— Да, ладушка моя...
— А вода здесь есть? — Дядька Власт делал вид, что не замечает их счастливых лиц.
— Вон там, под кустом ивняка родничок бьёт! — подсказывает ему Радка и бросается на склон оврага.
Добрин бежит за ней. Но не прямо, а наискось, чтобы не сорваться с обрывистого склона.
Власт, однако, первым выбрался из оврага. Оттуда послышался его удивлённый возглас:
— Тихо!
Добрин замер.
— Что там? — не выдержала Радка.
— Всадники...
— Сколько?
— Не счесть. Весь небосклон закрыли.
— Это чёрная смерть к старице идёт... — вспомнил Добрин.
— И к нам... — добавил Власт.
— А лошади? — вдруг всполошилась Радка.
— Какие?
— Наши лошади! Где они?
Добрин в ту же минуту выскочил наверх. За ним Власт. Лошади мирно щипали травку, выбирая мягкими губами более сладкие зелёные стебельки.
Торопливо стали седлать лошадей. Радка зацепилась за какую-то сухую ветку, упала. Охнула. Острая боль пронзила ей ногу и обожгла всё тело. Ступить на ногу не могла. Вскочить в седло не было мочи.
Добрин осторожно поднял её, усадил в седло.
— Добрюшко... я здесь... останусь...
— Крепись, дочка. В беде славяне и коня не оставляют, не то что человека. Как-то будет... — растревоженно бормотал Власт. — Как же оно будет?
Радка закусила губу. Каждое её движение отдавалось в геле невыносимой болью. Темнел в глазах белый свет.
Летели галопом. Всё чаще стискивали бока коней коленками и шпорами. Лошади таращили глазищи, распускали длинные хвосты и пружинисто отскакивали от земли.
Конники, казалось, летели над землёй.
Вдруг дядька Власт схватился за голову. Добрин оглянулся — хотел видеть причины его отчаяния. Над степью поднимались сизые витки дыма. В спешке они забыли погасить костёр, и теперь огонь перебросился на сухие листья и траву. В овраге сейчас бушевало пламя.
Кочевникам это верный знак, что люди где-то близко. Но возвращаться поздно. Осталось одно — бежать... бежать. Ещё бы два дня — и их бы надёжно скрыли густые дубравы Днестра и Буга.
Вперёд... только вперёд...
Взглядом ощупывали каждый холмик, каждый лог, каждый куст ивняка. Приближалась ночь. Скакуны напрягали последние силы.
Передовой отряд кочевой орды, который, как правило, прокладывал путь всей орде, уже, наверное, послал к костру дозор. Они учуяли, что люди где-то неподалёку. Может, за ними уже идёт погоня. Но, вероятнее всего, она начнётся завтра, с утра. Ночью кочевники дают отдых своим лошадям...
Глубокое чёрное небо вспыхивало заревом далёких сполохов Маланки[119]. Потому месяц серпень люди чаще называли заревом. Наверное, сонный бог, хранитель огня, Перун набирал силы, чтобы потом промчаться с грохотом по небесной степи и испепелить огненными стрелами злых и обречённых.
«Испепели чёрную смерть нашу, Перуне-Огнище, — мысленно молился Власт. — Срази её стрелами своими. Сломай копья, погни мечи, чтоб в землю навек вошли».
Усталые всадники погрузились в тяжёлый сон.
Лучше бы они не просыпались!..
Их разбудил пронзительный женский вопль. Кричала Радка. Кричала каким-то, диким, чужим голосом.
Добрин и Власт одновременно вскочили, прижались один к другому спинами, подняли вверх мечи. Не могли понять, где враг. Только слышали шелест травы и удаляющийся от них вопль Радки...
Вдруг вскрикнул Власт:
— Берегись!.. — и захрипел...
Мерцали звёзды в предрассветном небе. Земля благоухала запахами созревших, настоянных на ночной прохладе трав. Горькой полынью и чабрецом. И тёплым ветром раздолий.
Как и испокон веков.
Перед глазами Нестора догорала свечка. Пожелтевший пергамен вывалился из рук... А в келию продирался уже синий рассвет...
Часть третья ШАПКА МОНОМАХА
Мчи роковой дорогой бег свой рьяный.
Пускай хрустит костяк, плоть страждет,
брызжет кровь.
Лети, ярясь, борясь, зализывая раны,
Скользя, и падая, и поднимаясь вновь.
Э. Верхарн
Князь Всеволод — самый младший из сыновей Ярослава Мудрого — был уже немолод, когда сел на вожделенный киевский стол своего отца. Но странное дело! — не стал он от этого счастливым. Все напоминало ему о зыбкости его власти. Отовсюду ловил на себе враждебные, откровенно или украдкой брошенные взгляды. Душа его не ликовала, наоборот — он оказался в сетях сомнений и невесёлых раздумий. От этого в деяниях его не было державной твёрдости, ко всему он чувствовал недоверие, а оно-то и убивало в нём человечность.
Не доверял отцу митрополиту Иоанну; не верил своей супруге-грекине Марии Мономаховой; не верил отрокам-челядинам, сновавшим по княжьему двору... Спал и видел брата своего старшего — Изяслава, который сидел ещё в Кракове и наверняка что-то замышлял против него.
Всеволод Ярославин закрывался в своей ложнице с книгами. Греческими и латинскими, сарацинскими, аглицкими, фразскими. Среди них отдыхала его измученная душа.
Дела же княжеские не клеились. Весной сбежал из-под его руки старший сын Святослава Черниговского — Олег[120]. Подался в Тмутаракань. Кто-то в Новгородской земле убил второго Святославича — Глеба. Тень убийцы упала на него. А старший сын его соперника Изяслава — Святополк — сел в Новгороде...
Новгород... Оттуда, издавна так уж повелось, князья садились на киевский стол.
Из заросских степей пришла весть о крещении хана Осеня: зашевелились половецкие вежи[121], орды степняков собираются двинуться на Русь... И в этот час из Польши пошёл с лядскими ратями и волынскими дружинами меньших князей князь Изяслав. Войной пошёл на Всеволода, брата своего.
Всеволод метался в отчаянии от своего бессилия, от того, что не на кого было опереться, чтобы удержаться в стольном Киеве.
Византия? Ромейские императоры? Там кутерьма и мятежи вельмож, нашествие турок-сельджуков, бунты в провинциях, бесконечная смена императоров... Польские князья — на стороне своего родственника Изяслава и Гертруды. Император Генрих IV повержен Папой Григорием и отлучён от Церкви; Папа Григорий VII борется с антипапой Климентием III. Английский король Гарольд, сват Всеволода, разбит Вильгельмом Завоевателем и его норманнами при Гастингсе, потерял корону и свои владения на Британских островах. Одно только и осталось от него — дочь Гита, невестка Всеволодова, жена его старшего сына Владимира...
Мир вокруг бурлил, истекал кровью. И в том мире Всеволод Ярославич был совершенно одинок.
Что должен предпринять? Куда бежать? От кого защищать вотчину свою — от Изяслава, брата, или от кочевников?
Бросил взгляд на маленький столик под иконами. Кручёная ножка его внизу распластана четырьмя виноградными листьями, вырезанными из красного дерева. Сверху яйцеобразный круг из белого мрамора. Подарок ромеев. На этом столике лежит царская шапка бывшего императора Византии Константина Мономаха. Сказал, когда увозил в жёны его дочь Марию: «Сия шапка тебе принесёт царскую власть». Вот... он — киевский князь. Получил высшую власть на Русской земле. Но как тяжело на душе!
Раскрыл дверь в сенцы, кликнул слугу. Быстроглазый белобрысый паренёк вырос в двери.
— Позови моего сына, князя Владимира.
Тот неслышно исчез за дверью.
Всеволод размышлял: пошлёт Владимира в поле, а сам с дружиной встанет против Изяслава.
Кареглазый черноусый юноша, сажень в плечах, бросив взгляд на отца-князя, сразу изменился в лице.
— Половцы?
Всеволод утвердительно кивнул головой.
— Дозволь, отче, дать тебе совет, — в глазах его вспыхнул огонь.
Всеволод стиснул зубы. Его сын желает поучать отца? Не рано ли? Но промолчал. Однако Владимир уже сник и вяло бросил:
— Послать бы к поганым половцам попов-крестителей. Верой и крестом пусть бы угомонили язычников.
— Не примут ведь, перебьют.
— Почему же? Хан Осень, видишь сам, крестился и челядь свою крестил.
— Что из того? Христианином не стал. Кочует по степи. Сейчас иное нужно. Разослать биричей по всем землям, кликать на рать.
— Согласен.
Всеволод поднялся, подошёл к мраморному столику. Шапка Мономаха, богатый и почётный дар, будто излучала силу и могущество вселенской Византийской державы. Символ власти. Удержит ли он её? Или, возможно, перехватит её сын Владимир? Вот он какой уверенный, пылкий, цепкий во всяком деле...
Взглянул зорко из-под бровей на Владимира. Тот понял отцовские мысли. Жаль стало ему отца. И обидно за него. Уж если не верить родному сыну, то кому же тогда верить на этом свете?..
Всеволод направился в ложницу.
Грузный, медлительный в движениях, он страдал от того, что на его век досталось очень мало отцовской славы и чести. А своим мечом и мудростью не умел их добыть. И не умел их сохранить, когда слава и честь неожиданно сами свалились ему с неба.
Всеволод подошёл к раскрытому окну. И вдруг с удивлением отступил. К высокому крыльцу его палат с непокрытыми седыми головами приближались два босоногих монаха. Во власяницах, с высокими сучковатыми посохами. Приближались медленно, ступали твёрдо, уверенно.
Так могли держать себя только печерские отшельники, независимые от соблазна света и от силы чьей-либо власти. Монахи княжеских монастырей были иными: ходили в добрых рясах из византийских вольниц, пожалованных князьями, на ногах — сапоги или же постолы[122], спины согбенные, взгляды предупредительны, уста готовы в любое мгновенье возносить того, кто щедро одаривает за похвальбу.
Монахи вошли в княжескую гридницу, где ещё находился молодой князь Владимир. Не поклонились ему, стали перед Всеволодом, вышедшим им навстречу, строго посмотрели ему в глаза. Всеволод ожидающе изучал их взглядом, удивлялся, как оба старца похожи между собою. Одинаковые власяницы, белые бороды, белые волосы до плеч. Только и разницы, что один был выше ростом и имел большие, детски голубые глаза, а другой был с виду древнее, и глаза его совсем бесцветные, потусторонние.
— Именем Бога, князь Всеволод, именем твоего отца и всей Русской земли... — выступил вперёд древний старец. В сильном и низком голосе его не было ни капли старческой утомлённости или бессилия. — Просим же, Ярославичу: возьми дружину свою и поди к брату своему старейшему Изяславу и сотвори мир. И да сядет Изяслав по закону в отчине и дедовщине своей. Яко завещал сие отец ваш — Ярослав. А я, раб Божий Никон, сию заповедь моего повелителя и мудрого державца дал обет Богу и покойному Ярославу — чадам его напоминать денно и нощно. Законом нужно крепить землю Русскую и выводить коромолу меж братьями-князьями.
Ясными очами взглянул Никон на наследника своего повелителя Ярослава Мудрого. Ни крупным телом, ни слабым духом, ни тихим голосом не напоминал Всеволод своего отца.
— Но ведь кияне меня позвали вечем.
— А ты знай свой удел и закон, отец ваш разделил Русскую землю, дабы каждый был сыт и не посягал на брата от голодной зависти. А Киев — над всеми землями глава, всем городам русским — матерь. И в нём сидеть старшему колену Ярославовому, — горячо произнёс Никон.
— Почему старшему? Почему не мудрейшему? — подал свой голос Владимир.
Всеволод удовлетворённо закивал головой. Да-да, почему не более мудрому должно принадлежать старшинство в Русской земле? Вот он, Всеволод, любимый сын отца Ярослава, знает пять языков. Не ездил в далёкие края, дома сидя изучил чужие словеса и в мудрые книги погружен. Разве не ему быть самодержцем в Русской земле? Разве не способен он поддерживать тот светильник знаний, который зажёг ещё дед его Владимир Креститель? Вот нынче он, Всеволод, «Правду русскую» пересмотрел. Велел новые статьи вписать в неё, по которым живёт народ русский. И этим будет прославлено имя его... Изяслав же к книгам равнодушен. Хотя и рисуется своей образованностью. И воин никуда не годный. Всегда чужими себя подпирает. Почему же тогда этому слабому человеку должно принадлежать старшинство в земле Русской?
— А потому, видимо, чтоб не было пагубной коромолы меж князьями. Старший ведь, какой ни есть, меньшим как отец. И жаловать его нужно, как отца родного. Ведь мудрым каждый себя считает. Но кто мудрее — одному Богу ведомо. Наибольшая же мудрость человека — не переступать закон и свято беречь заповеди.
Всеволод ухмыльнулся, глазами показал на мраморный столик.
— А я имею благословенье от византийского царя и Византийской Церкви. И я не погрешил перед Богом, пред боярами, которые меня своей волей позвали сюда. Вече меня позвало! По закону.
— Вече! — неистово сверкнул глазами молчавший доселе монах. — Это гречины-митрополиты подговорили гражан. Это их наветы!
Всеволод дёрнулся лицом, гневно крикнул:
— Не отдам стола! На том стою. Воля киян и есть воля Божья.
Никон угрожающе поднял посох:
— Не имети тебе благословения от Бога! И от нас... — Оба монаха решительно пошли к двери.
Когда же за монахами захлопнулась дверь, Всеволод, обессиленный, упал на мягкое ложе.
— Зря, отец, с ними вот так... возносливо. С братией печерской нужно быть осторожнее. Впишут в пергамены твои слова — вовек останешься в памяти людской коромольником.
— Разгоню я это гнездо осиное в тех пещерах. — На крутых, скуластых щеках Всеволода появились бурые пятна досады.
— Печерская обитель никому ведь не подвластна, отец. Раньше только Ярославу Мудрому подчинялась. Но нынче с нею нам нужно жить в мире. Вот и князь Святослав был с ней в мире, и другие князья.
— Обойдёмся без этих нечистых монахов. За нами — митрополит Иоанн. За нами — княжеские монастыри. А ты зови-ка свою дружину. Пойдёшь на росское пограничье. Задержишь вежи половецкие. Я же стану супротив Изяслава. Если Бог поможет — удержим стол киевский. А теперь — скачи по градам и весям. Рать великая нужна нам. Рать!..
Через день молодой князь Владимир Всеволодович с небольшой своей дружиною выехал за Золотые ворота Киева. У Лыбеди повернули в полуденную сторону и хорошо наезженной дорогой двинулись на юг. Зелёные дубравы и густые рощи манили к себе. Но всадники не сворачивали на обочину, пока лошади не притомились. Стали на отдых, когда солнце бросило длинные тени в сторону и когда пьянящий дух свежей зелени ударил в лицо.
Весеннее предвечерье тревожило терпкими волнующими запахами. Но Владимир не давал себе воли расслабиться.
Один за другим от стана по узким дорогам, бежавшим к небольшим селеньицам, разъезжались княжьи биричи и тиуны. Там они должны отобрать самых сильных, ловких и сноровистых мужиков для княжеской рати...
Остальная часть дружины, отдохнув, двинулась в путь и уже вечером вступила в княжеский град Васильков. В прозрачном небе прорезался золоторогий месяц. А узкими улочками Василькова уже плыли густые пахучие сумерки. Со дворов несло свежим навозом, парным молоком, дразнящим духом свежеиспечённого хлеба. Лениво лаяли псы. Из-за оград слышалось призывное мычание коров, краткое сытое блеяние овец, повизгивание кабанов.
Лишь вокруг княжьего терема стояла давящая тишина. Высокий деревянный дом с двумя башнями по краям крыши тонул во тьме за высоченной оградой и плотно сбитыми воротами.
Владимир приказал ударить в било.
— Что князя долго держишь перед воротами? — сурово спросил Владимир у сторожа. Молчаливый охранник княжьего терема согнулся в почтении.
— Не ведаю тебя, княже, в лицо. Не видел никогда, я здесь недавненько. До этого здесь хозяйничал гридь Порей.
— А где же он нынче? — более мягко проговорил Владимир.
— С князем Изяславом в ляхи убег. Но я сейчас... Ужин будет. — И помчался к онбарам.
— Беги! Беги! Да не забудь девиц сюда позвать! Князя молодого потешить. Гей, слышь? Да и нас! Не забудь же!.. — кричали ему вдогонку дружинники.
На подворье уже пылал костёр. Скоро на нём поджаривался кабанчик — кто-то из дружинников прихватил в соседнем дворе.
У княжьего терема вдруг остановилась тройка ретивых лошадей. С повозки соскочила Нега. Нерадец стал привязывать лошадей к коновязи.
— Это кто? — указал Владимир на Нерадца.
— Сын ключницы. Нерадец.
— Нерадец, иди-ка сюда, — позвал кто-то из дружинников.
Князь с восхищением осматривал молодецкую фигуру широкоплечего парня.
— В дружину мою пойдёшь?
— Возьми его, княже! Семьи у него нет. Бобылём небо коптит! — подбежала к ним Нега Короткая.
— А сам что молчишь?
Нерадец переминался с ноги на ногу.
— Нынче рать набираю против Изяслава. Пойдёшь?
— Говорили — против половцев.
— В степь уже пошли заставы.
— Пошли меня в степь, княже.
— А кони есть?
— Имеет он коней, княженьку. Боярыня вон каких нам подарила. Лихие!.. — Нега Короткая горделиво повела рукой в сторону тройки.
— Ов-ва! Боярыня!.. Какая же это? — блеснул глазами князь.
— Вышатича Яна... Гаина наша!
Всё же не последние они люди в Василькове-граде, коль сам князь Владимир берёт её Нерадца к себе! Добрый воин выйдет из него — вон каков!
Нега Короткая белкой металась у чуланов, у медуш. Недобрым словом вспоминала своего Порея, который, оставив её, оставив землю, направился куда-то в чужие края добра искать. Дети без него подросли — считай, пять годочков минуло. Все на её руках! На её горбе!.. Теперь хоть легче будет. Нерадец станет дружинником, может, и братьев перетянет... Ая!..
У костра тем временем бурлило веселье. Вокруг тоненькой девушки в венке из золотистых одуванчиков водили весенний хоровод. Поставили возле своей «княгини» кувшин молока и, бросая свои венки ей под ноги, вели свою песню:
Лада-мать кличет: да подай же, матушка, ключ, Отомкни небо, выпусти росу, девичью красу...— Гей, княже, отчего закручинился? Выбирай себе ладу! — кричали захмелевшие от бражного мёда дружинники.
Князь Владимир тряхнул головой, обвёл внимательным взглядом девичий ряд. Тихо позвал Нерадца:
— Нерадец, верный мой воин... послужи-ка мне... Вон ту «княгиню» белокосую, что вся в венках... Приведи сюда...
Нерадец не шевельнулся.
— Да не бойся, не бойся, князю ведь берёшь, не себе! — подталкивали его.
Нерадец подошёл к девице, дёрнул за руку:
— Иди, князь зовёт.
Девушка блеснула радостно очами. И Нерадец узнал Любину, босоногую певунью с их улицы.
Любина тихо остановилась перед князем.
— Садись возле меня. Есть хочешь? — ласково обратился к ней князь.
Девушка покраснела. Князь угощает. Ой!
Вдруг за воротами послышался шум. Причитали женщины, плакали дети.
— Что там такое? — рассердился Владимир.
Нерадец бросился к воротам.
В свете костра разглядел, как двое дружинников вели под уздцы лошадей. За ними двигались рыдающие женщины.
— Зачем забираете последнее? Чем ниву пахать будем? Чем дрова возить? Ой, горюшко! Мужей от земли забрали, детей малых сиротами оставили!..
— А ну замолчите! Или забыли, чьи вы есть?
Женщины замолкли на мгновенье, потом тишину снова разорвали горькие рыдания.
— Тихо, бабы, князь гневается. Расходитесь по домам! Хватит!.. Всё! — прикрикнул на них Нерадец.
И толпа постепенно стала таять.
Князь Владимир удивился:
— Молодчина, Нерадец. Умеешь с простым людом говорить. Вернёшься из похода — будешь в Василькове биричем. Согласен?
— Согласен... — верил и не верил Нерадец своей счастливой доле.
— Тогда иди домой, собирайся в землю Волынскую... А я здесь ещё потолкую вот с этой белокосой красавицей...
В Волынскую так в Волынскую землю. Нерадцу всё равно. Молодой князь к себе взял — надежда появилась добыть ещё большей его милости. Спасибо матушке, что подтолкнула его на этот шаг. Теперь можно надеяться, что князь пожалует ему землю. А то ещё отличится в сечи — сила у него вон ведь какая — подковы гнёт. Может, тогда станет княжьим конюшим или стольником, а то ещё постельничим. Если повезёт, гляди — и золотая гривна блеснёт у него на груди. Боярская гривна. Вот тогда сравняется он с гордой боярыней Гайкой. Скажет воеводе Вышатичу: «Мила мне твоя боярыня. И я ей мил. Отступись, боярин. Всё равно она моя».
И поедут они с Гайкой в степи бескрайние. Поставят хижину на высоком кургане. Вокруг — сколько глазам видать — поле и поле. Вот только половцы... Нет, лучше бежать в лесные чащобы. На лесные реки. Никого там нет вокруг — лишь лесной дикий зверь да птица. И они вольные, как те крылатые птицы...
Размечтался Нерадец, сидя на коне впереди своей сотни, которую собрали под Васильковом. Были они последними в княжеской дружине — должны были присматривать за повозками, которые тарахтели следом, везли для воев сухари, пшено, сало, вяленую рыбу, брашно, соль.
Князь Всеволод шёл походом на старшего брата своего Изяслава, который со своими ратями стал под Владимиром-Волынским. Должны были биться насмерть сыновья Ярослава Мудрого, биться за отцовскую славу и землю. Ибо своей не имели.
Поход был тяжёлым. Лесные дороги — узкие, лесные речки — топкие. Досаждали тучи комаров и мошкары. Рать Всеволожья останавливалась еженощно на постой у какого-нибудь селения или просто так — под открытым небом, выставив вокруг себя заставы.
Уже были неподалёку от града, как вдруг расхворался великий князь. Воеводы решили сделать передышку, не ожидая ночи. Вокруг — леса и леса. И где-то близко от них — стан Изяслава.
Воеводы свернули с дороги. Среди леса нашли невысокий пологий песчаный холм и повелели под ним ставить повозки и лошадей. Место было сухим. Комары и мошка не так донимали.
Нерадца со своими ратниками послали в конец лагеря стать на страже. А перед утренней зарей ему придёт замена.
Нерадец устал за все длинные дни перехода. Наконец-то можно сойти с коня на землю. Он взял его в путы, отпустил на траву. А сам присел на трухлявый пень под огромным ветвистым дубом. Прислушался к шуму леса, гомону верхушек, окликам ратного стана. А мысли его — уж в который раз — уносились далеко, к Васильковскому лесу, к той охотничьей хижине, засыпанной снегом, в которой было так душно и пьяняще от запаха живицы и берёзовой коры. И от глаз Гаины, которые сожгли в его сердце страх пред боярыней. Не было у него страха и на другой день, когда они проснулись в остывшей хижине под одним кожухом.
Но после того как Нерадец отвёз Гаину в Киев, она сразу вдруг переменилась, стала строгой, недоступной. Говорила с ним, не глядя ему в лицо:
— Поезжай домой, Нерадец. Не толкись во дворе. Видишь, челядь глядит на тебя во все щели. А я... буду ждать боярина.
Задеревенело его сердце. Она... будет ожидать Вышатича? И после всего?.. Вечером ворвался в светлицу. Налетел на Килину, выскочившую из-за двери. Упал перед боярыней на колени:
— Не гони меня, Гайка...
— Встань, Нерадец.
— Бежим вместе! Почто сидишь в этой клетке злачёной?
— А мне и с тобой... тоже клетка. Не всё ли равно?
— Со мною?
Нерадец вскочил на ноги. Неожиданно подхватил её на руки, бросился вон из палат к своей повозке, укутал бесчувственную, безразличную ко всему Гайку в шкуры и с гиканьем вырвался из ненавистных палат боярских...
Сани легко скользили с холма на холм. Над головой стояло ярко-белое зимнее небо. И белая снежная дорога казалась такой же чистой и ясной, как и небесное поле...
Нерадец наклонился к Гаине:
— Будем жить в той хижине.
Она молчала.
— А хочешь — в твоей избе поселимся. Или уедем на край света. Как скажешь.
— А где он, тот край, Нерадче? — вздохнула Гайка. Глядела на Нерадца с отчуждением.
А он улыбался уверенно. Всё делал уверенно... Ая!.. Красавец парень, силища так и играет в нём...
Дорогой Гаина заболела. Тело горело, грудь разрывал кашель. Впала в забытье.
Иногда она разлепливала тяжёлые веки, из-под ресниц всматривалась в сумерки хижины. Нерадец привёз к ней свою мать.
Нега Короткая два дня сидела над Тайной. Опять отпаивала травами, растирала спину и грудь. На прощанье сказала сыну:
— Отвези в Претичеву избу. Но сначала натопи её...
Гаина так больше и не вернулась в Киев. Один раз, весной, поехала забрать свою одежду да зайти в монастырь.
Но и Нерадца не пускала в свой дом. Жила черницей. Люди редко видели её. Чудное рассказывали. То будто превращается в голубицу и сидит на стрехе, воркуя; то оборачивается зегзицей-кукушкой и летает над садами, кукует-предвещает свою судьбу; то лебедь-птицей к белым облакам поднимается и ссорится с Перуном-громом; то о чём-то увещевает его. А больше всего, говорили, бродит одиноко по лесам и лугам, зелье-траву собирает. Ведьмовствует...
Сох, мучился, злобился Нерадец. Лошадей до крови избивал, в доме покоя не было от него. Пока мать не толкнула его в дружину княжескую...
Не спится Нерадцу этой тёплой летней ночью. В измученную душу заглядывают звёзды... Давно их радужные надежды не баюкают его сердце.
Или задремал, или на самом деле над ним наклонилась Мара.
Нерадец вскочил на ноги. Нет, это ему не приснилось. Перед ним стояла высокая женщина в белом. Протянула к нему руку:
— Пойдём.
Как-то чудно сверкнули во тьме её светлые вещие глаза.
Нерадец не двинулся с места.
— Здесь есть капище. Перебудешь там ночь. Утром выведу тебя на дорогу.
— Я не заблудил, — оторопело отшатнулся он от Мары. — Я на страже.
— На страже? — Мара наклонила к нему голову. Он скорее почувствовал — по голосу почувствовал, — что эта женщина уже не молода. — Ты из Киева? Зачем пришёл?
— С дружиной княжеской пришёл, — отступил он назад. Будто был виновен в чём-то перед нею.
— A-а... Брат на брата снова пошёл. Знаю сие...
— Откуда знаешь?
— Жива[123] мне давно дала знак: так будет. А я служу ей. Вон там — на холме — капище её.
— Ты колдунья?
— Не знаю, может. Я служу Живе, и меня поэтому называют Живкой. И ещё зеленицей зовут. Я помогаю людям зельем от недугов.
— А здесь чего бродишь?
— Под этим дубом ночью папоротник должен расцвесть. Завтра Купала.
— Слушай, ведьма...
— Я не ведьма!.. — возмутилась женщина.
— Всё равно слушай. Наш князь заболел шибко. С лица прямо спал. Силы его оставляют. Помоги ему, — почему-то говорил последние слова шёпотом, будто средь этих звёзд и средь этой ночи кто-то мог его услышать...
— Тяжело сие...
— Он тебя щедро отблагодарит.
— Кто знает. А может, проклянёт...
— Помоги!
— Помогу, пусть лишь пойдёт на мой уговор.
Нерадец радостно воскликнул:
— Он на всё пойдёт!
— Тогда ступай, — улыбнувшись, сказала Живка. Двинулась вперёд.
Нерадец за ней. С удивлением заметил, что Живка и во тьме шла прямо, обходя стволы деревьев, даже не касаясь ветвей, распростёртых над землёй. Будто плыла.
Возле лагеря остановилась. Пламенели ещё не угасшие костры. Кое-где виднелись повозки с привязанными к ним лошадьми.
— Где же твой князь?
— Там, возле лошадей.
— Веди его сюда.
Нерадец подошёл к Князевым гридям. Растолкал дремлющих. Поведал о знахарке. Воевода Творимир недовольно пробормотал: мол, среди ночи нечего будить князя!
— Я не сплю, — послышался голос Всеволода. — Я пойду, воевода. Плохо мне. Может, до утра и не дотяну. Жжёт меня всего... Помоги подняться.
Творимир и Нерадец подставили князю свои плечи.
Впереди них шла высокая белая женщина. Она оттолкнула двоих гридей, которые зажгли факелы и хотели освещать ей дорогу.
— Не светите. Я вижу, куда идти.
Капище стояло на невысоком редколесом холме и светилось всё каким-то спокойным мягким светом, будто стены его были сделаны из тонкого шелка.
— Что сие? — не сдержался Творимир.
— Капище Живы. Девы весны и жизни. Введите князя вовнутрь.
Перед ними тихо распахнулись двери. Переступили со страхом через порог. Каждому вдруг показалось, что он попал в сон или в сказку. Сверху, с высокого потолка, на длинных прозрачных, как льдины, кручёных ветвях, свисали прозрачные колокольцы. В каждом цветке, повёрнутом вверх, горела маленькая восковая свечечка. На стенах, обвитых длинными стеблями барвинка, также светились маленькие свечки. А посредине капища росла берёза. Не сразу пришедшие заметили на ней ласточкино гнездо.
— Сё древо Живы, — сказала знахарка князю. — Каждую весну она присылает сюда ласточек — и они здесь живут со мной. По ним люди узнают, какое будет лето, какой урожай, когда упадут дожди, а когда будет сушь.
— И ты живёшь здесь? — удивился Творимир.
— Живу. Стерегу капище от злых духов и злых людей.
— Но ведь князь Владимир давно снёс все поганские капища. Дымом они пошли!
— А вот это не сгорело, видишь ли. Его бережёт дева жизни. А когда она сгинет — сгинет и жизнь на этой земле.
Живка легко двигалась в этом причудливом жилище. Походка её была величественной и гордой. Откуда-то она принесла кружку с каким-то напитком. Всеволод испуганно отпрянул от неё.
Тогда Живка молча отпила сама несколько глотков.
— Вы идите, — махнула она Нерадцу и Творимиру, — князь останется здесь до утра.
Какой-то пахучей мазью смазывала она Всеволоду виски. Подносила к его лицу миску с водой, что-то шептала, на кого-то махала рукой, будто прогоняя. Потом произнесла:
— Княже, хворость твоя минет к рассвету, коль послушаешь моего совета.
Всеволод, сидевший перед ней на скамейке, раскрыл удивлённо глаза.
— Идёшь на брата своего кровного. Не ходи! Замирись. Прольёшь родную кровь — помрёшь в страшных мучениях. Замиришься — будешь властителем себе и людям.
— Не могу уж отступить.
— А ты — победи себя. Будь мудрым.
— Сие тяжко.
— Мудрость ведь всегда требует отваги.
— Не могу...
— Помрёшь в страшных мучениях совести. К жизни не вернёшься. Никто из мёртвых не возвращается к жизни. Так мне говорит Жива. Отпей ещё этого зелья — и ты прозреешь. Ослепла ведь твоя душа, князь, от жажды славы ослепла. Во злобе и слепоте человек теряет силу свою. Возьми добро в сердце своё! Приобретёшь покой и силу...
Всеволод молчал...
Живка положила на его глаза свои узкие горячие ладони. Что-то шептала сызнова, кропила голубиным крылом водой.
— Отпей ещё Яриловой росы. Очисти душу свою от нечестивых помыслов... Что же твой единый Бог не научил тебя покорности? Должен слушать старшего брата своего, как отца. И мои старые боги тому же учат. Но... не слушают нынче властители мудрого слова. Лишь себя слышат, свою зависть и гордыню возносят надо всем... Потеряли страх перед грехом. Потеряли добро в душах!
Живка умолкла. Тело Всеволода покрывалось красными пятнами. На лбу выступили горячие капельки пота. Князь почувствовал какое-то облегченье.
— Ты кто? — пристально всматривался в её бледное, возбуждённое лицо и излучающие свет большие глаза.
— Зачем тебе знать меня? Никто меня не знает. И я себя не ведаю.
— Не хочешь открыться?
Живка вздохнула. Мудр ведь князь! Да что из того...
— Все мы — мимолётные искры в мирах — вспыхнули и гаснем. Ничего не остаётся после. Только пепел. Да слава о деяньях наших. Да память о добре...
Всеволод склонил голову на грудь. Много мудрых книг прочёл он на своём веку, а такого не встречал. Там возносится не добро, не правда, а войны, захваты, покорение многих народов, полон иных земель. Вот и слава владык мира от этого. Больше убил, больше награбил золота, больше крови людской пролил — и слава ему большая воздавалась в веках. За добро, за правду ещё ни один властитель не прославился. Он сие знает твёрдо. Но слава эта — не среди людей. В книгах.
— Приляг, князь, отдохни. А я заклинанья проговорю над тобой. Ты же слушай — и верь... Верь моему слову, князь!.. А ты, Огнеястра и Невея-Мертвяща[124], всем лихорадкам сестра старшая, окаянная, беги от князя моего без оглядки, ибо напущу на вас Живу-живицу — и даст она вам по триста ран на день. Убегайте в тёмные леса, на гнилые воды, в места пустынные и безводные, дабы вам красной крови князя моего не пити, сердца его не сушити, белого тела не ломати... Идите на топи, на тёмные луга, на густые камыши, на сухие леса... на овраги глубокие, на степи степучие... Спи, спи... спи...
Долго ещё шептала Живка над дремлющим Всеволодом, покачиваясь всем телом и сама будто засыпая над ним. Только пальцы её нежно разглаживали князю надбровье, виски, плечи...
Творимир и Нерадец мерили шагами землю вокруг капища, пока тьма не посерела. Тогда они присели под каким-то деревом — и сразу сон разморил их тела. Тяжёлые веки будто сами склеивались. А когда вдруг открыли их, вокруг был яркий, ослепительно белый день.
Перед ними предстала Живка.
— Пусть поспит князь. Огневица из него выйдет. Невея-смерть уже отступила.
Творимир и Нерадец спустились с песчаного холма, направились в стан ратников. Нужно предупредить воевод, что князь жив, что он поправляется.
Уже дошли к тому самому дубу-вековику, где Нерадец стоял с вечера на страже, как вдруг над ними тонко прозвенели стрелы.
Оба припали к земле. Лишь тогда вспомнили, что нет у них ни луков, ни мечей. Нерадец нащупал за голенищем сапога только охотничий нож.
Подползли ближе к дубу. Несколько стрел мгновенно впились в ствол и дрожали оперением. Опасность была рядом. Творимир и Нерадец не сговариваясь бросились в разные стороны. Где был враг — не видать. Коль один наскочит на него — второй придёт на помощь. Но не успел Нерадец отдышаться, как с противоположной стороны, куда прыгнул Творимир, послышалось хрипенье, возня. Нерадец взял в зубы длинный охотничий нож, ужом пополз в кусты, чтобы со стороны обойти засаду.
Когда он поднялся на коленях, пытаясь рассмотреть, где же Творимир, то увидел: верхом на воеводе сидел лядский ратник и втискивал ему в рот кляп из травы.
Нерадец размахнулся. Тяжёлый охотничий нож с коротким свистом пролетел над кустами и впился под левую лопатку ратника. Тот обмяк. И в этот миг Нерадец со спины навалился на воина, перевернул его и придавил к земле.
Воевода тем временем вытащил кляп изо рта, стал отплёвываться.
— Лютый, яко барс... Я ведь сразу узнал его. Это гридь князя Изяслава — Порей.
— Порей? — испугался Нерадец, отскакивая от своей жертвы. — Из Василькова?
— Не ведаю, откуда он... Значит, рать Изяслава где-то рядом. Скорее в стан!
Нерадец, онемев, застыл над Пореем. Тот ошалело водил выпученными от боли глазами. С уголков губ на бороду выбивалась розовая пена.
— Ты Порей? Порей? — узнавал и не узнавал Нерадец своего полузабытого отца. — Говори! — Всё кричало в нём.
Порей остановил на нём свой затуманенный взгляд. Какая-то тень мелькнула в его помутневших зрачках. Губы задрожали.
— Будь они прокляты... Князья наши...
В глазах Нерадца застыл ужас.
Порей как-то тихо выпрямился и стал глядеть в небо своими светлыми очами, в которых застыло то ли отчаяние, то ли удивление, а может — боль...
Нерадец взял его в охапку, понёс наверх, к капищу. Навстречу ему вышла высокая колдунья. Он положил Порея к её ногам.
— Отец мой. Спаси.
Живка строго взглянула Нерадцу в глаза. Что-то прочитала в них. Наклонилась над Пореем. Разорвала подол серой вотолы[125], выдернула его сорочку из-за пояса, повернула Порея к себе.
— У тебя твёрдая рука. Бьёшь без промаха.
И ушла.
Холодный пот покрыл спину Нерадца. До самых костей донимал его этот холод. Пред глазами поплыли красновато-чёрные круги. Откуда-то взглянули на него утомлённые, выгоревшие от работы и слёз грустные очи матери — Неги. Они пристально всматривались в его зрачки, всё увеличивались, закрывали собою небо, весь мир... Всё пошло крутом. Всё полетело в горячую муть...
Он опомнился оттого, что его больно дёргали за нос, били по щекам, по ушам. Опомнившись, узнал Живку.
— Князь тебя кличет, иди.
Нерадец поднялся с земли. Боялся посмотреть в ту сторону, где лежал остывающий Порей.
Всеволод сидел на ложе под стеной капища. В прозрачных лепестках уже потухли огоньки свечей. Все здесь было не так, как ночью. Оказалось, что стены капища были сделаны из тонких пластин розового мрамора, которые днём просвечивались от ярких лучей солнца, а ночью — от огней свечек.
Князь Всеволод встретил Нерадца повеселевшим голосом.
— Прими от меня благодарение, муже добрый. Жалую тебя мечом злоченым и щитом. Спас ведь меня от смерти.
Нерадец равнодушно слушал те слова и молчал.
Всеволод удивлённо свёл брови. В его глазах мелькнуло неудовольствие.
— Придём домой, пожалую ещё и землёй. Две веретеи[126] земли на душу выделю... Хватит?
Нерадец что-то хотел сказать, но не мог.
Всеволод обеспокоенно продолжал, будто сам себе:
— Приду к брату Изяславу нынче, замирюсь с ним. Когда побываешь в руках у смерти, по-иному начинаешь ценить жизнь. Что самое ценное в человеке? Жизнь в чести. Слышишь, Нерадец?
Нерадец не выдержал. Бросился перед ним на колени. Зарыдал, челом припав к земле. Что мог сказать он, охваченный чувством глубокой безнадёжности, вознесённому надеждами? Мог ли в словах высказать свою боль, и свою обиду, и своё отчаяние? Мог ли он получить прощение матери и людей, ведь он отныне попрал честь свою.
Не знал теперь Нерадец, кем нынче стал. И кем будет. Знал одно: отныне вся его жизнь, все надежды связаны с князем Всеволодом.
Ян Вышатич был уже в тех летах, когда приходит осознание невозвратности прошедших дней, а потому он уже не гнался за временем. Гонись не гонись, а молодых лет не вернёшь. Понял, что вступил в старость, сохранив в своей душе все печали и неосуществлённые желания молодости. А наипаче — жалость, что ничем не дотянулся до славы предков своих и что без чести завершает род свой. Без чести и без славы, с одним богатством. Но теперь оно не тешило его душу. Известно, что вкус хлеба знает лишь бедняк. Богатей же принимает его как должное. Гордость его желала возвышения не над чёрным смердом, нет, он выше его от рождения, а над равными себе. Теперь Ян понял, что такого возвышения не достиг. Все годы будто воду в решете носил — что-то делал, куда-то бежал, — а для себя ничегошеньки не осталось. Для своей души.
Гаина к нему не возвратилась. В старой Претичевой хате качала вербовую колыбель сыночка. Яну в глаза не глядела, краснела, но была счастлива.
Ян отступился. А в душе его копилась злоба. На Гайку. На её смердовскую неблагодарность. Ведь он же позволил ей привести сына в его дом?! Что ещё нужно было? Ушла!..
Злобился Ян и на себя: зачем взял жену из худого рода? Злобился на весь мир. Даже на Кильку, что покачивала перед ним своими дородными боками, натягивая на себя то одно, то другое платье своей сбежавшей хозяйки. Но Килину всё же терпел. Тешила своей лестью и предупредительностью.
Единственным утешением было, когда ездил в гости к князю Изяславу. Изяслав, воссевши снова на киевский престол, встречал Яна как родного брата. Вёл к себе в ложницу, усаживал в. красный угол под иконами. Тогда Вышатич забывал свои невзгоды. Вдвоём с князем вспоминали, как Изяславу удалось беспрепятственно прийти в Киев. Как Всеволод с дружиною положил перед Изяславом меч и целовал крест. Сказал: «Брате, еси старейший от меня. Иди в Киев. Возьми свой стол, что отец Ярослав тебе завещал. Аз грешен есть. Прости». Всеволод тогда упал на колени. Расчувствованный Изяслав также бросился перед ним на колени. «Бог простит. Молись! А мне воздал он за долготерпение. Почто меня, братья, изгнали в чужую землю? Почто моё богатство побрали?» Всеволод плакал. «Прости, брат. То не я, то Святослав. А я виновен в том, что на клич киян пришёл. Вижу нынче — шёл я супротив закона. За ослух мой был наказан Богом хворостью тяжкою».
Теперь обо всём этом рассказывал Вышатичу.
— Сказал мне брат тогда, — вспоминал Изяслав, — пойду в свой удел, в Переяславскую землю. А ты ко Киеву спеши...
Вышатич всё это знал. Но делал вид, что слышит впервые о том, как случилось, что не было тогда на Волынской земле сечи между Ярославичами.
Киевляне открыли Золотые ворота города и ударили в колокола. Вызванивали все церкви города. Позже других ударили колокола в митрополичьем соборе — Святой Софии... Митрополит Иоанн затаил ненависть против Изяслава... И, наверное, плетёт свои сети в тёмных закоулках. Боится его Изяслав. Размышляет вслух:
— Выгоню Иоанна, что сделает патриарх в Царьграде?
— Наложит злую епитимию на всю Русь. Или же половцев нашлёт.
Изяслав вздыхает. Ходит по светлице. Высокий, сутуловатый. Нетерпеливо крутит головой.
— Поехали в Печеры. Попросим у монахов помолиться за наши грехи...
Печерская обитель встретила Изяслава с великим почётом. Игумен Стефан, которому было уже тяжело ходить, всё-таки вышел из своей келии, опираясь на плечи двух келейников, прислуживающих ему. Стефан, подчёркнуто учтиво кланяясь, приветствовал великого князя.
— Телом отхожу от сего мира, — шепелявил Изяславу, — а душой с тобой, князь. Знайте, чада мои, — обращался к черноризой братии, — и перед Богом буду заступаться за нашего князя законного. Пусть крепко держит в своей деснице закон и печётся о процветании земли нашей. Яко учит нас слово Божье и великий наш книжник печерский Никон.
— Где же нынче отец Никон? — спохватился Ян.
— Пошёл в Тмутаракань прощаться со своей обителью. А придёт — заберёт мой посох игуменский. Хотя летами он старше, но телом крепче, — негромко говорил Стефан, обводя взглядом склонённые головы братии.
— Владыка! — вдруг упал перед игуменом какой-то монах. — Учил нас преподобный Феодосий, и ты, владыка, учил нас, овец заблудших, никакого богатства не собирать и не держать в келиях. А я вот сам, ночью, соткал немного полотна. Чтобы для всей братии сорочки новые сшить. Позволь тебе отдать, владыка...
Из-под широкой полы рясы чернец вывалил к ногам игумена приличный свиток полотна.
— Охо-хо, грехи мои тяжкие, — застонал Стефан. — Что не послушался слов Господних? Сказано: где богатство ваше — там и сердце ваше. Аще хощешь быти беспорочным черноризцем — возьми свой свиток и брось в огонь горящий! Дабы всем наука была...
Монах, видать, ожидал от игумена похвалы и потому при этих словах весь передёрнулся, испуганно залепетал:
— Я ведь не для себя... для всех... для братии... — отступал от Стефана как от прокажённого.
— Возьми же... Да возьми! Брось в огонь, — подталкивали монаха черноризцы, а тот прятал руки за спину, будто этот свиток полотна, вытканный им на радость всем, теперь обжигал ему ладони, как раскалённое железо.
— Почто, владыка, грехом называешь труд нашего брата? Брат Демиан не для себя ведь — для всех старался. Всем нам сорочки новые нужны — видишь, старые истлели уж на наших спинах от пота. А никому до этого дела нет! Не грех трудом своим пользоваться! А разве не грешному делу учишь нас — забирать вот это полотно у смердов?
— Еремея, снова бунтуешь? — тяжело задышал Стефан. — Нет у меня больше слов к Богу защищать тебя в молитвах.
— От чего же меня защищать, владыка? — сверкнул чёрными углями горящих глаз Еремея.
— А за сообщничество с волхвами, забыл?
— Имел за это епитимию от отца Феодосия, владыка. Очистился от грехов в сырой яме! Еле ноги вытащил оттуда.
— А нынче будешь иметь новую епитимию... — задохнулся Стефан и схватил себя за грудь. — Не спрашиваешь, за что? Вот ты защищаешь Демиана. А сам ведь — во сто крат грешнее его!
— Нету греха моего...
— Но к челяднице вот этого боярина — Яна Вышатича — разве не ты зачастил? А? Уже целый год!.. Вот и кайся, пока не поздно!
Еремея молчит.
— Кайся, брат, на колени падай... проси милосердия, — зашелестели голоса монахов, стоявших вокруг удручённо и не поднимавших ни на кого глаз. Будто бы это и не от них шли эти голоса, а вырывались из-под земли. — Падай на колени... проси...
Еремея вызывающе взглянул в глаза Стефана.
— Любострастна жона сия, владыка. Спасаю тело её и душу от блуда великого. Ведь Бог завещал всякой животине плотскую утеху. Люди разве хуже зверя? Несправедливо сие. Богопротивно твоё учение...
— Епитимию... епитимию... Оскопление ему! — застонал, зашепелявил игумен и качнулся к своим келейникам.
Никто из монахов не шевельнулся.
Лицо Стефана задрожало в гневе. Кабы ещё не князь, не воевода, которые стали свидетелями этого бунта... ему стыд за это непослушание братии...
В беззубом рту Стефана шевелился красный язык, по редкой бороде стекала слюна. Он беспомощно оглянулся на своих высоких гостей.
Князь Изяслав, опустив голову на грудь, мелко крестился. Воевода Вышатич переминался с ноги на ногу... Килина... Вчера же только висела у него на шее и клялась всеми богами, каких только знала выкрещенная душа её половецкая, что сама подарит ему сына. Ян оттолкнул её от себя. Теперь чувствовал себя так, будто его бросили в бочку со смолой...
Он подскочил ближе к игумену и прикрикнул на братию:
— Чего стоите? Хватайте блудника! — и зачем-то рванул за рукоять меч, свисавший у него из золотого кольчастого пояса.
Еремея вдруг пригнулся, злодейски обвёл вокруг заострёнными чёрными глазами и что было сил бросился бежать к воротам, развевая широким подолом чёрной рясы. За ним бросились два келейника. Быстроногий Еремея только мелькал потрескавшимися пятками. На бегу сбросил с себя скуфейку и начал выпутываться из рясы. Она взмахнула чёрными крыльями и упала на землю, а Еремея в белой исподней сорочке с огромной дырой на спине и в полотняных штанинах уже дёргал щеколды калитки, пытаясь её открыть.
Но в бочке от судьбы не спрячешься. В это мгновенье монахи-братья схватили Еремею и поволокли его на конюшню. Он извивался изо всех сил, плевался, кусал за руки своих братьев, за которых недавно заступился и которые теперь с озверением тащили его к плахе, готовые содрать с него живьём шкуру...
Уже никто не видел того, как они бросили беднягу Еремею в ясли, как набросили на голову мешок, а руки и ноги привязали к коновязи и как конюх-монах, долго вздыхая, острил о камень нож, каким обычно орудовал с молодыми жеребцами.
И потом никто и словом не обмолвился о позоре и муке Еремеиной, которую он принял за свою справедливость, за смелое слово, что во все времена возносят властители человеческих душ; Возносят, чтобы потом оскопить его...
Не узнает суетный мир про эти и другие тайны святой обители, ибо злые поступки здесь записывались на воде, а добрые — чеканили на камне и в пергаменах...
Черноризая братия толклась на месте — никто не хотел отнести свиток добротного полотна к трапезной, чтобы бросить его в огонь.
— Нестор идёт... — ткнул кто-то пальцем назад. — Пусть он... — От пещер, пошатываясь, шёл высокий монах. — Из пещеры вышел...
А может, и не из пещеры, может, с иного мира явился тот Нестор, но разве кто поверит в это...
Бледная кожа его лица, казалось, просвечивала насквозь. Большой хрящеватый нос заострился, стал тоньше, глаза провалились в глубокие глазницы и как-то странно светились, будто были одержимы какой-то жгучей мыслью.
— Нестор-книжник веле смысленый, князь, в древних письменах, — сказал громко Стефан. — Выученик великого Никона. Пожалуй его своим вниманием.
Изяслав с интересом рассматривал приблизившегося монаха. Когда тот остановился возле братии, князь подошёл к нему и почтил лёгким наклоном головы.
— Какая же мудрость тебе открылась, брат, в пещере? Говорят, долго сидел, — ласково заговорил Изяслав.
В глазах Нестора менялся свет. Наконец взгляд его сосредоточился на лице князя.
— Открылась суть жизни нашей суетной, князь мой.
— Какова ж она?
Нестор вздохнул.
— Два пути есть у человека — мытаря и фарисея. И мы, грешные земные люди, считаем, что когда бьём поклон Богу, когда всуе повторяем имя его, то милостивый Бог с нами и прощает нам все грехи наши. Но это не так. Мы — мертвы душой, ибо сыты собой и своей правотой. Потому мы — фарисеи, и Бог не может пребывать с нами. Он всегда боролся против фарисейства — и не поборол его. Пришёл к смерти своей крестной.
— Наша вера в Бога спасёт нас, брат.
— Это не так просто. Древние иудеи недаром запрещали произносить имя Бога. Наша вера слепая. Мы лишь повторяем слова, а сердце наше холодно, не верует. Ибо мы горды. В том наш главный грех — об этом первым сказал Иоанн Златоуст. И гордимся мы не столько своей добропорядочностью, сколько своими грехами. Мы гонимся за властью. Мы убиваем и мучаем более слабых и меньших, дабы себя утвердить. Не так ли?
Монахи вокруг зашевелились, гневно посматривали на владыку своего, который только что своей ненужной жестокостью к Еремее желал показать свою власть над ними — слабыми и бессильными братьями монахами. И это всё лишь бы возвыситься в глазах князя и его боярина! Но Стефан прикрыл глаза, склонился на посох и, кажется, ничего не замечал. Дремал, что Ли. Понимал, что происходит, или делал вид, что не понимает.
— Иисус мучился и принял смерть за грехи и злодейства людей. Так говорят священные книги, Нестор, — вмешался Ян Вышатич. — Потому и прощает грехи людские.
— Если бы мы помнили об этих его мученьях! — воскликнул Нестор. — Не творили бы новых. Были бы, наверное, более справедливы к людям. И к Богу. Ведь мы Иисуса одели в золотые наряды, окружили славой. А если б он, этот мученик, появился среди нас в сию минуту? Побитый, растерзанный, с терновым венцом на окровавленном челе? С тяжкою ношей креста? И если бы в ту минуту за ним гнались вот те богоборцы и хулители, которые распяли его, и закричали: «Мы снова тебя разопнём на кресте! Ты проповедуешь любовь, а мы — ненависть. Ты поднимаешь дух смиренных и покорных, а мы — прославляем гордых насильников и отчаянных своевольцев! Ты зовёшь в царство небесное, а мы желаем получить его на земле! И ты, ничтожный и лживый, снова будешь распят нами!» Много ли из нас, воевода, бросились бы в эту минуту на помощь Христу? Не оставили бы мы все, здесь собравшиеся, его одного, с глазу на глаз с убийцами?
— Как думаешь ты, Нестор? — тихо спросил Изяслав.
— Я думаю, князь, что каждый здесь стоящий спасал бы лишь себя. А то ещё и помог бы палачам. Трусы — первые сподвижники убийц. Тако было извека.
Монахи стыдливо стали опускать глаза вниз. Им всем показалось, что они только что свершили то преступление, о котором сказал Нестор. Только вместо Иисуса перед ними был Еремея — их заступник...
Игумен Стефан вдруг будто проснулся, поднял вверх лицо:
— Зело учен есть Нестор наш, князь...
— А как было раньше? На нашей земле были трусы? — не выдержал Вышатич.
— Были. Одни племена боролись. Иные сидели за их спинами. Одни умирали, другие же сытели и возносились гордыней. Бросались в распри...
— Хвала Богу, кончились навек распри на нашей земле, — снова встрепенулся Стефан. — Наш князь законный...
— Распри не кончатся, владыка, пока в наших душах будет жить себялюбие, пока мы будем молчать среди торжествующего зла, — строго молвил Нестор, оглядывая притихшую братию.
— Прости! — вдруг упал перед ним Демиан. — Это он всё!.. Он!.. Еремею... покалечить велел!.. А мы!..
— Где он? — вскричал Нестор.
— Там! — плачущим голосом отозвался Демиан и указал рукой к конюшне.
Нестор тут же направился туда, где стонал, кляня Бога и людей, несчастный Еремея.
А Стефан принимал гостей в трапезной. Беседу с властителями мира лучше всего вести за столом.
Когда Нестор вернулся из конюшни, его окликнул Вышатич:
— Отец!.. Отец Нестор! Новость ведаешь? Ваш игумен Стефан хочет уйти от вас — в княжеский монастырь на Клов. Хочет там владычествовать. А ты пойдёшь с ним? Велел тебя спросить владыка.
— Нет. Не пойду с ним. Не прощу ему Еремеиной обиды. Пусть подобру уходит. Иначе братия свергнет его.
— Кого же ваша братия захочет избрать себе владыкой? — пристально остановил на Несторе свои косые глаза Вышатич.
— Захочет великого Никона. Вот вернётся из Тмутаракани... Если князь Изяслав простит ему давний грех против него.
— Простит! Уже простил. Ведь его слово подпирает нынче власть Изяслава.
— Ну, вот и хорошо. Я останусь при своём деле — буду пергамен свой писать. О прошлом рассказывать.
— Говорят, ты смысленый в старых письменах. У меня есть какие-то давние писания. Может, поглядишь?
— О чём они? — насторожился Нестор, как ловец учуя зверя.
— О походах великого Святослава и о старом Игоре есть. Будто ряд[127] какой-то...
— Ряд? Уверен, что это — ряд?
— Уверен. Только не пойму, то ли Игоря, то ли Святослава. И о княгине Ольге есть сказание — о мести её древлянам[128].
Нестор засиял лицом.
— Я знал... я знал, что они есть! Что это не выдумка великого Никона!
— Ты о чём? — удивился Ян.
— О летописном пергамене Никона, воевода. Он написал, что были у русичей договоры с греками. А иные считали это басней. Великая Византия, молвили несведущие, не могла встать в ряд с дикими русичами... А они есть, говоришь? — Монах испытующе смотрел в довольное лицо Вышатича. — Дозволь прийти к тебе, воевода. Переписать...
— Приходи. У меня много есть книг, — гордо выпятил грудь Вышатич.
Боярин Ян с большой гордостью похвалялся своим древним родом перед учёным монахом и писцом печерским. Выкладывал ему свитки из своего небольшого, но хорошо подобранного хранилища. Не забывал, невзначай будто, похвалиться и своим египетским или ромейским бокалом, кружкой или лагвицей, которые ему достались то в подарок, то во время битвы, то как алафа[129]. Кто ж, как не сей мудрый чернец, сумеет оценить изысканность вещей наследника рода Добрыни-Остромира!
Нестор невидящим взглядом скользил по богатствам Вышатича, по нарядным иконам, из чистого золота кованным подсвечникам, в которых ради гостя зажгли свечи даже днём.
Но подолгу склонялась седеющая голова монаха-печерца над кусками старых пергаменов, часто он начинал переписывать что-то или снова читать.
Ян мягкими шагами ходил за его спиной. Ему не терпелось поговорить, излить свою душу. И он, немного переждав, начал рассказывать Нестору бывалmoины и легенды из истории своего рода.
Нестор рассеянно вслушивался в слова воеводы. Но вот речь пошла о Гаине. Сетовал воевода на её ослушание, на горделивость, обвинял в колдовстве и волхвовании. Но за этой озлобленностью Нестор угадывал тоску о ненайденном человеческом счастье. Нестор понял, что у Вышатича понемногу созревала мысль насильно вернуть в дом свою законную жену с сыном. Должен ведь быть у него наследник, который бы когда-то с гордостью рассказал и о нём, отце высокородном, и о его предках. Выспрашивал у Нестора его мнение на этот счёт.
Будет ли великим грехом, если он примет сына Гаины как своего? Будет ли ему благословенье на это от святых отцов? В мыслях своих он давно плёл паучьи сети, в какие можно было бы заманить Гаину. Тайно даже молился старым богам, желая добыть себе земной рай для души, и откровенно просил об этом же в храмах христианского Бога, чтобы попасть в рай небесный.
Такова уж была его жадная натура — жадная к греховному честолюбию, которое толкало его не на путь мытарства, а на путь фарисейства... «Горе вам, книжники и фарисеи...»
Уже вторую весну Гаина сама засевала Претичеву ниву. Засевала не всю, а лишь ту землю, которая тянулась от избы к берёзовой роще. Больше не хватало сил. Ворочала землю тяжёлым заступом, бороновала граблями. Потом ожидала полнолуния. Вот тогда и начинала сеять. Это был праздник, и Гаина к нему готовилась заблаговременно. Как это делала когда-то её мать. Зерно для посева выставляла на ночь на завалинку, открывала мешки, чтобы три утренних зари-денницы изгнали из зёрнышек болезни и наполнили их силой прорастания.
Повязывала белый платочек на голову, на ноги надевала старые отцовские сапоги — земля по утрам ещё была холодной — и выходила на свою ниву. Через плечо у неё висела сумка, из которой набирала пригоршней зерно и рассевала. Широко переступала по вскопанной земле, чтобы напрасно не затоптать ни единой пяди на ровно заволочённой земле.
Широко, со всего плеча, размахивала рукой, бережливо процеживая сквозь пальцы эти зёрна. А оно выскальзывало из-под них как живое. Рвалось на свободу, чтобы упасть в распушённую жирную землю и потом проклюнуться зелёным стебельком.
С того дня в душу Гаины вселялась тревога. Взойдёт ли? Не редко ли зёрнышки легли в землю? А может, густо?.. Поляжет, сомнётся её житечко, когда будет дозревать.
Каждое утро, проснувшись, бежала смотреть на свою ниву. Не зеленеет ещё, земля ещё не делается изумрудной. И сердце сжималось. Наверное, зерно мёртвым было, не пробудила в нём жизни златокудрая Денница[130], не оплодотворила его.
Печаль шевелилась в душе. Сердце останавливалось, когда представляла, что в лютые морозы в её доме не будет хлеба. И уже не удивляла её голубизна неба, не веселили душу весенние звуки.
Первую зиму Гаина перезимовала с помощью людей. Кто дал кусок сала, кто гречки, кто дерюгу притащил. Нега Короткая даже козу привела. Привязала к яслям, где когда-то стояла корова, и спокойно, будто сама себе, молвила:
— Дитю молочко будет.
На этом молоке пятнистой привередливой козы Брязги и поднялся на ноги Гордятка.
Сердце Гаины оттаивало, когда она с удивлением наблюдала, как настойчиво тянулся встать на ножки её сын, как радостно ковылял к маминым рукам, с каким ясным доверием засматривал в её душу огромными синими очами под тоненькими ниточками бровей, как искренне смеялся, показывая четыре белых зуба... О каждом из них она могла бы рассказать столько интересного, если бы было кому слушать. А о первых словах могла бы сложить песню.
Всё, что было недоброго и злого вокруг неё, что было недоброжелательного и жестокого в мире, отступало в то же мгновенье, как она вспоминала о сыне. Новая сила вливалась в её душу, тёплой волной наполняла сердце. И хотелось тогда делать всем только добро, расточать нежность.
Всё-всё в этом мире было только для них двоих. Кукушка-зегзица села на вербе и только для них накуковала-наворожила столько лет, что и со счета сбилась Гаина. На старой стодоле вымостили себе гнездо буслы-аисты чернохвостые. Вечерами, встречая вечернюю Зарю-Зоряницу, она рассказывала сыну удивительные истории. О золотом Солнце-Яриле, о престарелом добром Свароге, который своим оком-месяцем посматривал на землю, все ли дети спят. О золотокудрых девах Зарницах, которые днём выводят для Солнышка белогривых лошадей на голубой простор неба, а вечером загоняют их во тьму. Так испокон века борются между собою свет дня и тьма ночи — Белобог и Чернобог.
Каждый день открывал для них обоих новые чудеса и миры. Сплетались эти чудеса из слов и песен Гаины. Гордятка слушал, прислушивался к этим речам и с удивлением всматривался в окружающий мир и видел в нём что-то новое, красивое и доброе.
Прилетел воробышек и сел на окошко. Почистил свой носик о раму. И уже целая сказка встаёт перед малышом.
Была у воробышка да жена-молодушка, Сядет на веточку — прядёт на рубашечку. Выведет ниточку — воробью на шапочку. Останутся конны — воробью на штанцы.Это Гаина напевает и прядёт на прялке. Мелькает колесо, извивается ниточка из кудели. Мамины пальцы такие быстрые и гибкие!..
И вот наконец густо зазеленела нива. Веселее стала Гаина поглядывать на свою убогую хижину, прикидывая и мечтая:
— Дозреет наше жито. Сожнём его, в снопы свяжем, обмолотим. Напечём лепёшек с маком. Сторновкой избу перекроем. Видишь, сынок, ветер стреху сорвал? Перегнила солома.
И Гордятка пританцовывает, шевелит губами: «При долине мак, при широкой мак...»
А в голове у Гаины тем временем крутятся невесёлые думы. Когда это она напрядёт пряжи, чтобы полотна на сорочки им обоим наткать? У кого попросить станок, потому что их, Претичев, где-то пропал ещё тогда... Не хотела и вспоминать то лихолетье...
Мысли эти вдруг прервали топот и свист, дошедшие с улицы. Выбежала на крыльцо: летят улицей конники, припав к конским гривам, только плети посвистывают в воздухе. Гордятка приковылял к ней, уцепился ручонками за подол, от удивления палец в рот засунул.
Откуда ни возьмись во двор вбежала Нега. Закричала:
— Половцы! Гайка, удирай! — Схватила на руки малыша и помчалась огородами к спасительному лесу.
А Гаина бросилась на пустырь — там ведь коза их, кормилица Брязга... Ошалело мечется на верёвке вокруг колышка. Сорвётся, сбежит, чем дитя кормить?
— Беги! Бе-ги!.. — кричит Нега и, задыхаясь, мчится к роще.
А там уже и лес, там овраги, чащобы — степняки туда не доберутся. Из соседних дворов и изб туда же спешат спрятаться люди. Кто тянет детишек за руку, кто прижимает их к груди. Некоторые гнали коров и волов. Взвизгивали подсвинки в мешках, кудахтали куры, галдело перепуганное гусиное племя. Ошалело лаяли псы. А на улицах стоял истошный крик пойманных половцами жертв — женщин и девушек. Их тащили за косы, волокли за ноги, связывали сыромятиной и верёвками, привязывали к своим сёдлам.
— Гайка!.. Гайка! — отчаянно вопила Нега, растерянно озираясь и прячась в кустах. — Да брось же всё!.. Да спасайся же!.. Ох, сердце выскочит... Куда же она делась?..
Гайка, торопясь и спотыкаясь, тащила злосчастную Брязгу с пустыря. И надо же быть беде: новая ватага всадников выкатилась из переулка и хлестнула в лицо, будто плетью, вихрем пыли.
Согнулась, прикрыв рукой голову. Но кто-то её толкнул, дёрнул — и она упала. Тут же её поволокли по земле. Кричать не могла. Пыль забивала рот и дыхание. Беспамятство овладело ею. Наконец Гайку поставили на ноги рядом с другими перепуганными женщинами. Это был полон.
Женщины, постепенно осознавая это, начинали кричать и рвать на себе волосы, одежды. Просили милосердия у старых и новых богов. Проклинали эту годину, кляли свой род, кляли князей, наводивших крамолу на землю и не могущих защитить её от половчинов... Рыдания простирались к небу. Но оно не дрогнуло от скорби и печали. Так же ослепительна была его голубизна, как и час назад. Так же плыло по нему солнце и засматривало в хищные очи половчину-степняку и сушило слёзы отчаяния в глазах матерей...
Под вечер всех пленников, женщин и мужчин, согнали в кучу. Руки у всех скручены за спиной. Каждый привязан за шею к натянутой толстой верёвке. Со всех сторон пленники окружены всадниками-половчинами, наготове державшими кнуты в руках...
Погнали...
Тарахтели повозки, нагруженные награбленным добром. Длинная-предлинная вереница их извивалась дорогой, пряталась за холмами, и конца-краю не видно. По обочине дороги тянулись пленники. А далее, где поднимался столб пыли, двигались табуны лошадей, стада коров, овец, волов. Всё это катилось в ордынские степи...
Солнце немилосердно жгло непокрытые головы. Сухой ветер сушил-иссушал очи. Пухнул язык. Резало в глазах. Тяжестью наливались ноги.
Где же она, эта степь половецкая? За Росью? За Тясмином? За Сулой? Быстрее остановиться бы... Упасть бы на землю. Раскинуть руки. А тогда — и умереть…
В опустошённых, разрушенных городах и селениях тёплый весенний ветер печально выл в дымоходах пустых изб, разбрасывал по дворам солому и перья, развевал пепел и прах... Причитали спасшиеся женщины. Жгучую слезу смахивал с глаз оратай, который потерял сыновей и дочерей, коня и домашнюю животину...
...А в Печерской обители сидел над своим пергаменом монах Нестор и тоже проливал святые слёзы над разореньем Русской земли. Проклинал князей-крамольников. Ибо это они — Олег, сын Святослава Черниговского, прозванный Гориславичем, и Борис, сын Вячеслава Ярославича, привели поганых на Переяслав, на Русь, на князя Всеволода, дабы отобрать у него вотчину. «И победили половцы Русь, и многие убиты были... Олег и Борис пришли в Чернигов, думая, что победили, а на самом деле земле Русской великое зло сотворили...»
Спустя много дней за какой-то безымянной рекой пленники заметили странный город. Высокие серые шатровые башни, вежи, полукругом обращённые к полудневному солнцу, смотрели в небо чёрными ямами круглых влазов.
Навстречу орде выехали всадники. В таких же бараньих шкурах на плечах, островерхих кожаных шлемах на головах, как и те, которые вели этот огромный полон. Весёлой ватагой за ними мчала голопузая смуглотелая детвора. Их сопровождала ошалевшая стая псов, похожих на волков. Радостный говор, приветливый лай собак, довольное ржанье лошадей — всё говорило о том, что пленники прибыли на стойбище. Начался осмотр пленников. Их дёргали, пробовали грубыми пальцами мышцы, щупали животы, груди, заглядывали в рот, выстукивали зубы. После чего шеи некоторых пленников были обвязаны узкими красными ленточками.
— Будут ставить клеймо... — бросил кто-то. — Это для ихнего хана отбирают лучших. Для лютого Итларя!..
Хан Итларь... Свирепый хан...
Начали отвязывать людей от длинной верёвки, брали под руки и подводили к костру. Возле него стояли огромного роста детины в серых рубищах, подпоясанные широкими кожаными поясами. Они крепко хватали пленников за волосы, открывали им рты, белозубо щерились, улыбались или злобились — не разобрать, и молниеносным взмахом руки прикладывали к челу своей жертвы раскалённый железный круг, прикреплённый к деревянной ручке, тамгу.
— Хана Итларя раб... Хана Итларя...
Опомнилась Гаина в каком-то полутёмном шатре. Пощупала стенку рукой — сухой войлок. Под нею — войлок. Вверху круглая крыша, а в ней открыто оконце, которое смотрело в голубое небо. Только белое облачко зацепилось за конец этого окошечка да взметнула крылом какая-то птичка. И исчезла.
Догадалась — вежа хана Итларя. Войлочный домик на колёсах. Издали, когда их много, они похожи на серый городок. Стоят эти вежи-шатры на широких повозках, запряжённые в несколько пар волов — в два и в три ряда.
Вот эта вежа — нынче и её дом. Дом хана Итларя лютого... Удушит она себя тут — и весь конец. И что за жизнь такая ей досталась — бросает из огня да в полымя... Только потому, что появилась на свет с синими-пресиними очами, тяжёлыми, как золото купавы, косами да телом белым, как у лебёдушки... Удушится — вот и всё!
Зарыдала Гаина. В отчаянье начала биться головой о стенку... Сыночек-голосочек... Где же он сейчас?
Устала, притихла... Наверное, Нега всё же успела добежать до леса. Жив её сынок! Жив!.. У бабки своей Неги...
Нет, не умереть она должна — выжить! Вернуться к сыну, прижать его к себе... Не заметила, как вошла к ней, пригибаясь, какая-то женщина. По самые глаза платком завязано лицо.
— Болит? — нагнулась над ней.
Гаина молчала. Отвернулась лицом к стенке.
— Повернись, я тебе приложу целебное зелье к плечу. — Женщина присела у края ложа.
Гаина насторожилась. Женщина была в широких ногавицах-шароварах, сверху — серый халат из грубой ткани. А говорит не как половчанка. Тоже, видать, пленница...
Обернулась к ней:
— Кто ты, сестра?
— Русинка я. Когда-то и меня вот этак... в полон взяли. Ещё когда князь Изяслав убег из Альты.
— Что делаешь здесь?
— Всё. Коров дою. Стада гоняю. Но первее всего здесь нужно детей рожать.
— Каких детей? Что говоришь? — испугалась Гаина и приподнялась даже на локте.
— Говорю как есть. Детей ханских. Половецких. Не будешь рожать — клеймо на челе поставят и в степь выгонят. На ветры. На морозы. К челяди. За две зимы и сгинешь.
— А ты? Столько лет — и живёшь.
— Живу... — вздохнула пленница и отвернулась. Развязала узелок, который вытащила из-за пазухи, взяла щепотку травянистой трухи, посыпала на обожжённое плечо Гаины.
— Хан Итларь... злой?
— Увидишь, сестрица, — говорила спокойно, а горячие прозрачные капельки, как горошины, катились из её глаз на Гаинино тело. — Такой и я была когда-то... В свои девятнадцать вёсен...
Гаина пристально присматривалась к её состарившемуся, смятому лицу, к её бесцветным, выплаканным, будто слепым очам, к обвисшим — до живота — грудям, к растянутому огромному животу. Сколько же детей родила она хану Итларю? И знает ли их? Любит?
— А как тебя нарекли? — Гаина опомнилась: нужно же было сразу её об этом спросить.
— Отрадой называли. Да никто тут не кличет меня так. А всё — Ула да Ула. Как хан назвал.
— А я тебя буду звать Отрадой. Чтобы не забыла своего имени. Меня же зови Гайкой. Гаина я.
— Спаси тебя Бог, сестра... Детей своих старших я научила речи своей. Русичи теперь они. Крестила их сызмальства, тайно песни им напевала. Может, когда-нибудь им судьба улыбнётся — свою землю обнимут.
Гаина заплакала. Кто же её Гордятке песни петь будет? Кто добру научит?
Отрада-Ула принесла Гаине козьего молока. Из-за полы халата вытащила кусок свежего овечьего сыра — скрута. Шёпотом сообщила:
— Сыновья мои нынче приехали с пастбища. Мои меньшие — Славята и Борис — стерегут овечьи отары. Пей и выздоравливай скорее.
Становище хана Итларя вскоре откочевало за Тясмин, перешло через Днепр, покатилось за Сулу.
Отрада-Ула сказала: хан боится города Воиня, который в устье Суды построили русичи. В нём сидели крепкие боевые дружины, оттесняющие степняков с украин земли Русской. Вместе с городом Торческом, где жили берендеи и торки, Воинь был верным стражем земли Русской.
Наконец вежи хана Итларя остановились. Снова стали полукругом к югу. Посредине — самая большая белая вежа — дом хана Итларя. Рядом с ним — вежи его жён и наложниц.
Вежи наложниц должны были стоять на расстоянии полёта камня — слева. Справа ставили свои вежи жены. За ними — старшие сыновья хана, их жёны и наложницы. А уж потом: стражники, батыры, челядь, конюхи...
Вечером, когда все устроили как должно свои жилища, Отрада-Ула сказала Гаине:
— Итларь кличет тебя к себе.
Гаина передёрнулась, губы её задрожали, глаза вспыхнули зеленоватым недобрым огнём.
— Никуда не денешься, сестрица... Будь с ним ласкова...
Белая вежа хана Итларя напоминала уютную чистую избу.
Посредине, на серых бараньих шкурах, выстеленных на полу, стоял большой золотой подсвечник. В нём горела одна толстая сальная свеча. Но этого света хватало, чтобы осветить подвижное смуглое лицо ещё не старого на вид половчанина, который с нахальным любопытством в раскосых узких глазах осматривал Гаину. Ощупывал взглядом её шею, бёдра, живот. Его сильное, едва прикрытое на плечах бараньей шкурой тело бугрилось твёрдыми узлами мышц. На голове чёрные лоснящиеся волосы заплетены в косицу. Ноги Итларя обуты в широкие, из тонкой кожи ногавицы.
Гаина не могла понять, красиво ли было его лицо. Оно казалось ей каким-то загадочным. Что-то таило в себе — отвагу ль, усталость, мужество или всё это вместе взятое, что делало хана Итларя привлекательным и совсем не гадким, как она этого ожидала, наблюдая обыкновенных грязных пастухов-половчинов в становище.
Итларь показал ей рукой рядом с собой. Мол, садись возле меня. Но Гаина решительно сделала к нему шаг, удивлённо развела руки в стороны, улыбнулась — ей совершенно не показался этот Итларь страшным.
Итларь поднялся на ноги, тоже заулыбался, в свою очередь удивляясь, почему этой красивой пленнице стало так весело у него. Почему она радуется встрече с ним, а не убегает, не рыдает, как это делали все другие. Не понимал он, что этой усмешкой Гаина из своей занемевшей души изгоняла страх, отчаянно стараясь вселить в себя отвагу. Гаина стала смотреть на хана вызывающе и остро, он с удивлением отметил, как красиво прищурились её глаза, будто прицеливались, как щёки, открытая грудь, шея вдруг порозовели от напряжения.
Гаина всё же опустилась рядом с ханом. Она была растеряна и придавлена и не знала, что сказать. Итларь коснулся её плеча, своей шершавой грубой рукой снял с него тонкую прозрачную шаль, которую Отрада-Ула накинула на неё. Глаза хана хищно сверкали. От Гаины пахло удивительным запахом трав. Приблизил к ней своё лицо, ноздри его вздрогнули...
В то же мгновенье Гаина вскочила на ноги.
— Итларь! Ты храбрый и отважный с пленницами. А ты возьми меня на воле! С коня! Догони и возьми, как батыр, а не как ленивый кот.
Гаина вызывающе глядела на него сверху вниз, искривив рот в презрительной усмешке.
Пресыщенная душа хана вдруг встрепенулась от такого уничижения белотелой невольницей. У половцев-кипчаков котов не водится! Они не сидят на одном месте и мышей не заводят. Это русичи обзаводятся ленивыми сытыми котами, ибо всю жизнь сидят на одном месте и роются в земле. Половцы — народ-воитель. В седле половчанин и ест, и спит. Русинка хочет видеть, каков он? Будет так.
— Еки ат акел![131] — крикнул Итларь за полог вежи. — Еки ат акел!
Два ошалелых всадника неистово летели степью, под сиянием полного месяца, под ясными звёздами. То сходились, то стремительно разлетались в разные стороны их дикие жеребцы-актазамы...
За плечами всадницы развевалась прозрачно-дымчатая золотистая шаль. Косы её расплелись и золотой волной рассыпались по спине. Как только второй всадник подскакивал к ней и хватал её лошадь за гриву или протягивал руку, чтобы за шею притянуть её к себе, она стремглав соскальзывала вниз, под живот лошади, держась ногами и руками за круп, и в следующее мгновенье взлетала в седло, становилась на колени, и неистовый галоп продолжался...
Наконец оба всадника стремглав влетели в тёмную реку. Лошади с разгону плюхнулись в волны и начали фыркать. Конь Тайны стал как вкопанный, жадно глотая воду. «Быстрее! Быстрее!..» Течение снесло их в сторону, вытянуло на середину реки, где кружила чёрная струя водоворота. Каждый всадник теперь уже боролся с шальным течением, спасая свою жизнь...
Наконец, мокрые, предельно уставшие, поостывшие от невидимой погони, выплыли на другой берег.
Итларь тихо ввёл своего коня в воду и поплыл назад, на свой берег.
Знал он, коварный: некуда деваться в этой степи непокорной рабыне, всё равно придёт к нему с повинной.
Конь Таины споткнулся, упал на землю. Тяжело дышал. Умирал. Разгорячённый бегом, напился воды!..
«Конь мой милый! Сжалься надо мной!..» Таина припала к его ещё горячей шее, гладила влажные, уже раздутые бока... морду...
Будто в ответ на её ласку, он, напрягая последние силы, заржал. Тяжело положил голову на землю и в последний раз вздохнул. Таина заплакала.
...Небо потемнело, потухли ночные звёзды. Вокруг глухая темень. Лишь всплески волн в камышах да испуганное перешёптывание аира напоминало о ночном дыхании земли. Нужно было что-то делать, куда-то идти. Не знала Гайка — куда. Одно лишь осознавала: всюду, куда ни направит свой бег, на неё уже расставлены сети хана Итларя. Возможно, её уже подстерегают в этих камышах. Возможно, где-то перешли реку в отдалении и высматривают, куда подастся она. А что будет потом? Знала, хотя и не желала знать. Знала, что, когда она сама возвратится в вежи, будет жестоко унижена, но будет жить! А зачем ей жизнь, коль душа и тело её в неволе вечной? Она хотела воли. Добиться воли любой ценой! Слепое безумие сердца дало ей в эту ночь испить мимолётной победы. И этого чувства она не могла и не стремилась погасить в себе. Верила в свою судьбу. В свою счастливую звезду. Она ведь убежала от хана!.. Вырвалась из его рук... Теперь лишь не останавливаться... Бежать... бежать дальше и обрести волю!
Измученное усталостью тело её отдохнуло.
Крадучись спустилась к Суле. Ей показалось, что в этом пустом, налитом чёрным мраком мире кто-то мог услышать стук её сердца.
Гаина ступила ногой в воду. Содрогнулась от холодной ночной реки. Но если лечь ей на волны, то можно к утру добраться к устью Суды. А там стоит град Воинь. Так сказывала Отрада-Ула.
Воинь защитит её. Воины-русичи и торки, живущие там, помогут ей добраться к земле Киевской, домой... Она увидит своего Гордятку...
Отчаянная отвага вселилась в неё, сообщая ясность мысли, чёткость движениям. Она тихо плеснулась в волны реки. Все стало возможным теперь для Гайки! Только не нужно думать о ледяной воде, только пристально всматриваться вперёд и грести... грести руками вперёд... Ко граду Воиню!..
Уже небо пылало на небосводе ярко-розовым пламенем, когда она выбралась на берег. Наломала камышей, перевязала этот сноп жгутом из лепёхи. Получился плотик. Легла на него, подгребая тихо рукой. Плыть стало легче.
Перед глазами мерцали мелкие тёмно-сизые волны с розовыми гребешками. Над Сулой поднималось солнце. Утреннее дыхание ветра согнало с плёса реки подвижные клочья тумана, которые ещё кое-где дымились меж камышами и ивами. От этого сверкания волн у неё в глазах начали расплываться радужные круги...
Снова выходила на берег. Измождённая, посиневшая, усталая, она дрожала, не попадая зуб на зуб. Грелась на солнышке. И вновь на своём камышовом плотике плыла вперёд, по течению, в синеву неба, в простор белого дня — к воле, ко граду Вошло...
Но в какое-то мгновенье почувствовала в груди неясную тревогу. Ей показалось, что вдоль берега слишком подозрительно шумит камыш. Прищурила глаза, вглядываясь в даль. Да, там стояли всадники. Выжидали, пока она подплывёт поближе. Наверняка всё время шли за нею, не выпуская из виду весь день, пока река не забрала у неё всех сил и ничего, кроме грёзы о воле, не оставила ей...
Не видела, а почувствовала на себе пронзительные взгляды молчаливых всадников, которые уже спускались к воде. Не глядела, а уже знала, что они плотной цепочкой перегородили реку.
Течение Сулы здесь было стремительным. Начало её заносить на водовороте жак щепку и нести прямо на молчаливых, сосредоточенных, цепких врагов...
...Поздно вечером она опомнилась в знакомой веже. Отрада-Ула оттирала её тело бараньим жиром с какими-то травами. На ноги и на переносицу накладывала горячие мешочки с напаренной травой. Что-то бормотала себе под нос, вытирая слёзы, кому-то посылала проклятья и непрестанно вздыхала.
— Ты что? — опомнившись, спросила Таина.
— Половчанин тот проклятый истязает тебя, сестра...
Таина с удивлением почувствовала, что это её не волнует.
Какое-то время бессмысленно смотрела сквозь отброшенную запону влаза, наблюдала, как гаснет синева неба и несмело мерцают молодые звёзды. Потом она снова провалилась в небытие...
Если жена-рабыня не желает рожать детей, она должна подохнуть от работы. Таков был закон в вежах хана Итларя. Русская пленница насмеялась над ханом. Русская златокосая пленница жаждала лучше умереть от голода или от холода. Конечно, её можно сейчас же отправить в отдалённые стойбища. Там работы много. Только торопиться хану Итларю с этим не приходится. Разве молвят теперь о нём доброе слово, если он не смог стать мужем белой полонянки хотя бы на одну ночь?!
Можно было бы отдать её другим. Но уважения ему от этого не прибавилось бы. Ему нужно было, чтобы эта гордячка теперь в унижении ползала перед ним на коленях...
Как-то просочилось от пленников-васильковцев, что Таина — не просто привлекательна, что она боярыня, жена знаменитого Яна Вышатича, которого половецкая степь знала и уважала.
Это ещё больше растравляло душу хана Итларя. Боярыня эта должна целовать его стопы... А потом — это уж его дело...
Хан нетерпеливо выжидал выздоровления Гаины. Приходил в её вежу, садился на краешек войлочного ложа, молча смотрел на неё. Гаина уже несколько дней горела в огне. Украдкой, когда Отрада-Ула исчезала за порогом, он шершавой ладонью гладил её плечо, руку, отброшенную на подушку, заплетённую золотистую косу. И чем больше уплывало дней, тем отчётливее в его душе оживал страх, что боярыня не выздоровеет, что её запёкшиеся уста никогда не произнесут его имени. Скуластое смуглое лицо становилось мертвенно-бледным от этих затаённых мыслей. Боярыня-пленница всё глубже входила в его душу...
Первое, что увидела Гаина, придя в сознание, были тоскливые глаза хана Итларя, широко расставленные на лице со стрельчатыми чёрными бровями. Она отвела взгляд в сторону, подумала, что это снова встали перед ней видения бреда, и тихо позвала:
— Отрада... Ула-а...
— Нет её, — ответил Итларь. — Я её отослал.
Гаина убедилась, что это уже был не бред.
Молча смотрела на него огромными глазами. Всё же это не было видение, она не потеряла сознание.
Вот он протянул к ней руку, легонько погладил плечо. Она даже не вздрогнула.
Итларь заговорил. Быстро, запальчиво, умоляюще. Будто боялся, что не успеет высказать ей своих так долго сдерживаемых слов. Он говорил, как долго не мог понять, что с ним происходит. И никто из его рода не мог объяснить ему, что это такое, когда всё время думается только о ней. Он властитель степей и ветров и неисчислимых богатств половецкой орды, которая привыкла жить вольно и бездумно!.. И вот он твёрдо решил, что Гаина также станет, как и он, вольной и богатой. И сделает её самой первой ханум — женой по-русски. Когда захочет — примет у себя русских святых отцов, которые несут свою веру в половецкие вежи. Как сие уже сделал по совету Яна Вышатича могучий хан Осень. Хан Итларь станет тогда братом киевских великих князей, их опорой в Степи, как когда-то чёрные клобуки, берендеи и торки стали опорой князя Владимира...
Итларь хотел сказать ей о том, как он ожидал её выздоровления и как счастлив теперь, видя, что она пришла в себя. Что он тайком молился своим кумирам и огню и тайно просил за неё у бога русичей.
Но этого хан не успел ей сказать — слишком равнодушно глядели на него утомлённые глаза Гаины.
Вдруг из-за полога послышалось всхлипывание и голос Отрады:
— Сестра... Соглашайся! Благослови тебя Бог!.. Может, нам всем здесь будет облегчение. Детям нашим...
Гаина поднялась на локте. Отрада быстро спряталась за полог. Итларь ждал ответа.
— Не верю я этим обещаниям. Всё это — ложь... Сети, чтоб охолопить душу мою... Брехня всё! — тихо, но твёрдо вымолвила она.
Хан Итларь зловеще сверкнул глазами. Может, она угадала, что эти сети сплёл он для неё, чтобы усыпить её волю. Но вышло так, что и сам в них попался... Он говорил искренне... Почему она не верит ему? Не верит хану Итларю?..
Он бурей вылетел из вежи...
Через два дня Гаину сонной схватили несколько крепких рук. Завернули, как куклу, в серый войлок и куда-то понесли. Вскоре бросили на какой-то пол, развернули. И вдруг над её зрачками повис раскалённый на огне железный кружок. Тамга хана Итларя! На нём шипела налипшая кожа с её чела, куда половчанин только что приложил раскалённое до розового цвета железо. Теперь на лбу у неё был розовый знак хана Итларя — пронзённый насквозь стрелой круг месяца.
И снова стало темно в глазах... Потом пришёл день. И снова ко всему безучастность. Не волновало солнце, ветер. Запах полынной степи. Куда-то исчезло желание свободы. Даже безысходность не обжигала тоской душу...
Много дней и ночей её везли на повозке в далёкие стойбища. Молча склонялась над ней Отрада-Ула, что-то шептала, вздыхала...
Далёкие, неведомые степи. Для Отрады-Улы они были более близкими — где-то здесь, в Засулье, её Славята и Борис гоняют Итларевы табуны, отыскивают места для новых стойбищ, следят за доением коров, овец, коз, за тем, чтобы вовремя отвозился свежий скрут к ханским вежам. Отрада-Ула с нетерпением всматривалась вдаль. Она же первой и заметила вежи далёкого кочевья.
— Сыночки мои, соколики мои! Хотя бы умереть возле вас!.. Хотя бы в глаза заглянуть!
Гаина встрепенулась от тех причитаний. Слова Отрады напомнили ей о её сыночке, о Гордятке. Разве она забыла, что он её ждёт?! Нет, не забыла. Уже сколько раз в своей краткой жизни тело Гайки попадало в лапы Мораны-смерти. Но душа её оставалась живой, спасая её саму. Наверное, и в самом деле матерь её старая накудесничала своей дочери-красавице долгий век, а может, и бессмертие. Когда она выжила после холодных объятий Сулы, после испепеляющей огневицы, после Итларевой «милости» — то наверняка будет жить... Верь в сие, Гайка, верь! Без этой веры тебе не пройти отмеренного для тебя нелёгкого пути...
И она снова поверила. В глаза Гаины вошла жизнь. Она уже знала, что не может обмануть своего Гордятку, что должна к нему возвратиться. Рано или поздно. Она не боится работы. Лютое солнце половецкое не испепелит её надежд. Ветры не развеют желаний. Зимние морозы не остудят тело. Да разве есть такая сила, которая могла бы сломить душу и любовь русской матери?
Навстречу прибывшим мчали всадники. Багряно-золотистые гривы половецких жеребцов развевались на ветру. Чёрные, пучеглазые, диковатые, как степь полыновая, тарпаны[132] таращились на повозки, прибывшие из стойбища грозного хана.
Отрада-Ула первой соскочила на землю, распростерши руки как птица, побежала навстречу всадникам. Отрада мчалась, летела, будто соколица к своим сыновьям-соколикам...
— Мама... мама... — Славята и Борис наклонились с седел с двух сторон к Отраде.
С головы её сполз чёрный платок, седая коса ужом вилась по спине, а она, растерянная и счастливая, обнимала то одного, то другого. Обнимала сыновей...
— Славята, Бориска... К вам мы приехали... Теперь буду с вами. Итларь прогнал меня... И Гаину прогнал... Не захотела быть ему женой. Ну что ж, может, так и лучше... Будем доить стадо... Будем скрут отжимать... Все будем делать...
Сыновья Отрады спрыгнули на землю. Пошли навстречу Гаине. Она медленно приближалась к ним, осматривая крутолобых чад Отрады. Смуглолицые, скуластенькие, с блестящими, чёрными, как воронье крыло, волосами, с усами, они приветливо блеснули ей белозубой улыбкой, по очереди протянули ей свои твёрдые ладони... Уверенные, крепкие руки у парней Отрады. Чистые, нелукавые взгляды их густо-синих материнских очей.
— Мы тебя не дадим в обиду, Гайка, — искренне пробасил Славята, старший из сыновей. Борис одобрительно кивнул головой.
Глаза Гаины затуманились слезами, губы дрогнули в улыбке.
— А отсюда... далеко до Руси?
Славята и Борис переглянулись. Задержали взгляд на её клейме.
— Не ведаем... Не ходили...
Гаина перевела взгляд, посмотрела куда-то вверх. Когда ей становилось мучительно больно, она всегда глядела на небо. Там была не затуманенная грехами чистая и непостижимая вечность. Сравнительно с нею — что стоили мелкие суетные желания человека?
От этих слов Гаины о родине в сердца юношей запала щемящая тоска по никогда не виденной ими родной земле, о которой всю жизнь убивается их матушка и любовь к которой песнями своими и речью своей вселила в их чистые души... Наверное, и в самом деле неизъяснима сила этой земли и стоит она таких высоких слёз гордой, непреклонной женщины, принявшей поругание над своей красотой, но не отступившей от любви к отчему краю...
Какова же она, Русская земля?
— Гайка, а ты Киев златоглавый видела? — не выдержал Славята.
— Я жила там...
— А башни там есть? Вот такие, до неба? С золотыми верхами?
— Всё там есть, Славята. Золото, слава, надежды, позор. Только... счастия нет...
Наконец князь Всеволод отважился выехать за вал Переяслава. Стояли прозрачные дни раннего осеннего месяца вереса. На холмах, над озерками застыли дубравы и рощи, тронутые багрянцем и золотом осени. Чистая синева неба холодно отражалась в прудах, озёрах и тихих речках. Не шелестели камыши, не отзывалась шуршащая лепёха. Какая-то настороженная тишина упала на землю, заставляя напрягать зрение и к чему-то прислушиваться.
В бездонном небе вдруг раздалось тоскливое курлыканье. Потянулся в тёплые края клин журавлей. За ним ещё один... Ещё...
Начался ирий[133]...
Из-под конских копыт выпорхнула стая сытых перепелов. Испуганно вскрикнув, она рассыпалась в сухой траве, исчезла. Над прудом зарябила-залопотала крыльями туча отяжелевшей кряквы. Вот здесь бы и поставить перевесы — вся стая попала бы в руки охотников.
Всеволод объехал пруд. За ним, в отдалении, ехал его верный стражник Нерадец. Он остро присматривался к князю, стараясь угадать его желания и тут же выполнить. Князь улыбался в седой ус: находясь в полном одиночестве, приятно было ощутить свою силу и власть.
Это одиночество особенно одолело его тогда, когда братец Изяслав воссел на киевском столе, а киевляне отказались от своего слова. Но, правда, потом они горько раскаивались за содеянное. Сын Изяслава — Мстислав и на этот раз много посёк буйных голов киевлян. А Всеволод тем временем вновь оказался в своей вотчине, на окраине земли Русской. На Переяславщине.
Всеволод крепко стиснул зубы, отчего его короткая рыжая бородка воинственно оттопырилась вперёд. Ничего, он подождёт. Он верит в свою судьбу, а может, в шапку Мономаха или в заверения митрополита Иоанна...
Возможно, именно сейчас приближается его время. Никто не ведает этого. Но в степи, по обоим берегам Днепра, за Сулой и за Тясмином, вновь зашевелились половецкие вежи. Хан Итларь, хан Кытан, хан Девгеневич идут на помощь Олегу Гориславичу к Чернигову и к Борису Смоленскому, оба они поднялись на этот раз уже против Изяслава. Сии сыновцы[134] с помощью половецких орд желают теперь испытать счастье-судьбу в борьбе со старым Изяславом. Что ж, они также имеют какое-то право на киевский стол, право меча, каким батюшка Олега Святослав отбил себе Киев от старшего брата.
Митрополит Иоанн передаёт через своего монаха-посланца: иди, князь Всеволод, и ты со своей ратью на Киев. Олег и Борис с половцами потреплют дружину Изяслава, а ты легко его добьёшь и сядешь на место брата своего, с помощью Бога и с благословенья его, митрополита.
Всеволод теперь размышлял: если половцы идут на помощь Олегу и Борису, этим разбойникам, то как же ордам обойти Переяславщину? Пройдут они со своими кибитками и табунами через переяславские грады и сёла, через нивы, заберут в полон снова людей... А без людей, без их силы — он ничто. Будет нищенствовать, выпрашивать хлеб и меч у брата своего Изяслава...
Что-то не всё продумал отец Иоанн. Возможно, что-то иное в думах у него? Может, желает расправиться половецкими саблями и с Изяславом, и с ним одновременно? Самому воссесть или кого-то возвести из послушных, жадных к славе и почестям на престол? Но тогда поднимутся все Ярославовы внуки. А их — не перечесть. У одного покойного Святослава — пятеро сыновей, у Изяслава — трое, у него — двое... да ещё у других братьев Ярославичей — Вячеслава, Игоря, Владимира... Раздерут землю Русскую в клочья. Тогда кто захочет, тот и возьмёт её всю: византийский ли император Никифор Вотаниат, патриарх или кто другой. Возможно, это гречины-ромеи сейчас направляют половецкие орды на Русь. Империи ведь легче дышать, когда её сильные соседи гибнут в распрях...
Такая мысль всё больше овладевала Всеволодом. И он начал верить в её правдоподобность.
В самом деле, зачем киевскому митрополиту иметь под боком сильного и устойчивого князя — Изяслава или его, Всеволода? Тогда могущество Руси будет большим, а это — опасность для ромейской Византии, которую раздирают мятежи императорских родов.
Всеволод принял решение: не пойдёт он на Киев, не пойдёт против Изяслава. Ему нужно вместе с ним стать против половцев. И против своевольных племянников-сыновцев.
— Нерадец! — изо всей силы крикнул своему гридю. — Вели позвать из Смоленщины князя Владимира — скажи: пусть свою рать собирает.
Ну а меньший сын — Ростислав пойдёт к половецким ханам. Понесёт дары от русичей. Богатые дары. Этим немного усмирит их. Он же со старшим сыном — с Владимиром тогда пойдёт на помощь к Изяславу против крамольных племянников и их союзников — половцев.
Не хотелось Всеволоду склоняться перед Изяславом. Но — обещал ведь тогда, на Волыни, на кресте обещал жить по заповедям отца Ярослава и по закону земли Русской и помочь ему, коль нужно будет. Обещания дал и монахам печерским, и той колдунье белой... той волынской зеленице... Что бы сказала ему ныне?
Наверное, сказала бы: «Хорошо делаешь, князь, идя ко брату старшому на помощь. Добром тебе и воздастся».
Зато его княгиня взволнована. Неусыпно ведёт переговоры с Иоанновыми послами, косит чёрным оком на князя... Следит, вынюхивает. Хочет стать великой княгиней — прямо дрожит от нетерпения.
Князь киевский Изяслав был поражён, увидев Всеволода у себя в гриднице. Перепугался так, что хотел тут же скрыться. Но скрыться было некуда — Всеволод направлялся к нему широким шагом и распростёр руки для объятий. Изяслав отступил к стенке...
— Брат, пришёл на помощь тебе. Бери мою дружину и дружину сына моего Владимира. Олегу и Борису нужно руки потяти. Сами идут и половцев на нас насылают! С благословения митрополита!
— Иоанна? — засуетился Изяслав. — Я и не подумал. А ты?..
— Верь моему слову, Изяслав. На Волыни тебе клялся крестом...
— Тяжело поверить тебе. Дважды ведь изгонял меня из Киева — вместе со Святославом, царство ему небесное. Двор мой разграбили... Но... — вздохнул, вытер рукавом слёзы. — Может, и с добром пришёл. — Голос у Изяслава неуверенный, плаксивый, будто спрашивает, а не утверждает.
Всеволод отвернулся, подумал с горечью: «Прост ты умом, братец Изяслав. Слишком уж прост. Державцу нужно было бы побольше хитрости и изворотливости ума!»...
Удивительно было киевлянам, а ещё больше митрополиту Иоанну узнать, что братья-соперники мирно встретились в княжеских палатах, мирно беседовали и вместе двинулись на мятежный Чернигов, на Олега Гориславича с Борисом. Сотканные сети крамолы, расставленные Иоанном, вдруг были разорваны дерзким смирением Всеволода.
Митрополит дрожал от злости, проклинал Печерскую обитель. Оттуда, оттуда шла непокорность князей митрополиту византийскому. Оттуда невидимая рука успокаивала мятежи и распри меж князьями, становилась преградой византийскому владычеству на Руси... Тайно на всякий случай Иоанн приказал челяди готовить ладьи ко Царьгороду и грузить их митрополичьим добром. Если князья вдвоём доберутся до него — не сносить ему головы. «Горе тебе, Вавилон и Ассия, горе тебе, Египет и Сирия!» С первой же вестью о победе князей он должен будет покинуть Киев... Но вести опаздывали... Всеволод молчал о послах митрополита к нему. Выжидал. Прислушивался. Ко всему присматривался.
...Древний град Чернигов никогда ещё не видел у своих валов такого множества ратей княжеских. Пришёл Изяслав с меньшим сыном Ярополком, пришёл переяславский князь Всеволод со старшим сыном Владимиром. Обложили город. Владимирова дружина сломала врата великого вала от реки Стрижени, ворвалась в предместье, подожгла хижины смердов и ремесленников черниговского посада. Люди спрятались за стены каменного детинца[135] и замкнулись.
Олег Гориславич и Борис ходили в Новгород-Северскую землю. Возвращались назад, отягчённые данью. Везли огромные бочки с мёдом, мешки с зерном, воском, солёной и вяленой рыбой деснянской, овечьими и воловьими шкурами, мехом белок, лисиц, соболей, куниц.
Издали увидели под Черниговом полки. Бросились назад, к бору, но их заметили. Изяслав и Всеволод развернули против них свои рати. Пришлось на ходу принимать бой.
Возле небольшого поселения Орачи, на Нежатиной ниве, выстроились один против другого ряды княжеских дружин. Просвистели стрелы над нивой. Упали на чьи-то головы. Кто-то охнул. Кто-то упал. Чья-то стрела пронзила сердце буйного Бориса Вячеславовича...
Олег оглядывался — куда отступать? Но ратники его дядей ощетинились копьями и рогатинами — и шли прямо на него.
Всеволод шёл по правую руку, Изяслав — по левую. Гориславич заметался в этой ловушке. Десятки стрел целились в его сердце, в грудь, в очи... Десятки копий готовы были метнуться в его живот и в спину. Он закричал. Бросил на землю меч. И побежал назад...
Изяслав остановился. Хватит... Хватит крови. Поскакал к Всеволоду.
— Брат, остановись! Видишь? Бориса уже наказал Бог... И Олег убежал.
И в это мгновенье чьё-то тяжёлое копьё, пущенное сильной рукой, разорвало железную сетку кольчуги на спине Изяслава и впилось князю в спину. Под лопатку... Наверное, острый булатный наконечник коснулся сердца — оно вдруг остановилось.
Изяслав удивлённо успел ещё оглянуться, вытаращил глаза на Всеволода.
— Брат... молвил ведь... на помощь пришёл...
Всеволод растерянно смотрел, как сползает с седла Изяслав. Как пальцы на его руках сводит судорога...
А мимо них проносились дружинники и пешие ратники — Олегова дружина бежала к лесу.
Возле Всеволода остановился Нерадец. Соскочил с седла, приблизился к Изяславу, который лежал с копьём в спине у ног своего коня. Резким движением руки вытащил копьё из княжьего тела, отбросил прочь. Перевернул Изяслава на спину. Из раны на траву брызнул тёплый ручеёк крови...
Всеволод спрыгнул на землю, взял за узду Изяславого коня. Крепко зажал в руке. Почувствовал, что вместе с этой уздой к нему перешла власть на земле Русской. Однако нужно было думать о другом.
— Нерадец, беги-ка в село... — взволнованно вытирал вспотевшее лицо Всеволод. — Возьми ладью для покойника... Князь Изяслав... мой брат... в стольный свой Киев поплывёт водой... по Десне... А там, по обычаю, переложим в сани...
К полудню рать Всеволода двинулась сушей на Киев. А сам Всеволод и его воеводы пошли к Десне. Туда понесли на досках тело князя Изяслава. На ладье уже лежало сено и тонкие сосновые ветви, покрытые веретьем.
Киевский князь Изяслав, старший сын Ярослава Мудрого, в последний раз осматривал берега своей земли. Как будто удивлялся чему-то, высоко подняв вверх рыжеватую бровь. Ветер ворошил его тёмные волосы с проседью. Ветер ласкал его лицо и руки, которые так долго — больше тридцати лет — неуверенно правили Русью и столько бед принесли ей...
Всеволод не глядел на неподвижное лицо брата. Один раз ему показалось, когда он украдкой посмотрел на него, что Изяслав из-под век пристально следит за ним.
— Нерадец, закрой ему плотнее веки...
Нерадец свёл вместе остывшие веки Изяславовых глаз, но задубевшая кожа не поддавалась, синяя щель между ними увеличилась. Тогда Нерадец накрыл лицо мёртвого белой дерюгой, а сверху положил сосновые ветки...
Добрая людская память — самая большая слава достойному человеку. Так молвил Нестору новый печерский игумен великий Никон. И ещё сказал:
— За брата своего погиб Изяслав. За Всеволода...
Нестор понял — так нужно записать в пергамене. Бог так пожелал, дабы Всеволод стал киевским князем. И черноризцы печерские должны теперь поддерживать последнего Ярославина как законного князя всей Русской земли. Таково желание Всевышнего, ибо, коль было бы не так, никогда Всеволод не возвратился бы на киевский стол. Никогда бы ему не одолеть своих молодых соперников — Олега и Бориса. И не остановить половцев, которые было двинулись на Русь.
Размышлял Нестор в своей келии над тем, как хитростно сплетаются желания княжеские и богоугодные деяния их!
Как бы там ни было — Всеволод дождался своего часа. Дождался, пока не умер загадочной смертью отважный своевольник Святослав Черниговский; дождался, пока так же загадочно не погиб на Нежатиной ниве простоватый князь Изяслав. Но, возможно, что это Всеволод с помощью Бога и митрополита обоим помог уйти в мир иной. Об этом уже никто не дознается...
В конце концов, князь Изяслав, хотя и много лет был у власти, ничего не приобрёл — ни славы, ни богатства. Жил лишь приобретеньями отца своего Ярослава Мудрого. Да и то, что имел, промотал в чужих землях. Киевляне дважды изгоняли его из города, и во дни смут и мятежей он искал помощи у иностранцев, опираясь на их мечи. Последний только раз благодаря Яну Вышатичу отважился к своим чужестранным ратям присоединить дружины малых волынских князей. Всю жизнь душа Изяслава блуждала в сумерках и холуйствовала перед чужаками.
Дивился Нестор. И такой никчёмный человек около трёх десятилетий держал в руках державное кормило! Удивительная сила власти: как бы ни был ничтожен человек, окажись он наверху, вокруг него непременно создаётся золотой нимб законности. И даже если у него нет ни силы, ни достаточно ума, дабы руководить державой, никогда по доброй воле не откажется от этого. Наоборот: мечом, копьём, наветами — будет бороться, грызться, убивать, дабы удержаться наверху, даже зная, что к добру его это не приведёт...
Братья-князья интриговали, бились и тому же учили сыновей своих. Да ещё половцев начали втягивать в межусобицу. Что же будет дальше?
Будет ли тихо сидеть в Тмутаракани сбежавший туда Олег Гориславич? А сыновья Изяслава — Святополк, который в Новгороде, и Ярополк, осевший в Волыни... Но и Всеволодовичи в стороне не останутся, если что, Владимир и Ростислав...
Всё теперь будет зависеть от того, как новый князь приструнит своенравных родственников. Может, потому великий Никон и советует не бросать тень на князя Всеволода. Освящать, только освящать власть великого князя, каким бы он ни был. Яко святыню, беречь этим единодержавие его и единство Руси. Много ведь хищных и завистливых рук тянется ныне к престолу киевскому — вмиг разорвут в клочья Русь...
Пусть будет Всеволод. Последний Ярославич. Книжник и мудрец. Пусть лучше будет он один.
Нестор не должен охаивать и Изяслава. Читающий сам поймёт, коль в слово его вникнет, сущность Изяслава, простого и недалёкого князя. Ещё напишет о смерти его: «Сие погиб не от брата, но за брата своего положил голову...» Конечно же, если так случилось, то так было угодно Богу, значит, Изяслав сложил свою голову для того, чтобы его брат заступил его место на киевском столе. И ещё в назидание князьям и князькам скажет Нестор об Изяславе: «Незлобив был норовом, кривого ненавидел, любил правду. Не было в нём льсты, но прост муж умом, не воздавал зла за зло».
Летописец ещё расскажет, как хоронили киевляне Изяслава, забыв то зло, которое он дважды причинил им: когда возвращался из изгнания и сын его Мстислав жестоко посёк головы киевлян за ослушание. Но теперь киевляне плакали... все рыдали... все, кроме Всеволода...
О Всеволоде нужно пока помолчать. Промолчать и о тех перешёптываниях за спиной младшего Ярославича, о тех косых взглядах на него и на его княгиню-грекиню... И о том, как сторонились его люди при встрече или отводили взгляд...
Вскоре великий Никон позвал Нестора:
— Добрый слог имеешь, Нестор. И слово Божье ведаешь. И таинство письма постиг. Вот прочёл я твоё житие Бориса и Глеба. Складно сотворил! Великое сие дело для нас, для проповеди князьям. Дабы их надоумить и от крамол отучить. Как там у тебя? «Не забывайте отечества, где прожили земную жизнь, никогда не оставляйте его... И в молитвах всегда молитесь за нас...»
Нестор насторожился. Скуп на похвалу Никон, но почему так рассыпает ему лестные слова? Что-то замыслил. Внимательно смотрел в серые глаза игумену.
Владыка сидел в своём кресле, обшитом пурпурного цвета тонкой кожей. Лицом повернулся к иконе Богородицы. Могучий, с пышной бородой старец — как дуб-великан среди широкого поля. Казалось, нет ему века...
— Позвал тебя для другого... — будто уловил игумен мысли Нестора, — Хощю, дабы ты мою волю уважил...
— Не знаю, о чём молвишь, владыка. — Нестор смиренно склонил голову на грудь.
— Услышишь. Отдай свой пергамен брату Ивану. Он смысленый есть в писании о князьях. В Новогороде переписал Остромирово летописание. И тут сможет. А тебе — другое хощю дать, другую работу. Старанием нашей обители на Руси уже появились русские апостолы — Борис и Глеб. Но есть у нас и иные достойные поклонения. Ты ведь знал благоверного отца нашего Феодосия. Великие труды вложил наш первый владыка, дабы Печерский монастырь стал первым на Руси, дабы он крепил её своим словом. Святое дело сотворил Феодосий. И должно его достойно почтить. Тебе по силам сие — написать житие отца Феодосия Печерского. А я буду просить князя Всеволода, аще он дал бы своё согласие вписать имя Феодосия в синодик[136]. Благословляю тебя на труд сей великий, Нестор. Аминь.
— Возвеличил меня напрасно. Недостоин я, грубый и неразумный. К тому же не был учен никожды сей хитрости — писать о земном, яко о святом. Иное дело — пергамен...
Грешил Нестор словами, ох как грешил перед владыкой своим! Но как же ему снова отдавать свой пергамен кому-то? Не сможет того, сердцем врос в него...
Никон Великий был по-настоящему велик.
— Пергамен, брат, есть дело державное. Должен служить князю и его самовластью. А ты забываешь сие иногда. Не воспеваешь князя, а порицаешь. Кто же возвеличит такого волостеля? Кто склонит пред ним главу? А без почитания — нет власти... Пиши-ка лучше про Феодосия. Ты ведь любил его. Ведаю про сие. Только сердца своего не жалей... Сердца! Иди...
Нестор тяжело вышел из келии. На душе смятенье и отчаянье. Князьям, видишь ли, нужно лишь восхваление. Какими бы они ни были — хвала им! Но разве правда о них не более поучительна?
Нет, не способен он переделать себя. Пусть пергамен пишет отец Иван. Пусть возносит недостойных... А он в самом деле напишет о Феодосии Печерском; тот трудами своими воистину возвеличил дело Руси — против ромеев восставал. И нынче время такое — Всеволод, кажется, захочет опереться на грека-митрополита, а печерских монахов уже наверняка отодвинет от себя... Не забыл же обиду свою от них... А потому слово его о Феодосии должно напомнить Всеволоду, что Русь держалась и держится своей силой, своими мудрецами, но не взятыми взаймы...
В тот же вечер Нестор и положил на пергамен первые строки: «Господи, благослови отче. Благодарю тя, владыко мой, Господи Иисусе Христе, яко сподобил мя еси недостойного поведать о святых твоих угодниках, се бо сперва написавши ми о житие и погублении и о чудесах святых и блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, понудихся и на другое исповедание, еже выше моей силы...»
Это было начало жития Феодосия Печерского. Писал его страстно, отдавая всю боль, все обиды своей души слову... Но пристальным оком неусыпно следил за деяниями Всеволода. Может, он, Нестор, торопится творить свой жестокий суд над ним? Может, сей последний Ярославич и на самом деле возвеличит Русь, яко отец или дед его?..
Для Всеволода, видимо, пришли нелёгкие времена. Кажется, всего достиг, к чему стремился. К чему шёл таким извилистым путём.
Но, наверное, не было на Руси более несчастливого князя, чем князь Всеволод.
Неожиданная победа над братом вдруг опустошила его. Думал, ничего высшего нет на свете, чем власть, чем почитание и почести. Теперь он постиг, что нет ничего горшего и более тяжкого, чем молчаливая хула и презрение в глазах людей, которые славословят его.
Начал отдалять от себя тех, кто словом, взглядом или одним молчанием осуждал его. Окружил себя заискивающими, ползающими, унижающимися, жадными до богатства, которые на лету ловили каждое его слово.
Был рад, что его желания и воля удовлетворяются раньше, нежели он высказывал их. Был рад, что с ним во всём соглашались, во всём ему угождали.
Поначалу тешился этим. Было легко жить. Но чем дальше, тем тяжелее становилось дышать. Почувствовал себя отгороженным от мира глухой, непроницаемой стеной. Теперь уже Всеволоду почти невозможно было услышать живое, искреннее слово. Стал даже забывать, есть ли они, такие слова.
Ему часто мерещилось то место, та земля, на которой лежал мёртвый Изяслав. Он чётко видел эту сыпучую землю, переплетённую тонкими корнями молодых берёзок, и тёмные капли крови на ней. Эта земля прятала его тайну и вместе с тем давала ему покой и добрые сны. А добрых-то снов уже и не было совсем...
Для Всеволода остались светлыми только воспоминания. О дивном Живце, об удивительной белой колдунье и воспоминания о победах над свирепым Итларем, которого оттеснил за Сулу. Любил ещё вспоминать о своих детях, когда они были маленькими. Но не любил их видеть сейчас. Подозревал, что Владимир и Ростислав мечтают о престоле киевском.
Ближе к себе посадил старшего сына Владимира, отдал ему Олега Гориславича отчину — Чернигов. Старший сын должен быть у него всегда под рукой.
Но, странное дело, Всеволод теперь подружился с Печерской обителью. Велел построить и свой Красный двор возле Выдубецкого монастыря, поставить каменную трапезную, игумений дом. Щедро одаривал и Печеры, и Выдубечи землями и окольными селениями и пущами. Смерды привозили в монастырь зерно, мясо, рыбу, молоко, сыры, горох, капусту, чечевицу, лук, мёд, воск, полотно, меха... Владыки теперь должны были хлопотать не только о людской душе, но и о греховном теле. И должны были с удвоенной силой молиться за него, Всеволода, младшего Ярославина.
У монахов Печерской обители с недавних пор появились новые обязанности. Каждую весну, а больше всего осенью игумен рассылал их по монастырским сёлам следить за тем, как работают монастырские смерды на нивах. Все ли поля засеяны, весь ли урожай собран, не припрятали ли чего лишнего в своих закромах хлебопашцы, всё ли положенное отдали обители.
Хозяйство Печёр возрастало. Монахам всё меньше оставалось времени для молитв в норах-пещерах.
Уже перед самой зимой Нестор обошёл пять деревень, подаренных князем Всеволодом Печерскому монастырю. Отправил к обители последние обозы с зерном, капустой, луком, чесноком, бочками, корчагами[137] и другой хозяйской утварью.
Возвращался домой пешком. Дорогой решил взять немного в сторону и заглянуть в Васильков.
Морозный ветер обжигал лицо. Над землёй неслись грязно-серые клочья тяжёлых сизых облаков. Под ногами крутилась белая позёмка.
Последний предзимний день отнимал у него остатки тепла и надежд.
Но только завиделись вдали тёмные очертания городских строений и маковиц Успенской церкви, как сердце Нестора разволновалось, на душе потеплело. Ускорил шаги.
Уже ступив на мостовую своего родного городка, вдруг осознал, что ему тут не к кому идти. Все давно забыли старого Гюряту и его сбежавшего сына Наслава. За столько лет дом каждого посетила не одна беда и не одно отчаянье. Было ли здесь когда беречь воспоминание о горестях других людей, разбросанных судьбой по свету.
У церкви Успения приметил давние, уже почерневшие столбы, на которых когда-то были распяты и сожжены волхвы — Сновид и Рост. Против церкви, как и в прошлые времена, стояла усадьба отца Михаила. За оградой угадывались крыши онбаров, хлева и голубятни. Крепко хозяйничал отец Михаил.
На месте большой Гюрятиной хаты был пустырь, поросший тёрном и лопухами. Никто не строился на пепелище — людей гнало суеверие: построишься на пожарище — сам сгоришь в огне. Языческие бредни...
Через огород, перекосившись крышей, стояла хата Претичева. Нестор не поверил своим глазам, когда заметил, что из её дымохода вьётся лёгкая струйка белого дыма. Кто-то жил в той избёнке? Неужели... Гаина?
Ян Вышатич столько раз проклинал её со всем её родом смердовским, но Нестор так и не знал достоверно, как же она живёт, Гайка Претичева, недавнишняя боярыня Вышатичиха.
Забыв о холоде, донимавшем тело через тонкую рясу, Нестор повернул к хате Претичевой. Обошёл площадь вокруг церкви и ступил на тропинку, которая вела напрямик ко двору старого ковача. И вдруг услышал какие-то возгласы или вопли, доносящиеся из церкви. Подошёл к двери — она была закрыта. Потянул за щеколду, и дверь вдруг легко раскрылась. Нестор остановился на пороге.
У алтаря суетились вой. Кто с мечом, кто с ножом в руках, кто с ремешком, а кто и с кожаным мешком. Бросали в мешки чаши, подсвечники, обдирали золотое узорочье с икон и тоже бросали в мешки. Возле царских врат столбом стоял отец Михаил, весь обвязанный верёвками и с кляпом во рту. Только шевелил чёрными мохнатыми бровями — неистово, но безмолвно кричали его вытаращенные глаза. По щекам текли гневные слёзы.
Отец Михаил всё время косился на широкоплечего детину, который стоял у клироса и покрикивал на людей:
— Поглядите-ка ещё в ризнице! За царские врата посмотрите! Да не бойтесь — Бог простит этот ваш грех, он милостив!..
Нестор догадался: грабители... выгребают церковное добро.
Снял со своей груди тяжёлый железный крест, взял его в правую руку, подкрался — и со всего плеча ударил им в затылок здоровяка. Тот крутанулся на ногах и повис на перилах клироса. Нестор для уверенности ещё раз ударил по спине и громовым голосом воскликнул:
— Грех упал на ваши души, окаянные!
Грабители мгновенно отскочили к стенам. А Нестор, подняв над головой крест, вышел на помост алтаря и свирепо рявкнул:
— Вы, исчадия ада, развяжите отца Михаила, да простится вам грех ваш. Ибо настигнет вас сейчас же наказанье!
Кто-то неуверенно подошёл к связанному отцу Михаилу, ножом разрезал верёвку.
— А теперь выбросьте из мешков утварь Божью!
У клироса зашевелился оглушённый детина.
— Добре лупишь по костям, отче! — отплёвывался он и тёр ушибленный затылок. — Крест крепко держишь в руке. Дай Бог тебе здоровья — если выйдешь отсюда живым. Гей, дружина, поддайте святых отцов мечами под рёбра, пусть нечистая сила их заберёт!
Неизвестно, чем окончился бы этот неравный поединок, если бы отец Михаил не бросился к мешкам и не начал вытряхивать из них награбленное серебро. Услышав звон серебра, детина кинулся к мешкам.
А Нестор, догоняя своего врага, лупил его крестом. Тот, не выдержав такого натиска, повернул к дверям. За ним ринулись и другие грабители.
— Откуда появился в сию несчастливую годину? — вытирая пот с чела, выдохнул отец Михаил.
— Шёл мимо... Услышал вопли... Кто сии тати? — Из разодранного рукава рясы Нестора сочилась кровь.
Отец Михаил вздохнул.
— Новый бирич наш, Нерадец.
— Князев? Что же он храм Божий-то грабил?
— Наверное, князь постарел уж совсем. Новые изворотливые люди толкутся вокруг, желают разбогатеть. Вот и грабят всех. Народ разорили совсем. А теперь с людей брать нечего — на храмы перебросились. Спасибо за помощь тебе. — Отец Михаил внимательно всматривался в лицо Нестора. Что-то знакомое почудилось ему в чертах этого монаха. — Будто видел тебя где-то...
Нестор вздохнул. Может, и видел. Кто знает. Он это или не он много лет назад прибегал из лесу к отцу Михаилу просить помощь для Гаины?..
— Тесно людям на земле, отче. Один возле другого ходим. Только не знаем, кто мы. Для чего толчёмся на этом свете...
— Может, и так. Кровь у тебя. Идём, перевяжу.
— Не стоит. Это кровь за праведное дело. Затянется.
Нестор вышел на подворье. Надо сходить к Претичевой хате. Болит рука. Ноет в груди. Но про себя улыбался — как они княжеских грабителей поколотили, а ещё больше — припугнули... Не будут так нахально людей обирать. Будут оглядываться!
Вот тебе и самовластье Всеволода. Замкнулся в одиночестве в своей гриднице с прихлебателями, правды княжьей и суда княжьего не правит. Раздаёт волости и посады вот таким грабителям. А те своевольничают как хотят. Как сей Нерадец. Дорвался до власти!
Калитка возле хаты Претича была открыта, её раскачивал ветер. Нестор зашёл во двор, стал изучающе рассматривать. Возле завалинки вокруг избы — подметено. Стог сена у сарая. Дрова под навесом. На огороде — колодец, прикрыт крышкой из новых досок. Кто-то хозяйничал уверенно и чисто.
Сейчас он откроет дверь и увидит Гаину. Скажет... Что же он скажет ей?.. Да, о тех деньгах скажет, что отдал их сразу игумену... Про монастырь расскажет, расскажет, что они расстроились, приобрели много богатств, Богу угодных. Князь ведь жалует их, ибо они — его опора. Может, и про Вышатича Яна вспомнит — подружился с ним. Книги его перечитывают...
— Ой, горечко, человек Божий! Что стоишь на морозе, на ветру студёном? — На порог выбежала старая женщина. — Заходи в дом, обогрейся.
Нестор удивлённо переступил порог избы. В лицо ударило тёплым духом хлеба, соломы, огня. Еле рассмотрел в полутьме низкий потолок, огромную круглую печь, стол, застеленный белой, вышитой на концах скатертью. Ещё раз удивился: в углу, на почётном месте, висел большой мисник. На его полках не было мисок, стояла одна маленькая икона Богоматери и большая чудоватая чара из обожжённой глины. Красная, обливная, с обеих сторон двойные ручки-ушки. Странный узор её притягивал взгляд. Он напоминал то колосья, то копны, то сети перевесов, то волнистую гладь озера... Волхвовская чара!
Рядом с чарой этой стоял на миснике деревянный идол. Длинноносый, с широким подбородком, нахмуренными бровями. Руки его сложены на груди, ноги опираются о круг, напоминающий месяц или солнце. Древний идол Световид... Нестор узнал его! Тот самый, которому кланялись дулебы и поляне...
Нестор уловил взглядом ещё одну диковинку — над окошком висел ветвистый, будто рогатый, корень. Догадался — оберег дома. А с дымохода печи выглядывала ватага красноглиняных петушков, коньков, лебедей и ещё каких-то животных. Белые стенки печи до шестка размалёваны венчиками красных маков. Вот как! Из Божьего храма попал сразу будто в языческое капище поганское!..
Нестор перекрестился. В душу его повеяло, однако, чем-то далёким, забытым, родным, что он настойчиво вытравлял из своей памяти и сердца столько лет. Душил жестоко — моленьями, книгами, проклятьями, анафемой. Но не удалось до конца убить этот мир в себе. Как не удаётся человеку отречься памятью от своего детства и от своего рода...
— А я хотела козе сена взять. Вдруг вижу, человек стоит. Чёрный весь. Я так испугалась... — Женщина, видать, отходила от испуга.
— Вот у тебя, вижу, старые боги и чародейства живут рядышком, на одной полке с иконой...
— Живут, не бьются. Пусть все они помогают людям. А у тебя, отец, кровь! — вдруг испугалась женщина.
— Потому и зашёл. Княжьи ратники меня немного поколотили и мечом рёбра посчитали!
— Где ж это?
— В храме. Вдвоём с отцом Михаилом еле отбились. Проклятого Нерадца едва не убили.
— Нерадец!.. — встрепенулась женщина. — Ослеп сердцем... Сгинул человек... Старые боги, наверное, прокляли его ещё в колыбели вербовой, а новые не милуют... Из-за него, проклятого, из дома ушла, отче. Мать я ему. Вот нынче здесь с малым сироткой горемычным. С сыном нашей Гаины...
Нестор стиснул зубы. Не мог слова молвить. Лишь обводил взглядом хату. С печи глядели на него глаза притихшего малыша — годика на четыре.
— А... Гайка... где?
— Ты знал её? Слышал? Воеводы Яна Вышатича жена была. А потом... Ох, горечко моё!.. В полоне она сейчас, отче. В половецком полоне... — Женщина всхлипнула, закрыв лицо концами платка.
Из рук Нестора на пол выскользнуло полотно, которое Нега подала ему, чтобы перевязать израненную руку.
— Нет Гайки... И сына моего меньшего — Майка также нету. В полоне они. А старший, Тука, голову сложил. Один
Нерадец остался. Но отныне — он мне не сын. Лютым стал. Вот так с Гордятой теперь и живу... Да выпей молока козьего. У нас только и животины, что Брязга эта. Выпей, быстрее поправишься!
Нестор молча выпил кружку прохладного, терпкого на вкус густого молока. Вдруг какая-то догадка пронзила его:
— Так сие воеводы Яна сын?
Женщина всполошилась, взглянула на него страдальческими серыми очами из-под редких светлых бровей, растерянно потянула за кончики хусты[138] под своим подбородком. Какая-то тайна рвалась из её уст, но она не могла отважиться на откровенность. Наконец, затаив от волнения дыхание, дрожащим голосом вымолвила:
— Нет, отче. Это мой внук. Нерадца сын...
Нестор приготовился услышать что угодно, лишь не эти простые и твёрдые слова, слетевшие с уст согбенной летами и страданиями женщины.
Люди говорили: треклятый Нерадец научился стричь шерсть вместе со шкурой. Знал он, как отзывались о нём. Но знал и другое: порожний воз должен свернуть с дороги, уступая дорогу полному. Потому и старался, чтобы его воз никогда не сворачивал с дороги и был полнёхоньким. Намеревался въехать на нём в ворота боярского дома Яна Вышатича, помериться с ним богатством и забрать себе его боярыню. Но теперь, когда Гаина жила рядом с ним, в Василькове, она низко упала в его глазах: протяни, казалось, руку — и сразу дотянешься до неё. Для такой ему не нужно было ехать куда-то на заставы в степь половецкую, бросаться на стаю диких половчинов, дабы прославиться. Не нужно было искать и других ратных подвигов или доставать гривну золотую боярскую.
У Гаины как бы исчез ореол её исключительности. Она стала как все Васильковские женщины. Только и заслуга, что хороша собой. Нерадец почувствовал себя обкраденным. Будто кто-то отнял у него золотую мечту, во имя которой он собрался биться, умереть или достичь недостижимого.
Он остыл к Гаине. И даже возненавидел её. Не подозревал, что, отступаясь от неё, отступается от себя. И тем совершил против себя большое зло.
Не появился в хате Претичей и тогда, когда в ней Гордятка возвестил миру о своём появлении. Не нашёл туда дороги и позже, когда малыш встал на ножки.
Долгое время Нерадец жил с князем Всеволодом в Переяславе. Смекалистый в ратном деле, скорый на руку и неразговорчивый Нерадец пришёлся князю по душе. Особенно же после боя на Нежатиной ниве. Вот тогда-то и пожаловал ему князь чин бирича в своём княжьем граде Василькове.
Как-то под осень с малой дружиной в Васильков прибыл князь Владимир Всеволодович. Он теперь частенько наведывался в Киев к отцу-князю, был всегда начеку, чтобы защитить его стол. Васильков же был гораздо ближе к Киеву, и в случае нужды можно было сразу прискакать на помощь отцу.
Снова пылали костры на подворье княжьего терема, на вертелах запекались поросята, гуси, утки. Бражный дух пьяных медов и ячменного пива наполнял тела дружинников истомой, развязывал их языки...
Князя Владимира незаметно отозвали в сумерки золотистого, пахнущего дозревшими яблоками сада. Возвратился он быстро. Нахмуренный, чем-то подавленный, только сверкал на своих воинов тёмными глазами. Поманил рукой Нерадца. Зашептал ему на ухо, обдавая бражным духом:
— Нерадец, брат, хорошо хозяйничаешь. Но почему нет у тебя жены? Не годится княжьему биричу жить бобылём. Кто должен давать воинов в княжью дружину? Смерд. Кто должен засевать ниву и собирать урожай с неё? Смерд. И дань князю давать и боярам его? Смерд. И городы городити? Смерд. А ты что же это?
Нерадец съёжился. Он ведь совсем забыл, какого он рода-племени. Столько времени кормился с княжьего стола по дворам княжеским да боярским. Привык к медам-пивам дармовым, к хлебам пшеничным — белым да высоким. Нега-мать пекла только ржаные посмаги и пресные лепёшки, на каких он вырос. А теперь — от всего этого отказаться? Обида горячей волной ударила ему в сердце. Зачем князь напоминает ему о его худом роде? Зачем унижает холопа своего верного?
Неужели князю уже не нужен? Желает его отослать домой, дабы снова пахал землю, отдавал князю часть хлеборобского пота своего?.. Опустил глаза в землю. На его широком, чуть скуластом лице зашевелились желваки. Такова она, благодарность властителей... Не нужен — уходи прочь!..
Князь Владимир придвинулся к нему и незлобиво, будто заискивая, заглянул в глаза.
— Я твой господин, Нерадец, и обязан о тебе позаботиться. Так велел и отец мой. И я позаботился! — Владимир поднял вверх руку, звонко щёлкнул в воздухе пальцами.
Из-за кустов вышла девушка. В белой вышитой сорочке, в туго повязанном на голове чёрном платке. От этого её белое лицо казалось ещё белее. На высокой тонкой шее позванивала низка кораллов. Нерадец едва узнал в ней ту самую Любину, которую когда-то выхватил из хоровода для князя Владимира. Князь восхищённо смотрел на печальную красоту Любины. Потом толкнул под локоть Нерадца:
— Вот тебе и жена.
Нерадец вытаращил глаза. Не мог сразу уразуметь милости княжеской. Любина скорбно глядела на него. Тонкая кожа её лица вдруг порозовела, прозрачно-голубые глаза влажно блеснули. Она отвела взгляд в сторону.
Наконец Нерадец начал что-то соображать. Тяжело поднялся на ноги. В его душу медленно и властно надвигалось что-то тяжёлое, непреодолимое. Оно наполняло его каменным упрямством протеста.
Князь отдавал ему свою забаву?! Князь щедрый, добрый, хлопотливый... заметал свои шкодливые следы... И ты, Нерадче-смерде, жизнью должен расплачиваться за грехи своего властелина, ибо ты — его холоп. Чёрная худая кость. Князь лишь на время оторвал тебя от земли, на миг вознёс над иными, показал, какова она, эта другая жизнь, недоступная худородному смерду! А нынче пришло время расплачиваться за вкус чужого хлеба, который попробовал из княжеских рук...
Короткая толстая шея Нерадца побагровела. Он стиснул кулаки, напряг тело. Глаза его кипели гневом. Тяжёлый подбородок с короткой бородкой задрожал. Он молча встал, широко расставил крепкие ноги, будто врос в землю, растопырил пальцы, двинулся на князя.
— Ой! — завопила Любина и, отскочив назад, закрыла лицо руками.
Князь Владимир еле уклонился от медвежьих объятий Нерадца.
Двое дружинников мгновенно схватили Нерадца за руки. Не вырывался. Растерянно смотрел на свои обмякшие кулаки, испуг застыл в глазах. Что это случилось с ним? Неужели он осмелился поднять руку на своего благодетеля?.. Но потом снова резко сбросил с себя дружинников. Шумно вдохнул воздух.
— Свяжите его, — услышал спокойный голос Владимира. — Мы с ним ещё не договорились.
Нерадца бросили в холодную сырую подклеть терема. Под стеной здесь стояли бочки с соленьями и квашеньями. С низкого потолка свисали длинные плетёнки лука, сушёных грибов, сухой рыбы. От всего этого в подклети стоял удушливый запах.
Нерадец, связанный по рукам и ногам, лежал прямо на земле. Кто-то хотел подложить ему под спину его же свиту, но ласковый голос князя остановил:
— Не надобно. Пусть остынет.
Дверь тяжело грохнула. Дубовая дверь. Звякнуло железо задвижки. На душу Нерадца навалилась тьма...
От беспокойного сна его пробудил голод. И снова вспыхнула жгучая обида на князя. Вот такова тебе благодарность, Нерадче, за Нежатину ниву... Ведь если бы не его верная и быстрая рука — не сидеть бы Всеволоду на киевском столе! Да вишь ты! — никому об сей заслуге своей хвастаться не может. Тогда все проклятья людские падут на его голову...
Когда к нему вошёл князь, он ожидал, что тот ласковым голосом прикажет повесить его вверх ногами.
Но Владимир искренне захохотал:
— Горяч, братец! На своего князя руку поднять! А за что? Ты ведь не дослушал мои слова. Вот теперь дослушай. Бери в жёны Любину. Даю тебе нежную, преданную жену. Увидишь. Будешь в граде Василькове и дальше биричем. Живи в сём тереме, тут никто, видишь сам, из князей не живёт. Честно исправляй княжий закон. По правде русской. Бери и виры, и продажи с виновных и ослушников. Сымай потяги и правежи с горожан и ремесленников. По правде русской. Дабы онбары княжеские полны были. И себя тем прокормишь. Понял?
Нерадец облегчённо вздохнул. Князь, значит, не отбирает у него солнца и чистого воздуха. Дарит ему жизнь, звание бирича и... жену. Пусть будет Любина. Знает, что Нега-мать снова будет проклинать его. Но он уже давно не прислушивается к стенаниям матери. Волен он! И может взять себе в жёны и из рук князя... Тогда будет ближе и к боярской гривне.
— Коль согласье имеешь — скажи. Коль нет твоего согласья, ещё полежи, подумай...
Нерадец потянул носом, крякнул. Лучше быть молотом в сей проклятой жизни, чем наковальней.
— Развязывай, княже. Согласен... — пробурчал Нерадец.
— Я так и догадался. — Владимир вытащил из-за голенища охотничий нож — только что свежевал подбитого им вепря, — обрезал верёвки на руках и на ногах своего бирича. Ласково бормотал, поучая: — Не забудь же на свадьбу позвать. Гей, зовите Любину. Пусть забирает своего суженого!..
...И была хмельная свадьба. И сидел князь Владимир в красном углу, а дружина его — за столами. И был каравай высокий, и богатый выкуп невесты, и расплетание косы... и танец вокруг дежи[139]...
А потом начались перезванские песни. Допекли эти песни Нерадца!.. Сватья, конечно, побоялась вымазать дёгтем ворота и стены избы Любины — невеста ведь из рук князя. Но песня — кто поймает песню? Кто схватит её за слово? Из конца в конец Василькова перекатывались высокие женские голоса охмелевших бабёнок, издевавшихся над Нерадцевой неславой:
Как уехал мой милёнок торговать, А я домой князенька привела! Возвратился мой милёнок среди ночи, А мне с князем расставаться нету мочи!..Темнел лицом Нерадец, темнело у него в глазах, багровела его бычья шея. Ничего, потом у меня допоёте вы свои песни!
Нерадец схватил Любину за руки, втолкнул в гридницу... Даже сам испугался... Но нет, не упала его суженая... Любина не заплакала. Лежала не шевелясь. Смотрела в высокий потолок из хорошо обтёсанных досок.
Нерадец злобно сорвал с неё дерюгу.
— Ч-чего лежишь? Что не почитаешь мужа?
Любина послушно поднялась, стала перед ним на колени, начала стягивать сапоги. Потом села рядом. Жалкая, дрожащая.
— Нерадец, дитя во мне бьётся...
Нерадец повернул к ней лицо. Губы его задрожали. Задёргались веки. Он глухо и скорбно застонал.
— Ты... ты... молчала?
— Разве ты спросил у меня? — прильнула Любина к его плечу. — Никто меня ничего не спрашивал... никогда...
— Иди. С глаз моих уйди...
Любина ещё слушала себя. Потом тихо вымолвила:
— Нсрадче, не кипятись. Возьми своего Гордятку к себе. Стану ему матерью.
— И-д-ди!.. — оттолкнул злобно её от себя.
Как она смеет напоминать ему о его позоре?
Любина упала на пол. Поползла к дверям. Исчезла за ними...
Больше Нерадец не хотел её видеть. Жил, как и раньше, на княжьем дворе, правил смердами, горожанами, стягивал с них виры и продажи, потяги и правежи — по закону княжьему, по правде русской. И по своему желанию. А то ещё пускался со злобы в прямой разбой... Нажил славу «треклятого»...
Его боялись пуще полона половецкого. Даже отец Михаил, после того как Нерадец ограбил его храм и посчитал его рёбра мечом, тайно огласил ему перед амвоном анафему.
Но Бог почему-то не наказывал за большие злодейства. Лишь за Малые провинности. Нерадец благополучно жил, толстел, жирел, раздавался в плечах, старел — на тризнах и пирах. В тайных и явных потехах молодецких с чужими жёнами.
Больше не желал разбираться в своей ослепшей душе. Знал, что всё, что имел в себе доброго, уже растерял. Одно оставалось в нём и возрастало — зависть. К чужому богатству, к более удачливым льстецам и холуям... К чужой красоте и молодости... И лишь недосягаемая золотая гривна боярская мелькала перед его глазами и тревожила душу.
Он выжидал своего часа...
Размеренно, по кругу солнца, отходили годы. Дни сменялись ночами. Зимы — вёснами. В мелочных хлопотах и суете исчезали великие стремления, сгорали большие страсти. Ничтожные дела поглощали значащие, заполняли собой жизнь, уничтожали вечность...
Князь Всеволод, размышляя над такой неостановимой быстротечностью дней, с удивлением отмечал, что его жизнь где-то подбирается уже к вершине и его опыт, достигнутый в трудах, ему уже ни к чему. Жизнь уходила напрасно, не оставляй следов. Её хватило лишь на то, чтобы перед смертью спросить у себя — зачем она?
Чем больше власти сосредоточивал он в своих руках, тем больше чувствовал собственную опустошённость. Чем больше властвовал над другими, тем более становился зависимым от них — и должен был больше унижаться перед ними духом своим. Чем больше добывал знаний — тем больше сомневался и делал глупостей. Творя одним добро — другим увеличивал зло...
Князь не любил Киева, справедливее было бы сказать, боялся его. Потому и жил в большинстве в Вышгороде или в Выдубече, где поставил свой Красный двор — палаты, хозяйские постройки, всё это из камня или из дерева, всё это с кружевной резьбой по дереву, мраморными столпами, высокими башнями над крыльцом.
Но радости в душе не было ни от чего. Неожиданно здесь, в Киеве, умерла его грекиня. Последние месяцы она не выходила из светлицы. Все будто кого-то боялась, испуганно озиралась на углы. Ослепла разумом, наверное, из-за того, что всю жизнь сама плела сети для других. Торопливо, тихо схоронили старую княгиню Марию, дочь Константина Мономаха.
Теперь князь должен был жениться. Летами он был ещё не стар — перевалило только за полстолетия.
Вот тогда и началось!
Искали для Всеволода невесту все. Каждый желал или породниться с ним, или хотя бы прислужиться ему. Подсовывали своих сестёр, дочерей, племянниц, братенниц, сестренниц, а то и жён. Грызлись между собой в глаза и за глаза, обливали помоями, сеяли клевету, ложь.
Будто клубок псов, сцепились у княжеского стола. Всеволод хватался за седую голову. Кого видел вокруг себя? Его окружали одни фарисеи, льстецы. Нет, от них не возьмёт жены. Сам найдёт!
Подпирал голову кулаками. Воспоминания волновали его душу. Когда был счастливым как человек? Когда не лукавил ни перед собой, ни перед другими?
Тогда припоминался ему Живец. Освещённое странным светом капище на песчаном холме, среди океана волынского леса. Будто сказочные грёзы оживали в его памяти. Белокорая берёза с ласточкиным гнездом. И вот та женщина... в белом. С прямой и горделивой походкой. Кто отыскал её тогда? Нерадец!.. Всё же он.
Теперь мысленно стал беседовать с колдуньей. Её пристальный взгляд снова всплыл перед ним, зазвучал тихий уверенный голос... С ней он был во всём откровенен, отдыхал изболевшейся душой. «Возьми добро в сердце своё...»
Как хорошо и как легко было ему тогда, когда всё сделал по её совету! Чувствовал себя властителем мира, ибо сеял вокруг доброту. Чувствовал себя счастливым, ибо делал как человек — доброе. Возможно, впервые в жизни радовался щебетанью ласточек, шуму листьев берёзы... Плыло над ним тогда глубокое синее небо... и белые облака... Никогда в жизни не чувствовал себя так близко — самим сердцем — к вечности Неба. Все иное — тлен. Слепая суета. Скудость души и горечь безнадёжности...
Вот нынче он уже киевский князь. Сегодня достиг вершины своей мечты. А вознёсся ли в радости духом? Стал ли великим, таким, как отец его Ярослав или как дед Владимир? Ведь он тоже строит храмы, монастыри, ставит города, держит руками своих сыновей поле половецкое за переяславскими валами. Но всё это уже было и до него. Величия в том не было — лишь обязанность.
Величественным чувствовал себя только в Живце. Когда сеял добро искренне, с радостию. Теперь же со страхом он смотрел на свои ладони. Хорошо ли отмыты пятна от крови на них? Руки у него чистые. Это у его поспешителя, у холопа Нерадца, руки обагрены кровью, а у него чистые. Но совесть... Её, слава Богу, не видать другим...
Если бы эта чародейка в белом была рядом! Сказал бы ей всё. Она бы поняла. Сняла бы тяжесть с его души и с совести. Как же имя её? Кажется... забыл. Да нет же — он и не знал его. Не спросил её, дарящую жизнь... Вот такая бы жена ему...
Несколько дней мысли князя Всеволода были в плену тех воспоминаний. И чем больше будоражил свою память, тем больше вырастало у него желание хотя бы на мгновенье увидеть волынскую зеленицу. Испить из её рук целебный напиток Живы — девы жизни.
Где-то в глубоких дебрях и пущах она. Или под Луческом, или Звенигородом. А может, даже под самим Владимиром. Нерадец!.. Лишь он знает это капище. Потому что воеводы Творимира нет — полёг на Нежатиной ниве...
Звать Нерадца!
Каким-то дуновением согнало усталость со Всеволода. Глаза заблестели живостью, отяжелевшее тело вдруг стало подвижным, гибким — хоть в седло!
На старости лет Всеволод стал красивым. Таким и в молодые годы не был. Глядел на себя в серебристодонное роенское зеркало, улыбался в седой ус. Печерские летописцы наверняка о нём напишут: «И был князь Всеволод боголюбивый и телом красив...»
Да постой, зачем ему звать сюда Нерадца? Он в состоянии ещё и сам вскочить в седло и помчаться в Васильков. Наведать заодно свой родной дом, сотворить княжий суд над ослушниками и злодеями. Тогда нужно взять и бояр, и монахов с собой. Поедут и они в Васильков-град!..
— Зовите конюшего! — вскричал он. — Эй вы, отроки, скажите боярину Чудину, пусть в дорогу собирается! Васильков-град время пришло навестить!..
Под дверью в сенцах что-то грохнуло, затопало по лестнице. Всеволод довольно усмехнулся. Что ни говорите, приятно, коль знаешь, что одно твоё слово заставляет людей вот так бежать, мчать, катиться!.. Только кликни, только помани пальцем — все бегут исполнять, творить твою волю, твои желания. А особенно приятно, когда сие видишь у своих бояр велеможных. Вот как сухорёбрый Чудин... Хе-хе... Привёз из Вышгорода двух дочерей, что в девицах засиделись, и ворожит, и стелется муравой у его ног. Чудин нынче вроде бы одурел — целыми днями сидит в гриднице, под дверью княжеской ложницы... Да всё в гости зовёт к себе...
Ну, теперь Всеволод покажет, каков он на самом деле.
Метёт лёгкая прозрачная метелица. Мягко поскрипывает под полозьями снег. Он улёгся толстым пушистым слоем на елях, облепил ветви и стволы деревьев. Все вокруг было искристо-белым, сияющим, непостижимо чистым и торжественным.
Княжеский поезд шёл небыстрой рысью. Звонкий прозрачный холод вливался в грудь, волновал кровь, румянил щёки.
Лошади задористо вытягивали шеи, косили глазом в сторону.
И людям в санках также было весело. Боярин Чудин чересчур оживлённо рассказывал, как он когда-то поймал лисицу, как она мурлыкала ласково что-то ему, будто человеческим голосом. Кто-то шутливо подцепил его — гляди-ка, мол, боярин-то не распознал в той лисице прехитрой молодицы!
— Какая она была, Чудин? Вот этакая, с длинным рыжим хвостом? А? А глаза зеленоватые, с рыжими горошинками, так ведь? Дак я её знаю! — подмигивал весёлый гридь Берендий-торчин. — Её нужно было погладить, она бы тебе и песенку запела бы! И ещё...
— Га-га-га! — дрожали от хохота сани.
Весело было и Всеволоду. Только двое монахов из Печерской обители — Иван да Нестор — отсутствующими пустыми глазами глядят куда-то в небо. Тихонечко молитвы творят, дабы диавол не искушал их честные, безгреховные души теми греховными россказнями.
Невысокие заснеженные валы Василькова-града будто размылись белыми снегами. Издали казалось, что они растаяли в золотистой мгле белого зимнего дня. И что прямо в белом небе стояли башни княжьего терема. Наверное, вот так рождаются сказки о граде Китеже, о чудесах далёких и близких земель. Из белого марева рождаются...
Весело фыркали лошади, обдавая себя белым паром. Весело шуршал под полозьями снег. От этой святочности и красоты под белыми небесами где-то родилась знакомая песня.
Как под лесочком да под дубравой Там ходит стадо седое-вороное, А за ним ходит добрый молодец...— Игрища идольские творят... Пляски... Песни... — злобно бормотал монах Иван. Рядом с ним темнел челом и Нестор.
Издали приближались кол яд ники, которые несли чучело рогатой козы.
— К терему! — сказал Всеволод конюшему, — Будем Рождество справлять и по нашему, древнему русскому обычаю. Отец Иван, се великий грех на души наши упадёт? Тогда прошу вас, отцы, наши заступники, отмолите сей грех наш перед Богом. Видите, народ наш привык к своим обычаям, чествует прадедовские законы.
— Сии плясания и пения, княже, и эта гадкая животина рогатая — богопротивны, — начал было Нестор. — Языческие люди, не ведающие закона Божьего, сами себе когда-то такие законы сотворили. А русичи есть просвещены Божьим словом и законом. Потому для них сие дело — грешное.
— Знаю сию науку, отец Нестор. Уважаю тебя, что высоко возносишь народ русский, какой и есть просвещён Божьим словом и деяниями деда моего и отца моего. Но не может быть богопротивный и старый русский обычай. Долго когда-то я размышлял над сим. Когда-то в давности, когда среди народа ещё не было священных знаний, и храмов, и книг, тот обычай твёрдо соединял наши племена. Позже ведь пришли на Русть апостолы и книги. Потому и выходит, что обычай сей сохранил наш народ. Пока живёт обычай — жив и народ.
Монахи опустили головы. Не хотели противоречить учёному князю или не знали, чем возразить ему.
А над городом звенели песни — радость и печаль людской души. Почитание-преклоненье перед землёй и родом-племенем. Казалось, что песни эти переполняли добротой окрестный мир, который не всегда ласковой стороной обращался к людям.
Как с горы, с дола ветер повевает, Дунай высыхает, зельем прорастает. Зельем-муравой, всяческим цветом. Дивное зверье спасает зелье...— ...Князь приехал! Князю врата открывайте! — Берендий уже нетерпеливо колотил в ворота билом и кричал: — Чего вы там? Перепились иль поумирали?
На крыльце послышались хлопанье дверей, топот, оханье. И вдруг всё замолкло. Врата распахнулись — перед ними стоял, широко расставив ноги, с непокрытой головой, в одной сорочке, без кожуха — Нерадец. Развёл руки для объятий.
— Кня-а-же! Со святым вечером тебя-a!.. — Неуклюже подошёл к саням, склонился над Всеволодом, схватил его в охапку и закрутил, как ребёнка.
...В уютной, горячо натопленной светлице душно и весело. Пьяняще пахнет воском от многих свеч, зажжённых в подсвечниках и выставленных на столах. Пахнет живицей от нагретых сосновых досок пола (Нерадец — вишь! — полы везде перестелил в тереме), пахнет ещё чем-то невероятным — далёким и родным.
Всеволод взял в руки глиняный подсвечник со свечой, раскрыл дверь в соседнюю горницу. Вошёл. Остановился.
Просторная полукруглая светлица, какую он помнит ещё с детства. С потолка взмахнули к нему огромными крыльями вырезанные из дерева кудрявые ангелы. Со стен тяжёлыми связками спускали вниз свои гибкие побеги виноградные ветви — творенья древоделов киевских и Васильковских. А между ними, в простенках, стояли древние идолы — четырёхликий Световид, красноглазый Перун, крылатый Дажьбог, толстогубый добряк Волос. Ещё при Владимире тайно свезли их сюда из окрестных поселений, когда греческие священники окрестили людей, а капища языческие снесли. Видимо, старый князь не хотел гневить старых богов и унижать их. Как-никак веками предки его веровали в сих кумиров. У каждого рода был свой идол, который отстаивал свою правду. Многолика была та правда — каждый ведь глядел на неё своими глазами и слушал её своими ушами. Князю же Владимиру была нужна единственная правда — его, Князева! Единственная вера в неё и в его всевластие, которое освящено Богом Иисусом Христом. Идолы как бы с укором теперь глядели на Всеволода Ярославича, упрекали за измену чему-то большому во имя малых и мимолётных утех. Утех властолюбия.
Вдруг Всеволоду показалось, что старый добрый Волос с огромной головой в венке из колосьев будто качнулся. Князь выше поднял подсвечник. Идол стоял на месте и усмехался гостю, как своему доброму другу, надув толстые щёки. Но на стене от него шевельнулась, прогибаясь, резкая тень.
Всеволод заглянул за спину Волоса. Так и есть: к дебелой статуе деревянного бога кто-то прижимался. Маленький человечек. Он испуганно смотрел на князя и, должно, от перепуга не мог шевельнуться.
— Ты чего здесь? — вконец удивился Всеволод.
— Прячусь, — прошептала маленькая девчушка.
— От кого?
— От тебя.
— Разве я страшен?
— Не знаю.
— Так почему же прячешься?
— Мне так приказали.
— Кто? А ну иди-ка сюда, — как мог ласковее произнёс Всеволод.
Девчушка замялась, несмело выступила из-за спины идола. Испуганно, не моргая, глядела она на него. Князь начал рассматривать ребёнка. Бледность проступала сквозь нежную смуглую кожу лица, светло-карие глаза серьёзно и пристально изучали Всеволода. От дрожащего огня свечки в его руке на щеке девочки дрожали подвижные тени от ресниц. Будто что-то знакомое показалось князю в этих чертах ребёнка.
— А ты... добрый? — вдруг спросила девочка.
— Не ведаю.
— А какой ты?
— Кто знает... — Всеволоду стало смешно: девчурка допрашивала его, велеможного киевского князя. И он должен был ей отвечать. Правдиво, честно, как на Божьем суде... В самом деле — каков же он?
— Жаль, что ты ничего не знаешь, — вздохнула девочка и облизала верхнюю губку. Всеволод даже глаза округлил — всё же видел он когда-то этого маленького человечка, который вот так же высовывал язычок и обводил им — из уголка рта в уголок — верхнюю губку.
— Как же тебя зовут?
— Княжья.
— Почему так?
— Потому что я и есть княжья.
— А где же твоя мама?
— Мама? Вот здесь, под полом. Нерадец её туда запрятал. Я видела! — Княжья упала коленками на пол и начала дёргать за железное кольцо, вбитое в одну из досок пола.
Всеволод поставил свой подсвечник на пол, ухватился за кольцо. Княжья присела рядом с ним. С нетерпением и любопытством следила она за его движениями.
— А кто здесь живёт, знаешь? — спросил девочку Всеволод.
— Не знаю... — разочарованно протянула она.
— Когда-то мне говаривали, что здесь жил Чернобог. Он насылал на людей мрак, потому что выкрадывал у солнышка белых коней... — припомнил вдруг детскую сказку и усмехнулся. Что это с ним — своим детям не рассказывал таких сказок никогда, а вот чужому...
Рванул на себя кольцо.
— Кто здесь? Выходи! — крикнул почему-то испуганно.
— Лестницы нету... — отозвался женский голосок.
— Вот она! Здесь! — Княжья подбежала к стенке.
Опустил лестницу в Подполье. Оттуда вылезла женщина.
От её одежды веяло сыростью.
— Мамка, а там не видела Чернобога? — подняла к ней личико Княжья.
— Видела, дочушка. Всего там насмотрелась. Вот такого мужа имею перед законом и перед людьми.
Веки её покраснели.
— Как ты попала сюда? — не утерпел Всеволод.
— Пришла вот с дитём к этому обдирале и грабителю просить, чтобы лошадей и волов вернул, которые забрал у моего отца. Погибнем ведь без животины... Ни дров привезти, ни поле вспахать... Как жить?
— Да кто же тебя в подвал бросил?
— Нерадец же, говорю. Как услышал стук в ворота, молвил: князь приехал! Сгинь, говорит, с очей моих. Лезь в яму!.. Я ведь не хотела — дак он силой... Чтобы князь не узнал, каким разбойником стал его бирич...
— Иди домой. Всё будет хорошо. Прикажу ему по правде с тобою сотворить. Говоришь — жена ему?
Она качнула головой.
— Когда-то князь Владимир... поженил нас... Прости нас, князь... Помоги!.. — всхлипнула женщина.
Всеволод не мог выносить слёз.
— Не плачь. Все обойдётся. Но скажи, почему имя такое дала дочке своей? — Неприятная догадка где-то шевельнулась в нём, и он потупил глаза.
— Господин мой... повелитель мой!.. Невиновна я. Нарекла дочку свою Рутой. Да люди знай своё — Княжья, и всё! Но боги мне свидетели — моей вины нет...
— Но... чья вина?
— Она... всё же Князева... Владимирова... Потому и лютует Нерадец...
Горячий воск капал из подсвечника и обжигал руку Всеволода. Теперь-то он вспомнил подобного маленького человечка с такими же глазами и с такой же смешной привычкой облизывать верхнюю губку.
Боялся взглянуть на девочку... Кровь его, вишь ты... Князь он. И сын его старший Владимир — наследник самовластный в Русской земле. Должна быть счастливой женщина, которая от князя чадо привела на Божий свет. Должна иметь от людей уваженье, а не хулу от княжьих холопов!..
Нерадец сей закон преступил. Свою жену, Богом и князем данную, бросил в подполье! Отобрал животину в хозяйстве!..
— Идём! — решительно дёрнул князь Любину за руку.
Грустно было Всеволоду за праздничным столом. И такие вот дела он должен улаживать. Дабы летописцы-монахи, тихо сидевшие напротив него и молча наблюдавшие за ним, потом записали: «Сей благоверный князь Всеволод был издетства боголюбивый, любил правду, наделял убогих... Был же и сам воздержася от пиянства и от похоти...» Потому уж лучше не пить ему и чарки за этим ужином...
— Нерадец, — позвал Всеволод. — Подойди-ка ко мне... Надобно бы на Волынь съездить. Живец... Помнишь?
Нерадец угодливо согнул бычью шею.
— Помню, мой господине. Для тебя поеду хоть на край земли!
— Вот там и есть мой край, Нерадец... — Всеволод смотрел поверх ровных язычков свечек и видел что-то такое, чего никто не видел и не дано было никому видеть.
Мысли Всеволода уже были далеко-далеко от этого праздничного стола. Кареглазая девочка сегодня напомнила ему о годах, которые промчались, не останавливаясь, и принесли ему старость, которой он не хотел принимать и которая всё же закрадывалась в его душу и тело...
Быстрее, быстрее на Волынь... Услышать бы слово Живки... Ему верилось, что с ней он догонит свои уходящие годы. Догонит и остановит их...
Дни сплетались в невидимые однообразные нити воспоминаний. Руки опухли от работы, трескались кончики пальцев, до крови обламывались ногти. Спина привыкла не разгибаться. Люди суетились возле коров, коз, овец, колдовали над вёдрами с молоком, над ситами, отбрасывая загустевшую простоквашу от сыворотки. Глаза всё реже глядели вверх, всё больше упирались в землю. Усталость притупляла мысли, надежды, и люди равнодушно в один из дней заметили, что лето уже отошло, откатилась с ветрами и осень. Наступила зима.
Высокие белые гривы метелей в диком танце крутились по равнинному безбрежью. Мороз выстуживал тела, ледяной коркой покрывал вечно мокрые руки, выдубливал кожу...
Ветры выметали из веж остатки тепла, завывали между кибитками. Но что было хуже всего, разгоняли табуны по заснеженной голодной степи. Всадники денно и нощно кружили вокруг стойбищ, разыскивая овец, или коз, или забежавших от голода лошадей. Половцы выбивались из сил. Русские пленники подсказывали пастухам-степнякам, что скоту нужно заготовлять сено с лета, хотя из лозняка, хотя бы из самана, как это делают земледельцы-русичи, строить конюшни и кошары.
Половцы неохотно перенимали непривычный способ хозяйствования. Сами они не умели и не хотели делать это. Но когда припёрло, повели пленников к зарослям ивняка. Те нарубили ветви и стали городить в балках или в глубоких оврагах — в затишье — оборы, накрывали их шкурами, загнали туда скот. Но сена зимой не накосишь. И половцы заставляли русичей добывать его из-под снега. Полураздетых пленников выгоняли в степь, к берегам речек, и там они сгребали руками снег и рвали смёрзшийся сухостой, связывали его в маленькие снопы и носили потом их скотине.
Люди гибли в снегах. Падали, как безответные снопы, отдавшие доле свои головы. Как те колосья, что замёрзли и почернели, не дав из зёрен ростков.
Распорядители не миновали и Таины с Отрадой. Как и все женщины-пленницы, они сгребали руками снег, рвали жёсткую, обледеневшую под снегом траву и вязали её в снопики.
Но вскоре морозы сковали снега. Добраться до земли не было сил. А тут ошалели разгульные ветры и размели кошары и оборы из лозняка. По снежным раздольям разогнали скот. Все, кто мог держаться в седле, пересели на лошадей и двинулись группами на его поиски.
Лежали глубокие сугробы. Наносы рассыпчатого хрустящего снега достигали крупа лошадей. Они будто плыли в снегах и быстро выбивались из сил, за день делая небольшие переходы. Скота нигде не было видно. Или замело метелями, или унесло его далеко в степное безбрежье.
С одной такой группой искателей уехала и Таина. Отрада привязала ей к седлу кожаный мех со скрутом. Тайком перекрестила.
— Счастья тебе... Приглядывай за моими.
Скорбно глядела ей вслед, сложив руки на груди. Или предвидела недоброе, или не верила ни во что хорошее?..
Славята ехал впереди отряда. За ним Гаина, потом Борис и ещё несколько половцев. Всадники были все, как один, в широких меховых штанинах, в кожухах, бараньих шапках, закрывающих почти всё лицо. Только глаза блестели из-под меха.
Ветер быстро заметал их следы. Белая мгла проглатывала их чёрные фигурки. Степь тихо стонала и свистела от порывов ветра.
Через несколько дней Славята привёл своих загонщиков к берегам замерзшего, заснеженного Днепра. За Днепром перед ними возвышался неизвестный градок. Гаина вся напряглась. Глазами спросила Славяту — что сие?
Простуженным хриплым голосом тот ответил:
— Заруб-городец. Отсюда рукой подать до Переяслава.
Глаза Гаины забегали по сторонам. Переяслав — русский град! Заруб-городец — русский град!.. Это же Русская земля!
Сдвинула мех со рта, задохнулась морозным паром.
— Славята... Борис... Скота нигде нет. Сгинули наши отары в метелях. Хан Итларь, коль вернёмся ни с чем, всем нам глаза выжжет. Нам нельзя возвращаться ни с чем. А Русь — вот она. Рядышком!
Славята и Борис будто не слышали её слов. Они оставили на стойбище мать. Она примет смерть за их волю. Будет ли тогда им эта воля сладкой?
Гаина снова спрятала лицо в мех. Только слёзы блестели в глазах. Помолчав, сказала, будто угадывая их страх:
— Отрада скажет: скотина сгинула в снегах. И сыновья её также погибли в снегах... И всё! Вернётесь — не будет добра ни вам, ни вашей матери. А перед нами — Русь переяславская, за нею — земля Киевская и дальше — вся Русская земля. Перейдём по льду Днепр — и дома.
Славята повёл глазами назад. Гаина догадалась: мол, как здесь убежишь, когда столько половцев с ними? Куда денешься от них? Не дадут убежать...
— Славята, ты старший над нами... И ты, Борис. Пошлите же нынче посланцев к хану Итларю сказать. Нету отар, нету табунов. Где искать? Пускай Итларь решает, где взять скот...
— Он ведь прикажет, Гаина, идти войной на русичей и забрать их животину.
— Зимой половцы не ходят в поход. Нужно ждать весны. А весной, когда лошади наберутся сил на пастбищах, все половцы пойдут на Русь с ненавистью в сердцах, ибо оголодают за зиму. Беда великая придёт тогда на Русь, — раздумывал вслух Борис.
В глазах Гаины сверкали слёзы.
— Братки, зимой ли, весной ли, всё равно они двинут на Русь. Мы предупредим князей русских. Пусть тогда рати готовят...
Славята вытянулся в стременах. И в самом деле: может, подобного случая больше и не представится. Подъехал к своим загонщикам...
Гаина вынула из сумки последний кусок хлеба, поднесла на ладони к конской морде. Конь покосил глазом, будто раздумывал — брать ли этот последний кусочек хлеба, вытянул толстые губы и мягко подобрал его. Теперь она верила, что вскоре будет у себя дома...
Отослав доброй санной дорогой на Волынь Нерадца, князь Всеволод уехал в Киев, а монахам Ивану и Нестору велел остаться в Василькове. Оба они теперь имели достаточно времени. И Нестор решил прежде всего проведать избу Претичей.
Как и несколько лет назад, под её крышей вился сизый дымок. Теперь он шёл туда без страха, будто в свой родной дом. Знал, что встретит доброе лицо пожилой женщины, её заботливую суету и оханье. И встретит большие пристальные глаза мальчонки — Гордяты. Решил уговорить старуху отдать ему хлопца. Заберёт он с собой его в Печеры. Научит грамоте, молитвам, расскажет ему о матери — Гаине, которую знал вот с такого возраста, как сам Гордята. Вырастет паренёк под заботливым и суровым присмотром монастырской братии. И не будет чувствовать своего сиротства. Нестор заменит ему отца и мать.
В знакомых сенцах остро щекотало в ноздрях духом навоза, сена, дыма.
Открыл дверь в светлицу и от удивления оторопел. За столом сидела Килина. Нега же хлопотала с ухватами возле печи. Раскрасневшееся её лицо было возбуждено то ли от огня, то ли от беседы с гостьей.
Увидев Нестора, Килька стрельнула глазами по сторонам. Поправила на коленях подол белого кожуха, наверное с плеча своей бывшей боярыни; на груди расправила концы цветастого платка. Запела слащаво-уважительным голосом монаху, будто разговор её с хозяйкой начинался при нём и он был его соучастником:
— Отец Нестор не даст мне сбрехать, сестра. Всё будет у твоего внука — и терем свой, и одежда, и обувка — вот так! — рукой повела поверх горла. — Боярин Вышатич не даст своего сына в обиду никому. Захочешь — будешь жить при дворе, мамкой и нянькой. Будешь иметь кусок хлеба и соль с боярского стола.
— Нет, сестра, не отдам Гордяту. Родился здесь, здесь ему и жить. А вырастет — пускай сам выбирает, где его место. — Нега с сердцем пихнула ухватом в пламя печи, без нужды стала переставлять горшочки с одного места на другое. — А ты, отец, чего стоишь на пороге? Проходи в избу, садись. Отогревайся.
Нестор подошёл к скамье, потёр задубевшие на морозе руки. Сел рядом с Килиной. Она подвинулась, уступая ему место.
— Рассуди нас по правде, отец, — заглянула та ему в лицо. — Воевода хочет забрать своего сына к себе в дом. За этим меня и послал сюда. А бабка, будто диавол её разум помутил, упёрлась и не даёт хлопца. Что должна сказать воеводе?
Нестор подошёл к печке.
— А что скажет наш Гордятка? А? Ты где это запрятался, малыш? Иди-ка сюда. Хочешь жить в тереме большом, как княжич красный?
Гордята, забившись в угол печи, вытянул шею и взглянул на Нестора. Его румяное личико было серьёзным и настороженным.
— Не хочу.
— Почему? — удивился Нестор.
— В тереме живёт чёрный ворон и волк-самоглот.
Килина прыснула со смеху.
— Ногайскими побасёнками уж натолкали дитя! Видишь, отец, какую науку достаёт здесь боярский сын. Засвидетельствуешь боярину Яну мои слова.
Килина решительно поднялась, поправила на плечах кожух. Быстро подошла к выглядывавшему с печи Гордятке и рывком стащила его вниз. Подхватила на руки и метнулась к двери. Нега Короткая ястребом налетела на Килину, начала вырывать внука из её цепких рук, но та вывернулась, ногой толкнула дверь и метнулась на улицу. Гордятка громко заревел. Нега растерянно выбежал вслед. Рогатая коза Брязга, увидев старуху, бросилась ей под ноги и на какое-то мгновенье задержала её. А Килина тем временем бежала улицей, бежала к церкви. За церковью, за высокой оградой, стояла тройка лошадей, запряжённых в сани. Килина упала на них и крикнула:
— Гони! Быстрее!
Сани рванулись, только метель поднялась за полозьями. Пока до церкви добежала Нега, они уже скрылись из виду.
Нестор оторопело стоял посреди двора и не верил тому, что только что произошло на его глазах.
Вернулась Нега, села напротив печки и будто окаменела. Теперь у неё никого уже не было на этом свете, кому нужны были её руки, её хлопоты.
Но, может, и на самом деле не внук он ей? Воевода Ян не присылал бы этой черноглазой ведьмы за холопским дитём. Гордята, молвила, его чадо. Наследник богатств Вышатиного рода на земле Киевской, Новгородской, Белозерской... Конечно же чужого дитяти не присвоил бы...
Но ведь Нерадец — знает она... Великую горечь принёс ей Нерадец в жизни, но и великую радость подарил ей — внучонка. Ни одного из троих своих сыновей не любила так. За своих погибших, за своё бездолье женское... последней своей любовью любила Гордятку... Теперь же не знала, что ей и делать.
Взгляд остановился на притихшем отце Несторе.
— Помоги... — упала перед ним на колени.
Кабы знал, как помочь её горю.
Терялся в догадках. Возможно, так будет лучше Гордяте. Вырастет в достатке. В почёте.
— Не убивайся, мать. Так, наверное, Бог повелел. Ему виднее дороги человеческие. Слышишь? Станет боярином твой внук. Тебя пригреет в старости. Но сейчас советую пойти во двор к боярину. Будешь глядеть за Гордятой. Ибо знаю сию лукавую челядницу — нету у неё в сердце добра.
— Зачем же дитя забрала?
— Хощет боярину прислужить. Чтобы ей был благодарен за это всю жизнь. А может, и ещё чего-то желает. Кто заглянет в её тёмную душу?
— Божечка!.. — ужаснулась Нега.
— Давно её знаю.
— Но как пойду туда? В Киеве никогда не была. Никого не знаю. К кому голову прислоню? Тут вот избу Гайки стерегу. Может, вернётся когда-то. Тогда уж как-то при ней и век свой скоротаю. Моей избы ведь нет — всё пожгли половцы. Сынов погубили... Одна я... одинёшенька на сем свете...
С тяжёлым сердцем оставлял Нестор старую женщину. Но в душе верил в счастливую судьбу Тайкиного сына. И уже довольно усмехался в бороду: ну и боярин, ну и сорвиголова! Придумать же такое — наследника себе вот так добыть! А сия крещёная половчанка Килька? Хоть в пекло её пошли — отовсюду целой и невредимой выйдет и сделает своё дело...
В тереме Иван с нетерпением ожидал Нестора.
Только Нестор переступил через порог, Иван бросился к нему с охапкой пергаментных свитков.
— Вот нашёл... В капище теремном... Сие древние пергамены. Богатство великое!
Нестор взял один свиток, развернул. Светлый, чистый, хрустящий пергамен, будто недавно выделанный. «В лето 6494. Придоша болгары веры бохмичи[140], глаголюще: яко «ты, князь, еси мудрый и смысленый, а не ведаешь закона никакого, то уверуй в закон наш и поклонись Бохмичу».
— Что сие? — непонимающе посмотрел Нестор на отца Ивана.
— Сказание о крещении Руси, — радостно светился лицом отец Иван. — Как выбирал князь Владимир веру для русичей по своему умыслу, а не по желанию ромеев-крестителей. А дале — как немчины приходили от Рима, от папежа. И хазары жидовские приходили... — рассказывал отец Иван, — «И рече Володимир: «Что есть закон ваш? И где есть земля ваша?» Они же реша: «Разогневался Бог на отци наши, и расточи нас по сторонах, греха ради нашего, и предана бысть земля наша хрестянам». Он же рече: «То како вы иных учите, а сами отвержены от Бога и расточены? Аще бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы расточены по чужим землям. Тако и нам такое же мыслите прияти?..» Брат Нестор, как выпросить у князя сии пергамены?
— Не надобно испрашивать. Нынче вдвоём и перепишем. А про Киев тут есть? Откуда есть пошла Русская земля? Откуда Русская земля стала есть?
Иван шевельнул широкими чёрными бровями в усмешке.
— Сказано ведь в Новгородской летописи — Бог избрал землю нашу и грады начали бывати — преж Новгородская волость, а потом — Киевская.
— Сие... новгородских бояр, которые из варяг пошли, выдумка! — сердито пробормотал Нестор. — Себе к рукам хощут забрать честь земли Русской... А наипаче — Киевской!.. — искренне возмущался он.
Иван насупил чёрные брови. Его брат этим недоволен? Но ведь он, Иван-новгородец, хорошо ведает все новгородские давние письмена! И там тако и записано...
— Не гневи Бога, брат, напрасными словами. Ведомо, первыми ведь князьями русскими были варяги — Рюрик да Олег. Игорь же — от Рюрика чадо. А от Игоря — Святослав, отец князя Володимира, — торжественно поучал Иван.
— Варяги, брат Иван, это не народ. Это ватаги дружин. И свей, и норманны, и англы, и русы были в них. Рюрик же, может, даже славянского рода из Поморья. Так я мыслю себе. А по-славянски имя его есть — Сокол. Это от лужичей слово. Но ведь Рюрик и Олег не были первыми князьями в Русской земле. Первым был князь Полянский Кий. От него же и град, Киевом названный. А ещё был князь Чернь. Чернигов-град наречен от него... И князь Люб... Любеч от него же...
Лицо Ивана покрылось коричневыми пятнами. Он сердился. Но глушил в себе гнев.
— Ещё когда я был в Новгороде пресвитером, брат, — зарокотал его голос, — в храме Софии читал я древние письма русские. В них сказано: Кий не был князем у полян. Был перевозчиком через Днепр. Гражане глаголили: пойдём на Киев перевоз. От того и название сие — Киев.
Нестор всё ещё держал в руке свиток пергамена. Положил его теперь на стол.
— Кий был перевозчиком? Почто же честь такая перевозчику, что град именем его нарекли? Перевозчик! — ощетинился он. — Может, брат Иван, и есть в Новгороде такие писания. Но их ведь также делали люди. Новгородские люди, которые все века желали вознестись над иными градами и присвоить себе честь и уважение всей земли. Ибо вознеслись они гордыней своей, когда их князья стали владычествовать в Русской земле.
Иван молчал. Возможно, и правду молвит Нестор. Но ведь в самом деле из Новгорода на Русь пришли князья-варяги. Потому новгородцы и хвастают.
— А братья Киевы — Щек и Хорив? — продолжал Нестор. — Чем прославились они? Кий — глаголешь — был перевозчиком. Пусть и так. Но братья его воздвигли на днепровских взгорьях свои градки — и об сём также молвится в старых письменах. И нынче есть те горы — Щекавица и Хоревица. И речка Лыбедь есть, по имени сестры Киевой... Сам ведь знаешь, брат, имена людей худых, хоть перевозчиков, хоть зодчих-здателей или гончаров, в старые времена не записывали в пергамены. Да и в наши также... нещедро...
Оба замолчали. Сидели за столом с двух разных концов, каждый погружен в свои мысли. Нестор стремился разгадать, откуда у брата такое стремление — перевернуть минувшее. Возможно, бывший торопчанин, который много сил отдал Новгороду и его боярам, который переписал новгородскому посаднику Остромиру Евангелие, в угоду новгородским боярам так мыслит? Или верит в это искренне?
Ведь добр он, брат Иван. Имеет справедливое сердце к людским обидам и кривдам. И в свой пергамен всегда записывает правду. Потому не достиг славы в Новгороде, убег оттуда строптивый торопчанин, когда там воссел сын Изяслава — гнусный Святополк. Не принял его сердцем — такой же лукавец и пустой зазнайка, как и отец его, молвит. Так же творил продажи и виры несправедливые за потравы, за воровство ладьи, лебедя, козы, коня... за обиду богатича... за побеги холопов... Стаи мечников, вирников, гридей, емцев, отроков шарили не в чистом поле, ища врага-супостата и нового витязя Редедю, а ломились в жилища смердов и рукодельцев, тащили на верёвке коров, волов, гнали овец, коз, отнимали шкуры, свитки полотна и зерно... Тиуны, биричи, посадники, метельщики одевали своих жён в шелка и в злато. Насилие, продажа людей в холопство, тяжёлые налоги — всё это падало на плечи чёрных, простых людей. Беднел народ, богатели княжие мужи. Монах Иван всё это вписывал в свой пергамен. С болью в сердце... Но кому нужны такие летописи? Князь новгородский Святополк Изяславич повелел заточить в темницу Ивана-летописца...
Отец Иван должен был бежать в киевские пещеры. Надеялся найти здесь, в Печёрах, покой, а в Киеве — умного великого князя. Но ему не повезло и здесь.
Князь Всеволод, воссев на отчем троне, делал то же самое. И теперь монаху Ивану вновь пришлось описывать деяния князя, и должен был писать о вирах и продажах. О людях, окружавших князя Всеволода, причиняющих простолюдину зло. Но по старой привычке писал Иван о первейшестве Новгородской земли и призванных туда со стороны князей.
Нет, об этом Нестор не будет молчать. И если ему даже не придётся больше никогда коснуться державного пергамена, он напишет об этом и в ином месте. Напишет свой пергамен супротив новгородского, боярского!
Радостно забилось его сердце от тех мыслей. Вот прибудут они в монастырь, отдаст он игумену законченное житие Феодосия Печерского и тихонечко сядет за свой хронограф. И туда впишет также сие сказание о крещении Руси. Кто и когда написал его? Неведомо. Но Нестор-книжник никому не позволит топтать славу земли Русской — ни гречинам надменным, ни новгородским возносливым боярам, ни несмысленым летописцам!
Нестор переписывал сказание, а мысли его возвращались то к судьбе монаха Ивана-торопчанина, то к доле или недоле Гордяты. То кружили над Владимировым застольем, когда он принимал у себя послов от разных народов, предлагавших ему свою веру и своего бога... Время от времени он вынимал из-за пазухи горсть железных писалец, выбирал какое-то одно... Переписывал сказание:
«И созвал князь бояре своя и старцев, и рече Володимир: «Скажите пред дружиною»... Они же реша: яко ходили в болгары, дивились, яко поклонялись в храме... поклонится, сядет и глядит туда и сюда, яко бешён, и нету веселия в них, но печаль и смрад велик... И приходили от немцев, и видели в храмах многи службы творяща, и красоты не видихом ниякоже. И приходили се в греки, и видаша они, как же служат богу своему, и не знали, на небе ли есме были али на земли: нету бо на земле такого зрелища или красоты такой... мы не можем забыть красоты тоя, всяк бо человек, ещё вкусит сладко, опосле горечи не приемлет, тако и мы...» Вот оно... До лепоты... до красоты великой душа русичей-послов прикипела! Вот отчего и взяли у греков обычай христианский.
Неожиданно в горницу вошла Любина. Прижимая руки к груди, заговорила, краснея:
— Прибыл монах из Киева. Спрашивает отца Ивана или отца Нестора. Говорит, великая беда у них...
— Зови же. Где он?
— Я здесь, — отозвался за порогом Еремея. — Игумен наш, великий Никон... Царство ему небесное...
— Помер?
— На девяностом году...
Любина тихо вышла из горницы.
— Отец Иван, — негромко промолвил Еремея. — Великий Никон, умирая, собрал братию и спросил: кого хощете себе в пастыри? Мы сказали: брата Ивана. И Никон ответил: «Благослови, Господь, аще тако и есть. В верные руки передаю посох пастырский, не страшусь, но паче радуюсь, отходя от этого мира». Потом простёр ноги на своём ложе, а руки накрест сложил на животе. Тако и отошёл к святым отцам... Брат Иван, ведаем сердце твоё справедливое, возьми обитель Печерскую и всю братию под свою молитву. За тем и прислали меня сюда черноризцы.
Еремея-скопец больше не бунтовал в обители. Уверовал в грехи свои, смиренно переносил свой позор, вымаливал у Всевышнего прощение за прошлый ослух и своевольные плотские утехи.
— Я приехал на санях. За ночь лошади отдохнут — и завтра в Киев, — продолжал он увещевать Ивана.
— Поезжай, брат, — повернулся и Нестор к Ивану. — Там тебя ждут. А я сам перепишу сии пергамены. Очень нужны они для земли Русской...
Несколько дней не поднимался Нестор из-за стола. Торопился. Не выходил даже к обеду. И Любина, которая хозяйничала в тереме, приносила ему в горницу борщи и запечённое мясо. Нестор отмахивался от этой слишком сытой еды. Монаху печерскому не подобает насыщать свою плоть такими яствами. Печёная свёкла, морковь, чечевичная похлёбка, кусок лепёшки с луковицей да масла немного... Любина удивлялась: хуже всякого смерда ест этот книжник-монах. Жалостливо смотрела на его костлявую, вечно согнутую за столом спину, на бледное лицо, провалившиеся, красные от бессонницы глаза... А ведь совсем не стар!..
Вечером, зажигая в гриднице свечу, сказала:
— Большая новость в нашем городе, отец. Молвят люди, убежала от половцев наша Гайка, дочь Претича. Боюсь её, отец... — Голос Любины вздрогнул.
У Нестора сердце отчаянно забилось.
— Чего боишься?
— Когда-то была, говорят, Нерадцевой зазнобой. От него и дитя родила. Вернётся к моему Нерадцу окаянному... Снова беда упадёт на мой род от лютого бирича...
Гаина — к Нерадцу? Да никогда не вернётся. Но чудеса, как это люди узнают самые сокровенные тайны друг друга?
— Но где же она нынче? — спросил Нестор и подумал: «А зачем мне это знать?»
Любина вздохнула.
— Дозналась, что сына забрали, — села на своего коня и умчалась. Наверное, к воеводе. Но уже несколько дней прошло, а она не возвращается. Иные молвят дивное: будто воевода прогнал её со двора — и она убежала в Ирпенские леса, к разбойникам. Это те, которые жгут вокруг боярские погосты и терема. Молвят, не может она среди людей жить: поганская тамга искалечила ей обличье. Страшный вид имеет.
Нестор перекрестился.
— «Сходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно сходит». Всё возвращается на круги своя. Не бойся ничего...
— Возвращается, отец... — прошептала Любина.
Нестор пытался представить себе Гаину-всадницу. Со страшной чёрной тамгой на челе. Не получалось.
Стояла перед ним, освещённая весенним солнцем, наполненная ожиданием и надеждами... готовая принять все грехи и искушенья на земле, во имя настоящего и единственного своего счастья — сына... Гайка, Гаина, не ведаешь того, что никто в мире не постиг величия самоотверженности женской души, её отваги, её безумия... Все будут тебя осуждать — и осудят. Плюнут в душу, растопчут честь. А твоё сердце кровоточащее... надолго ль хватит его?..
— Не осуди, Любина, грешницу Гайку. Велика боль в её сердце. Велико несчастье выпало ей в жизни.
— Я что? — отшатнулась Любина. — Я бы вот и сама... куда-то сбежала... К разбойникам, что ли... или в прорубь... Если бы не моя Княжья Рута. Ради неё и живу...
Любина тихо выскользнула из светлицы. От её голоса, от придушенных слёз в горнице, казалось, повисла густая седая горечь. Кто измерил горе женской судьбы, глубину таких чувств, как любовь и ненависть? Вот и старая Нега... Гневная, растерзанная испытаниями Гаина... И эта многотерпеливая тихая Любина... Русская женщина... Как вмещаешь в сердце своё доброту, великую любовь к детям своим, когда сама измучена жизнью и жестокой судьбой! Богородица Пресвятая, может, потому на Руси тебе больше всего храмов и почестей воздаётся, что муки и страдания материнские никто ни измерить, ни разделить не может, но они наиболее близки и понятны людям... Ведь это она, многотерпеливица мать, продолжает род русского племени. Закаляет сердца своих сыновей, посылает их на битву, на степные заставы, где складывают они свои буйные головы, где засевают землю белыми костьми, а кровию горячей поят сочные травы...
Была ли ещё на свете такая сила, как любовь женщины и матери?..
Не было. И нет...
У каждого человека своя высота в жизни.
Князь Всеволод чувствовал, что уже достиг своей высоты. И что иной для него уже не будет. Как не будет пути в заоблачные дали, а только... наклонная дорожка в матушку-землю. Может, из-за этого с такой жадностью он теперь всматривался в небеса. Ибо всё недоступное — всегда прекрасно и всегда влечёт к себе...
Недостижимой, как высота небес, осталась для него таинственная Живка. Осталась она там, на своём лесистом холме. Высокая, строгая, скупая на слова. Стояла у костра, который светил в её капище молодым ярким жаром, протягивала руки в пламя — и они не обжигались. Так рассказал Нерадец. Взглядом провожала его, отдаляя от себя. Живка так глядела на Нерадца, будто видела тропинку, по которой его князь ушёл в свою новую жизнь. Ушёл от неё навсегда, ибо неправедные дороги не возвращают людей назад. У князя же отныне не было праведной дороги.
...Нерадца встретила суровым окликом:
— Князь прислал тебя за советом, но ему он уже не нужен.
— Тяжело ему. Нет сил идти...
— Сам выбрал такую стезю.
— Стань рядом с ним. Будь ему опорой в жизни. Вдовцом ведь живёт. — Заглянул ей в глаза выжидательно.
Живка улыбнулась легко. Голубизну летнего неба напоминали её глаза.
— Знаю, прислал тебя за этим. Но... не хочу смывать кровь брата с его совести.
— Не он сие... Се я! — застонал Нерадец.
— Нет, он сие сотворил, ибо желал этого. А ты холуй — выполнил его волю.
Нерадец поднял вверх лицо. Рыжеватые с сединой брови словно переломились посредине, и от этого лицо его стало гордым.
— Он — князь. Холопы должны исполнять его волю.
Живка поджала твёрдые губы. Её худые щёки, казалось, запали ещё больше.
— Тогда пусть отмывает сам кровь брата со своей совести.
— Кабы мог... — вздохнул верный посланец.
— Раньше — мог.
— Тогда ты была рядом. Просит тебя...
— Неровня я ему, скажи. Пусть ищет боярыню аль княгиню из чужих сторон.
— Уже была греческая царевна. Ничего не получил от неё. Гордыню лишь... Сети заговоров... Это от неё ведь всё... А ему нужен покой сердца. Хотя бы в старости... Справедливую душу хочет иметь рядом! Говорил так.
— Справедливую, говоришь! Нет, ему нужна блестящая ложь. Ведь ею он желает заполнить пустоту вокруг себя! Эта ложь и есть его самый страшный враг. Так и скажи. Она тихонечко подкрадывается к его сердцу и источает его, яко червь могильный. И опустошается его душа — обесценивается жизнь...
Нерадец топтался на месте.
— Больно биешь, чародеица.
— Такова истина... Иди. — И протянула руки к пламени костра.
И Нерадец ушёл, вобрав голову в плечи... Украдкой оглянулся уже за порогом. Заснеженное капище сливалось с заснеженным холмом, и казалось, что стоит среди леса большая белая гора. Там осталась Живка...
Над головой шумели-стонали густые верхушки сосен и елей. Помутнело белое небо, засвистела пурга, закрутила огромными белыми хвостами. Лошади словно не касались копытами земли, летели по сугробам. Ветер изо всех сил гнал их вперёд. К лицу прилипал мокрый снег. Слепил глаза, мутил душу...
Куда его несёт?.. Не всё ли равно куда...
Наутро его прибило ко граду Луческу.
Волынские города жили беспечнее киевских и переяславских. Половцы сюда не добегали. Западные соседи ссорились между собой, и не было им пока времени до волынских или галицких земель. Врата Луческа были открытыми, никто не остановил въезжающих саней, никто не встретил их возле двора князя луческого Ярополка, меньшего Изяславича. Нерадец почувствовал что-то неладное.
Челядники сказали Нерадцу: «Ярополка в граде нет. Побежал в Польшу».
Ещё недавно Ярополк Изяславич изгнал из вотчин братьев своих Ростиславичей, надумал даже идти против своего дяди — великого киевского князя Всеволода. И Всеволод послал на него сына Владимира. Тот ухватил его за ворот и так тряхнул, что Ярополк сразу же оказался в Луческе и смирился со своей судьбой. Так, по крайней мере, думал Всеволод.
Но почему нынче побежал в Польшу?
Нерадец не сомневался — против его князя пойдёт! Он, видать, хочет отбить у Всеволода этот стол, если не для себя лично, то для своего старшего брата Святополка.
«Недоброе замыслил, Ярополче... Недоброе...» Темнеют очи Нерадца. Он плотнее закутывается в свой кожух, взглядом что-то выщупывает в удаляющейся, едва заметной дороге. Нужно быстрее убираться отсюда.
Только сани Нерадца выскочили вновь за валы Луческа, как ему навстречу выкатился из-за поворота отряд всадников. Ещё издали Нерадец догадался — дружина князя Ярополка. Когда поравнялись, сотский, ехавший впереди, переспросил, куда и зачем следует санник.
— Еду домой, а был на торгу... — втягивая голову в плечи, ответил Нерадец.
А сам от страха, которого никогда не знал перед врагом, ожидал следующего вопроса — в каком же селении или в градке стоит его, Нерадцев, дом?.. И уже, опустив голову, ожидал, что мечники Ярополка его тут же поймают на лжи и поведут на расправу к Ярополку.
Но сотский не задал такого естественного вопроса — где стоит изба Нерадца. Сотский был обеспокоен иным.
— Не встречал ли, братец, в нашем крае неизвестного отряда? Говорят, здесь где-то блуждает князь Всеволод.
— Не видел, брат, — вздохнул Нерадец, оправившись от страха.
— Тогда приставай к нам. Дома что делать будешь зимой? Пойдём с князем Ярополком.
— А куда? Далеко? — живо отозвался Нерадец.
— Сначала на Звенигород.
— Зачем туда? — закричали сотскому мечники.
— Против брата Ярополчьего — Давида. Заберём его волости.
— Постоим за князя Ярополка! — охотно подхватил Нерадец и стегнул лошадей.
А что будет далее? Он не знал. Но понимал, что сейчас необходимо прикинуться Ярополчьим поспешителем. Дабы как-то выкарабкаться на свободу из этого неожиданного полона...
Нерадец понял, что Изяславич жаждет столкнуть Всеволода. Но если он догадается соединиться с Олегом Гориславичем и другими противниками — Святославичами? Беда тогда будет и Всеволоду, и ему.
Когда-то Всеволод, убоявшись Гориславича, который сидел в далёкой Тмутаракани, предусмотрительно выслал его насильно к грекам, на остров Родос. В этом Всеволоду помогли хазары тамошние — они выкрали Олега из каменных палат тмутараканских, бросили его на галеру и отправили в ссылку. Но увёртливый Гориславич через три года самовольно возвратился назад. За его спиной теперь были богатые греческие роды, купчины, родственники его новой жены-грекини, а может, и многие вельможи Византии...
Тяжёлые думы одолевали Нерадца. Но он тем не менее вместе со всеми хозяйничал возле саней, что собрались со всего Луческа и шли в обозе Ярополчьих мечников. Нерадец даже стал с кем-то разглагольствовать о том, что где-то от кого-то слыхивал, будто Давид позвал к себе Всеволода, дабы уговорить его отдать ему удел Луческий, забрав его у Ярополка. Хитрил. Плёл сети не хуже опытного ромея!
Вскоре их догнал и сам князь Ярополк с дружиной. Маленький, подвижный, быстроглазый, он удовлетворённо оглядел свою рать и обоз и повёл их на Звенигород. Значит, челядины врали, будто Ярополк в Польше? А может, ещё не успел?..
С обеих сторон дороги подступали густые дубовые и сосновые леса, заваленные сугробами. Дорога была плохо наезженной, лошади быстро устали. Ярополк решил, вот лишь переночуют в лесу, яко тати — тихо, и незамеченными затем ворвутся на рассвете в Звенигород.
Жгли костры из поваленных сосен. На вертелах запекали пойманных тут же зайцев. Ярополк сидел на своих санях, недалеко от костра, время от времени наклонял в рот окрин с душистым хмельным мёдом. Его узкое остроносое лицо раскраснелось. Он шёл навстречу своему торжеству...
Нерадец тихо подошёл к Ярополку. Что-то сказал ему. Тот захохотал, спиной упал на подушки, лежавшие в его санках. Мечники начали игрище у костра — грелись. Да и знали, что сия потеха князю их по вкусу.
Позже заметили в угасающем свете костра, как Нерадец отвязывал вожжи, как он не торопясь выводил свои сани с поляны. Думали, князь Ярополк куда-то его послал.
Только утром над поляной взлетел вопль:
— Убили! Князя ведь убили!
Окружили молчаливым кольцом. Стягивали с голов шапки. Ярополк, распростёртый на своих подушках, улыбался в небо. В его животе торчал нож, давно покрытый инеем...
— Сие Нерадец тот... — прошептал кто-то громко.
Все оглянулись. Нет, не было среди них этого здоровяка, что назвался Нерадцем. Ещё вечером ведь уехал... Где же он теперь? Один ветер знает!..
...Нерадец мчал на санках не оглядываясь. Мчал, гонимый страхом и отчаянием. Всю жизнь свою выполнял чужую волю, служил чужим прихотям и капризам. Искал для себя богатства. И, кажется, нашёл, но честь свою потерял. Чем вернуть её и как? И облегчит ли она его душу?
Всеволод, как никогда раньше, чувствовал себя после возвращения Нерадца сразу постаревшим и ослабевшим. Запёрся в своей ложнице, и боярин Чудин вновь заправлял всеми княжескими делами. Лишь когда митрополит Иоанн позвал князя на освящение церкви Святого Михаила во Всеволодовом монастыре, вышел он из княжеских палат. Угрюмо ходил следом за Иоанном, слушал — и не слышал торжественных песнопений, перезвон колоколов, осанну Богу... Всё это было для него уже не ново. Не возносило его души, не радовало сердца. В нём уже не было места для надежд, ибо надежды — лишь обман, ложь — это знал он отныне твёрдо. Так же, как и Божья милость. Никакой милости ни от кого нет. Это всё выдумка для тупых и слепых душой. Все эти крестители, святители, церкви, звоны, песнопения — блестящая ложь для ничтожных и отчаявшихся. Она не вылечивает сердце, когда в нём боль безысходная. Крикливые словеса о душе человека — ни к чему, коль воля его сломлена... От хора славящих — глохнут. От блеска риз и изречений нападает слепота... Но он-то видит... Видит всё вокруг себя! Вокруг него расплодилась стая льстецов и холопов. Ради богатства и высокой чести они готовы на всё, хотя сами не способны совершить ни одного порядочного поступка...
Всеволод смотрел на склонённые головы своих приближённых и почему-то ещё подумал, что когда-то, при отце его Ярославе, эти головы склонялись в искреннем уважении. А ныне склоняются из-за того, чтобы побольше вырвать из его рук милостей. Среди этих голов, склонённых подобострастно, и его гонитель и хулитель, князя Всеволода! И он, зная это, не может сам выпутаться из сетей алчущей стаи...
Боярин Чудин руководит нынче вместо него всеми делами. Потворствует мздоимству и холопству. Митрополит Иоанн жаждет также властвовать не только над душами людей, но и протянуть руку в княжьи палаты. Зовёт из Византии для Всеволода невесту-грекиню. А сия стая родственников, которая толчётся вокруг него! — только успевай бросать в их кошельки золото, серебро, волости... Все такие, как Ярополк, убиенный по Божьему промыслу... или Олег Гориславич, который ныне отторгнул от власти Киева Тмутараканскую землю и отдал её грекам. А братец Гориславича — Роман, который водил орды половецкие на Русь, пока не слёг костьми под стенами Воиня... Или другой Святослав — Глеб, который метался то в Тмутараканской земле, то в Новгородской, пока не упокоился в Зырянских лесах... Среди братьев-князей есть и чистый разбойник Давид Игоревич, что нынче на днепровском лимане грабит греческих да арабских купчин...
Где взять силы, дабы удержать завистливость князей-грабителей, дабы отнять у них охоту ходить с дружинами один на другого? И как ему, Всеволоду, защитить себя и душу свою от притязаний пронырливых бояр, княжат и отцов духовных?
Бежать в Печеры... к монахам... В их глубоких удушливых норах найти для себя успокоенье. Нет, знает Всеволод, и там от себя не убежишь...
Старость неожиданно и преждевременно подкатилась к Всеволоду. От страха ли за грехи свои или от одиночества сердца. Будто белая колдунья Живка отобрала у него своими чародейскими очами остатки надежд на радость и покой.
Вырваться бы на свободу. Хотя бы на время... Отойти бы душой, отдохнуть от окружающих лиц...
В такие минуты он звал отроков и приказывал седлать себе коня. Один выезжал за Лядские ворота, спускался в Хрещатый лог, ехал через Перевесище по лесистым холмам. Из-под копыт коня выпархивали птицы. По кустам разбегались быстроногие зайцы. У ручейков и зарослей вокруг прудов толклись кулики и трясогузки, на ветвях верб колыхались белые пушистые колыбельки ремезов. А весной здесь неистовствовали соловьи, высвистывали дрозды, олыпанки, томно стонали иволги.
Всеволод пускал лошадь на свободу, сам шёл нетронутыми травами, среди мяты, роман-зелья, петровых батогов, шёл к знакомой развесистой груше.
В тот весенний тёплый день он снова брёл по лесистым киевским взгорьям. Тяжёлые мысли улетучились, душа успокаивалась от однообразного шелестения листвы. Вдруг заметил, как зашатались густые ветки ольхи. Кто сие? Олень? Тать?
Медленно снял с плеча лук, натянул тугую тетиву и опустил её. Она медленно зазвенела. А впереди, в кустах ольхи, кто-то тонко ахнул.
— Кто там? — вскрикнул растерянный Всеволод.
— Не убивай меня! — от ольшаника отозвался к нему плаксивый и испуганный женский голос.
— Выходи, ведь не вижу!
Ветки ольхи шевельнулись. На полянку вышла высокогрудая чернявая женщина. С головы её на круглые плечи упала шёлковая хуста, поверх белой сорочки с богатой вышивкой была надета свитка из тонкой вольницы. Женщина держала за руку мальчика.
— Чья будешь?
— Сама своя, — вызывающе и даже гневно ответила женщина. Будто стряхнула со своих плеч испуг и гордо повела головой с уложенной венцом чёрной косой.
— Сё Килька, — мальчик спокойно ткнул пальцем в её бок.
— Килина, — дёрнула она мальчишку за руку. — Сколько уже тебе говорила? Я — Килина.
— А ты чей же такой мудрый?
Мальчишка опустил глаза, замолчал. Килина гордо повела плечом:
— Сё Гордята, сын воеводы Яна Вышатича.
— А ведь говорила, что не воеводы, а Нерадца!
— Говорила, ибо люди так сказывали. А воевода всё равно считает тебя сыном, значит, ты и есть его сын, — Килина не спускала жгуче-чёрных глаз с Всеволода. Ведь она сразу его узнала. — Князю нужно отвечать как есть.
— Откуда знаешь, что я князь? — удивился Всеволод. А был он в простой полотняной рубахе и сапогах. Не любил рядиться на прогулки.
— Видела на Горе. Живу ведь в доме Вышатича.
Всеволод забросил лук за плечо, подошёл ближе.
Килина зарделась, даже побелели на её лице редкие глубокие рябинки.
— А я и не приметил тебя. — Всеволод метнул из-под седых бровей на неё взгляд.
— Где уж приметить. Не боярыня ведь, челядница! Хотя и из знатного рода! — вызывающе подняла голову. Голос её дрогнул. Глаза, её узкие чёрные глаза, ещё больше сузились и полоснули как лезвием.
— Какой же твой род, Килина?
На широких скулах вспыхнули красные пятна.
— Отец мой — половецкий хан Осень. А мать-русинка померла в вежах половецких, когда я была вот такою, как Гордята. Именно тогда и появился боярин со словом от князя киевского. И забрал сиротинку в свой дом, да пошлёт ему Бог добро за это.
Величавая осанка, высокая лебединая шея и хищная складка у рта. В самом деле — играла в ней горячая кровь дикого половецкого племени. И лукавство бесхитростное проглядывало во взгляде. И пылкая откровенность. Было что-то привлекательное в её искренности и такой естественной, ненапускной горделивости.
Килина всё ещё с вызывающей смелостью заглядывала в лицо князя, а на её губах уже появилась горькая усмешка. Вот, мол, каков у меня род. Но я не гнушаюсь им. И перед тобой, князь, не скрываюсь, и спины ни перед кем не гну, что рода худого... половецкого... Разве есть её в том вина? Лишь беда её...
Князь Всеволод будто понял эту её безмолвную речь и её боль. И простил ей вызывающий тон, за который хотела спрятаться эта обойдённая судьбой женщина. Вишь, у каждого человека, коль ему заглянуть в душу, есть своя беда. Великая или малая. Но хорошо тому, кто может так отважно выплеснуть боль своей души и своё отчаяние. А если все годы нести в себе эту боль, зачерствеет человек от зависти к вольным, от жадности, от переполняющего его бесчестия...
— Счастлива еси, жена. Вольна в своих словах. Душой вольна. — Всеволод устремил свой взгляд куда-то вдаль; душа его, видела Килина, витала где-то там, далеко от неё.
— Что я имею от этой воли, князь? — пылко зашептала она. — Всю жизнь должна гнуть спину перед боярином. За кусок хлеба чёрствого.
— Почему не станешь боярыней? Воевода Ян — вдовец. Сына его, вижу, холишь, как мать.
Узкие глаза Килины загорелись.
— Боярыней не могу стать — неровня ему. А сына... Я выкрала для него Гордяту. Свет ему был не мил.
— Доброе дело сделала, Килина. Можешь заглянуть в душу чужую. Сие не каждому дано!
— Да не каждый знает, что такое одиночество, — вздохнула Килина. — А в мою душу кто заглянет? — Она удручённо махнула рукой.
Брови Всеволода подскочили вверх. Действительно, так ли уж часто стараются люди понять друг друга? Эта простолюдинка, всю жизнь терпящая унижения, сумела заприметить тоску и отчаяние в душе Вышатича, сумела вот услужить ему — на старость одинокую сына ему добыла... И он, велеможный киевский князь, так же тоскует и одинок на белом свете. Только не от бедности, не от отсутствия славы рода своего. Скорее от их избытка. Вот он, например, может осчастливить Килину, подарив ей благодатьство[141] — какое-нибудь сельцо. А ему кто поможет? Никто.
— Килина, коль желаешь, освобожу тебя от боярской опеки. Землицы немного выделю.
— Кня-а-язь! — ахнула Килина и вытянулась как струна. Руки её, поднятые вверх, дрожали. — Князь...
Всеволод отметил про себя, что гордая дщерь хана Осеня и русской полонянки не настолько ничтожна душой, чтобы упасть перед ним на колени.
— Даю тебе погост под Вышгородом... Два села даю. Хозяйничай как свободная боярыня. И молись за спасенье души моей...
— Вовек буду молиться... — шептала Килина, прижимая ладони к щекам. — Храм тебе поставлю...
Потом вдруг схватила князя за руку, прижалась к ней твёрдыми горячими губами.
— Ты правду молвишь? Без обмана?
Всеволод разгневанно выдернул руку.
— Великому киевскому князю недостойно слов на ветер бросать. Завтра и скажу боярину Чудину: пусть отпишет тебе два княжьих села — Белозорье и Лесовицу.
— И терем смогу там поставить?
— Терем там есть. Моих праотцев терем стоит там. Будешь в нём осподарыней.
Килина закрыла пылающее лицо ладонями.
Всеволод не спеша двинулся дальше. На душе у него появилось удивительное облегченье. Наверное, Килина долго ещё будет стоять вот так оторопело, не веря внезапно свалившемуся счастью. Усмехнулся: всё-таки великая и сладкая сила эта — власть, когда идёт она на пользу людям, а не для пролития крови...
А Килина бросилась было бежать за князем, но за что-то зацепилась, упала. Потом поднялась, заплакала. Гордята с удивлением смотрел на её обильные слёзы, которые Килина не вытирала и которые стекали по лицу прямо на траву. Мальчик сорвал два цветка ромашки и протянул своей няньке:
— Не плачь, Килька. Князь добрый, да?
Она молча прижала его к себе:
— Может, и добрый, Гордятка. А может, насмеялся. Идём-ка домой...
Со времён старого Кия не было, наверное, такого тяжкого лета для киевлян, каким выдалось лето 6600-е от сотворения мира, или 1092-е от рождения Христа. На Бабином Торжке и наиболее многолюдных подольских торжищах вспыхивали стихийные веча. Простой люд Киева изнемогал от голода и разоренья. Без конца увеличивались и без того большие выплаты и виры — за пользование землёй, водой для питья с труб, лавками, ларями на торгах. Придумывали всё новые и новые пошлины и потяги — за то, что есть воз, соха, плуг, конь, вол, коза, гончарный круг или печь для выжигания горшков и кирпича. Брали увеличенные продажи и правежи от рыбаков, лодочников, кожемяк, лучников, кричников, кузнецов — ото всего чёрного киевского и слободского люда, расселившегося вдоль Почайны, Киянки и Глубочицы, ставившего свои хижины в пущах возле Лыбеди, за Хрещатым яром, за Перевесищем. Большие правежи правили с окольных смердов, которые везли в Киев мехи с зерном и мукой, бочки с медами и воском, связки отделанных кож, туши говяды, баранов, свиней. И смерды приостановили подвоз продуктов на киевские торжища. Торговые площади опустели. Голод постучал костлявой рукой в двери хижин и домов киевлян.
В жару начали повально умирать дети, за ними пошли в царство Пека многие старики и старухи. Гробовщики не успевали делать гробы для покойников. В городе стали появляться волхвы и призывать чёрный люд на расправу с богатеями. Над Почайной и Лыбедью загорелись старые моховицы. От них огонь переметнулся на высохшие от жары соседние пущи и нощеденно пожирал леса вокруг Киева. Чёрный смрадный дым окутал узкие улочки и переулки ремесленного и торгового Подола, горьковатым туманом стелился над плёсом Днепра. Ветра не было ни на единый вздох. Горячее летнее солнце выжигало всю влагу вокруг. Каждый раз приходилось спускаться с крутых косогоров к днепровской воде, к Почайне, и таскать в вёдрах воду. Ибо в колодцах вода также исчезла.
А тут ещё новые знамения бед. Среди бела дня на небе появился огромный светлый шар, который то опускался, то вновь поднимался и таял в вышине. По бедняцким времянкам и мазанкам поползли недобрые слухи. Одни говорили, что скоро настанет конец света, который возвещали черноризцы. Волхвы же, вольно бродившие меж людьми на торжищах, молвили о гневе старых забытых богов, а наипаче о Перуне, который наслал на людей засуху и мор. Это он ночами мечет огневицы по небу и жжёт вокруг пересохшие болота и леса.
Скопец Еремея, вернувшись из-под Полоцка на Двине, рассказывал о мертвецах, вставших из могил и изгнавших из стольного града кривичей князя Всеслава, который ещё во времена Изяслава сидел на киевском столе по воле киевлян. Сей князь, умевший, как молвили, волхвовать, не мог себе ничем помочь. На улицах Полоцка ночью слышен был топот, то мертвецы на конях объезжали город, стучали в двери домов, уязвляли смертным ядом или даже стрелой богатых, попрятавшихся в своих щелях. И что самое страшное — в Полоцкой земле и по всему Подвинью появились такие же стаи мертвецов-татей. Жгли боярские и княжеские погосты, отбирали зерно, одежду, мечи, грабили купеческие обозы...
Игумен печерский Иван отправился к Всеволоду рассказать о беде. Видать, русичи разгневали Всевышнего.
— Ибо сказано: сломаю гордыню вашу, и будет напрасным упрямство ваше, убьёт вас меч пришедший, и будет земля разорена, и дворы ваши пусты будут.
Всеволод угнетённо оглядывался. Где же сын его старший — Владимир? Без него он не может найти выхода. Видел сам: страх и шатание начались среди людей. Города и сёла пустели. На полях не паслись табуны и стада. Нивы поросли бурьяном, стали пристанищем для дикого зверя. Скорбь и печаль разлились по Русской земле. А теперь ещё полоцкий Всеслав своим чародейством поднял мятежи на всю Полоччину. Банды грабителей могут прийти и сюда...
Игумен Иван поучительно вознёс палец вверх:
— Великий князь, чадо великого Ярослава! Нельзя падати в отчаянье. Властью своей должен крепить Русь. Что вокруг тебя нет мужей смысленых? Что одних лоснящихся от жира льстецов и старцев около себя держишь? За елей и ладан, каким тебя окуривают? Для мужа державного это конец. Смерть его яко державца!
Всеволод ёжился от слов игумена. В самом деле, ведь кто его окружает? Одни, как Чудин, старые и древние — и потому злобствуют на всё молодое и умное, которому принадлежит будущее. Они забыли, как и меч держать в руке. Другие — помоложе — хищные и цепкие — расхватали земли, какие он раздавал, и разбежались от него. Иные — обиду в сердце затаили. Молча радуются беспомощности его. На одного сына своего Владимира может положиться, потому и гоняет его по всей земле Русской: то в Ростов, то в Суздаль, то в Чернигов, то в Переяслав... Нет возле него другой опоры...
— А ты, князь, первым подай руку своим старым боярам. Чрез них и руководи.
— Не захотят.
— Здесь мы тебе поможем. Подопрём тебя. Бояры киевские подвластны обители нашей. Вот хотя бы и старый воевода Ян Вышатич. Обижен он твоим невниманием. Позови к себе — муж смысленый есть. Из более молодых призови к себе Торчина и Берендея.
— Молоды ещё.
— Ого-го! По тридцать лет за плечами! Иисус Христос в тридцать и три чудеса творил на весь мир.
Всеволод размышлял. Чесал за ухом. Не любил, когда поучали книжно. Сам знал больше иных — и тем не хвастал. Но заметил, чем меньше знает человек из писаний и чем меньше отягощал свою память знаниями, тем больше ссылался на прочтённое.
Всё же пришлось слушаться советов игумена. Пришлось князю Всеволоду склонить пред ним свою седеющую голову. И ещё за Килину выслушивать упрёки. Негоже ибо князю земли Русской раздавать сёла худородным, да ещё женщинам. Другое дело — дать земли монастырю или какому боярину за заслуги.
— Или князь хочет взять её в жёны? — настороженно прищуривал чёрный глаз игумен Иван.
Всеволод вертелся под его пристальным острым взглядом. Можно было бы и в жёны, известное дело, взять, но не по душе вот эта чрезмерная возносливость её. Ему бы такую, как Живка. То верная опора. Нелукавая и честная. А наложниц — их полно везде. Только пальцем помани! Да они уж опостылели ему. Глупы, но хитроваты, все что-то желают выпросить у него. Платье ль, монисто ль, хусту, а то и землю. Эти мелкие хлопоты связывают его, как верёвки лаптя ногу.
Пока Всеволод размышлял, игумен Иван вместе с другими державными делами решил и это.
Как-то вечером привёл в княжьи палаты женщину в одеянье монахини. Лишь глаза блестели из-под чёрной накидки. Маленькие, колючие, острые — будто лихорадочные.
— Сие Елена, — молвил игумен. — Бери в жёны.
— Над князем издеваешься? — разгневался Всеволод.
— Побойся Бога! Ты державный муж и не можешь блудить. Грех упадёт на всех нас. Елена же дальний отпрыск болгарских царей. Сызмальства воспитывалась в обители Святого Петра. Научена книжной мудрости. За её спиной — ни князей, ни велеможных родов. Не будут тянуть руки к твоему столу и к твоим кошелям. Тиха и смирна.
— Но... она зла! — Всеволод поймал острый взгляд.
— Станет княгиней — и твёрдость её будет оберегать дом от твоих многочисленных просителей. Зачем им душу раскрывать? Дабы каждый мог плюнуть?
Всеволод удивлялся этим хлопотам игумена и его доводам. Возможно, так и нужно к этому относиться. Возможно, такой и должна быть жена князя.
С тех пор игумен Иван стал первым советчиком князя. И самое первое дело, за которое он взялся, стал возвращать ко двору некоторых старых заслуженных бояр. Так вынырнул из забытья и давнишний киевский тысяцкий — воевода Ян.
Ян Вышатич с великой охотой согласился идти в Полоцкую землю. Именно тогда стояли жаркие дни месяца липеня, который ещё называли июлем. Дремучие леса обступали стольный град когда-то многолюдного племени кривичей. Озера и озерки, болота и болотца подступали к самым валам города. Лишь Двина, плавно изогнувшись серебристой подковой вокруг города, стремительно несла свои воды к Варяжскому морю. Звенела её волна, накатываясь на золотистый песчаный берег. Будто песню пела. Может, оттого назвали её славяне-кривичи так мило и звонко — Дзвина, то есть та, которая звенит. В том месте, где в Двину впадает тихая задумчивая Полоть, на высоком каменистом кряже стоял стольный град давних кривичей — Полоцк. Русло Полоти пролегало по заболоченной равнине. Впритык к ней подходили непроходимые леса, которые тянулись здесь на сотни, а может, и тысячи вёрст.
Дорогой им встречались нищие — всё больше старики и дети. Они подходили к дружинникам Яна, протягивали к ним костлявые, морщинистые руки за милостыней, уставившись бесцветными глазами, гнусавили жалостливые слова. И чем ближе подходили они к Полоцку, тем больше встречалось попрошаек. Ян тревожно поднимался в стременах, осматривал дорогу. Сколько же их ещё будет впереди? Ему казалось, что в городе уже никого не осталось из горожан — все подались попрошайничать.
К вечеру приблизился воевода к городу, но не решался в него заходить. Кто знает, что наволхвовал этот старый чародей Всеслав, наследник Рогнединого рода. А если в самом деле там мертвецы рыскали по улицам! На краю болота, поросшего кустами низких верб и кривыми, будто согнутыми, соснами, разбили стан. Так было безопаснее — от болота уже никто не мог неожиданно подкрасться. С другой стороны стана поднимались песчаные холмы. Здесь, у их подножия, поставили стражников из лучников.
После обычного ужина мечники Яна пригасили костры, пустили на травы спутанных лошадей. Подложив под головы сёдла, а под бока мечи и луки с колчанами, улеглись спать.
Яна, однако, сон не брал. Мысли уводили назад, в стольный Киев, воскрешая разговор его с князем Всеволодом, который их замирил. Ян не упрекнул и словом князя, что забрал у него челядницу Килину. Лукавая и льстивая, она давно стала для Яна тяжёлой необходимостью, которую нельзя уже было терпеть из-за её нахальства и гонористости, но от которой не было возможности и избавиться. Но и без Килины Ян из-за многолетней привычки не представлял своего быта. Поэтому, когда капризная челядница огласила Яну о милости к ней великого князя, душа Вышатича взбунтовалась. Считал её вечной принадлежностью своего дома, как серебряную чашу или глиняный горшок. Усматривал в этом поступке князя посягательство на покой своего домашнего очага, на честь рода и на свою собственность.
Давнишняя неприязнь к Всеволоду, подозренья о его виновности в гибели бывшего доброго покровителя Яна — князя Изяслава вспыхнули в нём с новой силой. Поскакал в Туров, как когда-то в Краков, где сидел старший сын Изяслава — Святополк, изгнанный новгородцами. Именно он по старшинству и обычаю Русской земли должен был восседать на отчем столе в Киеве. Но заячья душа Святополка убежала в пятки, когда Вышатич стал звать войной идти на Киев и отобрать у своего греховного дядьки отчий стол.
Потеряв надежду, возвратился воевода назад.
Потому, когда Всеволод позвал к себе Вышатича, воевода настороженно пошёл к нему. Может, узнал о его путешествии в Туров? Может, Килина что-то сболтнула лишнее, ибо, молвят, князь остался к ней благосклонен: в Белозерье, в терем её, время от времени наведывается... Доконает его эта челядница-боярыня!
Но все страхи его улетучились, когда Чудин шепнул ему на ухо:
— Князь жалует... Посылает с дружиной... смотри же...
Яном вновь овладело забытое честолюбие. Теперь у него был законный наследник, который продолжит если не род, то имя его в последующем колене. Иногда, глядя на мальчишеские забавы Гордяты, изнывал душой, и отчаянье вдруг сжимало его сердце. Но детская рассудительность Гордяты всегда тушила его гнев. Паренёк доверительно заглядывал ему в глаза и искренне обещал: «Коль вырасту, я также буду тебя кормить со своего стола и подарю тебе лошадь...»
В конечном итоге жизнь воеводы изменилась с того времени, как Килина привезла ему Гордяту. И он уже верил, что это его собственный сын, уже прикипел к нему душой. Даже Гаина стёрлась из памяти, отступила в тень пред новыми хлопотами Яна о сыне.
Теперь, когда под стенами Полоцка мучила бессонница, он потихоньку обдумывал, как лучше услужить Всеволоду, как усмирить взбунтовавшуюся землю кривичей, как прекратить голод и это повальное нищенство? Послать нужно гонца к князю, дабы прислал сюда обоз с хлебом; видать, люди не доживут до нового урожая, вымрут. Будет некому жать дозревающие нынче хлеба. А коль и соберут зерно, то биричи и тиуны либо эти стаи голодных нищих, бродящих по лесам и дорогам, отберут у смердов хлеб.
Эти думы вконец измотали Яна. От жара угасающего костра ему в спину струилось тепло. Ноги нагрелись под овчиной, грудь вдыхала пахучий воздух зелёных лесов. На тёмном ночном небе высеялись остроглазые звёзды-огневицы. Земля пахла травами и кореньями. Тяжёлыми сладостными каплями падали в душу томные, сквозь сон сорвавшиеся птичьи стоны.
Лето... Уж которое оно в жизни боярина Яна Вышатича, и со счета сбился! — но каждый раз ему кажется, что такое встречает впервые, что раньше всё воспринимал не так болезненно-прощально.
Вдруг слух его уловил чужое движение, треск сухих ветвей под осторожными шагами. Напрягся, — возможно, это конь чей-то близко щиплет траву.
— Кось-кось-кось...
Никто не отозвался на его зов. Лишь сухие ветви затрещали под быстрыми удаляющимися шагами. Вепрь? Зверолов? Сна как не бывало. Вновь прислушивался, вновь напрягал зрение и слух. Ухо вдруг уловило в равномерном шуме леса какое-то далёкое улюлюканье. Будто бы на охоте мчали загонщики, своим воем загоняя зверя на стрелков. Тот воинственный клич нёсся над плёсом Полоти и глухо тонул в лесных чащобах. Потом поднималась его новая волна. Будто уже с другого конца. Воевода окликнул стражников:
— Слышите голоса? — Ещё не верил себе.
— Слышим... — ответили те шёпотом.
— Что это?
— Наверное, мертвецы...
И в это время со стороны болота послышался выразительный свист. Не резкий, а какой-то стонущий, протяжный. Следом за ним все услышали чавканье болота. Всё ближе, ближе...
Весь стан уже был на ногах. Страх омертвил души воинов. Может, это на них идут те навьи, о которых повествовал черноризец Еремея?
— На коней! — тихо сказал Вышатич.
Но дружинники оторопело стояли на месте. Бежать за лошадьми, разбредшимися вокруг стана, никто не отважился. А здесь с болота надвигалось многоногое чавканье, храпенье лошадей, тяжёлое дыханье... Кто они?.. Над болотом стоял густой белый туман. Ничего не было видно. Только слышно шлёпанье по жиже многочисленных ног, и оно неумолимо приближалось к ним...
Дружинники тесно прижались спинами один к другому, ощетинились копьями. Невидимые всадники наконец стали видимыми — выбрались на сухую твердь. Они не видели молчаливых воинов, тихо направились вдоль болота. Никто не послал им вослед ни копья, ни стрелы. Мертвецы, вставшие из болота, ведь были неуязвимы.
— Покойники... пошли на град... Пить кровь из живых. Сие все волхвовские чары старого Всеслава... — шептали потом воины Вышатича, когда страх встречи с неизвестностью прошёл.
На своём веку воеводе приходилось много ходить в походы — и против половчинов, и против дружин мятежных князей, и против волхвов-бунтовщиков. Но против мертвецов?..
Издали снова донёсся протяжный свист. Будто мученический стон... Что это?..
Утром со страхом въезжали в Полоцк. Опустевшие, будто вымершие улицы и дома. Никто их не встречал, никто не расспрашивал. Не было слышно ни пения петухов, ни рёва скота, ни псового брёха. Лишь какой-то невидимый шорох за оградами. Спинами и затылками чувствовали на себе чьи-то тяжёлые взгляды. Оглядывались — никого не видели, лишь за тынами шорох. Звонко тарахтели под копытами деревянные мостовые.
В центре города их молчаливо встретило два деревянных храма. Рядом стояли почерневшие, с провалившимися крышами высокие пятистенные строения: наверное, забытые людьми и старыми богами давние капища кривичанского племени. От старых времён до Всеслава-чародея они сосуществовали рядом с христианскими церквами. В душах полочан, наверное, нашлось место для всех добродетелей и добротворцев человеческих. А нетерпимые фанатики греки не достигали своими изуверскими гонениями этого глухого заболоченного края. Вот и стояли доныне рядом — храмы старые и новые.
У разрушенного капища дружинники увидели старую, согнутую в три погибели женщину. Она не шевелясь сидела у свежего холмика земли.
— Что произошло в граде? — склонился к ней с седла Вышатич. — Где гражане?
Женщина подняла на него опухшее, будто ослепшее лицо и молчала.
— Или враг какой, или мор сгубил людей?
— Навьи... — глухо ответила наконец она. — А ты кто? Ты живой или мертвец?
— Я воевода Вышатич.
Женщина недоверчиво глядела на Яна.
— Детей моих забрали... Теперь моя очередь...
— Дайте ей хлеба...
Кто-то из дружинников бросил ей хлеба. Женщина схватила его, обеими руками прижала к лицу.
— Где же князь ваш Всеслав? — допытывался Ян.
— Сидит на горе... в тереме своём. Ожидает, пока его живьём сожгут полочане. Они обсели княжью гору.
— Будем спасать Всеслава! — обернулся Вышатич к своим воинам. — Мятежные холопы не имеют права поднимать руку на князя. Гей, сотский! А ну-ка, закрой ворота Полоцка, чтоб никто не зашёл в город. Да найди священников, чтоб освятили стены домов гражан. Изгоним нечистую силу из Полоцкой земли.
— Ты, воевода, лучше выгони тиунов и укроти алчных посадников да всех этих метельников княжьих!..
Из-за стены старого капища вышел невысокий худой парень с белыми как лен волосами до плеч. В руках он держал сучковатую палку.
— А это что за явление?
— Вот этой палицей отгоняю таких вот обдирал, как ты. Зачем приехал? Домучить не домученных голодом?
— Яко нарекают тебя?
— Катись отселя! — кто-то крикнул из-за кустов Вышатичу. Под ноги коня упал камень.
Яновы всадники молниеносно стащили с плеч луки. Прошумели в воздухе стрелы. Воины окружили беловолосого полочанина с палицей, выбили её из рук.
— Ты подстрекаешь полочан? Вяжите его!
Беловолосый парень уже лежал распростёртым на земле.
Воины Яна Вышатича своё дело знали.
— Тьфу! — пленник плюнул Яну в лицо. — Грабитель проклятый!..
Ему всунули в рот кляп. Он извивался всем телом, мотал головой, но вскоре притих. В Вышатича вновь полетели из-за плетня камни. Когда дружинники спешились и бросились туда, за оградой лишь что-то зашелестело и стало всё тихо.
Стража запирала и крепко охраняла ворота города. Таинственные всадники, появлявшиеся вечером из чащоб Полоти и Двины, носились теперь под стенами города, но их встречали стрелами острожники и отгоняли подальше. Говорили, что воевода Вышатич загнал отряды навьев-татей в самые глухие болота. Осада терема князя Всеслава мгновенно рассеялась.
На площади, у Божьих храмов, погиб беловолосый мятежный гончар Ставко. Воеводины мечники посадили его связанным на кол. Тут же было оповещено, что подобные наказания ждут каждого мятежника и бунтаря, осмелившегося поднять руку или непростительным словом осквернить власть полоцкого князя.
Скоро из Киева прибыл обоз с зерном из княжьих онбаров. Его раздали в долг под новый урожай голодающим полочанам. Воевода Ян передал утихомиренный град посаднику Юрию и князю-чародею Всеславу, правнуку Владимира и Рогнеды.
Сам же стал собираться в Киев.
...Возвращались с большой осторожностью. Стороной обходили города и веси — вокруг них в чащах и борах действовали многочисленные отряды больших и малых разбойницких ватаг, которых плодили засуха, голод и нежитовица[142].
Оставили за собою Полоцкую и Минскую землю. С осторожностью прошли черниговские леса и козелецкие пущи. Шли вдоль Десны-реки. И наконец вошли в пределы Киевской земли. Здесь почувствовали себя безопасно — ближе к стольному граду, к власти великого князя.
И вдруг, когда ощутили себя уже дома, на отряд Вышатича посыпались стрелы. Раздались воинственные клики. На дружинников неслись ошалевшие, вопившие, будто загонщики на охоте, всадники. Вышатич остановился. Его воины, сбившись в кучу, схватились за мечи. Но стремительный натиск неизвестных всадников смял отряд и с таким неистовством рассёк его копьями, что ему пришлось отступить в глубокий обрывистый овраг, на дне которого пузырилась гнилым духом хлябь. Лошади увязли в ней. А сверху всё сыпались и сыпались стрелы.
Обессилевшая дружина Вышатича вскоре пала духом. Иссяк и запас стрел. Тогда разбойники начали арканить одного за другим воинов и вытягивали их наверх из оврага.
Воеводу вытащили последним. Его поставили рядом со всеми и тут же начали готовить из верёвок петли. Вышатич отрешённо смотрел на ловкие приготовления татей-душегубов.
Уже висел на верёвке один дружинник. Подвели к дереву другого...
— Давно не виделись, боярин. Узнал? — раздался за спиной воеводы голос. Голос этот был хриплым, бабским.
Вышатич обернулся. Он натолкнулся на суровый взгляд огромных серых глаз. Под мохнатой мужской шапкой разбойника чернел выжженный круг ханской тамги. Крепко стиснутый рот обозначил выступившие твёрдые желваки. И вдруг высокие тонкие брови знакомо шевельнулись... Вышатич похолодел. Гаина... Гайка... его боярыня...
— Отпусти домой моих воинов, Гайка... Возьми мою жизнь. Этой цены тебе хватит? — Косые глаза Яна гневно разлетелись в стороны.
Гаина вновь свела брови у переносицы. Потом повернулась назад, к своим людям:
— Сё боярин Вышатич, братья. Может, его отпустим?
— За какую такую милость, Гайка? — возмутился рыжий бородач.
— Когда-то меня спас... от огня Перунового. Нынче же сына моего... отобрал у меня...
— Дабы вырастить из него такого же кровопивца? Любо, лю-у-бо! — едко проговорил рыжебородый.
— Не гожусь судить их... братья. Рассудите сами.
Гаина быстро скрылась в зарослях. Оттуда послышались её всхлипывания.
— Женщина — она всегда есть женщина. Матерь...
— Гайка — наш главарь. Лучше всякого иного мужа. И отважна!
— Что здесь за вече? — раздался голос рядом.
На краю оврага стоял гнедой конь, а с него наклонялся, рассматривая людей в овраге, всадник. Золотистая брачина его сорочки переливалась в лучах солнца. Большие тёмные глаза под широкими дугами бровей насмешливо рассматривали толпу людей. На его крутые сильные плечи свисали космы тёмных волос, и в них сверкнула большая серебряная серьга.
Вышатич подскочил от радости.
— Князь Владимир, се я, Вышатич Ян! Княже! Помоги! Спаси!.. Тати нас загнали сюда!
Всадник молниеносно сдёрнул с плеча лук и натянул тетиву.
— Бежим! — крикнул кто-то из людей Гаины, — Черниговский князь Владимир Мономах!.. Наскочил...
Разбойники бросились врассыпную.
— Стой, не стреляй, князь! — остановил его Ян Вышатич. — Их не достанешь стрелами в чащобе. Обходи с дружиной овраг. А я здесь... Отсюда! Гей, дружина, за мечи!..
Владимир Мономах в следующую минуту выхватил турий рог из-за пояса и затрубил тревогу.
Княжья дружина, разворачивая свои ряды, собиралась вокруг Владимира. Тем временем князь приглядывался к действиям Вышатича, который пробирался по крутому склону оврага к нему.
— А всё же Вышатич! — обрадовался Владимир Всеволодович. — Бежал за кабаном, а поймал боярина! Га-га-га!..
— Повезло мне, князь, что наскочил сюда. Уже бы дрыгал на верёвке ногами! Х-ху... Как вон тот мой добрый молодец. Х-ху... — Вытирал рукавом своё вспотевшее лицо.
— Кого будем теперь ловить, воевода? — хохотал князь.
— Татей-душегубцев.
— Татей? — недоверчиво посмотрел Владимир на воеводу.
— Не шути над старым воеводой, князь, — обиженно набычился Ян. — Видишь, мой дружинник уже раскачивается на верёвке.
— Кто же это его?.. — ужаснулся князь, только теперь рассмотрев дружинника, раскачивающегося под дубом.
— Гайка... Греховная проскупица... — испуганно выдохнул Вышатич.
Владимир с недоверием воззрился на Вышатича. Боярин, наверное, свихнулся. Ещё такого не слыхивал он, чтоб женщина была главарём банды!
— Идём отсюда, воевода. Угощу тебя пивом. Отойдёшь от испуга. — Владимир легко спрыгнул с седла.
Вышатич как-то странно хлебнул носом и, всё ещё шатаясь и оглядываясь, поплёлся за ним следом.
Вдруг он бросился в чащобу. Ему показалось, что перед ним в кустах мелькнули чьи-то босые ноги. Прислонился к дереву и вдруг завопил:
— Вот она! Это она! Держите её!
Напротив него, прижавшись спиной к могучему стволу сосны, оцепенело стояла Гаина.
Дружинники Вышатича также узнали Гаину. Кто-то из них коротко хохотнул:
— Теперь твоя очередь висеть на дереве, окаянная! — Наверное, это был тот дружинник, которому пришлось уж было распрощаться с жизнью и ощутить на своей шее петлю.
Гаина не двинулась с места. Во все глаза смотрела на Вышатича, как бы говоря ему: «Не узнавай, не узнавай, воевода!..» Но воевода отбежал и спрятался за спину князя Владимира, а потом, ткнув в неё пальцем, произнёс решительно:
— Она!
— Трус лукавый... — прошипела Гаина и протянула обе руки вперёд. Тут же дружинники их скрутили сыромятными ремнями.
Нега Короткая так и осталась жить в Претичевой избе. После половецкого набега не было кому поставить вдовице гридя Порея новую хижину. Никого не было теперь у неё. Был в живых только Нерадец. Но его, кровопивца человеческого, прокляла перед всеми богами. Потом надеялась на внука. Думала, что поставит на ноги Гордяту, с ним и будет доживать свой век. Отобрали у неё и внука. Теперь была совершенно одна. Горькими слезами оплакивала свою судьбу. Сыновей троих растила-лелеяла. Ни рук, ни бессонных ночей не жалела для них. Плохого в жизни не сделала — ни другу, ни врагу своему. Но правду люди молвят: доброго человека Бог любит, да счастья не даёт. В тоскливом одиночестве седела и слепла Нега.
Ошалелая Гаина, прибежав из полона, чаяла увидеть сына. Ездила в Киев. Три дня грохотала-стучала в ворота боярина Вышатича. Но боярин напустил на неё псов, а потом двух челядников. Прогнали её.
— Уходи прочь, злодейка! — кричали ей в лицо.
— Я же ваша... бывшая осподарыня... Я из полона убежала! Отдайте Гордяту!
— Нету у нас осподарыни!
— Отдайте сына! — взывала к людям.
— Нет у нас твоего сына. Боярин Вышатич отвёз своего наследника Василия ц Новгород Великий, отдал там в науку ко дьяку. Гордяты же не ведаем!
Много дней бродила Гаина под воротами Вышатиного дома. А потом исчезла.
И Нега Короткая не дождалась никого. Кручинилась по внуку. Плакала над сломанной судьбой Гаины. Кабы могла, отдала бы ей своего сердца частицу. Да вишь ты, иную судьбу накуковала кукушка-зегзица Гаине. Нигде не спрячешься от неё — ни в поле половецком, ни в собственной избе. Потому не зря говорят: не родись красивым, а родись счастливым!
Люди же шёпотом передавали друг другу то в церкви, то на торгу, что Гаина появилась в лесах с ватагой разбойников. Что они, как те бесы, налетают на отдалённые боярские погосты, каких полно вокруг Киева, жгут их, а добро раздают бедным людям. Сказывали, что к ней много охотников идёт: нищие, обиженные судьбой, разорённые смерды, бездомные холопы-беглецы, рабы из невольничьих ям и всякий люд обездоленный. Нега понимала, что израненное людскими обидами сердце Гаины желало насытиться местью обидчикам.
Но весной того года слухи о Гаине утихли. Должно, забежала со своей ватагой далеко, а может, где попала в сети боярских или княжьих острожников.
От горя Нега начала ещё больше слепнуть. А тут ещё Нерадец добивал её окончательно.
Но для Неги он перестал существовать. Знала, что когда-то качала своего второго ребёнка в колыбели. Этот же, живший в княжьем тереме, был биричем, был проклят людьми и всеми богами земными. Его она не хотела знать.
Так и жила.
В тёплые летние дни Нега кое-как ковырялась на огороде, на грядке. На ощупь выискивала пырей или другой сорняк и выдирала его. Красное лето недолго. Еле разгибала поясницу только под вечер. Но руки её не отдыхали и тогда. Сидя на завалинке, связывала в пучки сухие целебные травы. Бессмертник или крапиву, полынь, душицу или зверобой. Всё это подарено человеку ещё старыми богами от болезней телесных. Но ни старые боги, ни новый христианский Бог ничего не придумали от болезней душевных. Правда, христианский Бог Вседержитель пообещал вознаграждение для души в царстве небесном за терпение и муки на земле. Но под конец жизни истерзанная несправедливостью и болями душа человеческая уже ничего не желает. Лишь одного — отдохновенья.
И Нега Короткая в душе почитала всех владык над людьми, моля у них помощи на этом свете не себе, а Гаине и Гордяте. Достала где-то иконку Иисуса Христа, но кланялась и Световиду, и земле, чародействовала на волхвовской чаре у живого огня-бадняка, который зажигали на Новый год. Но мольбы её и чары никому не помогали.
От этого во всём разуверилась. Жила день за днём. Помогала людям травами и заклинаньями. Люди же за это помогали ей помаленьку. Кто кусок полотна подбросит старухе, кто дровишек на зиму, кто пшена толчёного принесёт или воска на свечку.
И вновь пришли летние вечера. Нега сидела на завалинке, перебирая травы, напевала себе под нос песни. Почему-то на старости, когда стало угасать её зрение, удивительно ясно обострилась память. В ней всплывали давно забытые песни, веснянки, приповедки. Откуда и брались. Или, может, сами рождались в ней. Связывались в слова, складывались в стройные припевки. Люди подмигивали друг другу: выживает из ума старая Нега. Когда бы! Им ведь невдомёк, что эти песенки вытягивают из её памяти добрые воспоминания. Ниточка по ниточке — и катится клубочек. И ей веселее на сердце. Будто заново свою жизнь переживает, молодые да весёлые лета возвращаются. Как бы второй век ей даден!
— Нега, слышишь? Иль оглохла уж, бабка? — зовёт кто-то за калиткой.
Нега обрывает песню, которая разматывала в ней клубок воспоминаний. Приставила ладонь ко лбу, прищурила подслеповатые слезящиеся глаза. Кто-то белел у калитки, по голосу — будто соседка её, Вербава.
— Чего тебе, голубица?
Калитка стукнула. По тропинке затопала босыми ногами крепкая баба.
— Хутчее беги к своему Нерадцу, Нега. Говори, пусть спасёт Гаину. В беду ведь попала. Молвят, схватили её мечники Вышатича и бросили в яму в Чернигове. Во дворе князя Володимира. Бедная головушка! Завела душу и тело в неволю... — причитала соседка.
— Нету у меня Нерадца, Вербава. Сама ведь знаешь, что нету. Одна я со своей бедой и одиночеством...
Нега глядела подслеповатыми синими глазами куда-то вдаль, тяжело положив чёрные потрескавшиеся руки на колени. Безнадёжно качала головой. Какие-то тревожные мысли шевелили её сморщенные губы.
— А кто же её спасёт, бедолашную, коль и ты отказываешься от неё?
Нега приподнялась, медленно выпрямилась. Оглядела двор. Держась за стены избы, двинулась к порогу.
Вербава тихо шла следом.
— Нега, ты идёшь? Хотя бы сказала...
Нега отмахнулась от её домогательства рукой.
— Ты к своему Нерадцу? — не отставала соседка.
— Не мой он, людоньки, не мой...
Вербава заволновалась. Схватила её за руку:
— Нега, переступи через свою гордость. Не для себя ведь... от нас всех проси за Гайку. Пусть Нерадец поскачет ко князю Всеволоду или Владимиру. Пусть скажет, она — жена ему пред Богом! Погубят ведь! Погибнет её честная душенька! Ой, погибнет!.. — Соседка горько всхлипывала.
Нега молчала. Думала. Идти к Нерадцу? Был бы это не её сын, чужой — пошла бы. Потому и нынче может пойти. Как к чужому.
— Дай-ка мне палку в руки, — Махнула рукой соседке: — Не вижу, куда она подевалась.
Вербава пошарила там-сям, нашла её палку. Нега одной рукой оперлась на неё, даже грудью прилегла, а другую руку заложила за спину, будто хотела пригасить старческую боль в пояснице.
— Попробую... Пойду...
Вербава облегчённо вздохнула.
У ворот Красного двора Нега остановилась. Постучала в доску палкой. Там залаяли псы. Ого! Нерадец обзавёлся сворой псов, должно, на людей уже не надеется!
Долго ждала старуха, пока открылась калитка. Перед ней предстал высоченный здоровый детина.
— Сие ты, Нерадец? — несмело произнесла Нега. Её подслеповатые глаза не узнавали в этом верзиле родного сына.
— Ну я. Так что?
Но голос!.. голос был его, Нерадца.
— Гайку в поруб бросили в Чернигове. Спасай.
Нерадец покачался на широко расставленных ногах.
— А мне что за дело?
Нега постояла, подумала. Повернула назад. Шла, палкой ощупывая твёрдую тропку. И уже издали услышала, как зычный голос Нерадца кого-то позвал во дворе... Что ж... Она сделала своё дело.
Снова примостилась на завалинке, связывая травы в пучки, и начала тихонько причитать:
— Охо-хо! Всевидящий боже Световид! И ты, Христос, сын человеческий милостивый. Всё видите, всё знаете. Снимите тяжесть с души невинной и чистой. Тучей закройте её от проклятого ока Чернобога, небесами накройте, на главу красное солнце положите, подпоясайте зарницами, частыми звёздами обтычьте, острыми стрелами от всякого злого умысла спасите... — Нега подняла лицо вверх к вечернему небу, прищурила слепнущие глаза и вновь зашептала: — И ты, Вечерняя Заря. Как сама тихо гаснешь-исчезаешь, так чтоб и злоба к нам, бедным, погасла у врагов и надругателей наших. Уйми-усмири врагов наших, обожги супостатам сердце... Злые замыслы дабы не возносились, дабы не приносили нам горькой беды...
Но что ж Нерадец? Нега поднялась на ноги. Она сама пойдёт в Чернигов!..
Нерадец тоже двинулся в путь. Но в противоположную сторону, чем Нега, — ехал к Киеву, к князю Всеволоду. Ведь Нерадец столько сделал для него — для его восшествия на киевский стол. Но и то сказать, много врагов Всеволода попряталось в щелях. Как тараканы, выжидают, когда выползти, чтобы что-то ухватить или исподтишка под ребро меч ему всадить.
Знал Нерадец, что его помощь вновь нужна Всеволоду. Потому и осмелился попросить за Гаину. Вытащит её из ямы. Отойдёт её сердце, благодарностью отзовётся к нему. Как было это когда-то. Уже столько лет жила в нём память о мимолётной любви Гаины к нему. Такая пылкая и такая горькая... Непонятою осталась для него эта любовь, как и душа Гаины. Если бы раскрыл её тайну, может, другим бы стал на этом свете. А может, и нет. Этого он не знал. Знал лишь, что всю жизнь желал подняться над другими, как и отец его Порей, который для этого бросил семью и стал княжьим гридем. Нерадцу же мало было этого. И он достиг большего. Любовь Гаины помогла ему в этом. Нерадец теперь возвысился над простым людом. Выполз на чужой крови и на чужих слезах вверх. Но зато потерял любовь Гаины и её саму. Теперь боги смилостивились над ним. Посылали ему возможность вернуть её себе.
Нерадец снова поверил в свою судьбу. В милость князя. В спасение Гаины. Может быть, её уже привезли в Киев, чтобы на вечевой площади у стен Святой Софии, при народе погубить, как это делали со всеми волхвами, чародеями и разбойниками. На страх иным. По закону правды Князевой.
Приближался к Демеевой слободе, когда услышал далёкий звон колоколов. От стольного Киева ветер доносил. Били в колокола размеренно и тяжело, Холодный страх вошёл ему в сердце. Чем ближе подъезжал к стольному граду, тем яснее слышал тревогу киевских колоколов.
Наконец Золотые ворота. Сквозь неширокие эти ворота, сжатые с двух сторон могучими каменными стенами, которые поднимали над собой высокоглавую стройную церквушку Благовещения Богородицы, вливались толпы людей. Смерды-пахари, слобожане из окольных слобод, ремесленники, бродячие монахи. Кто пеши, кто на лошади, кто на возах. Нерадец осадил коня возле седобородого нищего с полотняной торбой на боку.
— Чего звонят-то?
Нищий перекрестился. Поднял бельма глаз к солнцу.
— Князь Всеволод, молвят, отошёл в царствие небесное.
Что делать? Опоздал он!.. Нет Всеволода... Нет его единственного свидетеля грехов кровавых. Все страшные тайны Нерадца навеки умерли вместе со Всеволодом!.. Никто не посмеет сказать нынче: Нерадец — убийца. Нерадец теперь только велеможный бирич Васильковский, кого сам князь жаловал за доблести и твёрдую руку! А поставил его биричем молодой князь Владимир Всеволодович, нынче наследник киевского стола. Никто не посмеет сказать о нечистых руках и грязной совести Нерадца, который боялся только одного киевского князя...
На Княжьей горе пышные похороны. Ревели песнопения монахов и владык. Звенели-рыдали колокола. В раздумьях склоняли головы киевляне. Шарили вокруг колючие взгляды младших князей и княжат, бояр, знатных дружинников. Софийская площадь до самого храма Богородицы, усыпальницы русских князей, была заполнена людьми. Тихо слетали с уст слова. То здесь, то там:
— Где же положат его?
— Говорят, отец Ярослав Мудрый его больше всех любил. Самый меньший сын! И завещал положить рядом с ним.
— Самый меньший и самый учёный — это верно. Знал читать книги пяти народов. Смысленый был князь. Но державец — негодный.
— Охо-хо! Сколько уже тех князей лежит в Десятинной церкви! Скоро и места не хватит...
— Добудут! Вон сколько монастырей вокруг — и Дмитровский, и Михайловский, и на Клове, и в Печёрах. Нынче черноризцев больше, чем смердов. Все молятся за князей. А кто же помолится за ратая?
— Чу! Тут никто за тебя, брат, не помолится. Иди к Каневу. Там есть Перунов девственный лес и капище в нём Перуна. Вот и помолишься сам за себя. Зачем надеяться на черноризцев? Это дети Чернобога!
— Т-с-с... Не богохуль, язычник! В Киеве ведь, не в своих Перунах.
— Кто же сядет на киевский стол? Меня прислали поспрашивать. Да и совет дать.
— Кого советуешь?
— Всеволодовича. Нашего князя Владимира, от Мономахова рода. Руки и разум крепкие, державные. Последние годы всем правил вместо отца своего — ведомо.
— Не по закону твой совет. Стол киевский должен перейти в руки старейшего в роде Ярославовом. Князь Изяслав старший был Ярославич, оставил ведь своё семя и взрастил наследников.
— Ярополка давно нет. Остался один Святополк, тот, который в Турове сидит.
— Что-то тихо сидит. Не видно и не слышно. А Всеволодович в Переяславской земле половцев за узды держит в степи, в граде Чернигове державит по закону. Мирил крамольных князей волынских...
— Не по закону это. Святополк — по закону.
— Не хотим Святополка! Будет снова ляхов водить на нас. Хотим Владимира!
— Сие увидим, кого захочет киевское вече!
— Владимира и захочет.
— Не по закону. По закону нужно Святополка!
— ...Владимира!..
Ещё в Десятинной церкви звенели ангельские голоса, утешая живущих обещанным царством Божьим, а Софийская площадь уже бурлила в гневе. Кто-то добирался к вечевому колоколу, его стянули за ноги, но кто-то всё же добрался к вечевым бечёвкам и повиснул на них. Вечевой колокол властно и требовательно рявкнул над Киевом.
Смельчака, однако же, схватили и оттащили от звонницы. Но толпа всё больше приходила в неистовство:
— Хотим Святополка! Хотим по закону! Пусть уничтожит виры и продажи!
— Владимира Мономаха желаем! Он усмирит Степь половецкую... Иначе — всех нас в полон!..
Нерадец, зажатый разъярённой, разгорячённой толпой, еле-еле пробрался к княжескому двору: знал, что после похорон князья придут на Всеволодов двор справлять тризну. Новый киевский митрополит, скопец Иоанн, которого из Цареграда привела дочь Всеволожья — Янка-Анна, в отличие от предыдущего, отошедшего к праотцам, не вмешивался в обычаи и законы русичей. Длинный, худой, он скорее был похож на мертвеца, нежели на владыку, поэтому с первого же дня окружающие ожидали его скорой кончины. Говорили: «Сие мертвец пришёл». Должно, Янка-Анна, игуменья женской обители, намеренно выбрала для Киева такого владыку, дабы не вмешивался в дела Русской державы и Русской Церкви. Занятый молитвами и многочисленными собственными болезнями, не зная речи русской, Иоанн-скопец не мог запретить и языческой тризны, к которой русичи издавна были приучены обычаем.
На Всеволожьем подворье было многолюдно. Челядники, отроки, осторожники, повара, князья мелкородные, бояре — все, кто знал, что ему может не хватить места за столом, суетились и заблаговременно занимали удобные места. Все старались что-то выведать, вынюхать друг у друга и на всякий случай подвинуться ближе к Владимиру Всеволодовичу. Старались угадать, что говорил умирающий князь своим сыновьям — Владимиру и Ростиславу, кому повелел брать державную власть, на кого советовал опереться. Не вспоминал ли покойный законного наследника — Святополка Туровского, которого изгнали новгородцы. Коль придерживаться заповедей Ярослава Мудрого, именно он должен восседать на киевском столе.
Тревожный, настороженный гул в палатах, затаённые взгляды, брошенные невзначай, выражение скорби, тут же сменяющееся откровенным любопытством, когда до ушей долетало откровенное слово.
Всё-таки киевским князем быть Владимиру Мономаху. Поэтому Нерадцу нужно было во что бы то ни стало попасться ему на глаза. И за Таину, и за себя просить! Да, за себя! Что такое бирич? Невелика и честь для Нерадца. Мог бы стать он и княжьим посадником где-нибудь в большом городе — Козельце или Вышгороде. Разве мало он прислуживал Всеволоду?
— Нерадец, и ты приехал разделить наше горе? Спаси тебя Бог...
Нерадец встрепенулся. Рядом стоял князь Владимир. Будто ростом выше стал, смуглое лицо вытянулось, медово-карие глаза светятся печалью. Весь он какой-то мягкий, по-человечески близкий.
— Князь! — задохнулся Нерадец от волнения. — Отец твой был мой благодетель.
— Знаю сие, Нерадец. Не забуду твоей службы.
— Мои руки, мой живот — всё тебе отдам, — всхлипнул расчувствованно Нерадец.
— Спаси тебя Бог...
— Не обойди милостью своей...
— Милостью? Чего же ты хочешь, Нерадче? — устало отозвался Владимир. Знал, что теперь все льнут к нему с просьбами. — Ты где сейчас живёшь?
— В Василькове я. Биричем я... Возьми меня к себе... Живота не пожалею...
— Хорошо... — задумчиво молвил Владимир. — Иди в Чернигов. Будешь тиуном при моём дворе. Или конюшим.
Нерадец тяжело шлёпнулся на колени, даже половицы загудели.
— Князь, более верного посадника тебе не найти!
— Хочешь посадником быть? — Владимир возмущённо отступил от Нерадца. Недовольно сморщил лоб. — Подумаю. Иди.
— Куда же?..
Глаза князя Владимира мгновенно вспыхнули каким-то воспоминаньем.
— Скачи в Чернигов. Доверши там мою волю и суд яко посадник. В порубе... Да нет... Найди там Славяту и Бориса, скажут тебе...
Нерадец подполз к ногам Владимира, обхватил руками его багряные, как у византийских царей, сапожки.
— Н-ну... иди уж... — брезгливо насупился князь, освобождая свои ноги из железных объятий новоиспечённого своего посадника.
Сердце Нерадца чуть не разорвалось от радости. Весь мир наполнился для него единым величавым и всемогущим словом: посадник! В древнем граде Чернигове, который издавна своей славой соперничал со златоглавым Киевом...
Дорога почему-то показалась близкой. Не успел опомниться, как добрался к валам Чернигова, как прискакал на Княжью гору и рыкнул так, что стая серых воробьёв взлетела с крыши терема:
— Волею киевского князя Володимира Мономаха... посадником здеся!
Соскочил с загнанного коня, широко расставил ноги, руками упёрся в бока, выставил вперёд широкий бородатый подбородок, будто готовился кого-то ударять лобастой головой, крепко сидевшей на короткой бычьей шее.
— Где поруб? — крикнул дворне, выбежавшей на подворье и с удивлением разглядывающей своего нового повелителя. — Волю княжью и суд вершить буду. Славята и Борис! Где они? Говорите всё.
К Нерадцу несмело подступили двое черноусых смуглых молодцов, выжидательно положили ладони на черень мечей.
— Ведите к порубу, — прохрипел Нерадец.
Славята и Борис вдруг опустили глаза. Один ковырял носком бачмаги землю, другой теребил пальцами левой руки кончик уса.
— Беда, посадник... Кгм... Пустой нынче поруб. Все пойманные тати сбежали... Какая-то нечистая сила... кгм... им помогла открыть... ещё прошлой ночью... кгм...
— Где же были осторожники? — злобно прошипел Нерадец.
— Кгм... спали... Крепко спали... опоенные зельем ведьмовским. Нашли возле них пустые кружки с остатками отвара мака...
И без того толстая шея Нерадца напряглась в страшном гневе, побагровела.
— Р-разыскать!.. Догнать!.. — Хлестнул батожищем о землю новый черниговский посадник.
— По коням!.. — бросились Славята и Борис к конюшням. Нерадец удовлетворённо посмотрел им вслед. Потом посмотрел на дворовую челядь.
— Где стольник?
— Я. — В поясе переломился пред Нерадцем маленький сухонький человечек. Когда поднял голову, разогнулся, смело и твёрдо посмотрел в лицо Нерадца. Будто облил его ведром ледяной воды.
Нерадец почувствовал себя в чём-то виноватым. Опустил глаза. Нет, нет, он ни в чём не знал за Собой вины. Он прибыл чинить княжескую волю и будет сие делать непреклонно! И здесь Нерадец ощутил нестерпимый голод. Конечно же — третий день ни крошки во рту не было.
— Что-нибудь... поесть...
Маленький человечек ещё раз учтиво склонился пред Нерадцем и, повернувшись к челяди, хлопнул в ладошки. Нерадец повёл носом, уловив запах запечённой свежатины. Глотнул набежавшую в рот слюну. Теперь у него ежедневно будут княжеские яства!..
Славята и Борис уже за Черниговом вздохнули облегчённо. Нерадец не дознался, что это они открыли крышку поруба для Гаины... Теперь желали одного — чтобы она быстрее уносила ноги подальше от Чернигова и не попала на глаза этому сумасбродному посаднику.
Каждый из них молча припомнил свою мать — Отраду-Улу. Что сказала бы она им? Наверное — похвалила бы... Она ведь всегда учила их делать добро, спасать людей от беды... И сама всю жизнь спасала бедняков половчинов или пленников. Везде, оказывается, бедных людей жизнь не жалует... И у них, братьев-половчинов, доброе сердце — сердце матери-русинки, которое подарило им отчизну и великий, добрый и мудрый род русичей. Но злых, жестоких и предателей они не признавали и здесь.
Уже далеко от Чернигова их догнал Нерадец, которого они молча и единодушно возненавидели.
Нерадец был снаряжен в кольчугу и шлем. Его могучая грудь и плечи напоминали богатыря со степной заставы, стоявшего на страже нив и городов русичей. Кто-то из дружинников восторженно прищёлкнул языком... Нерадец был счастлив. Ещё больше выпятил грудь. Да, здоровья и красоты богатырской ему ни у кого не занимать!
На следующий день поисков убежавших разбойников Нерадец разделил дружину на два отряда. Один — со Славятой во главе — пошёл в обход дороги, ведшей на север, к Новгороду-Северскому, а другой повёл он сам и вывел на козелецкий путь.
Стоял знойный летний день. На синем раздолье неба плыли, как лёгкие ладьи, белые облака. Парило от разомлевшей на солнце земли, пьянил томящий дух цветущих трав, зелёных листьев. Цвели липы. Как невесты, опускали вниз свои пышные нарядные ветви, подставляя их лучам солнца и хлопотливым пчёлам. Цвела земля. Буйствовало лето. Тугокрылый ветерок, сорвавшись откуда-то, навевал душе безмятежность, пробуждал извечную жажду к жизни.
К Нерадцу подъехал отрок из его дружины.
— Видел сейчас в лесу, под соснами, двух женщин. Ягоды, молвят, берут. Может, что знают, спросить бы у них.
Взгляд Нерадца обострился.
— Веди их сюда.
Женщины ступали осторожно, держась за руки. Одна была слишком старой, согнутой, тяжело опиралась на сучковатую палку. Другая — молода, легко переступала стройными ногами через сухие ветки, изгибаясь тонким станом, пробиралась сквозь заросли. Отрок ехал за ними на коне.
Вдруг молодая удивлённо остановилась, закрыла лицо руками. Нерадец замер, не поверил своим глазам, узнав в старой женщине свою мать.
— Это ты, Нега?
Перед Негой Короткой вырос могучий воин в сияющей на солнце кольчуге и шлеме.
— Я...
— Кого ведёшь с собой?
— А ты кто будешь? Будто... будто голос твой знаком.
— Я Нерадец. Новый посадник в Чернигове.
— Коль Нерадец, почто не называешь меня матерью?
— Нету матери у меня. Я сам по себе.
— У каждого листика есть веточка. У каждого дерева есть корень. Отречётся дерево от корня — и гибнет.
— На то оно и дерево. А я, видишь ли, человек. Живу.
— Разве ты живёшь? Ты давно уж пуст душой и сердцем, жалею, что я тебя ещё дитём в колыбели зельем не опоила! — Нега сердито плюнула на землю.
— Ага, вот как нынче стражников маком опоила?
— Никого я не опаивала!
— Зачем высвободила её? — кивнул на женщину, стоявшую в стороне. — A-а, так это ты, Гайка? — Присмотрелся Нерадец и удивился, что эта долгожданная встреча не взволновала его сердце. — Я тебя сразу-то и не узнал.
Таина выпрямилась, тряхнула золотисто-русыми короткими прядями волос. Куда ж косу дела?
— Думала — спрячешься?
— Я не прячусь от тебя, Нерадец, — спокойно сказала Тайна и вздохнула.
— Напрасно. Знаешь ведь, петля давно по тебе плачет или костёр ведьмовский. На площади в Чернигове или в Киеве, у Святой Софии, где захочешь.
— Нет моей вины, — гордо отрезала Таина. Её серые глаза потемнели от вспыхнувшего гнева.
— Есть, Гайка. Перед княжеской властью и ответ будешь держать.
И, забыв о своём первом порыве спасти Таину, вымолить для неё прощение у Владимира, он ощутил свою силу вершителя суда. Вот сейчас упадёт перед ним на колени. Заломит над головой руки... начнёт молить-причитать... Пусть!..
Но Таина молчала. На её побледневшем, в капельках пота челе резко обозначился круг ханской тамги. Нерадец ужаснулся. Она... Раба! Ногайского хана рабыня!.. Наконец её пересохшие от жажды губы жёстко усмехнулись:
— Не быти сему, Нерадец. Мои боги меня защитят и спасут. Отпусти домой мать и помоги ей дойти.
— Я не уйду от тебя, дочка, не гони, — встрепенулась Нега.
Нерадец хмыкнул — старая мать его, видите ли, себе и дочь нашла уж.
— Иди, Нега, как и пришла, своей дорогой! — грозно обратился к матери. — А эту... свяжите ей руки.
Отроки вмиг связали Гаине руки за спиной.
— Нелюди проклятые! Что делаете? Отпустите её! — вопила старая женщина.
На этот вопль никто не обращал внимания.
— А мы ещё других беглых поищем. От суда княжьего никто не убежит! — Нерадец поднял вверх руку с кнутом. — Ведите к Чернигову.
Два отрока набросили на шею Гаины верёвку и повели её, как последнюю скотину. За ними, спотыкаясь, поплелась и старая Нега. Она задыхалась от ходьбы, роняла и вновь поднимала свою палку и опять спешила за Тайной.
Стояла горячая летняя пора. В воздухе висело влажное марево. Но когда выбрались из леса, сразу стало легче дышать и все почувствовали близость реки. В лицо повеяло прохладой, влагой, дыханьем луга. Ещё немного, и вот он — берег Десны.
— Пить, — попросила Таина стражников.
Двое молодцов переглянулись, сняли с её шеи петлю. Разрешили подойти к воде.
Нега, всё спешившая помочь Гаине, увидела, как она вошла по колени в воду. Как наклонилась, держа за спиной связанные руки. Как опустила в тёплую волну своё лицо.
Запыхавшаяся Нега упала перед стражниками на колени:
— Сыночки, отпустите душу праведную и чистую на волю. Весь век буду молиться за вас.
Нега прижималась лицом к их ногам, старалась обхватить их руками, целовала землю.
— Уходи отсюда, старая. Служим князю, не тебе.
— Охо-хо!.. Небо и боги! Помогите... Помоги, река Десна, — молилась Нега, обращаясь к земле, к небу, к реке... — Омываешь ты крутые берега, жёлтые пески и белые камни горючие своей быстриной и волной ясной. Спаси дочь мою единственную! Вынеси в чистое поле, в тёплое море, за топкие болота, за зыбучие пески, за сосновые леса. Мать-водица, река-голубица, бежишь ты по пенькам-колодам, по лугам-болотам, очищаешь берега и землю от гнуса. Сними и с Гаины, дочери моей, проклятье Мораны. Спаси от смерти её... Возьми вместо неё меня, немощную, всеми покинутую... Охо-хо... — молилась старая Нега на берегу Десны.
— Мама, что ты так кручинишься? — крикнула ей от реки Таина. — Зачем мне жизнь такая? Не хочу жить... Прости!.. — Гаина посмотрела на своих стражников — они сидели на обрывистом берегу, переговаривались, — рывком бросилась в быстрину и накрылась волной.
Вскоре её голова вынырнула и вновь скрылась под волной. Лишь течение закрутилось-завертелось воронкой, принимая драгоценный дар.
Над зелёными лугами и тёмно-синей полосой леса прокатились раскаты грома. Вспенилась белой пеной Десна. Перун-громовик метнул огненную стрелу в сторону вдруг почерневшего леса.
На берегу Десны стояли три неподвижные фигуры. Будто не замечали густого дождя, хлеставшего по их спинам. Дажьбог посылал земле свою любовь и жизненную силу.
Буйствовать урожаю на земле Русской. Да не всем его жать...
Часть четвёртая СМЕРТЬ ПЛЕМЕНИ
Глаза внимательно всматриваются в вязь письма. Нестор прочитывает слова. Скорее догадывается. И снова: одно слово — а целый мир встаёт перед ним.
...Нашествие... Чернеет горизонт от чёрной орды. Ширь степи перегородили воины князя роденьского Люба. Кольчуги и шлемы их сверкают на солнце. Перегородили они грудью свою степь. Своё поле...
Чёрные столбы пыли всё ближе. Вот отрывается от неё отряд конников. Мчит, как ветер, на воинов Люба. Они же стоят стеной, ощетинившись мечами и копьями.
Это были смуглые, черноглазые, скуластые степняки в серых войлочных одеяниях и кожаных шлемах. Град стрел посыпался на первый ряд русичей, ощетинившихся мечами и копьями и не подпускавших врага к своим тылам. И вновь отряд пришельцев... И ещё один... и ещё... Будто лавина сорвалась с горы и уже со всех сторон обступила остров русичей. Дрогнул яловец[143] на высоком шлеме князя Люба и потонул в кипящем водовороте исступлённой сечи. Трещат, ломаясь, копья. Звенят мечи, скрежещет железо кольчуг. Над головами шумит дождь стрел...
Лютая сеча... Головы русичей вязала в снопы, белыми телами застилала поле, чёрным вороньем кружила над побоищем. Когда солнце, отяжелев, покатилось на запад, к росичам пробился отряд Будимира. Проложил путь через людские тела, по чёрным головам степняков, на помощь князю Любу и небольшому числу уцелевших роденьцев.
Лишь вечером ордынцы отошли от росичей.
Будимир стряхивал с себя пыль, вытер мокрое от пота лицо и шею разорванным рукавом рубахи. Огляделся вокруг, где же князь Люб? Во время сечи видел его мелькавший красным яловец рядом.
К Будимиру подвели пленника.
— Какого рода-племени народ твой? Откуда? — хрипло спросил он.
Пленник гордо оглядел поле, усеянное мёртвыми телами светловолосых росичей. Злобно блеснул чёрными глазами. Лицо его, смуглое до черноты, всё было в шрамах от давних ножевых ранений.
Степняк, тыча пальцем себе в грудь, показал вдаль, куда отошла орда. Его резкий гортанный голос округлял все звуки, и от этого казалось, что речь его клокочет в горле.
— Наш народ велик и могуч. Наше племя наибольшее, и называется оно — аланы, или ясы. Мы — аланы. Мы — ясы. Никто нас ещё не победил. И вы не одолеете нас. Видите, сколько вас уже осталось? Кучка. А нас — тьма! Мы раздавим вас...
Все, кто слушал его, поняли: это пришли аланы. Это пришёл новый народ.
— Мы знаем только победы... или смерть... Мы...
В это время над головами росичей прошумела стрела и впилась в глотку пленника. Он пошатнулся и, мягко подкосив ноги в коленях, свалился на землю.
Будимир поднял глаза на воинов:
— Победил... Но... где же Люб? Где князь?
Воины расступились. Пред ним на земле лежал князь Люб. Длинные русые волосы его как солома разметались по взбитой копытами земле. Глаза его были открыты, смотрели в вечернее небо, всё ещё красное, будто от стыда за людей, убивающих друг друга.
— Брат Будимир, позволь начать захоронение. Скоро ночь. Не успеем и могил вырыть. А утром... Кто знает, будет ли кому засыпать землёй нас.
Будимир опёрся на меч, смотрел в утомлённые лица воинов и мёртвого князя Люба. Теперь уж он отдохнёт. Наработался князь, хватит на весь его век.
— Нашего князя заберём с собой, должен лечь в свою землю, — гудел голос роденьца-кузнеца Бабоши.
Будимир не противился. Кто он им, этим отважным воинам? Лишь побратим по мечу. А завтра утром вновь покатится на них орда. Вновь будет сеча...
Это уже была не сеча — побоище. Катились головы роденьских россов и Полянских воинов от кривых и длинных мечей непобедимых аланов. Трещали кости. Храпели лошади. Никто не просил пощады. Будимировы глаза не видели перед собой ничего, кроме приплюснутых, покалеченных жестокими шрамами безбородых лиц, кроме занесённых над головой мечей...
Вдруг заметил: степняки убегают. С испугом поворачивают коней и бегут в степь. От какой силы? Их осталась всего горстка — отважных и ошалевших от сечи людей. Повернул назад голову. И в это мгновение увидел, как из плоского нагорья в широкую долину, где бились его воины, с поднятыми мечами, с гиком, со свистом летели конники! Над передними всадниками развевались хоругви и чёрные бунчуки князей.
Подмога!.. Долгожданная и необходимая помощь! Старый Славута сдержал своё слово — прислал великую рать на помощь князю Любу. Зелёные хоругви с золотистым кругом — под ними бились поляне. Белые хоругви с зелёной и синей полосой — знамёна северян и деснянских полян. А ещё... не верил глазам: на ветру трепетали хоругви его родного племени — уличей: перекрещивающиеся голубые и синие полосы на треугольнике полотна. Будто зелёные нивы уличанской земли, перевязанные голубыми ручьями и реками, пришли биться на росское поле с чёрной ордой.
Аланы бежали. Изо всех сил гнали своих коней назад, заворачивали кибитки и стада — только чёрные облака взбитой земли подымались вослед, в которой таяли, растворялись непрошеные пришельцы.
По лицу Будимира текли слёзы, грязные от пыли, от пота, от крови. Вот он, сладкий миг победы!.. Горькой победы, как листья полыни! Тяжёлой победы!..
Невысокий черноусый и черноволосый верзила подскочил к Будимиру. Он держал в руке блестяще-серебристый бунчук. Князь! Будимир показал ему рукой на давно остывшее тело Люба. Князь в гневе поднял бунчук. И умчался вслед орде. Всадники ринулись за ним. Уже через мгновенье они скрылись в тучах чёрной пыли, прикрывшей хищную орду.
Когда князь Чернь, а это был он, с дружиной вернулся назад, был уже вечер. Отдавая последний долг умершему, воины вокруг тела Люба воткнули в землю свои мечи. Потом переложили тело на дерюгу, подвесив её меж четырьмя всадниками. И двинулись в путь.
Лошади шли коротким, лёгким шагом, низко опустив головы. Их длинные гривы доставали травы.
— Куда идём? — тихо спросил Будимир у Черня, ехавшего рядом.
— В землю Полянскую.
— Добрый был князь.
— Тебе князь, а мне побратим. Поставлю ему в своей земле град и нареку его именем. Пусть будет Любеч-град. В память потомкам...
Когда Добрин опомнился, был уже белый день. Под ним тихо поскрипывали мягко катившиеся по земле сплетённые из лозы колеса. Впереди шли не торопясь круторогие серые волы. Одна пара позади другой. Сколько же пар волов запряжено в повозку? Добрин никак не мог подсчитать — мешали огромные крутящиеся плетёные круги-колёса.
Он огляделся вокруг. Следом за его повозкой, на которой он лежал, следовали другие. На некоторых из них были натянуты высокие халабуды из плохо выдубленных кож. От них шёл тяжёлый запах. И к ним липли чёрные мухи.
Добрин почувствовал, что и по его лицу ползают мухи. Хотел поднять руку, чтобы отогнать их. Но его руки были привязаны к туловищу. Он лежал на повозке как неподвижное бревно. И никак не мог припомнить, что с ним случилось...
Он стал вертеть головой, перекатываться с боку на бок. Наконец увидел на соседней повозке Власта. Глаза его были закрыты.
— Власт! — Тот поднял голову. — Где мы?
— Не знаю. Нас захватили какие-то ордынцы.
Вновь скрипели возы. Над головами плыло слепящее белое солнце, иссушая мысли, чувства.
А плетёные круги колёс всё катились и катились, раскачивая его широкое ложе, оставляя позади себя вечера, ночи, рассветы. Горячие дни зарева месяца...
Катились вдоль Белой дороги на запад.
Но однажды всё это закончилось. Ему развязали руки, поставили на ноги и заставили идти, держась за ярмо первой пары волов. Теперь Добрин мог подсчитать — его повозку тащило шесть пар волов.
Соседний воз вёл дядька Власт. Заметил, что рядом с каждой повозкой шли поводыри. Наверное, такие же пленники, как и они.
Переплывали какие-то реки и речушки. Буг? Днестр? Прут? Долго обходили стороной леса и дубравы. Наконец остановились. Власт передал: ордынские всадники умчались вперёд, наверное, где-то наскочили на сторожевой заслон.
Через несколько дней вновь двинулись дальше. Оставляли за собой сожжённые леса и веси. Миновали высокую гору-курган. Сожжённая её вершина будто плугом вспахана. Осталась на ней только каменная баба[144], которая с удивлением глядела на чумной почерневший окружающий мир. Неужто это... конечно же Девич-гора! У её подножия — сожжённая Лепесовка...
Значит, они уже на земле дулебов.
Горькие думы обжигают сердце Добрина. Где же мудрость твоя, волхв Остромов? Почему ты не уберёг народ свой от беды? Гнался за богатством, стремился к сытости... забавлялся красивыми словами. И... потерял свой народ.
А ты, престарелая баба скифская, почему не научила Световида дулебского страшной правде? Разве тебе неизвестно, что эта земля много поколений слышит бряцанье чужих мечей, что — пока существует род славянский — должен он защищать себя от Степи. Молчишь! Не желаешь рассказать людям, что нужно не только услаждать свою душу медами и песнями, а и о мечах необходимо беспокоиться!
Вот и дулебы... пропели свою землю... протанцевали волю...
А орда катилась узкими лесными дорогами — больших лесов не обойти. Иногда их останавливали защитники дулебских селений. Но ненадолго.
Наконец вновь остановились. Жгли костры, пекли, жарили, варили награбленную еду. Пьянели от браги и медов. Клекотали от довольного хохота. От пресыщения животов. От лёгкой победы.
Крутоплечий алан, наверное вождь, воссел на двухколёсной повозке, в которую запрягли четырёх измученных молодых дулебок.
— Но-но! — покрикивал развеселившийся воитель и хлестал плёткой по их спинам.
Женщины прикрывали руками головы и отчаянно вопили. Потом потащили повозку, сопровождаемые взрывами хохота.
Земля-долготерпеливица, что даёшь глумиться над красотой людскою?! Но ведь... это Радка!.. Среди них была его Радка!.. Почему земля не разверзлась под ногами Добрина! Он как слепой двинулся к своей повозке.
Там сидела старая аланка и огромным острым ножом вычищала воловью шкуру. Добрин, как бы проснувшись, одним взмахом руки выхватил из её рук нож и, подскочив к вождю, со всего плеча опустил его на спину мучителя.
Он ещё успел протянуть к Радке руку. Но сильный удар копья в живот свалил Добрина с ног...
А орда двигалась дальше...
Долго ещё аланы-кочевники, поднятые гуннским нашествием[145], чёрным смерчем проносились над землёй Причерноморья, Приднепровья, Подунавья. Они прошли всю Европу, до самого Рейна, Британских островов, Галлии и Испании. И растворились среди тех народов. Только часть их орд осела в бассейне Верхнего Донца.
Нестор отодвинул от себя старый пергамен. Глаза его уже не различали знаков и строк — над днепровскими кручами спускались сумерки.
И вновь мысли его возвращались к минувшему. Сколько таких смерчей пронеслось над славянскою землёй... а что мы знаем о них? Кто записал о наших бедах, о нашей недоле или о счастье в такие хроники или истории, как это сделали древние иудеи, греки или ромеи? Растаяло минувшее в небытии. Будто бы ничего и не было! Никто не прольёт святой слезы над отважными и погибшими... Никто не расскажет о них Словом святым... А в Слове ведь — память рода людского и его вечность. В Слове — мудрость, в Слове — познание себя... Воистину: грех удерживать Слово, коль оно может помочь...
Он запишет в свой пергамен об этих кочевых воинственных аланах-ясах и о других, тех, что приходили из Степи, — гуннах, обрах... Расскажет о трагической гибели племён, и о мужестве защитников земли славянской, и о недоле тех, кто отказался от меча... Ибо он, Нестор-черноризец, стоит нынче над колыбелью своего Слова, которому суждено стать предостережением всем этим завистникам и слепцам. Должен сказать им: не уподобляйтесь ничтожным болтунам, обогащайте не только свои онбары, но хлопочите и о своей мощи. В том — ваша вечность.
Часть пятая ГРЕХИ ЛЮДСКИЕ
Игумен Печерского монастыря Иван с тревогой уставился в окошко своей кельи. После смерти князя Всеволода вновь приходится крепко мозговать ему, владыке, что сделать, чтобы обитель Печерская осталась на той высоте, которую достигла она великими трудами своих благоверных игуменов — Феодосия, Никона, Стефана и учёных писцов.
Потому владыка Иван не возвращал державный пергамен Нестору. Снова взялся за писало. Написал о Всеволоде яко о князе, которому должны наследовать его преемники. «Сей благоверный князь Всеволод был с детства боголюбив, любил правду, оделял убогих, воздавал честь епископам и пресвитерам, особливо же любил черноризцев и давал им всё, что они просили...» Преемники Всеволода также должны быть боголюбивыми и воздавать монахам-черноризцам, особенно Печерской обители.
Однако душа Ивана чуяла что-то недоброе. Кто из князей сядет нынче на киевский стол? Всеволод сидел второй раз не по закону, а по воле киевлян, которые помнили своего великого властелина Ярослава Мудрого. По закону должен сесть в Киеве князь туровский Святополк, старший сын старшего Ярославича — Изяслава. Печерская же обитель, стоявшая на страже крепости Руси, при Иване-игумене поддержала незаконное властвование Всеволода в угоду киевским боярам.
Теперь Всеволод отошёл в царство небесное. И само собою может случиться, что на киевском столе ныне законно воссядет Святополк из Турова.
Но тогда игумену Ивану придётся несладко. Святополк вспомнит ему не только на небесах, а наипаче на земле его грех пред ним и в Новгороде, и в Киеве — пред Русской землёй. Но знает игумен Иван и другое: к киевскому столу рвётся Всеволожий сын — Владимир Мономах. Владимира желает видеть князем худой и чёрный люд. За его спиной ему легче от половецкой Степи. В руках Мономаха нынче наибольшие отчины — земля Переяславская, Черниговская, Суздальская, Ростовская, Смоленская... Мелкие князьки скрежещут зубами, глядя на его богатства и его удачливость. Бояре также боятся его крепкой властной руки... Не пустят его в Киев. Князем должен стать всё же Святополк. Но тогда наступит конец славе Печерской обители, которая при предыдущих властителях стала опорой великого князя киевского! Конец придёт и ему, игумену Ивану, ближайшему советчику и духовнику киевского князя Всеволода... Да ещё ему вспомнят его новгородские грехи!..
Игумен подошёл к своему столу и начал выводить на пергамене первое слово. Он должен написать о Всеволоде не только похвалу. Великая правда о сём князе может послужить наследникам-князьям, и ему, игумену Ивану, и Печерской обители. Особливо же когда в Киев придёт Святополк. Он напишет правду о Всеволоде... Но вдруг с кончика писала сползла огромная чёрная клякса и брызнула на пергамен. Игумен схватил кусок мягкого полотна, начал снимать каплю, но от досады ещё больше измазал пергамен. Тогда отбросил тряпицу, начал скрести ножом загрязнённое место. Сердито бормотал под нос о нечистой силе, или о тщедушном Святополке, или о воле Божьей, которая всю жизнь людскую предопределяет наперёд...
Длинное смуглое лицо его было прорезано глубокими морщинами. Чёрная борода с большим клоком седины делала его твёрдым и жёстким. Всё же он напишет правду о Всеволоде!.. И о крамолах сыновцев его, и о недуге его тела и души, которые отобрали у князя могущество державное в руках, и о том, как вокруг него толпились худородные и хищные радцы, грабившие простой люд для собственной наживы.
«...И начал князь любить советы иных, более молодых, раду начал с ними творити, они стали дружину его старшую отодвигать, и к людям простым не доходила правда княжья, и начали те новые радцы грабити, людей продавати...»
Ведал ли князь о том или не ведал? А может, просто не мог уже ничего сделать. Он был одинок среди сей своры алчущих богатств. Как пиявки, присосались они к его столу и никого не подпускали ко князю.
До сознания игумена дошёл какой-то шум. Наверное, в тёмных сенцах кто-то нащупывал дверную задвижку.
Игумен положил на стол писало, свернул пергамен в свиток, выжидательно посмотрел на дверь. Наверное, какой-то нечастый гость к нему добивается, ибо монахи его обители недолго ищут запоры.
Наконец дверь отворилась. На пороге келии вырос незнакомец. Кряжистый, широкоплечий бородач в простой полотняной вотоле, подпоясанной кожаным поясом с большой серебряной пряжкой на туго подтянутом животе. Лицо его нельзя было рассмотреть в сумерках келии. Тёмные, с лёгкими кудряшками на концах волосы, из-под которых блеснула серебряная серьга в правом ухе. Незнакомец почему-то не приложился к его руке, не упал на колени. Слегка кивнув игумену, засунув пальцы правой руки за туго затянутый пояс, он как бы ожидал чего-то.
Игумен молчал. Свёл широкие чёрные брови на переносице, зорким взглядом всматривался в гостя.
— К тебе, владыка, за советом... — приглушённо зазвучал в келии бархатисто-густой голос. Голос, который, наверное, умел властно, на полную грудь звучать в широком поле.
Игумен поднялся на ноги. Неужели это... князь Владимир? Конечно... он...
— Да благословит тебя Бог в эту неверную минуту, чадо. Проходи, будешь гостем, князь.
Владимир Мономах смело подошёл к скамье, тяжело сел.
— Откуда пришёл в обитель? Почему так тайно? Я бы послал келейников навстречу.
— Упаси тебя Бог, владыка. Не время суетной славой забавляться. Яко не любил того мой отец покойный и все мужи достойные.
— Господь Бог просветил твою душу мудростью, сын мой.
— Велик наш Господь, и дивные дела его...
Князь Владимир осматривал тем временем келию игумена. Небольшое помещение с выбеленными стенами, как в обыкновенных сельских избах. Только и того, что много икон. В углу, в тяжёлой тёмной раме — богатая икона Богородицы. Пред нею блестит лампадница, из неё слегка вьётся пахучий дымок от ладана или какой-то другой ромейской вонявицы. Игуменское ложе тоже просто. На досках расстелено сено, прикрытое полосатой дерюгой, уже латаной-перелатаной. Небось прикрывала кости всех печерских владык, начиная чуть ли не с самого святого Антония.
— Владыка... — Голос князя Владимира дрогнул. Он прокашлялся в кулак. — Владыка, хочу твоего совета и твоего благословенья.
Ему мешали говорить руки. То он их засовывал за пояс, то как-то неловко клал на свои колени.
Игумен насупил чёрные брови. Погасил блеск глаз прикрытыми веками. Совет? Какой же совет он может дать князю, коль и сам в тревоге и сомнениях?
Но князь Владимир не сводил с него требовательно-просящего взгляда. Кто же тогда и даст ему совет, как не игумен Иван! Отец ведь его, князь Всеволод, поднял Ивана и его обитель, жаловал землями, пущами, вниманьем своим. Резкий, но справедливый владыка печерский теперь не может промолчать. Должен поведать ему, сыну Всеволода и внуку великого Ярослава, ту правду, которую больше никто не посмеет сказать ему в глаза. Ему сейчас нужна только правда... Только правда...
Владыка взвешивал в своих мыслях решение. Он ведь знал, чего желает Мономах. Если печерские отцы сейчас поддержат Владимира Всеволжа, не получат они поддержки от киевлян, от богатых людей и от Бога. Ибо велеможные мужи Киева не хотят пускать Владимира в Киев. И новый князь, который воссядет на столе по закону и по заповеди Ярослава, будет таить гнев на обитель и на её владыку. А тут ещё неизвестно, как им оправдаться за поддержку Всеволода... Но как сие сказать Владимиру Мономаху?
Князю ведь очень нужна поддержка печерцев. Князь рвётся к отцовскому столу. Но без монастыря Печерского не добраться ему к правилу державному. Или не удержать его. Монахи-печерцы не дадут своего благословенья, а значит — не будут останавливать многочисленных соперников проклятьями, устрашениями о великих грехах. Без этих монахов, засевших на днепровских косогорьях, Владимиру Мономаху не вкусить сладости властвованья!..
Наконец игумен выпрямился.
— Сын мой... Поверь мне, желал бы и я земле Русской такого смысленого князя, яко ты есть. Но... Не имей в своём сердце и в уме гнева на мои слова. Всё, что Бог нам даровал в милости своей, не наше. Дано на время недолгое. Одно вечное — мощь нашей земли. Для этого должны поступать по евангельскому слову: ум свой — усмирять, гнев — подавлять, желанья — прятать в себе поглубже.
— Знаю сии заповеди, владыко, и признаю их, — вздохнул Владимир Мономах. Значит, его надежды на поддержку печерских мужей напрасны. Владыка призывает его смирить свои стремленья...
Иван поднял крест, висящий на его груди на толстой серебряной цепи.
— Аще сказано апостолами Божьими: кого избавляем власти — не мсти, всеми хулимого — люби, всеми гонимого — терпи, умертви свои греховные мысли...
— Почему... должен быть хулимым и гонимым, владыка? — вдруг вскипел князь Владимир. — Если честно служил трудами своими во благо земли Русской!..
Владыка выронил из рук крест. Он закачался на цепочке на груди. А перед глазами Владимира закачался игумен, келия, земля под ногами, даже Пресвятая Богородица с младенцем на руках.
— Должны блюсти заповеди отцов и дедов твоих, князь. Сам ведаешь сие. Усмири желанья свои. Помогай во всём брату своему старшему. Делом помогай. Наущай меньших братьев своих послушанию. Не допускай крамолы меж ними. Угодным Богу станешь за сии дела свои — и будешь вознаграждён. Поверь, сын мой, сие более тяжкий подвиг — усмирить свою гордыню, нежели схватиться за меч и добывать себе власть. И подвиг сей дано совершить не каждому. Лишь сильному мужу. Аминь!
Владимир тяжело поднялся со скамьи. Игумену было жалко глядеть на него. Но он сказал воистину правду, которой желал князь. Горька она была и тяжела...
— Пролей слёзы, сын мой, о грехах своих. Твоё сердце смягчится. Знай: сядешь насильно на киевском столе — возьмёшь распрю с братом твоим Святополком. А тогда поднимутся и Святославичи — Олег и Давид. У них ведь такое же право на стол, как и у тебя. Олег Гориславич всю Степь половецкую призовёт на Русь. А киевское боярство тебя не желает, боится твёрдости руки твоей. Привыкло при твоём отце слабом властвовать. Иди в Чернигов или в Переяслав.
— В Переяславе братец мой меньший — Ростислав... Пойду в Чернигов... Но сердца своего не буду размягчать слезами, владыка. Сердце Владимира Мономаха должно быть твёрдым. Яко и руки.
— Достойно молвишь...
Князь Владимир спокойно вышел из келии. Игумен долго смотрел с порога ему вослед. Всё же — достойнейший внук Ярославов!..
Но от этих мыслей на душе было тревожно. Что же, он сделал сейчас всё, чтобы оправдаться за Всеволода. Он поступил по закону и по разуму. Хотя сердце его сжималось от этого... Неизвестно, что принесёт Руси новый — законный властитель...
Задумчиво брёл монастырским двором. Теперь это было большое пространство, застроенное церквами, трапезной палатой на высокой подклети, длинными келейными строениями. Новым был и каменный дом игумена. Но владыка Иван не отваживался туда переходить, дабы не утерять того света славы, которым сияли имена первых отцов обители — Антония и Феодосия. Новыми были и онбары, медуши, кладовые, где сохранялось зерно, меды, воск, сухая рыба, вяленое мясо, деревянное масло, сыр... И весь этот огромный двор был обнесён деревянной оградой с высокими дубовыми вратами и небольшой деревянной церквушкой над ними. По четырём сторонам её были поставлены деревянные башенки с окнами-бойницами. Под их крышами были подвешены медные била. Ночью возле них сторожили стражники. Не столько остерегались далёких половцев, как боялись татей, бродящих в окольных лесах и не раз грабивших монастырское добро. Последний раз какой-то сбежавший черниговский смерд Племён привёл к обители всю свою шайку с клятвой и просил принять их в число монастырской братии. Как-никак здесь дают есть и пить и крышу над головой. А работать все они привычны с детства. Игумену Ивану этот случай принёс славу — святая обитель Печерская молитвами своими просветила души заблудших! Теперь бывшие тати-грабители — самые старательные послушники монастырской братии — рубят дрова, таскают в келарню ведра с водой, чистят опаны, чинят ограду и сторожевые башни... Сколько этой чёрной работы в большом хозяйстве Печерской обители!..
Богатеет она, сытеет из года в год.
Навстречу игумену торопится черноризец. Высокую худую фигуру его облегала выгоревшая на солнце ряса, уже потёртая на груди и на локтях. Босые ноги с длинными костлявыми пальцами грязны, в сухих струпьях. Откуда это торопится отец Нестор?
— Беда катится к нам, владыка! — ещё издали обращается он к игумену Ивану. — Половцы! Двинулись вежи половецкие на нас. Хан Итларь с ордой, Тугоркан с ордой...
— Откуда знаешь? — Иван ускорил шаг навстречу Нестору.
— Сообщил воевода Вышатич! Только от него иду. Прискакали верные люди из степи. Говорят, половцы уже под Торческом стали. Молвят, имели договор со Всеволодом, а нынче — нет Всеволода, нет и мира с русичами.
— Брат Нестор, имею к тебе доверие. Возьми лошадей. Поторопись к Турову. Зови скорее Святополка Изяславича. А мы киевлян будем молить, дабы дружину собрали. Ох, чёрная беда движется на нашу землю...
— А Владимир Мономах, владыка?
— Увестил его. Уступил брату своему старшему.
Нестор вздохнул.
— На том и стоим, брат Нестор...
Днём и ночью ехал ко граду Турову, в землю дреговичскую. Останавливался на короткую передышку в монастырях, менял там лошадей и вновь трогал в путь. Дорога шла через Вручий-Волынский, чрез болотистые леса земли деревлянской. Далеко спрятался князь Святополк от неверного ока киевского князя. Врасплох не достать ни мечом, ни копьём.
Вскоре Нестор остановился вблизи реки Припяти. Широко, полноводно разлила она свои весенние воды. Затопила луга, озерки, болота с низкорослыми, кривыми соснами.
Град Туров — самый большой на земле дреговичей, раскинувшийся вдоль полноводной Припяти. Но не знал Нестор, с какой стороны подъехать к Турову. Куда ни ткнётся — везде вода. Решил искать здешних поселян.
Целый день кружил узкими лесными дорогами и тропинками, пока не добрался до какого-то жилья. Забрызганный грязью, измученный объездами, обходами омутов и болот, появился он на улице небольшого посёлка, разбросавшего свои избы на широкой лесной поляне.
Деревянные рубленые избы под высокими гонтовыми крышами теснились одна к другой, стена к стене, к длинным хозяйственным постройкам, которые сходились полукругом и замыкали с трёх сторон двор. Для ограды с воротами оставалась четвёртая сторона. Вдоль улочки под стенами и заборами плескались в лужах пятнистые свиньи с рогатками на толстых шеях, дабы не могли рыть глубокие ямы в земле и лишь на поверхности её собирать прошлогодние жёлуди да листья; гоготали и сокотали гуси, утки, куры... Забрызганные грязью, перемешанной со свиным и коровьим помётом, они везде разносили вонючую жижу, в которой копошились. От этого казалось, что весь посёлок погряз в нечистотах. И странно было Нестору, что белокожие светлоглазые люди, спокойно хлопотавшие на своих дворах, не испытывали неудобства от пропитавшего всё вокруг этого одуряющего зловонного запаха.
— Что за оселище сие? — Нестор остановил своих лошадей рядом с невысоким кряжистым мужиком, обтёсывающим топором брёвна возле своих ворот.
— Что? — разогнулся плотник и светло-голубыми глазами посмотрел на монаха.
— Как село называется? — Нестор спрыгнул с повозки и подошёл к нему ближе.
— Дрягва. Дреговичи мы есть.
— А чьи будете — боярские или княжие?
— А будем мы боярина Потока людзи. Аты откуль будзешь, што не ведаешь нас?
— Из Киева, брат.
— Небачка!.. 3 такого далека!
— Но как увидеть вашего князя Святополка? К Турову ещё далече?
— Навошто табе наш князь? — насторожился мужик.
— Послал к нему игумен Печерской обители. Слыхал, может?
— Как не слыхати!.. Кали так, то сення яго убачиш. До нашего боярина у гости приеде. С дружиною своею, на игрища.
— Какие ж сие игрища?
— Вечером начнутся игрища, жён сабе умыкать будзуть мужи и хлопцы.
— Не по христианскому закону живете, брат, — удивился Нестор. — Яко поганые язычники. Жён красть, яко злодеи, супротивно закону Божьему.
— Сами сабе законы творымо, сябре. Яко дяды и батьки наши. На то и есть обычай стародавний. А жён и дзявчат умыкают по их же воле. На тое игрища и робяцца, кабы пабачицца и домовицца. Хе-хе! Каб по сердцу и по доброй воле... Хе-хе...
Небольшие светлые усы дреговича запрятали хитроватую усмешку.
Нестор диву давался от этой его речи. Но одновременно и обрадовался: князь Святополк сам идёт ему в руки!
Как ветром сдуло с Нестора усталость и голод. И даже поганский обычай славян-дреговичей вдруг перестал ему казаться таким греховным и звериным. Что поделаешь — дикие лесные люди. Не ведают слова Божьего. Давно не видели и храма Божьего, не слыхивали апостольских поучений. Может, судьба потому и привела его сюда, в сие затерянное оселище, дабы он своим словом просветил души дреговичей. Но пока что нужно встретиться со Святополком.
— Отдохнуть бы где-то. Дорога дальняя... Можно ль?
— Чаму не можна? У якую хочешь хату заходзь — гость. Кали хощешь — заходзь до мяне.
Мужичок стукнул топором о бревно, вытер о бока ладони.
— Ходзимо, сябре, кали так. Будземо вечеряти. Солнце за лес садицца. Дак и на игрище треба идти.
— Жены нет у тебя, что ли? — снова удивился Нестор.
— Чаму нема? Маю две жёнки. Але привяли у двор тольки дочок. Сына не имею. Не добре господарку свою покидать на женские руки...
Игрища должны были быть за посёлком. Перешли редколесый сосновый бор — и перед глазами открылось неширокое зелёное поле. Молодое жито било в глаза яркой изумрудной зеленью. Ветер волнами перебегал по нему — поле темнело, снова светлело, дышало мягкой нежностью.
— Вунь там, побоч с тем лесом, ещё одна веска. Там живёт наш боярин Поток. Там его палаты.
— А храм Божий там есть?
— Не ведаем такого.
— Как же Богу молитесь?
— Гета клопат волхвов-кудесников. Яны богам нашим за нас молитву творят.
— Поганский обычай сие, господарю, — сокрушённо покачал головой Нестор.
— Чаму? Нам по сердцу.
Больше ни о чём не расспрашивал Нестор и сам не говорил. Наверное, его апостольское горение здешние не поняли бы. Привыкли эти болотные люди вот так жить. Иной жизни не знают. Но что же боярин Поток и князь Святополк? Почему ничего не сделают со своими смердами? Или, возможно, не желают ломать дедовщины, чтобы не дразнить своих смердов?
Пока перешли поле, солнце спряталось за лесами. Новое оселище, к которому приблизились, уже тонуло в сумерках. На его околице весело трещало три костра. Вокруг них были втыканы густо в землю вербовые и берёзовые ветки. Между ними уже вели хоровод девушки. В венках, в цветастых вышитых сорочках, они сами казались яркими цветками, расцветшими улыбками и сиянием молодой радости.
Вдали стояла толпа людей. Оклики и смех летели над околицей. А хоровод звонко выводил песню, кружа вокруг высокой девицы-царевны, увитой венками.
— Благослови, маты, от маты Лада, маты весну заклыкаты!
— Благословляю!
Совью я веночек в четыре рядочка, Веночек к лицу мне — весенний цветочек, Стану у берёзы...Что-то далёкое, забытое отозвалось в душе Нестора нежным теплом. Веки защипало от слёз. Будто снова перед его глазами вспыхнула его далёкая весна и кто-то позвал: «Наслав! Ты пришёл?»
Прочь-прочь, ведьмовские чары! Сие гульбище волхвов навеяло на него греховные воспоминания о Яриловом дне... О Гайке на белом коне...
Так же тогда девичий хоровод шёл на хоровод парней...
Около куста да травушка густа, Около моря — травушка шёлкова...Столько лет миновало с тех пор, а Нестор всё ещё не чувствовал себя старцем. Душой был таким же молодым, и в его сердце всегда отзывался тот же голос...
Но он должен увидеть князя. Приехал за тем.
Его хозяин уже смешался с толпой мужиков, присматривающихся к девичьим лицам... А хороводницы распевали, хлопали в ладоши, разбегались от своей «царевны» и вновь сходились у костров.
Вдруг толпа мужиков загудела как растревоженный улей. Должно, появился князь. Рядом услышал голос своего знакомого:
— Да табе, князь, гонец с Киева. Каже, нагальна справа.
— Веди.
Длинноногий, тонкий в талии человек с узкой впалой грудью не был похож на высокородного князя из гнезда великого и могущественного Ярослава.
Его небольшие глаза ещё брызгали смехом, были полны веселья, ноздри широкого носа слегка подрагивали. Князь Святополк уже дышал предчувствием сладкой утехи, поэтому взглянул на потрёпанного монаха с нетерпением. Нестор сразу разочаровался в князе. И это тот князь, который должен унаследовать власть державную великого Ярослава?
Беспомощно оглянулся. Может, насмехаются эти ногайские мужики над ним, неизвестным монахом печерским? Желают унизить его, слугу Божьего, за веру Христову, дабы своих идолов вознесть...
— Я Святополк. Ну, что молчишь? — уставился князь на Нестора.
— Не видывал тебя никогда, князь. Чем докажешь?
Святополк оглянулся на присутствующих:
— А? О!
Кто-то в толпе коротко хохотнул.
— Пусть меня Перун сожжёт! — вдруг молвил князь.
— Князь, разве ты, сын Изяслава, внук великого Ярослава, не крещённый крестом, а научен ногайскому обычаю? — Нестор осуждающе смотрел на Святополка.
— Высоко сорока летает, дак дома не ночует! — расталкивая плечами мужиков, вышел вперёд крепкий мужчина в боярской чуге[146] и в добрых сапогах. — Что говоришь, монах? Бог гордых с неба спихивает. Говори князю, какое дело имеешь к нему, а поучать будешь иных.
Кто-то толкнул Нестора под локоть.
— Сие Святополк, говорю табе. А то — наш боярин.
Нестор узнал голос своего приятеля.
— Коль князь, почто с мужиками водится?
— А он не с мужиками... Он с бабами... Га-га! — захохотали в толпе.
Нестор крепко сжал губы.
— Да простит тебе Бог... А дело такое... — наконец решился Нестор. — Помер князь Всеволод. Велеможные люди Киева и обитель Печерская зовут тебя на отчий стол. Приди, князь, боржее в Киев.
— Кто, кто зовёт? — приставил ладонь к уху боярин Поток.
— Киевские бояре и печерские монахи с игуменом Иваном.
— С Иваном! Сие тот, что был в Новгороде и мятежил супротив меня? — Святополк дохнул бражным духом в лицо киевскому послу.
— Не ведаю этого, князь, — Нестор отступил шаг назад от Святополка.
— Сей игумен ваш — он торопчанин? Из Торопца? — добивался своего князь.
— Не ведаю. Сам спросишь у него, — тоскливо склонил голову на грудь Нестор. Вот такого князя должен звать златоглавый Киев. — Князь, думай о Руси! Быстрее садись на стол своего отца. Беда движется на нас — зашевелились вежи половецкие. Нужно к ним засылать послов, ряд заключить с ними, ханов ублажить.
— А? О! Кияне хотят, дабы я свою голову подставил под кривые мечи половецкие? Слыхал, боярин?
— Кто держит в руке державное правило, всегда подставляет голову свою...
— А почему Мономах не остановит их? Пусть он защищает Русскую землю от половцев.
— Если откажешься по своей воле от отчего стола, позовём Мономаха и прикажем ему землю нашу оборонять. Его желают все простолюдины.
— А? О! Я не отказываюсь. Но пусть вначале Мономах пойдёт на половцев. А я потом приду на стол своего отца, когда он замирит Степь.
— Так не будет, князь. Ханы желают иметь ряд с великим киевским князем. По закону и по Правде Русской[147]. Коль не желаешь — скажи. Посадим Мономаха.
— Что же зовёте Святополка, коли желаете Мономаха? — удивился боярин Поток.
— Должны блюсти закон земли Русской. Властелин приходит, боярин, и властелин уходит, а земля пребывает вовеки. Наша земля должна твёрдо стоять в законе и в благодати — вовеки. Властитель должен утишать раздоры, межусобицы, крамолу. Власть его освящена Богом единым и законом единым.
— Тогда, князь, бери эту власть. И нас не забудь! — Боярин Поток погладил рукой свою редковатую бородку.
— А что? Я великий князь по роду и по воле Божьей. А? — Святополк поднял большой палец вверх и округлил глаза. — Слышали все? А теперь — где моя «царевна»? Княгиней сделаю! Великой княгиней киевской!..
Святополк двинулся в сторону хороводниц. Они завизжали, разбежались во все стороны.
— Князь... Нужно в Киев быстрее ехать, — подошёл Нестор к Святополку, взял его за руку. — Потеряешь стол дедовский...
Щемило сердце. Сколько тех князей перевидел, а такого ещё не было у них. Удивлялся: почему Бог так творит, что власть над державой и народом отдаёт в руки немощным и слабоумным? Может, для того, дабы мудрые избегали властвования, ибо оно калечит душу и отбирает ум... Если бы мудрецы тянулись к власти, кто творил бы сокровища души нетленные?
— А?.. О? — восторженно выкрикивал Святополк, пьяно выпячивая узкую грудь.
Боярин Чудин мягко расхаживал по княжеской гриднице и от удовольствия потирал ладони. Как всё хорошо обернулось для них, киевских велемож. На столе княжеском оказался Святополк Изяславич. Правда, едва удалось перехватить его из рук лукавых печерских монахов. Закружили новому князю голову. Такой звон устроили ему во всех киевских храмах, что даже земля дрожала; такие песнопения велеречивые сотворили, что небо, казалось, опустилось на землю, дабы послушать их. Мужи значительные, черноризцы и владыки — в золотых одеяниях, с хоругвями, с хлебом-солью на вышитых рушниках — встречали законного князя Святополка. Пусть знает об этом властолюбец черниговский Владимир Мономах и не пытается показываться из своего Чернигова. Русская земля стоит за закон и заповеди отцов. А они, старые бояре, уж приласкают нового князя, приучат к себе. Станут необходимыми, незаменимыми советчиками и помощниками. И монахи печерские хотя и обижены на бояр, но никуда не денутся. Должны стоять за закон. Потому и будут за Святополка, а дальше и за них — бояр. Теперь они будут жить за спиной Святополка, как при старом Всеволоде.
Вот только половцы. Прежде всего нужно уладить с ними. Орда хана Тугоркана и Итларя полностью обложила Торческ и Воинь. В Киев прибыли их послы. Желают говорить с князем. Чего они хотят — новых жён, золота, пастбищ?
Святополку нужно идти с ними на ряд. Удовлетворить их требования. Конечно, была бы у князя сила, лучше было бы дать им отпор. Но с новым князем из Турова пришла небольшая дружина — всего семь сотен. На орду с ними не пойдёшь. Старая же дружина Всеволожья не пойдёт в степь, ибо знает, что новая дружина будет требовать от князя посадничьих городов, земель. И князь отберёт у старой дружины всё, чем она разбогатела при Всеволоде, и будет одаривать им свою новую, туровскую дружину. Но на это они не согласны. Будут сидеть дома и стеречь свои земли...
В дверях тихо появился старый воевода Ян Вышатич. Следом за ним в гридницу всунулся его братец Путята, чревоугодник и плут. Чего это надобно им?
— К тебе, Чудин, за советом...
Лицо Чудина не дрогнуло. Гордые Вышатичи что-то пронюхали, что-то замыслили. Пока раскланивались и рассаживались на скамье, Чудин терялся в догадках. Святополк — и Вышатичи. Что может объединять их? Кажется, новый князь ничем не обязан их гордому роду. Пускай отступятся — их время минуло ещё со старым Изяславом. Чудин не желает делить с ними ни власти, ни нового князя, благосклонность которого добыл хитростью и большими трудами своими.
— Какая же беда случилась у вас?
— Половецкие вежи нужно остановить. Горит земля Русская. Наши погосты и дворы на Поросье гибнут. Скажи князю: пойдём со своими воинами в степь. Старая дружина Изяслава сумеет остановить орду.
Чудин хмыкнул. Запястьем руки провёл под широкой бородой, по-кошачьи прижмурил глаза.
— Воли князя не ведаю.
— Зови его на беседу, — нетерпеливо засопел Путята.
— Не могу позвать. Великий князь опочивает. — В мягком, вкрадчивом голосе боярина Чудина зазвучали колючие нотки.
— Разбуди. Знатные киевские бояре хотят говорить с князем, — настаивал Ян Вышатич.
— Не велено. — В голосе боярина Чудина уже слышалось откровенное издевательство. Не напрасно братья ведь помирились меж собой, замыслили взять князя в свои руки. Это он заметил сразу. Как когда-то давно Ян стоял рядом с Изяславом, так и ныне хочет стать возле его сына.
— Тогда мы сами... — Путята решительно поднялся со скамьи и подскочил к двери Князевой ложницы, стукнув в неё плечом. — Князь!.. — завопил басовито Путята. Но вдруг растерянно оглянулся: — Где же он? Слышишь, здесь нету князя! Где же он опочивает?
— А князь... не желает с вами беседовать...
— Брешешь! — Путята подхватил в свои крепкие руки тяжёлую дубовую скамью, на которой они только что сидели, и замахнулся на Чудина.
Ян от испуга закрыл лицо руками. Последовал страшный грохот.
— Чудин, что здесь происходит? А? О!..
— Не пускает к тебе, князь, — с достоинством поклонился боярин Ян. — А мы, Вышатичи, отцу твоему Изяславу верно служили и тебе послужить желаем. Яко и весь наш древний род, который от Добрыни пошёл.
— Читал, читал, — согласился Святополк.
— Должен опереться, князь, на большие роды боярские. Вернее Вышатичей тебе не сыскать, — высоким торжественным голосом продолжал воевода Ян. — А сии новые люди, которые толкутся возле тебя, — лишь о себе будут помышлять. Добрыничи же всегда служили во имя чести великого князя.
— Да и себя не забывали! — из-за княжеской спины, осмелев, отозвался боярин Чудин, — Земель много нагребли по всем волостям — и в Новгородской, и на Белоозере, а теперь в Поросье погосты поставили...
— Дед мой Остромир имел благодарность от князя за Евангелие — потому и приобрёл земли. И отец наш Вышата...
— Когда-то отец мой подарил мне Остромирово Евангелие.
— Где же оно? — в один голос вскрикнули Вышатичи.
— Оставил в Новгороде, когда мятеж там поднялся, и я в Туров пошёл. Это всё Мономах сотворил, дабы своего сына старшего, Мстислава, посадить в Новгороде. Прогнали меня оттуда! — Князь Святополк усмехнулся, вспомнив своё невесёлое прошлое.
Может, из-за того и к браге стал прикладываться и скоморошничать? А вот такие пиявки, как сей Чудин, и распускают о нём разные слухи, чтобы самим вершить дела князя.
Дивные дела тех, кто стоит у подножек властителей. Никогда их не уразуметь простому уму.
— Послы от хана Тугоркана прибыли к тебе, — доложил ему боярин Чудин.
— Зови, — обернулся к нему Святополк.
Чудин мгновенно привёл в гридницу двух половчинов. В широких кожаных ногавках, в длинных полотняных сорочках сверху — из награбленного русского полотна, чёрные жёсткие волосы заплетены в тугие косицы, послы хана Тугоркана взирали горделиво поверх голов на присутствующих.
— Хан Тугоркан и хан Итларь желают с новым русским князем уложить ряд, — коверкая язык, проговорил один из них. — Пусть князь отдаст ханам новые пастбища у Торческа и Воиня. И ещё пусть князь пришлёт ханам тридцать тысяч коней, а ещё золота — сорок сороков гривен киевских, и ещё дев русских, и ещё...
У Святополка от удивления вытянулось лицо. Шутят, что ли, эти смуглые плосколицые степняки или в самом деле требуют отдать им половину Переяславщины и столько несметных богатств?..
— Где боярин Поток? — встрепенулся Святополк, — Захотели, а? — со страхом посмотрел он на Вышатичей.
— Я здесь, князь... я бегу! — Низкорослый, раскрасневшийся туровец как раз вкатился в дверь гридницы.
— Что должен делать киевский князь, а? Слыхал? И земли им, и табуны, и гривны...
— Да-да, — поджимали пухлые губы на безволосых лицах степняки. — Хан Тугоркан, хан Итларь, его брат хан Кытан...
Поток озадаченно чесал затылок, сопел.
— Разве киевский князь данник половчинов? — наконец спросил он, обращаясь к князю.
— Нет, не данник, Поток. Это наверняка. — Святополку понравились слова боярина.
— Тогда в поруб их. Пусть об этом помнят, — наконец отдышался Поток.
— А? Будут помнить! — довольно хохотнул Святополк.
— Нельзя в поруб, князь, — осторожно подступил к нему Ян Вышатич. — Хан Тугоркан и хан Итларь тогда соберут всех ханов и пойдут на Русь. Сметут все грады, все нивы. Разорят смердов.
— Чудин, а твой совет каков?
— Э-э... великий князь... оно, конечно... э-э... как решится, так и будет.
— Но ты на моём месте что сделал бы? А?
— Я? Я не могу быть на месте великого князя. Но, конечно, мир — есть всегда мир... Лучше, нежели брань.
— А ну-ка, в поруб их! — неожиданно разгневанно пристукнул ногой о половицы князь. — Я им покажу мир! Новый киевский князь не будет ханам половецким данником.
— В поруб нельзя, князь. Вели лучше посадить в посольскую избу под стражу, — вздохнул Чудин.
— Князь, не слушай неразумные слова. Половцы завоюют нашу землю. Собери дружину и иди в степь. Возьми старую дружину своего покойного стрыя[148] Всеволода, возьми бояр с отроками — и в поле половецкое, — загудел голос боярина Путяты. — Найдёшь там себе славу, Русской земле — волю.
— Сие дело, сие дело, — удовлетворённо прищёлкнул языком боярин Поток.
— Сколько можешь взять с собой рати, князь? — Путята отодвинул Чудина от князя и дышал Святополку прямо в лицо.
— Семь сотен.
— Семьсот! — разочарованно протянул Путята. — Имел бы ещё восемь тысяч, не одолел бы орды. Проси помощи у своего брата, у Владимира, значит, у Мономаха...
— Проси, князь, — утвердительно кивнул головой и Ян.
— У Владимира просить нельзя! — перебил его Чудин. — Победит половцев, заберёт и киевский стол.
— Без него не отбиться от половцев, — тихо, но твёрдо повторил Ян. — Половцы заберут наши нивы, полонят наших смердов и стада... Бояре пойдут за тобой, князь. Побьём половцев — с нашей помощью отобьёшься и от соперника. Без нас не усидишь и здесь. Выбирай.
Святополк забегал по гриднице. Править в Киеве — это не в Турове. Там о степняках и не ведают.
— А? — остановился он наконец перед боярином Потоком.
Боярина Потока даже пот прошиб от напряжённого раздумывания. Искал самую выгодную средину. Чудин тянет к миру, Вышатичи — к походу. Но, видать, правда на стороне сих велемудрых бояр. Они ведь давно зубы свои стёрли на княжеских советах. Да и у Потока уже появилось несколько погостов в Поросье. Половцы, конечно, их уже сожгли...
— Проси Владимира Мономаха, князь, — наконец отрубил боярин Поток. — А сего Чудина — гони прочь...
— Иди прочь, — вяло повторил Святополк.
Чудин продолжал неподвижно стоять перед князем. Тогда Путята Вышатич подтолкнул его по направлению к двери.
— Слышал?.. А ну-ка!.. Быстро! Отвластвовал в сих палатах!
Чудин, спотыкаясь, побрёл вон:
— А? — довольно захохотал Святополк. — Вот таких — люблю. Будешь у меня воеводой. Твой старший брат служил отцу моему, а ты — мне послужи.
— Послужу, князь. На честь! Но пожалеешь! Душу за тебя отдам... — расчувствованно бормотал Путята.
Ян Вышатич прикрыл веками глаза. Стар ты стал, Ян... должен уступить место младшему брату... Но лучше уж пусть ему, нежели Чудину...
Одним теперь мог утешиться Ян: имя Вышатичей вновь всплывало рядом с именем великого киевского князя... Правда, монахи-писцы в своих пергаменах теперь будут называть не Яна, а Путяту... Но не для того Ян растил-ласкал своего приёмного сына — Гордяту-Василия. Не для того в науку его отдал новгородским дьякам и киевским монахам, дабы его род совсем забыли летописцы. Братец же его — гуляка и бездельник — локти грызть свои будет ещё!..
— Кого же послать, князь, к Мономаху в Чернигов? — Новая забота овладела уже мыслями Потока. — Верного мужа надобно...
— Пошли сына моего, — встрепенулся Ян, который, казалось, до этого дремал. — Вернее моего Василия не найдёшь, — добавил горделиво Ян, стрельнув косыми глазами. Пускай Путята теперь проглотит свой язык!
— Быть по сему. А? — радостно замахал руками Святополк. В самом деле, всё так легко решать с этими Вышатичами!
Боярин Поток утвердительно кивнул косматой головой. Разве он знает, на кого можно здесь положиться?
Небольшие глазки Святополка в рыжих крапинках на серых радужках зазолотились весёлыми искорками. Не так уж и тяжело править Русской землёй. Великие киевские бояре заискивают перед ним, услужливо сгибают хребты. А его боярин Поток — тот, как охотник, нюхом чует дичь. Недаром вырос в тех дреговичских пущах!
— Василий так Василий, — согласился Поток. — Пусть передаст князю Мономаху: «Иди боржее на помощь брату Святополку супротив половецких веж. Иди со всей дружиною к Стугне!»
В то лето Гордяте исполнилось пятнадцать. Отрок был, слава Богу, выше Яна на голову, крепок в руках, быстр разумом. Ян тихо радовался: всем взял его наследник — и за себя, и за него. Приставлял к пареньку то мечника, то доброго комонника, чтобы каждый научил своему ремеслу.
Гордята полюбил верховую езду. Полюбил лошадей. Положит, бывало, руку на шелковистую горячую спину коня и сам загорится весь, почувствовав, как под его ладонью задрожит в нетерпеливом порыве конь.
Полететь бы ему на коне, чтобы только ветер в ушах свистал, чтобы за плечами оставалась покорённая даль. А он как стрела летел бы сквозь простор — и никому не угнаться за ним, не остановить его!..
В его теле давала себя почувствовать какая-то новая непонятная сила, что звала куда-то на волю, в небо, в миры... И в то же время в его сердце жила жалость ко всему более слабому и беззащитному. Он мог отдать свой кусок хлеба бездомному псу, а сам оставался голодным. Мог снять с себя рубаху и надеть её на какого-нибудь нищего с Подольского торжища. В его глазах всегда стояла какая-то тоска. Никто не знал, о чём он тосковал.
Когда боярин Ян возвратился от Святополка, Гордята, перекрещённый в Василия, был на конюшем дворе. Боярин вскоре оказался возле конюшен. Сначала он не понял, что творится на выгоне, а поняв — остолбенел. По утоптанным дорожкам выгона, закусив удила, носился дикий жеребец Воронец. Ян приобрёл его весной за двадцать гривен серебром на угорском гостином дворе от купцов-угров. Длинноногий, длинношеий скакун с белым пятном-звёздочкой между карими, как уголья, глазищами распустил хвост и сдержанным чеканным намётом шёл по выгону. Будто танцевал. А под ним, сцепившись ногами на спине, вниз головой висел Гордята-Василий. То сгибался, то разгибался телом, перекидывая меч из руки в руку. Золотисто-русые волосы метались по земле. Белая рубаха сдвинулась на плечи, оголив его смуглое, с обозначившимися от напряжения мышцами тело.
Даже дыхание захватило у старого Яна. Этак объездить строптивого Воронца! Этак усмирить его дикий норов!.. Наверное, в теле Гордяты течёт не кровь ратаев-смердов, а отважных богатырей земли Русской. Всякие были в роде Вышатичей — отважные, гонористые, книжные, хитрые, но таких ловких — не было...
— А иди-кась сюда, Василий! — позвал его Ян.
Юноша вынырнул из-под коня, увидел отца и одним махом взлетел на спину Воронца. Приблизился к боярину, спрыгнул на землю. Серые глаза светились радостью. Губы дрожали от ожидания похвалы.
— Видал, видал, — пряча восторг в глазах, молвил Ян. — Твой Воронец послушен, как и меч в твоих руках.
Лицо Гордяты-Василия расцвело в улыбке.
Ян протянул руку Воронцу, но конь угрожающе оскалил зубы. Он моментально отдёрнул руку назад.
— Желаешь своего коня иметь?
Серые глаза Гордяты-Василия, огромные, как у Гайки, глаза в чёрных пушистых ресницах, засветились.
— Желаю...
— Бери Воронца. Жалую тебе. — Ян от своей внезапной щедрости даже притопнул на месте.
— Мне? — задохнулся Гордята.
— А ещё имеешь от князя Святополка милость, — медленно продолжал старый боярин. — Должен скакать в Чернигов ко князю Володимиру Мономаху. Должен сказать ему: «Княже, иди боржее в помощь брату своему супротив половецких веж. Иди ко Стугне».
Щёки Гордяты-Василия вспыхнули.
— Должен знать, Василий, начинаешь свою дорогу в жизни. Должен вести себя достойно при князе, прославишь род Вышатичей и дале. Князь Святополк нынче сделал моего брата меньшего — Путяту тысяцким при себе. А ты — будешь при нём. При Путяте. — Ян по-старчески хлипнул носом. — На тебя вся моя надежда.
Ян чувствовал себя окончательно выбитым из седла. Жизнь уходила от него по частям — отобрала вначале его мужскость, потом жену, потом — князя, теперь вот забрали у него чин и честь... Один Гордята и оставался.
— Запомни моё слово, Василий. — Ян торжественно перешёл на новое христианское имя парня. Вытащил из большого бокового кошелька платочек, высморкался. — Служи князю своему верно. Будешь в милости всегда пребывать. Кто ближе стоит к велеможцам, тот быстрее может достать высоты державной. Умей только делать всё, что велят сильные. А главное — умей молчать. Береги уста свои — это вход в обиталище твоей беды и твоей чести. На любовь худородных людцев не надейся — они любят лишь за доброту. Но доброта для человека — наибольшее зло. Не пускай её в сердце — погибнешь. Выпьют твою душу и растопчут сердце, не поблагодарив даже, яко те тарпаны, и имя твоё в мусорную яму выбросят...
Ян заморгал покрасневшими от подступающих слёз глазами, может припоминая уже навсегда потерянные для себя возможности.
— Больше всего, Василий, бойся этих холуёв и приспешников-холопов, которые толкутся возле властелина. Они подбирают крохи с княжьего стола, яко псы голодающие. Они больше всех вопят, что любят князя, но сами — неисправимые болтуны и изменники. Бойся их! Беги от них. Умей распознать их мысли за льстивой усмешкой и ласковым словцом...
— Как страшно ты говоришь, отец...
— Мир страшен.
— Тогда зачем быть в этом мире?
— Но никуда ведь от него не денешься. Или ты наверху, или ты внизу и на тебе будут верхом ездить...
В широко раскрытых серых глазах Гордяты угасла радость. Задрожали веки с густой щёточкой загнутых кверху чёрных ресниц. Сквозь смуглый цвет лица проступила бледность. В эту минуту Воронец коснулся его руки мягкими чёрными губами. Гордята встрепенулся, положил руку на шею скакуна, и чувство полёта вновь овладело его душой. Мчать, мчать куда глаза глядят, подальше от этого мира, где нет искренности, правды, честности...
— Сейчас будем собираться, Воронец, — тихо промолвил Гордята. — Сейчас...
— Беги оденься получше, как и подобает княжьему отроку. Возьми с собой мой меч. — Ян начал отстёгивать свой пояс с мечом. Руки его дрожали... Вот и меч свой он уже отдаёт... Ещё в Новгороде... тогда, давно... в смрадном свечении лампадок под иконами слепой Вышата-отец протянул ему сей меч. «Твой час пришёл уже, Ян. Бери в свои руки меч Добрыни, и защитит он тебя...» — Береги его, Василий. Да защитит он тебя. — Голос у Яна осёкся. Вот и отошёл он совсем от дел этого суетного и жестокого мира. С жалостью великой отошёл... И уже нет ему возврата...
Гордята держал в руках тяжёлый меч отца, и ему казалось, что от этого меча его душе передалась какая-то тяжесть, коснулась сердца его холодным лезвием... Ой, на добро ли сей меч? Отобьётся ли им от этого страшного мира и его сетей, в которые толкает его Ян?..
Дорога в Чернигов развеяла сомнения Гордяты. Тишина лесов, голубизна рек, извилистый путь, давно проторённый колёсами и разбитый копытами, гомон хлопотливых птиц. Два утра встречал Гордята в дороге. Дважды дивился родниковой чистоте солнца, всплывавшего над лесами.
Воронцу он давал волю, и тогда он летел намётом, развевая чёрный хвост и вытянув длинную шею. Гордята прижимался к его горячей гриве и, казалось, сливался с его телом. Иногда Воронец шёл мелкой рысью, гордо подняв свою белозвёздную голову, будто плыл как чёрный лебедь.
Гордяте верилось и не верилось, что Ян подарил ему этого красавца. Двадцать серебряных гривен! Это же пять холопов, или двадцать волов, или сто баранов, или десять византийских чар!.. Целое богатство держит Гордята в своей узде... И одет богато — голубая свита из бухарской алачи, золотом вышитая; а ещё сапоги из зелёной хзы, ногавицы из чёрной мягкой вольницы... Не пасынок боярский — высокородный княжич! Увидела бы его теперь злоязыкая Килина. Что бы молвила? Чей он сын есть?..
Была бы мать — не нарадовалась бы ему. Но где она? Не помнит её совсем. Когда-то Килька всякие глупости о ней языком своим болтала. Может, от зависти к её красоте. Конюхи-челядники молвили: дивной красоты была. Но он не помнит её лица. Только голос припоминает — нежный, ласковый... «Была у воробушка да жена молодушка...»
Вскоре Гордята очутился на берегу Десны. Его дорога обрывалась на песчаном берегу, с которого виднелся каменный город, возвышающийся на холмах златоглавыми храмами и теремами. На этом берегу Десны стоял на причале паром. Увидев всадника, паромщик замахал шапкой и начал отвязывать от столбов толстые верёвки. Гордята с конём еле взошёл на дощатые мостины парома. Воронец упирался передними ногами, настороженно прядал ушами, боязливо косил чёрными глазами по сторонам. Потом стал как вкопанный и стоял так, пока паром не причалил к другому берегу Десны.
Сухонький, вёрткий паромщик в серой от пыли полотняной рубахе привязал паром к высоким столбам, державшим помост причала.
Вдруг он кому-то пронзительно крикнул:
— А ну-ка отойди, старая, с дороги! Видишь, княжич едет!
— Ги-ги-ги! — послышалось из кустов ивняка пронзительное, высокое, нечеловеческое гигиканье.
Конь и Гордята вздрогнули.
— А ты, княжич, не бойся, не бойся. Она тебя не затронет. Аты, ведьма, не цепляйся к нему. Видишь! Се добрый княжич едет. Он щедро заплатит... Не пугай его... Старая баба... Из разума выжила... Боится чужих, потому убегает... Тебя она не тронет. Она никого не трогает...
Гордята прижался к боку Воронца и всё ещё не отваживался двинуться с места. Всматривался в заросли ивняка, не появится ли там эта ведьма. И увидел...
Совсем в другом месте, где ожидал её увидеть, стояло какое-то чудище. Лохмотья едва прикрывали старческую, высохшую грудь. Землисто-чёрное лицо скрывали космы седых волос, в которых запутались колючки, листья и стебли сухой травы. Сквозь свисающие волосы в него упирались застывшие в страхе большие голубые глаза. Паромщик подошёл к Гордяте.
— Не бойся, княжич, она помешанная. Сама людей боится. Только издали гигикает на них. Всё ищет в воде какую-то Гайку. Болтается здесь всё лето. Наверное, дочь её утонула здесь. Не разберёшь, что лепечет. А бывает, что куда-то и исчезает. Несколько дней нет её. Ну, думаю себе, утонула старуха. Но через некоторое время снова возвращается сюда. Беда какая-то держит её тутка.
— А как зовут её, отец? — встревоженно спросил Гордята. Что-то далёкое, смутное дрогнуло в его сердце.
— Кто её знает. Эй, старая, как зовут-то тебя?
— Ги-ги-ги! — отчаянно раскрыла она свой потрескавшийся беззубый рот, замахала руками, как птица, что не может взлететь.
— Вот и вся её речь.
— А про Гайку она что говорила? — Тревожно сжималось сердце Гордяты.
— Не разберу, голубчик. А сам я нездешний. Из Новгорода-Северского добрался сюда поздней весной. Да и остался при пароме.
Гордята поил Воронца из Десны. Слушал скупую речь северянина. Но ни до чего не дознался. Потом вскочил в седло, тронул стременами бока коня. Воронец только этого и ожидал. Мелкой рысью побежал по песчаной дороге, петляющей между холмами и косогорами и ведущей ко граду Чернигову.
Из-за очередного поворота навстречу ему метнулась стая гончих псов. Гордята свернул на обочину, придержал Воронца. Следом за гончими ошалело выскочили всадники с луками за плечами, с ощетинившимися колчанами при сёдлах. На плечах нескольких конников сидели соколы. «Княжьи сокольничьи, видать, — догадался Гордята. — Князь Владимир на охоту собрался».
Один из всадников помчал прямо на Гордяту.
— Гей! — крикнул ещё издали. — Куда едешь?
— Ко князю Владимиру я...
Всадник был бородат, широк в плечах, сидел в седле тяжело. Он вплотную подъехал к Гордяте. С удивлением стал разглядывать его наряд, прищёлкнул языком от восторга.
— Кто будешь?
— Гонец от князя Святополка, ведь говорю, — вызывающе глядел на него отрок.
— Овва! — Всадник пристально ощупывал его медово-карими очами. — Птичка-то какая! Ну и что?
— Должен ему слово передать.
— Тогда говори.
— Тебе не скажу. Скажу князю.
— Я и есть князь.
— Какой же ты князь? Князь не надевает полотняной рубахи. А ну-ка отойди с пути, ибо плёткой хлестну! — Гордята поднял над головой свою плеть и изо всех сил стиснул коленями бока Воронца.
Конь свечой вздыбился вверх, захрапел, одним прыжком обогнул упрямого всадника, который не сходил с дороги, и понёсся далее.
— Гей, Славята! Борис! Ловите этого наглеца! Перехватите, в лес убежит! — кричал кому-то бородач.
Наперерез Гордяте помчалось несколько всадников. Гордята пришпорил коня. Но ему навстречу откуда-то вынырнул рыжебородый здоровяк и ещё издали метнул в его сторону петлю. Гордята мгновенно перевернулся под брюхо Воронца, и петля только свистнула над седлом.
Когда Воронец вынес его вновь к Десне, он сел в седло, остановил коня, поправил подпругу. И в этот миг услышал над головой знакомый свист верёвки.
Гордята оглянулся, но в это мгновенье петля перехватила ему грудь — и он свалился на землю. Его потащили по траве, а следом за ним, склонив голову, тихо шёл Воронец.
— Что же это ты, ослушник мой, не уберёг дорогой сорочки? Да и шапку вон какую потерял! — прищурил на него медово-карие глаза уже знакомый бородач. — Нерадец, а где же шапка моего гостя, найди. Негоже послу великого князя быть без шапки.
Рыжебородый всадник наклонился с седла и копьём поднял шапку Гордяты.
— Кабы голова была, шапка найдётся, — пророкотал густой бас Нерадца. — Вон где она, шапка сия.
Гордята стоял на земле и кусал губы. Глушил в себе обиду. Неужели это тот самый Нерадец, о котором болтала Килина?.. Ну что за поездка у него? Там, на берегу Десны, витает имя его матери... Здесь он видит живого Нерадца... Он или не он?.. Также не спросишь ни у кого...
— Чей же ты такой ловкий? — белозубо улыбнулся черниговский князь. Гордята сердито сорвал свою шапку с конца копья Нерадца и глубоко, до самых бровей насадил её на свою голову.
— Боярина Яна Вышатича!
— Ого! Похоже, похоже. Его спесь, вижу, — примирительно проговорил князь. — Ну, а теперь докладывай, с чем послали.
— Со словом от Святополка, великого киевского князя! — шмыгнул носом Гордята. — Иди, княже, боржее в помощь брату своему супротив половецких веж. Иди на Стугну... С ратями! — уже от себя добавил молодой гонец.
— Угу... — опустил глаза вниз Владимир Мономах, и его белозубая усмешка исчезла в чёрной бороде. — На Стугну, значит. Буду думать. Но теперь — поедем со мной. На охоту. С соколами! Ездил небось с князем своим?
— Нет... — искренне ответил Гордята. — Не приходилось.
— Ать! Ать! — Мономах резко дёрнул за оброть своего коня и пустил во весь опор, догоняя псарей и сокольничих.
Гордята вослед ему пришпорил и своего Воронца.
Село Белозорье расположилось недалеко от Вышгорода. Его белые дома были разбросаны по широкой пологой логовине, какую издавна распахали смерды и засевали пшеницей да рожью. По тем ровным, будто бороной причёсанным нивам раскачивались изумрудные волны ветров. От этих полей далеко уже отступились леса и дубравы, и они будто заманивали смердов-пахарей распахивать новые площади, выжигать новые лесные делянки.
Внизу логовины протекала широкая, но мелководная речушка. Уставленная по берегам вербами, камышами да кустами ракитника, весной она разливалась широко и раздольно. Тогда её берега приближались к каменистым нагромождениям, которые летом белели далеко от воды. Когда же половодье отступало, вода в русле журчала тихо и светло, текла широким плёсом по зыбкому песчаному дну. В том плёсе вечерами купалась Зоряница, а искупавшись, шла в терема Солнца-Дажьбога, высыпав на почерневшее, будто вспаханное поле, небо пригоршню золотых зёрен. Они вспыхивали живыми огненными точками, дрожащими в волнах белыми зорями. Наверное, от этого и название пошло — Белозорье.
Осенью белые звёзды падали огненным дождём в реку. Молвили, что и эти камни, к которым подступали вешние воды, когда-то упали с неба и поэтому были белыми. И речушка потому называлась Белявица.
На высоком кремнистом взгорье, над рекой, стоял пустынный старый деревянный дом.
Но с тех пор как поселилась здесь новоиспечённая боярыня Килина Осенева, подворье терема ожило, заговорило, зашевелилось. В конюшнях появились лошади, в хлевах захрюкали добрые подсвинки, в овинах заблеяли овцы, в соборах зажевали жвачку коровы... Всё это было перетянуто со дворов белозорцев. Поселяне с сожалением вспоминали теперь старые добрые лета, когда боги оберегали их от княжьих обдирал. Но всё имеет свой конец, а наипаче — добро. Доля же смердов всегда была кургузой. Теперь белозорцы должны были клонить головы перед новой своей судьбой.
Боярыня быстро богатела. И уже начала ставить в селе церковь. Руками своих смердов, конечно.
Храм Святого Юрия был воздвигнут за семь лет. Килина помчалась к киевскому митрополиту, дабы пригласить его освятить церковь и прислать сюда священника. Но в этот день, когда запыхавшаяся от спешки боярыня появилась за валами стольного Киева, ударили колокола, оповестившие о смерти Всеволода. Килина бросилась назад. Новый князь теперь мог отобрать у неё жалованные земли: нужно хватать добро, нажитое ею за эти годы, и убегать куда глаза глядят... Килина повернула лошадей назад...
Село ещё спало предрассветным сном. Ещё дымоходы не пускали в небо дым, когда в него ворвалась серая стая степняков.
А когда солнце совсем поднялось над взгорьями, улицей села протарахтела двухколёсная повозка с боярыней. Село догорало. Никого из белозорцев Килина не встретила. Приближаясь к своему дому, она увидела, что там, где стояло её подворье, взвивался чёрный столб дыма.
Жалобно рыдал одинокий женский голос. У церкви, возле каменных стен храма прижимались друг к другу несколько уцелевших белозорцев. Обнадеженно ринулись к ней:
— Что будем делать, матушка? Ни кола ни двора...
— Ой, не знаю...
— Боярыня, поезжай к князю. Проси зерна какого-нибудь... Дети с голоду погибнут, — подступила к Килине старуха.
Килина как во сне кивала головой. Да, она поедет... Да, она скажет новому князю, что нужно делать, чтобы спасти оставшихся людей от голодной смерти. Без этих людей ведь, без смердов-пахарей, оскудеет вся земля.
Прежде чем добиваться встречи с великим князем, Килина примчалась к Яну Вышатичу. Он мог бы помочь ей пробиться ко княжьему терему. Он и сам может слово замолвить! Но дворня сказала, что боярин Ян в церкви Святого Михаила. Все значительные люди там. Там, мол, собрались князья, распря между ними.
— Чего не поделили? — разгневалась Килина. — Люди от голода мрут по сёлам. Всюду разоренье, всюду пепелища, а половчинов некому остановить...
В Михайловском храме она протиснулась к алтарю. Пред царскими вратами в золотых ризах стоял игумен, подняв над собой золотой крест. Перед ним виновато, весь какой-то несуразный, стоял темноволосый князь. Килина сразу догадалась: Святополк! Рядом с ним уверенно поглядывал на окружающих Владимир Мономах и его совсем ещё юный братец Ростислав, прискакавший из Переяслава.
Недовольно, обрывисто звучали их голоса.
— Не нужно было запирать в избу посольскую половецких послов! — упрекал Владимир Святополка. — Хан Итларь, хан Кытан, хан Тугоркан желали больших даров. Нужно было дать им немного, не всё... Нужно было уступить пока что.
— Что? Русскую землю? — вскипел Святополк.
— Вот сейчас и нужно всем идти против половчинов. Нужно идти всей землёй, чтобы все князья со дружинами были. Зачем распри разводить? — гудел рядом со Святополком голос нового киевского тысяцкого Путяты Вышатича.
— Целуйте крест на сих словах! Целуйте! — игумен подсовывал к лицам князей свой крест, но только Святополк приложился к нему губами.
— Пусть ведёт Мономах. Мы ему верим.
— Мономах!
— Целуйте крест, чада мои. Оба и ведите. Борзо нужно выступать! Половцы губят нашу землю. — Игумен торопился замирить князей-соперников.
Килина узнала среди голосов зычный голос Яна Вышатича. Протолкнулась к нему.
— Воевода Ян, воевода!
Боярин даже плечами дёрнул.
— Какой я тебе воевода? Воеводой нынче брат мой, Путята.
— Не ведала, боярин, прости... — прислонилась к его плечу, будто не в храме многолюдном стояла, а в горнице боярского дома. — Ищу тебя везде. Помоги мне... Беда! Земля моя разорена. Сёла сожжены. Люди в полон попали, а те, что остались, умирают с голода. Одолжи мне из своих онбаров. Век не забуду. С нового урожая и отдам долг.
Косые глаза Вышатича, как всегда во гневе, разбежались в разные стороны.
— Вижу, господарыней умеешь быть. Но нету у меня лишков. Сама знаешь ведь — всюду голодуха.
— Да я тебе новым зерном за тот хлеб отплачу! — Глаза Килины вспыхивали как чёрные уголья.
— Зерном? Но ведь оно сопреет в онбарах. А я на торгах сейчас серебра за него возьму сколько захочу.
— Да у меня, боярин... Нет гривен нынче. Всё сгорело.
— Коль нету, чего просишь? Нету и у меня ничего. Уходи отсюда.
— Не пойду! — бледнея, прошептала Килина. — Пока не дашь хлеба.
— Не дам. Иди себе.
— Пожалеешь, Ян... — прошипела злобно ему в лицо.
— Отстань, рябая жаба!
Килина даже подскочила от обиды. Но, стиснув губы, начала изо всех сил выбираться из храма. Значит, она теперь для него рябая жаба?
Примчалась к Яновому двору как шальная. Стала посреди подворья, взялась за бока.
— Гей вы, челядины! Велел боярин запрячь пять повозок и зерном засыпать. Одна нога чтобы тут, а другая — там. А-я, сие ты, Гордята? Или ты уж Василием прозываешься? Красен, кра-сен, парень! А ну-ка помоги и ты! Твой боярин добр ко мне! Не забыл мою службу верную... Одалживает мне хлеб до нового урожая! Сразу ведь и верну...
Гордята бросился помогать дворне. Эта заклятая Килька кому угодно в душу залезет, а своего добьётся. Сила ведьмовская в ней какая-то играет...
Захватив с собой несколько возчиков, Килина быстро скрылась со двора Яна.
Когда боярин возвратился домой, его оглушили невиданной новостью о дерзости Килины. Не знал только боярин, что зерно это не довезла Килина — повозки разграбили шайки погорельцев.
Ян распалился до неузнаваемости, брызгал слюной, слал вдогонку сумасбродной половчанке все проклятия, какие только знал. Подожди-ка, рябая жаба! Вот он подскажет князю через братца своего, Путяту, чьей милостью разбогатела! И тебе, Гордята, ей за помощь припомню, какого рода-племени... чтобы не забывал... А ну-кась, возьмите его на конюшню, всыпьте хороших плетей!..
Через несколько дней после примирения в храме Святого Михаила дружина князя Святополка двинулась из Киева на Триполье. Под Киевом к ним присоединились дружины Владимира Мономаха и юного Ростислава.
Князья кое-как замирились, но их души ещё не остыли от взаимных обид. В глазах гордого Владимира Мономаха застыла тоска. Сие он должен был вести всю русскую рать против половецкой Степи. Разве он не достойнейший из внуков Ярославовых? Учился у своих великих предков княжити. Как и старый-Святослав, всю жизнь свою провёл в походах. Отец Всеволод сам никуда не любил ездить, его посылал: и против половцев, и в земли свои вотчинные за данью; и против мятежников, и против князей крамольных. Владимир Мономах не жалел ни своего живота, ни трудов великих — всегда с победой возвращался назад. Ибо сам любил всё досмотреть — на воевод и сотских не надеялся. И заставы отправлял, и ночью осторожников сам проверял, спал рядом со своими воинами, подложив седло под голову. Земли свои и люд свой оберегал. Знал, от земли и от людей его богатства возрастают. Учился мудрости и у князей великих, и у монахов, и в книгах. Готовил себя к великому княжению осмысленно. Должен был возвеличить своё время и землю Русскую ещё выше вознесть, нежели до сих пор было при Владимире Крестителе и Ярославе Мудром. Ведь он — продолжатель царского рода Мономаха. Имел право по роду взять в руки свои державное правило и на Руси, и в Византии. Коль судьба улыбнулась бы ему, он соединил бы Византию и Русь. Тогда весь мир простёрся бы перед ним.
Потому не жалел себя Владимир, закалял тело и сердце. С тринадцати лет водил свою дружину. А ныне — за плечами уже сорок. За это время не единожды прошёл через земли вятичей, кривичей, смолян; освобождал от ляхов Владимир и Берестье. В Польшу ходил — до самого Чешского Леса дошёл, ляхам помогал. Был в Турове, Новгороде, Полоцке, Переславле-Залесском... Ходил войной не единожды на вежи половецкие, ходил на Одреск и Чернигов... Бился с Олегом Гориславичем, и Борисом, и Всеславом-чародеем в Полоцке. А сколько ханов половецких забрал в полон! Возле одной Белой Вежи взял четырёх Багубарсовых братьев — Осеня, Оакзя... На Стугне бился с Тугорканом до вечера, у Халепья; много челяди и скота забрал у Итларя и Глеба... Одних бил, других заставлял себе служить. Вот как братья Читаевичи, которые ходили с ним на Минск против Всеслава. Не оставили в том Минске ни челядина, ни скотины...
И вот вновь он идёт на Стугну. И знает, что все с надеждой глядят на него, а не на Святополка. За всю свою жизнь Святополк ни единого раза не выходил в степь. Не видел даже ни одного половчина до Киева! Сидел ведь в Новгороде, милостию бояр новгородских, да в Турове, средь болот. Теперь же сей князь должен поставить русские рати против не виданного им никогда (ни в Новгороде, ни в Турове) врага, должен показывать, куда какому полку заходить, где легче пробиться сквозь ряды вражьего стана!..
Мономах знает, что Святополк будет оглядываться на него. Все воеводы и меньшие князья будут смотреть на него, внука царя Мономаха и Ярослава Мудрого... И летописцы когда-то напишут о нём правду... Конечно, коль великий князь позволит... А коль не позволит, то не дождаться тебе славы вовеки за твои труды великие и подвиги доблестные. Лучше возьми да сам о себе и напиши... Или какому своему летописцу поручи сие дело. Тогда и наследники твои сумеют оценить твою подвижническую жизнь, а наипаче то, что сумел сам себя обуздать и подняться над естественным желаньем заслуженной чести. Потому не мелок он в деяниях своих... Он, Мономах, желает во всём быть великим...
Владимир привычно пристально всматривался вперёд, где ветер гонял тёмные волны шелковистой ковыли. Острый взгляд охотника отмечал то какого-то зверька, не успевшего спрятаться от надвигавшейся рати, то птичку, перепуганно выпорхнувшую из гнезда и бессмысленно хлопающую крыльями над непрошеными и нежданными людьми. А в душе Владимира Мономаха шла невидимая борьба. На память приходили святые отцы из священных писаний и их успокоительные поучения: «Не соревнуйся с лукавым, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут уничтожены, послушные же Господу будут владеть землёй...» И ему нужно быть послушным своей судьбе или воле Господа — тогда будущее у него обнадёживающе! Терпи же, Мономах, терпи... И воздастся!..
Давно уже оставили позади Змиевы валы, дубравы да рощи Киевской земли. Подходили к берегам тихой речки Стугны, на которой стоял ряд городков, охранявших подступы к Киеву: Васильков, Красное, Триполье. На одном её берегу остались пущи и дубравы, на другом — начинались холмы, упади, раздолье для степных ветров. Весенний ярко-изумрудный простор упирается в голубизну небес. Наполненный солнцем пьянящий воздух, пропитанный запахом степных трав и зелёных рощ. Мягко прогибаются под копытами сизая полынь, рута-мята и чабрец. Шёлком стелется чубатая ковыль. Русская степь. Окроплённая кровью русичей, засеянная их белыми костьми, как белыми каменьями. Стонешь, степь родная, под копытом коня половецкого. Стала чужой, враждебной. Зачем губишь силу русскую? Зачем посылаешь орды диких кочевников, которые разоряют нивы, оселища, города?.. Вот миновали они давние валы у Триполья — Змиевы валы. Неизвестно когда и кем насыпаны они против дикой Степи. Проходят рати русские между ними — диву даются. По левую руку — вал, по правую — ещё более высокий. Через всю степь приднепровскую тянутся они, как тела двух огромных змей. Может, ещё против гуннов насыпали их русичи, а может, против обров. Теперь никто об этом уже не помнит. Теперь гуляет здесь вольница половецкая. Да ветер славу русскую разгоняет...
Лишь небо знает об этом. Но оно слишком бездонно и огромно. Немо повисли в нём белые перистые облака. Будто лебеди плыли-плыли по синему морю и вдруг заснули. Непоседливые гуляй-ветры где-то притихли за гребешками Змиевых валов.
В вышине застыл в полёте ширококрылый орёл. Удивлялся бескрайности простора, мягко раскачиваясь на тугих потоках тёплого воздуха, плывшего по земле, а может, пророчил, что на этих просторах скоро вновь густо прольётся русская кровь... горячая людская кровь...
Вдруг орёл сложил крылья и ринулся камнем вниз. Но на полдороге вновь расправил крылья и повис над длинной вереницей конников. Может, прислушивался к неслыханной им ранее песне, которая тосковала по растерянным надеждам...
Гей, туман, логом по долине. Да по крутой горе. Гей, иль плачешь ты так обо мне, Как я, сердце, по тебе?.. Гей, грустит отец, плачет мать, Да ещё печалится весь род, Гей, что ты меня, молодую, В чужу сторону завёл...В серебристой мгле горячего летнего дня блеснула на солнце голубая полоса.
Стугна!.. Вот она, новая граница неволи половецкой, из-за которой катятся на их землю чёрные смерчи. Будто почуяв напряжение, вдруг охватившее всадников, по сытым бокам конских крупов прошла дрожь. Лошади насторожили уши, шаг их сделался осторожным и пугливым.
Рать Святополка остановилась. Громко колотилось сердце в груди великого князя. Впервые вёл такую рать против лукавого и быстрого как ветер врага... Где же он? За Стугной поджидает их? Или уже за спиной у них, незаметно прошёл за Змиевыми валами? Но где же Мономах, брат его? Тащится где-то в хвосте своей дружины... Не торопится к нему с советом...
Святополк нетерпеливо поворачивает своего коня. Но где Поток Туровский? Путята и Ян Вышатич с сыном наверняка помчали к Мономаху...
— Поток! Ян!.. Где вы?
— Я ту-у-ут! — раздался голос Потока.
Отлегло от сердца. Не оставили его одного перед боем.
— Что будем делать, князь? На тот берег идти или здесь половчинов ожидать? — подъехал Путята к Святополку.
— А что там, на другом берегу?
— Белые вежи хана Тугоркана и хана Итларя.
— Откуда знаешь?
— Мономах молвил. Степь он знает.
Святополк сердито почесал свой затылок. Сей Мономах знает! Он всё ведает... Вот только не сказал, что им сейчас делать. Мономах желает, чтобы это сказал он, Святополк. Значит, ему и решать.
— Пойдём на тот берег, — сказал Святополк. — Разгромим их вежи стольные — и всё. Будут долго помнить силу русскую. А? — сказал и сам поверил, что это возможно, ибо ему нужна была сейчас лишь победа, лишь поверженные бунчуки половецких ханов, из которых сплетёт себе венок славы. Он готов стать на колени во имя такой победы.
Одутловатое бородатое лицо Путяты выражает сомнение:
— Нужно спросить у Мономаха... у бояр...
Снова Мономах!.. Его верный боярин также уже склоняется к Мономаху... И его клонит...
— Разве не я великий князь тебе? А? — дёрнул Святополк стременами и угрожающе уколол взглядом Путяту.
— Ты, князь, великий по роду. А Мономах — по разуму. В таком деле, сам ведаешь, нужно всё взвешивать, всё знать... И тебе тоже... коль желаешь усидеть на киевском столе. Запомни.
Святополк будто проглотил язык. Вот как заговорили с ним киевские бояре! Вот как... Ни во что ставят его... спихнут со стола одним взмахом руки! Яко клопа раздавят!.. Э-э, нет, не так глуп он, дабы на рожон лезть. Хотите, чтобы вами руководил здесь Мономах? Идите-ка к нему. Пусть ставит ваши полки по своему разумению... Придёт победа — ему её, великому киевскому князю, припишут. Пораженье — на Мономахову голову легко спихнуть. Ибо державцев, пока они державцы, никто никогда не обвинял в бедах, в которых они повинны...
Святополк криво усмехнулся. Пора тебе, Святополк, научиться державно размышлять и править людьми, прячась за их же желания. Сему учат мудрые книги греческие. Разве ты их мало перечитал?
Уже уверенно подъехал к Мономаху. Спрыгнул на землю, бросил уздечку в руки своему отроку Гордяте-Василию, следовавшему за ним тенью.
Вокруг Мономаха толпились воеводы и бояре. Влюблённо заглядывал в лицо старшему брату юный переяславский князь Ростислав. Сиял блестящими глазами и девичьим румянцем на щеках. Молодой князь жаждал битвы и подвига. Он был в том возрасте, когда неудачи и ложь ещё не пустили в нём ядовитых ростков недоверия и предосторожности, когда мир глядел на него лишь добрыми очами и обещал радость удачи. Владимир Мономах посматривал на него с затаённой завистью — узнавал в нём давнишнего себя и с горечью улыбался — теперь уж никогда не чувствовал такой молодецкой силы. Всё чаще чёрная зависть и обида змеёй шевелились в сердце. Вот и Ростислав. Пока что он и сам не знает своего будущего.
Пока что и желания его не определились. Но придёт время, и он сам поймёт или другие подскажут, что он, самый молодой и самый здоровый внук Ярославов, может потеснить своих старших братьев с киевского стола (как сие сделал когда-то их отец Всеволод), и вся правда русская умолкнет, как молчала она при Всеволоде. Эхма, ещё всё впереди...
Мономах был удовлетворён встречей со Святополком. Вишь ты, старший, но сам подошёл к нему за советом...
— Будем совет держать, брат.
Святополк поймал во взгляде Мономаха тень расположения к нему. И вдруг округлил глаза: увидел на плечах черниговского князя бармы[149] царя Константина Мономаха. Зачем надел перед боем? Напомнить всем о своём высокородстве? А может, ожидает его, Святополчьей, смерти в бою?
Безумие стиснуло грудь Святополка. Он вновь вскочил в седло, злобно всадил в бока своего жеребца стремена. Буланый конь свечкой взвился перед Мономахом.
— Бес мордует тебя, братец, — насмешливо молвил Владимир, будто не понимая причины озлобления своего брата. — Ра-ано. Спрыгивай с коня, иди-ка сюда. Будем вместе думать.
— А чего думать-то? — откликнулся Святополк, не сходя с седла. — Через Стугну — и на вежи. Вихрем! Побыстрее их охомутать! Вот и вся дума. Пока не ждут нас... пока все орды не собрались вместе. Поодиночке их разобьём.
— Гм... — Издёвкой блеснули медовые очи Владимира. — Скор-р ты, вижу. Но глядишь вполглаза на Степь. Сколько дружины у тебя? Три тысячи. А сколько половчинов? Не ведаешь. Ростислав, скажи.
— Тридцать тысяч! — выдохнул юный князь.
— Откуда ведаешь?
— Гм... всякий это ведает, кто живёт вблизи орды и с малолетства знает, что такое орда. Пока за рекой стоим — половцы не знают нашей малой силы. Нужно послать к ним послов и заключить мир.
— Ми-ир! — Сей Мономах потому и надел на себя бармы ромейского царя из жемчуга, дабы унизить его, осрамить перед всей землёй... А может, чтобы поехать на беседу с ханами? Зачем же тогда шли сюда? Даже благосклонные монахи позже напишут, что князь великий убоялся половцев. И будет поношение в церквах Божиих и на языках людских...
— Должны, Владимир, большую победу добыть.
— Погонишься за большим — и малое потеряешь. — Мономах отвернулся. Сей упрямый недоумок будет губить напрасно людей и Русь, ибо ему нужна победа, только победа любой ценой!
— Не боюсь я погубить свой живот, брат. И ты меня не толкай на измену. Угадал, а?
— Напрасно гневаешься. Не о твоём животе нынче речь, князь. — Из-за спины Святополка выступил Ян Вышатич. — Речь о том, дабы за нашу кровь и за наши животы добыть победу. Нужно уметь уступать малое во имя великого.
— Это слово настоящих киевских мужей? — Святополк посмотрел на склонённые головы бояр, тесным кольцом обступивших братьев-князей.
— Сие слово Яна Вышатича.
— А что молвят мужи туровские? — Святополк выхватил из толпы взглядом боярина Потока.
— Нам нужна победа, князь. Перейдём Стугну — и двинемся на вежи. Вон они — сразу за рекой!
Все обернулись к Стугне. Теперь глядели на неё иными глазами, нежели впервые. Теперь видели в ней не красоту окрестного зелёного мира, а врага, который стал преградой и которого нужно преодолеть. Полноводная широкая Стугна ещё несла мутные весенние воды. Могуче кружила течением в водоворотах, щедро залила ивняки и камышовые островки, часть луга на обоих берегах, превратив подходы к ним в невидимые топи. В них копошились головастики, лягушки, пиявки...
— Переступить Стугну не так легко, боярин, — возразил Ян Вышатич Потоку.
Снова посмотрели на Стугну. И все увидели вдруг вдали, на другой стороне реки, мерцающие тёмные точки на горизонте. Невольно в груди всех вспыхнула воинственная сила.
— Вона они, видите? Идут уже! — Когда ратник близко видит врага, его рука невольно тянется к ножнам, чтобы вытащить меч. И тогда начинает говорить сердце воина, а не разум державца.
— Как скажет великий князь. Ему слава, ему и поношение, — отступил назад Ян Вышатич.
Все притихли. Святополк не мог уже иначе сказать, что уже сказал:
— Будем биться. Чего же и шли сюда. Поганых нужно прогнать подальше.
Мономах молчал. Если Бог хочет сгубить человека, то вначале отбирает у него разум... И сии холопы, которые послушно угождают честолюбивому Святополку, первыми удерут, коль половчины начнут обходить их своей силой огромной.
Умному мужу негоже так бездумно бросаться на вражьи копья. Нужно было бы сосчитать свои и чужие рати. Победу надо готовить не торопясь, терпеливо, как создатель храма не торопясь кладёт — камень к камню, песчинка к песчинке. А здесь слепо бросаются в бой... Никто и не знает толком, какая же сила должна упасть на плечи каждого...
Шумела Стугна полноводной волной. Сбивала с ног на быстрине и водоворотах, относила лошадей течением вниз, хлестала в лицо, в рот...
Ах, Стугна, речка неприветливая, почему не остановила ратников? Почему своими ивняковыми берегами прикрыла им небосклон и серую тучу, неумолимо наползавшую в высоких травах и обходившую с двух сторон переутомлённых переправой воев? А туча та спрятала от глаз, как оттачивались острые железные мечи врага и наконечники стрел и копий, которые должны упасть на неприкрытые тела русичей. Не остановила их изменница река! Ибо знала, что остановить порыв к воле — нельзя. Ибо этот порыв выше самой жизни!
Не успели ратники отдохнуть и высохнуть, как туча орд половецких обступила их с двух сторон.
Ещё мокрые, ещё тяжело дышали воины, устав от борьбы с быстрой волной реки. Ещё лошади фыркали, отряхивали с длинных грив капли воды. А воздух уже разрезал шальной свист и улюлюканье. Земля вздрагивала от удара копыт ордынских... Огромной серой массой летели половчины по земле, подминая лошадьми первые ряды русичей. Летели стремительно, неистово, неудержимо. На ходу целились из луков, метали копья, выхватывали свои кривые мечи.
Рать Святополчья спиной прижалась к берегу Стугны. Справа — Мономахова дружина, слева — Ростислава. Тревожно трубили турьи рога. Боевые звуки рожков волновали кровь. Лошади напрягали мышцы. Раздували ноздри, готовые каждое мгновенье сорваться в свой полёт. Одержимый полет сквозь жизнь и сквозь смерть...
— Ступай н-назад! — первым крикнул Мономах. — Занимай место между валами.
Святополк оторопел. Назад? Конечно же!.. между валами!.. Коль остановиться между этими древними Змиевыми валами, то за спиной будет у них не река, а град Триполье... его валы и крепкие заборола.
Святополк молча махнул своим бунчуком. Склонился к Яну Вышатичу, ехавшему рядом с Гордятой-Василием:
— А где начинаются эти валы?
— У Триполья и начинаются, — недовольно буркнул Вышатич.
Снова переправа. Борьба с разгулявшейся волной. Приготовление лошадей. Но валы рядом, совсем рядом.
Половецкая орда остановилась на берегу Стугны. Русская рать ускользнула из огромной петли, какую приготовили ей половецкие ханы, готовясь потопить её в волнах Стугны.
Орда, замявшись, бросилась в воду и также помчалась к валам. Но приходилось брать их уже силой с двух сторон. Русичи спрятались за них как за стены крепости. Над их головами свистели половецкие стрелы. И лишь в двух местах между валами бряцали мечи. Половцы оттеснили Ростислава от Святополчьей рати. Полки переяславские потонули в сером половецком половодье. Тогда степняки начали окружать Святополка с боков, снизу, с вершин валов.
— К Триполью! Бежим к Триполью! — кричал Ян Вышатич, отбиваясь от наскакивающего на него половчина.
Рядом бились Гордята и Святополк. Вдруг Ян увидел, что на его Гордяту-Василия набросили аркан и уже тащили с седла. Вышатич крикнул Святополку — тому ближе было достать до Гордяты. Но князь обернулся к своим воям:
— К Триполью! — и первым бросился к городу.
Вышатич рванул своего коня к Гордяте. Но было уже поздно. И только какой-то ратник, увидев беду, оставил своего половчина, наседавшего на него с саблей, и вихрем полетел к Гордяте, ударом меча разрубив аркан. Но здесь его настигла кривая половецкая смерть...
Мономах отбивал своего брата Ростислава от сабель половецкой орды. Мимо них промчалась дружина Святополка, спеша под защиту городских стен. И не остановилась. Смяла ряды Мономаховых полков. И Всеволодовичам оставался один путь — к Стугне.
Мономах вырвался на вал, оглядел поле боя. Оно кипело будто в котле. Сколько захватывал глаз — волновалось серыми кожаными шишаками, копьями, блестело мечами — огромное молчаливое половецкое море... Не видать и конца... И среди него маленькие островки дружин русичей, смятые убегающим Святополком. Вот-вот их захлестнёт серая волна... упадут буйные головы под копыта степных жеребцов...
Поднял бунчук, склонил его в сторону Стугны:
— За Стугну! За Стугну!
Его голоса не было слышно. Но все видели, куда наклонился Князев бунчук. И стали заворачивать в ту сторону лошадей.
Святополк, Святополк! Что ты наделал, неразумный князь! Пока стояли вначале у реки, не знали половцы силы русичей. Пошли бы на мир... Теперь же увидели её малость... разъединили... разгромили... Позор упал на головы русичей... И тяжёлая дань... и новый полон... и новые грабежи...
За Мономахом пробивался с дружиной Ростислав. Уже у реки его догнала половецкая стрела — впилась в руку. Он видел спасительный противоположный берег, на который уже выбирались его воины... Мгновенно бросился в волну... С головы его слетел шлем... Плюхнулся в воду. А тело его стало тяжело погружаться в воду... Рука!.. рука не поднималась...
— Князь тонет!..
— Где же он? — Мономах уже был на том берегу, но вернулся назад, бросился в волну.
Как и не было его Ростислава. Где-то в глубоких водоворотах зацепился, наверное, за корни... Мономаха кружило течение, тащило вниз.
— Иди, князь, на берег. Поищем сами твоего брата, — отплёвывался водой Нерадец. — Гей, Славята, Борис! Ну-ка идите берегом к тем ивам. Может, там выплывет!
Солнце садилось за длинные синевато-пурпурные полосы туч. Скрывалось быстро. Над поседевшей степью разливались розовые сумерки. С того берега Стугны подъезжали толпы половцев.
Русичи вновь болтались в волнах Стугны. Мономах водил берегом Ростиславового коня, всматривался, не вынырнет ли из воды братова голова... Не прятал слёз, бежавших по щекам...
Проклинал Святополка. Собирал своих уцелевших воинов. Бежать домой! В свой град Чернигов.
Святополк же закрылся в Триполье. Ночью, когда угасли вокруг города половецкие костры, со своей дружиной выскочил за ворота и понёсся к Киеву, чтобы перегнать Мономаха...
Бесславие же опередило его.
Рано утром половцы ворвались в Триполье и полностью его сожгли. Половецкие орды осадили соседний град Торческ, где закрылись торки и берендеи. Вокруг была сожжена и вытоптана земля. Горели заборола на валах града, горели соломенные крыши домов...
Половцы перекрыли все речки, протекающие через Торческ. Ещё девять недель отбивался он от хана Тугоркана, Итларя и Кытана. Наконец изнемог и склонил свою упрямую голову город-воин пред своим извечным врагом. Изгородь из мёртвых тел перегородила его улицы, когда в него ворвались половцы.
Не успел Святополк отдышаться, как хан Тугоркан со своей ордой примчал к Киеву, ворвался за речку Желань и погромил княжескую дружину. «И побежали наши от иноплеменцев, и падали, раненные пред врагами нашими, и много погибли, и было мёртвых больше, нежели у Триполья...» — записал печерский монах в пергамен...
Под Киевом стольным гибли русичи. А князь Владимир Мономах молча сидел в Чернигове, отводил глаза в сторону. Притихли и другие князья. Пусть бьют скудоумного Святополка! А сами поглядывали на киевский стол...
Где же вы, державные сыны земли нашей? Где же ваши высокие слова и старые заповеди, которым вы клялись следовать, не жалея живота своего? Молчите?
Могущественный властелин половецких орд хан Тугоркан стоял за Желанью. Не хотел идти в степи. Хищным оком измерял отсюда расстояние к Ярославскому валу и Золотым воротам Киева. Прикинул, что к нему четверть дня тихого хода. Вот теперь он заставит златоглавую столицу русичей склонить перед ним свою горделивую голову. И наконец он сможет получить от лукавых ромеев обещанное ему золото за разоренье Руси. Давно бельмом в глазу мешает её могущество византийским царям. Пока будет стоять Русь, до тех пор не будет им покоя. Потому и должны ублажать кочевые орды — платить им большое золото, чтобы постоянно терзали её земли. И Тугоркану обещано немало... Но только обещано. Теперь же он стоит у валов Киева. Один прыжок — и повержен давнишний тайный соперник Византии. И звенит тяжёлое ромейское злато в кожаных мехах Тугоркана! Но киевские велеможцы предложили ему богатый выкуп. Не только златом-серебром и табунами. Сказали ему: киевский князь Святополк давно уже вдовец, дай ему в жёны свою дочь Тотуру. И твои внуки, Тугоркан, тогда получат всю Русскую землю в наследство. По Правде Русской. И будем жить в мире и согласии. Тугоркан долго размышлял. Какая польза будет от этого его половецкому народу? Тотура, конечно, положит начало новому роду русских князей — с половецкой кровью. Они станут великими князьями на Руси, и орды степняков станут им могучей подпорой. Тогда будет единое — Русь и Степь. Тогда они вместе смогут сломать шею ромейским императорам, которые постоянно натравляют и на половцев то печенегов, то булгар, то другие племена. А руками половцев Византия тоже бьёт этих же печенегов и булгар. Новый византийский император Алексей Комнин[150] недавно посылал Тугоркана и Боняка против печенегов. Половцы их жестоко разбили. Но хватит ли золота у византийских царей, чтобы откупиться от соединённых ратей половцев и русичей? Не дешевле ли будет возносливым ромеям склониться пред силой Степи и посадить на свой золотой трон половецких ханов? Ведь ромеи когда-то склоняли головы перед завоевателями — норманнами, готами, булгарами, хазарами... Их вожди не единожды восседали на цареградском троне в царской короне!..
Разве не Византия извечный их враг? Алексей Комнин окружил себя людьми худородными и вождями кочевых племён. Империю постоянно терзают норманны, печенеги, турки, а внутри её разъедает вражда церковная и вражда богатых родов — вспыхивают бунты богомилов, павликиан, выступают мятежные противники Комнина — Девгеневич, псевдо-Лев и другие...
Как никогда, удобное время для набега!
Но сами половцы Византии не сокрушат. Им необходимой подмогой стала бы Русь. Потому нынче Тугоркану есть над чем призадуматься. Добрые слова молвят киевские бояре. Теперь он перехитрит лукавых ромеев. Раньше они толкали его против Руси, отныне — он, Тугоркан, поведёт огромные рати русичей и половцев на Византию. И не найти ромеям столько золота, чтобы откупиться от них! Должны будут уступить корону... Доброе дело замыслили киевские бояре!
Тугоркан послал гонцов в степь за Тотурой. Пускай торопится сюда! Овдовевший Святополк станет добычей в её нежных объятиях. Христианский Бог-повелитель не разрешает князю иметь много жён. Тотура станет его единственной великой княгиней. Она сумеет держать князя в своих тёплых и тугих ладошках. О Тотура! Ты не ведаешь ещё, какая судьба ожидает тебя и твой народ!..
Тугоркан счастливо потирал руки и поджидал послов из степи. Возвращаться же сам не хотел. Кто знает этих русичей — пообещали одно, а потом ещё передумают. Нет, он каждую минуту сможет отсюда двинуться на Киев, коли что...
Наконец Тотура прибыла со своими вежами. Начался неожиданно затяжной и. нудный обмен послами.
Тотура терпеливо ждала. Лицо её было всё закрыто шёлковой шалью, добытой у ромеев. Лишь глаза блестели из-под неё. То ошалело-радостно, то тоскливо. И чем больше уплывало дней в тихих волнах живописной речушки Желани, чем длиннее и прохладнее становились ночи, тем больше метался по своему стойбищу грозный Тугоркан.
Почему оттягивает женитьбу киевский князь? Почему так тщательно готовятся бояре к свадьбе? Не замышляют ли что-то злонамеренное? Но только ничего у них не получится — его орда сразу же ворвётся в Золотые ворота!..
Наконец Тугоркан откровенно разгневался. Очередному княжескому послу не разрешил садиться. Выхватил из золотых ножен свою кривую саблю (подарок Алексея Комнина!) и протянул её гонцу:
— Не желает твой князь расстилать свадебный дастархан[151], пусть примет мой меч.
Это была война...
Боярин Поток и тысяцкий Путята Вышатич совсем закручинились, созывая вновь думцев княжеских. Не желали идти. Перессорились меж собой, разошлись — стали извечными врагами.
Что делать киевскому князю? Как отбиться от Туторкана? Кривой меч половецкий на столе. Князю необходимо либо послать Тугоркану серебряную кружку и звать гостей на веселие, либо выставить против ордынцев рать. Позвать Мономаха и всех меньших князей? Хотя дружины у них небольшие. Но тогда будет то же, что на Стугне, — перетрут их, как зёрна жерновами. Звать иноземцев? Лядских, или угорских, или ещё каких... Но они не будут воевать за интересы Руси. Половцы их ведь не трогают. Поэтому они ещё и рады, что Русь слабеет от набегов степняков. Но даже коль и согласились бы прийти, не успеют помочь. Тугоркан совсем рядом...
Ввести в княжеские палаты дочь хана? Позор и поношение роду Рюриковичей! Ведь раньше здесь были и свейские королевны, греческие и английские царевны и польские княжны. Но чтобы дикая половчанка... И всё же сейчас единственный выход для киевского князя — восстановить мир с половецкой Степью.
Боярин Поток за последнюю неделю совершенно исхудал, даже как-то уменьшился. Под глазами залегли синие круги. Теперь-то он понял, что такое половцы. В Турове, за драговинами, не представлял даже, какая тяжкая судьба легла на плечи русичей: борьба не на жизнь, а на смерть с половцами. Лишь теперь почувствовал всю её важность. Потому и присоединился к совету Яна Вышатича и его брата Путяты: взять Тотуру в княжеский терем. Однако печерский игумен Иван вновь будет потрясать посохом и вновь будет сыпать на них анафемы и проклятья.
— А будет нам лепее взять любовь да ряд между всеми князьями русскими и стати супротив Степи! Безбожный и кознивый половчин хочет пошатнуть могущество наше со средины. По наущению ромеев же!
— У Святополка — взрослые чада от первой жены. И наследники-сыновья от нея же: Мстислав, Брячислав, Ярослав. Им же и стол киевский по закону наследовать. Чего боимся? Пусть берёт эту половчанку...
— Для этого ли свирепый Тугоркан стоит с ордой под Киевом? — отзывался Чудин. — Ведь он никогда не уйдёт отсюда и никого не пустит на киевский стол, кроме своих внуков. И будет всегда распри творить на нашей земле.
— Когда это ещё будут у него внуки. Доживите!.. А нынче половчины наших смердов в полон ведут. Нивы наши топчут. Скотину угоняют. Голоден и бос наш люд...
— Что верно, то верно... — кивали головами бояре. Но согласия своего не давали. — Позор будет имени русскому — с дикими половцами родниться. Нехристи ведь они!
— Покрестить надобно.
И вновь начиналась ссора.
Под Киевом же дымилась от пожаров земля. Не высыхали слёзы сирот. Стонали пленники...
По зову боярина Потока буквально приполз истощённый болезнями и ратными ранами Ян Вышатич. Вот-вот, казалось, душа выпорхнет из него... Но всё же дотащился, чтобы совет держать... Ведь и его погосты пылают нынче под Киевом. И его сёла разорены в Поросье...
Игумен Иван прибыл с целой свитой черноризцев. Нестор-книжник, скопец Еремея, диакон Феоктист, пресвитер Сильвестр. Расселись на скамейках в гриднице молча. Но уже не так, как прежде, гневались — кривая сабля Тугоркана лежала на красном сукне.
Сабля отсвечивала на рукояти драгоценными камнями. Алексей Комнин не поскупился на подарок половецкому хану — лишь бы тот побыстрее убрался из византийского пограничья... А может, наперёд оплачивал этот поход? За разоренье земли Русской? То лукавые ромеи! Они хорошо научились направлять чужие мечи — против своих соперников — или ссорить их между собой. Тем и держались.
— Не бывать сему! Нету моего согласия на это! — возмущённо тряс своей уже совсем белой головой игумен Иван, — Хан Тугоркан хощет набросить на нас ромейское иго. Хитрец Комнин будет сидеть спокойнее, коль Русь окажется под арканом половецким...
Святополк, согнувшись, сидел в красном углу, прятал глаза от собравшихся.
— Слыхали сие! А чего нынче-то делать будем? Какой ответ Тугоркану дадим на это? — ткнул пальцем в саблю боярин Поток.
В гриднице водворилось молчание. Наконец Ян Вышатич сухо откашлялся:
— Стою на своих словах: брать Тотуру в терем. Не бывало ещё такого, дабы жена князя правила мужем. И не бывать!
Святополк встрепенулся. Глаза его засветились надеждой. Воистину: этому не бывать... Обнадеженно посмотрел на Потока. Боярин тяжело положил на стол кулаки.
— Я так мыслю: кто согласен с этим, пусть остаётся здесь. Кто нет — пусть идёт себе прочь и рать готовит...
Игумен Иван стукнул посохом и широким шагом направился к двери. За ним засеменили Еремея и Сильвестр. Нестор же и Феоктист не тронулись с места. Игумен от порога бросил на них удивлённый взгляд:
— А вы?
— Мы останемся, владыка. Да придёт мир на нашу землю, — ответил Феоктист.
— Нестор, и ты?
— Да будет мир... — сурово проговорил книжник.
Иван сделал ещё два шага к двери, потом остановился. Обеими руками сорвал со своей головы чёрный клобук, протянул Нестору:
— Нестор... вижу... я не гожусь быть игуменом... Передаю тебе игуменство... и посох...
Нестор быстро подошёл к Ивану, взял в руки клобук.
— Владыка... Сам же велел звать Святополка из Турова. Поддерживал его. И теперь помоги. Тяжёлые времена настали для Руси...
— Не могу, брат...
— А я не могу сие прияти... Отец Феоктист, возьми клобук игуменский. Носи его достойно... А я — я за пергамен сяду. Возьму снова в руки своё писало. Это мой удел.
Игумен Иван молча поклонился всем и вышел за порог. Тревожные молчаливые взгляды провожали его в спину.
— Он никогда меня не любил! Он всегда был против меня. А теперь — Бог надоумил его! — вскипел от радости Святополк. — Он ещё в Новгороде против меня мятеж поднимал. О!..
— Князь, игумен Иван велел тебя сюда звать. По его воле я тогда приехал к тебе на Туровщину. Его вины пред тобой нет!
— Несите Тугоркану хлеб и рушник, берём его дочь Тотуру себе в великие княгини. Да будет мир со Степью... — поднялся торжественно боярин Поток.
Феоктист перекрестил Святополка:
— Печерская обитель за тебя, князь. Правь ею державно. Лишь не давай силы гречинам-ромеям, яко было сие раньше. На кафедры епископские шли русичей — наша братия печерская тебе поможет. И везде, по всей земле Русской, владыки церковные будут к тебе народ поворачивать, молитвой искренней поддерживать будут и деяниями. А сейчас — возьми в наших монастырских онбарах хлеб. Раздай людям в сожжённых сёлах. Облегчи потяги смердам. И Бог заступится за тебя, а люди — благословят. Тогда и придёт время наструнить тетиву на врагов ордынских. Аминь.
— Владыка... Не забуду сие. Братию твою буду жаловать. — Святополк расчувствованно припал к руке Феоктиста.
— Бог воздаст тебе...
— Поставлю новый храм, в память дня сегодняшнего. И его святого... который это, а?
— Сегодня день святого Михаила.
— Будет храм Михайловский... Упомни, отче.
Бояре-думцы расходились.
Феоктист с Нестором шли к своим Печёрам.
— Жаль отца Ивана. Честную душу имеет. И для обители нашей трудов не жалел, и для державы...
— Наука его нам осталась. Учил ведь — возвышаться над суетой, прозревать будущее, но сам потонул в суете.
— Не выдержал Святополчьей ничтожности. Тяжело сие, брат.
— Нужно князя Святополка к себе приблизить, разум его направлять. В руках у бояр он. Что хотят, то и делают с ним. Наипаче — этот туровец Поток. Правда, он уже притёрся здесь. Прислушивается к киевским боярам.
— Потому что имеет много погостов вблизи Василькова. Половецкая орда и его задевает! — засмеялся Нестор.
— Вона что!.. Ну а нам хлопотать о своём. От распрей землю беречь. А половчанка — жена. Примет христианскую веру — и всё тут.
Снова шли молча.
— О чём думаешь, брат Нестор?
— А о том, что нынче и нам нужно по-иному на мир глядеть. И мне также. Отец Иван передаёт мне пергамен, летопись нашу. Думаю себе, что это очень важное дело — летописание. Вот, например, Святополк со своими туровцами только совет держит. От других бояр отделился. А предок его Владимир — тот умел выслушивать мудрое слово и от всех бояр, и от чёрных людей, которых также думцами своими делал. Вот как простого киевского кожемяки сына, который печенега одолел пред валами Переяслава[152]. И ещё многое известно, что делали наши старые князья, как народом крепили землю. Князьям нашим нынешним это всё было бы в науку...
Феоктисту было не по себе. Не сравняться ему в подобных размышлениях с книжником Нестором. Древних пергаменов не читал, в греческом письме не силён. Едва одолел житие Бориса и Глеба, дабы службу в храме отправлять достойно. Мудро написал Нестор о смирении молодых князей, которые приняли смерть от руки старшего брата. Нынче все владыки поучают своё стадо, а паче всего державцев. За сие — дарован будет им рай небесный, яко Борису и Глебу. Это житие Нестора — дело доброе, которое могущество державы укрепляет. Теперь бы и летописанию Нестора стать таковым.
— Мудр еси, брат Нестор. Да поможет тебе Бог в этом деле... — только и ответил...
Осень шуршала сухими травами. На плечи черноризцев медленно падали золотые и багряные листья.
Красно-пурпурное солнце уже точно продиралось сквозь поредевшие ветви осеннего леса, громоздилось на чёрных ветвях, как огромное аистово гнездо, и, покачавшись на них, скатилось вниз, в чащу леса. Когда черноризцы взошли на вершину плоского печерского взгорья, красный круг солнца опустился за небосклон. Кто знает, какие мысли всплывали в голове нового печерского игумена Феоктиста, но Нестору каждый раз крут солнца напоминал Ярилов день, в душе его вспыхивало воспоминание о белом коне и его золотокосой всаднице. Иногда ему казалось, что он видит её на белом коне там, на облаке, которое плывёт к солнцу. Прости его, Боже!..
На монастырском подворье переполох. Увидев Феоктиста и Нестора, все замерли в почтительном поклоне. Тут уже знали о своём новом пастыре.
Феоктист вдруг перешёл на скорый шаг, устремив взгляд на ворота. Нестор посмотрел в ту сторону и увидел отца Ивана. За ним шли мечники. Суровый, насупившийся, непреклонный их Иван. Но откуда эти мечники? Что-то здесь неладное...
— Брат Иван, что сие? — бросается к нему Феоктист.
Двое мечников преграждают ему путь:
— Не велено подходить...
— Имею от князя нашего милость, братья, — Иван сверкнул чёрными очами из-под бровей. — Вдогонку, видите, стражников мне прислал и велел жаловать своей лаской — немедленно, говорит, к Турову убирайся, чтоб и духа твоего здесь не было!
— Как?! — в один голос вскрикнули оба монаха. — Вот так, сразу?
— Вон и повозку прислал уже!.. Только вас поджидал. Брату Нестору хочу в руки отдать... пергамен... Вот он — возьми. А теперь — в Туров. В заточенье. Пошли!
Все растерянно смотрели вслед быстрым шагам отца Ивана. Будто не в ссылку торопился, а на родину державную.
— Вот так... — вздохнул Феоктист.
— Помилуй его, Господи, и укрепи сердцем...
— Должны ехать! — приказал сотский мечникам. — Быстрее! Быстрее!
— На ночь глядя... Досадил же князю...
Монахи молча расходились по келиям. Нестор шёл последним. На душе было тяжко. Великий киевский князь вот так с людьми честными расправляется... в их же доме... не в своём... Способен ли он чему-то научиться? Иль его слепая душа недоступна для голоса совести, в которой мудрость умерших и бессмертие живущих?.. Ведь душа прозревает лишь тогда, коль она живая, коль неподвластна ржавчине себялюбия. Видит Господь, не напрасны их усилия — поддерживать власть единого князя. Но мелок думой князь их — в этом беда. Мельчают и люди вокруг него... Мельчает в людях и совесть, и честь... вырождается род сильных... Что же ожидает всех впереди?
Тоскливо в тёмной келии Нестора. Лишь икона блестит тусклым светом, прорезает густую темень осенней ночи, наполнившей виталище. Тишина тяжело вошла в душу. Очистила мысли от чужих слов, лиц, движений. И уже катился пред его глазами вечный круг неутомимого солнца-светила... и сыпался на плечи золотой дождь осени... Удивительна она, красота земная... Светит человеку сквозь тьму и сквозь годы его жизни... Ради неё хочется жить, преодолевать трудности... злой умысел оглохших от себялюбия...
Среди нас, люди, среди нас радость и горе, величие и ничтожество, честь и бесчестье, вся сущность бытия человеческого — и бессмертие его... Среди нас... И сила неодолимая человека — среди нас же. В самих нас. Как человек понимает себя, каким видит себя в будущем своём — так и утверждает. Великие греки потому и были велики, что во все века умели себя возвеличить нетленностью мысли и красоты. Но как только променяли свою мудрость на лукавство, на раболепие пред загребущей и ненасытной силой — властвованием над людьми и народами, — так и начали катиться в пропасть... в болото... в забытие... Нынче торгуют всем — красотой, мудростью, доверием, честью, Богом своим Христом... его словом... лишь бы себе подчинить всё больше народов, лишь бы свою глотку набить золотом... И к Руси тянут руки... Не удалось через владык церковных — через диких половцев хотят набросить нам на шею рабство. Но не бывать сему! Русская земля найдёт в себе силы разорвать эти тайные сети... И великое лукавство... и свой позор... и уничтожить половецкую тамгу на своём теле.
Кто посмеет сказать, что мы обойдены судьбой?
Нестор зажёг от лампадки толстую сальную свечу, примостил её в светильнике на своём столе, раскрутил пергамен Ивана.
«Половцы же... людей поделили и повели в вежи свои к своим одноплеменцам и сородичам, повели страждущих, опечаленных, измученных, холодом скованных, голодных, живущих в беде...» — это были его последние строки.
Сие так и есть... так... Но всё равно — Русь не одолеть. Не сломить её, брат Иван! И об этом нужно также написать. Дух нам нужно возносить свой непокорённый, но не плакать над недолей!
Нестор вытащил из кружечки своё маленькое железное писало, придвинул чернильницу, макнул писало. И рядом с отчаянными словами Иванового письма вывел: «Да никто не дерзнёт сказать, что ненавидимы мы Богом! Да не будет! Ибо кого так любит Бог, якоже нас возлюбил? Кого так почтил он, как нас прославил и превознёс? Никого!.. Больше всех просвещены были, зная волю владычную, и, презрев её, как подобает, больше других наказаны. Се бо аз грешный много, и часто Бога гневлю, и часто согрешаю во все дни...» Писать или не писать о своих размышлениях греховных и крамольных — о желании честолюбивом, о своей летописи, которая стала бы наукой доблести всей земли... Единственное дерзкое желание у Нестора-книжника — поставить народ русский на один кон с иными великими и просвещёнными народами... Тако и будет!..
Тако он и сделает...
Из-за иконы вытащил новый свёрток чистого пергамена. Вывел: «Се повести временных лет Нестора-черноризца Феодосиева монастыря Печерского... Откуда есть пошла русская земля и кто в ней нача первее княжити...»
Сие будет его летопись.
«Се начнём повесть сию...»
За стенами келии плыла в тумане осенняя ночь лета 6602 от сотворения мира и 1094 год от рождения Христа... Нестор начал вновь сводить большой летописный свод во славу будущего своего рода и народа. Будет здесь и писание великого Никона, останутся и честные, печальные слова игумена Ивана. Но наипаче прославит себя Нестор и своё время тем, что впервые покажет корни своего рода, заглянув в седую древность и утвердив свой народ в древней истории, вписав собранные за много лет старые свидетельства — и о старом Кии, и о походах князей на Цареград, на Хазарию, и о великости души своего народа...
Всё было для неё — и это огромное золотое солнце, раздававшее тепло и ласку, и свет высокого неба, и зелёная яркость земли. И ещё были песни. Княжья Рута не знала, откуда они берутся. Они входили в её душу, как воздух. А возможно, рождались в ней вместе с радостью белого дня, тёплого ветра, весёлого щебетанья птиц.
У моего терема, у моего нового Битая дороженька, топтаная тропочка, Туда пошли молодцы, на гуслях играючи, На гуслях играючи, песни распеваючи...Звенел её голосок на приволье. Это летом. А зимой — возле окошка, за прялкой звенели удивительные песни. Любина только вздыхала. Сызмальства, от бабки переняла колядки, купальские да русалочьи песни. А поднялась на ноги начала петь своё, дотоле никем не слыханное:
Через бор, через бор, через тёмные леса Серы гусоньки летели, меж собою говорили...Любина то улыбалась удивительным речам этих гусей, вместе с дочерью будто бы ходила вытоптанной тропинкой вокруг какого-то терема, то слушала песню молодцов, то сердцем переживала за молодого пастуха, который растерял своих волов, играя на дуде...
Иногда девушка умолкала. Что-то тревожило её.
— Почему я — Княжья?
— Потому что и есть — княжья. Мы все здесь, в граде, княжьи люди.
— А Рута? Почему я Рута?
— Потому что как молодой росточек красива! Глаз радуется, глядя на тебя.
Девушка улыбалась. И через некоторое время начиналась новая песня Руты. Любина следила, как вьётся-заплетается посеянная рута, как слова дочери сплетаются в песню.
Только в этом и радость их...
Давно уж Любина оставила Красный двор Нерадца. Как раз после смерти князя Всеволода по земле прошёл голод, перекосивший половину людей. Старые родители пошли в царство Пека. Нерадец тогда подался к Мономаху. А Любина и Рута вернулись жить в полуразрушенную отцовскую избу. Но всё же свой дом и своя правда в нём. Воспрянула измученная душа Любины. Столько лет горевала в слезах и унижении. Теперь же надежды снова вернулись к ней. Дочь в самой поре, зятя, видимо, скоро ждать на подворье, и заживут они как люди...
В свою пятнадцатую весну Рута больше пела мечтательные песни. Они пришлись по сердцу Васильковским девчатам, и скоро вся околица звенела Рутиными припевками. Именно в ту весну на княжьем дворе вновь появилась дружина с князем Владимиром Мономахом. Говорили, черниговский князь приехал на охоту, а может, ближе к Киеву приглядеться... а может, просто напомнить о себе киевлянам?
Снова у терема бурлили игрища и хороводы. Дружина княжеская пировала на радостях, что после половецкого похода осталась живой. Нерадец расхаживал среди дружинников как павлин, распустив хвост. Дружинники подносили ему вино в серебром окованном турьем роге. Но черниговский посадник лишь губу оттопыривал. Напоминают ему, каким он был здесь ничтожным, в этом Василькове? Да, он бы нынче хотел забыть сей град и своё правление в нём. Не было здесь у него радости. И никого из близких не было. Забыл свою законную жену Любину. Ни у кого не хотел спросить даже о матери своей... Исчезло, всё исчезло.
Услужливая челядь привела на Красный двор Руту. Пусть послушает князь дивные песни этой девушки.
Рута со страхом посматривала на дружинников. В их глазах таилось колючее любопытство, насмешка. Песни? Сама придумывает? Вот эта смуглая длинноногая девчонка?
— Пой, Рутка, позабавь князя нашего пресветлого! — гудела вокруг неё дворня, стараясь угодить Мономаху, неподвижно сидевшему перед кружкой с брагой.
Князь вдыхал хмельной дух напитка, жмурил глаза. Его серебряная серьга в правом ухе тускло отсвечивала, дрожала от нетерпеливого ожидания.
— Эй, Нерадец, плохо хозяйничал во граде. Люди своего князя не слушают. Чья это девка? — Мономах отодвинул от себя кружку, пальцем ткнул в сторону Руты.
Нерадец сморщил толстый лоб, еле разлепил заплывшие веки.
— Не припомню, князь. Тут их как земляничных ягод в лесу, этих девок. И потом... я столько лет посадничаю в Чернигове, благодаренье тебе вовеки.
Кто-то из челядников склонился к Владимиру:
— А сие ж твоя Рута, князь: Княжья Рута и прозывается. Любины той несчастной дочь. Ты ещё Нерадцу в жёны её когда-то отдал. Ай забыл?
Нерадец удивлённо поднял косматые рыжие брови. Видимо, в нём шевельнулось какое-то воспоминание.
— Что же ты, Нерадец, не почитал своей жены, князем тебе данной?
— Я тебя больше всех почитаю, князь... — забормотал Нерадец. — Больше всех!..
— Но, кроме этого, должен почитать моё жалованье к тебе... и кровных моих. Сколько же лет тебе, Рута? — обратился Мономах к девушке.
— Пятнадцать, — тихо ответила Рута.
— Жениха имеешь? — Князь наклонился вперёд. Рассматривал Руту. Такая ясность и тихая покорность светились в её лице.
— Не имею, князь. Бедны мы очень. Кто захочет в бедность влезать?
— О! — удивился Мономах рассудительности девчонки. — Тогда выбирай себе жениха сама. Вон сколько их у меня. Присмотрись, кто по сердцу — и бери. Приданое — за мной.
Рута со страхом и омерзением посмотрела на княжеских дружинников, устроившихся после сытой трапезы на траве. Не хочет она никого из этих самодовольных, пересыщенных людей... Бежать отсюда! Скорее бежать... Испортили жизнь матери её, теперь к ней подбираются!
Рута отступила назад, нечаянно стала босыми ногами на ещё не остывшие угли от костра. Отчаянно закричала, запрыгала от боли. Дружинники весело загоготали, а из Рутиных очей дождём хлынули слёзы.
И вдруг кто-то легонько коснулся её плеча:
— Не нужно так, Рута. Не плачь, голубушка. Возьми меня себе в мужья. Ты мне по сердцу.
Рута подняла в испуге заплаканное лицо. Кто же это так нежно успокаивает её израненную душу? Ещё никто из парней к ней так ласково не обращался.
Всклокоченные чёрные волосы, как синие сливы — продолговатые и блестящие глаза, смуглые крепкие скулы. А в глазах — затаённое ожидание и страх... Но усы!.. Усы — как чёрные клешни рака...
Она закрыла лицо ладошками.
— Славята, не трогай девицы. Видишь? Усов твоих испугалась. Тьфу! Какие усищи отрастил! На смех людям.
— Да что ты её здесь спрашиваешь? Возьми за ручку, отведи домой да и поговори дорогой...
— А наш Славятка добрую птичку поймал! Княжну! Какое приданое за ней даст Мономах?
— Да какая она княжна! Княжья Рута — и всё. Дикая травинка! Кто захочет — затопчет, кто захочет — сорвёт.
— Теперь наш Славята дотянется до чина и землицы...
Славята злобно сверкнул синими глазами.
— Распустили свои жала!.. Идём! — дёрнул Руту за руку. — Не слушай глупых болтунов!..
Её горячая тонкая рука мелко дрожала в широких мозолистых ладонях Славяты. Вот ведь как напугали девушку. Такую хрупкую, глазастую... Волна нежности поднялась в душе бывалого воина.
Светило солнце в глаза. Весь мир радовался и согревал её. Согревали сердце добрые и нежные глаза парня.
Сидели они на большом сером валуне, на берегу озера. Смотрели, как красное солнышко купалось в его волнах. Как всплёскивает рыба в заводях. Как прозрачные сумерки опускались на землю. Рута наконец успокоилась.
— Не бойсь меня, Рута. Я тебя в обиду не дам, — тихо молвил Славята. — Не хочешь — не бери меня в мужья. Это я так сказал, чтобы никто тебе ничего не сделал. Знаю своих...
Рута повернула к нему голову. Всматривалась в его открытое лицо, в его глаза. И притягивают, и что-то утаивают.
— А ты кто?
— Я — Славята. Лишь отрок Князев. К дружиннику ещё не дотянулся.
— А меня... в самом деле взял бы в жёны?
— Кабы захотела...
— Мы с матерью самые последние бедняки. Живём в логе. У нас лишь две курицы.
— Поставили бы новую избу. Я умею ставить избы из самана — это надо глину перемешать с соломой и помётом, потом разрезать и высушить.
— Мать давно зятя ожидает.
— Хочешь меня в мужья? Я бы тебя очень жаловал.
— Не знаю... — отвернула лицо.
— Тогда... — Славята вздохнул, — я подожду. А ты подумай. — Хотел погладить девушку по тёмной косе. Но отдёрнул руку назад. Ещё напугает её... Помолчал и снова заговорил: — Есть у меня ещё братец меньший — Борис. А мать наша в половецких вежах. Отрада-Ула. Когда-то хан Итларь взял её в жёны и назвал Улой. А отца своего я не знаю.
— А я... лишь сегодня... узнала... Пойду домой. Мать ожидает. Добрый ты. Только... стар...
— Стар? Ещё и тридцати не миновало! Как раз...
— Не ведаю! — засмеялась заливисто Рута. И побежала тропинкой к логу.
Бежит и радуется. Отца своего нашла! Князя! Даже страшно... Наверное, и матери страшно было, поэтому и не признавалась ей в этом... И ещё жениха заимела... Славяту!.. Смешно...
Мурлычет что-то себе под нос. И уже новая песня на свободу просится...
Как во поле ветер веет, моя судьба в гости едет. Где ж ты, долюшка, судьбинушка моя, где ж ты задержалась? Иль ты в поле жито жала, иль ты в лесу грибы брала?..— А ты всё песни поешь, дочка? — встречает её у калитки мать. — Это уж про что?
— Про долю, мама, которая послала мне жениха. Х-о-о-ро-о-шего! Вот с такими усищами!
— Ой, головушка моя... беда какая-то... — испугалась Любина.
— Почему беда, мама? Отрок Славята, у князя нашего в дружине. Скоро и дружинником будет.
— Да откуда же он взялся?
— Отец... князь... мне его сосватал.
— Ой! — Любина схватилась за сердце. — Какой же это?
— Владимир Мономах. Видишь, а ты мне не сказала... Я всё-таки княжья! — весело смеялась Рута и кружила вокруг матери.
— Ты отчего так веселишься? Что доброго в том? Вон в каком хлеве живём. И этому рады. Подальше, дочка, от всех князей и их холуёв. Они только бесчестят людей.
— Всё же, мама, я — княжья. Но ты не думай, я не буду тянуться к этим боярам и князьям. Славята мой добрый. Вот только стар, — вдруг запечалилась Рута. — Но хозяин будет хороший.
— Да сколько же ему? — испуганно заглянула в глаза дочери Любина.
— Говорит, скоро будет тридцать лет.
— Не беда. Только бы тебя любил и уважал.
— Говорил, что будет жаловать...
— Да помогут тебе боги, Рута...
Как пойду я улочками, Живут люди парочками, А я, молода, живу одна, Не видела себе добра...Сидела Любина на скамейке, против печки. Подпёрла кулаком щёку, печально качала головой. Женская долюшка неласкова была к ней... За какие грехи, если и малых не соберёшь, чтобы всю жизнь из-за них мучиться?.. Всё больше за доброту и за доверие сердца наказание принимает женщина... Вот хотя бы и Гайка Претичева. Уж и забыли её в Василькове. Или Нега Короткая. Нерадцева мать. Сгинула где-то, никто и могилы не знает. Но кому какое зло причинила? Всю жизнь в поте лица работала, одна троих сыновей на ноги поднимала. Коротким было её счастье женское. Потому и прозвали так — Короткой Негой. А к людям с добром шла. Но ведь не нашла она счастья и в Претичевом доме. Только и присказка о ней осталась нынче: о бедняках молвят, что живут они как в Претичевой избе. Или: полно беды у них, как в Претичевой избе. А избы уж и нет давно. Развалилась. Расползлась, лебедой заросла да лопухами. Пустырь... Только совы ночью там садятся на одичавшие яблони и груши. Светят глазищами и молчат. Может, в них переселились души тех, кто жил на том месте. Печалятся они о недожитых своих годах. Потому и прилетают.
А ещё молвят, будто бы души эти жалостливо стонут на русалий день. Летают над колосистыми нивами, прозрачноневидимы, хлопают в ладоши, качаются на ветвях.
А Рута уже напевает о русалках и об этой дочери кузнеца Претича вспоминает. О Гайке...
Ой, там русалка Гаина гуляла. Жемчуг-ожерелье на себе рвала...— А чур ей, дочка, не вспоминай этой несчастной Гайки в доме. Не накликай её к нам... Беда ходит по её следам.
Имя Гаины вновь напомнило ей Нерадца. Ушла она вовремя от него — погубил бы её душу, окаянный. А так — жива душа её. Радуется дочернему счастью. Видишь, и дождалась! Князь... зятя доброго ей дал... Не забыл, значит. Вспомнил её... Любину, вспомнил. Наверное, запомнил её нежную красоту, девичью доверчивость, её преданность — безоглядную и пылкую. Да что там... не жалеет она ни о чём... Тогда была счастливой. Может, и он был с нею счастлив. Может, его никто так искренне и не любил, как она, простая девушка... всем сердцем своим... всем существом своим...
Сухой, шершавой ладонью Любина украдкой смахнула слезу со щеки... Стиснула крепко зубы. Чтобы не вырвалось из них ни звука, ни вздоха. Это всё её, потайное... Она и дочке этого никогда не расскажет. Никогда!.. Всё же и у неё была капелька женского счастья. Да пошлёт судьба его побольше Руте...
Не привелось дружинникам Мономаховым долго пировать на зелёных Васильковских левадах. Из Чернигова прибыл гонец с сообщением: Олег Гориславич привёл половцев под валы города. Не желает больше сидеть в далёкой Тмутаракани, желает отобрать стол отца своего, Святослава, а Мономаха изгнать в его законную отчину — Переяславщину. С тем Гориславичем пришёл хан Итларь, и брат его — хан Кытан, и греческий цесаревич Девгеневич, который называет себя сыном поверженного византийского царя Романа Диогена...
Побежал Мономах с дружиною своей ко Чернигову. Только пыль вслед чёрными столбами поднялась. А под Черниговом уже сизый въедливый дым повиснул надо всем небосводом задеснянским, над высокими песчаными холмами, где стоял каменный детинец града, а по-здешнему — острог. Чёрными пятнами на изумрудных лугах остались следы от сожжённых скирд сена. Городские ворота, как воронье, обсели тысячные стаи половцев и их коней.
Мономах понимал, что черниговцы ожидают его помощи. Уже восемь дней сдерживали они орду на больших городских валах. Кое-где половцы выбрались на вал и с него обстреливали каменный детинец Чернигова.
Ночью дружина Мономаха переправилась через Десну, и гонец тайно провёл её подземным переходом в город. Черниговцы не спали. Ожидали князя. Борис, остававшийся на княжеском подворье с малою дружиною мечников, рассказал о неожиданном нашествии. Ежедневно по пять раз половцы пытались брать штурмом валы Чернигова. Тучи лёгких стрел с подожжёнными пучками пеньки огненным ливнем сыпались на соломенные и деревянные крыши строений. Город горел. Олег Гориславич прислал своего посла — половчина Козла Сотановича. Он требовал вернуть Олегу отчину его — стольный Чернигов.
На пороге тихо предстал половчин. Низкорослый, остроглазый, скуластый, с редкой острой козлиной бородкой. На ногах — кожаные постолы с загнутыми вверх носками.
— Чего хочет князь Олег и его половецкие поспешители? — сурово нахмурил брови Мономах, обращаясь к послу.
Козл Сотанович отвечать не торопился. Сложил на груди смуглые жилистые руки с розово-белыми длинными ногтями. Учтиво поклонился. За его плечами качнулось чёрное шёлковое корзно[153].
— Мой хан Итларь, и все другие ханы, и их друг коназ Олег шлют тебе поклон.
— Вижу, каков тот поклон! Город уже полностью сожгли!
Борис нетерпеливо засопел, но смолчал.
Мономах жевал кончик уса.
— Мой хан Итларь знает, что у тебя, коназ, служат его люди — Славята и Борис. И что есть другие люди и есть много половчинов. Он за всё это имеет на тебя гнев.
Князь Владимир выпустил кончик уса изо рта. На его скулах обозначились желваки.
— У хана Итларя и у иных ханов — тысячи русских браннее. Передай: я ещё больший гнев имею на них!
Козл Сотанович только прищурил узкие глаза.
— Хан Итларь, и хан Кытан, и их русский друг коназ Олег справедливо говорят тебе: не по праву сидишь в Чернигове. Иди прочь отсюда. Сие отчина Олега. По роду.
Мономах засмеялся.
— Тогда я пойду в свою отчину по роду — в землю своего отца, в Переяславщину. Буду соседом твоих ханов, Козл. Буду воевать с половецкой Степью. Согласен?
— Не будешь воевать. Мои ханы тебя побьют. Ты — один.
— Мне поможет великий князь Святополк, брат мой.
— Не поможет, — сочувственно вздохнул посол. — Святополк отныне — наш родственник. В жёны взял дочь великого Тугоркана — Тотуру.
— Тугоркана? — даже вскочил Мономах.
Половчин, довольный произведённым эффектом, поклонился. Борис прошептал на ухо князю:
— Святополк на том помирился с Тугорканом. Потому они отступили от Триполья и Торческа.
Мономах положил свои натруженные жилистые руки на стол. Напряжённо раздумывал, собрав у переносицы складки лба. Козл Сотанович усмехнулся.
— Князь Мономах также может помириться с моим ханом. Дать ему в жёны свою дочь — и будет ряд на мир. А коназу Олегу отдай Чернигов. Не по закону держишь. Если не хочешь на том замириться, возьмём своё право силой.
— Подожди же, окаянный лукавец! — растерялся князь Владимир. — Отдам я Олегу Чернигов. Да будет так... Но... дочери у меня нет для хана! Старшая — Евтимия — жена угорского короля Коломана. Меньшая — Мария — жена греческого царевича Леона Диогена. А больше нет у меня дочерей.
Козл Сотанович белозубо блеснул улыбкой.
— Тце! — прищёлкнул языком. — Не будет тогда мира между нами. Будет война. Вели-и-кое разоренье земле Русской будет!.. Думай!..
Владимир Мономах понял: знают окаянные злокознивцы, что у него нет дочери, потому и придумали такое условие. Ибо им нужно разоренье земли Русской... Большой ясыр хотят взять — пленников, скот... Лицо князя пошло пятнами. Что ж, Чернигов отберут всё равно... и его небольшую дружину отсюда живой не выпустят. Сколько их — кучка!.. Помощи неоткуда ему ожидать. Князья теперь станут за Гориславича — его ведь это отчина. Пока был жив отец, князь Всеволод, они помалкивали. Теперь же все ополчатся против него. Правда земли Русской и заповедь деда Ярослава — на стороне Гориславича. Мономах держал за собой по правде отчину свою — Переяславщину и не по правде — отчину Олегову — Черниговщину...
Сказал ведь, умирая, дед Ярослав: отдаю свой стол в Киеве старшему сыну Изяславу, а среднему сыну — Святославу — даю Чернигов, а Всеволоду — Переяслав, а Игорю — Володимир, а Вячеславу — Смоленск... И каждый да не преступит границы брата своего...
А он, внук Ярославов, с помощью своего отца Всеволода, выходит, переступил эту заповедь. Теперь правда должна восторжествовать. Или с помощью силы половецкой, или его доброй волей. Что же... пойдёт сам в свою разорённую половцами Переяславщину — ему хвала будет. Изгонят отсюда силой — позор будет... Тогда уж лучше идти доброй волею. Но его там доконают. Сей хан Итларь и доконает. Не дал, скажет, дочери своей, не захотел породниться с ним, как это сделал Святополк.
— Князь... — подвинулся к Мономаху боком Нерадец, сверкая в ухе своей золотой серьгой, как у князя. — Отдай Итларю свою Васильковскую Руту-певунью... Вот ту, которую Славята хочет себе взять...
Владимир вздрогнул. И всё же есть у него дочь! Ну и Нерадец! Ну и посадник!..
— Дело советуешь, посадник! — повеселев, хлопнул по плечу Нерадца князь. Оглянул всех, кто стоял рядом, — Где Славята? Зовите-ка его. Он ещё не обвенчался с Руткой? Не успел?
— Где уж было успеть! — зашевелились дружинники. А до этого стояли молча, будто к стенам прилипли.
Но Славяты среди них не было. Наверняка где-то во дворе застрял... Но как же он забыл о Руте? Ничего, Славята немного погорюет, да и с новой утешится. Хану же Итларю честь большая будет оказана: дочь князя будет держать в своих вежах... Не хуже самого Тугоркана!
— Скажи своему хану, мудрый половчин, даю Итларю дочь свою в жёны. Самую молодую и самую красивую. И поёт она как соловушка. Пусть твой хан резвится возле молодой жены да песни её слушает. Только пускай не трогает земли моей! Тьфу, сатана козлиная, или Козл Сотанович, как там тебя, чтоб над вами небо провалилось...
Козл Сотанович сокрушённо покачал головой:
— Добрые слова молвил, князь, но зачем проклинаешь нас? Негоже князю сквернословить, тце-тце... За жену молодую — покорно благодарим. Будет мир между нами и лад... Как говорят русичи...
— Ишь ты, научился как по-русски лепетать. Небось от пленников наших научился...
Козл Сотанович двинулся к порогу. Радостно сверкал узкими чёрными глазками. Будет он иметь хороший подарок от своего хана за этот договор! Получит добрую отару овец и стадо коров. И пленников русских даст ему хан Итларь... Правду молвили его отцы: мудрые речи рушат все преграды! Чего не одолеет сабля, одолеет слово...
Быстрее нужно убегать отсюда... Теперь суметь бы всё обещанное забрать из цепких рук богатеев. Да быстрее угнать свой скот на дальние пастбища, дабы никто не увидел и не услышал, что есть у него такое богатство. Тце-тце, Козл Сотанович, беги!..
Половчин словно растаял в темноте. В воздухе только и осталось висеть его странное — тце!
— Нерадец, скажи-ка Славяте, пусть утром скачет в Васильков и привезёт Руту сюда.
— Неразумно рассудил, князь, — засопел Нерадец. — Славяту нельзя посылать. Убежит с девицей. И к хану Итларю его нельзя посылать — хан заберёт его себе как беглого пленника.
Правду вновь молвит посадник... Так и будет...
— Князь, — тяжело отдышался Нерадец, — я сам поеду в Васильков, коль повелишь. Потом отвезу хану девку — и назад.
— Согласен! — облегчённо вздохнул князь. И уже вторично за сегодня подумал, что судьба не напрасно подсунула ему когда-то этого Нерадца Тура.
Мономаху, однако, горько было на душе. Глаза что-то щипало и жгло. Чернигов красный должен был отдавать... Придесенье... Города богатые... сёла... слободки... Вот эти дремучие леса... Объездил их все на ловах. Есть что вспомнить. Немало приключалось с ним здесь. Там своими руками диких тарпанов связывал по десять и по двадцать за одну охоту... Там два тура метали в него ногами, пытаясь свалить вместе с конём... Там молодой олень однажды его взял на рога... Тут лось топтал ногами, а другой — поддел рогами. Лютая рысь бросалась на него с дерева и перевернула в седле. А сколько ещё иных случаев было в пьянящем охотничьем пылу... в этих лесах зелёной Черниговщины...
Всё миновало...
Переяславские степи готовили ему новые ловы — на орды половецкие... да на ханов...
Славята не стал дожидаться утра. От Бориса узнал о новой воле Мономаха относительно Руты. И сразу же бросился в ночь. Пришпорив обессилевшего коня, тихо объезжал стан половецкий, дремавший у костров.
Козл Сотанович принёс всем половчинам радостную весть: ханы добыли для своего друга коназа Олега Черниговского его землю. За это они получили от Олега разрешение взять с этой земли всё, что им захочется... Это была самая высокая плата за помощь — грабёж. Завтра утром начнётся новое нашествие орды на города и сёла Черниговской земли. А нынче им всем нужно набраться сил, отоспаться.
Дремлет половецкая стража под валами города. Дремлют ордынцы и в снах видят новые богатства, которые они увезут отсюда в свои вежи... Вдруг у крайнего костра тревожно заржал конь. Дикими барсами метнулись в стороны осторожники. Припали к земле. Откуда опасность? Кто подкрадывается?
На фоне звёздного неба неслышно плывёт всадник. Его конь несётся намётом, но топота ног не слышно. Кажется, будто конь летит как огромная и чудовищная ночная птица. Летит над землёй, распустив хвост и взмахивая гривастой шеей.
Но не сон ли это? Не слышно цоканья копыт... Тишина-Конь летит над землёй в чёрной звёздной тишине... Половцы прикладывают к плечам луки. Ночную тишь оглашает мелодичное тиньканье тетивы и шум стрел. Но стрелы не достигают летящего всадника. Вот-вот белое пятно его сорочки потонет в ночи... растает... Стражники поднимают тревогу. Мгновенно стан весь вздыбливается комонниками. Могучий конский топот катится в темень ночи. А впереди — прошумели вихри от выпущенных стрел...
На обрывистом берегу Десны таинственный всадник вдруг исчез с глаз. Половчины молча осаживают коней, зажигают факелы. На влажном от ночной росы песке находят странные следы коня. У самой воды — четыре небольших кожаных мешочка. Всадник их снял с конских копыт. Откуда сей странный всадник знает,тайну половецких батыров? Когда они хотят неслышно подкрасться к вражьему стану, на ноги своим лошадям надевают вот такие кожаные обувки...
Половчины разделились на два отряда и на небольшом расстоянии один от другого тихо вошли в реку.
Уже на киевской дороге, когда странный всадник дал отдых своей лошади, на него налетели две стаи половцев...
А в Чернигове трубы трубили тревогу. Дружина Мономаха строилась к отходу. На подворье княжьего острога уже утром стояли повозки, запряжённые волами. Суетилась челядь. Из домов, из онбаров, из кладовых выносили связки кожаных мешков, ковров, свитки шелков и полотна; катили бочки с медами, тащили берковцы с зерном... Грузили вяленую рыбу, копчёные окорока диких вепрей, медвежатину, птицу... Из конюшен, обор, загонов выгоняли лошадей, коров, овец...
Князь Владимир Мономах со всей семьёй своей, челядью, дружиною, со всем нажитым здесь добром своим выбирался из насиженного гнезда на Переяславщину... Выбирался, чтобы уступить это место Олегу Святославичу-Гориславичу...
Прокладывал князю путь через половецкий стан Нерадец. И именно с ним, недавним черниговским посадником, хан Итларь вёл переговоры. Русская речь в его устах звучала мягко, округлённо и певуче.
— Не пропустим твоего князя, посадник. Не дал мне ещё своей дочери, обещал дать — и не дал, — печально качал головой хан.
— Еду ведь за нею в град Васильков, почтенный хан. Вот сейчас и еду. Там она, в княжьем тереме.
Итларь широко расставил моги в кожаных ногавицах. Сложил руки на груди, прикрытой старым, мягкой выделки, меховым корзно. Тугая коска чёрных, уже побелевших на висках волос доставала спины. Хан упрямо мотнул головой. Прижмурил пухлые веки глаз, отчего его лицо сделалось лукавым.
— Сначала привези.
Смуглая, до черноты, узловатая его рука легла на сверкающие ножны кривого половецкого меча.
Нерадец удручённо направился к своему коню. Мысленно проклинал весь вороний род недоверчивого Итларя и ту минуту, в которую появился на свет этот дерзкий хан. Должен был ехать в Васильков. Но с большей охотой он метнул бы копьё в этого кряжистого ворона!..
Итларь, поймав неприязнь в глазах Нерадца, бросил ему вдогонку:
— А с тобой поедет мой торе Козл Сотанович. И его батыры, — Хан поднял над головой руку. Из-за его спины вышел остроглазый Козл, вчерашний знакомец. Поклонился хану, что-то прожужжал ему на ухо. Итларь удивлённо отпрянул: — Ой-бай!
Козл Сотанович сложил руки на груди и склонил в почтении голову. Будто что-то утверждал. Хан требовательно поднял руку вперёд. От соседних повозок отделились двое половчинов. Они вели на верёвке Славяту.
Нерадец даже глазам не поверил. Откуда он здесь объявился?
Итларь больно дёрнул Славяту за чуб. Парень только скрипнул зубами.
— Отпусти его, добрый хан. Сие отрок князя Владимира.
— Сие мой конюх, гость мой. Он от меня когда-то давно убежал с моей женой, белой боярыней. А нынче убег от твоего князя. Тайно, ночью. За непослушанье расплатится! Кех-кех!..
Нерадец удивлённо поднял брови. Славята убежал от князя? Не может этого быть. Но, возможно, из-за Рутки... Возможно!..
А через несколько дней дружина Мономаха вышла из Чернигова. Позже Владимир Всеволодович написал об этом: «И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова и ехали сквозь полки половецкие, около ста человек, с детьми и жёнами. И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза и на горах, — Бог и святой Борис не выдали меня им, на поживу, невредимы дошли мы до Переяслава...»
Хижина старого подольского гончара деда Бестужа прилепилась к высокому обрыву под Киевой горой. Оттуда брал начало гончарный конец ремесленного киевского Подола. Неведомо, кто из предков Бестужа поставил здесь свою хижину и вырыл в круче глубокую яму, в которой и начал обжигать горшки. Возможно, тогда в этой круче была белая глина, из которой готовили месиво для разной гончарной мелочи. Но теперь глину приходилось таскать в мехах или в корзинах на плечах из-под Боричева узвоза. Старый Бестуж эту работу теперь перебросил на двух своих младших сыновей — Радка и Брайко. Двое старших — Кирик и Микула — сидели у гончарных кругов. Целыми днями жужжали деревянные круги, на которых из-под их рук вырастали крутоплечие чинные горшки, пузатые макитры, длинношеии кувшины, крепкие ушастые корчаги, кружки, высокие и плоские миски и полумиски... Всё это добро дед Бестуж относил под навес и ставил на длинные полки сушить. Потом уже помещал на широкий под земляной печи и начинал обжигать... Это было наибольшее таинство, которое обставлялось заклинаниями, причитаниями, присказками и шептаньем.
Гордята уже знал, что когда дед Бестуж надевает свою праздничную рубаху и подвязывается кожаным поясом, в избе нельзя громко разговаривать, нельзя напевать песни, нельзя хлопать дверью или рубить топором дрова... Старая жена Бестужа, бабка Святохна, останавливала забывшего эти законы суровым молчаливым взглядом, от которого по спине мороз пробегал. В те дни Гордята забивался в другую избёнку, где стояли гончарные круги и где всегда было влажно от замешенной кучи глины, которую кусками клали на свои круги сыновья Бестужа. Они так же осторожно крутили их, тихо переговариваясь, будто чего-то пугаясь. Потому что и в самом деле, от того, как обожгутся горшки да макитры в печи, какого они будут цвета и как будут звенеть в руках покупателей, зависит благосостояние семьи.
Всем торгом этой мелочи ведали бабка Святохна и старшая невестка Купина. Это была крепкая, румянолицая молодица с сильным певучим голосом, которая умела перекричать чуть ли не весь Подольский торг, собиравшийся у старого капища Волоса. Купина восседала на высокой скамье возле горы будто поджаренных горшков и кувшинов и своим звонким окликом обещала наибольшие блага, которые может принести каждому человеку купленная у неё посуда.
— А идите-ка сюда, молодицы и девицы! Не обходите своей судьбы! Выбирайте самый лучший горшочек! И запекает, и варит! Муж не наблагодарится, детки не нарадуются! А возьми-ка, сестра, в руки, как звенит! Яко серебряный! А вот-де и крышечка к нему! Берите, берите, это опаны! А это — кружки, лагвицы! Мисочки! Выбирай, что твоему сердцу улыбается!..
Гончарные изделия деда Бестужа знал весь Киев. За ним приходили и с других торгов — из Житнего, Сенного, Волошского...
Гордята, как и сыновья Бестужа, поэтому старательно налегал грудью над куском замешенной глины и беспрерывно касался ногой нижнего круга. Он был насажен на общую ось с верхним кругом, на котором гибкие руки гончара вытягивали из глиняного куска бока и венчики посудины... Немудрёное, казалось бы, умение гончара, но не всем даётся. Лишь терпеливым, у которых доброе око и гибкие пальцы. Ох! Пальцы... пальцы... За три лета, которые Гордята прожил у Бестужев, убежав от боярина Вышатича, те пальцы его сделались от сырой глины сморщенными, даже синими.
Но не отходил от Бестужев. Гончарил. Прилип к гончарному кругу, но, может, больше к гончаровне, русокосой Милее, светившей синими глазками и свежим румянцем. Не знал он, что об этом толковали в семье старого Бестужа. Но с ним помалкивали говорить. Кто знает, получится ли толк из этого бродяги. Сорвётся вновь и куда-нибудь убежит... Как убежал из дома боярина Яна. Молвят, был там в почёте. У князя Святополка служил на подворье... Чего бы это убегать человеку от достатка и ласки?
Гордята и не подозревал, что на него смотрели здесь настороженно. Поглядывал из-подо лба на Милею, краснел до ушей, когда она вбегала в избёнку, стуча пятками по земляному полу и развевая широким подолом сорочки.
— А это что будет? Вон какое кругленькое. Кружечка? А это — с ручкой — кувшин такой? А вот с двумя ушками — миса какая-то... А что на ней рисуешь — снопики, сети да листья...
— Чаша чародейская.
— Ой!.. Зачем?
— Чтобы люди знали, когда пахать, а когда готовиться к жатве.
— Ой!., где взял? — Глазки у Милеи сияют любопытством и доверием.
Гордята тщательно надавливает на круг и молчит. Наконец отвечает:
— Килька отдала.
— Которая же это? — Голос у Милеи становится тревожным. На глаза набегают слёзки.
— А та, которая мать мою знала и которая когда-то забрала меня от бабы Неги.
— Где же она теперь, эта Килька?
— На дворе у купца Ивана служит. Челядницей стала. А была — боярыней. У боярина Яна когда-то хлеб забрала из онбаров — обманом забрала. Тогда боярин князю Святополку на неё пожаловался. Все земли и забрали у неё. Я тогда было заступился, сказал, что тот хлеб голодным людям пошёл. Дак боярин так рассвирепел, что велел меня отодрать на конюшне. Потому и ушёл от него... Сам ушёл...
Гордята толкал ногой нижний круг гончарного станка и слушал, как под его пальцами шевелилась глина. Не знал ещё, что это будет — тонкошеяя лагвица для вина аль макитра для вареников. Но хотел, чтобы старый Бестуж его похвалил: «А наш Гордята вновь придумал дивную штуку. Глядите-ка, сыны, учитесь у него». Все вновь сбегутся, будут ахать да айкать. А ему — радость от этого войдёт в душу. Потому что Милея посмотрит на него широко расставленными голубыми очами, полными восторга...
И Гордята был тогда самым счастливым человеком. И пускай старый лукавец боярин Ян забудет, что был у него когда-то сын. Теперь-то он знает, отчего мать его убежала от этого косоглазого ворона. У-у, какой жестокий, безжалостный зверь сидит в его душе... Какой безрадостный мир вокруг него... Ни к кому не имеет ни добра, ни жалости, ни правды...
После тех плетей, которыми наградили его в конюшне Яна, Гордята метнулся в Васильков. Хотел расспросить люден про свой род. Сторонились его люди. Лишь добрая тётка Вербава рассказала ему о бабке Неге, о матери Гайке Претичевой и о каком-то парне, который спас её от волховского костра. Рассказала ему и жестокую правду о боярине Яне и Нерадце...
Долго плакал тогда он в лесу, почувствовав себя сразу осиротевшим и одиноким. Не мог возвратиться в свою старую жизнь, ибо она забрала у него мать, бабку... веру в людей... Но зато с тех пор, как расстался с этой несвойственной его натуре жизнью, почувствовал себя уверенно стоящим на твёрдой земле. Теперь не витал мыслями в розовых облаках честолюбивых надежд, которые много лет подряд вкладывал в него боярин Ян. Он знал свой род. Свой гордый смердовский род. Знал свою отважную мать. Добрую бабку Негу. Знал, что его место отныне среди таких же, как они.
Гордята долго бродил по киевским торжищам, Почаевскому увозу, где-то что-то воровал, чтобы не умереть с голода... где-то кому-то помогал... А потом его забрал к себе старый Бестуж. Гордята несколько раз помогал ему выгружать на торгу горшки. Вот так и оказался он в гончарне. Вскоре встретил на Подольском торге и Килину — она продавала украдкой бабкину чародейскую чашу. Едва упросил отдать ему.
Увидев в руках парня эту чашу, Бестуж заулыбался вдруг помолодевшим лицом. Когда-то ещё дед его делал такие чаши для идольских капищ и волхвов. По их узорчатым звёздочкам, размещённым на боках, люди отсчитывали дни весны, лета и осени. Подсчитывали, в какие дни стоит самое высокое солнце, когда наступает дождевая пора, а когда начинается сушь. Всё это нужно знать хлеборобам. Но потом христианские священники объявили сии чаши злолютным волхвованием и везде велели разбить их. Кое-где только старые люди уберегли свой многовековый календарь, как и старожитные обычаи свои. Сказал старый Бестуж: «Прячь, сын, эту чашу от злого ока... Прячь!»
Вот и прячет Гордята единственное своё добро. А это замыслил сделать ещё одну подобную чашу. Милее подарить...
На пороге домика остановился дед Бестуж. Кашлянул в кулак, бросил сыновьям:
— Ну-ка, ребята, идите погуляйте. Я здесь разговор имею... с Гордятой.
Гордята удивлённо поднял на него глаза. Ногой остановил круг станка. Руки замерли на глине.
— Хотел о Милее... спросить. Коли что, претить не буду. Ках-ках! — в кулак откашливается Бестуж. — Только вот жить у нас негде. Тесно.
Будто кто жаром обдал Гордяту.
— А я... свою избу поставлю. Возьму деньги в долг. Попрошу Килину... Она достанет...
— Ках-ках... — Задумчиво морщит чело Бестуж. — В долги легко влазить. А вот вылезать!
— У меня есть шапка кунья... Когда-то... боярин мой подарил... Заложу её...
— Горячишься, вижу... Ну-ну...
Назавтра Гордята побежал к торговищу, где в тесных вонючих закоулках теснились одна к другой хижины, стены которых вросли в землю. Здесь стоял смрад — от невысыхающего болота, от гниющего дерева и помоев, которые выливали на улицу.
Ещё с давних времён, когда старый Святослав Игоревич разбил Хазарию, в Киев переселились хазарские и жидовские купчины с далёкого Итиля и Саркела — наибольших хазарских городов. Часть их поселилась за Ярославовым валом и Золотыми воротами, на горе, образовав Жидовскую слободу. Это были в основном богатые купцы и резоимцы[154]. Они не пускали туда тех, кто был победнее и кто позже прибыл в Киев, эту ремесленную и купеческую мелкоту, многодетную голь, убегавшую из Хазарии и Византии от своих гонителей, мусульман и христиан, а позже — и от европейских крестоносцев. Они начали селиться на Подоле, возле многолюдных торжищ.
В тесных хижинах, на подворьях, у оград копошилось множество голопузой детворы. Пищала, гонялась, вопила, казалось, вся разноликая улица.
Где-то здесь, сказывала Килина, стояла хижина её хозяина, мелкого ростовщика Ивана. Он понемногу торговал солью, которую привозили с Торских озёр и из Крыма обозы греческих и иудейских купцов. Наипаче же зарабатывал на резоимстве. Ибо соль прибывала не часто и почти вся попадала в руки больших и хищных купцов, которые сидели в своей слободе, на горе, под Жидовскими воротами. У Ивана была куча детей — Килина не могла даже сказать, сколько их было. Каждый вечер она пересчитывала перед сном их головы и постоянно ошибалась. Один вечер насчитывала девять, другой — двенадцать голов, а через некоторое время — за столом уже сидело пятнадцать человечков, они требовательно стучали деревянными ложками по мискам. Вскоре Килине надоело выяснять, сколько же детей у её хозяина, она просто всех подряд умывала, обтирала полотенцем, кормила и укладывала спать. Спрашивать у хозяев — не решалась: прогонят за недомыслие. Куда девать ей тогда свою уже поседевшую голову?
Служить боярам она не могла — её знали как возносливую боярыню, которую разжаловал Святополк яко злодейку, обокравшую знаменитого и доброго боярина Яна Вышатича. Пришлось в холопской доле коротать свой век. Тяжким был теперь хлеб у Килины. И она старалась сберечь на чёрные дни какую-нибудь копейку. Кому поможет у Ивана ссуду взять, кому соли пригоршню уворует — в Киеве в последние лета большой спрос на соль начался — и снова какую-нибудь мелочь припрячет за пазухой.
Увидев издали Гордяту, Килина расправила одеревеневшую спину — стирала в корыте одежду своих голопузых мальцов. Поняла: какая-то неожиданная нужда пригнала сюда Тайкиного сына.
— Тётка Килина, помоги. Одолжи денег купу[155], дом хочу ставить.
— Целую купу? Нету у меня столько... Знаешь ведь... Попроси у Ивана. Чем будешь отдавать?
— Делаю горшки... И Бестуж поможет.
— Ге-е, сколько лет будешь отрабатывать своими горшками! Всю жизнь...
Килина поправила клок седых волос, выбившийся из-под чёрного платка. Рука её была уже старческой, сморщенной.
— А у меня... есть шапка кунья! Отдай Ивану! Вот она! — Гордята вытащил из-под сорочки шапку.
— Кунья? — Глаза Килины живо заблестели. Наверное, этот обломок прошлого быта напомнил ей давние времена... — Ты пойди сам к нему...
— А ты словцо за меня замолви. Скажи!
— Скажу, голубчик... Только и ты меня не забудь. Какую медницу[156] подбрось и мне. Знаешь ведь...
— Да я не только медницу! Я гривну, коли что!
На другой день старая Килина сама разыскала Гордяту. Принесла ему в долг деньги — пять гривен. Под резаны[157].
Загудели-задудели на подворье Бестужа дудники и гусляры. Взлетел над обрывами Днепра звон девичьих голосов:
Открывай, батька, ворота, едет на посад сирота, Ноет сердечко, болью терзает, — батюшка не открывает...На заручинах Гордяты и Милеи веселился весь гончарный конец Подола.
А у Гордяты на сердце камень лёг... Окружающий мир вдруг предстал в истинном своём свете. Оглядывал уже другими глазами избу. Была она сырой и тёмной, с перекошенными косяками. Даже свежесть лица Милеи не разгоняла печали в его сердце от такого зрелища.
Мысленно подсчитывал: имеет долг пять серебряных гривен и сверх них должен ежегодно платить полторы гривны, пока полностью не вернёт ссуду.
Как тот сокол на шнурке, которого подбрасывают вверх и за этот шнурок тащат снова назад...
С тяжёлым предчувствием, которое вошло в его сердце ещё на помолвке, и начал свою новую жизнь молодой подольский гончар.
Стиснув зубы, целыми днями крутил гончарный круг. В глазах всё вертелось. Даже во сне. Иногда ему снилось, что эти горшки, кувшины, лагвицы, коновки, кружки наполнялись его кровью, и тело делалось лёгким-лёгким. Тогда Гордята начинал кричать во сне. И от этого крика пробуждался... Горечь и безнадёжность наполняли его. Может, она такая и есть — человеческая жизнь? Может, эта горечь и эта безнадёжность задушили и мать его — эту крылатую, гордую Гаину?..
С тех пор как вежи половецкие кочуют в Поднепровье, такого позора ещё не видел половецкий народ. Самая молодая ханум грозного хана степей — Итларя, дочь могущественного переяславского князя, сбежала из большой белой вежи. Сбежала с конюхом, которого нужно было ещё тогда, под Черниговом, повесить на осине или пустить с камнем на шее на дно Десны. Ханум убежала сама и понесла с собой во чреве ханское дитя...
Итларь послал к брату своему Кытану. Невиданный позор! Была бы просто наложницей, рабыней, как когда-то белая боярыня, не так беспокоился бы о своей чести. Но здесь — законная жена, ему даденная как залог мира с русичами.
Итларь сидел в своей пустой веже как пойманный коршун. Не отбрасывал полога, не велел поднимать войлочного окошка в крыше юрты. Морозный воздух и без того остужал его душу.
Сидел в полутьме, в полной тишине. Так яснее распутывались мысли.
По закону своего рода должен, поймав обоих, убить. Но получалось так, что тот конюх Славята и его Рута, наверное, давно сговорились и заручились поддержкой многих пленников, чтобы молчали. Молчали и половецкие люди. Когда кочевье перебиралось на другое место, за Суду, тогда и исчезли. Пока шли, пока ставили свои вежи как должно, никто не думал следить за женой хана, которая со своей челядью и рабами уехала вперёд. Великая ханум — повелительница орды. Кто посмеет за нею следить? Её имя звучало здесь рядом с именем Мономаха, от которого замирали степи.
Лишь по прошествии нескольких дней нутукчины[158], которые перегнали скот за Сулу следом за вежами, догадались, что юрта великой ханум пуста.
Сначала боялись сказать Итларю. Боялись наказания. Но оно постигло всех. Сперва пленниц-челядниц, которые все были русинками, упрямыми и молчаливыми. Молчали, даже когда им сыпали за сорочки на тело угли. Молчали, когда их всех вместе связали косами и затолкали в проруби на Суле... Потом исхлестали плетями нутукчинов и всех, кто должен был заметить и не заметил беглецов. Самой последней бросили под лёд старую колдунью Отраду-Улу. Говорят, это она напевала молодой ханум чародейские песни — о калине красной, о зелёной руте — жёлтом цвете, которую утром косарь скосил косой.
Теперь Отрада-Ула распевала свои песни рыбам, задыхавшимся под толстым слоем льда... Давно уж нужно было так поступить с ней. Когда-то от этих её песен ошалела и сбежала из стойбища белая боярыня. Не захотела стать женой хана. Пожалели тогда Отраду-Улу — знала она травы степные и лесные и коренья целебные — от недугов, и от ран, и от яда. Спасала ханов и ханш, помогала всем...
Но теперь, когда сбежала Княжья Рута, не было прощенья старой чародеице...
Итларь ещё думал о том, что его племя, которое, по сказаниям предков, вышло из пустыни Етриевской, которая между восходом солнца и полуночью, уже испортило свою породу, ибо смешалось с русскими пленниками и прониклось сочувствием к ним. Постепенно кровь русичей растворяет смуглость кожи, черноту волос, темень узких глаз половцев. Они становятся светлыми. Иногда даже не поймёшь, где пленник-русич, а где половчин. И слова русские половцы быстро усваивают, а то уже и песни их подпевают. Особенно вечером, у костров, на пастбищах, когда пастухи и дояры отдыхают. Всё чаще половецкие люди осеняют себя крестным знамением — чужую веру, русскую перенимают. Забывают свои обычаи, своих идолов, наполняют себя чужими убеждениями. Забывают, что чужая вера не терпит сомнений относительно себя!..
Итларь всё это видел. Но остановить что-либо не мог. Ибо от этих пленников-русичей исходили все их богатства. Это были рабочие руки. И обычаи хозяйские. Раньше, бывало, зимой отгоняли стада, отары, табуны на зимние пастбища. Скот из-под снега добывал себе скудный корм. Половина, а то и больше его гибло, не дожив до весны. Нынче же — не то. Научились у русичей строить для худобины оборы, конюшни, овины. Плели сначала стены из ивовых прутьев, потом обмазывали глиной или строили из самана... И сено заготовляют с лета. Скот не гибнет, хорошо плодится, растут отары и табуны... Нужны новые рабочие руки. И они должны их добывать...
Род Итларя был богатым и сильным. И когда он породнился с могущественным русским князем, надеялся стать выше рода Тугоркана в половецких степях... с помощью же русских мечей. Но сбежала Княжья Рута. С дитём во чреве. Оборвалась нить, которая привязывала Итларя к Мономаху и давала надежды на будущее...
Брат Кытан неслышно протиснул своё грузное тело во влаз юрты и молча сел на колени напротив своего опечаленного брата. Кытан был младшим братом и мог стать наследником его табунов, веж и жён. Но он был ленив. На войны ходил под принуждением, о будущем своего рода не хлопотал. Потому уже состарившийся хан Итларь желал передать свою власть после смерти в руки одного из своих сыновей. Но паче всего мечтал передать в руки сына, которого ждал от Руты... В последнее время свыкся с этой мыслью.
Кытан положил ладони на колени, глазами уставился в пол1 Знал о беде брата. Но о беде нельзя говорить. Лучше помолчать. Наконец не выдержал.
— Они убежали за Сулу? — тихо спросил.
Итларь кивнул головой. Куда ещё бегут его пленники, если не за Сулу, в Переяславскую землю...
— Их много?
— Триста и двадцать пять, — вздохнул Итларь.
— Позовём Тугоркана... пойдём на Русь...
Итларь наклонил голову. Тугоркан — тесть киевского князя Святополка. Не пойдёт он на Русь. Русичи связали Тугоркана обманчивыми надеждами и разъединили половецкое единство. Лукавые русичи...
— Тугоркан должен пойти с нами, брат, — упрямо молвил Кытан. — Он пойдёт на супротивника своего родака Святополка, пойдёт на Мономаха. Князь переяславский — соперник киевского князя.
Итларь поднял лицо. Должно, что так. Тугоркан может захотеть убрать соперника своих наследников на киевском столе... Тотура небось уже родила наследника!..
— Беги, брат, к Белой веже, к Торским озёрам. Зови Тугоркана... За обиду мою... И хана Боняка зови... И иных ханов. Нет, к ним лучше пошли своих торе. А мы с тобой сейчас же пойдём к Переяславу. Не ожидая никого!.. Пока нас не ждут. Займём место под валами града...
Орда Итларя и Кытана двинулась на Русь.
Уже у Переяслава братьев-ханов догнали посланцы. Принесли огорчительные вести.
— Тугоркан молвил: пойдёт на помощь, когда Итларь сам разгромит Мономаха.
— А иные? — встрепенулся Итларь.
— Боняк и Куря с Девгеневичем пошли на ромеев. Девгеневич попал в плен. Его ослепили...
И всё же русичи перехитрили половцев, разъединили.
Но не возвращаться же обратно. На валах Переяслава уже горели костры. Там готовили им встречу...
Итларь позвал своего мудрого торе Козла Сотановича. О чём-то беседовали долго. А наутро Козл, надев один кожух и привязав к седлу другой, постучал в ворота града.
Осторожники на валах узнали своего старого знакомого по Чернигову. Позвали Мономаха.
— Козл Сотанович к тебе приехал, князь. Принимай!
Козл Сотанович льстиво усмехался.
— Мириться к тебе пришёл, князь... Желаем жить с тобой в мире. Но верни хану его жену, а твою дочь. И людей наших она увела с собой — триста и двадцать пять. И коней, которых они взяли...
Владимир Мономах удивлённо поднял брови.
— Нет у меня жены хана. И людей его нет. Если хан не верит — пусть придёт сам и посмотрит. Во всём городе — ни одного половчина!
— Ге-ге-ге... — тоненько засмеялся Итларев посол. — Жена его — то есть дочь твоя Княжья Рута, вот кто! Твоя дочь должна быть у тебя.
Владимир Мономах разводил руками. Нету здесь его дочери... Не ведает, где она...
— Зову хана Итларя в город. В гости к себе зову... Со всею чадью его. Пусть тогда и поищет свою жену и своих половчинов... Зову, как доброго своего соседа...
Переяславский князь широко распахивает объятия. Он рад принять своего старого друга и соседа... С которым лучше держать мир...
— Ге-ге-ге... — вздрагивал от смеха Козл Сотанович, — сие хорошо. В гости!.. Только... дай заложника своего знатного... Для верности, что не лукавишь.
— Я? Лукавлю? Русичи никогда не лукавили со своими добрыми соседями. Хотя от них одно лукавство и разоренье имеют! — возмутился переяславский князь. — Половчины берут с нами ряд, а потом слово своё ломают... Воюют нашу землю.
— Лучше дай заложника...
— Нерадец, пришли-ка сюда моего сына меньшого — Святослава. Сына возьмёшь в заложники?
— Ге-ге-ге... сына — это хорошо... Хан Кытан будет стоять за валами. И сын твой будет в его стане. А хан Итларь войдёт в Переяслав. В гости...
...К терему князя собирались бояре-думцы. Как уберечься от нового нашествия? Верить ли Итларю и Кытану и их послу? Что замыслили они? Ведь ещё не бывало, чтобы половчины приходили на Русскую землю с миром... Славята так и говорил Мономаху:
— С пагубой лукавой идут половчины. Наверное, поджидают другие орды. Может, Тугоркана, а может, Боняка. Знаю ведь их... Нужно их побить! Да побыстрее — в одиночку чтоб...
— Но ведь отдал им в заложники сына своего, Святослава... Не могу клятвы ломать.
Думцы встревоженно гудели.
— Князь, разве половчины не ломали клятв своих? Нет в этом вины твоей! — пылко говорил знатный переяславский боярин Ратибор. — Сколько клятв поломали они и крови русской пролили...
— Но Святослав ведь...
И снова гудела гридница. Этот хитрец Козл Сатанинский выманил у князя сына. Но как теперь?
— Где же нынче хан Итларь?
— Да уже на моём подворье, обедают, — отозвался могучим гласом боярин Ратибор.
— А сколько у тебя есть отроков, воевода? — прищурил глаза Владимир Всеволодович.
— Сто раз по сто! — басит Ратибор и выжидательно заглядывает князю в очи. — Так что, дать на закуску булатный?
— Не-ет... Отдай их Славяте...
— Но Святослав!
Ох, окаянный Козл, ох, отродье сатанинское...
— Идите... — Мономах вдруг углубился в себя. Какая-то мысль завертелась в его голове. — Идите все с Ратибором на его подворье...
Ранний зимний вечер сыплет из черноты неба колючие звёзды. Холодные звёзды. А в тереме боярина Ратибора тепло и душно. Горят толстые сальные свечи. За длинным столом сидят Итларевы половчины, в меховых корзнах, настороженные, напряжённые телом, цепкие взглядом. Однако зубы и челюсти их работают беспрерывно, быстро. На столах вырастают горки из костей обглоданной говяды, баранины, птицы. Челядь Ратибора не ленится таскать новые мисы с запечённым мясом, кувшины с медами и пивом, бочонки с брагой...
Рядом с Итларем сели Ратибор и Мономах. Понемногу сытое чавканье сменилось говором, коротким смехом. Боярин Ратибор то и дело выходил в сени, обливал своё лицо холодной водой.
И снова щедро угощал гостей. Головы затуманились. Ноги словно гири. В светлице становилось душно. От распаренных тел, кож тянуло крутым потом, овчиной, хмельной брагой.
Итларева чадь заснула на скамьях. Рядом с ханом Итларем склонил на руки голову и боярин Ратибор. Мономах, шатаясь, вышел во двор.
Прислушался к тишине. И физически ощутил, как сквозь ночной заснеженный простор степи неслышно несётся тёмная цепочка комонников. Всадников не видать даже вблизи. Славята всех накрыл белыми ряднами. Лишь лошади храпят да их копыта, шурша, проваливаются в сыпучий снег. А позади — скрипят сани, запряжённые в тройку лошадей...
Уже давно миновали заборола Переяслава. Выхватились через первую гряду трипольских валов, идут между двумя рядами валов. Валы, валы — через всю Переяславщину протянулись. Извечно люди стояли здесь на страже своей воли.
Приближаются к стану хана Кытана. Тихо в лагере. Кони стоят, сбившись в кучу, к их гривам прильнули в сёдлах извечные степные всадники. Дремлют. Посреди стана — вежа хана Кытана. Хан отвык уже спать на лошади. Видать, там и княжич Святослав...
Несколько белых всадников вихрем слетают со своих коней, мгновенно подбегают к веже, отрубают упряжку и повозку с вежей хана Кытана переносят на свои сани.
— Князь Святослав, ты здесь?
— Я здесь, Славята... И хан Кытан тут...
— Тогда — поехали!
Белые комонники окружили сани и понеслись прочь. Но половчины уже проснулись. Целая орда за их спинами.
— Выбросьте ихнего хана, пусть заберут! — крикнул Славята своим отрокам. — Может, отстанут...
Из вежи, стоявшей на санях, кто-то вытолкнул на снег связанного половчина. Но половецкие кони пронеслись мимо него.
И вдруг погоня отстала. Что там произошло? Узнали хана Кытана?
Но это была уже не их забота. Перед рассветом Славята и его отроки въезжали в ворота Переяслава с выкраденным князем Святославом.
Утро в стольном Переяславе было хмурое и серое. Морозный туман придавливал книзу серые витки дымов. От этого снег на крышах и на земле делался также серым.
Было Сыропустное воскресенье. Звонили в колокола к заутрени. Но никто не шёл в церковь. В городе поселилась опасность. Половцы с ханом Итларем стояли во дворе боярина Ратибора...
В избах молча вооружались все мужчины; женщины, дети, старики прятались в подполье. В погреба тащили всякое добро, одежду, утварь... Двери конюшен и оборов забивали досками. Неизвестно, чем окончится гостеванье хана Итларя и его чади в городе... Прислушивались к Ратиборову подворью. Там ржали лошади, звучали спокойные голоса...
Боярин Ратибор стоял на высоком крыльце своего дома, посматривал на свою челядь, суетившуюся во дворе. Позвал одного челядина, что-то ему сказал. Тот побежал к баньке. В это время в ворота въехал Славята:
— Ратибор, князь тебя кличет с Итларем к себе. Спрашивает, завтракали ль они у тебя.
— За-а-втракали, — расчёсывает бороду пятерней Ратибор. — А нынче баньку им натопили. Пущай свои косточки попарят... по русскому обычаю...
К Ратибору подходит вперевалку коренастый Итларь. Довольный, сытый. Русичи его гордыню гладят нынче мягкой рукой. Но... где же его жена? Где его сбежавшие рабы?
— Хочешь попробовать русскую баньку? У нас есть обычай такой: дорогому гостю хорошо натапливают баньку, греют много воды в железных опанах, дают из берёзы веник — и айда.
Хан Итларь усмехнулся. Ишь как угождают!
— Можно попробовать, отчего же... Дабы знать и этот русский обычай... Но ты скажи князю: без жены не поеду назад!
— Скажу... скажу! Иди, хан, там водица горячая тебя ожидает.
Хан Итларь и его десять самых верных торе зашли в натопленную избу. И в тот же миг, когда за ними крепко захлопнулись отяжелевшие от пара двери, из-за стен, из-за онбаров и медуш выбежали вой и окружили баньку. Одни забрались на её крышу, начали сбрасывать сторновку, другие выбирались по приставленной лестнице с луком и колчаном стрел за плечами.
— Ого-го, сколько здесь поганых половчинов собралось! А ну-ка, братец, подай мне свой лук. Давай-ка! — первый дружинник протянул руку к подбиравшемуся к нему воину.
— Отдай ему свой лук! Ольбер их всех с одного лука!..
Ольбер был сыном боярина Ратибора. Он стал на одно колено, медленно прицелился и изо всех сил натянул тетиву. Потом резко отпустил её:
— Вот тебе, хан, последняя дань от русичей!
— Ну-ка, поддайте дверь!.. Микула! Ивач!..
А в это время Славята уже летел к Киеву. Ко князю Святополку. Мономах звал брата своего вместе идти на половцев. И чтобы черниговский Олег Гориславич с ними шёл, и чтобы иные меньшие князья свои дружины с ними соединили...
Уже второй раз хан Боняк налетал на Киев. Яко коршун хищный, высматривал из своей степи, когда Святополк с дружиной выйдет из стального града и пойдёт на Вышгород, на ловы.
Стоял день. Обеденное время. Врата города были открыты. На киевские торги съезжались смерды и слобожане, купцы из дальних сторон, народ шёл в храмы и киевские монастыри. Стражники хотя и поздно схватились за копья, всё же оттеснили Боняка за валы и от ворот — от Золотых и Жидовских. А тех половчинов, которые остались внутри города, покосили мечами.
Тогда свирепый Боняк зажёг предградье. Пылал Стефанов монастырь на Клове, горела Германова обитель, дымом пошли окрестные сёла и слободы... Половцы перешли Лыбедь и Глубочицу и через деревянную ограду ворвались в ремесленный Подол. Хан Боняк мстил за своих великих родаков, сложивших головы от рук Мономаховых и Святополчьих дружин. После смерти Итларя и Кытана эти князья соединили свои полки и пошли весной за речку Трубеж. Там сложил свою мудрую голову властелин половецких степей хан Тугоркан. Князь Святополк подобрал его тело и привёз в Киев. Его похоронили на развилке дорог между селом Берестовом и Печерским монастырём. Как ни говори — тесть великого киевского князя...
Сейчас Святополк спокойно развлекался на ловах в вышгородских лесах, а киевляне стояли на валах и отбивались от половецкой орды Боняка, тушили в городе пожары, выскакивали за валы и неожиданными шальными налётами били в спину орде хана Боняка. Вскоре из Вышгорода подоспела и дружина Святополка...
Хан Боняк должен был бежать. Но ни с чем возвращаться не хотел и повёл свою орду на Печерские горы. Обитель Печерскую захватили неожиданно. У сломанных ворот поставили свои победные чёрные бунчуки и бросились в храмы и келии.
В каждой келии кипело побоище. Половчины взламывали двери, с мечами бросались на монахов, оборонявшихся кто чем мог. Кто бросал скамью, кто столом перегораживал вход, кто отбивался посохом. Монахов секли саблями, как капусту. Секли иконы и иконостасы, пергаментные свитки и книги... По монастырскому двору метались в длинных рясах ошалевшие монахи, озверевшие половчины охотились за ними, как за зайцами... Распластанные чёрные тела в красных лужах крови устилали собой весь монастырский двор. Половецкие стрелы с зажжённой паклей на концах поджигали деревянные строения... стоги сена, соломы... Стон, заклинанья ко Спасителю... богохульства — всё смешалось в этом кипящем котле смерти...
Вскоре пылал весь монастырский двор. Неподалёку, на приднепровских склонах, в Берестове, горел Красный двор князя Всеволода. Пламя пожара пожирало Выдубицкий монастырь. Насытившись кровью, набрав сокровищ, Боняк откатился в степь...
Вокруг дымили селения. Обугленные дымоходы от печей торчали под открытым небом, как чёрные зубья смерти. Снова дорогами бродили толпы погорельцев, сирот, нападали грабители... И снова люди шли искать спасения к старым пещерам.
У Печерской обители вскоре вырос лагерь из тысяч бродяг. Изгнанные с родных оселищ, они жаждали найти здесь защиту — у Бога и у монахов. Но теперь монахи сами оказались беззащитными пред половцами-язычниками. Всевышний отказался защищать не только грешных смердов и ремесленников, но и черноризую свою паству. Послал и на них жестокое наказание... За что? За какие грехи позволил он неверным сыновьям Измайловым[159] насмехаться над святыми иконами, книгами, над прахом святых?..
Игумен Феоктист в чёрном клобуке, в чёрной рясе, с кадильницей в руках на серебряных цепях ходил между людьми огромного нищенского стана. Успокаивал молитвой и простыми словами:
— Ибо есть грешны, потому и послал Господь наказание своё нам. Бог учит и просвещает своих рабов напастями ратными. Дабы стали они яко злото, очищенное в горниле. Ибо христиане должны войти в царствие небесное чрез многие скорби и печали. А наши обидчики, Бога хулители, только на сем свете имеют веселие и благодать. На том же — примут муку от диавола, они обречены гореть в вечном огне...
Вдоль монастырских стен, на склонах Днепра, пылали костры. В огромных кованых опанах варились пшённые болтушки, каша для этих голодных людей. Игумен велел раздавать нищим и по куску перепечи или какого-нибудь хлеба. В монастырских подпольях уцелело от половецкого грабежа много зерна и брашна — хватило бы на несколько лет. Но сохранять долго нельзя — сопреет, сгниёт добро. Лучше людям отдать. И их свободные руки нынче использовать для обители.
С этого и началось. Монахи поставили новую деревянную ограду и ворота. С окрестных деревень привезли обоз с добротным лесом и дроблёным камнем. Вымостили подворье. Начали возводить новые хозяйственные постройки вместо сожжённых половцами. Свободных рук — сколько угодно. И с каждым днём их число увеличивалось. Приходили не только из разорённых сел, но и из самого Киева. Было много погорельцев, но также много просто нуждающихся, которых сюда гнала надежда добыть какой-либо заработок. С киевского Подола пришли братья-кричники Роговичи... бондари и сапожники, кожемяки и лучники... гончары со старым Бестужем и его зятем Гордятой... Гончары всегда обедают вместе, усаживаясь вокруг огромной миски. Но в этот раз они забыли о еде — сгрудились возле Гордяты, который что-то им показывал на земле. Ближе подвинулся к нему и другой ремесленный люд...
Феоктист, увидя сборище, направляется к ним. Наверное, блудословят христиане... Бога гневят!.. Да, бедняки-смерды и рукомесники — будто бы нарочно собрались сюда, дабы поглядеть на разорённую обитель Божью и ещё раз убедиться, что христианский Бог также не может никого защитить от беды, даже тех, кто отказался от грешных радостей земных и неистово томил свою душу и тело в покаяньях и всяческих воздержаниях.
Феоктиста никто не заметил. Владыка громко откашлялся. Все подняли к нему головы и молча раздвинулись в стороны, а Гордята так и остался стоять на коленях, а потом невольно прикрыл что-то ладонями на земле. Игумен посмотрел и не сразу сообразил, что прятал Гордята. А на земле стоял небольшой, вылепленный из глины храм... Искусно отглаженная ребристая крыша маковицы напоминала Феоктисту что-то знакомое... где-то виденное... в сказке ли, во сне ли...
Он присел. Рассматривал глиняный храмец со всех сторон, удивлялся, легонько касался пальцами продолговатых разрезов окон под широкими рядами вылепленных узоров... Феоктист на мгновенье прикрыл глаза, представил себе этот храм во всей его натуральной величине... Настоящее чудо!.. Поставить бы его вот здесь, на монастырском нагорье. Видать было бы его отовсюду далеко вокруг! Построить бы его из мраморных плит, вызолотить бы ребристую маковицу медью и золотом... Но... Ведь этот храм совсем не был похожим на соседние, построенные по греческому образцу на монастырских горах. Он собой напоминает скорее не византийские святилища, а какое-то старое языческое капище, похожее на то, которое осталось в развалинах на берегу Глубочицы...
Феоктист покосился прищуренным глазом на зодчего:
— Сие твоё творенье?
— Моё! — Лицо Гордяты светилось достоинством. Он ожидал восторга и похвалы.
— Сейчас же... разбей... Сам! Это старые идолы в тебе душу мутят, дабы не пустить в неё веру в Христа.
Гордята побледнел. Разбить? Он же только что хотел подарить его обители, ему, игумену Феоктисту... Хотел предложить поставить вот такой храм на Печёрах! Ремесленники подольские уже и согласие своё дали — поставили бы... Всем людям на удивленье...
Феоктист заметил, как загрустили серые глаза парня, и больше ничего не сказал ему, двинулся дальше со своей кадильницей...
— Э-э, говорил ведь тебе, Гордята, не возьмёт отец игумен твой храм. Лепи-ка лучше горшки да чаши чародейские, — обратился к нему Бестуж. — Да и домой нам уж время возвращаться. Немного заработали медниц, а на большее надежд нету...
— А Иван? Должен ведь ему вернуть купу... Где возьмём серебра? — возразил Брайко, один из сыновей Бестужа. — Да и храм лепостный! Видали, как владыка вначале пальцами к нему прикасался? Дрожали даже. Не верил очам своим. Видали? Даже веки прикрыл — вот так! — Брайко прикрыл свои светло-голубые глаза и изобразил на лице блаженную улыбку игумена Феоктиста.
— Может, пусть пойдёт к Кловской обители или к Германовой. Они ведь тоже разрушены половцами. Там, может, взяли бы у Гордяты... — поддержал своего брата старший Бестуж — Кирик.
— Не возьмут они, сын. Слыхал ведь! Идолы, говорит, душу ему смутили..,.Значит, для христианского Бога негоже. А для старых богов — кто теперь эти капища ставит? Их только разрушают да дожигают везде...
Гордята молча сидел на земле, скрестив ноги. В его огромных глазах застыла печаль. Тёмные стрельчатые брови его то сдвигались у переносицы, то взлетали трепетно вверх... Вернуться снова к Бестужу? В эту вечно сырую избу, под Киевой горой?.. Темнеет лицо Гордяты.
Милея... если бы могла его понять... От неё он не услышал ни одного ласкового слова. Только упрёки... Она, подольская красавица, должна носить самые лучшие наряды, заморские монисты — кораллы под цвет её губ. Ведь она единственная дочь знаменитого подольского гончара — Бестужа, у которого покупают товар даже для княжеских трапезных и монастырей... Гордята хочет строить избу на одолженные гривны? А что ей эта изба, когда у неё нет достойной обувки — не выйти ей ни на торг, ни на улицу...
Разлетелись чужие гривнушки... Остался молодому гончару только долг...
Как же возвращаться ему домой ни с чем? Пусть все возвращаются, а он ещё здесь побудет на монастырских работах. Да, может, ещё какой-то иной храм вылепит из глины. Владыке монастырскому, глядишь, уподобится...
— Брайко, а ты мне веришь? И ты, Кирик? Я хочу здесь остаться. Другой храмец сделаю для отца игумена. Увидите, он возьмёт меня и скажет: воздвигай, Гордята, сие здание!.. Идите, наверное, без меня. Видите, сколько брёвен навезли?
И плинфы обожжённой... Не иначе новую храмину будут ставить. Вот я и пригляжусь...
— Как знаешь, — старый Бестуж отвёл глаза в сторону. — А мы — домой. Снова к своим горшкам...
С тех пор Гордяту поглотила сутолока, галдёж, кутерьма, которыми жила Печерская обитель. От ранней денницы до поздней зари тянулись на печерские взгорья возы с брёвнами, глиной, песком, известняком. Из монастырских сел несли и везли в вёдрах молоко, капусту, мясо, сушёную и свежую рыбу — обитель должна была кормить своих строителей-здателей, кормиться и сама.
Как и ранее, сюда тянулись бездомные, погорельцы, нищие. Но всем уже не хватало работы. Отец Феоктист велел монахам отгонять тех, кто не работал на обитель, а лишь протягивал руки к опанам и толкался у тризницы.
Монахи только тем и занимались, что следили, дабы никто из новых прихожан не подставил плечо под бревно, которое несли по двору, дабы не влез в яму, где босиком размешивали глину. Наконец начали записывать на глиняных и навощённых дощечках имена своих людей и потом, когда монахи-повара раздавали в глиняных мисках кулеш либо кашу, сверяли по тем записям.
Десятки людей, яко голодные псы, рыскали вокруг и измученным взглядом смотрели на осчастливленных судьбой, которые после тяжёлой работы могли положить в рот душистую, хотя и постную еду, уже даже не чувствуя от усталости её вкуса. Эти жалкие бедняки садились в стороне, выжидательно наблюдали, как из опанов повар выскрёбывал остатки еды. Бывало, что эти остатки монахи относили назад, во двор. Бывало, что кто-нибудь из них смилостивится, отдаст этим нищим.
Как-то Гордята приметил среди них высокую смуглолицую девушку. Она никогда не просила у поваров-монахов поесть. Лишь когда что-нибудь доставалось двум старухам, всегда сидящим рядом с ней, они ей отделяли половину. Дивчина подставляла им какой-то черепок, из него хлебала отвар или, если это была каша, брала её пальцами, видимо, не имела своей ложки.
Тогда Гордята, сидя вечером у своего костра, из ивы выстрогал ложку и принёс ей. Она протянула к нему руку, радостно схватила длинными смуглыми пальцами белую пахучую ложку. Лицо её осветилось теплом больших карих глаз. Через несколько дней Гордята вылепил из белой глины миску, ещё и нарисовал волнистую полоску узора по краю. Миска долго высыхала на горячем летнем солнце. Он ежедневно бегал на солнцепёк, глядел на высыхающую миску, подставляя солнцу то одну, то другую её сторону. Наконец глина побелела, от лёгкого прикасания ногтем отзывалась глуховатым звоном.
Вечером раздавали кулеш. Жалостливые старухи отлили девушке в её черепок понемногу, и она ивовой ложкой начала хлебать его, как воду. Гордята подошёл в то мгновенье, когда она опрокинула из черепка остатки отвара прямо в рот. Протянул ей миску, удивляясь тому, как изменилось лицо девушки от искренней благодарности. Нежная кожа её лица зазолотилась лёгким румянцем, глаза — на пол-лица! — засветились капельками тёмного мёда. Она держала высоко перед глазами подарок Гордяты. Длинные пальцы её рук дрожали. Тогда он впервые услышал её голос:
— Это также мне?.. Но за что?
— Ну... так... — смутился Гордята. И удивился: разве дарят за что-то? Дарят от доброты.
Тогда она поднялась на ноги. И тут Гордята понял, почему она всегда сидела: она была тяжёлой.
Гордята ещё больше смутился.
— Ты кто — здатель? — Она восхищённо смотрела в его лицо.
— Я? Гордята... Был гончаром... Теперь вот... будто здатель.
— А я Рута, — таинственно улыбнулась одними очами. И, вздыхая, добавила: — Княжья Рута.
— A-а... — пробормотал растерянно Гордята, будто и в самом деле что-то понял в тех словах — Княжья Рута.
И снова стоял молча. Возвращаться назад — неудобно, о чём-то спрашивать — не знал о чём. Наконец догадался:
— Сделал отцу Феоктисту из глины храмец. Такой... небольшой. Для образа. Пригож вельми, молвили все. А владыка — не взял. Говорит — идольское капище напоминает.
— Идольское? — обрадовалась Рута.
— Ага, так он молвил.
— А какое? Как Перуново капище?
— Не ведаю. Не видел Перунова.
— А я видела. Под Каневом-градом. Когда мы убегали от хана Итларя, этой зимой, прятались в Перуновой пуще. Возле села Поляны.
— Ты убежала из полона? — поднял на неё глаза Гордята. — А половцы гнались? — Ему показалось, что так же его мать когда-то убегала от половцев.
— Как же!.. А мы пересидели в том капище.
— Какое оно? Расскажи.
— Ну, гляди! — Рута быстро опустилась на колени; разгладила ладошкой перед собой песок, взяла в руку сухой прутик и начала рисовать. Гордята примостился рядом. — Когда смотреть на него сбоку — оно вот какое... — На песке из-под прутика выросло несколько продолговатых островерхих вежищ. — А коль глядеть сверху — оно во какое... — Несколько одинаковых кружков стали рядышком один возле другого. Как лепестки огромной ромашки. — А посредине — вот такая круглая храмина... А если заходишь... — Рута ладонью опять разгладила песок, поползла коленками дальше, — тут будто столбы... девять столбов таких подпирают крышу.
Она вырисовывала капище так чётко, что Гордята будто видел всё это огромное здание. Тёмные волосы Руты рассыпались на плечах, закрыли лицо. Из-под этих волос остро и восторженно светились её удивительные глаза...
Вдруг она выпрямилась, замерла и оборвала свою речь. К чему-то прислушивалась. Выпустила из рук прутик, которым рисовала на песке... Обеими руками обхватила снизу свой живот.
— Бьётся... — засмеялась тихо. — Ох как бьётся!
— А как же ты... не боишься? — Гордята сочувственно смотрел на её просветлённое лицо. Где же она будет рожать? Куда денется с дитём?
— Боюсь... — прошептала она. — Боюсь идти домой, Гордята. И здесь... голода боюсь... Я ничего! Я умею терпеть... А вот оно...
— Нужно домой, — неуверенно посоветовал парень.
— Что ты! — испуганно посмотрела на него огромными, расширенными глазищами. — Мать помрёт от позора. Дочь, её дитя, приведёт в дом... от половчина... от хана... Что ты! Лучше умереть...
Глаза Руты потемнели. Что-то видели такое, чего никогда ему не дано увидеть. Гордята не знал, что сказать. Смотрел себе под ноги... Невинное дитя рождается на свет от позора... от кривды людской.
— Я завтра приду к тебе... Кое-что принесу...
Рута проводила его грустным взглядом. Все от неё убегают... И зачем сказала об этом хане? Ох, горюшко её неразделённое!.. Давит оно её, давит... Вот так убежит от неё и Славята, когда узнает правду. А соврать она не сможет. С ложью вдвойне тяжелее жить, нежели с тяжкой правдой... Говорил, когда бежали из полона, чтобы ехала в Васильков, а он её оттуда потом заберёт... Пусть лучше думает, что она где-то сгинула в снегах... или в прорубь провалилась...
Рута выпрямилась, пошатываясь полным станом, пошла к старухам. Спасибо им, ничего у неё не спрашивают. Шепчут свои молитвы неизвестно каким богам. Да чаще поглядывали в её сторону. Наверное, знают, что ей уж скоро...
И на второй день горели вокруг Печерской обители костры. Возле одних отдыхали строители, возле других — грелись бездомные. Гордята подхватил на плечо свой мешок, направился через сухую полынь и чабрецы к крайнему костру, где вчера оставил Княжью Руту. Она ела свою похлёбку из новой мисы и новой ложкой. Дразняще пахло старым салом. Лицо Руты радостно засияло навстречу Гордяте. Стыдливо поставила мису на землю. Виновато улыбнулась:
— И откуда берётся... так есть хочется — волка бы съела...
— Вы же вдвоём... — степенно молвил печерский здатель, будто прожил уже целый век и набрался житейской мудрости. — Я тебе ещё перелечу принёс. Свежая! Поешь...
Рута решительно протянула руку к куску свежей перелечи — забыла уже, какова она и на вкус... Бросила за пазуху.
— Хотя бы уж быстрее...
— А я вот ему забавку принёс. Гляди, — Гордята засунул руку в мешок, вытащил оттуда свой глиняный храмец и поставил на землю.
— Ай! — Рута от восторга всплеснула руками. Это был маленький сказочный дворец, вылепленный из глины. Рута упала перед ним на колени и локти, осматривала, чему-то улыбалась, в удивлении шевелила тонкими бровями. — Небушко! А какие окошки... и дверцы... сколько же их тута! Один, два... пять... девять! А вот лошади на узорах. Ишь ты, как летят, будто наши жеребцы, когда мы бежали из плена... Это ты сам сделал?
— А кто же...
— Ой... — На глазах у Руты блеснули слёзы. — Доброе сердце имеешь.
Гордята ушёл. В темень ночи. На зов своих костров.
На другой день игумен Печерской обители приказал всем строителям-здателям, работающим на монастырских стройках, перейти за ограду монастыря и без нужды не выходить за неё. Отныне были везде поставлены новые крепкие ограды, врата обковали железными листами, чтобы никакой меч не мог их пробить.
Лишь через несколько дней Гордята выбрался из обители и начал искать Княжью Руту и её старух. Когда разыскал, увидел только стариц. Руты с ними не было.
— Где же Рута? — удивлённо спросил у них.
Старухи зашевелились, закряхтели, ему даже показалось, что он слышит постукивание сухих костей, будто кто-то перетряхивал их в пустом мешке.
— Сына кормит. Вон там, в балке. Ей там люди шалаш поставили. Теперь имеет свою крышу. Поди, голубчик, поди! Молодец у тебя родился... Бравый такой! Ну вылитый ты!..
У Гордяты перехватило дыхание. Они что, в самом деле считают его отцом сына Руты? Или она им так похвалилась? Чтобы свой позор перед ними прикрыть? Вот ещё нажил себе хлопоты! Мало тебе Ивана Подолянина, ещё и Рутка эта подвернулась со своим дитём... А всё из-за своей доброты... Потому и говорят, что доброго человека Бог любит, только счастьем обделяет...
Гордята долго мялся, раздумывал, идти или не идти к той балке. Скоро ночь... Завтра — воскресенье... Пойдёт домой. К жене своей пойдёт, к Милее. Отдаст ей гроши — сегодня скопец Еремея, казначей монастырский, выдал всем здателям немного медниц и кун. А потом наймётся он в другой монастырь, там покажет свои храмы.
Создаст он ещё и такой, что будет напоминать величественное Перуново святилище, о котором рассказала ему Рута... Сына где-то кормит... Паренёк родился... Тьфу, неразумные старые печерицы... Такое шамкают о нём... Идёт Гордята домой. К своей жене Милее. Что ему чужое горе расхлёбывать! У него и своей беды предостаточно...
Колышется вытянутое пламя двух толстых сальных свечек. И на стене келии колышутся две лохматые тени. То разбегаются в стороны, то гонятся одна за другой. Как и мысли в голове Нестора.
Тускло отсвечивает лик Богоматери на иконе. В её грустных страдальческих очах вопрошание — что так раздирает душу брата Нестора?
Вот он снова поднимается со скамьи, протягивает свои костлявые, худые руки к лампаде. Тонкими щипцами ворошит на её донышке пахучее зелье. Огонёк в лампадке затрещал, запыхтел сладковатым сизым дымком, окутал икону Богоматери. И её очи уже не видели сквозь этот дымок, как сверкнули жемчужным отеветом большие серые глаза книжника печерского.
Нощно и денно святой отец сидит согнувшись над книгами и пергаменами. То скребёт своим железным писалом по желтовато-хрустящему свитку, ведёт свои строки — медленно, тщательно выписывая азы и буки. То в книгу посмотрит, то в старый кусок пожелтевшего пергамена — сводит воедино записи. Как это когда-то делал Никон Великий. И договоры старых князей туда вписал, и то, что слышал от смысленых людей, — всё это вписывал, пусть ничего не затирает время...
Но сегодня Нестор не заглядывает ни в книги, ни в иные записи. Какое-то беспокойство раздирает его душу. Таинственно светятся его ещё совсем молодые глаза. Две глубокие морщины на желто-восковом челе уже не разглаживаются. Более глубокими, с оттенком горечи или неизбежности стали бороздки, спускавшиеся от уголков ноздрей к бороде.
Наконец угомонил свою бунтующую душу. Успокоился каким-то принятым решением и начал водить снова по своему пергамену.
Взгляд его то останавливался на написанном, то стремительно летел куда-то вдаль, сквозь стену, сквозь пространство, а может, и сквозь века...
Только что окончил рассказывать о шелудивом хане Боняке, который пожёг предградье Киева и разрушил Печерскую обитель. Рассказал и о последнем часе хана Тугоркана, тело которого Святополк, яко тестя своего, схоронил на Берестовском распутье — вместе с его возносливыми мечтами и лукавыми деяниями... Но уже сердце книжника испепеляет новая дума — нужно рассказывать не о безбожных сыновьях Измайловых, а о своих татях княжеской породы, которые бегают по городам русским и, яко хищники, грабят свой народ... То здесь, то там эти безбожники кровь братскую льют, братьев своих убивают. Что им до смерда худого или ремесленника, у которого они отбирают сыновей, скот, хлеб? Что ему до призывов и писаний святых отцов, которые предупреждают: «Не разгневи мужа в нищете его! Ибо когда разгневишь — кто остановит его мстительную руку, вознёсшую меч над головами тех, кто сидит зимой в тепле, в светлой хоромине и забыл но убогих и униженных судьбой, погибающих в полутьме при скупой лучине, согнувшись от голода и холода, вытирая глаза от едкого дыма сырых дров?..»
Но никто не желает прислушаться к сим мудрым предупреждениям. Разваливается буйное гнездо Ярославовых внуков-князей на стаи княжат, из сыновей и сыновцев... Высыпались они на землю и начали бесчинствовать... Олег Святославич, прозванный Гориславичем, снова двинулся к своей Черниговской вотчине, пока Святополк и Мономах не пошли на него со своими ратями и не загнали в Стародуб, заставив целовать крест на верность... Но своеволец нарушил клятву, побежал к Смоленску, потом в Рязань и в Муром. Вот уже три года бесчинствует в Северо-Восточной Руси, убил меньшего сына Мономаха — Изяслава, полонил его дружину, заковал в кандалы и бросил в яму. А сам снова к Суздалю, разграбил город, людей в порубы-ямы побросал или в цепи заковал, а добро их себе захватил. Пошёл и на купеческий Ростов. Везде своих посадников посадил, начал брать с этих земель потяги и правежи. А ведь это всё вотчина Владимира Мономаха...
Потому старший Мономахович, новгородский князь Мстислав, с полками начал гоняться за Гориславичем. До Волги догнал его. И снова пылали города Северной Руси. От Суздаля остался один двор Печерского монастыря да каменная церковь Святого Димитрия. Горит снова Муром.
К Олегу в подмогу пришёл его брат Ярослав.
К Мстиславу пришёл меньший брат Вячеслав — с ордою половецкой...
На речке Колокше произошла между братьями сеча великая... И снова горят Рязань, Муром, Ростов...
Князья колотят друг друга, а орды половецкие налетают ураганом на земли. И вновь — сами князья призывают их, втягивают в ссоры между собой. Но ещё беда иная — стали родниться с ханами князья. Нынче половцы ходят на Русь защищать своих родственников-князей, и разрушать города, и брать в полон с позволения «своих» князей...
О, земля Русская! Тяжкая година ожидает тебя... Уже нет силы, которая могла бы удержать твою купность, которая остановила бы жадность этих княжат-внуков и сыновцов!..
Когда-то черноризцы печерские силились задержать власть над Русью в руках единого самовластного князя. Ещё со времён Иллариона боролись за это. Но теперь — Феоктист-игумен хотя и поддерживает власть Святополка, но больше для того, чтобы вырвать у князя кусок земли для монастырского подворья, или новые пашни, сёла, или новую пустынь... За богатство обители больше печётся их отец, нежели за великое дело Руси.
Но Печерская обитель ещё сильна мыслью своих подвижников — Феодосия, Иллариона, Ивана. Это они вырвали из рук греков-митрополитов летописания земли Русской (и до сего митрополиты не могут забыть печерцам сей обиды!). Печерские писцы уже стали силой, на которую оглядываются и которой дорожат великие киевские князья. Печерский монастырь поддерживает и дружина, и бояре киевские, которым нужен единый князь на Руси. Потому князья и прислушиваются к печерцам. Ибо могут позвать: «Приезжай боржее в Киев. Где узрим твой стяг, там и мы с тобой». А могут и иначе молвить: «Иди, княже, прочь. Ты нам еси не нужен». Вот как Мономаху когда-то сказал игумен Иван.
Но всё же — Мономах значительнее иных князей. Однако пустить его к власти — значит узаконить беззаконие. И ещё одно: Мономах льнёт к Византии. Ищет поддержки себе в греках-митрополитах. Как и отец его. Обещает ставить на Руси не только греков-епископов, но и греков-игуменов в монастырях!
Ещё одно беспокоило печерских книжников. Царь византийский Михаил Дука когда-то прислал князю Всеволоду послание, в котором великодушно позволял считать, что на Руси проповедником христианства был апостол Андрей, проповедовавший христианство и грекам. Значит, русичи и греки имели общего проповедника! Значит, на Руси христианство было принято ещё до крещения Владимира. Но Русь не сумела сохранить свою веру, снова упала в язычество, и ромеи во второй раз сеяли учение Христа через князя Владимира...
Лукавая и хитростная выдумка! Она должна показать, что Русь не способна сама беречь веру христианскую, что ей нужна поддержка ромеев. А это есть ярмо для Руси, игемония[160] загребущей империи!.. Род Мономаха протягивает эту игемонию на Русь... Они написали уже много посланий, поучений, писем об апостоле Андрее... Всё это должно вознести их имя, вознести над другими, узаконить их верховенство над иными князьями. Близорукие! Не видят, что, утверждая себя руками ромеев, они унижают Русь и надевают на её душу тяжкое иго...
Потому Нестор обязан утвердить в своей летописи правду о Руси. Нет, не знала Русь никакого апостола Андрея. Русь позже всех стран приняла христианскую веру. Бог так пожелал, наверное, чтобы русичи пришли к сей вере последними. Но Русь эту веру взяла не из рук ромеев, а по собственному выбору. Князь Владимир, единовластец Руси, долго размысливал, какую единую веру взять для своего народа, дабы соединить его словом и верой в единого Бога. Призывал к себе то магометан, то иудеев, то христиан...
Вот Нестор и перепишет сейчас в свой пергамен сказание о крещении Руси, которое когда-то они с отцом Иваном нашли в Василькове...
За дверью келии кто-то топчется... Долго дёргает ручку, но дверь крепко закрыта, не сразу отворяется. Нестор выжидательно поднимает над головой свечу. Наконец в келию вошёл Еремея-скопец. Со времени своего увечья Еремея во всём переменился. Стал тихим, послушным, кажется, позабыл уже, что когда-то горячо бунтовал за правду.
— Что тебе, брат? — удивился Нестор.
— Беда приключилась в нашей обители... — зашептал пустым, беззубым ртом Еремея. — Брат Фёдор сокровище в своей пещере нашёл. Наверное, диавол его искушает... Пойди скажи игумену... Я боюсь...
Нестор погасил свечи. Быстро зашагал через двор к пещерам. Сокровище! В самом деле, диавол послал им искушение или что-то иное. Тогда — это великое дело. Сокровище было бы так кстати монастырю. Тогда можно купить много заморских книг, пергамена тонкого... Поставить для книжников печерских и писцов отдельный дом и туда собирать вековую мудрость народов, которая в писаном слове обретается... Книгосборище ой как нужно! Уже давно говорил Феоктисту об отдельном каменном доме.
Игумен отмахнулся — не столько у них книг, чтобы для них возводить дом! Вот когда разживутся серебром-златом... Наверное, сие Бог услышал молитвы Нестора!..
Монах Фёдор испуганно отшатнулся в угол, когда в его пещерку протиснулся Нестор.
— Сё я, брат... Нестор. Молвят, ты сокровища нашёл.
— Кто молвит? — ужаснулся Фёдор, дрожа в углу.
— Я вижу, ты хочешь припрятать Божье сокровище от добра. Тогда оно во зло будет тебе.
— Я его нашёл! Мне Бог его послал, ибо уподобил за мои искренние молитвы и томленье души! Мне даёт он вознагражденье за всё! Сказал мне Господь Бог: набедовался ты, брат, в рваном рубище. Даю тебе сокровища на старость лет. Купи за него соболью шубу и купи землю — и не ведай ни голода, ни холода. Умри в тепле и сытости!.. Это моё... — Фёдор метался по пещерке и задвигал под ложе серебряные чаши, кружки, кувшины. — Не дам! Никому не дам...
— Послушай же меня, брат. Что тебе эти сёла? И шуба соболья? Согреет она лишь твоё тело. А книги... Мы соберём много книг. Купим дивные письмена во всех окрестных и дальних землях чужих. Соберём здесь всю мудрость людскую... со всех концов... Мудрое слово согреет не только нас... И после нас будет греть души и будет вдохновлять сердца...
— Не дам... — Фёдор едва не плакал. — Я много дней и ночей рыл эту нору... Руками рыл! Так мне Бог подсказал во сне. И я нашёл сокровища в этой земле...
— Земля ведь монастырская. Всё, что в ней и что на ней, всё монастырское, брат Фёдор.
Фёдор упал грудью на ложе, прикрывая телом выкопанные сосуды. И вздрагивал от глухих рыданий...
Нестор вылез из пещеры. Отступила его мечта о книгосборище. Все только о сытости живота хлопочут... о благе для тела. Забыли о душе. А в ней столько лукавства и коварства!
Возвратился в свою келию. Он ещё побеседует с Фёдором. Может, уговорит. Расскажет ему о великих древних народах, которые умели беспокоиться о своём грядущем тем, что хлопотали о Слове, а не о еде!
Слово — вечно! Оно остаётся жить и тогда, когда исчезает даже народ, сотворивший его...
Нестор зажёг свечи. Снова взялся за писало. Все мысли его были о киевском княжеском столе. Сильный, всевластный и талантливый Владимир Мономах был бы, наверное, нынче благом на Руси, которая колотится в ссорах и межусобных войнах. Но пусти его к власти — ромеи через него могут наложить руку на Русь. Сумеет ли он укротить своё честолюбие, которое возносит его и одновременно ослепляет?.. А Гориславич и другие? Полезут биться также за киевский стол. Снова будут нарушены заповедь и закон державы. Потому должны терпеть Святополка — во имя спокойствия земли. Ничтожный разумом сребролюбец и бабник! Позор земле, которой управляет ничтожный разумом правитель... И как ему, летописцу, прозреть грядущее?
Тяжёлые времена настают для них. Сердце его предчувствует приближение великих бед... предчувствует в большой тревоге...
Ворона потому и живёт долго, что ни в соколы, ни в орлы не рвётся. Святополк не искал ни славы полководца, ни славы мудрого книжника. Одна страсть владела его душой — богатство. Возможно, из-за того, что всю жизнь жил милостию богатычей — то бояр и купчин новгородских, то жалких лапотников в тех туровских драговинах, теперь жил милостию велеможных киевских бояр. Всю свою жизнь чувствовал себя нищим с пустым кошельком. Новые земли приобрести уже не мог — все они были разделены и переразделены между огромным выводком Ярославова гнезда. Потому был чувствителен к доходам, которые поступали с киевских торгов. А ещё посматривал на могучие киевские монастыри, которые богатели, гребли золото и серебро не только со своих земель и богатых постриженников, отдававшихся в руки черноризой братии, но и прихожан, тянувшихся к монастырям со всех земель.
Самой богатой была Печерская обитель. Её учёные монахи умели лучше других убеждать богомольцев в чудесах, сотворённых милостию Божию в стенах монастырских. Они лучше других умели исцелять людей от недугов, советовать мудро в беде... а князья, большие и малые, бояре также старались купить себе благосклонность обители. Потому и текла сюда серебряная речка... Явная и тайная...
Святополк давно искоса поглядывал недобрым оком в сторону пещер. А здесь поползли слухи: монах Фёдор откопал в своей норе большие сокровища. Древние кувшины золотые и серебряные, чаши, лагвицы дивной красоты... Откопал — и не хочет отдавать монастырю. Желает тайно вывезти их из обители...
Тысяцкий Путята возмущённо поднимал бороду. Земля ведь монастырю подарена, вишь ты, великим князем. Стало быть, те сокровища, что в княжьей земле лежат, князю и должны принадлежать. Зачем их отдавать монахам? Им богатство ни к чему. Им молитвы творить Богу, а не о сытости живота хлопотать... Сокровища должны принадлежать князю — и всё.
— Ты вот что сделай, князь. Ссориться с теми печерцами нам нельзя. Ты пошли туда своего сына Туровского... ну, Мстислава своего, от той девки. Пошли с отроками, и пусть они ночью тихо войдут в обитель и возьмут это золото. Зачем боголюбивым монахам богатство? Бог простит Мстиславу его грех — ибо сотворит Дело праведное: княжье должно принадлежать князю!
Святополк облегчённо хохотнул в кулак.
— А? Хорошо придумал. Справедливо! — Одно только было неприятно ему: что тысяцкий Путята этак непочтительно отзывается о его сыне...
Конечно, Мстислав родился не в браке, но он добрый и верный помощник князю-отцу во всём. Надеется, что сделается наследником рядом с его законными, брачными сыновьями. Но это лишь надежда. По правде и по закону русскому ему никакого удела не видать. Остаётся одно — обогащаться. Поэтому Мстислав ничего из рук своих не выпустит, тем паче — золото...
— Повелеваю Мстиславу своему...
Ночью отряд конников Мстислава остановился возле ограды монастыря, подалее от ворот и привратной башни, где была стража. Всадники тихо спешились, приставили высокую лестницу и начали один за другим перепрыгивать за ограду. Несколько человек осталось на месте, возле лошадей. В тишине ночи слышалось лишь осторожное позванивание колец на кольчугах всадников да постукивание тяжёлых мечей. Мстиславовы люди, как тати-разбойники, добирались к монастырским сокровищам в полном ратном снаряжении.
Но в пещерке отца Фёдора, кроме соломы на ложе из досок и пустой глиняной кружки, ничего не нашли. Мстислав сипло крикнул:
— Берите его! Вяжите... У нас расскажет...
Двор Святополчича знали все киевляне. Стоял он внизу, у Лядских ворот, упираясь стеной в огромный земляной вал. Высокий терем, выстроенный из сосновых срубов, которые рубили тут же, за Перевесищем, своей крышей возвышался над сторожевой башней ворот. Мстислав появился в Киеве вскоре после прибытия Святополка из Турова. Гульбища, пьяные оклики оглашали окрестные улицы и перекатывались в сосновый бор, начинавшийся за болотистой низиной. Ещё известен был киевлянам Святополчич как великий блудник. Он часто устраивал на девчат ловы, особенно во дни весенних праздников, когда за стенами города они начинали водить хороводы — у озёр и речушек. Вскоре умолкли песни в зелёном предградье Киева...
Монаха Фёдора бросили на конюшем дворе на землю, потом перетащили в какой-то онбар. Посредине помещения пылал огромный костёр, а над ним с потолка свисала, раскачиваясь, железная жажель[161]. Рядом стояла наковальня с железными прутьями. Волосы на голове у Фёдора зашевелились от догадки. Он хотел закричать, но горло ему перехватила сильная судорога. Лишь борода и клочкастые брови топорщились.
Фёдор раскрыл глаза. Первое, что он увидел, это кривые ноги в красных чадыгах. У Святополчича кривые ноги, яко у беса! Красные чадыги с широкими носами показались ему копытами. Нечистая сила! Его истязает нечистая сила...
Фёдор раскачивался на жажеле, свесив руки вниз, и всё заросшее щетиной лицо короткошеего Мстислава Святополчича, казалось, то приближалось, то отдалялось от него. Монах теперь не закрывал глаз. Неотрывно рассматривал своего истязателя. И это он, кровопивец людской, желает разбогатеть на его золоте? Почему он не отдал его Нестору? Сейчас в его сердце целится стрелой волосатый Мстислав... И Фёдор закричал, задыхаясь, во всё горло:
— Палачи, слышите? Не отдам вам своих сокровищ! Божье добро останется Богу!
— А-га-га! Стреляй! — дрожало в воздухе...
Святополчич так и не дознался о спрятанных сокровищах.
Затаил ненависть к печерцам.
— Вели погромить монастырь, отец! — злобился он. — Вели забрать всё серебро и золото у шелудивых черноризцев!..
Князь Святополк пришёл в ужас от злобных действий сына. Натворит беды Мстислав с этими монахами. Нужно бы отослать его подальше от Киева...
— Князья супротив нас крамолу затевают на Волыни... — вмешался боярин Путята. — Что будем делать?
— Мстислав, чадо моё, на тебя надежда... Беги на Волынь, — обрадовался Святополк. — Возьми мою дружину — и туда. Выгонят меня отсюда сыновцы — что будем делать?
— Пойду с дружиной. Только хочу знать, что буду иметь, какую часть земли. Братцы мои мне ничего не выделят, коль тебя не станет, князь.
— Дам тебе земли. Переделю Киевщину и на Волыни дам. Ту, что заберёшь у крамольников.
— Тогда пойду. Но — дай кое-что сразу.
— Сейчас нет, сын.
— Тогда всё серебро отдай мне. А себе ещё наживёшь. — Широколицее бородатое лицо Мстислава с далеко поставленными глазами напоминало старого рака.
Святополк обернулся к Путяте:
— А? — Возмущению его не было предела. Родной сын, хотя и бастрыга[162], но родной ведь! — и так нахально отбирает у великого князя его добро...
Мстислава едва удалось ненадолго выдворить из Киева.
А на следующий день в покои князя ввалились знатные киевские купчины. Люди бают, князю нужно серебро? У них есть серебро для князя. Пускай только киевский князь сделает для них небольшую уступку — отдаст на всех киевских торгах право на торговлю солью в их руки. И ещё пускай князь отдаст им в руки сбор соляного потяга.
Князь Святополк пританцовывал от радости. Богатые купчины киевские дают ему серебро? Да он отдаст им все соляные торги и правежи!.. Лишь бы и ему попадала часть доходов!..
Радость князя была безгранична. И откуда они дознались о его нужде? Наверняка тысяцкий Путята постарался для него... Доброго советчика послал ему Бог...
Не терпелось забить серебром свои опустошённые кожаные мехи. Уже через месяц спросил:
— Путята, а как там наши купчины? Платят ли нам за соль?
— Платят, князь, и тебя благословляют...
Путята не лгал, говорил правду, да не всю. Зачем князю вся правда? Смолчал, что на киевских торгах те купцы подняли цены на соль так, что вскоре простолюдинам нельзя было купить ни щепотки соли!..
В Киеве становилось тревожно. На всех торгах и перекрёстках чёрный люд откровенно хулил нового Бога и тех, кто привёл его на Русь... откровенно угрожал погромить усадьбы можцев, а их самих подвесить на дыбу, как это сделали с бедным монахом Фёдором. Несчастный их заступник! Это из-за них, бедняков, погубили его жизнь кровопийцы, ибо тот, молвят, хотел людям отдать свои сокровища... Толпы возмущённых киевлян выдёргивали колья из тынов и бродили по улицам города, разыскивая своих обидчиков...
В Киеве глухо назревал бунт. Кто знает, что принесёт он? Возможно, вслед за княжескими да боярскими дворами дымом возьмутся и монастырские дворы.
Игумен Феоктист тревожился. Бунт черни никогда не приносил добра... Смирение... покорность... Во что бы то ни стало утишить народ... Чего он жаждет? Соли? Дать нужно ему дешёвой соли — и спокойствие будет водворено!
Через несколько дней монахи Печерской обители Прохор да Еремея вывезли на Бабин Торжок пять возов соли из монастырских запасов. Когда-то обитель закупила много пудов соли у галицких купцов, которые время от времени наезжали в Киев с огромными обозами и дёшево отдавали её оптовым покупателям.
Монахи стали со своей солью рядом с купеческими ларями и начали отмерять её по старой цене.
Казалось, весь Киев сбежался на Бабин Торжок. От ранней зари до захода солнца толпился вокруг монахов народ... Всем была нужна соль. Купцы же остались без покупателей. Молча пережидали, когда исчерпаются монастырские запасы. Но дождаться не могли.
Тогда они объединились и приступом пошли на монахов — изгнали их с Бабиного Торжка. Монахи перебрались на Подольский торг. Народ бунтовал. Бросал камни, землю, песок в жадных кровопийц, плевал на них, замахивался кольями. Все двинулись за монастырской солью на Подол.
Торговцы бросились к князю Святополку. Князь обещал только им отдавать торговлю солью! Князь взял много серебра у них за это право! Он должен и защитить их от своеволия монахов и вообще запретить черноризцам продавать соль. Монахи должны молиться Богу, купцы торговать, а князь — властвовать!.. Вот пускай князь пошлёт своих дружинников к Почайне-реке и разгонит тех богохульников. Ибо Божьим людям торговать — всё равно что Бога хулить...
Путята выслушал доводы богатых киевских купцов и пошёл советоваться с князем. Наконец возвратился назад.
— Вам будет помощь от князя, как того желаете. Князь посылает своего сына Мстислава, и тот прогонит монахов. Идите с Богом!
Мстислав, недавно вернувшийся с Волыни, вихрем ворвался на торговую площадь у старого капища. Море людских голов было перед его глазами. Но вдруг конники начали вытаскивать из-за поясов плети и ими прокладывать себе дорогу к монастырским возам с солью.
— Не пускайте их! Они побьют Прохора и Еремею!
— Это княжьи люди! Пропустите! Боярин Путята велел!
— Переймите!.. Задержите!
— Ну-ка, убирайтесь отсюда со своими повозами, ко княжьему двору! — хрипел Мстислав. — Слышали?
— Не дадим соли! Иди-ка к бесу в гости со своим Путятой...
— Бейте их!
Дружина Мстислава была оттеснена толпой.
Вечером владыка Феоктист прибыл на княжий двор жаловаться на самоуправство людей тысяцкого Путяты. Но Путята Вышатич только руками разводил. Ничего не ведает, никого не посылал на торг... Какое-то недоразумение....
И в это же время в хоромы тысяцкого ввалились купцы-слобожане. Это были самые богатые купцы Жидовской слободы. Среди них Феоктист узнал только хазарина Симхи, торговавшего холопами. Требовательно стукнули о пол посохами, жёстко сказали:
— Нам нужен князь Святополк. Зови.
Путята, почувствовав угрозу в их голосах, побежал за князем. И только успел Святополк переступить порог, купцы обступили его со всех сторон:
— Обещал, князь, нам отдать всю соль. Что слово своё сломал? Мы своё слово сдержали...
Князь Святополк сорвался с места, заметался по горнице. Потом остановился напротив купцов. Почувствовал, что эти толстосумы с ним шутить не будут. Вон как вцепились пальцами в свои посохи!
— Добрые мои, подождите. Монахи скоро распродадут свою соль — и народ двинется к вам.
— Не скоро сие будет, князь. Мы узнали. Монах Прохор и монах Еремея молвят, что эту соль Господь Бог им делает из пепла. И что конца этому нету!
— Из пепла? Га-га-га!.. И вы верите тем басням? Ну что вы за люди? А ещё говорите, что ваш иудейский Бог умнее Христа!..
— Так и есть, князь. Наш Бог выше Христа. Хотя и Иисус Христос также наш — иудей. Но только распяли мы его за непослушание.
— Христос — не иудей! — раздался решительный голос из тёмного угла гридницы. Все повернули туда головы и узнали игумена Феоктиста.
— Но кто же он тогда? — удивился один из купцов.
— Оставим эти разговоры для ваших попов и наших ребе, — остановил пререкания низкорослый, с седыми кудрями резоимец Симхи. — Мы торговцы. Мы делаем деньги. Мы не желаем, чтобы нам в том мешали монахи. Мы купили у тебя, князь, сие право за серебро. Много серебра дали тебе! И ты должен за это наказать ослушников твоей воли! Забери у монастыря соль. Монахи пусть молятся Богу. Сие их хлеб и их право — мы не вмешиваемся в их дела. А торги — это наш хлеб и наше право. Забери!
— Да, да... Симхи мудро молвит. Все мы тебя просим — забери у монахов соль. И себе увеличишь благодатство, и нам слово сдержишь.
— Князь, не твори греха перед Богом! — вспыхнул владыка Феоктист. — Пагубу накличешь на Киев. Бунт начнётся. Яко сие было при отце твоём Изяславе. Мятеж погубит твои богатства и их... и наши... Уступи народу, отбери у этих купчин право на соль. Бог тебя накажет за сребролюбие! Люто накажет!..
Святополк отступил назад от разгневанного Феоктиста.
— Коль слово своё не сдержишь, князь, мы тебя накажем недоверием своим. Тогда должен отдать нам всё, что мы тебе дали. И больше ни медницы, ни куны не получишь от слободских купчин. — Широколицый смуглый Симхи повернулся к двери. За ним двинулись остальные посланцы.
— Путята, слышишь? Ну что они говорят? — Князь не знал, куда деть свои длинные костлявые руки. То дёргал себя за редкую бородку, то щупал пальцами серебряную пряжку на поясе.
— А что тут слушать? — растерянно засуетился Путята. — Пока Господь Бог покличет нас к себе и разберётся в грехах наших, дак эти купчины нас по свету нищими пустят... Вели забрать у монастыря эту соль и отдай купчинам. Вот и весь сказ.
— Князь, опомнись! Грех берёшь на душу! — стонал Феоктист. — Накликаешь мятеж в стольный град...
— А ты, Путята, передай: повелеваю сейчас же моему Мстиславу пойти с дружиной в монастырь... поглядеть, как Бог из пепла монахам делает соль. И всё, что найдут, пускай забирают. И везут сюда, во двор...
Феоктист остолбенело глядел на князя. Потом решительно осенил себя крестом и удалился прочь.
В тот же вечер в обитель ворвалась дружина Мстислава Святополчича. Никто её не остановил. Ни мечом, ни словом, ни крестом.
Монахи мирно шествовали из церкви в свои келии и даже будто не замечали, что по монастырскому двору разъезжают княжеские конники. Мстислав спросил у кого-то, где лежит Божья соль... та, которую Господь Бог из пепла делает монахам. Один черноризец охотно указал рукой в сторону пещер. Воины Мстислава ринулись на склоны. Там также кто-то услужливо указал нужное место.
Пещерка с солью была открытой. Две высокие кучи соли лежали на земле. Никто не стерёг её, никто не мешал отрокам Святополчича сгрести её в кожаные мехи и вынести к повозкам, стоявшим у ворот.
Мстислав видел, что монахи провожали их тяжёлыми, ненавидящими взглядами, когда возы, груженные солью, протарахтели по Киевскому тракту.
А наутро на княжьем дворе учинился великий переполох. Вся соль, привезённая из монастыря, исчезла. Вместо неё в тех же мехах был насыпан... пепел... Только Господь Бог, молвили сведущие, мог сотворить такое чудодейство!..
Дворовая челядь испуганно перешёптывалась. Вот так и на виновника Бог обрушит свой гнев. Так будет со всеми, кто грабит людей во имя богатства и насилия... И его также превратят в пепел!.. Кто виноват в том разбое? Князь? Боярин Путята? Хитрец Симхи и его купцы? Бог разберётся! Ему всё известно!..
Дрожали руки у челядинов. Прижимались они к стенам онбаров, подальше от хоромины. Княжьи отроки притихли в гриднице и не показывают носа во дворе. Князь Святополк послал боярина Путяту к Печерской обители просить прощения у игумена...
Через три дня на дне обрыва, за Боричевым узвозом, нашли труп княжьего конюха Волха. Кто его убил, за что? Всё молчало.
Гудели Подольские торжища, гудел Бабин Торжок от новостей о чудесах Божьих, об унижении Святополка. Грозно взирала на закрытые окна и двери купеческих ларей толпа разволнованного киевского люда.
И печерские летописцы на все лады описывали чудо Господнее, как пограбленная в монастыре соль превратилась волею Бога в пепел и как «ужаснулся тот, кто сотворил насилие»...
Нестор грустно склонил голову над своим писанием. Как может он, летописец времён Святополчьих, писать о позоре и ничтожестве великого киевского князя? Как может писать о сём лукавстве и сребролюбии Святополка? Он бы желал восславить его мужество в поле половецком или в чужестранных землях, как восславил когда-то летописец великого Святослава и Владимира. Желал бы Нестор написать о велемудрости своего князя, о новых городах, храмах, палатах, им воздвигнутых, или о новых книгах или схолах, пристанищах людской мудрости. А ему приходится писать о разоренье князем собственной земли, о межусобице и сварах, какие вновь всколыхнули всю землю...
Нестор снял нагар с обеих сальных свечек. По стене вновь метнулись косматые тени, то догоняя одна другую, то убегая одна от другой... Как и мысли его...
Что ж... придётся ему писать о сих тяжких часах на Русской земле. И придётся писать не о Святополке, а о Мономахе. Ибо это он вновь созывает всех русских князей в Любеч. Теперь уже не кличет идти в половецкую степь, а призывает оставить ссоры, объединиться любовию пред бедой, блюсти заповеди предков...
«Пришли Святополк, Володимир, и Давид Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давид Святославич, и брат его Олег и собрались на совет в Любече на устроенье мира, и глаголаша к себе, рекуще: «Почто губим русскую землю, сами между собою устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут рати. Да отныне имеем в едино сердце и блюдём русские земли: каждый да держит отчину свою...»
Писало Нестора заскрипело, запрыгало. Из-под него вырывались новые тяжёлые строки. Страшные строки, как сама жизнь. «И приде Святополк с Давидом в Киев, и рады быша людье яси: но токмо диавол печален был от любви сей. И взял сатана в сердце некоторым мужам и почаша глаголати к Давидови Игоревичу...»
Выпало из пальцев писало. Нет сил писать далее. О треклятый Святополче! Почто срамишь свой род и изменой губишь землю Русскую? В великих ведь трудах предков добывалась её сила... А сердцем ослепший державец растоптал её разум, по кошелькам рассовывает её мощь... Холопствует перед богатством, а не перед мудростью... Тяжело сохранить власть, но ещё тяжелее — удержать её величие. Тяжелее, нежели добыть её...
Нестор погасил свечки. Он пойдёт сейчас к своей пещере... Он должен заглянуть наедине с Богом в неотрадное грядущее своей земли... Без свидетелей... дабы не растерять надежды, которая слабой искрой теплилась в его душе...
Часть шестая КИЙ, ЩЕК И ХОРИВ
Так уже повелось ему на веку, что всю жизнь желал отгородиться от людской суеты и всё время попадал в самый её водоворот. Не мог не болеть душой о бедах людских, ибо в его уединении несправедливость виделась ему ещё ярче, ещё ужаснее. Да и братия печерская, а паче всего просвещённые умы обители мало занимались молитвами, но каждый раз бросались на кон борьбы за Правду Русскую, за закон, за силу державных мужей. Ибо только эта борьба могла держать Русь на тверди — между загребущей Византией и жадными ордами.
Так повелось здесь со времён Ярослава Мудрого и Никона-Иллариона. Правда, раньше владыки печерские меньше печалились о сытости живота своего, а возносились духом выше и тем возносили Русь над иными землями и над Византией. Гречины-крестители не надеялись на такое. Рассчитывали, что черноризая паства станет опорой их, ромейского, владычества на Руси. Но Печерский монастырь стал преградой на пути этим прихотям. Многолетняя, затянувшаяся, хотя и не всем видимая и непонятная для постороннего глаза война окончилась победой печерцев, которым помогали русские начала державности, русские законы. Русских князей и русских святых впихнули в стадо Христово, отбрасывая тем самым все попытки ромеев и их царей наложить свою руку на самобытность Руси.
Но время шло. И могущество Русской державы, с таким трудом воздвигнутое силой меча и силой розмысла лучших мужей, начало слабеть. Вырождаются мудрые князья в прямом потомстве Ярослава. Губят они дело старого Кия, мельчают разумом, занимаются нечестивыми деяниями. Может, потому, что разрушают под собственными ногами свою твердь — святилища свои. Может, не хватает им гордости за величие предков. Ибо легко досталось им это величие. В наследство досталось, но не взято в битве... А может, потому, что не знают его сущности, ибо растеряли память о своих предшественниках, затоптали её в болото, забросали сверху золотом и серебром, как мусором, ненасытные, засорили души свои, в горшок с деньгами спрятали свою совесть и честь свою!..
Страшно не умереть... страшно за живущих, этих оглохших от восхвалений, ослепших от блеска золота и пустых душой...
Нестор вздыхает, переворачивается на скамье. Шуршит под ним старое, перетёртое сено. Твёрдо лежать на нём. Ноют стареющие кости. Прямо гудят... Поститься ему нужно, дабы освободить свой отяжелевший разум от суеты, от кутерьмы сего мира, которая так утомляет его душу...
Закрыл глаза. Над днепровскими кручами плывёт звёздная ночь. Плывут редкие прозрачные облака под звёздами. И мысли его плывут вместе с ними. Как видения из просветлённой дали минувшего... Но он их не отгонял. Радостно отдавался их течению... И становилось легче на сердце.
Над лесными днепровскими крутогорьями так же катилось золотое солнце и садилось за Почайной в Днепр. И так же плыли по волнам ладьи; и на валы, на высокий правый берег обрывистыми тропами поднимались мужи. Плечистые, светло-русые, в длиннополых белых сорочках с вышитыми подолами. Такие сорочки Полянские надевают редко — лишь на великие праздники да на вече.
Вверху, на плоском раздолье высокой кручи, куда тянутся тропинки от Почайны, стоит ветвистый дуб. Вершиной своей касается белой тучки. А внизу — ствол, скрученный вросшими в него толстенными ветвями. Под дубом — каменный круг. В его гладенькие гранитные плиты ногами упирается высеченный из глыбы гранита идол. Длинный, с тонкими насупленными бровями на высоком удивлённом челе, под тонким носом — золотые подковы усов, опущенные вниз. Высокая шапка из кованого серебра покрывает голову с ровно подрезанным кружком волос. Серое каменное лицо идола мертво и неподвижно... Только глаза... То один, то другой, то оба одновременно таинственно отсвечивают червонностью. Будто те глаза живые. Будто в них затаилась ненависть или дремлет отвага. Будто осматривает заднепровские дали, где жили поляне. Охранитель их жилищ и нив Перун должен издали видеть опасность, угадывать приближение чужаков на ладьях, которые часто шли сюда с мечами, и звать полян загородить им путь; должен и угадывать приближение добрых гостей, ведь тогда нужно приготовиться приветливо встретить их.
В руках Перуна — высеченный из гранита меч. Ибо он должен защищать род славянский от напастей. На каменных плитах жертвенника, где стоит идол, высечены лошади, стрелы и лук. Перун должен наделить род славян-полян оружием, которое их защитит. На этих же плитах — Перуново требище. Поднимается в небо тонкая струйка дыма. Это приносят жертву своему защитнику.
Будимир выжидательно склонил голову на грудь, как и другие Полянские мужи, собравшиеся около Перуна. Белобородый волхв Славута, в длинной, почти до пят, сорочке, с высоким сучковатым посохом в руках, молчаливо беседует с небом. Слушает шуршанье листвы Перунова дуба. Всматривается в меняющиеся очи идола-покровителя, идола — защитника его рода. Что скажет? Куда позовёт мужей Полянских?
Давно затянулись раны от аланских мечей. Росичи, поляне, сиверцы, уличане теперь жили теснее. С тех пор много воды утекло в Днепре. Когда-то юношей прибежавший сюда, Будимир не был похож сейчас на того отрока. Тогда он с помощью полян, пришедших биться с аланами за Рось, изгнал бесславно своего князя Вожика. Волею уличанского племени Будимир стал вечевым князем в Пересечене Уличанском. С тех пор часто приезжал сюда к волхву Славуте, к своим братьям полянам. Особенно во дни нужды великой. Вот как ныне.
Да и другой князь — задцепровских полян и сиверцев с Подесенья — князь Чернь — не сторонился мудрого Славуты, который теперь был признанным волхвом всех полян. Много князей было у полян. Но никто не мог сравниться с Любом. Одному не хватало мудрости, другому — зрячей души, иному — отваги. Поэтому-то все шли к Славуте. Сухощавый, высокий, с глубокими светлыми очами, волхв Славута казался бессмертным. И слово его было верное, ибо оно было от Перуна, которого чтили и многие другие племена.
Нынче же Славута позвал к себе представителей всех родов. Почему так?
Колеблется на земле тень от дуба. Искрятся живым огнём Перуновы глазища. Всех пробирает дрожь в предчувствии чего-то необычного.
— Распахните душу, мужи доблестные, раскройте очи, сердцем прислушайтесь к слову богов наших, к воле неба... Прозябают роды славянские в хлопотах земных, будничных. В суете проходят лета человеческие. Не видят будущего своего... Но небо даёт свои знаки. Катится новая беда на племена наши. Мчат непрошеные гости, яко воронье на тризну.
Вздох волной прокатился по притихшей толпе. Что за беда нависла над ними? Живут они тихо, смирно, незлобиво. Множат богатства и род свой. Ни у кого хлеб не отбирают. Чужой нивы не жнут, чужих детей не берут в рабство.
Но речь Славуты — вещая. Слушайте же, слушайте... Справедливо ведь речёт, что миновали времена, когда род и племя могли жить порознь. Когда каждый хотел отдельно себе славу ратную стяжать. Враги сильны единением, и одолеть их можно лишь сообща. Ведь они добыли себе волю вместе, когда перегородили поле копьями и отстояли мир для своих нив и хижин. И вновь Днепр несёт воды славянские в Тёплое море через русские поля...
— Ведаем о сём, волхве, и уважаем за слово мудрое, — подхватил Чернь, стоящий рядом с Будимиром.
— Твоей мудрости обязаны, Славута, — кивнул седеющей головой Будимир. И осёкся. Негоже лесть говорить в глаза мудрому.
Но Славута не отозвался на похвалу.
— Сегодня хочу вам ещё одну правду поведать, — окинул он всех внимательным взглядом, — Боги уже позвали меня к себе. Вещий Перун для меня готовит сейчас свой костёр.
Все с ужасом посмотрели на глубокий жар, который тлел у тяжеловесных каменных стоп Перуна.
— Не оставляй нас, Славута! — крикнул кто-то в отчаянии.
— Вечных людей не бывает. И волхвов — тоже.
Глубокая тишина повисла над требищем. Было слышно, как шелестит вверху листвой могучий дуб.
— На кого же нас оставляешь?
— Об сём должен вас спросить...
— Спроси у неба, волхв... Перун пусть подскажет...
Все вновь всколыхнулись.
— Должны своей волей избрать себе князя, дабы всех нас объединял — все племена и роды.
— Достойнее тебя мы не видим... — произнёс князь Чернь.
Будимиру показалось, что заднепровский князь желает сейчас напомнить о себе, дабы вече его назвало Полянским князем и князем всех других славянских племён... Но... Будимир — моложе! Не хуже Черня умеет биться. Разве не он, вечевой князь уличей, владычествует в Пересечене? Разве не он крепко держит Роденьскую землю, которую собирается передать сыновьям ясноглазой Купавы, дочери князя Люба? Будимир сделал шаг вперёд. Стал рядом с Чернем. Славута внимательно обвёл обоих взглядом.
— Кто из вас, дети мои, уступит своё место другому?
Чернь погладил свою седую бороду. Его возраст не позволяет уступить честь младшему.
Будимир расправил широкие плечи. Ведь это он закрывал дорогу Степи! Кто может помериться с ним силой?
И оба замерли в ожидании.
Славута поднял руку.
— Никто из вас, сыны мои, не пригоден для управления другими. Ибо не умеет прятать в себе собственной гордыни. Думайте, братья...
— Не знаем, волхве. Веруем твоему слову...
— Не буду говорить. Ищите мужа среди вас самих. А мне — время уж... Перун зовёт меня...
Славута ступил босыми ногами на требище. Огонь вдруг вспыхнул с новой силой. Огромное белое пламя будто приветствовало его.
Не заметили, как кто-то расстелил под ноги волхву белое полотно. Он шёл по нему, как по белой тропе. Вот уже нога его ступила в самый жар, он раздвинулся, осыпался, белое пламя стало красным, затрещало в его бороде, в волосах... поползло по белой сорочке...
— В Днепр бросьте мой прах.
А кровавые глазищи идола зловеще светились, будто наливались кровью Славуты.
— Что стоите! Беда стучится к нам! Хазаре!.. Хан Трухан с ордой катит!.. — послышался откуда-то из-за спин возмущённый возглас.
Все оглянулись. Хазаре? Это те, которые кочуют в прикаспийских степях?
— Откуда ведаешь, Кий?
Перед ними стоял высокий муж с большими красноватыми ладонями. Волосы его подвязаны узенькой кожаной полоской — как это делали кожемяки. И сам он прибежал с кожемяцкого оселища, которое раскинулось на берегу речки Глыбочицы.
— Ведите нас, князья! — обратилось вече к Будимиру и Черню. — Хазары на землю нашу пришли. Должны защищаться.
Чернь отступил от Будимира.
— Пусть он и ведёт. Я стар уже для сечи.
— А я должен идти к Роденю. Заставы в степь послать, чтобы и уличанские нивы сберечь.
— Нет, князья дорогие! Будете с нашими дружинами свои рати единить. В одиночку — погибнем! — Молодой кожемяка протискивался к требищу.
— Так Славута завещал нам... — заговорили в толпе. — Объединиться надо нашим родам...
— По всей речке славянской пускай стоят вместе славянские племена... Тогда одолеем чужаков!..
— Правду молвишь, Кий...
— Так и волхв Славута завещал...
— А что, пусть Кий и собирает всех. Вещие слова Славуты вошли в его душу... Будто бы тут был, когда волхв с нами прощался...
— Будь нашим кормчим, Кий!..
— Веди нас!..
— Именем Перуна — защитника нашего — прими меч... Именем племени Полянского!..
— Кия! Желаем Кия в князья!
— Клянись, Кий, на мече в верности роду Полянскому.
— Клянусь...
— Клянись прахом Славуты, отца нашего вещего...
— Клянусь...
— Молись великой реке славянской...
— Молюсь...
— Кий — князь Полянский! Слава ему!..
— Слава!..
— Благодарю вас, братья! Готовьтесь к походу против Трухана...
— Готовы!
— А ты, князь Чернь, и ты, Будимир, ведите свои рати к Роси, вместе перегородим поле копьями...
С тех пор как поляне срубили возле Перунова капища, на горе, своему князю Кию градок, гора эта стала прозываться Киевой, а бурный поток, разрезавший её надвое, речкою Киянкою.
На Киевой горе, у златоусого Перуна, где когда-то жил вещий старец Славута, собиратись, как и раньше, поляне на вече со всех окольных селений — из-за Днепра, из-за Десны, с Роси. А Днепр-река, которая пронесла прах Славуты чрез все земли славянские в Тёплое море, ещё стала называться рекою Славутою, или Славутичем.
Давно помер князь заднепровских полян — гордый Чернь, оставив своё имя в имени своего града — Чернигова. Его соперник — роденьский Будимир признал над собой власть Кия. Вместе они ходили в степи, ставили заставы с полдня и с восхода солнца, стерегли землю от кочевых орд. Их рати доходили до берегов Тёплого моря, и новые роды Полянского племени садились в устье Дуная, градили городки, вспахивали нивы. Вытесняли более слабые племена — гуннов, аланов, герулов, раньше пришедших из восточных степей и оседавших в пограничье великой и богатой Византийской империи.
Ромейские цари то нанимали их для своих военных походов, то науськивали одних на других, чтобы они воевали между собой и не нападали на Византию, то щедро платили золотом вождям племён, покупая им для себя мир. А потом построили огромную каменную стену в пятьдесят поприщ от моря Мраморного к берегам тёплого Понта...
В те времена в империи было неспокойно. Мятежил голодный люд в Цареграде, провинции грабили племена федератов-союзников — исавры и остроготы. Бунтовали ремесленники, которых обдирали виндики-откупщики. Бунтовали колоны-пахари, с которых сдирали последнюю шкуру. Бунтовали православные христиане и отступники от христианской веры — монофизиты. Ссорились между собой патриархи, императоры и великие роды могучих патрициев. Все жаждали золота, рабов, земель. Казна ромейских царей окончательно оскудела. Последний потомок великого императора Помпея Анастасий изгнал из империи племена ненасытных исавров и прекратил выплачивать их вождям золото (дань за мир — в полторы тысячи фунтов золота!). Тогда исавры восстали. Шесть лет грабили и разоряли империю... В то же время вспыхнуло восстание горожан в столице. Кто-то поджёг ипподром, когда там сидел Анастасий, кто-то бросил в него камнем... Голодный, ободранный люд разбивал статуи императора и императрицы. Золотая империя шаталась. Анастасий на глазах у тысяч людей на ипподроме снял с себя порфиру[163]...
И в это время восстали фракийские племена. К ним присоединились гунны и булгары в Подунавье. Войска Анастасия были разгромлены под стенами Константинополя. Из казны исчезло последнее золото. Руководитель бунта Виталиан пересыпал пять тысяч фунтов его в свои карманы. Но через два года он вновь привёл восставшие армии под стены столицы империи.
Анастасий ищет союзников. Анастасий посылает гонцов с дарами к велеможному северному соседу — властителю славянских племён. Князь Кий крепил свою землю градами и вспаханными нивами. Грозный владыка хазарских степей хан Трухан откатился из Приднепровья от мечей славянских. Сосед, который на глазах усиливается, твой завтрашний лютый ворог. Но пока что у Анастасия нет выбора...
Быстроногие кони славянской дружины появились в Подунавье неожиданно. Славянские роды, которые ещё ранее осели здесь, выходили встречать своих сородичей с хлебом-караваем на вышитых рушниках. Сколько их тут было — вся долина заполнена славянами-пахарями. Славянская речь и песни славянских дев плыли на волнах Дуная к берегам Тёплого моря...
Дружина Кия потеснила племена гуннов, болгар, герулов... Дружинники не торопились — везде ставили городки и засеки. А там, где широкоплёсый Серет соединяется с Дунаем, срубили большой градок и нарекли именем своего князя — Киевец.
Император Анастасий торопился изо всех сил навстречу Кию. Что задумал этот славянский вождь? Чем обернётся для империи сия помощь его? Князь Кий потребует только золота или ещё и земель? А что, если захочет разделить и царскую порфиру?
Кий равнодушно прислушивался к звону золота, которое прислал ему Анастасий. Он хотел получить себе здесь новые земли, их заселили его сородичи-славяне... а он закрепил градками и засеками.
Анастасий морщил чело. Это то, чего он пуще всего боялся. Византия получит тогда рядом опасного соседа. Киева земля протянется от Дуная к Днепру, от тёплого Понта — к холодному Варяжскому морю, где также жил славянский народ...
А что нынче делает хазарский каган Трухан? Почему так далеко кочуют его кибитки от Поднепровья и славянских градков и селений?
Ещё под Цареградом вой Кия ломали копья с когортами взбунтовавшегося Виталиана, а одинокая галера с племянником императора и наследником трона Ипатием пристала к берегу в устье Днепра. Через несколько дней её увидели ромейские купцы, пригнавшие сюда от кочевьев хазар скот и пленников — жён и дев, отроков и мужей булгарских, касожских, славянских. Хазарские купцы перепродавали свою добычу, которую взяли каган и его вельможи при нападении на соседние земли.
Ромеи-купчины указали дорогу к Трухану и дали своих лошадей Ипатию. Молвили:
— Спеши боржее, ибо каган Трухан нынче собрался идти от Танаиса-Дона к великой реке Итиль, а по-славянски её называют Волга.
Ипатий мчал через донские степи. И уже возле Маныча догнал кагана. Угощал хмельными сладкими винами ромейскими, бросал под ноги оловиры, шелка, брачины, звенел золотом в кожаных мехах. Жадно блестели узкие глаза у жён кагана. На смуглых руках их — напалки-кольца, увешаны они золотыми украшениями, которые дарили им ромеи.
На белой чалме кагана сверкали драгоценные наколки из изумрудов, гранатов, алмазов.
Вольно и богато живёт великий каган хазарский. Но почему, молвят, он убоялся славянского князя Кия, который по обоим берегам Днепра-Славуты расселяет своих сородичей? Почему в кибитках кагана нет красавицы сестры князя Кия — златокосой Лыбеди? На дунайских волнах плывут песни о её синих очах и о устах, что как живые кораллы. Сам император Анастасий желает посватать её за него, Ипатия. Да вот беда — Кий не соглашается. Князь Кий нынче толковин ромейского царя — и не время ссориться с ним поэтому... Вот поможет разгромить мятежника Виталиана — тогда иное! Но каган... Он ни с кем не связал себя договорами. Свободный, как ветер степей. Не остановило его ни булгарское копьё, ни славянский меч, ни скрип гуннских телег, ни стрелы воинственных аланов.
Каган Трухан пьянел от лести и вина. Своевольный дух расправлял крылья в его воинственной грозной душе.
Ещё Ипатий только собирался назад, а Трухан уже готовил посольство ко граду Киеву. Братьям Щеку и Хориву велел передать слова:
— Хочу Лыбедь в жёны.
Ипатий был доволен. Обрадуется Анастасий — Трухан начинает свою зловещую беседу с братьями Кия. А чтобы не оставить кагана без доброго совета и надзора, Ипатий оставил своего постельничего Евфимия советчиком.
Ипатий торопился с возвращением. Под стенами Константинополя шла война, всё может случиться с его бездетным порфироносным дядюшкой. А он — его законный наследник! Должен суметь вовремя перехватить корону, если вдруг она слетит с головы Анастасия! Может, пойти на тайный союз с Виталианом? Чтобы быстрее добраться до престола!
Разные мысли одолевали Ипатия. Но в одном он был сообщником Анастасия — князя славянского Кия нужно остерегаться, нужно держать его на хазарской верёвке...
В граде Киевом старшинствовал меньший брат князя, по прозвищу Щек. Тихий на вид, всегда кусал исподтишка, яко ползучая змея. Оттого и прозвали Щек — то есть шипучий, яко гадина. Старший брат его — Кий всем взял: разумом, силой, приветливостью. Характером и сердцем был открыт для людей — говорил в глаза всегда правду, будто кием отбивал. Потому и Кий. Как не завидовать такому? И меньший брат люто завидовал ему. Чтобы не отстать от старшего брата, Щек повелел и себе построить градок — на другой горе, которая напротив Киевой. С тех пор гора и прозывается Щекавица.
Был у Кия ещё меньший брат — называли его люди Горивом, или Хоривом. Хорив хотел превзойти двух своих старших братьев, потому что также был втайне завистливым и гордым. И повелел срубить себе градок на третьей горе, недалеко от Почайны. Потому и назвали ту гору Хоревицей.
Братья поджидали своего часа, чтобы возвыситься в роде Полянском. И вот этот час наступил. Хазарин-гонец ударил челом об порог терема Щека.
— Каган велел сказать: хочу Лыбедь в жёны. А не отдашь — ордой пойду.
Щек немного подумал и ответил:
— Бери.
— Нет! — вдруг выросла на пороге терема златокосая Лыбедь. — Я жду своего суженого из похода.
— Он не вернётся, — ухмыльнулся гонец. — Князь Кий хочет остаться на Дунае. Уже и градок свой — Киевец — поставил.
Бросилась Лыбедь бежать на Киеву гору. Прибежала к Перунову дубу. Прильнула к каменным стопам идола.
— Защити! — взмолилась. Разметались её золотые косы по земле. — Верни князя назад со дружиною!
У её ног опустилась стая голубей. Лыбедь схватила одного из них, привязала к ножке чёрную ленточку и выпустила в небо. Сама стонала-плакала, яко чаица. Посылала свои заклятья Земле и Небу, Ветру и Звёздной Ночи.
— Ночь темна, ночь тишна, сидишь ты на коне буланом, на седле соколином. Замыкаешь ты коморы, дверцы и хлевцы, дворцы и хоромы. Замкни врагам Кия губы-губища, щёки-пращёки, очи-праочи...
Замолк ветер-буян, к словам Лыбеди прислушивается. Молчит идолище Перуна, глазом не блеснёт.
— Где ты, брат мой, водишь дружину свою и суженого моего! В каких землях-странах, в каких палатах, пьёшь ли вина из царских чаш золотых аль водой Дунай-реки захлебнулся? Спишь на пуховом ли ложе или под звёздным шатром мечом укрылся?..
На коне еду, змеёй погоняю, всем твоим неприятелям и супостатам рты позакрываю... Гадючий хвост, а червячье чрево, яко придёшь, брат, к ворогам, кабы стали они как сухое дерево... Кабы стены, за которыми спрятался со дружиною, были немыми, кабы потолки лишь поднялись... Мои тихие речи мои горячие мысли на добро Киевым воям кабы повернулись...
Щек разослал мечников, чтобы разыскать сестру. Щек злобился — каган Трухан нашлёт орду, а он непривычен к сече. Не умеет и меч двусечный в руках держать. Он умеет лишь тихо выжидать да крадучись к властвованию добираться. Хорив-Горив закрылся в своём тереме. Не он старшинствует над полянами, не ему и выкручиваться...
Щек послал гонцов к Трухану:
— Сбежала сестра Лыбедь, подожди...
— Не хочу ждать! — отвечал Трухан.
Покатилась орда к Днепру, вдоль левого берега, вверх по течению. Напротив Киевой горы начали переправу реки — и заняли большой остров, выгнувший свою зелёную спину посередине реки. Остров зарос кустами ракитника, густыми камышами. Ордынцы отдыхали на нём. Высматривали, куда лучше причалить, чтобы сразу захватить Киеву гору.
Сбежались из окольных селений поселяне, схватились за мечи.
Щек сказал:
— Нас мало, и биться с большой ордой нет сил. Разыщите Лыбедь — заплатим ею кагану за волю свою.
Поляне же ответили:
— Такого не бывало в нашей земле, дабы волю неволей покупать.
Сели в челны-лодии и поплыли к острову. Оттуда навстречу им бросились ордынцы на лошадях. Обступили смельчаков, и началась сеча на воде...
Покраснел Днепр-Славутич от людской крови. Щек же стоял на своей горе и выжидал — кто победит.
Увидела Лыбедь ничтожность своих братьев. Прыгнула в челнок из камышовых зарослей, где пряталась от глума, направилась в самую гущу сечи. Подняла весло, яко меч. Крикнула:
— Остановитесь, кияне-братья! Не сиротите своих чад! Я пойду сама к кагану. Своей волей. Пусть отступится от нашей земли!
И поплыла к левому берегу Днепра. Там сидел в золотом ромейском седле старый степной ворон Трухан.
Лыбедь вышла из челна, выпрямилась пред ним, взмахнула русыми косами.
— Хочу, чтобы каган взял меня сам — по обычаю моего рода. — И смело посмотрела в широкое обрюзгшее лицо Трухана, которое лоснилось на солнце. — Садись в мой чёлн.
Каган тяжело шлёпнулся из седла на землю, пересел в её чёлн, и они вдвоём поплыли к острову посреди Днепра.
Вышли на песчаный берег. Трухан дёрнул её за косы.
— Моя!
— Нет, — спокойно посмотрела ему в глаза Лыбедь. — Не твоя!
Выхватила из-за пазухи длинный нож и ударила им кагана в грудь. Трухан удивлённо вытаращил на неё глаза, тяжело осел на песок, руками загребая траву.
Лыбедь же села в чёлн и поплыла к Почайне. Крикнула своим воям:
— Каган Трухан уподобил навеки сей остров! Больше не будет просить нашей земли!
— Слава тебе! — кричали кияне.
Орда бросилась бежать назад. Подалее от этих людей, у которых и девицы умеют постоять за себя, как воины. Орда откатилась в далёкие степи.
С тех пор тот остров на Днепре называется Трухановым.
А Кий ничего об этом не знал. Не торопился в земли приднепровские. Гремела слава его на Дунае. Вместе с ромейскими когортами Анастасия он теснил кочевников, наседавших на империю. Вечерами отдыхал на берегу Дунай-реки. Прислушивался к ласковому плеску волн.
Богата здешняя земля. Тяжёлым колосом звенит плодоносная нива. Сладкие плоды созревают в садах. А рядом — берега Понтийского и Эгейского морей. Здесь перекрёсток торговых путей от греков и арабов к кельтам, германцам, свеям, галлам. Вокруг расселились славянские племена... Средина его владений может быть и здесь — на Дунае...
Плещут волны на камышовый берег. Напоминают о плеске Днепра-Славуты и Почайны. Велики пространства его владений. Ибо велик народ славянский... Его держава может подняться на этих раздольях славянских. Она будет соперничать с Византией. Недаром Анастасий предлагает ему в жёны свою престарелую сестру и советует принять его веру — веру в Христа. Боится он объединённой силы славян. Но Кий дал обещание дочери Будимира — Любаве. Её и возьмёт в жёны. Привезёт сюда... Воздвигнет для неё терем в своём Киевце.
Не торопится Кий домой. И вой Полянские настороженно поглядывают в его сторону. Что задумал их предводитель? Иль забыл клятву матери-земле? Иль опьянел от славы?
— Не будет здесь нам помощи от нашего бога Перуна, защитника нашего! Не защитят здесь нас щиты тяжёлые, и будем посечены собственными мечами! — говорили они.
— Наши чада и жёны, может, в неволе в чужой земле.
— А твоя Любава, Кий? Она ожидает тебя!
— Оставить Киевец? Дунай-реку и наших братьев?
— Да! — решительно выступит вперёд молодой воин. Тот, который знал: этой весной Лыбедь ему пела веснянки, а теперь ожидает его.
— Не быти сему, — твёрдо отсёк слова Кий.
— Тогда мы сами возвратимся. А ты — оставайся один.
Сверкнул на солнце булатный меч Кия.
Воин зашатался на ногах. Склонился на руки побратимов.
— Лыбедь... лада моя...
И в эту минуту пред Кием бездыханно упал на спину голубь. Открыл бессильно клюв, распростёр в мёртвой судороге крылья.
Все увидели чёрную ленточку, привязанную к его ножке...
Беда пришла в землю Полянскую... Се Лыбедь весточку прислала... Прости его, земля... Простите, мужи честные!..
Кий со дружиною торопился назад. Летел будто на крыльях.
Холодные, серые тучи нависли над приднепровскими кручами, где стоял Киев-град. Возвратился князь, да не все его вои-дружинники увидели родные очаги...
Беспокойство вселилось в сердце князя. Болело от утери богатого края и новой славянской тверди на Дунае — Киевца. А здесь ещё навалились тяжкие хлопоты — новый каган хазарский всё чаще налетает с ордой на Полянские нивы, добивается себе в жёны Лыбеди, и ещё — чтобы князем у полян был Щек...
Опечалился Кий. Сестру он запрячет. А вот брат... Что ж... Пусть вече возьмёт у него клятву на верность.
Но поляне не желали Щека.
— Пойдём биться со Степью! — сказали. — Веди нас.
Кий не решался. Если неудача — помочь некому. Решил поставить на других взгорьях новых идолов — Дажьбога и Волоса. Теперь и им приносят здесь жертвы поляне. Молятся им, дабы земля их была плодовитой, а племя — богатым.
Грозовые тучи надвигались на днепровские крутогорья. Терпко пахнуло полынью и землёй. Будет дождь. Кий стоит на пороге своего терема, посматривает в сторону Почайны и Днепра. Поседели вспенившиеся волны реки. Где-то рядом, у святилиша волхвов, будто стонет песня, или заклятие, или причитание. Кий сделал несколько шагов, прислушался. Как и когда-то давно, Перун сверкал своими прозрачно-красными глазищами. Золотые усы его шевелились.
Вдруг потемнело. Сумерки упали на гору и спрятали княжеские палаты. Под сизой завесой мглы потонули низенькие хижины и избы на берегу Киянки и у подножия Киева-града. Оглушительный удар грома качнул землю. Синие огненные стрелы Перуна раскололи небо пополам. Из низких облаков хлынул густой дождь.
Или показалось, или в самом деле кто-то отчаянно завопил. Над Щекавицей взметнулось вверх пламя. Перун наказал лукавого Щека! Ещё показалось, будто в серой прозрачной тьме какая-то огромная птица взмахнула белыми крыльями над Княжьей горой. Вновь грохнуло, раскалывая пополам чёрное небо...
Кий посмотрел на идола Перуна. Да защитит он его народ Полянский от бед!..
Перун светил ему огненными глазищами и топырил вверх золотые усы. Его тяжёлая серебряная шапка ходила ходуном на голове.
Когда утихла гроза, на чистом голубом небе вновь воссиял ясноликий Дажьбог — бог тепла и света. Заблестела умытая дождём зелень, засверкали в лучах солнца ручьи и потоки. И среди них появилась какая-то новая речка, широкая, ласковая, чистая. А на ней плавали белые лебеди.
— Глядите-ка, это наша Лыбедь!
И с тех пор люди стали рассказывать один другому, что гневный Перун испепелит Щека за его лукавые козни против брата и загнал в щели Хорива-Гориныча. А Лыбедь спрятал от степных коршунов. Отважная Лыбедь желала умереть, чтобы не приносить горе своему роду. Перун же дал ей бессмертие, превратив в тихую широкоплёсую речку. Ибо он, этот справедливый защитник славянского племени, хотел, чтобы оно выстояло, выжило, укрепилось. Потому уничтожал врагов явных и тайных. Потому своим гневом испепелял лукавых, злобных, криводушных и лживых — и давал силу тем, кто открыто становился на прю за волю и честь своего рода и народа... Гнев Перуна защищал их...
Давно над днепровскими взгорьями плыло ясное утро. А Нестора не оставляли видения-сны. Перед глазами всё ещё стоял седоусый широкоплечий Полянский князь Кий с тонким кожаным ремешком на челе, подвязывавшим волосы. Златокосая княжна Лыбедь... Пепелище Щекавицы... И Перун, защитник племён славянских.
Наконец стряхнул с себя сон и увидел, что через узкий вход его пещерки кто-то уже просунул ему кусок сухой перелечи и поставил глиняную кружку с водой.
Позавтракал. Поблагодарил Бога. А мысли его всё ещё лихорадочно витали то над разорёнными дулебскими оселищами, то над Княжьей горой... Новый град старого Кия теперь не там. Перенесли с той-горы за Боричев обрыв, на большую плоскую равнину. Нынче там и кафедральная София, и Бабин Торжок, и квадрига медных лошадей, которых ещё князь Владимир Великий привёз из Херсонеса и поставил на площади Бабиного Торжка. А Торжок этот также отодвинулся, ближе к спуску на Подол...
Нестор сел на скамью. Тугой пучок солнечных лучей осветил его полку, которая служила ему столом, и старый обрывок смятого пергамена. Это от него и начался его сон-видение. Начитался всяческих старых сказов, потом волей Бога или диавола — этого не знает сам — всё это ожило в его памяти и в его душе... Грешен бо есть! А может, и не от греха это, а перст Божий указывает ему на то, что должен он написать в своей летописи. И эту правду или легенды, сохранённые в старых обрывках письмён, которые черноризцы в слепоте своей веры везде уничтожают, угождая властелинам своим...
Он должен записать правду о князе Кии. О вечевом князе Полянского племени, который ходил и в Византию на призыв самого царя, и на Дунае громил орды кочевников...
Нестор вылез из своей пещерки и быстро пошёл к монастырскому подворью.
Черноризая братия, уже копошившаяся на огородах и возле хозяйских построек, удивлённо поглядывала на пещерника. Брат Нестор чем-то растревожен — не добыл своего поста в пещерке, торопится к келии... Наверное, какое-то откровение посетило ночью их книжника.
А Нестор уже писал: «И было три брата: один по имени Кий, другой Щек и третий Хорив, а сестра их была Лыбедь... И сотвориша град во имя брата своего старейшего и нарекоша имя ему Киев...
Иные же, не сведущи, рекоша, яко Кий есть перевозник был, в Киеве бо бяше тогда перевоз с оное стороны Днепра, отчего и говорили: на перевоз на Киев. Аше бы был Кий перевозчиком, то не ходил бы ко Царьгороду; но сей Кий княжил в роде своём и ходил он к царю, и великую честь приял от царя... Пришёл на Дунай и возлюбил место это, и срубил градок мал, и хотеши сесть с родом своим... и доныне наречают дунайцы сие городище Киевец...»
Что же было потом, после Кия, на нашей земле? Об этом также нужно записать, как рассказали старые письмена: «Следом за тем по смерти братьев сих, полян теснили деревляне и иные окольные люди. И нашли их хазары, сидящими на горах сих в лесах, и рече хазары: «Платите нам дань...»
Нелёгкие времена пришли для многих славянских племён.
Высокий, сутуловатый Нестор-книжник шёл, пошатываясь, через двор обители. И снова удивлённые взгляды братьев черноризцев провожали его. Опять Нестор куда-то торопится. Наверное, в Киев-град. Ко старому боярину Яну Вышатичу или ко князю Святополку. Велеможные киевские мужи будут угощать его медами и заморскими лакомствами... Сладкими речами... Ибо желают попасть в летопись, имя своё увековечить, коль не деяния...
А им, серым и тёмным, недоступны ни хоромы велеможные, ни почести. Им остаются одни молитвы... да тяжёлый труд в монастыре... Но им недоступно и понимание того, что это уважение, которым пользуется летописец, даётся ему самым тяжким трудом, трудом, порождающим бессонницу, сомнения, угрызения совести. Не понять им того, что за каждым словом — долгие дни и ночи терзающих раздумий. Где им знать о сём? Они живут лишь собственными болями и собственными мучениями, скованы страхом потусторонней кары и боятся этого страха настолько, что не осмеливаются любить жизнь! Истязают себя во имя того, чтоб на том свете попасть в небесное царствие... Из-за этого страха не способны подняться над собой мыслями и проложить путь для тех, кто идёт вослед... Более умных — ненавидят и не терпят рядом с собой.
Так всегда было у людей. И всегда среди них появлялись чудаки, которые проторивали своим светлым разумом путь в будущее и не желали за это ни славы, ни благодарных слов.
Нестор торопился в терем Яна Вышатича и зрительно уже представлял тяжёлые богатые книги на дубовых полках. Он знал эти книги. Перелистывал их тяжёлые страницы. Это были хроники императора Константина Багрянородного, записки арабского хрониста Масуди, житие Стефана Сурожского, «Пролог» к житию преподобной Афанасии... А ещё было между ними послание патриарха Фотия. Писал преподобный отец там о русском народе, который впервые заявил о себе на весь мир. Писал злобно и завистливо, желая унизить его в веках: «Народ этот неименитый, народ ничтожный, народ, который стоит на уровне наших рабов, неизвестный народ, но теперь получивший имя от времени похода на нас, народ мизерный, но теперь получивший значительность; народ униженный и бедный, но теперь достигший блестящей высоты и неисчислимого богатства, живущий где-то далеко от нас...»
Фотий злобился, что этот народ — русский — отважился поднять оружие против Византии. Язычники-русичи поднялись против великой христианской империи!.. Приготовили огромную армию и посадили на лодьи. И постучали у врат Цареграда своими двусечными мечами!..
Теперь Нестор хотел ещё раз перечитать Фотия... Потом о Хазарии. Что за народ хазарский? Как владычествовал над славянскими племенами?..
Открыл Нестору ворота привратник Янова терема Бравлин. Бормотал недовольно себе под нос, но так, чтобы его слова слышал и сей неугомонный черноризец. Потому что солнце уже зашло, люд христианский укладывается отдыхать. И он, привратник, также желает отдохнуть от своих трудов праведных. Не слишком поспишь днём. Шатаются туда-сюда бояре всякие да челядь. А вечером — на тебе! — лишь только закрыл ворота, Нестор-монах объявился. Колотит билом в доски, чтоб его всю жизнь вот так колотило!
В другой бы раз Нестор не преминул бы упрекнуть ленивого челядина за пустые нарекания. Сейчас же не было желания предаваться поучениям. Ответил только, будто оправдываясь:
— Хочу прочитать, брат, о давней Хазарии.
— О чём? — удивился Бравлин.
— Была такая великая держава когда-то — Хазария. Могущественная держава!
— Не знаю! Не слыхивал! — сердито засопел Бравлин.
— Благодари за сие князя Святослава, что её русичи забыли уже.
— Почто должен благодарить? — возмутился челядин. — Ходят тут по ночам да спать не дают... Жизни тебе нет... Ещё и благодари!.. А за что?..
— За то благодари, что вот живёшь, ходишь по своей земле, радуешься солнцу вместе со своими чадами. И свирепые хазары твой род не искоренили. Вот и радуйся!
Бравлин сплюнул в сторону и изо всех сил, сколько имел в могучих плечах, закрыл ворота на запоры.
— Невесть о чём бает... Проходи уж, личина черноризая!..
Но Нестор его уже не слышал. Широко размахивая чёрным подолом рясы, по скрипучим ступенькам поднялся в сенцы.
Бравлин зевнул, переступил с ноги на ногу, понюхал нагретый летним солнцем воздух, пошёл в башенку. Там ожидало его пахучее ложе из свежего сена и тяжёлая шерстяная дерюга. Теперь до утра уже никто не придёт. Отец Нестор, как всегда, засядет на всю ночь за книги в светлице боярской.
— Уху-ху! — привычно раздирался рот перед сном.
Наконец Бравлин улёгся. Взгляд его остановился на окошечке, сквозь которое был виден краешек звёздного неба. Ты видишь, а он и не слыхивал об этих хазарах никогда... Что за народ был? Не ведает он...
Мысль сладостно угасала. Тело наполнялось мягкой тяжестью. А отец Нестор читает... Что-то видит...
И он, Бравлин, так же видит, как и тот Нестор-книжник. Потому что вот он летит вслед за ним над землёй. Так свободно, так легко летят они вдвоём меж звёздами. Бьётся на ветру чёрный подол рясы Нестора, будто огромное чёрное крыло. А внизу под ними плывут во мгле голубые просторы. Зелёные степи потонули в сизой дымке. Холодные извивистые стежки речек. А они летят, как боги. Всё им подвластно, всё понятно. Отец Нестор тихим ровным голосом рассказывает обо всём, что видит. И даже когда умолкает, Бравлину кажется, что он слышит и понимает его мысли.
И вдруг привратник увидел, что вокруг них — множество таких, как он. Все они летят вослед Нестору, и все слушают его вещие слова...
— Сие, братья, великое голубое поле — Русское море. Ещё называют его Чёрным. Когда буря на море — оно чернеет от волн. А за тем морем — степи. Глядите-ка, сколько табунов там и кибиток. Сие все кочевники.
Бравлин напрягает взгляд, немного ниже опускается к земле и видит бесчисленные орды — кибитки, стада, табуны...
— Сие все хазарские племена. Вы их видите нынче, ибо слушаете меня. А их уж давно нет! — радостно восклицает отец Нестор.
Дивные речи молвит монах. Но Бравлин и другие не имеют времени удивляться. Они его слушают.
— Хазары пришли в каспийские и азовские степи вместе со свирепыми гуннами. Слышали о них? Сие численные и могучие племена, которых изгнали китаи из монгольских равнин. Глядите-ка, какие они низкорослые... все кривоногие. Потому что весь свой век на лошадях. Приросли будто к ним. Зато плечи — сажень. Рука гунна всю жизнь держит меч и копьё. Аркан и лук. На повозах их дома. Из кож натянуты шалаши. Всю жизнь — в дороге. Нет у них отчизны. Ибо не ведают, где родились, на какой земле. В кибитках — их жёны и дети. Там они ткут кое-как полотно, из кож шьют также одежду и обувки. Добрые лёгкие обувки для старческих ног...
Бравлин удивился, почему это умолк отец Нестор. Оглянулся на его ноги, которые торчали из-под чёрной рясы. Старые, натруженные босые ноги у монаха, с чёрными потрескавшимися пятками. И наверное, мёрзнут в холодном подоблачье...
Они опустились ниже. И вновь вещие слова Нестора раздаются в ушах:
— Сии кочевники изгнали из своих степей аланов, готов, сарматов и заполонили всё Предкавказье. До самой Персии и Армении добрались. Достали Сирию и Месопотамию. От страха пред ними дрожали Аравия и Финикия, Палестина и Египет. Это они вытоптали степи Причерноморья, достигли Дуная. Много лет отбивались от гуннов многие державы, пока их грозный царь Аттила[164] не был разгромлен. Далеко отсюда, наверное, и не слышали — в степях Каталонии. Отсель не видать!
Нестор махнул рукой назад. Бравлин поднялся выше, оглянулся: а может, всё же увидит? Где оно, это поле Каталонское?..
— Говорю же, не увидишь... — продолжал ласково отец Нестор. — Но скоро гуннские племена между Каспием и Сурожем подчинили себе новые кочевники — тюркюты. Они завоевали гуннов, угров, аланов и всех других. Но ненадолго. Новые воители и их вожди перегрызлись между собой...
— Как это может быть? — удивился Бравлин.
— Как? — оглянулся к нему Нестор. — А так, яко нынче наши князья грызутся. Ссоры и межусобицы начались между ними. Распался тюркский каганат, а по-нашему — держава аль княжество. Все покорённые племена освободились И самым сильным оказалось хазарское племя, которое породнилось с вождями тюркютов. А ещё были сильные племена булгар. Одно их племя — утигуры — создали свою державу на речке Итиль, а по-нашему — Волга. Хазары же покорили его и ещё двадцать пять разных племён и создали свой каганат — державу. Но не могли подчинить себе племя булгар азовских — или кутригур. Их хан Аспарух со своей ордой откочевал на Дунай и там покорил земли славянские Так и образовалось Булгарское царство на Дунае. Но один род кутригур с ханом Батбаем признал над собой власть хазар, и потому эти булгары стали называться «чёрными булгарами». То есть — рабские. Расселились они по речке Кубане. От них и пошёл новый народ, зовомый нынче балкары... Но когда хазарские орды гнались за ханом Аспарухом, они подчинили себе всё Причерноморье, Таврию и готов, сидящих там. Забрали Тамань, где нынче Тмутараканская земля. Отторгли земли от Византии. Везде разрушили грады и храмы. Вот тогда меч хазарский надолго навис и над славянскими племенами. И пришли они к полянам и сказали им: «Платите нам дань...»
Голос Нестора вдруг прервался. Бравлину показалось, что и сам их проводник-монах, шелестевший рядом с ним рясой, исчез. Что его проглотила чёрная бездна неба.
Страх стиснул сердце Бравлина. Изо всех сил он закричал:
— Где ты? Нес-то-ор! Где-е-е?..
Холодный пот выступил у него на челе. Сердце громко колотилось в груди. Даже в висках отдавалось болью. И вдруг почувствовал, что стремительно летит вниз. И не было сил остановиться. Хватал руками воздух, болтал беспорядочно ногами, хотел за что-то зацепиться — и не мог. Заледенело от страха сердце. И вдруг больно стукнулся о землю. И проснулся.
Над ним мерцало сквозь башенное окошко звёздное небо. Огромный Воз перевернул своё дышло. Было далеко за полночь. Но в окне боярской светлицы дрожал огонёк. Нестор читал книги, Наверное, читал об этих гуннах, и о хазарах, и о полянах, к которым прискакали свирепые завоеватели и принудили платить им дань...
Бравлину долго не спалось. Удивлялся сновидению, которое взбудоражило его. Удивлялся отцу Нестору, который мыслию витал над мирами и открывал их тайну другим малосмысленым и слепым... Бравлин уснул только на рассвете.
Отец же Нестор давно забыл о Бравлине и о своём разговоре с ним. Не во сне, а наяву мыслями своими облетал Каспийско-Сурожское междуморье, реку Чёрную — или Итиль, которую позже славяне назвали Волгой. Реку Дон — а по-хазарски Бузан. И град Саркел — а по-славянски Белую Вежу. Великий торговый град Хазарии. Могущественной Хазарин.
Византийская империя металась в объятиях кочевых варварских племён, искала у Хазарии помощи. Выгнанный с трона и из страны император Юстиниан II убежал к хазарскому кагану Избура Глявана, взяв в жёны его дочь, которую окрестили и назвали Феодора. Юстиниан с помощью кагана возвратил себе цареградский престол. Правда, ненадолго. Его победил — тоже с помощью тех же хазар — соперник Вардан, который короновался и был назван Филиппом.
Волжской Хазарии боялись и арабы, подчинившие себе к тому времени народы Закавказья. Тридцать лет воевал с нею халиф Мерван из рода Омейядов. Он поднялся со своими войсками до самого стольного града Итиля — погромил кагана, заставил его со своим родом поклониться пророку Магомету и Корану. Но лишь только рати Мервана оставили Хазарию, каган отбросил навязанную ему веру победителей. Арабское господство в Хазарии окончилось. Хазары вновь заступили ворота Кавказа завоевателям-арабам. Они оттягивали на себя удары арабских мечей от христианской Византии. Империя благодаря этому выстояла от натиска арабских племён.
Благодарный за это император Лев Исавр в лето 732 от рождения Христа женил своего сына Капрон има на дочери кагана Чичак. Их сын — Лев IV Хазарин — пять лет управлял империей.
Тогда арабы решили лукавством подчинить себе Хазарию, чтобы оторвать её от союза с Византией. Халиф Мансур приказа! своему подвластному правителю Армении Язиду взять себе в жёны дочь кагана хазарского — Ханум. Она прибыла к своему жениху с огромным и богатым караваном. Десять возов имели кибитки с дверцами, сделанными из золота, а в середине были устланы чёрными соболями. Двадцать других возов Ханум были нагружены золотом и серебром... Язид получил в приданое сто тысяч дирхем, четыре тысячи кобылиц с жеребятами, тысячу мулов, одиннадцать тысяч верблюдов, десять тысяч овец...
Богат хазарский каган! Не исчислить его богатств... Оба мира — христианский и магометанский — старались пригреть у себя воинственных кочевников. Чтобы потом перехватить их богатые земли и загрести себе их добро. Отцы проповедники христианской веры и муллы-сарацины старались изо всех сил. Немало людей высвятили в свою веру — готов таврийских, жителей больших приморских городов. Но правители-каганы и вожди кочевых племён держались веры своих предков. Не хотели признать над собой ничьего верховенства, которое им навязывали через веру.
Однако это верховенство приползло тихо. Приползло от иудейских общин, которые жили и разрастались в торговых городах Прикавказья и Причерноморья.
На протяжении веков сюда сбегались гонимые христианами иудеи-торговцы и ремесленники. Ещё Константин Великий, император византийский, возведший христианскую веру в государственную, издал законы против иудеев, которые убивали своих одноплеменников за принятие христианства или насильно обрезали своих челядников, притягивая их к своему богу. Этих иудеев, крепко державшихся своей веры, законы империи жестоко преследовали. Им запрещали браки с христианами, запрещали держать рабов, строить свои храмы — синагоги, иметь много жён. Однако преследуемые обходили эти законы. Потом им запретили занимать государственные и военные должности. Иудеи пошли в торговлю, ремесло, ростовщичество. Они начали выселяться из империи в другие страны и земли. Тех же, которые остались, заставляли всех переходить в христианство. Они противились. Бунтовали. Подбивали языческую тогда Персию и другие страны нападать на империю. И сами брали в руки меч и жестоко расправлялись с христианами-гонителями.
Мятежи иудеев подавляли. Их везде казнили. И снова начиналась волна выселений в окрестные земли и в Хазарию, где не было христиан-гонителей. Остававшихся насильно крестили, особенно же при царе Ираклии и Льве Исавре. Многие крестились лишь для вида, оставаясь в душе сторонниками своей веры. Этих христиан называли жидовствующими и также преследовали и изгоняли из страны. Так на протяжении столетий в Хазарии собралось много иудеев — купцов, ремесленников и ростовщиков.
Здесь их никто не трогал. Их вера свободно процветала рядом с христианской и магометанской, боровшимися за своё преимущество. Тогда и иудеи начали притягивать на свою сторону прозелитов[165], вопреки учению Талмуда, запрещавшего распространять иудейскую религию на инородных. Но чем хуже вера иудеева христианской и магометанской? Она самая древняя из этих вера. Она также имела свои священные письмена, большую писаную историю. И если бы знать хазарская приняла её, явился бы на землю иудейский мессия. Окончились бы переселения иудеев, мытарства из одного полона в другой... Хазария могла бы стать новой землёй обетованной...
Хазарская знать понемногу втягивалась в новую веру. Через браки с богатыми иудеями, освящением детей, родившихся от этих браков, новой верой. Таким был хазарин Булан, прославивший своё имя в войнах с арабами. Мать его была иудейской веры, и жена — Серах, и тесть также принадлежали ей. Поэтому Булан вскоре полностью перешёл в иудейство и принял имя Сабриэль. Поддержанный богатством зажиточных иудейских общин, он стал опорой кагана, который после арабского нашествия искал поддержки у подвластных вельмож. Сын Булана-Сабриэля — бек Обадий первый потеснил кагана-язычника от власти и стал при нём соправителем.
Каган принял иудейскую веру. Все приближённые его и бека Обадия, кто желал быть при власти, стали переходить в новую веру.
Эта вера должна была принести Хазарии независимость от христианского и магометанского мира. Однако эта вера не могла стать опорой правителей в соединении всех племён и народов, бедных и богатых разнородцев. Ибо она не могла освятить их единой любовью к единому Богу-творцу, защитнику их богатств и судье за грехи. Потому что вера эта прокладывала путь в царство Божие не всем, кто брал её в сердце, а лишь одному — избранному — народу. Бог Яхве возлюбил только один народ — иудейский — и только его избрал для господства над другими. Иные племена и народы были отвержены им. Талмуд учил, что тот, кто исповедует его веру из других племён, это «проказа Израиля».
В Хазарии новую веру приняли только избранные — каган, бек-царь и их окружение. Они должны быть возлюблены Богом и избраны им. Орды кочевников, земледельцы-поселяне, рыбаки, гражане-язычники были только гноем, униженными рабами, которые должны были работать для избранных.
Новая вера ещё больше разъединила Хазарию. Начались многолетние усобицы и войны за власть. А кочевые орды печенегов, угров-мадьяр и других племён, нападавших с востока, терзали Хазарский каганат. С запада же теснила его Киевская Русь, выросшая в Поднепровье... И никто не мог остановить межусобиц и войн — между беками и тарханами-вельможами Хазарии, которые сами наводили кочевников в свои земли.
Население почти всё было перебито. Брат Обадия Ханукка перехватил власть в свои руки и опёрся на армию, набранную из магометан. Начались гонения на христиан. Византийский патриарх Фотий посылает для защиты своих единоверцев проповедников Константина-Кирилла и его брата Мефодия[166].
Они освободили из плена многих христиан и дали им в руки своё оружие — слово Божье для проповеди своей веры. Силы Хазарии таяли. Она отбивалась от печенегов и угров, а потом и Византия подняла против неё соседние племена — аланов-ясов. Теперь Хазария стала ер не нужна в борьбе с арабами. Новая держава расправляла плечи на Поднепровье — Русь... Нужно было её теперь остерегаться больше, чем арабов.
О Руси заговорили в странах Закавказья и во всём христианском мире после похода русичей на Цареград в лето 866-е[167]. Это тогда патриарх Фотий злобствовал: «Народ неименитый, народ ничтожный, народ, который стоит на уровне рабов...»
И это сказано после того, как наследники Кия — князья Дир и Аскольд — двумястами кораблями обложили Константинополь...
Арабский хронист Масуди с удовлетворением записал: «Первый из славянских царей есть царь Дира, он владеет обширными градами и многими населёнными краями; мусульманские купцы прибывают в стольный град его державы с разным товаром...»
Когда Нестор закрыл хронику Масуди, начало светать. Если он сейчас тронется в путь, то к заутрене может поспеть в обитель...
Тихо раскрыл дверь светлицы. Перед его порогом спал отрок, которого ещё с вечера старый Ян прислал Нестору для прислуживания. Нестор осторожно переступил его, сошёл со ступенек, направился к воротам. А Бравлин небось ещё спит. Не ведает того, что его давний предок, князь Бравлин из Новгорода, когда-то водил на ромеев воинственные славянские дружины... Спи, брат, в неведении. Ибо так слаще сны. Может, потому и спит народ русский, что не ведает о себе? О своём минувшем?.. Кто же отнял у него эти знания?..
Из привратной башенки слышалось размеренное сопение Бравлина. Блаженны сны у тех, кому тьма — свет!.. Блажен тот, кому не дано вкусить познание...
Ещё пахло ночью. Истомой. Сном. Стольный Киев тонул в рассветной мгле.
Отец Нестор убыстрил шаги.
Спустился кривой улочкой вблизи Михайловского монастыря, затем направился к Лядским воротам, выведшим его на Перевесище, и через дубовый лес двинулся к печерским кручам...
В Печерской обители ударили в колокол. Звали к заутрене.
Нестор переписал в свитки то, что рассказали ему старые книги о славянских племенах. Одни из них, написал, сидели по озеру Ильмень — они платили дань варягам из заморья вместе с кривичами полоцкими и смоленскими, чудью[168] и весью[169]. Хазары же брали дань с полян, северян и вятичей. По беле[170] и выверке[171] от дыма. И ещё брали, сообщает арабская хроника, мех соболей, горностаев, сусликов, ласок, куниц, лисиц, бобров, зайцев, коз; ещё брали свечи, стрелы, кору белого тополя, высокие шапки, рыбий клей, рыбий зуб, касторовое масло, амбру, конские шкуры, мёд, орехи, соколов, мечи, кольчуги, берёзовую кору, рабов, баранов, коров... Всего не перечесть!
Но гордые потомки Кия недолго платили дань свирепым хазарам. Пишет старый летописец: «Сдумали поляне думу и дали хазарам в дань меч от дыма. И понесли хазары ко князю своему и старейшинам, реша им: «Се нашли новую дань». Те спросили у них: «Откуда?» Они же реша: «В лесе, на горах, над рекою Днепровскою». Они же реша: «Что суть дали?» Они же показали меч. И реша старцы хазарские: «Не добра дань, княже! Мы добыли её оружьем острым с одной стороны — саблями, а у них оружие обоюдоостро — меч. Си будут мати дань и с нас и с иных сторон».
«И сбылось сказанное ими, ибо не по своей воле говорили, но от Божья повеленья», — вывел дальше Нестор.
Реки крови славянской пролились, пока племена их сбросили ярмо хазарское. Сначала князь Олег[172], который подчинил себе Киев и полян, освободил северян и радимичей от дани хазарской. А после того как он послал на Цареград две тысячи лодий, хазарские каганы убоялись биться с Русью и из-за этого страха пропускали дружины русичей и варяг через свои земли в Каспийское море, и они нападали на Гилян, Табаристан, Азербайджан, Ширван. Дружины русичей захватили Таманские земли с хазарским городом Самкерц. Правда, ненадолго.
Хазары же продолжали нападать на русские земли и на дружины. Каган — царь хазарский Иосиф хвастался в письме к своему единоверцу в Испании — Хасдая ибн-Шафрута: «Если бы я оставил русичей в покое хотя бы на один час, они бы уничтожили измаильтян до Багдада».
Но русичи, уже во главе с князем Святославом, освободили от хазарской дани вятичей и начали подбираться к Хазарии. Обоюдоострые мечи русские наконец посекли головы хазарскому змию.
Записали древние арабские хронисты: «Русы разрушили много городов, пограбили всё, что принадлежало людям хазарским, булгарским, буртасским на речке Итиль. Русы овладели этой страной, и жители града Итиль[173] искали спасения на острове Баб-ал-Абваба и укрепились на нём, а некоторые из них в страхе поселились на острове Сия-Кух[174]».
Нестор написал в своей летописи кратко: «В лето 6473[175]. Идёт Святослав на хазары; услышав сие, хазары вышли навстречу во главе со своим каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар и столицу их Белую Вежу взял. И ясы победил и косогов...»
Победил, свалил когда-то могущественную Хазарию великий Святослав. Сбылось пророчество старых хазарских мудрецов. А может, сбылись надежды Полянских мужей...
С тех пор исчезла Хазария как держава. Её племена разбежались, рассеялись, признали власть сильнейших соседей. А в Киеве с тех пор за Ярославовым валом возникла слобода, где стали селиться богатые купцы — хазары и иудеи. Её называли Жидовской слободой. Позже стали появляться здесь и мелкие купцы и ремесленники, и совершенно бедные, ободранные, желающие во что бы то ни стало разбогатеть. Среди них ещё жила память о потерянной земле обетованной — Хазарии, и они мечтали здесь возобновить свои утраченные привилегии. И начали плестись паутины интриг, заговоров вокруг скудоумных велеможных бояр киевских, продают народ в неволю, гонят холопов к половцам, в Византию, богатеют и своим богатством покупают власть князя Святополка и его жадных приспешников.
Переписал Нестор известия о Хазарии и задумался. Старый блудливый язычник Владимир оказался более предусмотрительным, нежели его наследник, нынешний Святополк, который доверился купцам. Князь Владимир довершил дело отца своего Святослава — ходил походами на хазар, булгар волжских, которые к тому времени перешли в мусульманство, ища поддержки у них, и опирались на помощь Хорезмского халифата.
От тех времён к киевским князьям перешла и Тмутараканская земля, и Белая Вежа, или город Саркел, на Дону. Скоро все горожане разорённых хазарских городов переселились в Тмутаракань, Киев и другие города Руси; многие ушли в города Кавказа.
Так окончательно растаяла Хазария. Простодушная доверчивость её правителей погубила эту державу. Ибо не сумели укрепить её новой верой или своими давними обычаями...
Потому он, старый, немощный черноризец, будет сидеть в своей келии до рассвета, будет подавлять в себе собственную боль и личную обиду на неразумную и завистливую свою братию, дабы несмысленым и слепым душой внушать веру в свою мощь, в своё призвание. Дабы посеять в заснувших душах познание своего великого прошлого и гордость за него. Аще кто ведает пройденное и бережёт в сердце своём свои, а не чужие заповеди, идёт без страха навстречу грядущему. Храните, чада, яко зеницу ока, дело великого Кия. И тогда Господь всевластный сохранит вас и род ваш от погибели...
Часть седьмая ВЕЖИ ПОЛОВЕЦКИЕ
Великий князь Святополк, будучи слепым душой и недалёким, не мог даже предположить, что властвованье над людьми, если оно попадает в руки человека чванливого, но ничтожного, опустошает и ожесточает сердце. И если вовремя не остановиться, это опустошение приведёт человека на стезю злодеяния.
Князь Святополк, получив власть из рук и по воле зажиточных мужей киевских и монастырских владык, вцепился в неё обеими руками и нынче боялся лишь одного — потерять её. Потому готов был предать огню и мечу и землю, и свой народ, близких и дальних родичей, льстивых или верных думцев своих, если подозревал в них неудовольствие либо тень заговора. Однако делать это не отваживался — слишком жалкая и трусливая душа пребывала в его узкогрудом худосочном теле. Поэтому он всех покупал. Сыпал серебром, раздавал земли и места. Одних щедро, дабы защищали его жизнь своими мечами, других — дабы сидели тихо по своим углам.
Деньги... деньги... сколько серебра было нужно Святополку! Всё новые и новые обложения горожан придумывал он вместе со своими родственничками. Слишком уж много жадных рук тянулось к его золотому столу! Слишком уж много холопствовали, ползая перед ним. И в то же время эти ползающие были ежеминутно готовы пустить ему стрелу под ребро, если бы он подал в протянутую руку мало серебра.
С некоторых пор Святополка преследовал липкий страх — страх потерять власть и упасть с вышины, где денно и нощно курили ему фимиам, на грешную землю.
Чем дольше сидел Святополк в Киеве, тем больший страх — холодный, мерзкий — овладевал им. От этого страха в сердце князя рождались злоба, жестокость, страх затемнял его и без того далеко не светлый разум. Он бросался от одной крайности к другой — и менее всего думал о людском суждении о себе или о приговоре будущего.
Жил единственным — жаждой властвования над другими. Чувствовал, что оно возвышает его, ничтожного и жалкого, над такими, как он, и главное — даже над самыми достойными. Познал ту истину, что властвование делает его недосягаемым и неуязвимым.
Но что же история?
Историю потом напишут так, как будет подсказано. Об сём князь Святополк знал наверняка из древних книг мудрых гречинов и иных философов. Всё на свете меняется, исчезает бесследно, не оставляя даже памяти, — и богатство, и сила, и красота... Но слава — остаётся! Она вечна, как, впрочем, и позор. Однако тем, кто сверху, легко обойти позор и оседлать кентавра славы... Потому-то нужно делать всё, чтобы никто его не выбил из этого высокого седла, и без оглядки мчаться вперёд, сколько есть силы и духа... Потому-то и нужно быть последовательно жестоким со всеми, кто мешает удержаться у власти, или со всем, что напоминает его собственную ничтожность.
Всегда при этих размышлениях Святополку приходил на ум Владимир Мономах. Хотя и был он далеко от Киева, но одним своим существованием напоминал великому князю его бескрылость. Напоминал своим упрямым молчанием. Крепкими державными руками, которыми сдерживал половецкие орды и собирал вокруг себя младших князей, он указывал, каким должен быть настоящий князь. Даже таких своевольцев, как Олег Черниговский Гориславич, заставил целовать крест на мир и подчинение...
Владимир Мономах был первейшим Святополчьим тайным врагом.
Князь Святополк впадал в отчаяние. Заставить этого разбойника, этого татя Гориславича, целовать крест на верность ему, киевскому князю!.. Понимал, что сие глубокое унижение для державца Руси — Святополка Изяславича! Как и то, что многие младшие русские князья сидели тихо по своим отчинам, боясь Мономаха, а не киевского князя... Как и то, что все они на зов Мономаха мгновенно ополчались и шли против Степи половецкой... оборонять прежде всего землю Мономаха — Переяславщину!..
Выходит, что Владимир Мономах, сидящий на переяславской окраине, подчинил себе всех меньших князей, княжат и сыновцев. Позови только — и они пойдут и супротив... Святополка!..
Получается, что Святополк сидит в Киеве из милости Мономашьей... Правда, киевские бояре остерегаются пустить переяславского князя через Золотые ворота. Ибо знают: он им сразу подсечёт своевольство их необузданное! Но когда подопрёт беда?..
Мрачные думы раздирали душу Святополка. Поэтому всё ему было не так. Был груб с челядниками, покрикивал на дворню, злобно огрызался на знаки внимания и нежность жены-половчанки. Никому не было покоя, никто не мог угодить ему, ни к кому в сердце его не было ни капли добра или нежности.
В княжьем тереме говорили вполголоса, ходили оглядываясь, проскальзывали, боясь попасть ему на глаза. Только с боярами Святополк старался как-то держаться, дабы не спугнуть киевских можцев, ведь силой и милостью их держался.
Из Любеча, куда съезжались князья по зову Мономаха для замирения, Святополк возвращался в Киев не один. Пригласил к себе Давида Игоревича, сына одного из последних недержавных Ярославичей — Игоря, который держал Волынские отчины. Пригласил ещё младших сыновцев — Василька, князя Теребовлянского[176], и брата его Володаря, князя Перемышльского. Пусть знает Мономах, что не все князья сторонятся Святополка, что и к нему благоволят многие.
Ехали князья из Любеча, где целовали крест на мир и любовь. Но в сердце каждого вынашивалась зависть к своему брату-соседу, который казался удачливее, могущественнее. Плелись новые сети, которыми желали опутать друг друга.
Заканчивался октябрь месяц лета 6605-го от сотворения мира, или 1097-й от рождения Христа.
Князья уже не подгоняли своих лошадей. В задумчивости медленно покачивались в сёдлах. Не видели золотой осени, обступавшей их черниговскими лесами. Не замечали, какой дрожащей синей дымкой светилась даль; как тонули в сизом тумане, замешенном на вяжущих запахах земли и умирающего зелья, багряно-золотистые холмы. Прозрачно-синие дымчатые столпы просвечивались косыми лучами низкого солнца и, казалось, подпирали голубое небо и открывали врата в земной рай. Но люди всегда бежали от рая земного и искали рая невиданного — небесного.
Осень прощально дышала таинственностью и настороженностью.
Бесконечная, как надежда, дорога; шуршанье песка под копытами и притихший в тревожном ожидании каких-то перемен мир... Всё располагало к молчанию, всё обостряло думы.
Святополк оглядывался на своих гостей. О чём молчат Василько и Володарь? Почему так особняком едет Давид? Что так хмурится и осуждающе поглядывает на него, киевского князя?
Лошади Давида и Святополка сравнялись и идут бок о бок. Но оба продолжают молчать. И киевский князь начинает беспокойно оглядываться по сторонам, а Давид Игоревич вытягивает вперёд шею, поводит носом, яко пёс гончий, учуявший опасность. Будто опасность эта за его плечами...
Красавец Василько Теребовлянский — правнук Ярославов... Это о нём молвили боярские мужи, что он насмехается над Святополком. Сказывали, что хочет собрать торков, берендеев, печенегов и повоевать землю половецкую, и землю лядскую, и землю дунайских булгар и стать первым князем. Молод и силён Василько! Подомнёт он под себя Давида и земли его себе присвоит. А что намерен делать с ним державец киевский? Эхма, берегись, Святополче, и тебе синеглазый Василько укоротит руки! Сначала, конечно, покончит с ним, Давидом...
Святополк читает в глазах старого Давида какое-то предупреждение. Небольшие округлые глазки князя в страхе мечутся под короткими рыжими ресницами.
Давид Игоревич шевелит рыжей бородой в кривой усмешке. Он знает, чего боится сей никчёмный державец киевский.
Начинает разговор издалека:
— А знаешь, князь, кто убил твоего меньшего брата Ярополка?
Святополк вздрогнул. Кто-то да убил... Кто-то неизвестный... А потом убежал. На санях. Ночью. Когда же это было? Лет одиннадцать назад. На Волыни всё это было... под Владимиром. Да кто нынче об этом вспоминает?
— Я знаю, кто убил твоего братца, — многозначительно хлопает короткими ресницами Давид. — Тот убийца замышляет теперь и супротив тебя. С Мономахом заодно.
— Кто?.. Кто сё?.. — пугается Святополк и от догадки втягивает голову в плечи.
Давид хмыкнул. Хлестнул лошадь. А князь киевский пусть потерпит... больше страха наберётся. Послушнее будет. Доедут до Киева — там и скажет. А пока что Давиду нужно всё обдумать, чтобы руками великого князя убрать молодого и гордого Василька. Ибо что будет с ним, старым Давидом, Игоревым сыном, когда и вправду Василько совершит задуманное? Володарь станет ему в помощь. Тогда уж ему, Давиду, мелкому и забытому Богом и людьми князьку, не усидеть в своей отчине!
Только за Ярославовым валом Святополк с облегчением вздохнул.
— Давиде, так о ком это ты молвил?
Давид почесал длинным ногтем мизинца кончик носа и дохнул ему в лицо гнилым духом изо рта.
— Про Василька я... Он и супротив тебя, и супротив меня намыслил. Вот и помышляй о своей голове.
— А не от зависти молвишь? А?
Давид ухмыльнулся:
— Или не видишь, что в Любече Василько к Мономаху всё клонился. И дорогой отстали с Владимиром. Где он?
— Да я ведь... позволил ему пойти на Выдубич, там постоем стать, а обоз в Руднице оставить.
— Дозволил!.. — широкое лицо Давида стало багровым. — А почто он туды рвался?
— Молвил, святому Михаилу поклониться.
— Это всё ложь. Недоброе замыслил Василько. Зови ближе к себе. На именины зови, пусть сидит пред твоими очами. Ибо, повторяю, зло у него на уме...
Сразу же по прибытии в Киев Святополк послал в Выдубич. Звать Василька ко княжьему столу. Но князь Теребовлянский и в самом деле не имел уважения в своём сердце к великому князю. Василько ответил, что уже собрался домой, что торопится, ибо ляхи должны напасть на его землю — пришли плохие вести из дома...
Святополк верил и не верил. Но Давид Игоревич колол глазками и словами:
— Уже и в Киеве твоём тебя не слушается. Когда же в свою волость пойдёт — начнёт войну с тобой, а не с ляхами. Заберёт твои города — Туров, Пинск и иные. Призови своей властью сюда и отдай его мне в руки.
Лицо Святополка хмурилось в нерешительности. Давид что-то замышлял против него или Василька? Старый Давид хитростен зело! Последний из внуков Ярослава — самый меньший и самый слабый князёк... Но и Василько... Почему не пришёл на его призыв? Наверное, всё же задумал злое... Пусть берёт его себе Давид, коль хочет! А он, киевский князь, здесь ни при чём...
Святополк быстро зашагал своим неуверенным танцующим шагом к дверям светлицы. Приоткрыл их, кого-то стукнул ими, кто-то даже по ступенькам затарахтел.
— Василий, се ты?
— Княже, шёл к тебе, хотел тебе сказать...
— Что хотел сказать? Говори.
Гордята болезненно сморщил лицо, растирал кулаком зашибленный затылок.
— Ху, рёбра так болят... Ху... даже в глазах темно... Всё выскочило из головы. Во так — дверью-то...
— Га-га-га!.. — развеселился князь. — А дверь ведь дубовая да ещё железом кованная! Чтобы не приставлял ухо куда не следует... Га-га-га! Ну, минет... А нынче беги-ка к Выдубичу, зови князя Василька Теребовлянского в мой терем... Скажи, великий князь просит его к себе на завтрак. Не хочет оставаться до моих именин, пусть нынче меня приветствует. Запомнил мои слова, Василий?
Гордята-Василий пошёл к конюшне. Дорогой растирал бока и затылок, щедро поругиваясь. Проклинал плетущих интриги, замышляющих какое-то очередное зло, проклинал окружающий мир, где человеку нет радости, ибо вокруг — лесть и обман. И вот у него уже высокие лета, а счастья нигде не нашёл на земле. Был на побегушках у боярина Яна Вышатича, пока не понял его расчётливой жестокости; искал счастья-доли среди простых людей, пока его не охолонил подольский резоимец вместе с седой Килькой; желал стать здателем-строителем, чтобы дарить людям белые храмы. Но этот дар его сердца никто не захотел принять — люди боялись красоты и всего необычного... Потому что разучились парить мыслию в поднебесье!.. Ничего не было у Гордяты. Даже красавицы Милеи... Что осталось ему на этом свете? Снова припасть к ногам Святополка и молить, чтобы взял его своим осторожником? Князь, спасибо ему, имел крепкую память, вспомнил Янова приёмыша — Василия-Гордяту. И боярин Путята на радостях, что уже нет старшего брата Яна и ему перешло всё его богатство и земли, милостиво принял его служить при дворе.
— Служи верно, достанешь милость князя и сельцо какое-нибудь.
Гордята лишь улыбнулся тогда — дослужится ли до этой чести?
С этими невесёлыми воспоминаниями Гордята проделал путь до Выдубечского монастыря. Там суетился народ — князь собрался домой. Но как же приглашение Святополка? И ещё — чуял он душой — за этим приглашением таится какой-то заговор. Он не расслышал... Скорее догадывался... Не сказать ли? Предупредить? Однако тем самым он будто бы предаёт своего князя. И промолчать об опасности нечестно.
Гордята неуверенно переминался с ноги на ногу перед внимательным и удивлённым взглядом Василька. В самом деле, что-то слишком настойчив Святополк в своём приглашении, и потом... этот Давид...
— Хочешь что-то добавить от себя? — тихо спросил Василько. — Говори. Я никому ни слова.
— Хотел бы... да...
— Не бойся. Здесь рядом никого нет.
— А... где твой брат — Володарь?
— С утра двинулся к Перемышлю.
— Ты один остался?
— Сам-один.
Гордята неуверенно развёл руками. Мол, что же говорить после этого! Эти два князя-злодея — на одного... На такого красивого, статного, синеглазого... Исподтишка желают расправиться. Ибо если честно мечи скрестить, сей Василько одолел бы их обоих сразу!
— Княже!.. — прошептал Гордята. — От себя тебе говорю — не ходи ко князю на двор. Будешь убит!
Князь Теребовлянский даже не удивился. Только потемнели синие очи.
— Нынче, в Любече... целовали крест, молвили: аше кто на кого встанет — то на татя буде крест и все мы.
— Правду тебе говорю, князь. Слышал сам. Не ходи.
Василько опустил голову. Широкой ладонью стал разглаживать тёмную, клином, бородку.
— Да будет воля Бога. Коль Господь желает меня уберечь от зла, убережёт. Коль желает наказать за грехи — везде найдёт и накажет.
— Не нужно... полагаться на волю Бога... Седлай лошадей — и побыстрее беги, княже. Может, убережёшься... Я с тобой поеду. Буду верно служить тебе. А когда-нибудь дашь мне землицы аль сельцо. Не давайся лукавым в руки. Погубят!
Василько во все глаза глядел на княжьего посла. Говорит будто искренне, но... желает получить землю... аль сельцо... Что же, Святополк такой скаредный, что не дал ему это сельцо? А кабы дал? Сообщил бы о заговоре?
Эхма, души людские нынче покупают за блага и щедро продают их. Как и славу рода своего... Как и землю, и волю свою. И уж холуи научились торговать собой. Кто знает, кому они искренне служат, эти ловцы земель и чинов!..
Не знал этого Василько Теребовлянский. Ибо хлопоты слуг не брал к сердцу своему, да и хлопоты простых людей были ему чужды. Замахнулся на великое и гнался только за великим — уберечь землю Русскую от разорения и плача. А мелкое и ничтожное, думал, оно не пристанет к большой и чистой душе. Был ещё молод Василько Теребовлянский и не знал, что это мелкое, это ничтожное чаще всего подталкивает и уничтожает большие намерения, большие страсти, чистые и великие деяния... В его сердце жила ещё ничем не подточенная вера в добро...
— Всё же... поеду! — тряхнул русыми кудрями Василько Теребовлянский. — Скажи, буду после заутрени.
Гордята упал на колени:
— Верь моему слову!
В глазах Василька метнулась шальная решимость. Подошёл к столу, наугад открыл святую книгу:
— «Что было, то и будет; и что творилось, то и будет твориться, и нет ничего нового под солнцем...» Нет...
Конечно, и люди никогда не перестанут быть подлыми и жалкими... Да будет что будет! Бежать? Нет, он не приучен убегать от противников. У него достаточно мужества, чтобы идти к врагу с открытым лицом, с отважным сердцем, с поднятым мечом. Но здесь... меч не нужен. Его зовут в гости. Поэтому он оставит свой меч на сем столе, под иконой. Господь Бог увидит, что он едет к киевскому княжьему двору лишь с добром в сердце.
— Иди. Но... подожди... Как зовут-то тебя?
— Гордята. А в христианстве я Василий.
— Брат мой, Василий, иди...
Гордята выбежал на подворье. Ну зачем он... ну зачем сказал эти глупые слова о сельце? Из-за них, наверное, Васильке не поверил ему! Конечно, верность человеческая не продаётся...
Василько прибыл к Святополку после заутрени. Как и обещал. Великий князь вдруг растерялся. Может, ничего не намыслил против него Ростиславич, может, сие козни Давида... Но где же Давид? Бросился к двери.
— Позвать Давида? — спросил Гордята.
— А? Зови!
И откуда дворские знают, что нужно в эту минуту их господину?
Давид шагнул в светлицу почти одновременно с Васильком. У Святополка дрожала челюсть. Давид остолбенело переводил взгляд с одного на другого.
Гордята врос спиной в стену.
— Прибыл, княже, на твой зов, — поклонился Василько Святополку.
Святополк раскрыл рот, но слов не было. От волнения беспомощно хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на сушу.
— Оставайся, Василько, на именины князя. Недолго ждать — какую-то неделю, — обратился к нему Давид.
— Рад был бы, да уж повозы свои послал вперёд. Неспокойно на пограничье от лядских воевод. Торопиться надобно.
— Тогда позавтракай с нами. Вот я позову... Пусть принесут сюда! — Святополк одним махом подскочил к двери и исчез за ней.
Давид тоже, вдруг что-то будто вспомнив, бросился к двери.
Василько удивился. Звали к столу, а стола и нет. Не надеялись, что приедет?
Оглянулся. Вот эта палата, которую поставил его великий прадед Ярослав. Высокий потолок, высокие, вверху круглые окна, яко в цареградских дворцах, молвят; не затянутые тонкой телячьей кожей, а заложенные квадрами из прозрачных, как бы смальтовых, пластин — зелёных, синих, жёлтых, красных... Сквозь них пробивается сноп ярких лучей низкого осеннего солнца. Радужные отблески отсвечиваются на золотых и серебряных чашах, кружках, лагвицах, тарелях, выстроившихся в настенных ларях. Цветистые дорожки на выскобленных до белизны досках пола. И вот здесь, в этой удивительной палате, за этим огромным и длинным столом, застеленным тяжёлым золототканым красным шёлком с длинной бахромой, сидели великие князья Русской земли. Вот в эту шкатулку, вырезанную из красного дерева, складывали они пергамены со своими именами и своей славой — Игорь, Святослав, Владимир, Ярослав... Наверное, сначала сидели они на простых дубовых скамьях. А вот их наследник, Святополк, восседает на стуле, который доселе никто не видывал. Бывал князь Василько и у угров, и у ляхов, ходил и к чехам, а такого и там не встречал.
Видно, кто-то из Ярославичей приобрёл у греков-ромеев этот стулец. А может, русские мастера вырезали. Стоит он на головах крутолобых львов, положивших морды на землю, а глазищами глядящих на него, князя Теребовлянского. Под локти и под спину они подставляют свои вытянутые тела и закрученные полукружьями хвосты.
Василько тихо подошёл к стульцу, осторожно сел. Опёрся локтями о ручки кресла, плечами и спиной прильнул к спинке. Уютно и мягко. И всё отсюда по-иному смотрится. Под стенами два ряда скамеек и столы, застеленные пурпурным материалом. Для пирования думцев и старших дружинников. На столах — тусклые подсвечники из серебра, лагвицы с ромейскими винами, кувшины с русскими медами. Кажется, вот-вот откроется дверь — и в палату ввалится шумная толпа бояр. И он, князь Теребовлянский, властно поднимет голову, и все мгновенно умолкнут. «Тихо! тихо!.. Князь будет молвити!» А он им скажет: «Хватит править Святополку — пусть иной попробует державить в Русской земле!» — «Хощем тебя! — крикнут бояре и дружинники. — Ты имеешь право по роду управлять нами! Твой дед — Владимир, ослеплённый ромеями, сын великого Ярослава! Твой отец Ростислав, сын первенца Ярославова... Старший внук его! Знаем, что Владимир-слепец и сын его Ростислав рано померли, потому старшим оказался Изяслав... Но теперь — властвуй ты, Василько! Садись на золотой стол прадеда своего!..»
В голову Васильку ударила горячая волна крови. Перед глазами расплылись, закружились радужные круги. Казалось, что он плывёт по светлице и дальше — над всей землёй. А кто-то шепчет ему на ухо: «Сие, Василько, твоя земля, твои волости. Властвуй над ними справедливо и вечно с родом своим...»
Василько был ещё весь в радужных мечтах, когда услышал, как кто-то крепко схватил его за ноги и за локти — будто железными клещами. А голова его вдруг оказалась в кожаном мешке...
Через мгновение Василька уже стащили с княжеского кресла на пол, а потом поволокли по высоким ступеням терема...
Гордята-Василий направился вслед за челядинами Давида и Святополка в Белгород. Поскакал туда по своей воле, ибо терзался, вспоминая свои недостойные слова о сельце, из-за которых князь Василько не поверил ему. Терзался и ломал голову над тем, как освободить несчастного Василька из цепких рук Святополчьих конюхов. Везут они пленника за Киев. Что надумали сотворить с ним?
Ещё когда услышал о полоне Василька, прибежал к печерским монахам. Молил игумена и черноризцев-заступников остановить занесённую руку над молодым князем. Монахи не слушали его, отводили взгляд, отворачивались, как от бесноватого. Их дело, мол, молитва. А владыка Феоктист сурово бросил: «На всё Божья воля, чадо!»
Божья воля ныне господствует над всем. Злая людская сила опирается на волю Божью, а добрая — прячется где-то по углам, й не доищешься её. Почему это так? Когда-то было иначе. Когда-то и печерские монахи, как эти вои-христиане, бились словом своим за правду и добро. Нынче же — каждый о себе хлопочет. Некому остановить зло. Толпе надоели ежедневные ссоры князей и распри. Чёрный люд обессилел в борьбе за кусок хлеба, гнётся под тяжёлым ярмом. Молчит, будто онемел, бьётся в поте лица на непосильной работе. Уж когда совсем допекут его, тогда разогнётся в полный рост и размахнёт богатырской рукой с мечом.
Но Гордяте не усидеть спокойно. Не такого характера он, Гордята, не холуйского. Где-то, наверное от матери Гайки, перешла к нему несгибаемая гордость и непобедимое желание правды... И он твёрдо знает, что без этой правды ему не жить... Не может терпеть молча, когда на его глазах негодяи уничтожают лучших из лучших. Вот и несётся сейчас на коне этим лесистым белгородским шляхом осторожник Святополка, ибо жива в нём ещё душа. Не убита в нём человечность и доброта, как не убита мечта о величественном диво-храме, который когда-то нарисовала ему на песке кареглазая Княжья Рута и который ему так хотелось воздвигнуть для людей.
Ехал этой нестерпимо длинной дорогой Гордята и считал свои потерянные годы, свои отпетые песни. Лёгкой тенью прошла в них румянолицая Милея. Мелькнула как огонёк, а в душе осталась горькая жалость:
Как во поле берёза стояла, Кудрявая стояла. Кто мимо проходит — На ней ветку сломит... Горе сиротине — куда голову приклонит...Кто пел эту песню? Кажется, ещё мать... или бабка Нега... Они слились в его оставшихся с детства неясных воспоминаниях во что-то единое — далёкое, смутное, родное. Эта песня всплывала каждый раз, когда он вспоминал своё возвращение к Бестужам из монастыря. «Как во поле берёза стояла...»
...Покинув тогда Печерскую обитель, Гордята не стал искать Руту и её шалаш. Направился к Киеву, к избе старого гончара. Его молча встретила вся семья. Здесь и старый Бестуж сидит, опустив длинные натруженные руки с огромными ладонями на колени; и бабка Святохна, и братья Радко, Кирик, Микула и Брайко.
— А где?.. — Гордята обвёл взглядом убогую горницу — Милеи среди них не было.
Купина, суетившаяся у печки с горшками, сердито стукнула ухватом о пол. Святохна положила ложку на стол. За ней последовали другие. Воцарилась странная тишина.
Гордята стащил с плеча мешок, осторожно положил его на пол, вынул из него новый глиняный храмец и поставил перед ними на стол.
— Сё... ещё сделал... Завтра пойду к Выдубечу или в иной монастырь... — Обвёл всех взглядом и тревожно спросил: — А где же... Милея? — Потом полез рукой за пазуху, вытащил оттуда узелок: — Вот... Немного заработал... медниц каких-то... Сегодня казначей печерский раздавал. Отплатимся немного с резоимцем за ссуду...
Тогда поднял голову старый Бестуж. Тёмное морщинистое лицо его, казалось, ещё потемнело и посуровело с того дня, когда видел его в последний раз. «У гончарной печи старый и помрёт...» — мелькнула мысль.
— Садись к столу, Гордята, — прохрипел слабым голосом Бестуж. — Поужинай с нами. Брайко, подвинься! — сердито махнул он младшему сыну. — А Милеи нет. Нет твоей жены.
Гордята так и застыл с протянутой рукой, на которой лежал узелок с заработанными деньгами. Его губы ещё улыбались, но в глазах промелькнул ужас.
— Она... померла?
— Лучше бы умерла, сынок, нежели так мой род осрамить.
— Что с ней, отец? — застонал Гордята.
Бестуж только махнул рукой.
— Сбежала с княжьим ублюдком Вонкиным. Вот что! — не выдержал Брайко. — Но не убивайся, брат. Будешь с нами жить, как и жил. Жену тебе мы найдём. Мало ли девиц на Подоле?
Гордята, не веря своим ушам, опустился на краешек скамьи. Кирик подвинул к нему свою ложку. Но он не притронулся к ней. Милея... сбежала от него? Да нет же... не может быть. Наверное, её обманули. Наверное, насильно забрали! Но... Бестужи! Ему сами говорят...
Не спалось. Всю ночь вертелся, вздыхал. Зачем ушёл на заработки... бросил её одну... Ради неё ведь и пошёл! Ради долга этого...
Жгло его одинокое ложе. Жгла чернота длинной ночи. И деньги, заработанные у монахов, жгли душу. Усмехнулся, вспомнив слова Брайка: «Не убивайся!» Он и не убивается. Что ему теперь? Вольный как ветер. Никто на свете не ожидает его. Нигде...
Но не останется он жить у добрых Бестужей. Множить их бедность. Пойдёт к монахам печерским обратно. А может, ему вернуться к Святополчьему двору? Скажет, эти три года в полоне был, нынче возвратился. К Мономаху, мол, не захотел, к тебе, князь, торопился. Всё заработанное будет отдавать Бестужам за долг. А дальше, если посчастливится, разживётся на какую-нибудь веретею земли, отдаст её Брайку и его братьям. Он же и без этого проживёт...
Князь Святополк, услышав, что его бывший отрок Василий-Гордята возвратился к нему и не остался у Мономаха, едва не заплакал от радости. Такая преданность была ему в диковину. Есть всё же люди, которые искренне его любят, не за деньги! Есть!..
С тех пор Гордята снова начал служить при князе. Но уже скоро стал кусать себе локти. Дурень ты, дурень, зачем вернулся, вечно на побегушках: Гордята, беги туда, Василий, мчи сюда... Кто он среди людей? Гордята или Василий, человек аль скотина? Никому не интересно — спал ли он, ел ли, есть ли у него мечта иль желание какое. Кто он, справедливый ли, пылкий Гордята или гибкий прислужник Василий?..
Дремучий сосновый бор с тревожно шумящими верхушками густо-зелёных, по-зимнему совсем тёмных сосен, который обступал со всех сторон, вдруг резко оборвался. Неширокая река, перегораживавшая ему путь, мягко отсвечивала червонным золотом заходящего солнца. В этом месте речка делала плавный изгиб вокруг плоского взгорья, обмывая его с двух сторон. На взгорье этом чернел высокий земляной вал, сверху на нём плотно поставлены были срубы ограды. Остро затёсанный верх её отражался в мелких дрожащих волнах. И казалось, что река выставила навстречу всаднику из Киева свои острые чёрные копья.
Обрывистые берега отражались в речке тёмной полосой. Будто разлита была вдоль берега жидкая смола. А речка эта Ирпень. Тихая, спокойно-ленивая летом и осенью. И бурлящая, широководная весной, которая своими водами наполняла огромную чашу посеревшей и высохшей поймы. Весной она, затапливая перелески и кустарники на опушках леса, раздвигала тёмные сосновые боры. Кто и когда дал этой речке это странное и непонятное название — Ирпень? Может, ещё скифы, а может, уже печенеги, или торки, или берендеи прозвали её так, что значит на их степном языке — Гневная? Сколько народов прошло здесь за множество веков? Шли и шли они через поля, леса и речки земли славянской. Временами оставляли им свои названия и где-то в неизвестности исчезали. А речки тихо текли своим руслом. А земля славянская стояла на их берегах, как и испокон веков. Ибо здесь оставались её люди, которые городили грады, строили засеки.
Так и этот град, спрятавшийся за тёмными валами — древний град Белгород. Гордята, переплыв с конём реку, въехал в ворота города и лишь тогда понял, почему он называется Белым. Белостенная каменная церковь посреди града светилась белизной, яко высокая свеча. Светлые, выбеленные белой глиной стены домов под высокими соломенными крышами. И весь он казался белым, приветливым, ясным...
Гордята расспросил, где находится княжий двор, и не удивился, когда увидел, что это был высокий, на подклети белый дом с добротным крыльцом, несколькими ступеньками, ведущими в сенцы, с островерхой, как в тереме, крышей.
Уже темнело.
Быстро привязал к коновязи лошадь, натянул ей на морду сумку с овсом — пусть набирается сил, — а сам начал присматриваться. Во дворе стояла повозка с невыпряженными лошадьми, теми, что везли Василька, челядь Князева наверняка не собиралась здесь долго задерживаться со своим пленником. Длинные конюшни, оборы, медуши, онбары плотно прижимались один к другому своими стенами. В глубине двора стояла небольшая белая избёнка, в которой, наверное, жила дворня. Из её дымохода вился дымок. В небольших окошечках, затянутых прозрачной кожей, мерцал свет.
Дверь от толчка ладони легко и неслышно открылась. И Гордята обомлел: Святополчьи конюхи Изечевич и Дмитро, оба крещёные половцы, возились около связанного Василька. А двое других — их сразу и не признать Гордяте — разворачивали на полу овечьи шкуры. И когда наконец разостлали, Изечевич и Дмитро мгновенно схватили бедного Василька в охапку и повалили наземь. Но князь Василько, как молодой тур, наставил на них свою голову и, извиваясь телом, стал отбиваться от них. Конюхи снова и снова валили его на пол, но он мгновенно подскакивал и дубасил их головой, не жалея себя.
— Почто глазеешь? Помоги-ка! — закричал Гордяте Дмитро.
— Кто сие? — запыхавшись, спросил его другой челядин.
— Княжий осторожник Василий!
Сердце Гордяты оборвалось. Князь Василько услышал его имя и теперь решит, что и он будет над ним издеваться. И он сразу от порога наскочил на Дмитра, отбросил его к стенке, да так, что у него хрустнули кости.
— Ты что?.. — заорал Изечевич.
— А вот что! — Гордята снова разогнался и снова пхнул его ногой. — Не трогай!
Изечевич согнулся крючком.
— Хватайте его... израдца приблудного... — хрипел Изечевич.
На Гордяту навалились два конюха и связали ему за спиной руки. В это время в избу ввалилось четверо новых слуг.
— Берите этого вот... князю Святополку в руки отдадим! — бросили Гордяту в угол.
— А где князь?
— Вона... на полу барахтается... Не хочет лежать.
— Придавите его сверху доской. На грудь кладите.
Гордята с ужасам глядел, как могучую грудь князя Василька придавили толстенной доской, как двое челядинов сели на её концы и начали раскачиваться; как Василько, собрав, наверное, последние силы, изловчился и стряхнул с себя своих мучителей вместе с доской.
— Не трогайте!.. — заорал из угла Гордята. — Кровопийцы проклятые... Окаянные... Чтобы вас псы разодрали!..
— Заткните ему глотку...
Изечевич подбежал к Гордяте, двинул его сапогом в лицо. Из носа Гордяты хлынула кровь, залила ему рот. Он начал отплёвываться, метаться в своём углу, стараясь подняться на ноги и выскользнуть во двор. Изечевич снова стал колотить его ногами, пока Гордята не утих.
Тем временем челядники прижали князя Василька к полу.
А Торчин зажёг от огня в печке сосновую лучину и поднёс её к лицу Василька.
— Сдёрните с него этот мешок.
Челядники, перед тем натянувшие на голову князя мешок, теперь сняли его, отбросили в сторону. Торчин передал горящую лучину в руки Изечевичу. Наклонился к Васильку.
— Ну что, не одолел нас? Так-то... Одному громады не одолеть. Чего глядишь-то? Не узнаешь меня? Гляди, гляди, запоминай. И на огонь гляди. Видишь его в последний раз.
— Что вы хотите делать? Что-о? — завопил Гордята в углу, придя в себя.
— А то, что наш князь нам приказал. Тебе-то что? — обернулся к нему Торчин. — Волю князя исполняем. За это имеем хлеб от него.
— И серебро! Га-га-га! — подхватили вдруг развеселившиеся приспешники Торчина и Изечевича.
— Замолчите, вы! Лучше спросите у князя, какого он рода, — издевался Изечевич.
— Я-то знаю какого, разбойники! Я внук Ярославова сына-первенца Володимира! Того, что на ромеев ходил!.. Имею право по роду быть первым среди князей!.. А вы-то чьи?
— Внук князя-слепца. Вот и будешь его род слепцов продолжать. Вот сие твоё право! — захохотал Дмитро. — Так повелел великий наш князь. И стола киевского тебе вовек не видать.
— Слышишь ли ты сии слова? — обратился князь к связанному Гордяте. — Слушай все... Людям расскажешь.
Отчаянный нечеловеческий крик вдруг оглушил Гордяту, затмил его разум...
Гордята пришёл в себя от холода. Почему-то лежал среди двора, почему-то был не связан. Наверное, его куда-то тащили и бросили. Поднялся на колени. Ноги ныли. Едва мог расправить спину. Побрёл к коновязи. Его конь спокойно хрустел овсом, выбирая остатки со дна сумки. Рядом, где с вечера стоял повоз Василька, было пусто. Куда же подевались Святополчьи палачи? Куда ему, Гордяте, бежать? И бежать ли? Найдёт ли он управу на этих страшных людей? И можно ли защитить человека в этом мире? Вы, звёзды ясные!.. Ты, холодный и равнодушный месяц!.. Вы, облака-тени, с такой важностью плывущие на небе! Где вы, боги неба и земли, почему молча взираете на зло и не остановите мучителей? Иль вы заснули, иль вас тоже купили за золото-серебро? А может, и совсем нет вас?!
Гордята наткнулся на поваленное дерево и сел. Обхватил руками горячую голову. Смотрел на небо, светившееся мерцанием звёзд, смотрел и в тьму ночи. Ощущал свою ничтожность и бессилие в этом беззащитном мире, в этом жестоком мире... Не знал, у кого просить помощи. Кого молить... Единственное знал, что отныне нет ему возврата к убийце Святополку... Всё мог простить, кроме глаз Василька... синих глаз его... Убили Василька... Но куда они дели его тело? Бросили в реку? Или куда-то увезли отсюда, возможно, в Киев, показать своему господину, дабы убедился в услужливости его холуёв?!
И вновь какая-то сила подбросила Гордяту. Люди должны знать об этом зле!.. Они не должны молчать, они должны взять меч справедливости в руки и заступиться за обиженных... Всю жизнь Гордята ищет правду, но найдёт ли её? Может, когда-то под тыном, вот так бродяжничая, и погибнет. Ну что ж... Всё равно — другой дороги у него больше нет...
Белгород ещё спал в рассветной мгле, когда Гордята, отупевший от горя, от своих мыслей, тронулся в путь. Уже за валом города его накрыл густой белый туман, который дымился над Ирпенью и наползал на крутой правый берег. Внизу туман стелился до соснового бора, окутывая его стволы. А вверху над ним уже светлело небо. Вот-вот вспыхнет оно розовым пламенем, и тогда густой туман растает — и откроется Гордяте путь к истине и к новой жизни. Уж в который раз петляла его дорога, приводила и в тихие заводи, и вновь звала вперёд — туда, где преодоление собственных и чужих страстей и невзгод...
Не тот ныне Гордятка, кем был совсем недавно и кем был давным-давно. И уже не Гордята он, а Василий, или Гордята-Василий... Чего больше в нём — этого нового Василия, выученика Яна Вышатича, с заложенными в нём зёрнами честолюбия и гордости, или того чистого и честного Гордяты, которого вскормила его мать — гордая Гайка?
«Была у воробышка да жена молодушка. Сядет на веточку, прядёт на сорочку...» И сейчас ему слышится этот тихий, мягкий голос. Но лица не представляет — лишь мелькают спицы в колесе прялки... И куделя шевелится от прикосновения пальцев и уменьшается, уменьшается... Зато бабка Нега, седая, сгорбленная, представала куда более зримо. Протягивала ему сморщенной рукой кусок пряжмы, била поклоны и Световиду, и Богоматери на иконе. Или дико ухала в камышах у Десны. Сумасшедшая... страшная... Были ещё от детства у него Килька да воевода Ян. Эти ничего не дали ему и никому не молились за него. Чего-то всё требовали. Только и осталось у Гордяты в жизни, что песни матери да доброта бабки Неги. Да ещё любовь к красоте рукотворной, которую подарили ему подольские гончары... Отныне Гордята глубоко запрячет свою душу от людей и никому, ни за что не откроется! Это его единственное богатство — душа. И в ней пусть всегда живёт песня, доброта и любовь к красоте...
Откуда-то слышится ему лукавый смешок: «А для кого сбережёшь, Гордята, душу свою?» Стиснул в кулаке повод. Кому-то да нужна будет его чистая, непродажная душа и совесть. Может, для Бестужей, а может, для тех, кто придёт потом, кто ещё не родился. Но, может, вот для той смуглой дивчины, которую видел на Печёрах... Где-то затерялась она в сутолоке жизни... Как и он теперь...
Оглянулся. И удивился. За размышлениями своими и воспоминаниями не заметил, как минул Ирпенские леса, пущи, как начал переплывать с конём левый берег Днепра. Уже где-то под Киевом. Далеко позади оставил Труханов остров. Отсюда виднелась ограда Городца, который вырос на противоположной стороне Днепра против Киева-града. Здесь и начиналась Переяславская земля.
И вновь удивился. Неужели он направляется к Владимиру Мономаху? Будто и не собирался... И даже имени его не вспомнил. Но, кажется, в глубине души, проклиная окаянного Святополка, само собой созрело ещё не осмысленное решение — бежать к супротивнику его. К Мономаху.
Ступив на берег, Гордята будто бы стряхнул с себя странное оцепенение или полусна, или полубреда. Над землёй низко ползли тяжёлые облака. Высохший и посеревший луг, который вдали перерезала чёрная полоса леса, казался пустым и чужим от кружащихся стай воронья... Думалось теперь о другом. Созревало иное решение. Он едет к Мономаху не просто пересидеть или стать на службу во дворе этого могущественного князя, чтобы выслужить у него веретею земли. Нет, Гордята должен поднять переяславского князя на священную месть! На справедливую месть за кровь и за глаза родича его — князя Василька Теребовлянского...
Твёрдая, комкастая земля звонко откликалась под конскими подковами на эти пылкие раздумья Гордяты. И низкие облака будто шалели от них, толпились в небе, готовя высыпать всаднику в лицо пригоршни белой морозной позёмки или холодного осеннего дождя...
Почерневший лицом, обвеянный морозным ветром, с провалившимися красными глазами, Гордята ввалился в переяславский терем Мономаха. От непривычного тепла и запахов свежего хлеба у него будто помутилось в груди и перехватило дыхание.
Князь Владимир удивлённо встретил неожиданного гостя. Кто же послал его и с какими намерениями? Почему приближённым его не сказал ни слова? Утром Нерадец доложил ему, что переяславская стража перехватила какого-то посла из Киева. Сказал, что имеет тайное слово ко князю.
Мономах сидел в кресле, настороженно выжидая, что скажет прибывший. Исхудавшее, измученное лицо киевлянина говорило о большой поспешности, с какой тот добирался сюда. Князь не заставлял гонца торопиться, давал ему время освоиться, отойти душой от нелёгкой дороги. А что дорога была нелегка, свидетельствовала потрёпанная полотняная одежда, его неряшливый вид и то, что у гонца не было шапки Где затерял? Кто гнался?
Владимир медленно ощупывал гостя придирчиво-изучающим взглядом. У того были большие руки, как у смерда, покрасневшие и распухшие от холода пальцы. Значит, он из простолюдинов. Но широкий кожаный пояс с большой серебряной бляшкой впереди и мягкие, хотя и потёртые, сапоги из зелёной хзы говорили о другом. Мономах ещё раз изучающе посмотрел на гостя. Эти огромные серые глаза... Будто когда-то удивлялся уже их мягкости и неожиданной дерзости... Да и в самом деле — сей простой на вид муж не бил челом в колени переяславского князя, не провозглашал торжественных слов и поздравлений. Значит, не от великого князя послан.
Дрогнули трепетные ноздри гостя, и он тихо, кося взглядом назад, где стояли воеводы, начал:
— Княже, беда над Русскою землёю витает. Собирай свою рать и иди на брата своего старейшего — на татя Святополка.
На великого князя ратью идти? Сколько лет, сколько людей киевских уговаривало его сидеть тихо и не коромолить... не посягать на старшего в роду... сломить свою гордыню... придерживать в руках меньших... Значит, этот гонец и не от монахов печерских... и не от бояр киевских...
Мономах напряжённо ждал.
— Он сотворил зло, какого ещё не видывал свет... — По измождённым, провалившимся щекам гостя потекли слёзы, оставляя на грязном лице следы. — Он погубил... брата твоего меньшего Василька Теребовлянского... Конюхи Святополчьи вытащили ему оба ока... Из живого!
— Кто?
— Торчин, Берендей, Дмитро и с ними Изечевич.
— Чьи люди?
— Святополчьи... В Белгороде се было. Там...
— Откуда знаешь? — Мономах грозно насупил чёрные брови, в глазах появился недобрый огонёк.
— Был там... хотел заступиться... меня связали и выбросили потом...
— Но где же нынче Василько?
— Куда-то увезли... Не ведаю...
Мономах медленно поднялся на ноги. Прятавшаяся в чёрных с проседью волосах, тяжело качалась роденьская серьга.
— Живой ли Василько?
— Не... ведаю... Берендей грел свой нож в пламени... в печке... один раз промахнулся...
Глаза Мономаха вдруг стали огромными, страшными. Он взглянул на молчаливо склонённые головы своих воевод, стоявших за спиной Гордяты.
— Т-т-т-акого ещё н-не было на Русской земле... — тяжело выдохнул. — Но... правду ль молвишь? Кто еси?
Гордята поднял вверх руку и, бледнея, впился взглядом в переяславского Володаря.
— Да посечёт меня... мой собственный меч, и щит мой да не защитит меня от смерти... Пусть справедливый Перун испепелит меня огненной стрелой... Клянусь Ветром и Мечом!..
— Почто поганской клятвой присягаешь? — насупился Мономах.
Гордята молчал. Гордята ведь клялся самыми святыми для себя клятвами!
Но для князя были иные святыни.
— Се клятва моих пращуров, княже... мово рода...
— Не веруешь в Христа?
— Верую и в Христа справедливого. И в Отца, и в Сына, и в Святого Духа... Научен письмо священное читать... Псалтырь... Четьи-Минеи... и молитвы... «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твоё, да приидет царство твоё...» Но только, княже, долго не приходит к нам это царство Божие! — вдруг дерзко закончил Гордята.
— Терпи и жди. Оно тогда и придёт.
— Но, может, старые боги наших пращуров нам быстрее помогли бы? Они жили между людьми, на земле... ближе к нам...
— Яко нарекли тебя?
— В христианстве — Василием. А так, среди людей — Гордята я.
— Молись, Василий, Всевышнему Господу, и он не забудет нас. Воздаст добром за добро.
— Когда?
— На том свете.
— А брат брату глаза вырывает! То кто воздаст за зло Святополка? Ожидать небесной кары долго! А тебе, княже, нужно пресечь это зло. Иди на Киев! Молю тебя...
Мономах вздрогнул. Вот он, его звёздный час. Его зовут идти на Киев!..
Вновь тяжело опустился в кресло. Да, ожидать справедливого суда, чтобы попасть в царствие небесное, это ещё потратить полжизни. Это будет тогда уже и вся его жизнь. Не долго ли засиделся он в своём ожидании? Иль мало положил своих трудов, чтобы стояла и крепла Русская земля?!
Кто из наследников Ярослава Мудрого больше, нежели он, служил Русской земле? Никогда своего живота не жалел для неё. Вечно в седле, в жару, в ливни, в морозы, в снега. Где он только не был. Смоленск, Ростов, Чернигов, Волынь, Полоцк, Переяслав... Ещё при отце Всеволоде правил Русью. Тушил распри между меньшими князьями. Давил мятежи и ворохбу смердов и гражан, которые всегда шли за волхвами или становились грабителями-татями... Наступал на половецкую Степь. И сейчас вот уже сколько лет, изгнанный братом своим из Чернигова, сидит в Переяславле и подпирает своими плечами дикие орды, закрывает ворота Степи. А за его спиной братья-князья лишь медами обпиваются, на пуховых ложах нежатся да за ним пристально следят, дабы не выскочил впереди их на золотой стол киевский...
Думал, соберёт князей в Любече, умиротворит их и они скажут ему: «Иди, брат Володимир, в Киев. Отбери правило у ничтожного Святополка. Еси между нами сильнейший и мудрейший».
Не сказали. Молвили иное: «Да сидит каждый в вотчине своей». Вишь, Святополк для всех их более выгоден — не мешает грабить друг друга, сдирать кожу с чёрного люда... Но теперь... Неужели поняли, что злокозненный Святополк готов им всем глаза вытащить?
Кто должен защитить правду и землю Русскую от поругания и бесчестия ничтожности? Кто должен наказать убийцу?
Мономах требовательно посмотрел на своих воевод. Они безмолвствовали, но их глаза горели гневом и надеждой. Нерадец... Ратибор... Славята... И сей киянин, посланный к нему самим Богом... Их взгляды призывали Мономаха взять в руки меч справедливости.
— Но ведь Любеч! Сам же целовал крест на мир!
— Я... — Что-то хотел ещё сказать молодой киянин, но как-то странно закатил глаза, качнулся и упал. Его едва успел подхватить на руки Нерадец.
— Сие... от усталости... — наклонился над Гордятой Мономах. — Отнеси его, Нерадче, в мою ложницу и позови зеленицу. Но... что будем делать, боярове? — Мономах остро взглянул на своих советчиков.
— Рать послать на Святополка! За правду!.. Зови к себе братьев своих...
— Коль ваша рада... Славята, беги в Чернигов. Скажи брату моему Олегу... А ты, Нерадец, — брату Давиду Святославичу Новгородскому — зовите их на рать! Супротив Святополка. Правду на Русской земле застоять. Двинемся — на Киев!..
Киев... Киев... Седой град старого Кия. Златоглавый, белостенный, многолюдный и тихий...
Взнёсся ты на кручах днепровских как могучий богатырь. Подпираешь высокое русское небо широкими плечами. Светишь светом ясным любви и величия. Вокруг себя распространяешь слово мудрости и знаний... Весь ты будто соткан из нитей солнца, зелени дубрав и глубокой сини неба, из светлых земных радостей и тусклых земных печалей. В тебе — слава и могущество минувшего. В тебе — сила и вдохновенье для грядущего. В тебе — жизнь и гордость многих поколений, отошедших в вечность. Но они оставили зёрна своих душ, своей любви, своего труда — в тебе. Златоглавый граде, ты окроплён их кровию, ты сцементирован их потом, ибо они верили в твоё грядущее, в твою неодолимость. Ты бережёшь, златоглавый граде, память своего рода и народа, бережёшь его душу, его имя и его обычай — и в этом твоё бессмертие и бессмертие твоих сыновей. Ведь ничего не далось нам даром. Всё, что имеем, завоёвано в кровавых и бескровных битвах, в бореньях духа и совести. И всё бережём в себе. Чтобы знать себя. Чтобы не забыть себя... Потому и бессмертен тот, кто умеет понять и сохранить всё, что досталось ему из прошлого. Кто умеет множить славу земли своей — Серпом, Добром, Мечом — и Словом...
Пусть проходят века. Они пролетают над золотою главой древнего Киева как весенние обновляющие ветры. А град стоит, сияет, обогащает свои сокровища духа, отгранивает душу своего народа, бережёт заповеди предков. Они отовсюду следят за деяниями своих потомков — глядят на них голубыми очами высоких небес, синими очами днепровской волны, зелёными очами дубрав и лесов. Души их вычерчивают в тёмном небе сияющий звёздный путь. Иногда они срываются с вышины и испепеляются в отчаянье, когда видят, как их дети — эти взрослые мудрые мужи — озлобились, стали такими никчёмными, жалкими, что забыли о великом, погрязли в мелких страстях и ничтожной суете. Тогда эти звёзды стремительно падают на землю, на седую главу старого Киева-града. Будто желают остановить зло. Будто молят людей взять в своё сердце добро, прислушаться к жизни преходящей... Ибо ни злато, ни богатство, ни честь не продлевают жизни — лишь Добро...
И ты, мудрый Мономаше, прислушайся к ним. Чего пришёл ко граду и так несмело остановился неподалёку — в Городце? Что прыткую дерзость свою вдруг укротил? Кого высматриваешь из-за Днепра? Имеешь достаточно своих мечей и воинов, имеешь в своей дружине братьев своих черниговских.
Но безмолвствуют Золотые ворота Киева. Не открываются перед тобой. Никто не шлёт к тебе гонцов и не просит уважительно: «Приди-ка, княже, к нам, молим тебя». Слепота и обман заполонили души киян. Одни боятся твоей крепкой руки, другие стали равнодушными от тяжёлых хлопот о хлебе насущном...
И Мономах не решался переплывать Днепр. Позвал своего нового дружинника — Гордяту-Василия.
— Что же, Василий, делать будем?
— Иди, князь, силой на Киев.
— Силой — не хочу. Хочу — дабы по доброй воле кияне меня приняли.
— Добрая воля, князь, убаюкана серебром Святополчьим. Все бояре и купчины значительные — все пасутся в его тереме.
— А гражане?
— Они — в нужде постоянной. Пот глаза им застил. Опустошил сердце голод.
— А монахи печерские?
— О них не ведаю, княже...
— И я не ведаю. Поди-кась к ним, в Печеры. Тихонечко выведай, чего они желают. Или Киев брать на копие, или ждать послов... чтобы доброй волей...
Но про себя Мономах думает, что не дождаться ему послов. И монахи его не позовут — сие будет против их обычая. Они будут держаться заповедей, которые прижились у них со времён Ярослава да Иллариона. Они будут поддерживать законность. То есть — Святополка.
Ратный стан князей в Городце ждал с нетерпением решения Мономаха. Что он тянет? Брать стольный град на копие — и весь разговор! Уже прибежало из Киева несколько человек. Молвили: Святополк перепуган, грузит добро своё. Хочет стрекача дать. Да воевода Путята Вышатич и боярин Поток Туровский направили к нему гридей своих, чтобы хватали князя за полы, когда вздумает бежать из города!
Мономах хмурит брови. Снова киевские бояре! Они, это они держат Святополка за руки! Ибо не желают его, Мономаха, в Киев звать. Боятся. Помнят, как он загнал их в щели ещё при отце своём Всеволоде. Своеволие их скрутил в рог.
Но почему молчит чёрный люд Киева? Почему не мятежит? Изверился в добрых князьях? Убедился, что при каждом князе с него одинаково снимают шкуру...
И Гордяты-Василия из Печёр долго нет что-то. Может, монахи отступят от своего обычая, коль услышат от Гордяты правду о князе Васильке? Но... вспоминались тяжёлые слова игумена Ивана...
Печерская обитель упрямо молчала.
Молчал и Киев.
Посол Мономаха Гордята-Василий сидел в келии Нестора-книжника и ожидал окончательного ответа печерцев. Нестор надолго исчезал, просиживал то у черноризой братии, то в игуменской келии отца Феоктиста. Старый, высохший, но подвижный, с быстрым взглядом отец Нестор, возвращаясь назад, ни о чём не рассказывал, только снова расспрашивал Гордяту о той ужасной белгородской ночи. Вздыхал, молча осенял себя крестным знамением и своими сине-прозрачными очами вглядывался в какую-то лишь ему видимую даль.
Однажды спросил:
— А писать научен?
— Писал когда-то. Воевода Ян научил.
— Воевода Ян? Или, может, ты его сын?
— Был когда-то, но теперь — вольный человек, — почему-то испуганно сказал Гордята. Зачем людям знать его тайны?
Нестор пожевал ртом. Что-то, казалось, вспоминал. Но уже ничего не выспрашивал у посланца. Не желает человек открыться душой — не нужно его заставлять. Добра от этого не получится.
Достал из-за иконы Божьей Матери свиток чистого пергамена, поставил перед Гордятой маленькую глиняную кружечку с чернилом, положил железное писало.
— Коль умеешь писать, садись-ка, чадо, за стол. Ученье даётся Богом для того, чтобы другим передать всё, что знаешь.
Дальше развернул на столе пергамен, придавил его концы двумя тяжёлыми книгами.
— Вот здесь и запиши всё. Как скакал к Белгороду. Как князя Василька мучили там... Жив он!.. Давид Игоревич забрал его с собой на Волынь.
— Живой?! — радостно воскликнул Гордята.
— Но ты запиши, запиши... Всё как мне молвил. Все имена грешников... все их слова... Чтобы люди знали о грехах можцев...
— Но сам почто не хочешь записать?
— Не могу я, чадо. У меня летопись державная. Нужно в ней писать, каким должен быть державец, какие добрые дела должен сотворить, дабы иные ему следовали.
— Мудро молвишь, отец.
— Возможно... Но сие — тяжкая мудрость для меня, поверь. Вот... пережил я нескольких великих киевских властелинов. Знал Изяслава, видел Святослава и Всеволода. Нынче — Святополк Изяславич сидит в Киеве. А что изменилось на Руси? Да ничего. Держится она лишь силою чёрных людей. Их руками и мечами. Даже Мономах не может себя обуздать — в Золотые ворота ломится.
— Мономах пришёл мстить за обиженного своего брата! — вспыхнул Гордята.
— Правда — она ведь, чадо, многолика. Каждый глядит на неё своими очами — и по-разному видит. Каждый слушает её своими ушами — и по-разному слышит. Одни правдой называют честь. Другие — корысть. А ещё другие — своё честолюбие альбо возносливость.
— Но ведь есть же на свете правда? Истинная!..
Нестор поднял кверху свои прозрачно-синие глаза; его взгляд снова будто отдалился.
— Есть она, сын мой. Правда — сие мудрость, которая озаряет жаждущих великой мыслию, которая побуждает к действию за добро.
— Но разве Мономах не стремится к добру? Он ведь хочет наказать злодеев!
— Нет, его пригнало сюда не желание справедливости, а жажда власти... Когда-то поймёшь. А теперь — вот тебе пергамен. Люди должны знать и о зле. Оно — также наука. Начинай свою летопись, Василий...
Гордята-Василий смотрел в спокойное лицо Нестора расширенными глазами. В это мгновение ему нестерпимо захотелось, чтобы Нестор-книжник назвал его не Василием, а Гордятой.
— А я... только недавно, отец, стал Василием. Сызмала меня называли Гордятой.
Нестор смотрел поверх его головы. Ничуть не удивился.
— Матерь моя — Гайка Претича. Где-то погибла. И бабка Нега погибла...
Нестор молчал. Его жёлтое, сморщенное лицо застыло, будто из воска. И никто на свете не мог догадаться, что перед глазами старца вдруг всплыл, будто из тумана, тёплый весенний день. Яркое солнце. Весенний ветер шевелит русые волосы старого Гюряты. Он широко ступает по заволочённой земле, а рядом с ним, проваливаясь в тёплую рыхлую землю, шагает Наслав. У обоих через плечо полотняные торбы с зерном. Набирают его в пригоршни и широко, со всего плеча, разбрасывают по ниве...
...«Ой, мы в поле выйдем, выйдем, ой, мы Ладом выйдем», — плывёт над зелёными холмами звонкий девичий напев.
«Ой, мы просо сеем, сеем, ой, мы с Ладом насеем, насеем!..» — дрожит-переливается, как у жаворонка, в прозрачном синем воздухе голос Гайки Претичевой...
И он, Наслав... Когда же это было? Да-да... полстолетия уже, гляди, миновало...
Ещё что-то слышал в глубине своей памяти Нестор. Напрягал мысль. Но уже не мог возродить мелькнувшее воспоминание. Перед его глазами всё шли и шли по ниве оратаи, рассевали своими пригоршнями золотое зерно пшеницы... и песню...
«Ой, мы просо сеем, сеем...»
Неожиданно вздрогнул. Гордята пристально глядел на него, ожидал каких-то важных слов в ответ на сокровенное признание.
— Помни их, сын... — перекрестил себя Нестор и прикрыл своими седыми ресницами глаза, словно погасил воспоминания. Только и всего...
Гордята вздохнул. Он ведь помнит! И чем больше жил, тем больше почему-то вспоминал: седую голову бабки Неги и воркующий голос матери... Но вместо её лица теперь всё чаще всплывало смуглое лицо золотоглазой Руты... Она баюкала на руках дитя и напевала маминым голосом: «Была у воробушка да жена молодушка. Сядет на веточку, прядёт на сорочку...»
— Отец, люди говорят, что мать мою погубил воевода Ян. Поймал в лесу её с ватагой татей.
— В лесу? — удивился монах.
— Они, говорят, жгли боярские погосты.
— Боярские? — ещё больше удивился Нестор. — И отец её не простил?
— Не отец ведь он мне. Мой отец Нерадец.
— Нерадец... — одними губами прошептал старец.
Гордята тряхнул русыми волосами.
— Пойду уж, — вздохнув, обратился он к Нестору. — Ещё в город зайду. Пока монахи надумают своё слово окончательное, спрошу-ка я у киян, у чёрных людей. — Гордята надвинул новую шапку на уши.
— Иди, да не задерживайсь. Должен свою летопись начать.
— То уж как получится! — отмахнулся Гордята и исчез за дверью келии.
Шёл в Киев давно знакомой дорогой. Через глубокие овраги и лесистые взгорья, через долину речки Хрещатой, что тихо течёт под тонким прозрачным льдом, через Перевесище. Подошёл к Лядским воротам. Постучал. Они были крепко заперты — князь и киевские бояре боялись Мономаховой силы. Стражники пропускали в ворота одиноких пешеходов, повозы смердов, всадников после тщательного осмотра всей ихней утвари. Ощупывали всё... Гордята про себя ругался, пока цепкие руки привратной стражи обыскивали его. Наконец отпустили.
Сначала было пошёл на Гору, в сторону княжьих палат. Но потом будто припомнил что-то. Ужаснулся чему-то. Надвинул на глаза свою баранью шапку, плотнее затянул пояс поверх кожуха.
Направился к Боричеву узвозу. Туда, где начинался гончарный конец Подола. Где жил, трудился, стонал, веселился, рождался и умирал чёрный люд древнего Киева-града. В этих низких или высоких домах из сосновых срубов, с высокими порогами и в средине — с огромными печами; в этих низеньких мазанках, сплетённых из лозы и сверху обмазанных глиной. В хороших хозяйствах в таких мазанках жила животина, а нынче уж и люди нашли там себе пристанище. Бедность неразборчива — загнала туда и старцев, и детей, и мужей степенных, и жён, замученных работой...
Из глиняных дымоходов тянулись тоненькие струйки пахучих дымов. Ранние холода принёс с собой месяц листопад. Шуршат под сапогами сухие, высушенные морозными ветрами листья. Подслеповато светит сквозь сизую мглу низкое осеннее солнце.
Безлюдна улица. Но ухо Гордяты улавливает приглушённый перестук молотов об железо или жиканье бруска о косу...
Эге-е... кияне не сидят сложа руки, кияне готовятся к бою. Чего же хотят они: изгнать Святополка — или не пустить в Киев Мономаха?
Гордяте нужно это узнать.
Сбив шапку на затылок, завернул к избе деда Бестужа. Сиротливо прижалась она к оголённой осенью горе. Белыми печальными свечками стали вокруг неё безлистые деревья. Лишь вербы вдоль тына свесили к земле золотистые ветви и не отряхивали с себя листву — засыпали в своём летнем одеянии под холодными ветрами. Морозец прибил эти листья сединой, скрутил их в тонкие трубочки, но оторвать от ветвей не смог. Может, вербы потому цепко держали их, что ожидали чуда, ожидали летнего солнца и тепла, чтобы оживить этот свой золотистый наряд, чтобы снова его вызеленить и по-весеннему молодо взглянуть на мир.
Стукнула дверь в избе. Гордята остановился. Кто-то вышел на подворье. Тропинкой к навесу прошёл, горбясь и шаркая старыми бачмагами, седой Бестуж. С кем-то заговорил — не разобрать. Ему отозвался женский голос. Милея? Кажется, её мелодичный голос. Ноги Гордяты сами повернули на этот голос. Он остановился у навеса. Увидел длинные полки, заставленные краснобокими, уже обожжёнными горшками. Пузатые, ушастые, длинношеии, с венчиками-коронами сверху и без них... Они будто удивлённо глазели на Гордяту, будто присели от радости и весёлого смеха на красных надутых щеках, будто вытягивали ещё выше свои шеи и растопыривали уши. Ну и чудеса! Их мастер, Гордята, появился!..
— Гей, это ты пришёл? — услышал он неуверенный голос. К Гордяте подошёл старый Бестуж. Приветливо светилось его лицо.
— Я... — испугавшись чего-то, отозвался Гордята. Ибо в эту минуту увидел Милею.
Она сидела на широкой скамье и огромной иглой с суровой ниткой пришивала кусочек кожи к протёртой подошве.
Гордята оцепенел. Не верил, что это Милея.
Перед ним сидела укутанная в потрёпанную старую дерюгу, рано состарившаяся женщина. Тонкая, иссиня-бледная кожа лица, под глазами обвисшие мешки и сетка неглубоких, но густых морщинок. В глазах Милеи не было жизни, только равнодушие и отчуждение.
Но эта её отчуждённость, как ни странно, не вызвала у Гордяты ни жалости, ни сочувствия. Смотрел на рано состарившееся лицо Милеи и удивлялся — хотя бы злость всколыхнулась в нём. Ведь сколько горьких минут, сколько тайных мук пришлось ему пережить из-за её легкомыслия... Три года мытарств выветрили из него жгучую обиду.
У Гордяты не нашлось слов для Милеи. Постоял, постоял и двинулся назад. Ему вдогонку прозвучал её уставший, как у тяжело больного человека, голос:
— Я вернулась домой, Гордята.
Он остановился.
— А зачем?
— Не знаю... — Милея растерялась. В самом деле: что принесло ей самой это возвращение? Или старым Бестужам? Ничего, кроме позора.
Гордята ещё раз взглянул на Милею. На её измученном, уставшем лице дрожала испуганная улыбка.
— Где он? — донёсся от порога дома молодой звонкий голос. — Гордята, где ты?
Брайко!
— Я здесь... — Гордята вышел из-под навеса.
Брайко, широкоплечий, русобородый парень, бросился ему на грудь.
— Возвратился!
— Нет, Брайко, не возвратился. Зашёл вот... проведать...
— А мы уж думали, голову где-то сложил. Что ж не показываешься? Аль князь Святополк щедро жалует?
— Я нынче у Мономаха.
— Во-она что! А Святополк готовится супротив него.
— А кияне?
— Что кияне? Мы хотим покоя. То половчины, то межусобицы княжеские не дают в себя прийти.
— А если бы Мономах сел на отчем столе?
— А! — безнадёжно махнул он рукой. — И то князь, и сё — князь. Всё равно ведь богатство идёт в руки богатого, а нищета — идёт в избу бедного. Не всё ли равно, какой князь сидит в Киеве?
Гордята не ожидал такого безразличия. Ковырнул носком сапога какой-то камешек на тропке — и он покатился по ней.
— Значит, кияне не хотят Мономаха? — чтобы окончательно убедиться в своих решениях, переспросил Гордята.
— Не желают проливать братскую кровь. А так, пусть бы сидел...
— Ну... так я пойду...
— Куда же? В избу хотя бы зашёл. Пообедай с нами.
— Потом когда-нибудь... — уже от калитки отозвался Гордята.
Он был потрясён таким равнодушием горожан. Но и то подумать: не всё ли равно бедняку, какому князю платить налоги? Правду молвит Брайко: в избу бедняка идёт только нищета...
Ещё удивлялся встрече с Милеей. Теперь был почти убеждён, что никогда не любил её. И что она никогда не любила его. Во всём была виновата их молодость, которую настигла шальная весна. Виноваты были, наверное, те кусты цветущей, пьянящей черёмухи и жасмина на крутой горе, около которой прилепилась изба Бестужев; тот дурманящий дух, витающий над их двориком, от цветущих яблонь, а потом и лип... А может, соловьи во всём были виноваты. Те соловьи, которые заселили густые рощи подольских круч целыми стаями. Днём кое-как прочищали свои голоса, тревожно щёлкая, выжидательно сыпя короткими серебристыми трелями. Им вторили дрозды — то посвистывая, то дробно тарахтя. А зарянки, бездарные, завистливые птички, начинали дерзкое соревнование — неистово тарахтели своими скрипящими голосами, однотонно повторяя подобные — короткие и длинные — соловьиные рулады.
Зато вечером весь птичий разговор замирал. Вот тогда и начиналось соловьиное неистовство. Высвистывали, выщёлкивали длинными, взахлёб, трелями, отчаянно рассыпая серебро из груди... Казалось даже, у певцов останавливалось дыхание...
В такую соловьиную весну и Гордята поверил, что всё на свете — настоящее; что нет подлости и обману; что нет на земле лучшей девушки, чем Милея, и что её меняющиеся голубые глаза — самые красивые в мире; что её сердце — самое верное и что ему, Гордяте, счастье само шло в руки...
Но всё это миновало. Пережито, перечувствовано. Теперь он ищет другой красоты в человеке... Ох как тяжело даётся осознание настоящего!..
Последние годы, когда служил при дворе Святополка, много присматривался к девицам-челядницам, прислужницам, боярыням, княжнам, постоянно наполняющим княжеский двор. Сколько прекрасных, горделиво-надменных, ярко-улыбчивых лиц! Но ни от одного не повеяло теплом и искренностью. Никто не затронул его души... Только однажды, когда-то... кажется... Но может, это только кажется...
У ворот монастыря Гордяту уже поджидал Нестор.
— Кияне желают послов послать к Мономаху в Городец.
— Кияне? Какие? — удивился Гордята. Сегодня он уже слышал волю киевлян-простолюдинов от Брайка. О ком же говорит черноризец?
— Можные кияне, ведомо. Бояре и купчины, дружина и старосты рукомесных братчин.
— Чего же... они желают? — насторожился Гордята.
— Услышишь сам. Веди их в Городец, ко князю Володимиру. А время будет — запишешь свою оповедь о Васильке и мне принесёшь.
К Владимиру Мономаху велеможные киевляне и владыки монастырей снарядили большую сольбу. Вдова князя Всеволода, киевский митрополит Николай, игумены всех киевских монастырей, кроме Печерского. Печерский владыка отказался присоединиться к ним. Пережидал. Отмаливал у Всевышнего грех невольного своего лукавства.
Сольба перешла мост через Днепр, который был поблизости от Городца, и сразу оказалась в стане Мономаха. Затаив дыхание, князья-братья Владимир, Олег и Давид ожидали её приближения. Впереди посольских повозок на коне ехал Гордята. Повозки медленно скатились с моста, заскрипели по песчаной дороге. Наконец остановились.
Первым спрыгнул со своего коня Гордята. За ним задвигались все остальные. Последней сошла на землю вдова-княгиня. Мономах не удержался — быстрым шагом двинулся к Гордяте.
— Ну? — Под щетиной усов не было видно, как дрожали его губы. Но голос его изменнически дрогнул. Мономах досадливо кашлянул в кулак: мол, это что-то в горле у него дерёт, а не от волнения.
Но Гордяту не обмануть. Он лишь удивился — Мономах волнуется? Мономах так сильно желает добыть Киев? А он-то, простодушный, думал, что у князя более всего болит душа за брата! Что он мучится болью и нестерпимой обидой за своего меньшего брата!..
— Василько жив, — почему-то сразу ответил Гордята. Хотя знал, не этих слов ждёт от него князь.
— Слава Богу! — торопливо перекрестился Мономах и опустил глаза. — А... кияне?
— К тебе вот сольбу прислали. Вона...
К Мономаху уже приближались киевский митрополит и вдова-княгиня. Мономах учтиво склонил перед ними голову.
— Мольбу свою к тебе привезли, князь, — загудел митрополит Николай.
— Хорошо... хорошо... — заспешил вдруг Мономах, оглядываясь вокруг: не слышит ли кто этих слов митрополита? Мольба — значит, кияне просят его отступиться. Иначе первым словом сказали бы: «А приди-ка во град Киев боржее!»
Гордята, впрочем, догадался, с чем пришли киевляне к Мономаху. И когда всё же начал писать позже о крамоле княжеской и о Васильке Теребовляиском, записал и об этом посольстве, что знал. А знал он, что велели киевляне сказать Мономаху: «Молим тебя, княже, и братьев твоих, не погубите Русской земли. Аше возьмёте рать со Святополком, поганые половчины придут и возьмут нашу землю, иже стяжали отцы ваши и деды ваши трудами великими и храбростию. Лучше возьмите рать с поганинами, губителями нашими...» И ещё записал Гордята-Василий: «Се услышав, Володимир расплакался и речёт: «Воистину, отцы наши соблюли землю Русскую, а мы хотим погубити...»
Как же было не расплакаться Мономаху, когда можные кияне не хотели его посадить на золотой отчий стол, а отсылали в поле половецкое, на брань, на защиту их богатств и животов, а ему — на погибель?
Осталось одно: отступиться от своей мечты — от Киева. Но чтобы не думали, что он поднял меч против брата своего, стал громогласно звать на месть за обиду Василька — пойти всем князьям с дружинами своими на Волынь, супротив татя Давида Игоревича и отобрать у него слепого Василька...
Сольба передала Святополку Мономашьи слова: «Коль невиновен в ослеплении брата, иди на Давида Волынского, дабы схватить его, или прогони его!»
Святополк с радостью согласился теперь идти на Давида Игоревича, чтобы этим отвести от себя подозрение в соучастии во зле и чтобы заручиться каким-нибудь, хотя бы плохоньким, союзом с Мономахом.
Рати двух князей-соперников двинулись сообща на Давида Волынского. Оба брата, тайно ненавидя один другого, теперь смотрели друг другу в глаза со смирением и заискивающе — в жертву был принесён ими третий брат, и на него должен был упасть гнев Божий и гнев братьев-мстителей...
Гордята лежал ничком на мягком пахучем сене, тихо и ласково шуршащем под ним. Лежал и улыбался. Сквозь тёмное ветвистое дерево просвечивало глубокое звёздное небо. И теперь, в этой первозданной тиши, в этом величественном вечном молчании мира, небо щедро раскрывало ему своё таинство. Мерцали звёзды — каждая своим мерцанием. Синим, белым, красноватым. Каждая сообщала о своей тайне. Но Гордята не желал разгадывать их. Зачем ему, земному человеку, непостижимость далёкого и высокого мира, когда его душа возносится в небеса от земной и постижимой радости, которую он мог бы назвать счастьем. Если бы его кто-то спросил. Но его никто ни о чём не спрашивал, и от этого чувствовал себя вдвойне счастливым.
Потому и улыбался. Прислушивался к родному тёплому дыханию Руты на своём плече. Боком чувствовал её горячее сухое тело, её доверчиво и спокойно лежавшую на груди руку. И таким же доверчивым, но слишком пугливым, был и её сон. И он боялся спугнуть её сон. Но чем больше боялся, тем больше хотелось ему повернуться, плотнее прижаться к ней. Сдерживал себя — пусть поспит. У неё сон всегда был короткий, как у зайца. Всё время просыпается, щупает вокруг рукой — рядом ли Гордята. Не исчез ли, не растаял ли в неизвестности, во мраке ночи... Как тогда, возле Печерского монастыря. Принёс ей подарки, принёс хлеб — и ушёл в ночь...
Гордята до сих пор не мог поверить. Как же так, она его ежедневно ждала с тех пор! Все эти годы надеялась на встречу и верила в неё. Но, может, и не всегда верила. Поэтому и сына назвала его именем — Гордяткой. Нужно же ведь так... Ханский отпрыск теперь носил его имя. Чудно всё это — какой-то маленький человечек назван в твою честь. Чтобы навсегда сохранить память о тебе. Такое могла придумать только Рута!..
Всё было удивительным в ней. И доверчивое пылкое прикосновение щеки. И безоговорочная преданность. И её глубокая искренность. Он ведь и представить не мог, что это такое — преданная, самозабвенная жена... Не представлял, что человек может потерять голову от половодья ласки и нежности. Волна горячей благодарности вновь поднялась в нём.
Нет, призыв звёзд в вышину — не для него. Он слишком земной человек, и ему нужно земное счастье. И ни за что на свете не променяет он его на судьбу холодных и вечных богов небесных. Слышите, звёзды! Напрасно ваше заманивающее мерцание — он здесь, на земле, чувствует себя бессмертным — и счастливым!..
Эта женщина заворожила его с самой весны, когда он её вдруг встретил. Как только вернулся из волынского похода против Давида-разбойника...
Отодвинулся от неё. Заложил за голову руки... Мысли возвратили его снова к недавним событиям...
Два года Мономах и Святополк гонялись за вурдалаком Давидом. Втянули в межусобицу всех мелких князьков волынских, ляхов, угров, половцев. Наконец забрали у Давида Владимир-Волынский. Святополк как старейший князь Русской земли посадил там своего сына Мстислава. Но когда Мономах, закусив от обиды язык, ушёл в переяславские степи, Святополк решил обобрать и других волынских князей: отобрал волости у слепого Василька Теребовлянского, у брата его Володаря. И вновь от мечей трещали рёбра, лилась братская кровь и под шеломами раскалывались головы русичей...
Наконец замирились в Уветичах. И после этого Гордята-Василий сел за свой пергамен. Писал, стонал, описывая всё это... Сколько обид людских посеяно на земле из-за этой крамолы Святополчьей! Небось отец Нестор всего и не напишет. И дальше будет держать совесть свою в темнице. Ох, нелёгкая долюшка выпала летописцу Нестору — желает одно, мечтает о другом, а пишет — о третьем... Не имеет права чернить князя старейшего. Ибо он — власть. Закон и мощь земли Русской... единство её всех краёв. Но люд чёрный, а наипаче смерды худые разве примут его, если закон и власть эта — криводушны, лживы, лукавы, ненасытны? Если эта сила, удерживаясь их руками и их трудом, их же губит и уничтожает, сеет вокруг себя мертвящую пустоту и злобную ненависть?! Возвеличивается насилием?! И вот он, Гордята-Василий, стал невольным свидетелем этих насилий великого князя. Участником братского кровопролития. Теперь оплакивал дважды обиженного князя Теребовлянского — Василька, создавал свой хронограф.
Что скажет на это оплакивание отец Нестор? Не удержится его чистая душа и внесёт в державный хронограф? Или наоборот — растопчет ногами, проклянёт дружинника Василия, выступившего своим писанием против киевского князя...
Когда появился в Печёрах, волновался. Вызывающе смотрел в глаза мудрому старцу, когда протягивал ему свой пергамен. Нестор осторожно взял свиток. Его совет этот дружинник, видишь ли, выполнил. Не забыл. Но... что же он там написал? Что так дерзко посматривает на него?
Долго читал, разворачивая пергамен под рукой. Задумчиво хмурил брови, невидяще смотрел куда-то в тёмный угол келии. Гордята неподвижно сидел на скамье, и от долгого ожидания куда-то улетучилась дерзость, а вместо неё вселилась тревога.
Нестор обратился наконец к Гордяте:
— Имеешь доброе сердце, муж. И слово твоё — крепко... Но... почто великого князя опорочил? Вот: «И переступил Святополк крест, надеясь на множество своих воев... И Васильке поднял крест, сказав: «Его ты целовал, но отнял зрение очей моих, а се ныне хощеши взять душу мою...» И пошли один на другого в боевом порядке и сошлись полки...» Что же получается? Наш повелитель, наш волостелин всех земель русских — клятвопреступник и тать?
— Конечно же, отче. Такой он и есть, се правда! — горячо заговорил Гордята-Василий. — И ещё сие не всё...
— Подожди! — Нестор предупреждающе поднял вверх указательный палец. — Сию правду знаю и я. Но есть и другая правда, чадо. Слушай: если кормчий державы вот такой ничтожный и ослеп от властвованья — он не может державить в своей земле.
— Не может, отец! Погубит землю и народ...
— Глядишь в одну сторону, сын мой. Но теперь погляди в другую: завистливые глаза меньших братьев, князей и сыновцев только и ждут, чтобы спихнуть старшего брата. Только и поджидают, чтобы броситься, яко псы голодные, на золотой киевский стол. И разнесут его. Яко сноп — по колоску рассыплют нашу землю... А половцы? Они за Сулой. Не будут ведь спокойно глядеть на сию кровавую трапезу — докончат то, что останется. Исчезнет народ наш с лица земли. Как это было с Хазарией. Забудут и имя наше в окольных землях! Для этого ль мы живём на свете?..
Глаза Нестора пронизывали Гордяту суровым укором.
— Что же... мне хвалить недоумка?
— О державном муже должно писать по-державному.
— Но ведь... это ложь! Кому она добром послужит?
— Это не ложь — таким должен быть державец. Это нужно для будущего.
— Сё богопротивно, отец. Кто благосклонно наблюдает безумие — сам обезумевает.
— Сказано в Писании: «Даже мысленно не обесславливай царя...» — Нестор сердился. Но Гордята упрямо продолжал:
— Ещё сказано там, отец, и другое: «Благо тебе, земля, если царь твой из благородного рода и князья твои едят вовремя для укрепления тела, но не для пресыщенья...» А наши князья? Нет, я не могу закрывать глаза на позор и ложь...
Нестор отвёл взгляд в сторону, тяжело качнулась его седая голова в чёрной потёртой скуфейке.
— Да, сие понять тяжело... сын... Когда во имя великого нужно отрекаться от меньшего... которое вот так... в сердце занозой торчит...
Гордята рухнул на колени пред старцем.
— Отец! Помилуй мя! А почто... почто забыли мы свой обычай прадедовский — кликать на вече люд... самим избирать себе смысленого державца?.. Почто не избираем себе нового — по воле Русской земли и народа?
— Этот закон не освящён Богом, Василий. Этот закон — разъединит нас. Христианская же вера даёт нам единого владыку на небе и на земле. Ему одному — наши молитвы и упованья. Без Бога — нет рая на небеси и справедливости на земле. Как без царя единого нет веры в неизменность и твёрдость законов жизни. Дай волю простолюдинам, черни, худым смердам — никогда не будет покоя на земле. Расколотят, растерзают, раздадут всё... Одному — один князь люб, другому — другой. А третьему ещё иной, а рядом — половцы! Не всем доступна мудрость — все князья одинаковы. Потому власть единого державца и освящена Всевышним. Ибо нет власти не от Бога. И ему должны все подчиняться и несть ему своё смирение и молитву.
— Так что же... закрывать глаза на несправедливость?
— Коль это на пользу державе...
— Польза... держава... закон... А о людях никто и не хочет думать.
— Это и о людях. Сам видишь, какая грызня между князьями из-за того, что власть слаба. А рядом — ещё и орды. И люди больше всего от этого страдают.
— Святополк использует власть для себя!
— Его накажет Бог.
— Но пока это он наказывает простолюдинов и льёт братскую кровь...
— Христос просветит его душу.
— Христос... христианство... оно лишь богатычей защищает. И наказывает бедных. За всё наказывает.
— Но оно освящает власть самодержца. Языческие боги стояли за всех. Христианство же — за владычных. И мы, чадо, слуги Христа.
— О-го-го, отец, наконец я разобрался: старая наша вера не за княжескую власть беспокоилась, за человека. Поэтому князья и потеснили старых богов...
— Но что такое человек — без державы? Выстоит ли он один супротив нашествия ордынского, супротив козней ромеев? Ляхов? Угров? Не выстоит. Такие нынче времена. Должны думать не только о душе, но больше о крепости власти и державы.
Гордята-Василий вздохнул. Разумом понимал он слова учёного монаха — но сердцем не воспринимал их. Глубокое смятение охватило его. Выше всего — сила державы. А сила, а чистота людской души? Во имя властвования можно, значит, кривить душой, обманывать, лить невинную кровь? Нет, не согласен он, Гордята, с этим. Да и Бог христианский, если он есть, должен восстать против таких грехов!
— Хула народу, о котором сохранится не правда, а ложь, отец. Уж лучше тогда молчать.
— Пустота — ничто, Василий. Если народ не оставляет в памяти людей ничего, то он исчезает как народ, ничего не стоящий... ничего не давший ни для славы, ни для разума...
— Но ведь и ложь — это великий грех, отец. Не боишься?
— Я не лгу. Я умолкаю пред делами неблагочестивыми.
— Но и это — грех!
— Бог милостив, уповаю на него. Да простит мне...
— А люди? Назовут блюдолизом... сообщником...
— Назовут, чадо... уж и так называют...
— Зачем же унижаешь себя? — даже вскрикнул Гордята.
— Во имя грядущего, сын мой... Лишь во имя его... Верую: будет на нашей земле мудрый державец. Утихнут распри. Воссияет Русь снова своей силой.
— Мономах?
— Не знаю. Он, кажется, не прочь стать царём в Византии. Тогда империя проглотит нас. Расшатанный мир затопит нас волной зла. Только крепкое единодержавие на Руси спасёт нас. Яко в самой Византии. Бьют это царство веками и коромолы, и бунты, и мятежи великие, и завоеватели. А оно стоит! И нам выстоять должно. Для этого — подпирать изо всех сил своего князя.
— Даже несмысленого?
— Князья меняются. На место несмысленых приходят разумные. А держава — одна. И народ — один. Подпираешь власть князя супротив передряг и коромольников — подпираешь Русь... Но отныне... Святополк покаялся. Печерский монастырь сделал своим, княжьим. И отца Феодосия велел вписать в синодик всех епископий. Вопреки ромеям. Се — великая победа Руси над алчностью ромейских императоров. Вот оно что! Вот что...
Но нет, не согласен Гордята-Василий с отцом Нестором. Он также за Русь, чтобы её не проглотила Византия, он также против крамолы и межусобицы. Но когда владычные князья сами её творят? Нет, он за старые законы, за вече, за народную раду. Поэтому и за старых богов, которые берегли душу человека от лукавства и корыстолюбия... И отныне — вовек будет им свои молитвы творить... Он — честный муж. И жизнь свою хочет прожить чисто, как его бабка Нега, как его мать Гаина, как добрые Бестужи — и все простолюдины, которых он знал. Потому будет и дальше стоять за честь Василька Теребовлянского — против кровопийцы Святополка... Ишь ты! Купил золотом себе уважение у монахов печерских — разрешил в синодик монастыря и всех епископий вписать имя отца Феодосия... Это уже третий русский святой, который появился после Бориса и Глеба... Значит, князь склонил киевскую митрополию с греком-митрополитом перед печерцами. Не из-за этого ль отец Нестор так настойчиво выступает в поддержку Святополка? Но и Мономах хорош — вон куда руки протягивает! Хочет воссесть на цареградский трон... И может сесть! Трон цесаря Алексея Комнина всё ещё колеблется. Крестоносцы из Европы вновь двинулись освобождать Гроб Господний от неверных. Первый проповедник их, Пётр Пустынник[177], уже забылся этими крестоносцами. Теперь они больше кричат не об освобождении Гроба Господня, а о золоте, о сокровищах, которыми хотели набить свои пазухи. Натолкнувшись на турков-сельджуков, крестоносцы разгромили их и на землях Византии образовали свои княжества... Оттуда посматривали на Цареград, яко голодные волки...
Конечно, Алексею Комнину солоно приходится. Потому Владимир Мономах заигрывает с греками-митрополитами, не напрасно закрепил идею императора византийского Михаила VII, что Византия и Русь имели общего проповедника христианства — апостола Андрея, свидетеля жизни и мучений Христа. Сейчас Мономах рвётся в Киев. Чтобы отсюда прыгнуть в Цареград? Вот и эта правда открылась ему, дружиннику Гордяте-Василию...
К которой присоединишься теперь? К которой? Не к Несторовой ли?..
Молча отдал свой пергамен черноризцу. Поклонился — и исчез из келии...
И вновь жгучие мысли кружились в его голове. Всю жизнь Гордята стремился служить правде. И каждый раз эта многоликая правда поворачивалась к нему другой стороной. Наконец поверил было в Мономаха. Отныне и эта вера рассеялась... пошла прахом от кратких рассказов Нестора. Да и он, учёный и премудрый старец, наверное, также всю жизнь страдает душой, грешит против одних, восстаёт против тех, кого хочется ему защитить. Но он умеет себя утешить истиной, которую прозреть могут лишь одиночки... Теперь Гордята понимает эту его единственную истину. Но сам он слишком земной человек... Слишком выболело его сердце от жестокостей и отчаяния, которые выпали ему с детства, которые гоняли его по миру, бросали то в одну сторону, то в другую...
Нет, и Мономаху — этому новому Мономаху, который открылся ему сейчас под личиной благочестивого, доброго и умного князя, — не будет он служить!.. Аще воистину молвлено: «Берегись лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а в середине суть волки хищные...»
Гордята снова остался в Киеве. А потом встретил Руту. Свою Княжью Руту...
С тех пор от него далеко отодвинулся тот мир страстей и козней, который опутывал каждого, кто попадал в него, сетью безнадёжности и жестокостей. И какой он счастливый теперь, Гордята! Будто родился наново и, родившись, попал в новый мир, где для него было всё — солнце, зелёные травы, зелёные дубравы, всплеск днепровской волны, звёзды в летнем небе — и ласковый свет в карих глазах, и нежность в каждом слове, прикосновении, в изгибе преждевременной морщинки у рта и на переносице его Княжьей Руты...
Людское счастье сделало Гордяту глухим и слепым ко всему, чем жил раньше. Да и что толку в его прошлых мытарствах? Кому он добыл правду, кого спас от страданий? Только и осталась от него короткая Василькова летопись...
Жил теперь только тем, что было вокруг него. Дорожил тем, что имел. А что он имел? Много — и ничего. Но ни к чему и не стремился. Вот только хотел чувствовать тепло рук Руты, её ровное дыхание, её доброту — видеть звёзды над головой...
Может, в этом и счастье человеческое — не желать большего, нежели тебе отмерено судьбой?
Может...
Может...
Может...
...Не успели князья вернуться домой после волынской войны, как в городе Киеве на всех торгах объявилась новость: из далёкого Новгорода к великому князю Святополку прибыла сольба и затребовала от него дать новгородцам в князья старшего сына Мономаха — Мстислава.
Не по правде и не по закону затребовали новгородцы. С дедов-прадедов повелось так, что в Новгороде восседает сын старейшего русского князя — он же наследует и золотой отчий стол в Киеве. Со времён Рюрика Новгород давал великого князя Русской земле. Сыновья же других, младших князей держали второстепенные города и волости. По закону в Новгород должен был идти старший сын Святополка — Ярослав. А старший Мономахович — Мстислав, которого ещё Всеволод дал новгородцам «на выкорм», должен был сидеть на Волыни или ещё где-нибудь. Так выпадало по закону. И боярин Путята Вышатич, и боярин Поток Туровский уже в сотый раз вытирали взмокшие лбы и повторяли эту истину твердолобым новгородцам. А те заупрямились: «Хощем Мстислава. Сами его себе взяли на выкорм».
Ратибор, Нерадец и другие приближённые Мономаха, а с ними и Гордята, только что прибывший из Волыни, сидели в княжеской гриднице молча. А что они могли сказать? Знали ведь и сами, что Господин Великий Новгород желает Мстислава незаконно. Но что поделаешь, когда своевольный и гордый город этого желает? И им, думцам Мономаховым, от этого только польза, если уж Мономах не сел в Киеве сейчас, то пусть хотя бы его сын Мстислав с помощью новгородцев станет великим князем, как сие было и при старом Олеге, и при мудром Ярославе...
Воевода Путята уж в который раз сердито твердил своё:
— Святополк и Мономах имеют между собой ряд — Новгороду быть за Святополком и посадить там его сына. Переяславщину же отдать Мономаху, а Волынь — Мономашичу. Так ли молвлю, думцы? — Путята наставлял ухо к Ратибору и Нерадцу и косил на них глазом.
— Да... да... — неохотно кивали те головами, не поднимая глаз на тысяцкого.
— Потому идти Мстиславу во Владимир-Волынский, а Ярославу Святополчичу — в Новгород... — Даже охрип от напряжения Путята.
— Не хотим Святополка! Не хотим и сына его! Хотим Мстислава! — снова гнули своё новгородские послы.
— Мстислава не дам! — кипятился Святополк. — Я великий киевский князь, и моя на то воля! Должны её блюсти!..
— Не хотим ни тебя, ни твоего сына, — твёрдо уставился в бегающие маленькие глазки Святополка новгородский боярин Добрыня Ядрейкович. — Хотим Мономашича. Его дал нам великий киевский князь Всеволод... Сами выкормили себе князя... А ты был когда-то у нас, да бежал опозоренный. Изменил нам! Теперь не желаем и рода твоего!
Святополк бегал по гриднице, размахивая перед глазами сидящих своей смятой парчовой накидкой. Её полы мешали длинным рукам князя, и он, захватив их концы в кулаки, поднимал в ярости руки вверх и тряс ими над головой.
— Вот пред вами сидят люди Мономаха. Спроси, Добрыня Ядрейкович, у них, с какими словами прислал их сюда мой дорогой брат Владимир, который мне роднее всех братьев! Что велел передать переяславский князь? Ратибор? Нерадец? Ну?.. Что умолкли? Говорите же! — Святополк глазами вцепился в непроницаемо спокойные лица переяславских бояр.
Ратибор поглаживал бороду. Смотрел куда-то поверх голов. Нерадец уставился на доски дубового стола, на котором стояли давно опустошённые серебряные кружки и лагвицы. Нерадец нехотя, останавливаясь после каждого произнесённого им слова, проговорил:
— Наш князь повелел сказать: да возьмут новгородцы себе Святополчича и идут в Новгород. А мой Мстислав да идёт ко Владимиру-Волынскому.
Широкоплечий Добрыня лишь крякнул, услыша такую речь.
— Этому не бывать. Свою волю желаем творить. Господин Великий Новгород на своём вече так приговорил. И быти по сему...
Снова Поток Туровский вскакивал на ноги и начинал напоминать новгородцам о законах Русской земли. Как приходили из Новгорода первые русские князья и как стали державить во всей Руси. И как с тех пор таков обычай стал укрепляться на Руси. Так и должно быть дальше...
Молчали новгородцы. Они хотели во что бы то ни стало посадить в Киеве своего выкормыша — умного Мстислава Мономашича. И тогда вдруг подал голос Гордята. Что дёрнуло его за язык?
— Ложь на твоих устах, боярин Поток! Русские князья появились не в Новгороде, а всегда были на Русской земле. Были князья — Люб и Чернь, от них же грады — Любеч и Чернигов. А здесь, в Киеве, княжил старый Кий. От него же и град Киев наречен. И русские князья держали в своих руках много земель славянских. И Новгородскую также.
Боярин Поток всем телом налёг на стол.
— А тебя ведь не спрашивают, израдца! — грозно рыкнул он на Гордяту.
— Но откуда это ведаешь? — встрепенулся Путята.
— От отца Нестора! — дерзко блеснул белыми зубами Гордята в ответ тысяцкому.
— Нестор? Это который сидит в Печёрах? — Святополк скривил тонкие синеватые губы. — Он, как и ты, изменник, всегда выступал супротив меня!
— Нет, княже, о себе не скажу, а вот Нестор — за тебя-то горой. Я сам читал в летописи его, как он восславляет тебя! — возразил Гордята. — Всё делает, дабы тебя подпереть словом и законом.
— Подпереть? Так почему же новгородских князей-варяг не признает? Они соединили все русские земли! — загудел Путята Вышатич, наверное обидевшись за свой род.
Гордята насмешливыми прищуренными глазами оглядел вытянувшиеся лица. Вишь ты, как всем хочется присвоить себе первенство на Русской земле! Готовы даже забыть великое своё прошлое, дабы себя возвеличить. И с какой злобой, с какой возносливостью теперь колют его ненавидящими взглядами! Потому с едким смехом бросил:
— Нестор молвит, что те варяги были — русы, а не из чужих племён. Как иные назывались норманны, англы альбо готландцы...
— Не признает Рюриковичей варягами? — вскипел Путята. — Те-те...
— Варяги — это не народ, это дружины воев. Там были и русы поморские, и другие народы. А Рюрик — слово лужицкое, что значит — «Сокол». И грады, и реки, и озера там часто называли Рюрик — то есть «сокол».
— Вы слышите? Киевский летописец восстаёт супротив своих законных князей! — вдруг вскипел и Добрыня Ядрейкович. Все века новгородские бояре считали себя выше других, ибо считали, что происходили не от своего, славянского, а от чужого — варяжского — корня. И оказывается, что это совсем не чужой корень, а также славянский... Тогда — какое же превосходство?
— Воевода, куда глядят твои люди? Что не свяжут рук этому монаху, который сеет ложь и мутит веру в княжескую власть? Не время ли ему предстать пред Всевышним на суде праведном, а? — Святополк снова мял в своих пригоршнях концы накидки.
Гордята растерянно хлопал глазами. Вот как попался — одним допёк, а других — предал. И за что? Задушат книжного черноризца за правду — и никакой пёс не тявкнет. Нужно спасать отца Нестора. Нужно сейчас же бежать к нему...
Гордята тихонько стал пробираться к двери, как вдруг услышал голос дремавшего доселе игумена:
— Почто, князь, сеешь напрасно гнев свой? Черноризец Нестор своими трудами неусыпными и молитвами защищает твою власть от посягательств иных князей. Он есть твой самый искренний защитник — защищает Словом твоё единодержавное правило. И тебе гордиться надобно таким приверженным тебе мужем. Обдарить бы милостию своей... честью...
Святополк посмотрел в одну сторону, в другую, засопел, замигал мутно-зелёными глазами. Удивлённо, будто ничего перед этим и не приказывал своему верному тысяцкому, поднял свои острые узкие плечи.
— Я что? Я... приму его. Одарю. И обитель твою не забуду, владыка. Только... зачем же он на Рюриковичей такое...
— Он ведь не против Рюриковичей. Он — за них. Но он утверждает старейшинство Киевской земли. Ведь она-то существовала ещё до Рюрика! И князья в ней бывали и раньше, до прихода Рюрика... — тяжело отдышался игумен печерский.
— Э-э, того не бывало! — вдруг грохнул кулаком по столу Добрыня. — Русские князья — все начались от новгородских. Вестимо! — Лицо его порозовело, в глазах блеснули светлые огоньки. Наверное, новгородский боярин нюхом учуял угрозу для честолюбивой и своевольной новгородской вольницы.
Гордята, неожиданно получив поддержку игумена, вновь осмелел.
— Русские князья пошли от Кия и его рода. Потому новгородцы и ездят к нам просить себе князей из стольного русского града. У нашего первопрестольного просите! — обернулся он в сторону Добрыни.
Святополк вдруг расхохотался. Конечно же у киевских властелинов нужно просить новгородцам себе князя, а не свою волю творить!
— Вижу, мудр наш книжник Нестор. Потому что правду молвит: Киев—град первопрестольный и отсюда великие князья посылают своих меньших братьев в волости. Путята, слыхал? Вот так и нужно разговаривать со своевольцами, как сей дружинник Василий. Поучись! Русский князь из первопрестольного Киева даёт вам князя по закону русскому — Ярослава.
Добрыня Ядрейкович тяжело поднялся:
— Благодарим, князь. Но Новгород живёт по своей правде — новогородской. И законы у него свои. Берём Мономашича Мстислава.
Новгородская сольба дружно встала из-за стола, молчаливо и величественно выплыла из гридницы, подметая пол длинными опашенями, подбитыми внизу мехом.
Путята Вышатич виновато скрёб затылок.
— Ты им о русских поконах и законах. А они — о своей вольнице. Упря-амый народец!..
— Поток, собирай дружину. Силой посажу в Новгороде Ярослава! — вскипел Святополк.
Тогда подал голос Ратибор:
— Снова будет братская война. Ты пойдёшь в землю Новгородскую свою волю творить, а твою землю возьмут половцы... Замирись с ними, князь.
— Замирись! — бросился к Святополку и Поток. Представил только, как снова кочевые орды пожгут его погосты и сёла, приобретённые им под Киевом. Только ведь возродились!.. Дёрнул за руку Путяту, он тоже имел вокруг много земель.
Путята протянул обе руки к Святополку:
— Клятые поганцы погубят нас!
— А Мономах? — резко повернулся к нему князь.
Ратибор засмеялся — и ничего не ответил. И Святополк понял: сегодня Мономах отнял у него Новгород, а завтра — отхватит и Киев!
— На всё Божья воля! — тихо бросил своим думцам, покидая палаты.
— А ты, братец, меня здорово подкузьмил... этим книжником! — уже миролюбиво басил Путята, обращаясь к Гордяте. — Почему же ушёл от нас? Почему перебежал ко князю переяславскому?
— Да... так, — отмахнулся от него Гордята.
— А ты не чуждайся меня. И отца своего, боярина Яна, забыл. Помер ведь он...
Гордята вдруг покраснел.
— Боярин Ян не мой отец! Отца нет у меня. Лишь мать свою знаю — Гайку!
Нерадец по-медвежьи шевельнулся за столом и только засопел. Ничего не сказал.
— Да что там, не чужой ведь ему. Учил тебя, растил. Да и мне сейчас — как родной. Заходи. Расскажи о себе. Аль торопишься в Переяславль? — Путята заглядывал в глаза Гордяте, обдумывая, какая польза может быть ему, боярину Путяте, от этого строптивого дружинника, который предал Святополка и переметнулся к Мономаху.
Все нынче бегут к Мономаху. Да... Видать, Мономах всё же сядет на киевском столе. Потому нужно подумать и о себе. Нужно показать пред людьми Мономаховыми, что он также душой — за Мономаха... что при Святополке он лишь по необходимости...
А сей учёный дружинник, Янов выкормыш, может, если что, засвидетельствовать своему князю, что Путята давно был благосклонен к Мономаху.
Да-а-а... нужно приголубить этого молодца. Вишь ты, как сумел угодить Святополку, даже игумен к нему присоединился. А служит ведь Мономаху.
— Ты приходи, братец, к моему двору. Приходи. — Путята сделал вид, будто смахнул с глаз набежавшую слезу. — Ох, вспоминал тебя Ян в свою смертную годину...
— Может, и зайду, — смутился Гордята от проявления неожиданной доброты киевского вельможи.
Но вдруг со страхом подумал: Путята чего-то ведь хочет от него... Приглашает не ради угощенья... А он, дурень, попался на его удочку!.. Вот ведь, всё-таки и в нём проявила себя холуйская кровь Нерадца. Есть в нём это тщеславие, это предательское славолюбие!.. А может, и не от Нерадца эти гнусные желания иногда пробуждаются в нём, а от Яна...
Вот так и в споре. Зачем было ему вмешиваться в эту княжескую ссору? Его слова никого не научили, разве что многих разозлили. Пощекотали самолюбие Святополка, а ведь они — против Мономаха. Теперь нету ему назад возвращения.
Горько от этого на душе. А в мыслях — сумятица...
Первый киевский боярин, Святополчий советчик и тысяцкий Путята Вышатич поставил свой терем на горе, над Боричевым узвозом, в соседстве с ремесленным Подолом, рядом с теремом Яна. Теперь два двора бояр-братьев были отгорожены от улицы высокими жердями, плотно сбитыми и укреплёнными на земляном валу. Со всех сторон двор боярина был защищён оградой. У ворот возвышались две башни из срубов — для стражников, с окошками-бойницами вверху.
Гордята горько улыбался: боярин Путята еле дождался, видать, смерти братца, чтобы присоединить к себе его огромное подворье и обнести общим валом... Эхма, долго ль собираешься жить на сем свете?
Гордята поднимался вверх обрывистой тропинкой, удивляясь людской жадности... Издали двор боярина напоминал небольшой градец. Похоже, что велеможный боярин боялся остаться один на один с чёрным людом, поселившимся внизу на Подоле. Поэтому и оберегал себя такими стенами, башнями, бойницами, окованными железом воротами.
Отсюда, снизу, из подольских колодцев ко двору Путяты водоносы таскали в вёдрах воду. Одни женщины...
Гордята остановился на полдороге, оглядел тропинку, ведущую от колодцев к терему. Крутая тропа! Шагов триста, а то и более, потому что не идёт прямо, а бежит по косогору. Сколько же сил забирает она у женщины, пока она донесёт полные ведра к боярскому двору!
Давно он живёт в Киеве, но как-то никогда не замечал, как тяжело даётся киевлянам, живущим на горе, эта чистая прохладная вода из подземных родников. Когда жил у боярина Яна или на дворе Святополка — пил сколько хотел, ибо всегда ведра в сенцах были полны. У Бестужей воду брали из колодца, выкопанного рядом, за калиткой. Весь конец гончарный брал оттуда воду. Но вот на гору, на боярский и княжеский двор, оказывается, воду носят снизу. Носят, тяжело сгибаясь под коромыслами или обрывая руки, женщины-челядницы. Вот как та, согнувшаяся под тяжестью коромысла, плавно раскачивающая вёдрами, чтобы не потерять из них ни капли, и так осторожно ступающая босыми ногами по каменистой дорожке. Глядит пристально под ноги. На лицо надвинут платок — только и света перед глазами, что эта каменная тропинка...
Гордята сочувственно посмотрел на женщину. Изо дня в день, из года в год эдак... И больше ничего не знать, не видеть... да и захочешь ли что-то знать или видеть после такой работы?..
Догнав женщину, легонько взял её за локоть. Она вздрогнула. Даже вода выплеснулась из вёдер. Удивлённо подняла на него глаза.
— Давай помогу! — Старался голосом передать ей своё расположение. Протянул руки к коромыслу, чтобы перебросить его на своё плечо.
— Ой! — тихо вскрикнула женщина. Крепкие смуглые руки её вцепились в коромысло и не отдавали его. — Гордята... сие ты?
— Я! — удивился он. Кто это мог знать его? Милея?..
Всматривался в прищуренные под длинными ресницами глаза, которые смеялись. В них стояли слёзы.
— Не узна-ал! — мелодично звучит её смех. — Не узна-ал! Руту тяжело узнать, правда? Когда-то возле Печерской обители... Не помнишь? О Перуновом капище тебе тогда говорила. Неужто забыл?
Нет, Гордята не забыл... Это от неожиданности у него мир перевернулся в глазах... И зашумело в ушах... И дыхание зашлось от шальной радости... Конечно же — это Рута... Княжья Рута. Та, затерявшаяся в сутолоке жизни.
Хотел сказать ей о своей радости всеми словами сразу. Но они не шли на язык. Наседали одно на другое, прыгали — и не поддавались его желанию. Не мог выхватить ни одного из них! Всматривался в лицо Руты и глуповато улыбался. Даже не в состоянии был перестать блаженно и бессмысленно улыбаться...
Она же будто не замечала его растерянности и смеялась всем лицом, всеми морщинками вокруг рта и вокруг глаз — и отблеск этой радости колебался в мелкой зяби воды в вёдрах.
— Дай поднесу! — Решительно подхватил коромысло с её плеча и подставил своё, но сделал это так неловко и торопливо, что выплеснул много воды.
Вопросительно посмотрел в её глаза — не упрекает ли? Нет. Рута смеялась своим удивительным, каким-то тихим и искрящимся смехом и будто не замечала его неловкости. А он быстро побежал вверх по вьющейся тропке. Но через несколько десятков шагов почувствовал, что в его груди перехватило дыхание. Остановился. Передохнул. Эге! Если вот так ежедневно бегать по такой круче, то быстро и душа из тебя вон!
— Не беги! Не беги! — просила его Рута вослед. — Ты же непривычен к этой работе.
Когда ведра были отнесены на хозяйский двор и вода из них была перелита в высокие бочки, Гордята облегчённо вздохнул. Теперь мог о чём-то спросить Руту, мог спокойно слушать её певучий малиновый голос. И о себе мог что-то рассказать. Но что? Лучше послушать её. В его жизни ничего ведь такого не случилось. И ничего не изменилось. Служил Святополку, потом служил Мономаху. А сейчас — не знает кому. Ещё мог бы сказать, что не забыл её. И что хотел бы всегда видеть. Но как скажешь об этом?.. Он лучше послушает Руту, посмотрит на её радость и причастится ею. Напьётся этого золотисто-медового смеха и певучего голоса, что так затаённо-сдержанно клокотал в груди и рвался на волю... Вдруг он вспомнил, что видел Руту не такой. Даже не знал, красива ли она. Окинул её взглядом: в самом деле, красива Рута или нет?
Но с грустью почувствовал, что в его сердце, наверное, закралась старость. Искал уже не внешней красоты, которая тешит глаз! На иную красоту отозвалось его сердце — на ту, которая светилась в Рутиных глазах. Поэтому в следующее мгновенье она показалась ему самой красивой и желанной на свете!
И всё же отметил, что со времени их первой встречи, за все эти годы мытарств, Рута осунулась. Лицо её как-то посерело. Или это жёсткая смуглота лета огрубила её кожу? В сеточках морщин у глаз и переносицы, на запавших щеках залегла усталость и горечь. И руки у неё, такие тонкие, сильные и цепкие... самые красивые руки на свете! — сейчас утомлённо, как плети висели вдоль тела...
Рута жила с маленьким сынишкой в хижине на Подоле, ближе к колодцам. Там стояли избы многих челядников Путятиных. Намаявшись за день на боярском дворе, они успевали только едва прикорнуть ночью, а утром нужно было снова бежать на Гору.
— Хочешь посмотреть на наше хозяйство? Идём! — Она схватила под руку коромысло и решительно толкнула Гордяту в плечо. — День уж на исходе... Солнце садится. Работе конец...
Солнце на самом деле садилось за верхушки притихших деревьев, садилось где-то за Почайной, за лугами, за лесами. Ласково светило им обоим в глаза, будто приговаривало: и ваше солнце в очах — невечно! Невечно!..
...Так и остался Гордята в хижине Руты. Не вернулся в Переяслав. Не появился и у Путяты. Яна уже нет. Не сможет его и за мать упрекнуть. Да и зачем? Матери не воскресить...
Не раз потом, лёжа на сене под тёплыми звёздами, Гордята вспоминал эту каменистую крутую тропку, которая свела его с Рутой. И снова нежность вспыхивала в нём к этой долгожданной женщине. И был он неизмеримо счастлив и благодарен судьбе...
Как мало, кажется, нужно человеку для счастья. Одна искренняя и преданная душа рядом... Так думал он.
Но сия истина открывалась, наверное, не всем. Поэтому люди ищут земное счастье совсем не там, где оно есть! Выстраивают высокие терема с башнями, ставят храмы, лезут к небу. Убивают один другого, выкалывают глаза... гребут в свою ненасытную глотку земли, золото, себе подобных... уничижаются перед ничтожными... И сами от этого становятся униженными и осмеянными... И умирают несчастными... всеми презираемыми, с грузом грехов, посеянных ими же на земле! После них не остаётся ничего. Из людской памяти выветриваются даже имена ненасытцев.
Мудро сотворён человек. Немного ему нужно. Да не каждому эта мудрость доступна.
Гордята считал, что постиг и земную мудрость, и земное счастье. Думал сейчас лишь о том, как высвободить Руту от адского коромысла, где достать какие-то куны или медницы для хлеба насущного. Служить отныне никому не хотел. Да и не мог. Торговать нечем было. Что он умел?
Вспомнил, что умел когда-то лепить горшки. Спасибо Бестужам — научили. А больше — не умел ничего. Разве что любил ещё храмы из глины лепить — для забавки. Но на этих игрушках хлеба не заработаешь. Для горшков же нужен гончарный круг, гончарная печь...
Встретил как-то старого Бестужа. Рассказал ему о своей нужде. Старый гончар вечером прислал Брайка. Тот приволок гончарный круг. На другой день вдвоём с Брайком принесли в корзинах глину.
Помогли добрые подольские гончары...
Однажды на подворье хижины заглянула Милея. Молчала, осматривала чисто выбеленную избу, ровно подведённую красной глиной завалинку, тщательно залатанные дерюги на скамье. Так же молча подошла к сыну Руты — Гордяте-меньшему, подарила ему глиняную лошадку, которая высвистывала на все лады, когда в неё изо всех сил подуть. Потом подошла к Гордяте-старшему, который сидел во дворе за своим гончарным кругом, медленно водил пальцами по круглым бокам горшка.
— Сие сын Рутки, что ль?
Гордята не поднял глаз. Пристально всматривался в ровные полоски, остававшиеся на боках ещё мягкого горшка.
— Сие наш сын, Милея.
Малыш, раздувая от удовольствия смугло-румяные щёчки, счастливо сиял чёрными угольками глаз.
Лицо Милеи порозовело от возмущения.
— Ханский последыш, а не твой сын, Гордята. Думаешь, что собой прикрыл Руткин позор? Люди ведь знают, кого ты подобрал.
Гордята стиснул зубы, резко двинул ногой гончарный круг. Он закружился, затарахтел, и перед его глазами тоже всё закружилось — и горшок, который вырос из-под ладони Гордяты, вытянулся и вдруг превратился в длинношеий кувшин. Пальцы и ладони Гордяты прижали и отглаживали длинное горло кувшина — и оно всё вытягивалось и вытягивалось... и был уже это не кувшин, а высокая, стройная лагвица, будто лебедица.
Милея стояла рядом, ожидая от Гордяты ответа. Ведь он слышал её оскорбительные слова. Но он молчал, и его упрямое молчание вдруг унизило её. Она поймала на себе его быстрый насмешливый взгляд — и вся сжалась. Да, конечно, не принесла она ему дитя... Не смогла.
Но Милея не желала уходить со двора Руты побеждённой. От неё Гордята отказался — пусть знает, к кому пристал. Она собрала в себе все свои силы и горделиво тряхнула головой:
— Да и с боярином она...
Гордята долгим взглядом упёрся в её искажённое тихой злобой лицо. О, Милея, как видно, уже пришла в себя, оставив разгульные пиры! Тело налилось, появился румянец. И злость к тем, на ком легко вымещать свои обиды, захлестнула её всю... Хотел вытолкать гостью за калитку. Но Милея, почувствовав его настроение, ловко увернулась от него и подскочила к малышу, который стоял на коленях возле своей глиняной лошадки и вёл с нею беседу, показывая новой забавке свои игрушки:
— Погляди-ка, Воронец, какой у меня есть градок! Скок-скок! Скачи вот сюда. Здесь теремок стоит. Ну, свисти, свисти! Стой! А вот здесь храм. В нём живёт Белобог. Сие добрый бог, не бойся его. Он всем людям даёт солнышко и хлеб. А здесь живёт Ярило-идол. А это — Див... и Перун-защитник...
Милея наклонилась к мальчику, с удивлением прислушивалась к его словам.
— Этой забаве кто тебя научил? — сладким голоском обратилась она к нему.
— Отец мой, Гордята, — не отрываясь от игры, бросил малыш.
— Гм... — поджала она губы и гордо направилась к выходу.
Гордята подбежал к калитке и, как только рука Милеи её отпустила, быстро запер калитку на засовку. И лишь тогда облегчённо вздохнул... Гордята подумал, что он трижды счастлив, ибо судьба вовремя разлучила его с этой голубоглазой змеёй с кожей как шёлк и со сладким заискивающим голосом. Она хотела отравить ему жизнь именно теперь, когда он был так счастлив.
Посуду его — иногда похожую на головы каких-то причудливых птиц и зверей — киевляне покупали с удовольствием.
Но так продолжалось недолго.
Вскоре на многолюдном Подольском торжище у старого капища Волоса поползли слухи о дивном гончаре-волхве, который тайно лепит глиняные храмы для вороженья.
О чём волхвует гончар? Может, это от его колдовства ремесленный люд на Подоле всё чаще стал голодать? А может, эта жена его, Рутка-кудесница, подговаривает воеводу Путяту, дабы он напускал на бедный люд киевский своих дружинников, которые вытягивают из народа все соки. Берегитесь, честные люди, сих волхвов. Они в дружбе с чёрными силами — растят у себя ханского сына, чтобы потом, когда вырастет, отдать всех русичей под руку половецких ханов! Дитя это ещё мало, а уже умеет беседовать и с Ярилом, и с Дивом, и с Перуном, умеет накликать на бедную чернь костлявую Морану с косой и слюнявые Злыдни. Разве не видите, сколько чёрных воронов кружит в это лето над Киевом? И как дерзко, обнаглев, стрекочут сороки, чувствуя беду? И как солнце туманится белой мглой — это значит, по земле бегают оборотни. Они голосистыми петухами перекликаются из конца в конец, быстрокрылыми соколами взлетают ввысь, стаями одичавших псов носятся улицами и переулками Подола, оскалив зубы на горожан...
Среди сумятицы и нашёптываний, шедших невесть откуда, на небе появилось огненное знамение. Три дня и три ночи красным огнём полыхало небо. Ночью было светло как днём. А потом солнце оградилось тремя радугами и так стояло. Черноризцы предвещали конец света. А на пустых торжищах выли псы. Чёрный оголодавший ремесленный люд хватал в руки колья и шёл громить онбары бояр и купцов.
Более всего досталось подольским купчинам, от которых зависели ремесленники. Они также годами держали должников в своих руках, часто продавая их в рабство. Этих проданных холопов арабские и хазарские купцы уводили в города на Чёрное море и там продавали грекам и персам. Мятежные киевляне напали на гостиные дворы на Подоле и освободили толпы холопов-рабов, которых уже собирались выводить из города. Купчины бросились к великому киевскому князю за помощью. Святополк послал воеводу Путяту с гридями на бедняцкие концы Подола. На кожемяцком, кузнечном и шевском конце княжьи гриди похватали немало бунтовщиков и куда-то увезли их. Потом говорили, что тех несчастных воевода хочет продать половцам, а пока их закрыли в ямах.
Толпы рассвирепевших подолян с мечами в руках, ратищами, копьями бросились к Жидовской слободе, затаившейся за Ярославовым валом. Но путь им преградили княжьи гриди. Путята разогнал бунтовщиков. Тогда они бросились к торжищу, стали громить лавки. Вот тогда-то вспомнили и гончара-волхва, который жил неподалёку от Боричева узвоза и своим волшебством будто бы накликал на них беду.
— Сжечь его! Живьём в огонь!.. Хватайте этого половчонка!
— А-а-а! — Дикий крик Руты на мгновенье остановил толпу, и Гордята успел закрыть дверь избы, втолкнув туда мальчонку и Руту.
— Люди! Люди! Что мы вам плохого сделали? — обратился он к разъярённой толпе, — За что гнев имеете на нас? Вас обманывают! Ничтожные холуи! Они хотят, чтобы мы убивали друг друга. Вот мои руки — глядите! Они такие же, как и ваши, в мозолях. — Поднял вверх распухшие от глины красные руки. — А жена моя — челядница на дворе у Путяты. Знаете её — воду носит. Вон на ту гору... За кусок хлеба...
— Знаем! Слыхали!
— Какое же зло можем содеять вам? Сами гибнем в бедности и нужде. Идите в избу — смотрите, коль не верите.
— Волшбой зло накликаете, молвят!
— Когда могли бы, давно накликали бы гнев Перуна на головы всех богатычей и кровопийц. Разве не так?
— Брешет, яко пёс!
— А может, начародействовал золото и запрятал? Идём-ка, посмотрим в хате. Держите его, чтобы не убежал.
— Вот! Видите! Вот они, чародейские забавки! — кто-то пронзительно взвизгнул возле кучи золотистого песка, где стояли глиняные игрушки Гордяты-меньшего — его градок с теремками и сказочными храмами-капищами.
— Это ведьмовские чары! На огонь его! — Толпа протянула руки к Гордяте, желая раздавить его в своей слепой злобе.
— Оставь его! Оставь! — пронзительно-требовательный женский голос оглушил мятежников. — Невиновен он! Я знаю!
Расталкивая толпу людей, опьянённых желанием отомстить за свои беды хотя бы кому-нибудь, от калитки шла к Гордяте-гончару высокая старая женщина. В белом повое, статная, строгая, она властно ставила перед собой посох, и люди, увидев её, со страхом бросились врассыпную. На ней была белая полотняная сорочка, скупо вышитая чёрным, а книзу от пояса спускалась клетчатая плахта с глубокими разрезами по бокам и спереди. За спиной старой женщины болталась на верёвочке пустая кайстра[178].
Гордята с испугом всматривался в её суровое лицо, в плотно сжатый рот и не мог припомнить, кто она.
— Слышу беду твою, сын, — молвила громко женщина. Оглядела притихших и растерянных ворохобников. — Эй, вы, слепые сердцем, тёмные ваши души! Почто на честного бедняка руку подняли?
В наступившей вдруг тишине кто-то несмело сказал:
— Пусть не чародействует с Чернобогом!
— Кто видел се? Говорите — кто? А может, сам Белобог к нему в гости приходит! А может, это Перун своё доброе слово хочет ему сказать?..
— Люди видели. Плетёт на нас, мол, сети со своей Руткой. А она боярина подговаривает.
— По чьему наущению пришли? — сурово нахмурила брови высокая белая старица, ощупывая лица своими гневными прозрачно-голубыми глазами. — Не ведаете, что творите: глухие души ваши! Сие убогость ваша разрушила их... убогость и злоба света утомили ваши сердца... Какая кому корысть от его смерти? Только грех упадёт на ваши головы и на ваш род, неразумные вы люди! Забытые вами боги не простят вам этого греха... Идите прочь!
Остывшие от злобы мужи растерянно осматривались вокруг, неловко толклись на месте, пряча глаза друг от друга.
— Разве знаем... Молвят, что волхвует... Тайно воздвигает капища тёмным силам...
Женщина уловила перемену в настроении толпы, подняла руку вверх.
— Да, наш Гордята — здатель! Творит дива, которые только в сказах живут. Из-за чёрствых людских душ не может пробиться к людям его мечта о красоте... Идите! — сердито взмахнула на притихших подолян. — А я к тебе, сын мой... — Женщина повернулась к Гордяте.
Люди быстро стали покидать двор, спрашивая себя: а кто же сия белая старица? Откуда она появилась? Может, какая-то колдунья?..
— Откуда ведаешь обо мне, мать? Кто еси? — удивлённо спрашивал её и Гордята.
— Я Живка. Слыхал? Ничего, что не знаешь меня. Мало кто знает моё имя.
— А меня откуда ведаешь?
— Нерадец прибыл со дружиной во Владимир-Волынский. От него и услышала, что есть такой здатель-волхв в Киеве-граде.
— Но ведь Киев — вон какой огромный! Яко Цареград ромейский.
— Бывал там?
— Нет, слышал только. Баяли бывалые. И в книгах пишут.
— Всё-то ты знаешь, сын. А того не ведаешь, что каждый ребёнок на Подоле забавляется твоими глиняными капищами. Вот через них и нашла тебя.
— Рута! Где ты? Иди-ка сюда. Встречай нашу мать-спасительницу.
— Охо-хо, скольких я спасла! А матерью никто не назвал... Но... я ненадолго. Дай воды!
Рута быстро поставила на землю Гордяту-младшего, которого всё ещё прижимала к груди, бросилась в сенцы к скамейке, взяла кружку, плеснула в неё воды, потом вылила её, снова набрала из ведра полную кружку чистой воды.
— Заходи в дом, мать. — Рута ласково заглядывала в глаза своей неожиданной гостье, не знала, чем ей услужить.
— Спасибо, дочка. Много времени потеряла я на поиски вас. Сейчас ухожу назад, домой. Я к тебе, Гордята. Дай мне одну свою забавку, которой твой малыш забавляется. Вон ту! — она указала посохом на многоглавый храмец, давно уже вылепленный Гордятой для сына. — Завалился мой Живец, Гордята, капище моё. От старости рухнул. Нужно новый поставить. А лет мне отмерено уже немного. Хочу новый храм поставить, чтобы лучше был старого. Древоделы на Волыни найдутся. Вот эти твои островерхие башенки и крыши сделают, думаю. Но как считаешь, лучше брать для них дуб или сосну?
— Мать... ведь сие будет идольское капище, а не христианский храм, — тихо молвил Гордята. — Нынче грешно воздвигать такие. Нынче лишь христианские храмы дозволено... А такие — жгут...
— Разве ты стал истинным христианином, Гордята? Разве умерла в тебе душа, которая ведёт свой разговор с лесом... рекой... травой... землёй? Живой дух нашей земли никогда не оставит её. Нам его нужно беречь, никогда не отрекаться от него. Когда же забудем — себя забудем, и мир оставит нас...
Живка наклонилась, подняла с земли одну из игрушек Гордяты-меньшего, вытащила из кайстры кусок полотна, завернула в него тяжеловатый глиняный храмец и осторожно положила в торбу.
— Будьте здоровы. — Живка внимательно и грустно смотрела на Гордяту и Руту. — Далеко идти мне. Увидимся ли ещё...
Посох её постукивал по твёрдой каменистой тропинке к калитке. Шла медленно. Высокая, белая, величественная, не согнутая годами...
Мелкий тёплый дождь сеялся над зелёным раздольем степи и закрывал даль сизой мглой. От этого дождя, казалось, на глазах распускалось всё вокруг, становилась выше трава. Раскисла земля, переполнились речки водой.
Мономах устало оглядывался. Если бы сейчас половецкая орда смогла их настигнуть, погибли бы все — и его воины, и Святополчья дружина, и ратники Давида Святославича. Полегли бы в размякшей степи. Но в эту тёплую непогодь и половцы на своих лошадях далеко не продвинутся. И веж своих быстро не покатят. Тем временем русичи, не останавливаясь, углубятся в степь. В степь... только в степь...
Мономах удовлетворённо поднимался на стременах, вглядывался в затянутый мглой зелёный простор. Сколько идут уже, а половцев не видать. Оттеснил их с Поднепровья. До Дона великого покатили свои вежи.
С того времени, когда рать Мономаха жестоко погромила орды на Суде, ханы стали бояться встреч с русичами. Пугают своих детей именем Мономаха. Грозный переяславский князь нагнал страх также и на орды, кочующие в Подонье, в Приазовье и даже около Железных ворот Кавказа. Придёт время, Мономах это знал, певцы-былинники создадут и о нём песни-думы, как он землю Русскую заступил мечом от поганых половчинов. Но при жизни вряд ли дождаться ему заслуженных почестей. Недолгий остался у него срок быть на земле. Отец его, Всеволод, прожил шестьдесят три года. Ему нынче — пятьдесят семь... Двух жён своих пережил, да будет им царство небесное, ибо земного он им не смог дать. Переженил всех своих сыновей, кроме самого младшего — Гюргия, которому отдал Ростовскую отчину. Много орд половецких погромил, воюя с братьями, сыновцами, утишая крамолу или разжигая её... Кажется, всегда выходил победителем в этих многочисленных битвах. Но всё же одной победы — самой желанной! — так и не добыл.
Вот рядом с ним едет его извечный соперник — Святополк. Болтается в седле его длинное костлявое тело. Ноги чуть не по земле волочатся. Горделиво осматривает воинство. Дождь, сырая мгла не портят ему настроения. Возвращается к своему стольному Киеву победителем. Монахи в монастырях небось уже разучивают новые псалмы и песнопения, дабы прославить своего князя — их защитника. Звонари натягивают покрепче верёвки, чтобы изо всех сил ударить в стоголосье меди и приветствовать Святополка-победителя. Наверняка больше других стараются печерские черноризцы. Великий киевский князь с помощью своих думцев наконец понял, что с этим монастырём нельзя ссориться, с ним необходимо дружить. Потому и отодвинул подальше от себя грека-митрополита, который всегда тянул руку за Мономаховичей и за ромейскую империю. Разбогатевшая Печерская обитель нынче стала будто вотчиной Святополка. Он её одаривает и поднимает в первую очередь, и она служит нынче ему, изо всех сил подпирает. Да, это самая большая победа Святополка. Теперь в летопись отец Нестор запишет ещё одну победу над половецкими ордами и припишет её, конечно, Святополку — киевскому князю, властителю всей земли Русской. Вот так научился Святополк с помощью своих думцев-бояр и монахов на Мономаховом хребте добывать себе славу...
Когда-то, бывало, туровского князя едва вытягивали из уютного терема в половецкую степь. Но когда всё же с помощью Бога и разума Владимира Всеволодовича к русичам стала приходить одна победа за другой, то только позови — и Святополк бежит к нему со своей дружиной. Боится, что Мономах добудет победу один и законный властитель русских земель окажется обойдённым славой. За много лет властвования Святополк познал сладкий и хмельной вкус славы, и теперь уже его не отучишь от неё. Цепко держит он её в своих длинных костлявых пальцах. Цепче, нежели седло держит его тело на лошади. Ибо за все эти годы Святополк так и не научился сноровисто ездить верхом. Сказано — не степи были его колыбелью!
Мономах время от времени хмурит седые брови, взглядывает из-подо лба на своего более удачливого соперника. Стар, братец, уж и ты. Посерело лицо, поседели пряди в темно-пепельных волосах и в козлиной бородке... Годы не щадят и счастливцев...
Чавкает под копытами заболоченная, размякшая от дождя земля. Тяжёлый влажный воздух давит на грудь, тяжело дышать... А раньше он никогда не замечал плохой погоды. Дождь ли, снег ли, жара — всегда был натянут как тетива, всегда мог сорваться и лететь по степи, подминая под конские копыта простор. Но теперь вот давит ему в грудь... от этой влажности... от дождевой мглы... Но, может, и не от погоды это... Может, виновата во всём самоуверенность и чванство Святополка...
После волынской кутерьмы Мономах оставил Святополка. Не мог глядеть, как великий князь жадно подгребал под себя одну волость за другой. Черниговский Давид и Святополк двинулись на слепого Василька и на Володаря Перемышлянского. Давид Волынский же позвал к себе хана Боняка, Святополк и Давид Черниговский призвали в помощь угров и стали снова кликать Мономаха. Тот был тогда на Волге. «Торопись, брат, к нам, изгоним Ростиславичей, отнимем у них волости». — «Не могу идти на братьев, — отвечал тогда Мономах. — Не переступлю клятву, которую дал на кресте».
И побили тогда Ростиславичи раздирателей земли — отстояли свои земли. Но град Владимир-Волынский Святополк всё же отобрал у Давида Игоревича и посадил там своего сына, не спросясь у Мономаха.
Владимир Мономах молча неистовствовал — только серьгой своей роденьской позванивал в правом ухе. И начал писать своё «Поученье» детям. Учил их следовать Божьей воле. Но, может, тем самым погасил в своей душе досаду. «Почто печалишься, душа моя? Почто бунтуешь меня? Уповай на Бога, ибо верую в него...» Потом начал выписывать из Псалтыря изречения. Но пред глазами у него стоял вероломный ненасытный Святополк. «Всякий день милостыню творит праведник, и одолженье и племя его благословенно будет. Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир, и отгони зло, и живи во веки веков...»
Да! Таким должен быть великий князь — самый первый христианин, избранец Бога и миротворец. А Святополк? Все видят, сколько зла вокруг него... сколько крови, слёз, греха... Будто не поученье детям, взрослым уже мужам, писал, а осуждал своего соперника словами из святого письма и накликал на него гнев Божий...
Властитель душ людских и кормчий державы должен быть милостивым, человеколюбивым, щедрым, справедливым, дабы не восставали против него. Не упиваться властью, ни во что ставить честь, которую принимаешь ото всех только за то, что власть в своих руках имеешь. Вот как он, христолюбивый Мономах, который Богом назначен от рождения для престола и для власти. И он выжидает её... Долгие годы идёт к ней, длинными дорогами... Но когда-то же дойдёт — он в это верит. И потому своей волею и с помощью Бога сам отгранивает характер свой, защитника людей худых и хозяина земли.
«Всего же более убогих не забывайте, и насколько можете, по силе, кормите и подавайте сироте, и вдовицы оправдайте сами, и не давайте сильным сгубити человека. Ни правого, ни обидчика не убивайте и не велите убити его...»
Мономах никого в своей жизни не убивал. Кроме половчинов лютых, врагов Русской земли. У него руки чистые — за все годы не убил никого, разве что дворня его иль дружинники какие, — в том его вины не было. Каждый человек в ответе пред Богом за деянья свои...
«Паче всего гадости не имейте в сердце и в уме...» Яко сей скоморох Святополк, уцепившийся за отчий стол. И от гордости своей, люди сами видят, оглох и ослеп душой и сердцем.
Но на всё, видать, Божья воля. Может, и лучше, что он, Святополк, таков. Был бы другим — кто сказал бы, что на столе — глупец, а в половецком поле — мудрец?! И Мономах бы, может, не имел бы той славы, которую нынче имеет. А к нему теперь бегут все меньшие князьки, молят: спаси от раздирателя! спаси от половчинов! И старшие князья обращаются к нему: замири нас!
Мономах брался с радостью за замирение. Ведь бегут не к великому и законному властелину, а к нему, которого боятся, чтят и которому ох как завидуют!
Тогда ещё, после волынской войны, переяславский князь бросил клич всем князьям — съехаться в Витичев, к озеру. Дабы суд праведный справить над Давидом-разбойником, который вытянул глаза у брата Василька и два года проливал братскую кровь в межусобице. Собрались князья судить Давида, а о его подручном, о поспешителе его — Святополке, молчали. Лишь мысленно присоединяли великого князя к этому откровенному злодею и татю. Ибо осудить Святополка — значит прогнать его из Киева. Но когда прогнать — кого тогда ставить? Конечно, Мономаха. Но князья этого не хотели, каждый тайно желал себе забрать киевский стол.
Был тогда месяц зарев. Русичи называли его ещё серпень, месяц жатвы. Над глухими тёмными пущами повиснул круглый месяц. Рассветы начинались диким рёвом оленей, которые собирались в стада на свои свадьбы, начинающиеся со смертельных побоищ самцов. В них определялся самый сильный, самый ловкий вожак, который в следующую весну должен дать новое поколение сильных и здоровых питомцев. Только он — самый могучий — имел право на продолжение своего рода...
Князья молча прислушивались к отдалённому зову пущ, тайно вздыхали об охотничьих ловах, но глазами цепко следили друг за другом. Кабы тот суд над Давидом — и вместе над Святополком — не перешёл своей границы. Мудрый Мономах наверняка хочет использовать этот съезд князей земли Русской, и стоило лишь одному из князей крикнуть: «Долой Святополка!» — как здесь же вынырнет иной заклич: «Хотим Мономаха!» Нет-нет, они не должны допустить готовящихся Мономахом козней. И поэтому были настороже. И бдительно сторожили честь бесчестного Святополка. Из-за страха.
Наконец к Витичевому озеру подъехал на коне дерзкий Давид Игоревич. Не убоялся прибыть! Соскочил на землю, подошёл к костру, вокруг которого были разбиты шатры князей и их бояр-думцев. Остановился перед Мономахом, стоявшим в окружении своих братьев и дружин-бояр. Горделиво поднял голову.
— Почто мя есть призвали? Се я есмь. Кому на меня обида?
Князья-судьи остолбенели от его наглости. Будто не он провинился перед своими братьями, а они — перед ним. Давид подошёл к Святополку — как равный к равному. Известно — оба одинаково в братскую кровь руки опускали!
Святополк бросился к своему шатру. А что, если Давид расскажет, что это он, великий князь, велел ослепить Василька? Что, если всю вину на него свалит — и сам очистится от обвинений? Наглец Давид не побоится предать его. Святополку лучше спрятаться...
Но Мономах одним прыжком преградил беглецу дорогу.
— Почто убегаешь, братец? Стой перед всеми нами и ответ держи.
Давид победоносно дёрнул головой. Мономаху не терпится! Мономах уже и Святополка к ответу тащит?! А что же иные князья? Молчат! Знают ведь, куда дело клонится...
— Ты сам сказал, Давид, хочу пожаловаться на свои кривды. Говори! — Мономах требовательно смотрел на обнаглевшего князя-татя.
Давид уже начинал сердиться. Раздувал широкие ноздри короткого носа — но куда же князья смотрят? Мономах всеми верховодит, а они молчат!
— Что глаза вытащил брату нашему Васильку? Хочешь, дабы и тебе отплатили тем же?
Давид вдруг испугался. Присмотрелся к лицам своим судей.
Неумолимый грозный Мономах обжигает его взглядом больших карих очей. Гневно колеблется его серебряная серьга в ухе. Черниговский Олег и новгород-северский Давид на него также глядят с осуждением. Уж на что и они поразбойничали на земле Русской и поганых половцев приводили не единожды, но братьев своих не ослепляли! — говорят их осуждающие взгляды. А что, если и в самом деле Давида ожидает судьба Василька? Что же молчит великий князь?
Святополк прячет глаза, зябко поводит узкими плечами... Давид Игоревич обмяк. Будто тот страх Святополчий передался и ему.
Мономах рукой всех позвал к себе в шатёр. Ушли советоваться князья-судьи. А что советоваться? Брат он им всем — этот Давид окаянный. Да и не сам повинен во всём. Убить его — братья-князья начнут и других своих соперников убивать. Ослепить — злом лишь породишь большее зло. Новую беду накличешь на братьев. Начнут один другого ослеплять, как те ромеи-византийцы.
Давид обречённо топчется у костра. Изгой. Всеми отвергнутый. Всем ненавистный. Ожидал своей судьбы... А может, в эти минуты проклинал свою жизнь... Много чего, наверное, он отдал бы в этот миг, чтобы вернуть всё назад и начать жить сначала... Да видишь ли, ничегошеньки на этом свете не возвращается из того, что миновало. Кроме беды. Метнёшь в кого-то ею — гляди, через годы на тебя падает она, и во сто крат большая!..
Из шатра Мономаха наконец вышли доверенные бояре. Князья пренебрегли сами говорить с ним. От Святополка вышел Путята Вышатич, от Мономаха два боярина — Ратибор и Обогостя. Давид вдруг понял, что все эти годы борьбы были для него напрасными. Что он ничего не приобрёл ни кознями, ни жестокостями, ни лукавством и что всё, что имел раньше, уже потерял.
Молвил Ратибор:
— Велели князья сказать: не дадим тебе Волынской земли.
— Сие моя отчина! — вскрикнул Давид.
— Отныне нет у тебя отчины — за зло твоё.
— Сё не я... Сё Святополк всё сотворил! — Давид хватался за свою последнюю надежду.
— Велел тебе сказать Мономах: ты бросил между нами нож, а сего не бывало на Русской земле. Но зла тебе не будет — только иди в Бужский острог и сиди там. Возьми для кормления Дубен и Черторыйск. И ещё Володимир Всеволодович даёт тебе двести гривен. Убирайся прочь!
Давид Игоревич вдруг вскипел — его выбрасывают из своей среды братья-князья, и больше никогда ему не подняться в ряды первых князей, которые властвуют на Русской земле...
— Волынь — моя отчина от деда. Не отдам! Ярослав отцу моему дал в удел...
Но бояре повернулись к нему спинами и скрылись в шатре. Его, Давида Игоревича, уже как бы не было. Он теперь — нищ. Никто и ничто, пустое место.
Его отрок молча подвёл ему коня. Конечно, ему осталось только выполнить волю властного Мономаха. Против кого плёл сети? Против этого могучего, богатейшего и мудрейшего князя Русской земли? Который так настойчиво и осторожно рвётся в Киев? Так не бывать сему!
Крикнул уже из седла:
— А тебе, Мономаше, всё равно Киева не видать! Вот тебе что, вот! — переплёл пальцы и потряс в воздухе огромным кукишем. И громко расхохотался. — Не видать тебе стольного как своей седницы! Га-га-га! А шапку твою ромейскую из твоего терема переяславского украли. Га-га!.. Мои челядники!.. Половцам продали!
Рванул узды, вздыбил коня — и исчез. Но все уже знали, что отныне Давид нигде не спрячется от гнева Мономаха и что ему один конец — сидеть вечно в Бужском остроге.
Для Мономаха слова Давида Игоревича оказались вещими. Олег Черниговский и брат его Давид Новгород-Северский, обещавшие до этого стянуть Святополка за подол сорочки с киевского стола, теперь молчали. Наказали Игоревича — и успокоились. Не хотели дальше поддерживать Мономаха. И сердце сжималось. За эту шапку царскую горечь брала. Не уберёг... Тати Давида, видать, по его наущению украли...
Всё окончилось торопливым крестоцелованием и клятвами в верности дедовским заповедям. Мономах ничего так и не достиг. Хилый, облезший скоморох Святополк старел на киевском троне, слабел разумом и всё больше становился добычей киевских бояр. И чем больше выживал из ума и терял силы, тем нужнее становился киевским велеможцам. За его спиной его именем теперь управляла боярская вольница.
Мономаху иногда казалось, что этот болезненный полоумный правитель — вечен, что, даже если бы он умер, бояре сделали бы из него чучело, поставили бы в гриднице и так же били бы пред ним поклоны, а монахи заставляли бы чернь молиться ему и его именем управляли бы дальше. Выгоден князь. Всем удобен. Ни во что не вмешивается, делает всё, что ему скажут его думцы... Над ним тайно потешаются, составляют неприличные оповеди, и он знает об этом. Но знает, что он всех устраивает. Потому ему прощают и злобность, и ненасытство, и даже то, что свой стольный град давно отдал на откуп за серебро богатым купцам.
И Мономах устал ожидать. Устал и бороться за киевский стол. Знал ведь, велеможцы киевские не откроют ему Золотых ворот. Наверное, ошиблась судьба, нашёптывая ему о блестящем будущем и о византийском троне Константина Мономаха... В Цареграде укрепился уже Алексей Комнин с помощью варварской знати и бывших своих челядинов. По всей империи пылали костры, на которых сжигали еретиков. Алексей Комнин успешно отбил норманнские дружины, отвоевал от них Балканы, погромил с помощью половецких ханов печенегов; зажал турков-сельджуков их же соперниками; договорился с крестоносцами...
А в Киеве на золотом столе сидел Святополк. Умирал, гнил — и был вечным...
Мономаху же суждено только бесконечно ходить в степь, воевать с половецкими ордами, теснить их к Донцу, Сурожу и — делить свою многотрудную славу со Святополком...
С этим и вошёл в свою старость...
Через три года после Витичевского съезда князей Мономах позвал братьев к Долобскому озеру. На этот раз хотел всех соединить и пойти в большой поход на орды, чтобы окончательно освободить Русскую землю от разоренья и полона половецкого.
Но на Долобский съезд прибыли не все князья. Олег Черниговский отказался слушать Мономаха. А за ним отмалчивались и меньшие князья, — может, боялись, что Мономах заставит признать его главенство в Русской земле. Прибыли только Давид Новгород-Северский, Святополк да несколько сыновцев.
Держали совет каждый отдельно, в своих шатрах — Святополк и Давид с боярами у себя, Мономах — у себя. Не желали киевские бояре уходить далеко в степь. Путята Вышатич дёргался всем телом — в Киеве оставался один Поток Туровский. Он безудержно выгребает серебро из княжеской казны, и пока будет гоняться за поганинами, для Путяты уж ничего в той казне не останется. Киевский князь лучше бы уж сидел в своей ложнице на пуховых перинах, да чтоб читал книги мудрых ромеев.
На совете Путята говорил Мономаху от имени своего князя:
— Весна нынче, князь. Пойдём на половцев — погубим смердов и их нивы. Кто нам будет дань платить?
Святополк соглашался, кивал головой. В самом деле — кто?
— Отберём коней у смердов наших — чем землю им пахать? Нужно отложить поход. Летом иль осенью пойти.
Давид Новгород-Северский также кивал головой. Известно, кому охота месить грязь весеннюю? Но Мономах упёрся:
— Чудно мне, дружина, лошадей жалеете, а сего не помыслите, что, коль начнёт смерд своё поле пахать, примчит половчин, и коня заберёт, и жену, и детей в полон уведёт, и смерда убьёт! Так вам лошади смерда жаль, а самого смерда не жаль?
— Жаль... — тихо отозвался Святополк.
— Тогда двинем нынче в степь, пока там нас не ожидают. И возьмём себе победу.
Святополк вздрогнул — слово «победа» всегда звучало для него сладким и звонким стоголосьем.
— Двинемся! — восторженно повторил киевский князь.
Путята жалостливо посмотрел на своего господина... Перечить не стал. И о боярине Туровском не стал напоминать. Возвратится князь в Киев, тогда пускай кусает себе ногти!
— Великое дело сотворишь, брат, земле Русской, коль пойдёшь в степь, — подбодрил его Мономах. — Либо будем живы, либо мертвы, — твёрдо закончил он.
И повёл рати в степь. Часть воинов плыла на лодиях Днепром. Их вёл верный дружинник Мономаха — Славята. Миновали Хортицу и остановились на речке Сутени.
Первым заметил половецкий стан Славята. Хан Урусова, старший сын погибшего хана Итларя, собирал там на совет других ханов. Много русичей нынче пришло в поле половецкое. Лучше бы с ними заключить мир! Но молодые ханы жаждали отнять у русичей славу своих предков, жаждали битвы. Хан Белдюзь издевался над Урусовой:
— Течёт в тебе русская кровь — хочешь победу отдать русичам! — Вспомнил, что мать Урусовы — Отрада-Ула. Когда это было!
Но Урусова не умел оправдываться в том, в чём не был виноват. Он знал только, что Белдюзь, брат его, хочет стать главным ханом Итларевой орды, поэтому и смолчат, проглотив обиду.
— Мы не боимся русичей. Мы их побьём здесь, а потом — пойдём в их землю, как отцы наши ходили, и заберём их грады! Полон великий возьмём — продадим купцам таврическим и ромейским. Давно уже просят нас об этом и звенят золотом в мехах! А русичей некому защитить от нас!
— Некому! — заносчиво поднял голову другой молодой хан — Алтунопа.
— Тебе и начинать, — Белдюзь ткнул пальцем в грудь Алтунопы. — Прокрадись в стан русичей и убей Мономаха. Он — наш главный враг. А мы остальных перехватим...
...Стан русичей стоял за Сутенью. Славята с тревогой поглядывал в сторону половецкого лагеря — сольбы для мира не было. Урусоба не оправдал его надежд. Урусоба!.. Кровный брат его... Когда же нет сольбы на мир, есть война. Славята знал, что молодые ханы не дремлют, наверняка послали свои отряды в обход и выжидают, когда утомлённые русичи заснут, чтобы ворваться в лагерь. Славята взял с собой нескольких всадников.
— Пойдём в сторону, — кратко молвил Мономаху. Тот знал, для чего так поступает его верный дружинник. Люди, выросшие в степи, понимали один другого с полуслова.
Мономах отрядил ещё несколько отрядов вдоль Сутени. Кто знает, откуда ожидать нападения. А скоро ночь. Прохладная апрельская ночь лета 1103-го от рождения Христа и 6611-го от сотворения мира. Все устали от далёкого перехода. Будут крепко спать у костров...
Как только густые дождливые сумерки закрыли небо непроницаемой сетью, Славята остановил свой отряд. Осторожно вслушивался в звуки и шептанье ночи. И шла дума за думой в голове. Будто братья они — Славята и Урусоба. От одной матери — Отрады-Улы. Но один из них был половчин, другой — русич. Кому из них судьба приготовила будущность? Встреча на Сутени покажет. Может, сегодня ему суждено сложить голову на этом поле половецком. Может, он уже сейчас торопится на встречу со своей смертью. Как тот оторванный бурей листик дуба, который долго кружит над местом, где должен упасть.
За долгие годы своих мытарств на Руси Славята так и не нашёл своего счастья. Не стал ни богатым, как Нерадец, ни отцом своих детей, как Борис, брат его, не пустил корень в землю, которая приняла и согрела его.
Славята надеялся, что Рута, убежав из полона, возвратится к матери, поэтому сам сразу же, как только перешли они Днепр, уехал к Мономаху. Прибыв весной к старой Любине, Руты не нашёл. Поставил Любине новую избу у дороги. Вдвоём выглядывали Руту. А потом вместе поняли, что она уже сюда не придёт.
Любина сказала затосковавшему Славяте:
— Не вернётся сюда наша Рута. Женись, сынок, на другой. Так суждено, видно, тебе... И мне...
Славята упрямо молчал. Только вспыхивали его продолговатые синие глаза. Прожил у Любины два лета. А потом вывел из конюшни своего коня, вскочил в седло — и умчал по дороге. Его позвала к себе Степь...
Мономах ласково принял своего воина в дружину. Дал ему сотню новых ратников, назвал старшим дружинником. Теперь Славята имел коня из княжьей конюшни, и меч, и собственную кольчугу, княжескими ковачами кованную.
И имел земли собственные — за Сулой, где кочевали орды половецкие. Сколько хотел, столько и мог брать этой земли — князь переяславский щедро одарил его... Эту землю ратники-вои пахали мечами русскими двусечными, засевали своими чубатыми головами и белыми костьми.
С тех пор Славята неотступно ходил с Мономахом во все походы. Весь почернел, будто обуглился. Длинные чёрные висячие усы уже взялись сединой. И имел Славята доброго коня и острый меч. Да скорую смерть. Правда, костлявая Морана пока что побаивалась его. Может, берегла для того, чтобы вот в такую весеннюю ночь под тёплым дождём он ещё раз спас свою любимую Русь — своего князя, а может, и своё загубленное счастье...
Хан Алтунопа велел перейти Сутень за полночи перехода к стану русичей, чтобы как раз на рассвете упасть на них серой стаей.
Славята этого не знал. Медленно и осторожно шёл со своими всадниками вдоль берега. Ничего не было видно в эту беззвёздную весеннюю ночь. Только шумел дождь и глухо топали копыта о размякшую от дождя землю. Но было хорошо слышно ровный плеск волн. И вдруг равномерное дыхание реки нарушилось. В воде кто-то фыркал, кто-то разгребал воду, шумел волной. Послышались неясные тихие оклики! Переправа! Вот здесь половцы переправляются на сторону русичей.
Опытные вой Славяты вмиг разделились на две группы и широким бутом охватили место переправы. Половчины барахтались в воде и долго возились на берегу. Как только они отвели лошадей от камышей, сразу же попали под точные и неумолимые удары двусечного русского меча. Алтунопа, выбиравшийся на берег последним, увидел перед собой всадников, которые почему-то молча подступили к нему. Сообразил лишь всё в последнюю минуту, когда почувствовал смертельный удар в грудь...
...Славята бросил голову хана Алтунопы под ноги Мономаху:
— Сие самый хитрый и сильный батыр Алтунопа.
— Что он хотел?
— Хотел тайно ночью напасть на наш стан.
— Урусоба хотел нас обмануть?
— Может, и так. Но может, и нет. Урусоба — от полонянки-русинки. Ему не доверяют. Но он старший в роде Итларя. Потому — старший хан.
— Отдохни, Славята. Скоро утро...
Славяте показалось, что он успел лишь на мгновенье сомкнуть глаза и провалиться в сладкий сон. Его уже толкали в плечо. Ещё не расклеил век, а настороженное ухо улавливало тревожный говор, ржанье и топот лошадей.
Открыв глаза, огляделся вокруг — в предрассветной темени неба уже высеялись звёзды. Лагерь шевелился, седлал коней, строился в полки. Тесными рядами, один за другим, медленно двинулись вдоль Сутени. Густым лесом копий ощетинились первые ряды, будто разрезали глухую темень и несли на острых наконечниках свою жизнь и свою смерть...
Перешли на другую сторону Сутени. Орда Урусовы и Белдюзя вдруг ожила. Степняки спали на лошадях, поэтому в один миг они были уже готовы к бою. Первые ряды русичей, положив копья у колен, стянули луки, наложили в тетивы стрелы — и одновременно пустили их на ещё топтавшийся лагерь половцев. За первым рядом — то же сделали второй, третий, десятый... безустанно посылали стрелы на своего извечного врага. Ордынцы беспорядочно суетились. И так же беспорядочно, нестройно летели их стрелы на приближающуюся плотную стену русских всадников...
Первые ряды половцев испуганно потеснились назад, сметая своих. Что там? Какая сила у русичей? Задних не видать. Передние жмут на тех, кто за ними. И вновь суета. Растерянность... Беспорядок...
И вдруг могучий глас Мономаха, так знакомый русским ратникам:
— На-а копие-е!
Вмиг отлетели за плечи луки — и ощетинившиеся копьями ряды русских воинов помчали на ордынцев. Первые ряды сцепились врукопашную. Трешат древки копьев. Звенят мечи. Но задние ряды половцев дрогнули и помчали прочь. Передние бросились за ними...
— За землю Русскую!.. — догонял их раскатистый клич.
Впереди половцев бежали ханы всех родов. Дрожали хвосты их бунчуков. Из-под береговых зарослей выскакивали отряды засады русичей, хватали беглецов. Позже записал летописец: «И убили тут в бою двадцать ханов: Урусову, Кчия, Арсланопу, Китанопу, Кумана, Асупа... и прочих...» Белдюзь же попал в руки Святополчьих воевод. Киевский князь сказал:
— Пусть его судьбу решает Мономах... — Его голос ещё дрожал от азарта боя. Он всё ещё не верил, что так быстро всё окончилось, — лишь небо посветлело и солнце ободком своего круга показалось из-за небосклона.
Белдюзь низко кланялся Мономаху в ноги, льстиво заглядывая грозному переяславскому князю в очи:
— О, великий Мономах! Не погуби!..
Славята сурово смотрел на пленника, переводил Мономаху эти моленья хана. Он только что видел мёртвое тело Урусовы.
— Почему не сложили своих бунчуков пред русичами? Почто творите разорение на нашей земле?.. — грозно вопрошал Мономах.
— Погубил себя!.. Погубил!.. Не послушал Урусовы... — царапал своё лицо хан Белдюзь. — Князь!.. — Он упал на колени. — Возьми всё моё золото и серебро! Ромеи и хазары-таврийцы дали мне два меха золота за пленников, которых мы должны были им продать на Сутени... Возьми их! Возьми всё — оставь мне жизнь!..
— Что клятву поломал русичам, поганый хан? — непримиримо гремел глас Мономаха. — Что слово своё сломал — не ходить на Русь?
— Бери всё, что имею!.. Все вежи, табуны... всех жён...
— Мир земле Русской нужен. А ты не научил своих братьев и свой род держать мир с Русью. Преступил клятву. Проливал русскую кровь! Да будет твоя кровь на голове твоей!..
Славята схватил Белдюзя за шиворот кожаного чапана и поволок к Сутени...
Над полем битвы кружили чёрные вороны. Ночью жутко выли волки, растаскивая по ивняку тело хана Белдюзя, рассечённое на четыре части...
Русичи возвращались назад. Впереди себя гнали огромные стада овец, коров, табуны коней, катили повозки с половецкими вежами, с добром и челядью...
Грозному Мономаху степные орлы клекотали славу...
А он был уже равнодушен к ней. Привык, ибо стала она буднями его жизни. Лишь думал о том, что и после Сутени ему снова придётся прийти в эти степи. И может, ещё не раз. Эта неумолимая Степь неисчерпаема — катит и катит чёрные орды на Русь, как чёрные волны.
— Славята! — вдруг что-то будто вспомнил Владимир Всеволодович. — А у кого из ханов есть красавицы дочери? Разведай-ка, брат. Хочу в невестки себе взять половчанку. Гюргию моему время уже жениться[179].
Славята шевелит в улыбке седыми усами:
— Хитришь, князь. Мечом и брачной уздой желаешь Степь сдержать.
— Должен, брат, должен...
— Молвят половчины, что у хана Аепы, сына великого Осеня, лепостная дочь. Молвят, очи как чёрные сливы. Молвят, на всю Степь лучшей нет!..
— Ну, расхвалил... — улыбался Мономах. — Тогда возвращайся назад, ищи вежи хана Аепы и бери его дщерь. Будем к свадьбе готовиться. Да пусть не жалеет табунов — ведь в Ростовскую землю пойдут... Что поделаешь, брат. Степь по-всякому нужно умиротворять... Вот тебе моя золотая гривна[180]. Её всяк знает, везде тебя пропустят яко моего посла!
Славята повесил себе на шею Мономахову гривну со львом и царской короной над ним, завернул своего коня обратно, подбросил вверх шапку...
— Ого-го-го-го! — доносилось до ратей русичей, которые медленно двигались, будто широкая бесконечная река катилась по зелёному полю.
А впереди шли многочисленные стада и табуны. Потом Славята прильнул к гриве коня и полетел за новой добычей, для меньшого сына Мономахова — Гюргия-Юрия, потом прозванного Долгоруким... Будто степной орёл летел над зелёными раздольями.
Мономах вздохнул, проводив его задумчивым взглядом. Чем же ещё завлечь к себе диких половецких ханов? Ещё пусть братья-князья поженят своих сыновей на половчанках — Олег и Давид Святославичи... Ещё нужно послать к половцам черноризцев-проповедников, дабы этих сыновей Измайловых притянуть к христианству. Дабы верой этой сломить связь половцев-язычников с иноверцами-купцами — хазарами, сарацинами, иудеями... Они ведь звенят золотом и подбивают жадных ханов к бесконечным походам на Русь, чтобы брать полон и продавать им рабов. Ещё нужно тех половчинов научить оседлости и оратайству. Чтобы к земле привязать — пусть добывают хлеб трудом, а не разбоем. Охо-хо... Велики труды пали на его плечи. Но ценит ли кто? Может, и нет. И жить без этой борьбы нельзя. «О владычица Богородица! Освободи сердце моё бедное от гордости и дерзости, дабы не возносился я суетой мира этого в ничтожной жизни своей...»
...Старый Бестуж хорошо помнил то время, когда князь Изяслав после мятежа киевлян лета 1068-го перенёс самый большой Подольский торг с Подола на Княжью гору, где ныне Бабин Торжок остался. С тех пор беда ждала на пороге дома каждого ремесленника. Пристальный взгляд княжьих емцев, сотских, тиунов, отроков, различной дворовой челяди не миновал никого — ни гончара, ни пекаря, ни ковача... Когда возродилось старое Подольское торжище у забытого людьми капища Волоса, стая этих мздоимцев донимала их и здесь. То не там стал, то не так сделал, то на кого-то огрызнулся, то на храм не перекрестился, то князю вослед не поклонился, то свой товар тайно росой окропил, дабы земные боги не забыли и послали удачу, то не склонил чела перед боярином, мечником иль посадником, — тут же сдирали продаж. Хоть медницу, хоть резану, а гляди — целую куну стянут! Так за месяц — и гривна уплывает из рук ни за что. А одна гривна для бедного человека — двадцать баранов! Две гривны — конь!
Когда-то Бестужи ежедневно выходили на Торжок к Волосову капищу. Но в последние годы стали вывозить свои горшки лишь в святочные дни. Чем дальше, тем меньше киевляне покупали горшки, макитры, мисы, опаны, кружки. Будто бы многотысячный город перестал есть земную еду, перестал варить, печь, жарить, а стал питаться Божьим духом.
Хорошо, что Гордята успел расплатиться с резоимцем Иваном Подолянином и хитроватой Килькой. Но беда за бедой ходит с колядой. Сыновья старого Бестужа поженились, привели в дом невесток, пошли внуки; возвратилась к родному очагу непутёвая Милея — теснота, смрад, грызня. Особенно зимой. А здесь — никаких доходов. Где взять денег на хлеб? На обувки? На новую хату?
Первым ушёл из дома Радко — взял купу у боярина Путяты, получил кусок земли и сел под Вышгородом. Свой долг теперь отрабатывает на боярской пашне. За ним подались в свет Кирик и Микула, оставив дома жён и детей. Оба нанялись к купцам, которые водили лодии по Днепру до Цареграда. Только самый меньший Брайко остался при старом Бестуже. Он ещё не потерял надежды найти своё счастье под родными киевскими кручами. Ведь когда-то Гордята рассчитался со своим долгом, и он сделает так же — одолжит у какого-нибудь резоимца купу, построит новый дом, заберёт туда своих детей и будет жить как все. Но оказалось, что теперь не так-то просто было взять денег в долг. Иван Подолянин и Килька хорошо знали доходы Бестуженка и не давали в долг Брайку ни медницы. Никто из подольских резоимцев не одолжил ему купы. Не те времена, говорили. Тогда Брайко пошёл в Жидовскую слободу, процветавшую за Золотыми воротами, которая выросла ещё во времена Святослава, разгромившего на Волге Хазарию. Со времён же Владимира, который довершил разгром Хазарской державы, слобода стала более многолюдной. А когда в Европе начались походы крестоносцев к обетованной земле, которые дорогой громили иудейские общины, на Русь стали прибывать с запада многочисленные обозы с семьями иудеев. Слобода принимала с удовольствием этих беженцев — общая иудейская вера, общая судьба изгнанников и искателей торгового счастья объединила старожилов и новоприбывших. Киевляне называли их так, как сами себя прозывали эти переселенцы, — жидами. И слобода также называлась Жидовской.
При Ярославе Мудром, когда Киев был обнесён новым валом, включившим густо заселённую территорию вокруг града Владимира, Жидовская слобода оказалась за валами, внутри нового города. Здесь были поставлены новые ворота — Жидовские, через которые выходила дорога из Киева на запад русских земель — в Волынь, к Польше и далее.
Смекалистые и опытные иудейские купцы быстро потеснили на торговищах Киева приезжавших время от времени греков-ромеев, арабов-сарацинов, булгар, заполонили верхний торг на Княжьей горе привозными богатыми тканями, винами и другими редкими вещами, добытыми через своих родственников-единоверцев, живших в Европе, Византии, Тавриде, на Волге. Среди слободских купцов были люди самого различного достатка. Были свои властители, свои можцы, которые могли купить за злато и серебро всех русских князей и бояр с их челядью и монахами, вместе взятыми. Были и горькие бедняки, жившие на крохи со стола своих богатеев.
Самым богатым в Жидовской слободе считался старый хазарин Мар Симхи. Он был одним из старейших жильцов и каждого более-менее значительного киевлянина знал в лицо. Может, помнил ещё Владимира-Крестителя, при котором его отец пришёл в Киев из разгромленной Хазарии. Но что помнил Ярослава — это уж наверняка. Симхи хорошо знал по имени всех киевских торговцев — больших и маленьких. Знал он и отца Брайка. Знал, почему молодой Бестуженок вдруг оказался в его доме. Лукавый, толстощёкий, обросший густой курчавой щетиной на щеках и на подбородке, хазарин лишь повёл широкой смолисто-чёрной бровью, когда Брайко попросил у него купу — пять гривен.
— Пять гривен? Нет! — Заискрились маленькие чёрные, заплывшие жиром глаза Симхи. Краснощёкое, будто надутое лицо его оставалось неподвижным.
Но Брайко был упрям. Упрямство же всегда было убедительной силой для таких же упрямцев.
— Симхи, — смело взглянул Брайко на неподвижного, тучного, как бочонок, хозяина дома, — если у меня не будет грошей, завтра же гневный Перун бросит в твою горницу огненную стрелу. Вот эту! — Брайко вытащил из-под полы тонкую стрелу, на конце которой вместо оперенья был накручен клочок из конопляной кудели.
— Она не пробьёт каменных стен моего дома. Ты видишь, Брайко, какие здесь стены? — Симхи спокойно повёл рукой вокруг — смотри, мол! Он знал Брайка, но не знал его упрямства.
— Стены не пробьёт, Симхи, но деревянная крыша и башенка резная на ней — вспыхнут.
— Ай-яй-яй! — подался всем телом вперёд старый зажиревший купчина. Теперь он мог судить о твёрдом характере молодого подольского гончара. В его чёрных искрящихся глазах появилось удивление. — Что так грозен?
— Нет, я ведь по-доброму тебе говорю, Симхи. Эта куделя хорошо горит, когда её ещё смазать смолой. И крыша твоего дома — из старых сухих досок — тоже хорошо горит, если огонь случайно упадёт на неё...
Резоимец сузил свои и без того узкие, как у степняка, глазки — они, кажется, смеялись.
— Сколько тебе гривен нужно?
— Пять. Всего пять, Симхи.
— Даю тебе шесть, Брайко. Целых шесть. Столько ты сам стоишь по Правде Русской. О сём ведаешь?
— Ведаю, — вздохнул Брайко, — Холоп стоит шесть гривен.
— Но! — Симхи растянул в улыбке рот. — Но будешь давать мне каждое лето сверху — половину сей купы.
— Три гривны каждое лето? — вскрикнул Брайко.
Тугие розовые щёки Симхи с крутыми скулами поднялись к глазкам в неприятной усмешке.
— Хорошо умеешь считать, Брайко.
Молодой гончар растерялся. Три гривны сверху? Чтобы отдать эту лихву, ему нужно работать нощно и денно на Почаевских увозах или ещё где. А долг? Долг так и будет висеть на шее. Но зато он поставит себе новый дом, а потом отец что-то выторгует на горшках, может, братья помогут... А там и он что-то заработает — гей-гей! Была бы только сила! Ещё, может, наймётся к кому-нибудь. Медница к меднице, ногата к ногате...
— Согласен, — наконец выдохнул Брайко.
Выходя из ворот и прижимая за пазухой холодные тяжёлые гривны, заметил во дворе Симхи челядников. Одни тащили сено, другие тарахтели вёдрами, кто-то впрягал лошадей в повоз. Откуда столько челяди у ростовщика-резоимца? Может, это закупы его...
Не утерпел, подошёл к конюху, который припадал, хлопоча возле лошадей и повоза, на ногу.
— Кем работаешь здесь, брат?
— Я? Холоп, — равнодушно ответил конюх и повернулся к Брайко спиной.
— Как же это — холоп?
— А так — обельный холоп Симхи.
— Обельный?! Значит, Симхи своих холопов в рабов превращает? Почто так?
Конюх взглянул на молодого Брайка.
— Поживёшь — сам увидишь. Небось взял купу?
— Взял.
— Охо-хо-хо! Горюшко наше! — И заковылял дальше.
Была ль у этого конюха семья? Дети? Дом?
Не скоро припомнил Брайко этого хромого конюха.
В первое лето он отдал резоимцу не полную лихву — лишь две гривны. На другое лето — сумел собрать только полторы. А когда миновало третье лето — и совсем ничего не добыл для лихвы на долг. Но ещё оставался и сам долг. Симхи теперь имел право взять Брайко во двор, заставить его работать где угодно, послать куда угодно — чистить конюшни, хлевы, ходить возле саж, доить коров аль стоять на торгу и продавать его товар. Если и дальше он не будет способен отдать долг, по закону Русской Правды его хозяин может бросить его в сырую яму — поруб, где постоянно стоит смрад от человеческих отбросов, где крысы обгрызают уши и выедают глаза... нет-нет... Брайко должен что-то делать... он, наверное, убежит куда глаза глядят... К брату своему Радку, под Вышгород... или наймётся тайно на лодьи — и уйдёт в греческую землю... Но тогда Симхи заберёт его старого отца... иль жену... А она ходит со вторым дитём под сердцем... И будут его дети холопами вечными... Куда же бежать?
Не опомнился, как стал обельным — полным холопом сытого хазарина-резоимца. Да ещё не сам, а с женой и с детьми своими...
На подворье старого Бестужа, правда, вырос новый дом — с высоким крыльцом, но ещё без крыши. Старый Бестуж и его Святохна, уже состарившиеся, согнутые нуждой, молча глядели в землю, выжидали, когда она примет их к себе и избавит от земных хлопот... Святохна только то и делала, что развязывала свой узелок, приготовленный ею на свою смерть. Проверяла, ничего ли не забыла положить себе для гроба. Чистая белая сорочка, ещё девичья, вышитая скупым узором; белая полотняная хуста на голову; нитка монист из красных глиняных горошин — ещё молодой да бравый гончар Бестуж дарил ей, когда на вечерницах ухаживал за нею. Вот и всё богатство Святохны. Старый Бестуж не имел и этого. Ему будет хорошо и в этой истлевшей на спине да серой от пота сорочке, в которой лепил и обжигал горшки в печи. Хотя бы уж быстрее милостивые боги повезли его по белому звёздному пути, чтобы он с облегчением взглянул на свою бедную землю. Тяжело уже ему подпирать согнутыми плечами белый свет.
Давно уж растерял и смех, и надежды... Жизнь сама уходила из него...
Ещё не растаял ноздреватый снег на улице, ещё дымились избы чёрным смрадным дымом от сырого топлива, каким топили к весне в домах Подола, как во дворе Бестужей появился чужой человек.
— Я к Брайку, — сиплым, осевшим голосом сказал он вместо приветствия.
В избе стояли сумерки, перемешанные с едким дымом, кашлем, детским криком, запахом сырых пелёнок, заплесневевших стен, перетлевшей соломы, сырой глины.
— Сё я, — поднялся удивлённый Брайко от гончарного круга.
— Мой господин Симхи Мар... он добр и терпелив, по закуп не выплачивает ему лихвы и не возвращает долга. Потому Брайко должен идти во двор своего хозяина. С женой и чадами.
— Я платил... Пока было чем... Теперь нужно подождать — вот делаем горшки, начнётся весна, начнутся большие торги. За весну и лето что-то соберём.
— Хозяин не хочет ждать, — равнодушно продолжал пришелец. — На то имеет защиту Русской Правды.
Брайко растерянно вытирал фартуком глину на руках и напряжённо морщил лоб.
— Что же хочет... мой хозяин? — выдавил он из себя.
— Приехали из Тмутаракани хазарские купцы. Берут обельных холопов с собой. Тебе идти в Тмутаракань...
Человек исчез.
Только хлопнули двери. По снегу раздался скрип шагов. А Брайко всё ещё стоял и обтирал руки о фартук. Не слышал ни воплей детей, ни приглушённых рыданий жены, ни тихого повизгивания Милеи. Не чувствовал, как его пальцы сами развязывали завязки и снимали передник, как босые ноги обувались в сапожищи, как руки просовывались в рукава потёртой свиты и надевали на голову шапку...
Не помнил Брайко, как оказался на улице. И уже когда от мокрых сапог дрожь начала бить его тело, увидел над собой звёздное небо.
Что делать? Как сбросить с себя давящую петлю неизбежности?
Оглянулся вокруг, понял, что стоял под горой, на которой возвышался дом боярина Путяты. Чёрный шлем башни его терема упирался в звёздное небо. В другом ряду окон, в сенцах, мерцали огоньки. Наверное, боярин пирует, его гости расселись на коврах, едят на золотых и серебряных тарелях... Хотя бы одну такую тарелю или кружку раздобыть — все долги оплатил бы... Но се — татьба, разбой... Поймают — сгниёт в яме.
В груди у Брайка что-то нестерпимо жгло.
Ведь он — холоп обельный... раб... раб... Один ему конец — живьём сгнить в порубе иль сгнить в рудниках далёкого Египта или Византии. Какими же грехами согрешил пред Богом небесным и богами земными? Почему они так дружно отвернулись от него? И от других бедняков? Может, из-за того всё, что изменили своей вере, отшатнулись от сил земных... Может, и новый Бог не принял их в своё лоно, ибо не верил ему искренне, и старые отвернулись, ибо предали их...
Добрые старые боги! Простите им, грешным. Вы учили людей любить землю, деревья, травы, солнце, жизнь. Вы учили любить окружающий мир и в этом мире искать людское счастье... Но что сделали люди? Продали вашу бесхитростную мудрость, изгнали из храмов. А за что? — за призрачное счастье властвования сильного над слабым, за сказку о счастье небесном, где ожидает праведника бездумность и сытость... Жестоки искупления за грехи на земле и в потустороннем мире — в аду, наказанье, страх... Вот что принесла новая вера человеку вместо любви...
Всего бойся, человек: бойся князя, бойся боярина, бирича, тиуна, емца... бойся двораков загребущих и лукавых... Бойся тех, кто прислуживает им и пользуется их властью — купчин, мздоимцев, монахов, святителей-попов... Все лезут в твои карманы или в твою душу... Гребут себе твои достатки, твой труд, твой пот, твою силу, а вместо этого внушают тебе страх. Ко всему и во всём... Такова награда тебе, человек, за измену! Чтобы ты не мыслил ни про что — кроме страха. Чтобы не радовался жизни, солнцу, воле, а боялся всего. И стал бы рабом собственного страха. Холопом собственной мысли о нём, об этом страхе...
Вот что досталось человеку за забвенье своей веры и своего обычая...
В этот миг Брайко чувствовал себя прозревшим, он понял свою вину, своё предательство — и теперь знал, что ему нужно было выбросить из души страх...
Боярин Путята пирует? Конечно! Холопскую кровушку он будет пить из своих золотых чар, а не заморское вино! Разве он, Брайко, один бьётся в сетях нищеты и страха? Вот выйдет на средину торговой площади да бросит клич: «А кто хочет свою беду в землю затоптать?» — ого сколько люда бросится к нему! Из сел, из городов, из слобод прибегут смерды, ремесленники, холопы, закупы, изгои. Успевай только давать им в руки мечи! Да коней!
Конечно же — лошади нужны в таком деле непременно. Конь — это крылья. Куда захотел — туда и полетел. Вот в конюшнях Путяты сколько лошадей! Десять, или пятьдесят, или пять сотен... А у него, Брайка, ни одного!..
Холодный ночной ветер обдул его лицо, разгорячённое размышлениями о своих обидах. Он почувствовал даже запах свежего конского помёта из конюшен боярина... Брайко взобрался на вал, ощупал руками ограду, начал легонько дёргать жерди, выискивая послабее, чтобы вытащить и пролезть во двор. Наконец оказался по ту сторону ограды. В окнах терема начали гаснуть огни. Наверное, гости сейчас будут выходить на подворье и идти к своим лошадям. Брайко шмыгнул в тень ограды. Кто-то ему вдогонку, кажется, кашлянул. Он забежал за копну сена. Прислушался. Рядом коновязь. Кто-то шумно дышит и хрумкает. Лошадь!.. На морде торба с овсом. Ожидает своего хозяина. Дрожащими руками Брайко развязал узду, закрученную за коновязь. Конь послушно повернул к нему голову, легко переступил ногами. Застоялся, бедняга... Теперь Брайко лихорадочно думал о том, как бы перевести эту лошадь через щель в ограде. Нужно выдернуть побольше жердей.
Начал изо всех сил дёргать ограду. Дрожали руки. Дрожало онемевшее от страха тело. В груди, казалось, остановилось сердце. Ему чудилось, что к нему уже бегут отовсюду челядины и вот-вот схватят его за воротник.
Наконец лошадь могла уже свободно пройти через лаз в ограде. Брайко потащил оброть — лошадь послушно переступила через разбросанные жерди. Брайко облегчённо вздохнул. Куда же теперь? Вниз, во мрак ночи, в кусты... в заросли... где ужами вьются маленькие улочки и проулки подолян... Ближе к Днепру...
Облегчённо потянул ворот свиты. И в это время что-то зашуршало сбоку. Остолбенело всматривался в темень и вдруг увидел — высокая чёрная тень стала рядом с ним. Кто-то видел его. Кто-то всё же шёл за ним.
— Отдай коня, — негромко молвил тот. Густой мужской голос. Лёгкая хрипота в нём. Где-то будто бы слышал его... Вратарь Бравлин, что ли...
Брайко молчал. Тень протянула к нему руки. Конь радостно вздрогнул, повернул голову к незнакомцу.
— Кто ты? — наконец сумел пересилить себя Брайко.
— Беги уж, холоп тамгованый[181]! Спасайся!
Брайко бросил оброть и покатился с кручи вниз по скользкой холодной земле.
Бежал улицами и закоулками, огородами и дворами, падал в лужи, опять вставал, потерял даже один сапог... но бежал дальше, неизвестно куда... У другого сапога где-то оторвалась подошва... осталось одно голенище... Куда ему бежать?.. Какая-то маленькая хижина жалась к высокой горе. Вдалеке от других. В окошке мерцал огонёк. Из дымаря вился пахучий соломенный дымок.
Брайко легонько постучал в дверь. Услышал какое-то движение. Женский голос испуганно охнул. Наконец дверь слегка приоткрылась:
— Кто?
— Пустите... Замёрз...
— Ох! Да он же босой!.. — удивилась женщина. Двери перед ним распахнулись.
Брайко ввалился в избу и сразу заполнил своим большим телом всё пространство. В печке трещали хворост и солома. В горшочках что-то варилось. Красные искры пламени время от времени дотягивались до дымохода.
В красном углу сидел муж. Белая сорочка на нём отсвечивала розовыми вспышками огня. Он низко наклонился над столом, так что волосы закрывали ему лицо. Его длинные гибкие пальцы быстро что-то мастерили: ощупывали, отглаживали, к чему-то прислушивались.
Брайко не поверил своим глазам — из-под его пальцев вырастал маленький глиняный храмец. Высокоглавый, с чешуйчатой крышей, распластавшейся над столбами-колоннами! Гордятин храм! Сие только он мог такое сотворить — храм-капище. Гость перевёл взгляд на лицо хозяина, а тот уже пристально смотрел на его босые ноги.
— Гордята... — тихо сказал Брайко. — Сё я...
— Брайко-о... Откуда ты взялся такой?
— За мной погоня, наверное... От Путяты я...
— Что же ты натворил? Говори.
— Резоимец Симхи продал меня хазарским купчинам.
— Ты охолопился?
— Со всеми... с детьми и женой, Гордята...
— А отец, мать?
— Они уже давно глядят в землю. Не помогут.
— Стой. Симхи живёт в Жидовской слободе. А ты бежишь от Путяты...
Брайко почесал затылок. Ну как всё сразу расскажешь Гордяте, чтобы тот всё понял? И о коне... и о пылких мечтах.
— Брайко, обуйся вот в эти постолы. Заверни ноги в портянки — простудился наверняка! — подошла к нему Рута. — На улице ещё заморозки.
Брайко сбросил свиту. Как это он её не потерял ещё?.. Растирая окоченевшие ноги, обматывал сухими портянками, шнуровал сверху, до колен, тонкими верёвками.
— Эй, Гордята... Никто не ведает, что делается с человеком, когда он чувствует петлю на своей шее. Хотел вот коня искрадом одолжить у боярина да полететь куда-то... в степь... За Змеевы валы...
— Там же половцы! — испугалась Рута.
— Ну, тогда в пущи какие-нибудь... А у меня коня... уже из рук забрали...
— Кто же отобрал? — заволновался Гордята.
— Не знаю. Чёрная тень какая-то...
— Что-то не то говоришь, Брайко. Рута, попробуй его лоб.
Рута приложила ладонь к челу Брайка и вдруг отдёрнула руку назад.
— Жар у него. Зимница. Я сейчас! Сейчас принесу с чердака ветвей малины. Осенью припасла... Напарю, напою... Минется...
Брайко поднялся на ноги. Начал притоптывать завязанными постолами. Под подошвой было мягко. Значит, можно бежать дальше.
— Не надо ничего мне, Гордята. Я уже иду. Нужно торопиться... Побегу к Радку, на Вышгород. Ибо утром — погонят хазарины... на верёвке поведут... В Тмутаракань...
— Да куда же тебе идти? Болен ведь? — ахнула Рута, вернувшись уже в избу.
— Болен, да живой ещё. А пока живой, побегу догонять свою волю... Прощайте...
— Возьми же хотя бы кусок хлеба... да вот луковицу... — Рута запихивала ему в ладони еду.
Пошатываясь, Брайко вышел из избы. Осиротело стукнула за ним дверь. Чёрная холодная ночь проглотила его вместе с шуршащими по снегу шагами.
Гордята провожал его взглядом, пока он не растаял в темноте.
— Ушёл... — вздохнул Гордята, вернувшись в избу.
— Совсем же больной... — грустно качала головой Рута.
— Убежит ли от беды...
— Лучше бы остался у нас...
— Нашли бы его и здесь. Повели бы в Тмутаракань всё равно... И нам ещё продаж пришлось бы платить — за утаивание холопа — также шесть гривен. По Русской Правде...
— Да минует нас лихая година... — шепчет Рута. Молча останавливает глаза на храме Гордяты. — Красота-то какая! Поди ещё раз в Печеры, покажи игумену, — может, возьмут тебя здателем к себе. За деньги эти — Брайка бы выкупили! А храм был бы какой! Сколько бы людей приходило отовсюду посмотреть на него!
— Ходил уже, хватит. Молвят, капише поганское, а не храм.
— Эти храмы, которые монахи строят, груда камней, будто хотят раздавить тебя. А этот, — кажется, вверх летит.
— Зато те храмы от чужаков пришли. Всё чужое нынче в нашей земле в почёте. А своё, может, и краше, может, ближе к душе человеческой — да уничижается. Всеми!
Глаза Руты налились слезами.
— Гордята, здатель мой дорогой. Верю тебе, сама вижу... Уйдём отсюда в далёкие края — в полунощные аль в глубокие пущи. Может, там где-то поставишь свои соборы. Где-то же должна быть воля и правда.
— Да-а... где-то живёт эта старица...
— Я верю... люди возьмут твою красоту рукотворную для себя. Вот как эта Живка взяла. Не везде же волю на серебро променяли...
— Кабы лишь одну волю. А то ведь и людей. Вот как Брайка нашего... Где же он?
Оба повернули головы к тёмному окну. Там шептала холодная апрельская ночь. С не растаявшим до конца снегом... с примерзшими слегка лужицами...
Брайко уже не видел, как светил ему вослед маленький огонёк хижины Руты и Гордяты. Шёл да шёл улочками Подола, минуя богатые дома, терема, гостиные дворы. Только добрался до безлюдной площади Подольского торга, как запели первые петухи. Мрак погасил все звёзды и шапкой закрыл месяц. Волчья година бежала по земле... Брайку показалось, что слышит он вокруг себя волчье завывание... Бросился бежать... в чёрную неизвестность... Жгло в груди... Дрожали колени. Хотя бы быстрее рассвет... Присел на каком-то камушке передохнуть. Оттянул воротник свитки. А волчье завывание всё ближе, ближе... Он закрыл руками уши и будто провалился в мягкую глухоту...
Приближаясь к Горе, Нестор сразу почувствовал какую-то тревогу в весеннем тонко-золотистом воздухе. Издали, будто от Бабиного Торжка, доносился к нему возбуждённый говор людей. Ему показалось даже, что и чёрные галки возбуждённо кружат над ещё безлистыми деревьями, навевая тревожные предчувствия. И что этой тревогой напоен воздух города, такой прозрачный, сияющий и холодный, как это бывает очень ранней весной, когда сойдут снега, но тепла ещё нет, а есть одно сияние, блеск и святочность высокого неба.
Нестор подхватил левой рукой подол рясы, которая мешала быстро идти; другой рукой начал выбрасывать далеко вперёд свой сучковатый посох. Предчувствие беды переросло в убеждённость: что-то случилось в княжьих палатах. Это оттуда идёт по Киеву тревога...
Уже неделю ходит он в хоромины князя Святополка. Причащает великого князя и исповедует, освобождая на время игумена Феоктиста, который ночами сидит у ног немощного князя, читает ему то из Псалтыря, то из Четьи-Миней...
С тех пор как Святополк приблизил к себе Печерский монастырь и присвоил игумену сан архимандрита — наперекор митрополиту да патриарху цареградскому, черноризая братия перестала хулить великого киевского князя. Замолчала. Князь же, стремясь увековечить своё имя, щедро одаривал обитель землями, пущами, сенокосами, сёлами. Печерцы теперь творили искренне хвалу князю. Ещё бы! — их обитель законно признана первой среди всех других монастырей и возвысилась даже над киевской митрополией, которой по-прежнему владели ромеи. Да и Святополк, этот мелкий Туровский князёк, не владеющий ни большими отчинами, как Мономах, ни талантом, ни добрым характером, а скорее являясь воплощением всего наихудшего в роде великого Ярослава, этот Святополк смог получить преимущество над Мономахом только благодаря поддержке Печерского монастыря.
Конечно, Нестор поддерживал Святополка не ради него самого. Ничтожный телом и духом, недалёкий разумом, жадный и завистливый, этот князь не был ему по душе. Но, оглядываясь вокруг, Нестор понимал, что только незыблемость единовластия и законовластия киевского князя может удержать в купности земли, которые раздирала, будто голодные волки, разрастающаяся стая князей, князьков и сыновцев. А единство земель русских, их сплочение вокруг Киева — могущество и слава всей огромной державы, которую теперь всюду называют Русью. Лишь такой она способна отбиться от бесконечных нашествий половецкой Степи, от воинственных посягателей с запада и с юга — царей, королей и князей. Нестор гордился тем, что он и его черноризая братия заставили весь княжеский выводок, хотя и со скрипом зубовным, покориться старшему, законному князю, заставили их удерживаться от раздоров, которые губили державу. Даже этот властолюбец и мудрец Владимир Мономах должен был вот уже столько лет покоряться их слову и не смеет поднять руки против освящённого монахами закона и права старшего волостителя Русской земли. Не смеет даже с помощью греческой митрополии и апостола Андрея, которого подбросили ему ромейские императоры как спасательное бревно, чтобы выплыть наверх...
Относительная тишина вот уже скоро двадцать лет господствует на Русской земле... И это должно установиться навсегда...
Иссохший, пожелтевший, с тусклыми потухшими глазами, князь Святополк был похож на мертвеца. Ничего больше не волновало его, ни воспоминания, ни развлечения, ни обиды. Одно лишь вызывало блеск в его глазах — серебро.
Тогда он рукой отклонял книжку, которую ему читали Феоктист или Нестор, и призывал к себе боярина Путяту.
— Путята, все ли платежи собрал по градам?
— Все, князь, — бил челом к земле тысяцкий.
— А как купеческая община? Уплатила ль в казну?
— Давно, князь.
— А подольская?
— И подольская, и слободская, князь. А ещё прислали к тебе свою сольбу слободские купчины.
— Чего хотят слобожане?
— Просят снова отдать им в руки весь торг солью. Они ведь возят её из Крыма да с Торских озёр. Далёк этот путь. Через всю половецкую степь. Дорого достаётся. Но там для них купчины везде приготовляют эту соль. Но, бывает, привезут они её сюда, а здесь торгуют галицкие купцы своей коломыйской солью. Тогда должны даром отдавать наши слободские купцы свой товар.
— Так что же они желают? — не понимает Святополк.
— Дабы ты, князь, приказал не пропускать к Киеву галицких и коломыйских купчин с солью.
— А ты как советуешь?
— Сказал: князь даст своё согласие на это.
— Так почто же не сказал раньше?
— Не зовёшь ведь, князь... — угодливо клонит голову Путята. Будто сгибается от алафы, которую получил от Симхи и других слободских богатеев за то, что с князем обещал поговорить.
— Чего торчишь?
— Жду твоего слова.
— А сам что думаешь?
Путята оживляется.
— Думаю так: галицкая соль ближе и дешевле, крымская — далёкая и дорогая. Пока нет галичан — а они редко заявляются, — наши купчины берут одну куну[182] за головяжу[183]. Галичане появятся — одна куна идёт за десять мер.
— Говори, как быть.
Нестор, который отложил Псалтырь и выжидал конца беседы, случайно поднял глаза на боярина. Лукавый тысяцкий мнётся, притворно вздыхает, а в уголках рта, спрятанного в бороде, усмешка. Он уже давно всё сделал по своей воле, но лишь перед ним и пред больным князем лицедействует. Льстивый скоморох...
— Скажу, как думаю: галичаны то есть, то их нет, а киевские купчины всегда при тебе. Исправно платят в твою казну. В нужде всегда тебя выручали своим серебром. Так их волю и вволь! Вот сейчас на Подольском торге стоят повозы галичан с солью. Вели взять с них большой правёж — или пусть лучше эту соль откупят у них наши купчины и сами её продают. Галичане же пусть едут обратно.
— Повелеваю... — устало махнул рукой Святополк.
Путята попятился к двери.
Нестор поднёс к глазам Псалтырь...
— «Не соревнуйся с лукавым, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут уничтожены, послушные же Богу — будут владеть землёй...»
Монотонно бубнит голос Нестора в княжьей ложнице. А тревожная мысль точит его мозг. Путята нынче властвует самодержавно... продаёт киевский люд чёрный каждому, кто ему заплатит. Ненасытен, окаянный...
Нестор утомляется от чтения и тяжёлых раздумий, прекращает чтение. Князь будто бы задремал. И Нестор с облегчением поднимает вверх глаза, осматривает ложницу. В углу висят иконы греческих живописцев. Под ними дымком тяжёлые серебряные лампадки. А рядом на стенах — оленьи рога, серебряные ножны мечей с рукоятью, напоминающей раскрытую пасть хорта; резные подоконники, ставни, матицы. Какие-то птицы вещие, то ли кукушки, то ли ластовицы, какие-то глаза или зубия звериные... Это все ногайские обереги, которые стерегли извечно человека от болезни, отгоняли Морану-смерть, приносили в дом счастье. Значит, не только простолюдины, но и князья молятся всем богам — старым и новым. Силы и мощи просят у Христа, им же народ держат в узде — страхом и подчинением. Но души их также проросли верой предков. И никакая сила не изгонит её оттуда... Сколько бы ни читали это Святое Писание велемудрое.
— «Господом стопы человеку исправляются. Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир, и отгони зло, и живи во веки веков...»
Нестор снова пытается читать. Но князь Святополк будто уснул. Не слышит его слов... И Нестор снова размышляет о вере новой, которой он служит искренне и которая уже стала его убеждением, и о вере поганской, живущей в людях, которые сами себе законы творят и своим богам молятся. Нет, он верует в единого Бога и в единый закон по всей земле, в единую власть Богом поставленного князя. Ибо ведь сказано: «Всякая душа власть предержащему да повинуется, ибо нет власти не от Бога...»
Ох как нужна сейчас на Руси крепкая власть! На страх злым, на успокоенье добрым... На процветание державы. Недаром велемудрый князь Владимир избрал эту веру, христианскую, ибо она учит, что благоверие и власть — сопряжены... Кто верует — пусть повинуется. В этом повиновении — сила и мощь державца!
Коль князь Владимир не объединил бы в своём держании Русь и не укрепил бы её такой верой, ордынцы давно прошли бы её из конца в конец, давно уничтожили и полонили бы весь народ русский. Раньше каждое племя знало и слушало только своего князя, да своего волхва, да своего бога. Каждый род и племя жили сами по себе. Вот и оставались одни пепелища от племён, когда чёрные смерчи налетали со степей. Так было до Кия, пока он не объединил вокруг себя племена. Так было и после Кия, когда его наследники забыли его заповеди... Потом снова Олег объединил племена мечом, а Владимир укрепил свою власть ещё и верой единой...
Страшно и подумать теперь, что будет с Русью, когда вера и князь не смогут удержать её целостность. На другой же день меньшие князьки схватятся за чубы, а на третий — половцы двинут на неё свои вежи!.. Горе... Кровавое горе нависнет тогда над Киевом... надо всей Русью — от моря Варяжского до Поросья...
Нестор поднял снова к глазам свой Псалтырь, снова начал вычитывать. Но уже не для князя, а для себя. Искал опоры своим мыслям, выверял их чужой мудростию... «Погляди на смирение моё и на труд мой и прости все грехи мои...»
Труд его, Нестора, тяжек, яко крест, на котором распяли Иисуса и который он нёс на своей спине... Труд сей его велик и должен послужить будущему... для него задушил в себе голос старых богов, которые выпестовали в его душе доброту; для него годами истязал свою плоть бессонницей, голодом... отбрасывал суетные желания и людские порывы... Тяжело сие, ох как тяжело, о Господи, возносить себя над мирской суетой, чтобы служить грядущему...
Но вспомнят ли его там, в том далёком будущем, за которое он борется трудом своим неусыпным... Того не ведает он...
Нестор-черноризец уже под вечер возвращался в Печерскую обитель. Только вышел за ворота княжьего двора, сразу услышал тревожное гудение людской толпы, сгрудившейся на площади вблизи Святой Софии. Прислушался. Всё же не миновать мятежа Киеву.
Повернул на Бабин Торжок, начал спускаться к Михайловскому монастырю. Шёл через дворы напрямик к Лядским воротам. К вечерней молитве хотел прийти в Печеры.
А над площадью нависла тревога. Даже сюда, вниз доходит шум толпы. Всё же не минует мятеж Киев.
Но мятеж в Киеве начался не на Горе, а внизу, на ремесленном Подоле, на том самом многолюдном торгу, у старого полуразрушенного капища Волоса.
Ещё днём на гостиный двор, где остановились галицкие гости с повозками соли, прибыли княжьи мечники во главе с сотскими и емцами. Они сообщили галицким купцам волю князя Святополка: уплатить большой куш за право продавать соль в Киеве — в двести гривен серебром. Галичане разгневались. Не бывало ещё такого грабежа за соль! Куда бы ни привозили они свой товар — везде встречали их с великою радостию, давали льготы, даже торгового мыта[184] с них не брали. Или брали самый малый, старались задобрить купцов с солью. Без соли — ни бедному, ни богатому не обойтись! А здесь? Нет, они уедут в другие города, где их радостно встретят и не будут унижать и обдирать. Поедут в землю Черниговскую, Новгород-Северскую, Полоцкую, Новгородскую, Суздальскую...
Галичане начали запрягать волов в свои повозки. Но в это время откуда ни возьмись купцы из слободы. Галичане собираются куда-то ехать? Ох как далеко надумали забраться! Много дней дороги... А в лесах — вокруг тати разбойничают. И смерды беглые или разорённые половцами... Киевские купцы могут купить у галичан всю эту соль, дадут им пятьдесят гривен серебра на круг — и пусть тогда возвращаются они домой.
Галицкие купцы чесали затылки. Выгода есть, но — малая! Немного, совсем мизерно дают им серебра окаянные киевские скупщики! За эту соль они возьмут в десять раз больше, стоит только отъехать за пять поприщ от валов Киева. Но и ехать далеко тоже опасно. И еды не набрали в дальнюю дорогу... Охрану для обоза нужно увеличивать — нанимать новых осторожников... И так не так... и по-другому не получается... Пусть дают больше гривен!..
Галичане торговались. Киевляне цены не увеличивали. Сотские и емцы князя стояли на мечах на подворье и требовали уплаты правежа...
Чёрный люд с торговища по домам не расходился. Если галичане поддадутся на уговоры киевских скупщиков, снова ждать беды — за эту соль купцы будут драть с простолюдина три шкуры... Бедному человеку можно прожить без мёда, без мяса, без сала... а вот без соли — никак! Ни тебе ухи, ни тебе зелёного борща не съесть. А рыба, а мясо, а сало — всё портится... Наступает лето, жара. Начнут болеть животы и зубы. Люди будут болеть, а уж детям — хуже всего!
Киевляне толпились до полуночи под оградой гостиного двора. Кто-то из сотских или емцев бросил слово в гурьбу, кто-то другое. И уже весь торг знал, что это князь Святополк своим приказом сотворил такое разоренье.
Снова Святополк!
Утром следующего дня на Святой Софии ударил вечевой колокол... Киевская чернь желала притянуть к ответу князя Святополка.
Вечевой звон тяжело разорвал прозрачный весенний воздух. Рождалось утро 17 апреля 1113 года...
Отец Нестор вновь торопился на Гору — заменить игумена Феоктиста, просидевшего возле Святополка всю ночь. Сердце Нестора вздрагивало в тревоге — ещё вчера он знал, что в Киеве начинается бунт. Колокол созывал чернь со всех окрестных слобод, со всех ремесленных концов.
Тяжело поднимался Нестор от Лядских ворот. Тяжёлые мысли угнетали сердце... Скоро он перестанет топтать свою тропинку по киевским взгорьям... Перестарался в большой пост. Уже пятая неделя миновала после Святого воскресенья, а силы его что-то не восстанавливались. И это уже не пройдёт, он знает... Жаль, что похоронят его в могиле без книг... без калины...
Поганская душа вдруг отозвалась в нём... А он думал, что вытравил её новой своей верой и святыми премудростями. О калине вспомнил. Прости его, Господи!.. Видать, глубокие корни пустили боги предков в душу славянскую... Десятилетиями, столетиями их не изгонишь оттуда... Но, может, и не нужно? Может, в этом сила и мощь человека, который помнит род свой?.. Прости его, Боже, за эти размышления греховные, но теперь, на склоне своих лет, он, кажется, не считал уже древние обычаи своего народа — ересью... Видел, как новая вера соединяется с ними, впитывает в себя жизненные истоки славянского духа...
Бом-м... бом-м...
Снова бьёт вечевой колокол на киевской Софии. Что там?
Он поднимался Михайловской улицей, а дорогой его обгоняли десятки людей. Внакидку — свиты, кожухи, в руках шапки... Бежали на зов веча.
Когда наконец оказался на Софийской площади, едва не ахнул от удивления. Толпа людей запрудила площадь, все кричали, неистово размахивали руками. Все прижимались ближе к Софии. Там на досках помоста, в плотном кольце людей, лежал человек. Разорвана его свита... размотаны постолы... открыты серые глаза, немо глядевшие в синеву неба. Жёлтое, отвердевшее лицо застыло в болезненной мольбе.
— Пустите к нему монаха... Пусть помолится...
— Иди, отец, помолись за душу праведную...
Нестор ближе подошёл к покойнику. Снял с груди крест, начал бормотать молитву за упокой души.
Неожиданно вздрогнул: на шее у мёртвого был затянут шнурок из сыромятины. Нестор замолчал, обвёл взглядом притихших людей.
— Кто он?
— Отбили у дворни слободской. Тащили его к Симхи... А он и помер...
— Это же Брайко! Подольский гончар!.. Люди! Это сын старого Бестужа! — вдруг закричал какой-то молодой парень, могучим плечом раздвигая толпу. — Он обельный холоп хазарина Симхи!
— Нынче со всеми кровопийцами рассчитаемся! — закричал уже возле Нестора босоногий молодец и зловеще посмотрел на черноризца.
Нестор опустил глаза. Нужно побыстрее убираться отсюда... Обозлённая чернь слепа — не милует никого...
— Гоните-ка отсюда холуёв княжьих — черноризцев! Да сгинут оне все вместе с Чернобогом! Где белые волхвы? Волхвы — наши защитники! Да возвратят нам правду!
— Долой кровопийц! Да сразит их стрелами огненными!
— Долой Святополка и Путяту!
— Долой купчин-резоимцев!
— Кияне! Да сколько можно ещё терпеть?
— Побьём резоимцев!
— Соли!.. Дайте людям соли!
— Айда, братья, к Путяте. Отберём лошадей его и волов! То всё наше добро!
— Гей, кто к Путяте? Распотрошим сундуки у тысяцкого! Много ли серебра дали ему купцы слободские?
Толпа заревела:
— До Путяты!.. До Путяты!.. Кто с нами?
Часть толпы двинула в сторону Десятинной церкви.
— А вы чего стоите, кияне? На слободу нужно идти! Освободим холопов от смерти! Купчины наши их в Тмутаракань продали. Один уже сбежал — теперь с верёвкой на шее лежит!
— Удушили!.. Резоимцы душат нас! Бей! Бе-ей!
Несколько сильных рук подхватили тело Брайка и высоко понесли над головами.
— Смерть за смерть! Кровь за кровь!.. По закону Правды Русской!
Огромная толпа повернула к Жидовским воротам.
— Разоренье за разоренье!.. Око за око!..
Вечевой сполох, что, казалось, дрожал в воздухе, вдруг умолк, будто захлебнулся людской ненавистью. В этот миг на помост, где недавно лежал мёртвый Брайко, поднялся печерский архимандрит Феоктист. Рядом с ним стояло несколько бояр. Они сняли шапки, лица их были удручённы.
Нестор остановился, как и все другие, увидев на вечевом помосте киевских велеможных мужей. Люди застыли плечом к плечу, стиснули Нестора так, что он не мог шевельнуться. Говор на площади затихал. Отец Феоктист что-то говорил. Но его слабого голоса не было слышно. Однако вскоре новость прокатилась по рядам собравшихся: помер князь Святополк!
— Кто же сядет в Киеве? Кого будем звать?
— Мономаха!
— А Степь половецкую кто удержит?
— Мономаха! Пусть скрутит руки богатычам и ростовщикам.
— Мономаха! Волим Мономаха! Да займёт стол своего деда Ярослава Мудрого и отца Всеволода!..
Нестор пробирался сквозь толпу, стремясь выбраться из этого людского круговорота.
Киевляне, громившие дворы можцев, желали звать Мономаха. А что же киевские богатеи? Что молвят те, которые стоят рядом с Феоктистом? Напрягал зрение, но слишком уж далеко отбросило его людской волной от помоста. Перед глазами колыхалось море человеческих голов. Новость за новостью катилась в толпе и застывала в ушах... Князь умер на рассвете... Путята и Поток послали за старшим Святополчичем — Ярославом — на Волынь... Киевские бояре и Феоктист не желали Святополчича, ещё утром послали послов в Переяслав звать Мономаха.
Наконец киевские велеможцы сами просили гордого Мономаха в Киев. Придёт ли? Не вспомнит ли обиду, когда они его не пустили в Киев? Столько лет он ожидал этого дня! Состарился в ожидании — ведь Мономаху уж шестьдесят лет...
Не скоро Нестор добрался к княжьей гриднице. Она была уже полностью забита людьми. Лица у всех озабоченные, растерянные — не от печали об умершем, а оттого, что в Киеве пылал мятеж. Уже побежал к своему двору тысяцкий Путята со своими мечниками. Говорили, что восставшие киевляне подожгли его терем... Умчал спасать своё добро со своими туровцами и боярин Поток… Рядом с княжьим двором пылал терем умершего Яна Вышатича. Чернь потрошила купеческие лари на Бабином Торжке и на Подольском торжище; громила гостиные дворы. Напала на обоз с солью галичан — и разнесла его в щепки... Под вечер вспыхнула Жидовская слобода. Восставшие вырвали из рук тмутараканских и ромейских купцов несколько десятков холопов, которых ростовщики держали раньше в ямах и затем сбывали за серебро торговцам живым товаром. Кровопийц-резоимцев бросали в огонь связанными или вешали на деревьях... Сгорел и толстый Мар Симхи, убийца подольского гончара Брайка...
О похоронах князя будто все забыли. Бояре сидели в каменной гриднице и испуганно прислушивались к шуму киевских улиц. Какие вести они ещё принесут? Хотя бы быстрее пришёл Мономах в мятежный Киев! Он — единственный человек, который властной рукой может усмирить восставший Киев! Иначе всем им болтаться на верёвках... Неминуемо!..
Лишь на третий день прибежали гонцы от Мономаха вместе с доверенным его боярином Ратибором.
— Отказался! — Единственное и невероятное слово упало на головы будто обух.
Мономах отказался от Киева? От них? Не может этого быть!.. Он за Киев когда-то был готов проливать братскую кровь.
— Ратибор, чего молчишь?
— Отказался, — подтвердил боярин. — Князь Володимир Всеволодович велел благодарить за честь. Но он не хощет переступать закона земли Русской и заповедей своего деда: каждый да владеет отчиной своею. Киевский стол должен приять Святополчич...
Первым упал перед ним на колени тысяцкий Путята — двор его был разгромлен и сожжён. За ним бухнулись на землю другие бояре.
— Молим! Киев погибнет от мятежа. Киев горит!.. Гибнет наша земля! Гибнет благодатьство!.. Боярин, передай нашу мольбу Володимиру Всеволодовичу: хощем имети его твёрдую руку в Киеве! Пред ним склоняем свои головы!..
Ратибор будто этого и ожидал.
— А потом будете изгонять из Киева? — чиркнул гневным взглядом из-под светлых бровей.
— Лучше подчиниться воле Мономаха, нежели сгинуть от черни! — Путята вытирал искренние, может, впервые в жизни искренние слёзы на щеках. — Молим тебя, боярин, уговори князя.
Ратибор повернулся к обросшему седыми волосами переяславцу, в котором едва можно было узнать Нерадца.
— Коль так, вели седлать новых лошадей. Нерадец, слышишь, что молвили киевские мужи?
— Слышу... Они молвят то, что должны были молвить ещё в Городце...
— А что скажет княгиня? — вдруг обратился Ратибор к молчаливой чёрной женщине, сидевшей в углу.
Её никто в эти дни и не вспомнил — жены Святополка, матери младших Святополчичей, дочери давно погибшего грозного Тугоркана. Её никогда ни о чём не спрашивали с тех пор, как переселилась из своих кибиток в княжий дом...
И она растерялась.
Её слово что-то значит?
Тотура-Мария удивлённо и скорбно подняла чёрные брови. Губы её задрожали... Горькая обида многолетнего полона её в этих хоромах будто выплеснулась наружу... Ох и хитёр же Мономах! Всё предвидел, никого не забыл! В эту горячую минуту заручился поддержкой всех... В Киеве — сумятица... Сегодня ночью, может, подожгут и эту её золотую темницу — княжьи палаты. Что может она сказать? Она не хочет идти против воли киевских бояр, а её сыновья не справятся с бунтом...
Княгиня поклонилась Ратибору и Нерадцу:
— Да придёт Володимир Всеволодович и защитит киевский стол...
— Нерадец, слышишь, великая княгиня киевская сказала: да придёт Володимир Всеволодович...
— Слышу, — ответил Нерадец. — Но пусть киевские бояре сами едут к нашему князю и сами молят его.
— Дело молвишь, Тур... Я пойду! — встал Путята.
— И я!.. — подскочил Поток.
Несколько рук потянулись к Нерадцу.
— Путята пусть остаётся в Киеве: князя нужно похоронить как должно, с честью, — распорядился Ратибор.
Путята беспомощно оглянулся на своих бояр, но те мгновенно спрятали глаза, втянули головы в плечи, отвернулись. Конечно, тысяцкий должен хлопотать в таком деле, как похороны князя. Их дело — сторона...
Путята другого и не ждал. Вздохнул и вдруг обернулся к Тотуре-Марии:
— Княгиня, готовь побольше серебра для раздачи бедным. Всё, что имеешь, отдадим киянам. Купим спокойствие в Киеве. А что — нет? Вот увидите! Я знаю, как говорить с чернью! Не с крестом! Не словом! — серебром!.. серебром!..
Сколько же этого серебра высыпалось на землю дорогой от княжеской гридницы до церкви Богородицы — Десятинной, усыпальницы киевских князей. Белой стала бы дорога, если бы оно осталось лежать... А потом ещё серебро сыпалось тяжёлым дождём в толпы, которые собирались у храма, когда уже клали тело Святополка в мраморную гробницу. Путята сам хватал его пригоршнями из кожаных мехов, которые тащили на санках вместе с усопшим князем, ибо покойника, по дедовским обычаям, везли ко храму на санках. Великая княгиня со своей прислугой сама шла в толпе и совала в руки куны, лобцы, ногаты, медницы, резаны...
Чёрные, потрескавшиеся ладони, согнутые крюковатые пальцы жадно хватали их, и это серебро будто испарялось — бесследно исчезало. А те ладони и те пальцы вновь тянулись к ней, требовательно, угрожающе... Серебра!.. Серебра!.. Дрожащими руками княгиня и Путята выгребали его остатки со дна мехов. А потрескавшиеся ладони тянулись и тянулись с ещё большей жадностью.
Княгиня уже несколько раз посылала своих челядинов ко двору. Те тащили ещё мехи. Наконец ей сказали: «Это уже — всё!»
— Это всё уже, боярин, — устало сказала она Путяте. — Давай своё теперь.
— Откуда? — ужаснулся вспотевший от рабской работы тысяцкий. — Ничего нет! Чернь разграбила мой двор! Терем — сгорел!
Княгиня удивлённо подняла чёрные брови. Путята, должно, и умрёт лжецом. Ведь хорошо знала, что хитрец никогда не держал своё серебро в тереме — отвозил во дворы, которые имел под Киевом: в Белгород, Васильков, Вышгород... Да и здесь, в Киеве, закапывал в землю...
Ещё архимандрит печерский Феоктист вместе с митрополитом отпевал тело покойного князя Святополка, ещё окуривал сладко-истомным дымком ладана из кадильницы, когда ненасытная толпа начала с ещё большей, нежели раньше, настойчивостью наступать на Путяту и бояр, требуя серебра. Путята спрятался в Десятинной церкви. Княгиня Святополчья испуганно затягивала на груди чёрную шаль печали. Толпа уже подпирала двери храма и угрожала замесить здесь всех в кровавое тесто...
Феоктист, прервав молитву, крикнул:
— Князь Мономах идёт в Киев! Готовьтесь, чада мои, встретить нашего защитника с честью! С хлебом-солью!..
— Давай серебро! Это наше!
— Серебро!.. О-о-о!..
Толпа ворвалась уже в храм, прижав бояр к алтарю. Феоктист снова взывал к ней встретить Мономаха. Наконец люд повалил из храма.
В этой кутерьме мало кто заметил, как со всех улиц и переулков, которые, как солнечные лучи, сходились на Софийской площади, въехали вооружённые всадники. На головах — боевые шлемы, у седел — копья и луки...
Вооружённые конники тихо обступили площадь со всех сторон. Кто они? Чьи? Чего пришли?
У Михайловской улицы на вороном коне сидел огромный, плечистый, возвышающийся над другими на целую голову ратник. Лицо его было закрыто бармицей[185], лишь внизу виднелась его седая борода. Могучая грудь сияла серебристом чешуёй кольчуги, наверное изготовленной из закалённого железа. Он время от времени поднимался в стременах, оглядывал площадь и тыкал рукой то в одну, то в другую сторону. И туда послушно и молча подвигались цепочки конников, безжалостно раздвигая толпу лошадьми. Высокий ратник уже видел, что почти вся площадь была охвачена железным кольцом его всадников. Вот-вот это кольцо сомкнётся у звонницы Софии, и тогда вся толпа, ослеплённая и озлобленная, измученная голодом, ошалевшая от нескольких дней своей безнаказанной воли, попадёт в этот железный мешок.
Рута крепко держала за руку Гордяту-младшего. Она следила глазами за странными вооружёнными всадниками, которые неизвестно откуда взялись и неизвестно кем направлялись. Ей сделалось страшно. Она с отчаянием оглядывалась, искала своего Гордяту-старшего, которого только что оттеснили от неё и куда-то понесли... Где же он? Куда девался?
Нужно отсюда убегать побыстрее... Что-то затевается здесь недоброе... И никто будто не замечает! Все кричат!.. Учуяли свою вольницу!.. Да, конечно, сладка и хмельна она, воля-волюшка... Путятиного двора уже нет — и она, Рута, также вольная! Даже опьянела от радости... Но что же здесь делается?..
— Гордята-а! Где ты? — задыхалась в отчаянии и безнадёжности.
Рута поднималась на цыпочки, вытягивала свою длинную шею, выискивала взглядом среди людских голов знакомые русые волосы, и слёзы подступали ей к горлу. А тот широкоплечий великан в лучезарной кольчуге снова тыкал пальцем во все стороны. И за этим его движением новые цепочки вооружённых конников обступали заполненную людьми площадь. Рута знала теперь наверняка — пришла беда. Изо всех сил стала расталкивать людей и пробираться с малым Гордятой к вечевому помосту. Оттуда только и можно увидеть, где её Гордята-старший. Наконец она забралась на помост, схватилась обеими руками за перила и сразу же увидела его.
— Гордята! Бежим! Нас окружают мечники! Люди! Глядите, глядите, мы окружены...
У помоста затих шум. Люди начали оглядываться. Взволнованный гомон повис над площадью.
Блеснули на солнце мечи неподвижных молчаливых всадников.
Толпа вдруг онемела. Раскачивалась, тяжело дыша, собиралась с духом...
Рута хотела сбежать с помоста, бросалась то в одну сторону, то в другую. Но не было места куда и ногой ступить. Гордяту-меньшего также прижали к перилам. Тогда она снова отыскала взглядом Гордяту-старшего. Он силился пробраться к ней. Рута следила за тем, как он раздвигает людей сильными плечами. Ну как помочь ему? Как?.. Как?..
В этот миг она снова посмотрела в ту сторону, где гарцевал на вороном коне ратник-великан. Она увидела, как он прижался к гриве, как взмахнул возле себя мечом и бросился на толпу...
— Убива-а-ют! Убива-а-ают! — пронзительно завопила Рута. — Бегите!.. Вон туда! Там их мало!.. — Рута ещё раньше заметила, что в той стороне, где начиналась Ирининская улица, у Ирининской церкви, ратников этих было меньше. Оттуда легко сбежать вниз, к Лядским воротам, а там — в Крещатый Яр, на Перевесище...
Рута кричала изо всех сил, пока люди не поняли, что она советует им сделать. Они завернули в ту сторону, сломали тонкую цепочку всадников — людской поток быстро скатывался крутым спуском улицы...
Наконец Гордята-старший протиснулся к помосту, стал рядом с Гордятой-меньшим, шутливо дёрнул его за руку. Рута глядела на своего мужа и сына и уже не видела, как тот великан на вороном коне оказался невдалеке от помоста, как он взял в свои руки лук и натянул стрелой тетиву. Над головами бежавших людей прошумела одинокая стрела. Она мягко ударила Руту в висок, впилась в него и задрожала опереньем... Рута ахнула, ухватилась за стрелу, сгоряча дёрнула её, но железный наконечник назад не шёл. Рута, обомлев, присела на помост. Потом покорно, как подбитая голубица, свалилась на бок...
Гордята-старший бросился к ней. Рута смотрела на него огромными сухими глазами... В них остывали каре-медовые сгустки. По виску медленно стекал красный ручеёк. Он был горячий...
Гордята дёрнул к себе стрелу. Она не поддавалась... Губы Руты стали сереть...
— Не нужно... — тихо прошелестела она. — Бегите...
Золотисто-медовые очи её ещё глядели в его зрачки. Будто о чём-то молили... Уста её раскрылись, наверное, хотели что-то сказать...
Гордята наклонился над нею... припал к груди. Сердце уже не билось. Или, может, так ему показалось. Он стоял пред нею на коленях...
Гордятка прижался к его боку. Он с ужасом глядел на мать. Его чёрные глазёнки влажно блестели. Гордята притянул к себе мальчика. Потом сказал:
— Пойдём...
Софийская площадь уже обезлюдела. Мечники бросились за бежавшей толпой. Одной смерти Руты на виду у всех было достаточно для такого бегства... Но чьи это мечники вынули мечи против народа? Путяты или нового киевского князя?
Об этом киевляне подумают потом. Но и тогда им будет нелегко догадаться: человек — слишком доверчив и потому больше всего страдает из-за своей доверчивости. Путяту люто ненавидели, в доброе имя Владимира Мономаха верили. Гордята легко поднял на руки ещё тёплое тело Руты и быстро зашагал к Боричеву узвозу. Потом остановился. Нет, домой он не понесёт её. Нужно повернуть к Перевесищу — там кладбище гражан...
Гордятка слепо шёл за ним и тихо всхлипывал. Плачь, малыш, поплачь! И за него выплачься, ибо нет у него ни одной слезы... Только в груди жжёт... только болью наливается всё тело...
Вышли на вал... Перешли широкий ручей, журчавший по дну Крещатой долины. Здесь, на окраине города, начиналось кладбище.
Клёны уже выпустили красноватые кисти. Вокруг них роились пчёлы. В разогретом солнцем воздухе терпко пахло ранней весной. Сладким духом пьянили почки тополей и ясеней. Оживала кора сосен и дубов... Под подошвами мягко прогибались стрельчатые стебли молодой травки, пробивающейся сквозь слипшиеся прошлогодние листья... Всё живое тянулось к жизни... к солнцу... И она, ещё молодая, пылкая и добрая Рута, вот так тянулась к его рукам, к его устам... как к своему солнцу...
Гордята положил тело Руты на землю. А сам пошёл к хижине-сторожке поискать какой-нибудь заступ. Возле хижины увидел монаха. Тот, опершись о свой посох, отдыхал. Едва узнал: отец Нестор. Но как согнули его годы! Как выбелили его бороду и длинные волосы... Наверное, возвращался с княжьих поминок...
Гордяту озарило: попросит отца Нестора сотворить над могилой Руты молитву. Возможно, моленье монаха станет ей в помощь там... Шагнул навстречу черноризцу:
— Отец... Не откажи в милости... Челом бью. — Нестор пристально всматривался в лицо Гордяты. Наверняка вспоминает... — Когда-то приходил к тебе... из Городца...
— Ты ли это, Василий-Гордята? Что делаешь здесь?
— Жену хороню. Только что убили её... мечники Путяты... Возле Софии...
— Прости, Боже, и помилуй её... Но это мечники не тысяцкого. Это уже нового киевского князя вой...
— Мономаха? — воскликнул Гордята. — Как же так? Кияне ведь позвали его на киевский стол! А он их — убивать?
— Мятежная чернь одинаково страшна и для бояр, и для всякого князя. А пришёл он сюда на клич бояр, а не черни. С ними ему и дружбу крепить, совет держать...
— Молвили: Мономах справедлив... — растерялся Гордята.
— Княжья правда и боярская правда — едины. Идём... Где усопшая?
— Вон там, где мальчонка стоит.
Нестор остановился перед телом Руты. Наклонился, закрыл ей глаза, всё ещё смотревшие на солнечный весенний день, будто желавшие побольше вобрать в себя его сияние.
— Как же имя её? — тихо спросил монах.
— Рута... Княжья Рута.
— Странно... А по-христиански как нарекли?
— Не ведаю. Назови по-своему...
— Да будет так, — согласился Нестор. — Пусть будет она... Евфимия...
Нестор творил молитву по привычке и снова подумал, что не только в далёких краях Русской земли, но и в её сердце, среди потомков полян, мужей храбрых и смысленых, крепко живут старые обычаи, старые боги, старые имена... Хорошо ли это или плохо? Хорошо ли, когда люди помнят свой род и своих отцов?..
Когда над Рутой вырос чёрный холмик земли, Нестор сел на старый, обросший мхом пень. Упёрся обеими руками о сучковатый посох. Устал за день. От всего устал, а наипаче от тяжких дум.
Поднял глаза на растерянного, убитого горем мужа и мальчика. Стояли они, прижавшись друг к другу. Им вдвоём легче... А он... один... всю жизнь один... со своим горем... со своими мученьями... со славой и смертью... Вот только Гайка с ним всегда... Даже сегодня, в этот тяжёлый суматошный день, он видит её глаза в Гордяте...
— Что будешь делать, сынок? Иди к своему князю, станешь ему в надобности.
— К Мономаху? — вздрогнул Гордята. — Нет, отец. Он убил сегодня мою веру в него. Убил... — Гордята спрятал лицо в ладонях.
— В Святом Писании сказано: «Не ищи себе много тяжёлого и что выше твоих сил, того не испытывай...» Не ходи стезей правды, сын...
— Но в Святом Писании говорится ещё и иное: «Подвизайся за истину до смерти — и Господь поборется за тебя».
— Сие тяжкая дорога, чадо, — покачал головой Нестор.
— Но кто ступил на неё один раз, уж не отступит от неё, отец. Мне мнится, что когда-то и ты учил меня любить тяжкую истину. Сам небось идёшь этой стезей?
— Ибо мне возврата уже нет...
— Пойду и я...
— Да поможет тебе Бог... — Нестор, помолчав, перекрестил немощной рукой этого упрямого и неспокойного человека. Да, именно из таких вырастают правдоискатели... — Да будут благословенны твои дороги... А мне... время к обители... Пойду... — Нестор медленно поднялся и, тяжело опираясь на посох, побрёл тропинкой.
— Идём, сынок, и мы.
— А далеко ль мы пойдём, отец?
— Далеко, сынок. Отсюда не видать.
— А долго ль мы будем туда идти?
— Долго. Дорога наша бесконечна.
— Тогда почему мы не берём ничего с собой?
Гордята-старший задумался. Когда люди выходят в далёкую дорогу, что они берут с тобой? Посмотрел на сына.
— Мы с тобой в дорогу возьмём то, что не имеем права оставить. Память нашу о Киеве... о матери Руте, возьмём её песни... И веру нашу, и слово наше... Без этого — кто мы, сын?
— А храмы также возьмём?
— Возьмём и храмы... И где-то за Днепром-Славутой поставим их для людей... Чтобы никто не разрушил... — И уже не для сына, для себя молвил: — Да, мы спрячем их от зависти, ненависти, от честолюбцев, которые топчут душу людскую во имя своего возвеличения. И эти храмы будут стоять вечно, достанут высокое небо и ясное солнце. Да, мы воздвигнем наши храмы, сын... — упрямо повторил Гордята. Может, это его устами говорила непокорённая Гайка... А может, весь род оратаев...
Нет, он послушает Руту... Будь проклят этот суетный мир, наполненный ненавистью, завистью, властолюбием... Он всю жизнь рвался на волю. А нынче — он взлетит ввысь, яко сокол. Гордо взреет. Он — сын непокорной Гайки!.. Кто сможет удержать его душу?
Издали донеслось далёкое стенание колокола. Это в Печерской обители, которая доживала последний час своего величия, звонили к заутрене, ещё не ведая, что принесёт ей сегодняшний день.
Гордята прислушался к этому далёкому звону. Ему казалось, что в нём плачет чья-то душа...
Гордята оглянулся на Киев. Потом остановился, стал на колени, поклонился земле. Острая боль пронзила его сердце...
Гордятка тоже поклонился Киеву, где навеки осталась его мать, его колыбель, его детство...
Потом оба поднялись и, уже не оглядываясь, двинулись вперёд... к мечте... к неизвестности...
Белобородый старец, книжник Нестор, стоял на пороге своей келии и благословлял всех идущих стезей истины. Не пошёл к заутрене. Сегодня туда должен прибыть новый киевский князь Владимир Всеволодович Мономах со своими боярами — Ратибором, Нажиром, Мирославом. Несколько дней перед тем они сидели в Берестове и сочиняли новые статьи к Правде Русской для успокоения киевской черни. Позже эти статьи будут названы «Уставом Владимира Мономаха». Он уменьшал лихву на долг, урезывал права резоимцев-ростовщиков над холопами, на время освобождал закупов от своего хозяина, если закупы желали идти на заработки, чтобы рассчитаться за одолженную купу. Новый устав был написан. И Нерадец, утихомирив киевлян, оглашал его на киевских площадях.
Теперь другое беспокоило нового киевского властелина — хронограф. Как он, Владимир Мономах, предстанс! в нём пред историей в этот несчастливый и счастливый для него 1113 год?
После заутрени Владимир Всеволодович вместе с Ратибо ром подошёл к игумену и архимандриту Феоктисту. Грузный, совершенно поседевший на краю неспокойной переяславской степи, но ещё подвижный, с нетерпеливым блеском в медово-карих глазах, Владимир Мономах с тревогой в голосе спросил:
— Где же твой книжник Нестор, владыка?
Феоктист пожевал беззубым ртом, ещё раз взглянул пристально на свою братию — Нестора среди них не было. Может, впервые в жизни...
— Нездоровится ему, князь.
— Молвят, твой книжник зело возносил князя Святополка за его деяния, которых он не совершал. — Мономах насмешливо прищурил глаз в сторону Ратибора.
Феоктист возмутился:
— Как это он не совершал? Покойный князь дал нам право благоверного отца Феодосия чтить яко святого. А черноризец Нестор сотворил ещё раньше его житие. Как и житие святых страстотерпцев Бориса и Глеба...
— Это всё было против воли митрополита, владыка, и супротив желаний цареградских патриархов и императоров! — твёрдо молвил Мономах.
— Но — во славу земли Русской! — даже посохом пристукнул Феоктист. — Князь Святополк велел сделать Печерский монастырь княжьим и ввёл архимандритию, чтобы Русскую Церковь усилить и от ромеев отгородиться. И поставил церковь златоверхую Михайловскую на пятнадцать верхов и позолотил её золотом... и... жаловал братию черноризую милостями и землями...
— Печерская обитель была опорой Святополка...
— Была и будет опорой власти старейшего князя земли Русской. Во имя силы её. — Руки у Феоктиста дрожали...
— Нынче, владыка, новый князь в Киеве. Дедом своим великим — Ярославом Мудрым благословенный и возлюбленный матерью своей из царского рода Мономаха... и людом киевским призванный на стол отчий. — Ратибор посмотрел на своего князя — так ли говорит? Все ли важнейшие права князя назвал? Тот молча слушал. Ратибор снова обратился к Феоктисту: — В летописи он должен стать рядом со своим прадедом Володимиром Крестителем и дедом Ярославом яко великий державец и оборонец земли нашей от ногайских орд.
— Книжник Нестор всегда писал о сём с великим старанием, а все деяния, какие сделает наш благоверный князь, доподлинно будут записаны в пергамен...
— Когда это ещё будет! — воскликнул Ратибор. — Книжник Нестор это должен сделать уже сейчас.
— Сейчас? — удивился владыка. — Князь Володимир Всеволодович ещё крепко не сел на киевский стол. Нестор не захочет.
— Нестор — Святополчий летописец. У нашего князя должен быть свой.
Наконец Феоктист понял... Мономаху нужен свой летописец, свой хронист!..
— Князь! — поклонился растерявшийся игумен. — Дам тебе иного мужа, обученного для сего дела. Преподобный пресвитер наш Сильвестр... он моложе и веле старательный... красному письму хорошо обучен... и норовом мягок. Он и начнёт твою летопись...
— Высвяти его на игумена в Выдубечскую обитель и передай ему пергамен Нестора, — ласково сказал Мономах.
Феоктист устало прикрыл глаза. Мономах, должно, вспомнил свою старую обиду, когда печерцы отказались поддержать его на киевский стол и подпёрли законного князя — Святополка. Теперь Мономах не прощает и строптивому Нестору, что стоял за Святополка, а не за него. Гнев нового князя, давний, затаённый гнев на Печерскую обитель, вот как нынче выливается! Теперь не Печеры, а Выдубеч станет княжьей опорой... Но как быть ему, Феоктисту? Ослушаться князя? Не дать ему сей пергамен? Стар он уже для такого подвига. Да и не такого норова. Это когда-то были мужи, сильные своим духом, — вот как Феодосий Печерский! Тот пошёл бы и супротив князя... и супротив сатаны...
— Быти... по сему... — покорно склонил свою старческую голову Феоктист. — Только... береги Русь... яко свой дом...
Мономах склонил голову пред игуменом для благословения. Потом быстро направился к воротам. К тем воротам, через которые он когда-то проходил тайно — обесславленный печерскими отцами. Ныне он идёт мимо них яко победитель. Идёт в последний раз, ибо Печерская обитель отныне превращена им в ничто — и державный хронограф у неё забрали, могучее Слово вырвано у неё.
За Мономахом торопились его бояре. Растерянный, укрощённый Киев ожидал своего нового кормчего.
Феоктист велел немедля позвать Нестора. Но посланный келейник Еремея сообщил, что преподобного Нестора в обители нет. Что он, узнав о воле Мономаха, ушёл в Киев.
— Откуда же мог дознаться так быстро? — удивился владыка.
— Наверное, провидение Божье явилось ему...
Феоктист перекрестился, не подозревая, что тем провидением был сам Еремея, который слышал всю беседу игумена с Мономахом...
Нестор шёл к Киеву своей старой, давно проторённой тропой. Город ещё тонул в утренних сумерках, вывяленный усталостью от буйных дней мятежа и страданий. Только вратари, проснувшись от первых лучей солнца, которые коснулись крыш сторожевых башен, перекликались звуками перегудниц и рожков. Скрипели петли Лядских ворот. Где-то тарахтели повозки — это из ближних сел к Киеву уже пришли на торги смерды со своим добром.
Нестор обошёл стороной Княжью гору и направился вдоль обрыва, где когда-то шумела бурная речка Киянка, вливаясь в Почайну. Отсюда был виден широкий Днепр и раздольный ремесленный Подол, который раскинул свои улицы вдоль Почайны, Глыбочицы до самого Днепра.
Оживали улицы трудового Подола. Шевелился кожемяцкий конец; раздавался звонкий стук выжженных горшков и кувшинов на гончарной улице — гончары грузили своё добро, готовясь ехать на торг. Единственным колоколом отозвалась на Подоле старая Ильинская церковь, вздымавшая свою зелёную маковицу над подольскими улицами. А дальше, ближе к Почайне, неизвестно с каких времён, стояло полуразрушенное, давно оставленное людьми капище старого доброго Волоса. На девяти деревянных столбах опиралась полуистлевшая крыша с загнутыми книзу концами. По давнему обычаю, возле него собирался большой Подольский торг. Вдали, на берегу Глыбочицы, виднелась крыша ещё одного древнего капища Полянского племени. Оттуда вился лёгкий дымок. Неужели там кто-то клал требы?
И вдруг отчаянно заколотили била. Что случилось? Какая беда?
Нестор остановился на высокой горе, оглядел весь город. Тишина. Солнечное весеннее утро играло над городом глубокой синью высокого неба и золотистыми лучами, пронизывающими чистый воздух. И снова тревожно ударили в била. Снизу, с подольских улиц, стали подниматься на гору, где стоял Нестор, несколько человек. Так же обеспокоенно вглядывались в ещё сонный город... Вдруг всем показалось, что под ногами у них качнулась земля, что старое капище на торгу как-то перекосилось и так и осталось стоять...
Нестор поднёс руку к челу, чтобы осенить себя крестом и отогнать видение. Но капище вновь качнулось — и над его крышей порхнул в небо огненный столб...
Что это? Предвестник беды? Нашествие супостатов? Или это благословение Бога киевскому трудовому люду?
Тревога холодила грудь.
Вдруг снова ясно почувствовал, что под ногами у него качнулась земля. Упал бы, если бы не схватился за ветви ольхи. Тряхнуло землю... Неужели вновь разверзается грешная земная твердь, чтобы проглотить их всех? Когда-то уже было такое. При князе Кие и Черне. Тогда открылись пещеры в днепровских кручах...
Со страхом всматривались люди в залитые солнцем улицы Подола. Взгляды всех остановились на пылающем капище.
Из его крыши взлетел в небо светло-жёлтый столб дыма, огня и пыли. Он взвивался вверх, будто какое-то чудовище... расползался вширь... разбрасывал красноватые искры... дышал белыми облаками. В нём гибло старое Волосово капище...
Онемевшая рука Нестора не могла подняться для крестного знамения. Протёр глаза ребром сухой ладони... И в это мгновенье вновь дрогнула земля — молча и неистово... Всё же землетрясение...
За спиной у него кто-то сказал:
— Разгневался Перун... Уходит под землю от нас. Рушатся старые храмы... Люди ведь забросили их...
— Глядите, горит Волосово капище... И там, за Глубочицей, также пожар!
— Это жгут мечники Мономаха! Нерадец ими управляет... Молвят, свирепый, яко зверь...
— Князь Мономах привёз с собой ромейских монахов и попов...
Рушилась, уходила в небытие старая Русь. В пламени догорали остатки обиталищ старых богов и старой веры. На их место должны были встать крепкие каменные храмы, утверждающие силу нового кормчего киевской державы — самовластного и мудрого Владимира Мономаха.
Но что ожидало души людские? Какими зёрнами будут они засеяны — добра или зла? Каким испытаниям шли они навстречу?
Тревожные предчувствия шевелились в изболевшемся сердце Нестора...
Тяжело поднял руку, медленно осенил себя крестом. Да святится имя твоё, златоглавый град Киев! Крепи силу свою и веру — в правду свою и в своё великое грядущее. Тогда — победишь...
...Уже после обеда возвратился Нестор в обитель. Там его ожидал новый игумен Выдубечского монастыря Сильвестр — надёжная опора Владимира Мономаха.
Ирпень — Киев. 1980—1981
КОММЕНТАРИИ
ИВАНЧЕНКО РАИСА ПЕТРОВНА — украинская писательница; автор исторического романа «Гнев Перуна» — яркого эпического полотна, достоверно воссоздающего противоречивую историческую обстановку, политическую атмосферу жизни Киевской Руси в последней трети XI — начале XII в. В центре повествования фигура легендарного летописца Нестора, отстаивающего Словом единство многострадальной Русской земли.
Текст печатается по изданию: Раиса Иванченко. Гнев Перуна: Роман/Авторизованный перевод с украинского Людмилы Ивановой. — Москва, Советский писатель, 1986.
Примечания
1
...новому летописцу — Сильвестру... — Сильвестр (?—1123) — древнерусский писатель, игумен Михайловского Выдубецкого монастыря, близкий к Владимиру Мономаху. Один из составителей «Повести временных лет».
(обратно)2
Владимир Мономах — Владимир II Мономах (1053—1125) — князь смоленский (с 1067 г.), черниговский (с 1078 г.), переяславский (с 1093 г.), великий князь киевский (с 1113 г.). Сын Всеволода I и дочери византийского императора Константина Мономаха. Призван киевскими боярами во время народного восстания. Владимир Мономах боролся против феодальных междоусобиц; разработал устав, ограничивавший произвол ростовщиков. В «Поучении» призывал сыновей укреплять единство Руси.
(обратно)3
...печерский владыка Феодосий... — Феодосий Печерский (1030-е — 1074) — древнерусский писатель, игумен Киево-Печерского монастыря с 1062 г. Феодосий Печерский первым ввёл на Руси монастырский устав, автор множества поучений и посланий.
(обратно)4
Скуфейка — круглая шапочка у монахов.
(обратно)5
Писало — приспособление с острым концом для писания на пергаменте — специально выделанной коже.
(обратно)6
Сарацины — арабы (древнесл.).
(обратно)7
О святом Борисе и Глебе... — Борис (?—1015) — князь ростовский и Глеб (?—1015) — князь муромский — сыновья великого князя Владимира I. Князья Борис и Глеб были убиты по приказу Святополка I. Оба князя канонизированы Русской Церковью.
(обратно)8
Буг — обруч.
(обратно)9
Влаз — вход.
(обратно)10
Прегудницы, сопели, дуды — музыкальные инструменты в виде различной величины свирелей.
(обратно)11
...схимник Антоний. — Антоний Печерский (983—1073) — основатель Киево-Печерского монастыря (в 1051 г.). В 1069 г. бежал от гнева князя Изяслава Ярославича в Чернигов, где основал монастырь.
(обратно)12
… когда-то Никон Великий... — Никон (?—1088) — древнерусский писатель, игумен Киево-Печерского монастыря с 1074 г. По мнению ряда историков и филологов, Никон — автор летописного свода 1073 г., одного из источников «Повести временных лет».
(обратно)13
Пресвитер — священник, иерей, поп (греч.).
(обратно)14
...князь Ярослав Мудрый... — Ярослав Мудрый (ок. 978—1054) — великий князь киевский. Ярослав Мудрый изгнал Святополка I, рядом побед обезопасил южные и западные границы Руси, установил династические связи со многими странами Европы. При Ярославе Мудром составлена Русская Правда — свод древнерусского феодального права.
(обратно)15
Волхвы — древнерусские служители дохристианских культов, знахари. В конце X — начале XI в. волхвы — активные участники народных восстаний.
(обратно)16
...при первых Полянских князьях... — Имеются в виду легендарный основатель и первый правитель г. Киева — Кий и его два брата — Щек и Хорив. Поляне — восточнославянское племенное объединение VI—IX вв. по берегам Днепра и низовьям его притоков от устья Припяти до Роси. Полянам принадлежит главная роль в создании раннего объединения славян Среднего Поднепровья — Русской земли (1-я пол. IX в.), ядра древнерусского государства.
(обратно)17
Капище — языческий храм у восточных славян дохристианского времени.
(обратно)18
Огнищанин — глава рода, авторитетный и богатый человек, владелец домашнего очага, дома.
(обратно)19
...сам князь Владимир... — Владимир I (?—1015) — князь новгородский (с 969 г.), киевский (с 980 г.). Младший сын Святослава от рабыни Малки. Владимир I покорил вятичей, радимичей и ятвягов; воевал с печенегами, Волжской Болгарией, Византией и Польшей. В 988—989 гг. Владимир I ввёл в качестве государственной религии христианство (при крещении Владимир принял греческое имя Василий). При Владимире I древнерусское государство вступило в период своего расцвета, усилился международный авторитет Руси. В русских былинах князя Владимира называют Красное Солнышко.
(обратно)20
Окрин — глиняный кувшин.
(обратно)21
Росодавица — божество урожая, дающее злакам росу.
(обратно)22
Оратай — пахарь.
(обратно)23
Епанча — кирея, мужская одежда.
(обратно)24
Лад — бог брака, плодовитости, семейного благополучия и верности; Лада — богиня весны и любви.
(обратно)25
Конец — в городах Древней Руси ремесленное население одного вида ремесла селилось на одной улице — конце. Так возникали концы кузнечный, бондарский, гончарный и др.
(обратно)26
Стольник — домоуправитель, должность и чин в Древней Руси.
(обратно)27
Мечник — страж, оруженосец из охраны князя.
(обратно)28
Постельничий — приближённый князя, который смотрит за его спальней.
(обратно)29
Сокольничий — управляющий соколиной охотой при князе.
(обратно)30
...где пребывали его жёны — Рогнеда-полочанка... — Рогнеда (?—1000) — дочь полоцкого князя Рогволда. После захвата Полоцка (в 980 г.) и убийства её отца и братьев Рогнеда была вынуждена стать женой князя Владимира. Рогнеда — мать Ярослава Мудрого и родоначальница полоцкой ветви Рюриковичей.
(обратно)31
Оловир — шелковая ткань, затканная узорами с золотой нитью.
(обратно)32
Роздерть — пашня, поднятая из-под леса.
(обратно)33
Вои — воины.
(обратно)34
Лагвица — глиняный сосуд для напитков с длинным горлышком.
(обратно)35
Ляхи — поляки.
(обратно)36
...пришли с князем Изяславом Ярославичем... — Изяслав Ярославич (1024—1078) — великий князь киевский (1054—1068, 1069—1073, 1077—1078). Изяслав Ярославич изгонялся из Киева (народным восстанием в 1068 г. и братьями в 1073 г.) и возвращал власть с помощью иностранных войск.
(обратно)37
Правёж — судовой штраф.
(обратно)38
Тиун — княжеский, боярский или епископский управляющий землями.
(обратно)39
Бирич — княжеский управляющий (позже полицейский чин), который оглашал и осуществлял распоряжения властей.
(обратно)40
Mесяц верес (вересень) — сентябрь.
(обратно)41
...воссел средний Ярославич — Святослав, князь черниговский... — Святослав II (1027—1076) — князь черниговский (с 1054 г.), князь киевский (с 1073 г.), сын великого князя Ярослава Мудрого; вместе с братом Всеволодом оборонял южные границы Руси от половцев и торков.
(обратно)42
...прибыл княжеский воевода Ян Вышатич... — Ян Вышатич (?—1106) — киевский тысяцкий, сын Вышаты, брат Путяты. Ян Вышатич служил Святославу II, Всеволоду I и другим, был близок к Киево-Печерскому монастырю. В 1071 г. Ян Вышатич подавил восстание на Белоозере, в 1093 и 1106 гг. участвовал в походах на половцев. Его рассказы вошли в «Повесть временных лет».
(обратно)43
...из славного рода Добрыни, служившего ещё старому князю Игорю и Святославу. — Добрыня — воспитатель и воевода Владимира I Святославича, участник борьбы за киевский стол, похода на Волжскую Болгарию в 985 г. Добрыня был княжеским посадником в Новгороде, насильственно крестил новгородцев. Игорь (?—945) — великий князь киевский с 912 г., сын Рюрика. Игорь Рюрикович в 941 и 944 гг. совершил походы в Византию, с которой заключил договор; был убит древлянами во время сбора дани. Святослав I (?—972) — великий князь киевский, сын князя Игоря и княгини Ольги. С 964 г. Святослав I совершал походы на Оку, в Поволжье, на Северный Кавказ и Балканы. Святослав I укрепил внешнеполитическое положение Киевского государства, был убит печенегами у днепровских порогов.
(обратно)44
Тать — разбойник; татьба — разбой.
(обратно)45
Рада — совет, указание.
(обратно)46
Вече — народное собрание, совещание.
(обратно)47
Говяда — быки или телки для мяса.
(обратно)48
Полумисок — неглубокая керамическая тарелка; миса — глубокая тарелка.
(обратно)49
Опаны — котлы.
(обратно)50
Див — божество страха и смерти, людоед в славянской мифологии.
(обратно)51
Обида — воинственная дева в славянской мифологии, приносящая войны и ужас.
(обратно)52
Потяг — побор.
(обратно)53
Вира — дань, пеня; дикая вира бралась с общины.
(обратно)54
...даже правнука его, знаменитого книжника новгородского — Остромира, от которого были Вышата и его сыновья — Ян и Путята, — Остромир — новгородский княжеский посадник с 1054 г., заказчик Остромирова Евангелия — древнейшего датированного памятника старославянской письменности русской редакции (1065—1057 гг.). Ян Вышатич, — См. коммент. № 42. Путята Вышатич — киевский тысяцкий, воевода Святополка II, брат Яна Вышатича; участник княжеских междоусобиц, его двор был разгромлен во время Киевского восстания 1113 г.
(обратно)55
Лепая — красивая.
(обратно)56
Лечец — лекарь.
(обратно)57
Можный, можец, велеможный — богатый.
(обратно)58
Пек — бог кровопролития и смерти в славянской мифологии.
(обратно)59
Холопы — категория феодально-зависимого населения в Киевской Руси; зависимый смерд, находящийся в положении раба; обельный холоп — полностью зависимый раб.
(обратно)60
Изгои — люди, вследствие житейских условий утратившие положение в обществе, изгнанные из него.
(обратно)61
Рядовичи — зависимое от феодала земледельческое население в Киевской Руси, которое отбывало повинности на основе договора — ряда.
(обратно)62
3акупы — категория феодально-зависимого населения в Киевской Руси, которое брало у своего феодала ссуду-купу — за проценты.
(обратно)63
Виталище — жилище, помещение.
(обратно)64
Коромола — крамола, заговор.
(обратно)65
...буйных Рюриковичей... — Рюриковичи — династия русских князей, в том числе великих князей киевских, владимирских, московских и русских царей (кон. IX—XVI в., последний Рюрикович — царь Фёдор Иванович), считавшихся потомками Рюрика — начальника варяжского военного отряда, якобы призванного ильменскими славянами вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в Новгород.
(обратно)66
...разделив землю между... Изяславом, Святославом и Всеволодом. — Изяслав. — См. коммент. № 36, Святослав. — См. коммент. № 43. Всеволод — Всеволод I Ярославич (1030—1093) — князь переяславский (с 1054 г.), черниговский (с 1077 г.), великий князь киевский (с 1078 г.), сын Ярослава Мудрого. Вместе с братьями Изяславом и Святославом вёл борьбу с половцами, участвовал в составлении «Правды Ярославичей».
(обратно)67
Волостель, волостелин — правитель, властитель, управитель волости.
(обратно)68
Ектения — моление, читаемое дьяконом или священником.
(обратно)69
Четьи-Минеи — сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования Церковью памяти каждого святого.
(обратно)70
Узвоз — крутой спуск (древнерус.).
(обратно)71
Медуши — помещение для сохранения меда.
(обратно)72
Бретьяница — амбар, кладовая.
(обратно)73
...император Священной Римской империи Генрих IV... — Генрих IV (1050—1106) — германский король и император Священной Римской империи (с 1106 г.), из Франконской династии.
(обратно)74
Киявье — летописное название земель Киевского княжества.
(обратно)75
...великого царя Византии Константина Мономаха... — Константин IX (?—1055) — византийский император, после войны с Русью в 1043 г. заключил с ней союз, скреплённый браком родственницы императора Марии Мономах с сыном Ярослава Мудрого — Всеволодом Ярославичем; от этого брака родился будущий великий князь киевский Владимир Мономах.
(обратно)76
Брачина — шелковая, парчовая ткань.
(обратно)77
Убрус — древнерусский головной убор, состоящий из прямоугольного куска ткани.
(обратно)78
Кожух — шуба (древнерус.).
(обратно)79
Михаил Пселл — до пострижения в монахи — Константин (1018 — ок. 1078 или ок. 1096) — византийский политический деятель, писатель, учёный, философ. Михаил Пселл оказывал сильное влияние на политический курс правительства Константина IX. «Хронография» Пселла, охватывающая события 976—1078 гг., — политические мемуары, отличающиеся рационалистическим взглядом на исторический процесс, проницательностью в понимании эгоистических интересов лиц и групп.
(обратно)80
Стань — восстание (древнерус.).
(обратно)81
Вольница — шерстяная ткань.
(обратно)82
Поприще — древнерусская мера длины, около 700 м.
(обратно)83
Слава — в славянской мифологии богиня военной победы и охоты. Древнейшее божество славян, которое изображали на щитах. Предполагают, что от ее имени и произошло название славянских племен.
(обратно)84
Морана, Мара, Мана, Марена — в славянской мифологии богиня смерти, болезней, мора; дочь Чернобога, гоняется за богиней неба Колядой, старается помешать рождению света — Солнца.
(обратно)85
Грош — денежная единица в Древней Руси.
(обратно)86
Зимница, пропасница — горячка, лихорадка.
(обратно)87
Бескиды — древнерусское название Карпатских гор.
(обратно)88
Малая Польша — давнее название удельных польских княжеских земель с центром в городе Кракове.
(обратно)89
...Болеслава Кривоуста. — Болеслав III Кривоустый (1085—1138) — князь польский с 1102 г., из династии Пястов. Болеслав III воссоединил с Польшей Восточное и Западное поморье; в 1138 г. разделил страну на уделы между сыновьями…
(обратно)90
Опашен — верхняя одежда с рукавами.
(обратно)91
...о наших сыновьях — Святополке и Ярополке... — Святополк II (1050—1113) — князь полоцкий (в 1069-1071 гг.), новгородский (в 1078—1088 гг.), туровский (в 1088—1093 гг.), великий князь киевский (с 1093 г.). Сын великого князя Изяслава Ярославича. Лицемерный и жестокий, он разжигал княжеские междоусобия; угнетением народа подготовил вспыхнувшее после его смерти восстание в Киеве. Ярополк — вышгородский князь с 1078 г., затем князь туровский и владимиро-волынский. Брат Святополка II и сын князя Изяслава Ярославича. В 1085 г. Ярополк бежал от Владимира Мономаха в Польшу, но в 1086 г. вернулся, заключил мир с Мономахом и снова сел во Владимире-Волынском, но в том же году погиб от руки наёмного убийцы, подосланного Ростиславичами. По словам летописи, отличался добротой, смирением и кротостью.
(обратно)92
Сольба — посольство.
(обратно)93
...о грозном Папе Григории VII, который даже императора Генриха IV... на колени поставил в Каноссе... — Григорий VII Гильдебранд (между 1015 и 1020—1085) — Римский Папа с 1073 г., фактически правил при Папе Николае II в 1059 — 1061 гг., добивался верховенства пап над светскими государями, боролся с императором Генрихом IV за инвеституру. В январе 1077 г. в Каноссе, замке маркграфини Матильды в Северной Италии, отлучённый от Церкви и низложенный император Генрих IV униженно вымаливал прощение у своего противника Папы Григория VII. В переносном значении «идти в Каноссу» — согласиться на унизительную капитуляцию.
(обратно)94
Кметь — воин.
(обратно)95
852 год от рождения Христа.
(обратно)96
В Византии.
(обратно)97
Хроника Георгия Амартолы, — Георгий Амартол — автор греческой, очень популярной в средних веках хроники, возможно, родом из Александрии. Хроника Георгия Амартолы уже была известна в IX в.
(обратно)98
Поруб — яма, тюрьма.
(обратно)99
...князь полоцкий Всеслав, внук Рогнеды! — Всеслав Брячиславич (?—1101) — князь полоцкий с 1044 г. В 1066 г. князь Всеслав захватил и сжёг Новгород; в 1067 г. находился в плену в г. Киеве, а в 1068 г. во время народного восстания был провозглашён киевским князем, но в начале подавления восстания бежал в Полоцк.
(обратно)100
Святополк же — рождён грекиней-расстригой, которая была женой брата Владимира — Ярополка. — Ярополк I (945—980) — князь киевский, старший сын князя Святослава. Ярополк I пытался подчинить себе территории на севере и северо-востоке Руси, но был побеждён младшим братом Владимиром. Святополк I Окаянный (ок. 980—1019) — князь туровский, киевский. Старший сын Владимира I. После смерти отца завладел княжеским престолом, убив трёх своих братьев — Бориса, Глеба и Святослава; был изгнан Ярославом Мудрым. В 1018 г. с помощью польских и печенежских войск Ярополк I захватил Киев, но был убит.
(обратно)101
Проскупица — злодейка.
(обратно)102
Зарев, серпень — древнерусские названия месяца августа.
(обратно)103
Волос, Велес—в славянской мифологии бог скота, богатства, опекун животного мира.
(обратно)104
Сварог — один из главных богов славянской мифологии, бог неба, железа и кузнечного дела. Сварожич — месяц, его сын.
(обратно)105
Чур, Цур, Щур — весьма популярный у славян бог — охранитель домашнего очага, благополучия, рода.
(обратно)106
Белая дорога — Млечный Путь.
(обратно)107
Полунощная звезда — Полярная звезда.
(обратно)108
Бадняк — живой огонь у древних славян, который добывали из сухого дерева и зажигали на Новый год.
(обратно)109
Великий Воз — Большая Медведица.
(обратно)110
Свепет — дикий пчелиный мёд.
(обратно)111
Черен — рукоять.
(обратно)112
Опаница — небольшой котёл.
(обратно)113
Пательня — сковорода.
(обратно)114
Толковин — союзник.
(обратно)115
Израдец — изменник, предатель.
(обратно)116
Понтийское море — Черное море.
(обратно)117
Поляница — ратная сила в поле (древнерус.).
(обратно)118
Упадь — овраг.
(обратно)119
Маланка - ночная зарница в небе; в народных верованиях — дочь Перуна, грома.
(обратно)120
...старший сын Святослава Черниговского — Олег. — Олег Святославич (?—1115) — князь ростово-суздальский; в 1076 г., потеряв владения, князь Олег бежал в Тмутаракань, дважды при поддержке половцев захватывал Чернигов, был в плену у хазар, затем в Византии в ссылке на острове Родос. В «Слове о полку Игореве» Олег Святославич прозван Гориславичем.
(обратно)121
Вежа — кибитка, шатер, напоминающий вежу — башню.
(обратно)122
Постолы — вид кожаной обуви.
(обратно)123
Жива, Сива, Цица — в славянской мифологии богиня жизни и весны, покровительница женского счастья, здоровья и благополучия; принесла славянам зерна жита — ржи.
(обратно)124
Огнеястра и Невея — в народных заклинаниях силы болезни и смерти.
(обратно)125
Вотола — верхняя грубая одежда, накидка.
(обратно)126
Веретея — участок земли.
(обратно)127
Ряд — договор.
(обратно)128
...о княгине Ольге есть сказание — о мести её древлянам. — Ольга (?—969) — княгиня, жена киевского князя Игоря Рюриковича; правила в малолетство сына Святослава и во время его походов, около 957 г. приняла христианство. В 945 г. князь Игорь, не удовольствовавшись данью, полученной с древлян, вернулся к ним за новой данью и был убит древлянами у г. Искоростеня. Княгиня Ольга жестоко отомстила им, уничтожив древлянский город Искоростень и разбив древлянское войско.
(обратно)129
Алафа — подарок, взятка.
(обратно)130
Денница, Зарница, Утренняя Заря, Зоряница, Вечерняя Заря — утренняя звезда, в славянской мифологии сестры Солнца; одна выводит на небесный свод его белых коней, другая — заводит.
(обратно)131
Дайте коней!
(обратно)132
Тарпан — дикий конь.
(обратно)133
Ирий — отлёт для зимовки птиц в тёплые края.
(обратно)134
Сыновец — племянник по брату (древнерус).
(обратно)135
Детинец — кремль.
(обратно)136
Синодик — книга для записей умерших, которые должны упоминаться во время богослужения.
(обратно)137
Корчага — глиняный сосуд для содержания зерна, меда и других запасов продовольствия.
(обратно)138
Xуста — платок.
(обратно)139
Дежа — шатер.
(обратно)140
Магометанской веры, здесь — волжские болгары.
(обратно)141
Благодатьство — богатство.
(обратно)142
Нежитовица — смертельная болезнь, чума, эпидемия.
(обратно)143
Яловец — цветной лоскут ткани, прикреплялся к верхушке княжеского шлема.
(обратно)144
Баба — древнейшее божество древних народов в Поднепровье, покровительница жизни, плодовитости, здоровья, беременных.
(обратно)145
...поднятые гуннским нашествием... — Гунны — кочевой народ, сложившийся во II—IV вв. в Приуралье. Массовое передвижение гуннов на запад (с 70-х гг. IV в.) дало толчок так называемому великому переселению народов. Подчинив ряд германских и других племён, гунны возглавили мощный союз племён, предпринимавший опустошительные походы во многие страны. Наибольшего могущества гунны достигли при Аттиле (?—453) — предводителе гуннов с 434 г., который возглавил опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию, Северную Италию. Продвижение гуннов на запад было остановлено их разгромом на Каталонских полях в 451 г. После смерти Аттилы союз племён распался.
(обратно)146
Чуга — длинный кафтан.
(обратно)147
...по Правде Русской, — Русская Правда — свод древнерусского феодального права: защита жизни и имущества княжеских дружинников и слуг, положение феодально-зависимых людей, обязательственное и наследственное право и т. д.
(обратно)148
Стрый — дядя по отцу.
(обратно)149
Бармы — часть парадной одежды князей и царей в виде широкого оплечья с нашитыми на него драгоценными камнями.
(обратно)150
Новый византийский император Алексей Комнин... — Алексей I Комнин (ок. 1048—1118) — византийский император с 1081 г. Алексей Комнин отразил натиск норманнов, печенегов и сельджуков; с помощью крестоносцев вернул империи часть Малой Азии.
(обратно)151
Дастархан — скатерть.
(обратно)152
Рассказ об этом единоборстве помещен в «Повести временных лет».
(обратно)153
Корзно — плащ-накидка, копировавший византийскую хламиду прямоугольного или полукруглого кроя, набрасывался на левое плечо и застегивался фибулой на правом плече.
(обратно)154
Резоимец — ростовщик, дававший деньги в долг, под резаны (название мелкой монеты).
(обратно)155
Купа — 5 гривен; гривна — слиток серебра весом приблизительно в 160 г (киевская гривна); равнялась 25 кунам, 20 ногатам, 50 резанам.
(обратно)156
Медница — мелкая монета в Древней Руси.
(обратно)157
То есть под проценты за одолженную сумму гривен, которые начислялись более мелкой монетой — резанами.
(обратно)158
Нутукчины — распорядители кочевья.
(обратно)159
...сыновьям Измайловым... — Иными словами — мусульманам. Измаил — в библейской мифологии сын Авраама и его наложницы Агари. Вместе с матерью Измаил был изгнан в пустыню Авраамом, когда жена Авраама Сара родила Исаака. 12 сыновей Измаила считались родоначальниками 12 арабских племён.
(обратно)160
Игемония — гегемония (греч.).
(обратно)161
Жажель — цепь.
(обратно)162
Бастрыга — шалун, резвун.
(обратно)163
Порфира — длинная пурпурная мантия, символ власти монарха.
(обратно)164
...пока их грозный царь Аттила... — См. коммент. № 145.
(обратно)165
Прозелит — человек, принявший новое вероисповедание.
(обратно)166
...проповедников Константина-Кирилла и его брата Мефодия, — Кирилл и Мефодий — братья из Солуни, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства. Кирилл (ок. 827—869) и Мефодий (ок. 815—885) в 863 г. были приглашены из Византии князем Ростиславом для введения богослужения на славянском языке.
(обратно)167
...после похода русичей на Цареград в лето 866-е. — Имеется в виду поход древнерусских князей Аскольда (?—882) и Дира (?—882), вместе правивших в Киеве, на Царьград в 866 г.
(обратно)168
Чудь — древнерусское название эстов, а также других финских племен к востоку от Онежского озера.
(обратно)169
Весь — прибалтийско-финское племя в Приладожье и Белозерье. В IX в. вошло в состав Киевской Руси.
(обратно)170
Бель — серебряная монета.
(обратно)171
Выверка, вывирица — белка.
(обратно)172
...князь Олег... — Олег (?—912) — древнерусский князь, правил с 879 г. в Новгороде, с 882 г. в Киеве, в 907 г. совершил поход в Византию, в 907 и 911 гг. заключил с ней договоры.
(обратно)173
Город Итиль был столицей Хазарии.
(обратно)174
Сия-Кух — Мангышлак.
(обратно)175
965 год от рождения Христа.
(обратно)176
...Василька, князя Теребовлянского... — Князь Василий Ростиславич в 1097 г. был ослеплён, так как Давид Игоревич (1059—1112) — князь владимиро-волынский, оклеветал его перед киевским князем Святополком.
(обратно)177
Первый проповедник их, Пётр Пустынник... — Пётр Пустынник — католический монах, получивший благословение Римского Папы Урбана II проповедовать крестовый поход. В 1096 г. Пётр Пустынник во главе одного из отрядов крестоносцев двинулся в первый крестовый поход (1096—1099). После окончания крестового похода Пётр Пустынник возвратился во Францию, где умер в монастыре.
(обратно)178
Кайстра — полотняный мешок, торба, иногда вышитая.
(обратно)179
Гюргию моему время уже жениться. — Владимир Мономах говорит о своём сыне Гюргии (Юрии) — будущем великом князе киевском Юрии Долгоруком (90-е гг. XI в, — 1157). При нём впервые упомянута под 1147 г. Москва, укреплённая Юрием Долгоруким в 1156 г.
(обратно)180
Гривна — название ожерелья, подвески из серебра, украшение, знак богатства.
(обратно)181
Тамгованый — клейменый.
(обратно)182
Куна — мелкая денежная монета.
(обратно)183
Головяжа — сыпучая мера.
(обратно)184
Мыт — налог, пошлина.
(обратно)185
Бармица — сетка внизу шлема, которая прикрывала лицо и шею воина.
(обратно)



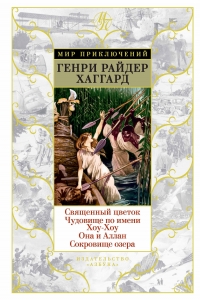

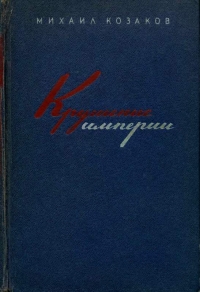

Комментарии к книге «Гнев Перуна», Раиса Петровна Иванченко
Всего 0 комментариев