Петр Краснов С Ермаком на Сибирь (сборник)
С Ермаком на Сибирь
I Пожар в Москве в 1581 году
– Ай, батюшки!.. Горим!..
С треском откинулось окно, забрунжало слюдою, и тревожный, душу раздирающий женский крик понесся по ночной улице.
– А-а-а-й!.. Спаси-ите!
В тесное узкое окно девичьего терема во втором ярусе бревенчатой избы с натугой протиснулась перина в красной кумачовой наволочке и полетела на снег. За периной стала пролезать простоволосая женщина в белой сорочке… Застряла в окне… Мукой исказились громадные глаза. Она завизжала еще раз протяжно: «спасите»… – и смолкла.
Разом в окно метнулось широкими алыми языками пожарное пламя, и женщина исчезла в нем. Над крышею повалил черный дым. Загудел огонь.
На соседней церковной колокольне забил набатный колокол. Зимнее небо подернулось розовым заревом, отражая пожар.
Москва горела.
Еще прошло несколько мгновений. Улица оставалась пустой. Крепко спала древняя Москва. Не сразу услыхали в теплых и душных покоях медные зовы набата. Крики гибнущих на пожаре людей заглушены были воем пожарного пламени.
Но вот – то тут, то там стали растворяться ворота. Испуганные, наспех одетые люди выбегали на улицу, выносили сундуки и увязки. Другие с ведрами в руках лезли на крыши, готовясь заливать летящие из костром пылающих домов красные пожарные «галки» – раскаленные головни.
Москва была деревянная. Бревенчатые срубы, тесовые крыши, соломой крытые амбары, сено и солома на сеновалах, деревянные смоленые частоколы, сосновые бревна давали пищу пожару.
Загорелось в торговых рядах, близ Яузы, в меховой палате купца Чашника.
Бороться с огнем?.. Чем?.. Пожарных насосов Иоаннова Москва не знала. Кто поближе к пожару – спасал, что может. Запрягали сани, грузили домашнюю рухлядь, вьючили лошадей – уходили, куда глаза глядят. Подальше от огня.
Кого еще не настигло пламя, тот таскал ведрами воду, отстаивал что можно. Снегом забрасывали стены домов.
Тихая ночь наполнилась криком и гамом людей. Ржали потревоженные лошади. Прискакали царские опричники, сгоняли народ заливать огонь, топорами рубить и баграми раскидывать крыши.
Народ стоял толпами в улицах и смотрел, как утихало пламя в одном месте и вспыхивало в другом, как черными остовами рисовались в огне дома и с треском рушились, посылая в небо столбы пламени и тучи опасных зловещих «галок».
Плакали, причитая, женщины. Из церквей выходило духовенство и с молебным пением обходило церковную ограду. Только Бог мог спасти от пожара.
При первых звуках набата стрелецкий сотник Стефан Филиппович Исаков растворил настежь в морозную ночь окно и высунулся по пояс посмотреть, где горит.
Горело далеко на Яузе, за пять кварталов от него, за большим садом князя Серебряного. Исаков широко перекрестился, достал из кармана медную расческу, расчесал волосы и бороду и крикнул слуг.
– Разбудите-ка Марью Тимофеевну, да Наталью Степановну. Пускай одеваются… Мало ли что? До греха не долго – и вся Москва запылает. Да сбегайте за Селезнеевым, пусть придет…
Исаков надел теплую шубу и сел у окна наблюдать за пожаром. Зарево бросало розовые отсветы в горницу, играло на окладах икон, на оружии и оловянных блюдах, висевших по стенам.
Жена Исакова и дочь – девочка четырнадцати лет, Наташа, кутаясь в шубы, спустилась из терема. Стрелецкий жилец[1] вошел в избу и доложил о приходе Селезнеева.
– Войди, Василий Ярославич.
Старый дворянин вошел в потертой шубе.
– Садись, Ярославич… Спать все одно не придется. Видишь, как пылает, – сказал Исаков.
– А знаешь где? – хриплым со сна голосом сказал Селезнеев.
– Ну?.. В торговых рядах подле Китай-города.
– Во… во! У самых у Чашников! Вот оно где! На Яузе. Я шел – опричник Егоров с пожара скакал, сказывал – все погорели… Чашники-то!
Марья Тимофеевна тихо опустилась на колени перед иконами. Девочка горько заплакала.
– Не скули, Наташа… Может, и живы, – сумрачно сказал дочери Исаков. – На все предел от Господа положен.
– Пусть плачет, – обернулась от икон Марья Тимофеевна. – Счастлив, кто, умиляясь душою, может плакать и молиться… Сколько людей опять погибнет! А Чашники, чай, не чужие люди, сам знаешь!
– Лучший друг. Старый наш боевой соратник… Казанский, – точно про себя, негромко сказал Исаков. – Да не вижу надежды, чтобы спаслись… Как пылает Москва! Такое несчастливое видно уже выдалось царствование царю Ивану Васильевичу… А помнишь, Ярославич, страшный 7055-й год?[2]. Какая тогда ужасная была весна!.. 12 апреля сгорели лавки в Китай-городе с богатыми товарами, гостиные казенные дворы, Богоявленская обитель и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки. Высокая башня, где хранился порох, взлетела на воздух с частью городской стены, упала в реку и запрудила ее кирпичами.
– И теперь не мало погорит товара, – вздохнул Селезнеев. – Одних Чашников взять – сколько мехов погибнет!.. Драгоценных!..
– А мне все та весна поминается. Великие тогда были пожары! 20-го апреля все улицы, где жили гончары и кожевники, обратились в пепел. Помнишь?.. Уже не поджоги ли то были, чтобы досадить молодому царю?.. 21-го июня, около полудня, в страшную бурю загорелось за Неглинной, на Арбатской улице, у церкви Воздвижения. Вспыхнули Кремль, Китай-город и Большой Посад. Вся Москва пылала. От дыма было черно, как ночью. Я уже юношей был, – хорошо те пожары помню. Деревянные здания сгорали, как солома, каменные рушились, железо рдело, как в горниле. Расплавленная медь текла. Рев бури, треск пламени, вопль сгорающих людей временами заглушались взрывами пороха. Спасали только жизнь. Богатства гибли. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели в том ужасном огне. Митрополит молился в храме Успения. Он задыхался от дыма. Его силою вывели из храма и хотели на веревке спустить с тайника к Москве-реке. Он упал, расшибся и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь. Из собора вынесли только образ Марии, писанный св. Петром Митрополитом, и «Правила Церковные», привезенные Киприаном из Константинополя. Владимирская икона Богоматери оставалась в храме. Но огонь, разрушив кровлю и паперти, не проник внутрь церкви. От Арбата и Неглинной до Яузы и до конца Великой улицы, Варварской, Покровской, Мясницкой, Дмитровской и Тверской ничего не уцелело. Дерева садов обратились в уголь, трава в золу. Сгорело 1700 человек, не считая младенцев!
– Господи! – простонала у божницы Марья Тимофеевна. – Буди милостив нам, грешным!
– Оттого, Ярославич, как пожар в Москве, неспокойно мое сердце. Все те времена мне вспоминаются. Все вижу людей с опаленными волосами, с черными лицами, все слышу их дикий звериный вой. Ходили они по пепелищам и не находили близких…
– Нынче, – сказал Селезнеев, – зима. Все снег какую ни на есть препону огню положит.
– А Москва погорит?.. Сколько лишенных крова людей замерзнет!..
– Погорит и снова отстроится. Помнишь, в то же лето стали отстраивать Кремлевский дворец, богатые восстановляли свои хоромы.
– А о бедных забыли! И оттого – бунты и кровавые казни! Помню, как в толпе кричали царю, что Глинские[3] жгли Москву. Мать их, Анна, будто вынимала сердца из мертвых, клала в воду и кропила тою водою улицы, ездя по Москве – и оттого пожары! Как все было страшно тогда! Тридцать четыре года прошло с той поры. Из отрока стал я стариком – вот дочь невеста растет, а как услышу набатные зовы – не найду нигде покоя.
– Молись! – сурово сказала Марья Тимофеевна, все не встававшая с колен. – Молись за Чашников! Ужели приняли они смерть в губительном огне?
Страшно было ее лицо, искаженное мукой. Из окна набегали на него красные, огневые отсветы. От иконы, от затепленных свечей лился мягкой, теплый свет и ложился на бледные щеки и на потухшие глаза. Рядом горько, неутешно плакала ее дочь. Детским сердцем любила она Федю, сына Чашников, и знала из рассказов нянь, что Федор Чашник, ее суженый – ее будущий жених.
Всю ночь полыхало зарево. Набатный звон гудел над Москвою. Всю ночь полны шума, крика и тревожных вестей были улицы Москвы. Приходили вести и в дом Исакова. И первая была весть: Чашники все погорели!..
К утру огонь стал стихать. Остановленный садом князя Серебряного, он еще вспыхивал то тут, то там, на пепелище, где дымились красные уголья пожаришь.
Исаков с Селезнеевым поехали в санях разыскивать останки погоревших Чашников.
II Федя и Восяй
Дом Чашников – целая усадьба. Пять больших, бревенчатых срубов стояли под одной высокой, старой, тесовой, крепко просмоленной крышей. В трех передних, выходивших на улицу, были устроены лавки и склады мехового товара. Гаврила Чашник, когда-то удалой дворянский сын Государева конного полка, славный соратник князя Андрея Курбского в боях под Казанью, уже лет двадцать как занимался скупкой сибирских мехов и торговлей ими в Москве. У него был единственный сын Федор. Шел Федору пятнадцатый год, и Гаврила Леонтьевич приучал его к своему торговому делу. На Федоре лежало наблюдение за самыми дорогими мехами, и обыкновенно он спал в лавке, где с длинных жердей, протянутых под потолком, свисали нежные шкурки серебристого соболя, пушистые, с длинными хвостами шкуры черно-бурой лисицы, куньи меха, белые горностаи с черными кисточками на конце хвоста, котиковые шкурки и другой товар. Здесь у Феди, за оконным ларем, запиравшимся на ночь тяжелыми железными болтами, в боковуше была устроена постель, накрытая бараньим мехом; в боковуше крепко и терпко пахло мехами, Федя привык к этому запаху. Сбоку, вверху, было длинное узкое окно с рамою, заклеенною прожированною бумагою. Окно выходило во двор, окруженный частоколом. Дверь из лавки вела в дощатый проход, заваленный старыми ящиками, рогожами, стружками и разным хламом, за проходом была двухъярусная изба со светлицами его родителей. По другую сторону двери в длинной и узкой избе помещались меховщики – татары Зыран, Мичкин и Кач. Двор замыкался конюшнями. Над ними были устроены сеновалы.
В эту ночь Федя, как всегда после ужина, помолился вместе с отцом и матерью, получил от них благословение на ночь и со слюдяным фонарем обошел двор и лавки и осмотрел все запоры. Черная мохнатая сибирская лайка провожала его, следуя за ним шаг за шагом.
Федя по скрипящему под сапогами снегу подошел к боковуше и открыл дверь.
– Ну!.. спокойной ночи Восяй! – сказал он, ставя фонарь на землю. – Хорони нас крепко!
Собака поднялась на задние лапы, уперлась передними в грудь Феди и завиляла хвостом. Фонарь искорками отразился в черных умных глазах, и Феде показалось, что Восяй этим взглядом не то спрашивает у него что-то, не то сам ему что-то говорит.
– Слушай, Восяй. Если недобрый человек к нам заберется, а я твоего лая не услышу, прыгай в окно, – показал Федя на узкое окно боковуши. – Ты ведь чуткий.
Восяй поднял глаза к окну. Белок показался внизу черного зрачка. Восяй посмотрел на бумажный переплет, потянулся, упираясь передними лапами в Федину грудь, вильнул хвостом, точно сказал:
– Ладно уж! Не учи. Сам знаю, как поступить. Не маленький. Третий год с вами живу.
Федя понял Восяя.
– Ну да не мне тебя учить, – сказал он. – Ну, прощай. Покойной ночи!
Восяй спрыгнул на землю и стоял подле Феди. Он знал, что еще не все кончено. Еще надо попрощаться, как следует.
– Ну… лапочку!
Восяй протянул правую лапу, и Федя пожал ее.
– Холодная какая!
Восяй, прищурившись, посмотрел на Федю.
– Ну, еще бы – со снегу-то! Я ведь, Федя, валенок не ношу, – как будто сказал он.
– Другую!
Федя пожал поданную ему левую лапу и, сев на корточки, прижался губами к широкому лбу собаки. Нежна была короткая шерсть на лбу. Руками Федя гладил собаку по спине и груди и чувствовал, как билось маленькое собачье сердце.
Федя вздохнул и встал. Прямо в глаза смотрела ему собака, и так глубок и выразителен был ее взгляд, что Федя подумал: «да собачья-ли у нее душа»? Он подхватил фонарь, отворил дверь и быстро шагнул в боковушу.
Крепко и горячо помолившись у иконы за батюшку с матушкой, за Исаковых, за Селезнеева, за Мичкина, Кача и Зырана, православных татар, и – мысленно, не называя, – за Восяя, – Федя задул восковую свечу и улегся на бараньими шкурами покрытую постель. Кожаную подушечку «думку» подложил под щеку.
Хорошо! Тепло и уютно.
Из наступившего мрака синим прозрачным пятном обрисовалось окно. Студеная январская ночь стояла за ним.
Что-то Восяй? Не холодно ли ему в конуре?
И стал вспоминать Восяя.
Слепым щенком из далекой Сибири, из-за Каменного пояса – Уральских гор – привезли меховщики-вогулы Феде эту забавную игрушку. Федя поил его молоком с пальца, и было нежно обжатие маленького черного рта, и щекотал Федин палец крошечный розовый язычок.
И как-то весною, когда уже на дворе иглами из черной сырой земли стала пробиваться молодая зеленая травка и сладок был дух вдруг набухших тополевых почек, а солнце светило по-весеннему ярко, Восяй, лежавший на коленях у Феди, вдруг приоткрыл глаза. Огоньками заискрились они, отражая солнце. Восяй потянулся, прищурился, огляделся, и черные изюминки его остановились на добрых серых Фединых глазах. Восяй завизжал от охватившего его восторга.
Над Москвою плыли звоны колоколов. Была Пасха.
И солнечный свет, и нежное весеннее тепло, и запах молодой травы и тополя, синева бесконечного неба, и эти плавные колыхания воздуха где-то в далекой вышине – все это для Восяя слилось с мягким прикосновением Фединых рук, с его сияющими глазами, и все было понято Восяем – по-своему. Все от него, от этого мальчика. И Федя стал для Восяя как бы богом!
Потом пошел быстрый собачий век. За месяц собака развивалась, как человек за год; многое она поняла и переоценила, но первое впечатление осталось и вылилось в бесконечную любовь и собачью преданность Феде.
Восяй не расставался с Федей. Куда Федя, туда и он. Трудновато сначала давались маленькому неуклюжему пушистому щенку с короткими еще лапами высокие пороги Чашниковского дома. Едва переваливался он через них, а когда уже не было под силу, жалобно пищал, прося, чтобы его перебросили на ту сторону, за Федей.
Шутя, учился собачьим наукам и собачьему баловству. Скоро узнал, кто свои, кто чужие. Было забавно смотреть, как этот совсем маленький, пушистый черный щенок, злобно ерошил шерсть и хрипло тявкал, еще не умея лаять, на чужого, входившего во двор.
Играя, научился подавать лапку, носить поноску, приносить разные вещи. Часами слушал, что говорят люди, и понемногу узнавал мудреные слова человеческого голоса. И знал их уже немало.
К двум годам научился по запаху различать меха и приносить из кладовой тот, который ему назовут. Скажут ему: «Восяй, принеси лисицу!..» И Восяй кидался в кладовую, если мог, сам доставал лапами мех, хватал осторожно зубами и нес хозяину, виляя хвостом, с улыбкой под белыми острыми зубами. Покупатели, приходившие в лавку Чашника, всегда спрашивали:
– А что, собачка ваша дома?
– Дома. Куда же ей даваться.
– А ну, покажите, как она меха выбирает.
Федя звал со двора Восяя:
– А ну, Восяй, тащи нам связку собольков.
Связки собольков висли высоко под потолком, между других шкурок.
Восяй подбегал к ним, становился под ними и лаял до тех пор, пока Зырян, или Кач, или Мичкин не доставали длинным крюком соболей и не давали торжествующему Восяю.
– А ну-ка, Восяй! – Белку!
И через минуту уже стоял Восяй, чуть держа, едва касаясь зубами, нежный серый беличий мех. А покупатель или сам Гаврила Леонтьевич возьмут и пошутят:
– Что же ты, Восяй, обмишулился ведь. Тащишь белку, а я тебе приказал лисицу.
Какой упрек тогда был в глазах Восяя! Вылупит их, станут они большими, белки заиграют в углах. Глядит то на Федю, то на Гаврилу Леонтьевича и точно говорить:
– Зачем смеетесь надо мною? Я же отлично слышал, как вы сказали: – белку! У вас и рот оскалился трубочкой… я знаю. Лисица… Совсем другое у вас: – лисица… Тогда ваша пасть в – растяжку!..
И Федя не выдержит. Бросится обнимать Восяя.
Все это вспомнилось в эту холодную зимнюю ночь Феде. Тихо было в Москве. Порывами подувал ветерок, напирал на бумагу окна, шелестел по ней снежинками, разгонял думы и воспоминания. Тяжелела Федина голова, крепче прижималась к нагревшейся коже подушки. Стали неясны, обрывисты думы и крепкий сон точно унес Федю в какое то сладкое и отрадное небытие.
III Восяй умница
Сквозь сон услыхал Федя: точно пушка ударила. Еще… и еще… Не открывал еще глаз. Подумал, – когда послы английские к царю Иоанну Васильевичу приезжали, палили из пушек с Кремлевских башен и вот так отдавалось о бумагу окна.
Понемногу прояснялась, отходила от сна голова. Как же это ночью? Кто же приедет ночью?.. А может быть?.. Не напали ли татары на Москву? Федя вспомнил рассказы отца… Дед еще помнил, как до самой Москвы доходила татарская орда. Тогда прогоняли ее войском!
Открыл глаза и вскочил.
В розовом свете было окно. Полыхалось тенями. Будто бы рано быть солнцу? Ужели он так проспал?
Черная тень метнулась за окном. С силой ударила в бумагу… Бумм!.. Вот оно что! – пушки напомнило. Что же это такое?
За окном лаял, визжал и выл Восяй. Это он кидался на окно, стараясь пробить головою бумагу и вскочить к Феде в боковушу.
Первая мысль Феди была: разбойники!.. Воры!.. Наскоро обувшись, накинув кафтанчик, подпоясавшись и засунув за пояс нож – все это разом, в одно мгновенье, не размышляя, Федя раскрыл окно, и Восяй стремительно прянул в него и ворвался в боковушу.
За окном пылало небо, и был пожар.
Федя хотел открыть дверь в проход, чтобы бежать в родительские горницы, но Восяй бросился на него, вцепился зубами в руку и зарычал… Не пускает.
– Да что ты, Восяй?! – крикнул Федя. – Взбесился что ли?
Он отшвырнул Восяя, но Восяй снова с визгом и плачем бросился между Федей и дверью.
– Восяй! – Угроза была в голосе Феди.
Он не видел, какими страшными, умоляющими глазами посмотрела на него собака. Он откинул ее в угол боковуши и быстро распахнул дверь.
Яркое пламя пылающих стружек и дикий дым ворвались в боковушу и сразу опалили волосы и лицо Феди. Он зашатался. Огонь отрезал Феди путь к двери во двор. Задыхаясь от дыма, он готов был упасть. Восяй бросился к Феде, прикрыл собою от огня, лизнул в лицо, и эта ласка в такой страшный миг вернула Феде сознание.
Собака тянула его к окну.
Федя влез на постель, ухватился руками за подоконник и, протиснувшись в узкое оконце, выпрыгнул на снег… Боковуша занялась огнем.
– Батюшка!.. Матушка!.. – крикнул Федя.
Никто не отозвался. Кругом бушевало пламя. Конюшня, горницы родителей, изба, где жили татары, были объяты пожаром. Крыши обвалились. Изо всех окон гудело пламя.
«Если они раньше меня не выскочили – все сгорели», – холодною змейкой пробежала мысль. Отмякли и стали бессильны руки и ноги, Федя оглянулся.
Путь был один – через частокол – в переулок. Федя перелез через бревна, спрыгнул и, все позабыв, в животном ужасе, побежал по переулку. Он задыхался от дыма. Кругом горели дома. Было душно и жарко.
Пробежав шагов двести, Федя выбрался на более спокойные места. Здесь стали попадаться ему такие же обезумевшие люди, с черными от копоти лицами, с опаленными волосами. Кто бежал едва одетый, кто тащил какой-то ненужный хлам, а сам был без шапки.
Здесь тише был вой и рев пламени. Раздавались плач, вопли и причитания женщин, в огне потерявших детей.
У высоких берез за дощатым забором сада князя Серебряного стало совсем тихо, и Федя упал в сугроб, охлаждая снегом опаленное огнем лицо.
Без шубы и валенок, в легком кафтанчике-однорядке[4], в простых козловых сапожках Федя стал замерзать. Вся величина, вся ужасная правда вдруг обрушившегося на него несчастья стала перед ним, и он, закрыв лицо руками, заплакал первыми слезами.
– Батюшка!.. Матушка!.. где вы?..
Сердце мальчика сжималось от ужаса. Он слышал гул пожара, набат, крики и вопли людей и боялся открыть глаза, повернуться туда, точно боялся увидать во всей страшной грозности свое великое сиротское горе.
Вдруг Федя почувствовал такое знакомое прикосновение лап Восяя. Они стали ему на спину. Жаркое дыхание коснулось Федина уха, язык полохнул по щеке. Федя повернулся и открыл глаза.
От пожара было совсем светло. Восяй, опаленный, с посеревшей, скатавшейся в шарики шерстью, стоял против Феди.
– Восяй?! – сказал Федя… – Как же ты?.. Через частокол?
Восяй лег у ног Феди и зализывал раны на брюхе.
– Поцарапался… Ободрался… Восяй?!.. Чуть не погиб… Да ведь сироты мы с тобою!.. Круглые сироты!.. Нищие! Все потеряли… Некуда нам с тобою головы преклонить…
Восяй поднял морду. Он посмотрел на небо в кровавом зареве, потом в глаза Феди. Был строг и упорен взгляд черных собачьих глаз.
Потом Восяй уперся передними лапами в грудь Феди, смотрел ему прямо в глаза и ласково вилял обожженным, в лохмотьях шерсти хвостом.
Точно говорил:
– Не бойся! Со мною не пропадешь!.. Я же остался… Я твой… Весь твой?!..
– Да так-то так, Восяюшка!.. А только! – и Федя с рыданьем лег в снежный сугроб.
IV На пожарище
Исаков с Селезнеевым на широких розвальнях, запряженных крепким, сытым, караковой масти бахматом[5] ранним утром подъезжали к пожарищу. Они не узнавали улиц. Там, где вчера была путаница густых улочек и переулков, где, прижавшись друг к другу, стояли одноярусные и двухъярусные дома с высокими чердаками, чередуясь с длинными крепкими бревенчатыми заборами, где у лавок и кружал[6] было всегда шумно от народа и снег был растоптан до самой деревянной мостовой, – теперь были широкие просторы, курившиеся низким и едким синеватым дымом. Кое-где каменные и кирпичные основы показывали места домов. Тут и там валялись обгорелые балки, и пламя еще перебегало по ним. Высокие, почерневшие трубы, точно кладбищенские памятники, торчали по пожарищу. Уцелевшая береза с обуглившимся стволом и пожженными ветвями печально стояла на черном дворе. Под развалинами конюшен и коровников виднелись обгорелые трупы животных.
Груды черепков битой посуды, еще не остывшие железные обручи бочек, оковки сундуков, обода колес лежали кучами – печальные остатки людского богатства.
Сани тихо ползли то по песку, то по обломкам бревенчатой мостовой, проваливались в не успевшие замерзнуть лужи воды. Сильный бахмат с трудом вытягивал их из вязкой почвы. На сытом крупе морщинилась мокрая шерсть. Дымною, жаркою гарью тянуло отовсюду. Пахло паленым волосом.
Люди пробирались по пожарищу. Длинными баграми растаскивали они свалившийся хлам, искали останки дорогих людей, несгоревшие вещи. Навстречу Исакову попались сани. В наскоро сколоченных гробах везли найденные на пожарище кости, – чьи неизвестно.
Два опричника проехали верхом. Один был знакомый Селезнеева, и тот спросил, велики ли убытки?
– Сотни четыре людей погорело, – сказал опричник. – Вот они, каковы убытки.
Другой опричник поправил:
– Больше, за полтысячи будет. Эва! Сколько домов выхватило! Не счесть… Да и ночью!..
– Чашники, не знаете, случайно, живы или нет?
– Не знаю, не слыхал.
Другой, молодой, красивый, с широким, наглым, красным от мороза лицом, сидевший на горячей лошади с высоким седлом, с привязанными к потнику собачьей головой и метлой[7], обернулся к Исакову и сказал:
– Это какие Чашники-то?.. Что мехами торговали?
– Они самые.
– Все как есть погорели. С них и началось. Там разве выскочишь? Меха, чай, селитрою смазаны. Люди говорили, что порох вспыхнул. Товар сухой.
– Никто и не выскочил. Сколько народу тут жило-обитало, – сказал первый опричник, – а глядите сколько по пожарищу бродит, добро свое ищет. Прогневили, значит, Господа.
Они тронули храпящих, напуганных дымом лошадей, а Исаков с Селезнеевым поехали дальше.
У церкви Василья, обгорелой снаружи, с порушенным забором церковного погоста, медленно и печально звонил к заупокойной обедне колокол. Туда свозили в гробах и просто в ящиках найденные на пожарище останки людей.
Привязав лошадь к каменному, еще теплому столбу ограды, уцелевшему от пожара, Исаков с Селезнеевым зашли в церковь. В жарком сумраке пахло гарью. Растерянный священник в обожженной рясе и епитрахили давал указания, как ставить гробы. Человек тридцать погорльцев с темными обожженными лицами, плохо одетых, стояли в церкви. Женщины плакали. Исаков с Селезнеевым обошли всех, расспрашивая про Чашников. Никто не слыхал, чтобы они остались живы.
– Разве кого угадаешь? – сказал старик с темным и скорбным лицом и глазами показал на гробы с почерневшими костями. – Вот хороним. А кого хороним? Их же имена Ты, Господи, веси.
Когда вышли из церкви, на улице валил снег.
Он падал на черную, раскаленную землю, гасил дотла дотлевающие бревна. От земли шло легкое шипение, и низкий, белый пар тянулся над нею, закрывая дали.
– Поехали домой, – сказал Исаков. – Свою панихиду надо заказывать. Уцелел Гаврила Леонтьевич на Казанском штурме, а тут какую страшную смерть принял.
– Федю мне жалко, – жидким тенорком жалобно сказал Селезнеев. – Славный мальчик был.
Они выехали с пожарища и крупною рысью поехали по узкому переулку мимо ограды сада князя Серебряного. Сад загибал налево, им надо было поворачивать направо, к Яузе.
– Постой, – сказал Селезнеев, накладывая руку на длинный рукав охабня[8] правившего лошадью Исакова. – Никак… Восяй?
– Да что ты! – Исаков круто осадил лошадь.
В глубине узкого переулка, где с обоих сторон были сады и серебряным сводом свешивались сучья заиндевевших, облипших снегом деревьев, стояла, насторожившись, черная собака. Уши были подняты торчком, и она нерешительно виляла обгорелым хвостом.
– Восяй? – крикнул Исаков.
Собака бросилась к ним и, маша хвостом, все оглядываясь, точно просила следовать за ней.
– Как будто зовет, – сказал Селезнеев, – проедем за ней. Пес-то чудной, необыкновенный, может, чего и начуял.
Исаков свернул в переулок. Восяй с радостным, веселым лаем, прыгая к самой морде лошади, бросился перед ними. Они проехали шагов двести и увидали лежащего на сугробе человека, засыпанного снегом.
– Стой, Степан! Да ведь это Федор, – крикнул Селезнеев и выскочил из саней.
Федя спал полуобморочным сном на снежном сугробе. Бледное лицо еще хранило следы копоти, и обгорелые брови и ресницы придавали ему чуждый, болезненный вид.
Исаков едва мог растолкать его.
Увидав друзей своего отца, Федя заплакал.
– Все погибло, – всхлипывая, говорил он. – Некуда мне, сироте, голову преклонить.
– Свет, друг мой Федя, – сказал, усаживая его в сани, Исаков, – не без добрых людей. Да и ты нам не чужой. Поедем к нам. Помолимся за в огне погибших, а там – Господь укажет, что тебе делать. Благодари Господа, что направил к нам твоего пса и скоро тебя нашли. А то, не погорев на пожаре, ты бы замерз на морозе.
V Воспоминания
Сорок дней прошли в слезах и молитве. По утрам отправлялись Исаков с Марьей Тимофеевной и Федей к ранней обедне, выстаивали ее, служили заказную панихиду, а потом возвращались домой. Каждый садился за свое дело, а Федя подсоблял Марье Тимофеевне по хозяйству, или ходил с Исаковым по двору, на конюшни, помогал седлать, запрягать. Иногда Исаков приказывал и ему поседлать коня и ездил с ним по Москве, по жилецким избам, осматривая, все ли в порядке в его конной сотне.
По вечерам приходил к Исакову Селезнеев. Марья Тимофеевна поднималась наверх в терем, где у Наташи собирались сенные девушки, а Исаков с Селезнеевым садились в горнице за дубовым столом. Слуга приносил свечу в медном шандале, доставал кувшин пенной браги и оловянные чары. Федя садился в углу, Исаков с Селезнеевым под окном на лавке. В горнице была полутьма. Освещены были только лица старых сотников. Серебром отливали седые виски Исакова, светилась розовая лысина Селезнеева. Сначала было тихо в избе. За большою печью в цветных зеленых с розами изразцах трещал сверчок. Сверху чуть доносилось визгливое протяжное пение девушек в терему. На улице потрескивал февральский мороз.
Вдруг скажет Селезнеев: «а помнишь?» – и подмигнет – Феде-то с темноты все видно – Исакову. А Исаков уже понял, о чем думал Селезнеев, и скажет.
– А расскажи-ка, Ярославич, как Казань брали.
Селезнеев закивает лысой головой, удивительно напоминающей Феде молодую репу, и заговорит своим дребезжащим тенорком:
– Ох не речист я, куда не речист, Степан. Где мне рассказывать!
И рассмеется ребячески чистой усмешкой. Всплеснет черными, загорелыми руками и вскрикнет, срываясь на визг.
– Под Арском! Добычи! Добычи-то!.. Князя Романа Михалыча ранили… В ножках-то стрелы… Конь в крови… Ровно бешеный!.. В то же лето и помер волею Божию князь Роман Михалыч от стольких-то ран!..
Дрожащей рукой нальет из кувшина в чарку брагу. Стучит горлышком по оловянному краю. Пена течет на дубовый стол.
Любопытство Феди задето. Он встает и несмело делает из своего угла два шага к Исакову.
– Степан Филиппович, – говорил он, и голос его ломается, – дозволь мне слово молвить.
– Ну? – хмурит Исаков седые брови. Нельзя молодому, отроку еще, в беседу старых мужей мешаться.
– Ну? – повторяет он строго. Но Федя видит, что серые глаза его вовсе не строги и лучами расходятся маленькие морщинки от их углов. Значит, улыбнется сейчас Исаков. А Селезнеев заливается, смеется добрым ласковым смехом. Он знает, что попросит сейчас Федя. Рассказать про Казань! Он и сам того хочет. И знает он, что для Исакова нет лучше беседы, как вспоминать про казанские победы.
– Степан Филиппович, не вели казнить, дозволь слово молвить… Расскажи мне, сироте неученому, как Казань-город брали.
Исаков не глядит на Федю. Он смотрит на Селезнеева. Уже распустились морщинки. Все лицо в светлой улыбке.
– Ярославич! Ярославич! – говорит он. – А ведь такие, как он, молодые мы были… И царь, и князь Андрей Михалыч Курбский, и брат его Роман Михалыч – совсм отрок… и Ермак – помнишь… Все – кому двадцать четыре, кому двадцать пять сравнялось… Роману Михалычу и всего-то восемнадцать. – Таким-то, Степан, и дела делать! Нам, старикам, – печь да завалинка! Нам-то с тобой и по двадцати тогда не сравнялось.
– Что говорить! – одушевленно сказал Исаков. – Молодежь!.. Пыл!.. Как крикнем: Москва! – да, освободя повода, устремим коней во весь дух, – бежит татарва!!!.. Ну, слушай?! Бог с тобой! расскажу уж, какой царь тогда был!.. Какие победы!..
– Да стаканчик ему, сироте, налей, Степан. Можно, – засуетился Селезнеев. – Пусть мозги прояснить, восчувствует, что и как было. Ох, не речист я, не речист, а то бы и сам уклеил, что, где, как, почему и по чем!.. Ну, сказывай, Степан… А мы слушаем… Уши развесим.
Обняв за стан Федю, он притянул его к себе и усадил рядом на лавку.
VI «Преданья старины глубокой»
– Казань у Москвы, что болячка на носу, – начал рассказ Исаков. – Запирала она нам Волгу. Некуда было кораблям нашим податься. Стерегла нас Казань… Да мало того, что стерегла, вечною угрозою стояла, мешала бороться с Перекопским ханом, тревожила рязанцев, держала в страхе Москву. И надо было ту Казань взять!.. А как возьмешь?.. Крепость!.. Царь поставил на пути к Казани город Свияжск и там заготовил рать и большие военные запасы, а в двенадцатый месяц – «зарев»[9] с большою ратью подошел к Волге. Три дня мы стояли на Волге, собирали суда, вязали плоты, готовились к переправе, а на четвертый день, – Господи благослови, – стали переправляться. В лесных дубровах на левом берегу Волги стал раскидываться наш стан. Сто пятьдесят тысяч нас было – конных и пеших! Небывалая сила!
Яртаул – передовой полк с двумя воеводами – князьями Юрием Пронским и Федором Львовым, – тоже юношами пылкими, пошел берегом реки к Казани.
Не легок был путь. Много ручьев и речек впадает здесь в Волгу. Мосты и гати, которые тут были, все были повреждены казанцами, и нашему яртаулу пришлось мостить и гатить их заново. Три дня шли походом и на четвертый вышли из лесов, и вот они! – открылись перед нами великие и пространные, и гладкие, зело веселые луга, и по ним бежит речка Казанка. Господи! Красота несказанная! Осенним, ярким последним цветом цвели луга. Трава по колено коню. Метелками машет, сладким духом в лицо пышет – и умирать не велит! Дыши – наслаждайся!.. А мы молоды, – все об одном думаем – услужить царю, разбить басурман, подарить победою Москву-матушку!.. И перед нами Казань! Крепкое место… С восхода Казань-река, с заката тинистый, глубокий, непроходимый вязкий проток Булак, вытекающий из немалого озера Кабана, и над всем этим за высокими бревенчатыми стенами на горе белый каменный город с высокими башнями и с тонкими стройными минаретами мечетей! Красота, Федя! На зеленом лугу горит, сверкаете на горе город, – блистают острия и полулуния на мечетях – и манит обманною тишиною. Ибо знали мы, что там схоронилось все войско татарское.
– Князю Андрею Михайловичу было поручено устраивать правый Рог – и было у него, молодого, под начальством двенадцать тысяч пеших стрельцов и шесть тысяч казаков. Наше крыло должно было переправиться через Казань-реку и стать от Казани-речки до моста на Галицкой дороге. Досталось нам, Федор, ровное, болотистое место, и надо нам было всячески оберегаться от огневой пальбы со стен города. Понарыли и понасыпали мы кругом Казани до полутораста больших и малых шанцев и укрылись ими от пушечной стрельбы и от стрел, пускаемых из луков.
– Так пошли дни и недели. Дня, Федя, не проходило, чтобы не беспокоили нас татары. Много погибло уже наших храбрых воинов, много полегло и коней наших, которых убивали татары всякий раз, как ходили ротмистры[10] наши на разведку, или ездили за травою для корма лошадям. Стали и мы в ту пору тощать. Затянулась осада казанская. И пошли в те поры дожди. Пухнуть стали болота, и от сырости болотной стала у людей хворь. И как приметили татары, что мы от тех дождей терпим лютое горе, – стали колдовством напускать на нас дожди.
Исаков вздохнул, истово перекрестился на темную икону, где малиновым огоньком в венецианском стекле чуть билось пламя лампады, и продолжал.
– Прости мне, Господи, что поминаю этакую пакость! Да ведь, говорится: из песни слова не выкинешь, что было – то было. Сразились ангельские силы с силами бесовскими, и победил Честной Животворящий Крест! Как только зажелтеет небо на востоке, за лесом, предвещая восход, – стены города наполнялись татарскими мужами и бабами и начинали они кричать сатанинские слова, махать на наше войско своими одеждами, дико и страшно вертеться… И тогда вдруг поднимается прохладный и влажный ветер, и хотя бы день начинался ясный и солнечный, нагонит тот ветер облака, затянет, заслонит небо темными тучами и польет такой дождь, что и сухие места обратятся в болота, а низины наполнятся водою. И дождь идет только над нашим войском, а кругом, вдали видать светлое небо, и нету дождя. Тогда бывшие при царе священник, протопресвитер Новгородский Сильвестр и муж добрый Алексей Адашев присоветовали царю послать в Москву и привезти Крест с частицею Древа Креста Господня. Тот Крест всегда хранился при царском венце. И сбегано, за Божьею помощью, зело скоро. Водою шли до Новгорода Нижнего три дня на вятских быстроходных кораблях, а от Новгорода до Москвы погнали лошадьми. И двух недель не прошло, – вот он, – привезли к государеву стану Крест чудотворный. И тогда все пресвитеры соборне отслужили при походной церкви литургию, отпели молебен, освятили тем Крестом воду. Войска были построены кругом казанских стен… Ах, Федор! Федор! Надо было видеть красоту тогдашнего воинства нашего. Конница на крепких бахматах в сиянии панцирей и бахтерцов, в шапках с золотыми шишаками, государев полк на стройных легких аргамаках[11] с саблями наголо, союзные нам черемисы в алых халатах на крепких татарских конях, стрельцы с лучным боем, ружейники с огневым боем, копейщики с копьями и с круглыми стальными щитами в бронях из цепочек – все горит на осеннем солнце, блистает, играет разноцветными красками, что цветами весенний луг. И мимо них, кропя их святою водою и кропя в направлении стен казанских, медленно шествует духовенство и царь со всем синклитом воинским. В воздухе, Федя, тишина. С голубизны небесной паутинка осенняя плывет. Тихо колышатся тяжелые хоругви золототканые и пестрые наши стяги. К небу несется согласное пение. И с того нашего моленного часа исчезли, пропали без вести их чары поганские!..
Селезнеев, напряженно слушавший Исакова (а уже который раз он слушал этот рассказ и все с новым и полным вниманием) тяжело вздохнул и прошептал:
– Победили Христос и Божия Матерь те силы бесовские…
Исаков разгладил седеющую бороду и сказал с расстановкой:
– Вот тогда бы тебе, Федя, быть с нашими преславными воинами, в несказанно счастливый день Казанской победы.
И замолчал. В горнице стало тихо, и чуть доносился в нее со второго яруса тонкий чистый девичий голосок. Пела там песню дочь Исакова.
Федор, в рассказах старого жилецкого головы забывший о своем сиротском горе, тихо спросил:
– А как же взяли Казань, Стефан Филиппович?
VII Ермолай Тимофеевич – по прозванию Ермак
Точно от охватившей его дремы с чудесными снами о былом, очнулся Исаков и продолжал:
– С того молебна пошли у нас дела. Будто Крест Животворящий с частицею спасенного древа, на нем же Господь Иисус Христос плотию страдал за человеки – принес нам мудрый совет. Царь приказал князю Александру Суздальскому и воеводе князю Семену Микулинскому из Тверских князей собрать войско и ударить на татарскую засеку, что была к востоку от Казани, проломить ее и идти к Арскому городу. Два часа бились наши, то поражая неприятеля ружейным огнем, то кидаясь в рукопашную схватку. Но это пусть расскажет тебе Василий Ярославович, он ходил тогда со своим полком в Арск.
У Селезнеева на полном лице заблистали огнем удовольствия маленькие медвежьи глазки. Он приосанился, выпрямился и откашлялся.
– Ох, не речист я, не речист, Степан! Где мне за тобою угоняться. Краснопевец ты настоящий. Я что… Коротенько разве, как суть да дело было… Пока на засеке были татары – то и дрались… А как сбили их оттуда – так потекли – на коне не угонишь. Ну… Подошли мы, значит к Арскому городку… А он пуст… И там ханские дворы и села татарские преизобильные и богатые. Чего-чего там мы не забрали! А войдешь, Федя, в избу – дух там особый. Ладаном пахнет, водою розовою, чисто, по белым, гладко струганным лавкам платы пестрые, золотом шитые висят, а по ларям в закромах чего-чего не напхано. И изюм, и сушеный персик, и груши, и яблоки, и фисташки, и ото всего сладкий дух ванилевый. Хлебов же всяких забрали мы там множество, и скотины много, и мехов куньих и беличьих, и медов, и пряников сладких! Ей-ей! Воистину удивления достойно какой то богатый край. Поправилось войско наше. Ну, продолжай, Степан Филиппович… Мой заряд вышел.
– Да поправилось с той добычи царское войско, – сказал Исаков. – А вот уже и октоврий – листопад подходит. Живи, брат, с оглядкой. Пошли холодные утренники. Потемнел, побурел, оголился арский лес. Татарам-то в домах хорошо. Видно, как по утрам у них столбами из труб валит белый дым, а нам в холщевых шатрах люто приходит. Вот в ту пору и решено было повести подкоп под стены казанские и взорвать самую большую их башню. Заготовили пушкари 48 бочек пудовых пороха.
– Стоял я тогда в одном шатре с князем Курбским. Был у нас совет, как лучше устроить подкоп. В шатре в на столе был разложен чертеж Казанской крепости и были собраны все полковые воеводы. Вдруг в шатер просунулась голова сторожевого жильца, и к князю: «Князь, тебя атаман казачий видеть желает». – «Проси», – сказал князь. Вошел Ермак. Был он тогда, Федя, как ты моложавый. Роста среднего, коренастый, крепкий. Пухлые алые губы, черные большие глаза. Скинул шапку, в пояс поклонился.
– На добром совете!
– Садись, атаман. Что присоветуешь? – ласково сказал ему Курбский и указал место на лавке.
– Слыхал я, князь, – начал Ермак. Говорил он негромко, но как-то голос его весь шатер наполнил.
– Слыхал я, что ты, князь, сорок восемь пудов пороха заготовил и тем порохом хочешь стены Казанские и башню взорвать?
И усмехнулся.
– Так что же? – сказал князь. – Мало что ли по-твоему?
– Ты, князь, тем порохом только разве мало-мало тряхнешь стены… Только шума наделаешь. Татарок в теремах переполошишь.
– Да что ты, атаман!
– Верное мое слово… Я еще от отца, да от деда слыхал… Им ли не знать! К Трапезонту, да под самый град Константинополь ходили… Воинское дело знали хорошо.
Ермак замолчал. И мы как-то примолкли. Нарушил веру в наши силы атаман. Внес пагубное сомнете в сердца.
Ермак точно в мыслях наших прочел.
– Ты вот что, князь… Ты так подкоп подведи, чтобы, где бочки с порохом, под их пороховую казну поставить. Тогда взорвется наш порох и от того огня подорвет все их запасы. Вот тогда будет дело. Царицы Сумбеки башня наибольшая, гляди, как бы и та не свалилась.
– А почем же мы узнаем, где пороховая казна у них хоронится?
– Обожди три дня – скажу.
– Дожидаться, правду сказать, нам не хотелось, а сомнение-таки зародилось. А кто усомнится в победе – тот уже не победит. Решили мы на совете подождать, что скажет через три дня атаман. Как-то сумел он нам внушить в себя веру. Ну, да и то: – мы молоды – и он молод, – и во всех нас была такая дружеская вера друг в друга.
Вот, значит, и прошли эти три дня. Вечерело. По станам зажигали костры. Засветили свечи по шатрам, и стали они просвечивать. Я сидел у князя Андрея Михайловича! Вдруг шум у шатра. Толпа казаков ведет каких-то двух оборванцев, старых, нищих татар. Есаул подошел к князю и говорит:
– Князь, из Казани перебежало два старых татарина. Желают непременно тебя видеть.
Казаки расступились. Из их толпы вышли татары. Они сложили руки, приложили ладонь ко лбу, потом к сердцу – значит – худого не бойся, – что в мыслях, то и на сердце и преклонили колени.
– Ассала-малейкум! – Седые усы свесились вниз к углам губ. Седая жидкая бороденка, желтый, морщинистый, грязный лоб. Едва ли не прокаженный.
Я схватил князя за руку.
– Князь, – говорю ему, – не пускай его в свой шатер. Мало ли что нанесет тебе – проказу, чуму? Разве не бывало таких случаев?
– Пустое, – говорит князь. – Волков бояться – в лес не ходить. – Малейкум-ассала, – и махнул рукою татарину, чтобы тот следовал за ним.
Вошли мы в шатер. Татарин задернул полу шатра, провел руками по лицу… И – навождение! Борода, усы в руках остались. Вынул из-за пазухи полотенце, обтер лицо: перед нами Ермак. В углах рта дрожит задорная, гордая ухмылка.
– Ермак!
– Я, князь!
– Да, как же ты?..
– Три дня, князь, нищим татарином ходил по Казани. Все узнал.
Ермак подошел к столу, раскинул чертеж, пододвинул ставцы со свечами и долго рассматривал, изучая, чертеж. Потом протянул толстый короткий, почернелый палец и показал: «Вот здесь у них хранилище пороховой казны. Сюда и надо довести подкоп». А когда будет у вас все готово, зажги две ровных свечи воску яраго и одну поставь у себя в шатре, с другою пошли в подкоп. Пусть поставят ту свечу в бочку с порохом. Как догорит свеча у тебя в шатре, так догорит и свеча в подкопе и упадет пламя фитиля на порох. И взлетят и стены Казанские и та, самая большая их башня… Тогда, с Богом! На приступ!»
Вот он какой был Ермак!
Федя, с волнением слушавший рассказ Исакова, схватился за голову, вскочил со скамьи, прошелся по горнице и, став против Исакова, задыхаясь, выкрикнул:
– Дальше?.. Дальше-то как!?.. Ах!.. Ермак!… Ермак!..
VIII Штурм Казани
– Покров не лето, а Сретенье не зима, – продолжал свой рассказ Исаков. – Ночь на Покров была холодная и ясная. Звезды по небу легли сияющим узором. Большой Котел[12] опрокинулся прямо над нами, растелились волоса Богородицы[13] и играли тихим блеском. За два часа до света пешее войско выступило для штурма. Стрельцы и лучники несли лестницы, крючья и веревки, чтобы лезть на стены. Князь Андрей Михайлович Курбский с 12-ю тысячами конного войска, в старинных, дедовских доспехах, пошел вверх по реке Казанке, чтобы оттуда кинуться в пролом. Перед самым солнечным восходом, ибо мало что – уже начало солнце являться – как бы гром загремел над Казанью. К ясному небу высоко метнуло желтое пламя, клубами поднялся белый пороховой дым и на несколько времени закрыл собою город. Тогда ударили в большие и малые литавры, затрубили в трубы и бросились иоанновы войска на приступ. Татары так растерялись, что пока наши подходили к стенам и к пролому, не было дано ни одного выстрела и не было в нас пущено ни одной стрелы. Но как только подошли мы к стенам и пролому, то такая туча стрел понеслась в нас, как будто бы полит частый дождь. Вместе со стрелами полетел в воинов град камней. Казалось камни затмили самое небо. Света Божьего не стало видно. Когда же начали мы с большими потерями лезть на стены – татары лили кипящую смолу и бросали со стен бревна. Бог помогал нам. Он даровал нам храбрость, крепость и запамятование смерти… Полчаса шел бой под стенами. Ружейным огнем и стрелами мы отбили татар от бойниц. Наши пушки громили в это же время татар из шанцев. Мы подставили к башне лестницы, и первым полез молодой князь Роман Михайлович Курбский, за ним бросились стрельцы… Басурманы не выдержали нашего натиска и побежали на гору, к каменному ханскому дворцу.
За первой дружиной Романа Михайловича пошли в город все, кто оставался еще за шанцами. Кашевары и коноводы, бывшие при лошадях, и частные люди, торговцы, – все бросилось не ратного ради дела, но ради корысти и грабежа. Как ворвались мы в город – сразу попали в торговые ряды, к богатым купцам. Золотые кубки и чаши, золотыми узорными бляхами украшенные конские уборы, арчаки в золоте и самоцветных камнях, в голубой бирюзе, в прозрачном халкедоне и темном агате, женские уборы, шелка разноцветные, целые связки темных пушистых собольих шкур – метнулись нам в глаза. Мы бежали с князем Курбским мимо всего этого, мы гнали по тесным улицам басурман, ни о чем другом не помышляя, как о победе, но то тут, то там вбегали воины в лавки, трещали деревянные ставни, раскрывались окна, и падали на землю короба, а из них сыпались драгоценности. Кто сказал в обозы и коноводам об этом богатстве? – Надо быть, вестники, посланные к царю, крикнули о том, какие несметные богатства дала нам Казань. Все больше и больше пришлого, безоружного народа наполняло улицы и набирало полные полы кафтанов вещей и бежало обратно. И по два и по три раза проделывали так, пока мы бились с татарами. Татарский царь укрепился за Тезицким рвом, где очень было трудно его одолеть. И уже два часа мы бились, и все слышали сзади шум, крики и споры грабителей. Многие наши воины начали покидать ряды и идти назад. Татары, увидав, что нас, бойцов, осталось мало, с неистовым криком бросились на нас, потеснили и ворвались в те улицы, где были наши «корыстовники». Они побежали в рассыпную, бросая добычу.
– Секут!.. Секут!.. – кричали они и вносили повсюду смятение.
Я был недалеко от стены Казанской, у самых ворот, нами настеж растворенных, и влево от меня, за проломом видны были казанские луга. И вдруг в сумятицу боя, в вопли о пощаде, в отчаянные крики «корыстовников» ворвался глухой, ровный гул… Раздались звонкие трубные гласы – и то, что я увидел, – того, Федя, никогда не забуду…
Исаков вздохнул и замолк.
Слышнее стал голос Наташи. Она теперь пела одна, и Исаков слушал пение дочери. Тихая улыбка играла на его губах.
– Будет ли еще на Москве когда такая красота, Федя?.. – вздохнув, сказал он. – Чаю, что не будет такой. Государев полк, двадцать тысяч юношей, дворян московских, тверских, костромских и рязанских, все в пресветлых бронях, в золото тканных шелковых однорядках под ними, на убранных серебром дорогих аргамаках, серых, рыжих, гнедых и вороных, разделились на «гуфы» – отряды, по тысяче в каждом, с саблями наголо, спорою рысью шел к Казани по лугу. И в середине широко реяла громадная золотая царская хоругвь, и под нею на рослом аргамаке ехал молодой наш царь Иван IV Васильевич… В доспехах, в шапке с крестом, что икона светлый, запечатлелся он в моей памяти, как появился он в воротах и одним появлением своим остановил бегущих наших воинов. Кругом, по пролому, по грудам навороченных камней, по этой сыпучей россыпи шли кони, и дворяне государева полка вливались в улицы, вытесняя татар.
– И мы, усталые, воспрянули духом! Мы примкнули к государеву полку и погнали татар аж до самых мечетей, что на площади. Там на стены мечетей вышли их князья Обазы, Сеиты и священники – муллы и с ними их епископ – великий эмир Кулшериф-мулла. Их царь затворился в каменном дворе. По другую сторону площади, чтобы смутить и прельстить нас, размягчить наши сердца стали их жены и девушки в самых красивых своих уборах. По улицам везде валялись – трупы. Наши и татарские. Разметались руками и ногами, легли кто навзничь, кто ничком в лужах темной крови, глядят в небо опустелыми, вылитыми глазами, страшны своею бледнотою и спокойствием. На стенах тонкий гомон женский, насурмленые брови, нарумяненные щеки, синие и алые шелка сарафанов, белые убрусы, прозрачные чадры… Под ними рать казанская быстро устраивается для боя. Готовят «наряд»[14]. Улицы же тесные. И нельзя нам сразу многим приступить к ним и неспособно драться на конях.
И слышу – крики по государеву полку: «К пешему бою!.. К пешему бою!..».
Мы с рушницами побежали вперед. За нами слезшие с коней дворяне государева полка – и видим: уже и сзади наши заходят на татар, и там идет большая сеча. Татары не выдержали ни сечи в тылу, ни нашего решительного и смелого удара спереди. Произошло какое-то замешательство. Тогда вдруг ударили татары в большие литавры, подняли руки и стали в раз кричать:
– Алла!.. Алла!.. Алла!..
И пали на колени, прося пощады…
У нас же затрубили в трубы и к дому царя казанского улицей медленно ехал наш юноша царь Иоанн Васильевич. От Казанского царя отделилась толпа татар. Они вели под руки каких-то богато одетых людей.
Шагах в пятидесяти от Его царского величества они остановились. От них отделился мулла в зеленой чалме.
Он подошел к царю и, сложив на груди, в знак покорности, руки, сказал:
– Пока был цел наш Кремль, где был царев престол, мы боролись до смерти за царя и отечество! А ныне, как заняли вы Кремль, отдаем мы вам нашего царя целым и невредимым. А мы, оставшиеся, выйдем на широкое поле испить с вами последнюю чашу!..
И сдали нам своего царя Едигера и с ним мальчика, сына князя Зениеш, а при нем две кормилицы – имилдеши.
– Ты знаешь, – сказал Селезнеев, – тот Едигер второй и правдой служил царю Ивану Васильевичу и храбро сражался за Русское дело с ливонцами.
– Да, был милостив тогда наш царь и к врагу побежденному. И вот пока шли эти разговоры – вся рать казанская бросилась вон из города и стала переходить в брод реку Казанку и за нею в чистом поле устраиваться для лучного и рукопашного боя. Вижу, стороною наши коноводы идут, ведут наших коней и князь Андрей Михайлович, молодо, весело, будто в опьянении и ликовании победой крикнул: «Молодцы, ребятки мои, по коням!»
Мы посели на коней. Впереди князь Андрей Михайлович Курбский с братом Романом, а за ним набралось нас тогда немного больше двухсот всадников. Татар же за Казанкой стало около шести тысяч. Но такова, Федя, запомни это, милой, власть победы, что не числит она врага. Смелым Бог владеет. Развернули мы конный строй, по колена лошади перешли реку Казанку и «всеми уздами распустя коней»[15] – во весь скок кинулись на татар.
Только топот конский, да мощный наш крик «Москва!» раздался по зеленому, блеклому осенней травой лугу!
Туча стрел нас встретила. Падали кони. Но мы врубились в татар и саблями их рубили, и конями топтали. Вижу: Роман, князь Курбский, упал с конем. Коня положили татары копьем, В ногах у Курбского стрелы впились, кровь рудою бьет. А тут подле бежит чей-то порожней конь. Я ухватил его за узду, веду к Роману Михайловичу.
– Князь, – кричу… – Ранен, что ль?
– Ничего, – отвечает. – Давай коня! Я еще хочу!
А был он мальчик еще, как ты, – прелестный юноша! Стрелы – по пяти вонзилось их в ноги князя Романа, – повыдергал, вскочил на коня, поднял саблю и снова кинулся в сечу…
Татары побежали в леса. Поле опустело. Гляжу: конь белый, рослый, один без седока стоит на поле. Как не узнать того коня! Князя Андрея Михайловича конь!.. Поскакал я туда. Лежит князь на траве, лицо белое и чуть дышит. Соскочили мы с Селезнеевым с лошадей, сняли тяжелый княжеский доспех. Кто-то из жильцов за водой поскакал. Ротмистры наши съехались. Уже вечерело. Туман поднимался над полем. Испил князь воды, приподнялся, рукою по лбу провел, вздохнул и глаза раскрыл.
– Что татары? – спросил.
– Утекли по лесам. Наша Казань, – сказал я. – Как ты, князь?
– Ран много, – сказал князь, морщась от боли, – но жив. Збройка на мне была праотеческая, зело крепка!
И перекрестился.
– А боле того, – сказал, – благодать Христа моего так благоволила, что ангелам своим заповедал сохранити мя недостойного во всех путях…
Князь поник головой. Дурно ему стало. Попросил воды. Испив воды, спросил:
– Роман, что?
Я ответил: «Ранен князь Роман Михайлович, но жив».
– Послужили мы царю и Отечеству… И помирать не стыдно… Ну… несите меня к царю. Хочу поздравить царя моего с пресветлою победой.
Так была взята царем Иваном Васильевичем твердыня татарская – Казань.
IX За ратною честью
После длинного рассказа о взятии Казани, всегда так волновавшего Исакова и Селезнеева, наступило долгое молчание. Наверху, в терему, было тихо.
Слышнее стал в Исаковском покое сверчок и потрескивали, нагорая, свечи. Возбужденный рассказами о былой славе, о битвах и победах, Федя сидел в углу, таращил глаза и ерошил густые волосы. Хотел он спросить о многом, сказать старому стрелецкому голове все свои мысли и не смел. Он тяжело вздыхал, не сводя блестящего взгляда с Исакова.
Исаков сидел на лавке, опустив голову на грудь, и о чем-то глубоко задумался. Пальцами он барабанил по дубовому столу, выбивая дробь. Наконец, он поднял голову, внимательно посмотрел на Федю и, казалось, понял все, что происходило в душ мальчика.
– Вот, – тихо сказал он, – кабы те-то времена теперь, Федор, были…
Он тяжело вздохнул, помолчал и другим, спокойным, ровным голосом сказал:
– Что ж, Федор, сорок дней мы молились за родителей твоих, присматривались к тебе, надо нам теперь и о житейском подумать… Как в одночасье лишился ты родителей своих, опору свою и заступу, и всего богатства, и дела родителем твоим заведенного. Значит – такова воля Божия. Надо свое дело начинать. Не может быть человек без труда. Так ему от Господа заповедано за грехи прародителя нашего Адама: в поте лица твоего будешь добывать хлеб свой… Тебе теперь шестнадцать… Не надумал ли и сам чего?
Федя вспыхнул. Он вскочил с лавки, сделал два шага вперед, вернулся на место, провел рукою по лбу, откидывая от глаз светлую прядь волос. Наконец, собрав силы и стараясь говорить густым «мужским» голосом, он выпалил:
– Хочу послужить царю-батюшке! Хочу идти за ратною честью!..
И точно испугавшись того, что он сказал, Федя закрыл лицо ладонями.
Исаков внимательно осмотрел мальчика с головы до ног.
– Так, так… – сказал он. – Мудрое, красивое твое слово, Федор. И после рассказов наших о Казанской победе другого слова и не ждал я от тебя услышать. Искать ратной чести! Да… верно. Нет выше того, как воинская честь и слава победы… Нет больше счастья, как душу свою положить за веру православную, за государя и за Родину! Нет честнее могилы, как могила воинская, в чистом поле под ракитовым кустом… А только… Не те ныне времена. Где искать ратной чести? Везде у нас неудачи и поражения. И швед, и ливонец, и поляк нас теснят… Царь?.. Страшно мне говорить такие слова… а как?.. как?.. где, Федор, ты ему будешь служить, и с кем? Князь Андрей Михайлович Курбский, кажется, уже честнее не было человека!.. Светлый наш князь – объявлен изменником и бежал к ляхам… Где честное наше воинство? Где государев светло-бронный полк? Числом наше войско умножилось, дошло уже до трехсот тысяч, а побед нет. При царе – опричники с Малютой Скуратовым, заплечных дел мастером, метлой, не разбирая кого, метут. Выметают и честь, и славу, и мудрое правдивое слово… Собачью верность показывая, как псы, грызутся между собою из-за брошенной кости. Куда же ты пойдешь искать ратной чести? Если бы ты был помещиком и были у тебя люди и средства – «людный, конный и оружный»[16], – ты явился бы в полевое войско… Не идти же тебе холопом?.. Не Малюте же Скуратову мне отдать тебя учиться пытать крамольников по застенкам?..
– Степан Филиппович, – сказал, пунцовея, Федя, – Степан Филиппович!.. Я – я… желал бы… Ермак… К Ермаку бы меня!..
– Ермак?.. Ищи ветра в поле, а казака на воле… Где он твой Ермак-то? Шут его знает! Тридцать лет прошло со штурма Казанского, когда царь наградил Ермака золотою именною медалью… А потом?.. Чем живут казаки? С травы, да с воды[17] много не напитаешься. Живут они своим рукомеслом. Ходят – зипуна добывать. Воровским делом занимаются станичники. Слух такой был – и Ермак на Волге пошаливает. Что же и ты к ним? «Сарынь на кичку!»[18] кричать, да купцов шемаханских ножами полосовать? Казанский воевода Мурашкин по государеву указу по всей Волге ту сарынь гонял. Как бы и Ермака не гонял с ними. Ну, а попались бы? Пожаловал бы и Ермака твоего и тебя самого царь хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной! Понимаешь? Чай видал на лобном месте, что делают?
– Видал, – прошептал Федя.
– Ну, значит, о Ермаке, да о том, чтобы идти казаковать тебе надо, из головы выкинуть. Твое дело торговое. Только вот не придумаю, куда тебя определить, чтобы молодецкую удаль твою не засушить за прилавком, да за бирками.
– Слушай, Степан, – поднялся с места Селезнеев, – что я глупым умишкой своим подумал… Ох не речист я, не речист… Мыслей-то много, а как на язык, что тараканы разбегутся. Не соберешь. Знаешь, куда нам Федора-то определить в науку?
– Куда?
– А вот куда, Степан. Помнишь, как Казань-то мы взяли, и шести лет не прошло – снарядил царь купцов Строгановых на Каму соляным делом заниматься.
– Ну?
– Ты, брат, не нукай на меня, я тебе не лошадь, – пошутил Селезнеев, и вся его голова-репка покрылась маленькими морщинками, – не нукай на меня, потому, сам знаешь, не речист я. Слова-то, что камни ворочаю. Так вот и пошли, значит, туда Яков и Григорий Строгановы. И ведь двадцать три года срок не малый. Большое, говорят, там дело поставили. И пушниной торгуют, и камнями уральскими самоцветными, и кожами, и солью… Будто царь им разрешил даже свое войско наемное держать – немцев, да шведов, чтобы вогулов да остяков гонять, когда нападут. Старые-то Строгановы и померли там, ну а дело-то осталось. Меньшой брат Семен с племянниками Максимом Яковлевичем и Никитой Григорьевичем-то дело ведут. А Федор-то наш как раз на пушном деле собаку съел. И по-татарски говорить умеет… А у Максима Яковлевича в Москве палата есть. Каждую осень в нее туда товары гонят, а весною из Москвы везут, что надо. Заходил я туда по делу. Сказывают и нынешней весною человека на Каму посылать будут. Там Федор-то наш и торговое и воинское рукомесло постигнуть может… А? Что, я так говорю?
Селезнеев гордо поднял свою морщинистую голову. Узкая и жидкая бородка стала хвостиком и на стене откинулась тенью – ну совсем как репка с пучком листьев.
Исаков посмотрел на эту тень от свечи и сказал, улыбаясь:
– Репа ты репа, Ярославич, а голова у тебя умная… жалко молодца в далекий Пермский край посылать… А и там люди живут.
– Хорошие, Степан, люди живут!..
– И мы, когда на Казань шли, тоже думали – на край света попадем. А нашли преславное и богатое, всем изобильное царство… Что ж, Федор, неволить тебя не хочу. Желаешь сам поехать служить у купцов Строгановых?
– Вы мне, Степан Филиппович, вместо отца стали, – кланяясь в пояс, сказал Федя. – Худого вы мне не пожелаете. Поеду служить, где укажете. А поможет Господь, и там ратной чести буду искать, в Строгоновских дружинах.
– Ну и ладно!.. Вот это по-нашему, – весело сказал Селезнеев. – А и добрый бы из тебя, Федор, воин вышел. Потому – послушание первая добродетель воинская! Люблю молодца за ухватку!
И стал прощаться, идти домой.
– Ну, гаси, Федор, свечи, засвечивай лучину и айда по постелям. Пора и нам на покой.
X Угнетенная Москва
Незаметно, за домашними работами подошел и Великий пост. Запахло по дому редькой. Зашуршали большие связки сушеных белых грибов, повезли по московским улицам сани с мороженым судаком яицким[19], со снетками белозерскими, с ладожскими сигами и лососями, с беломорской белужиной.
От церкви Воздвиженья, что на Арбатской улице, ударил плавный великопостный звон к часам. На этой неделе Марья Тимофеевна и Наташа говели.
Им были поданы широкие сани с мохнатым темным ковром. Федя с Исаковым пошли в церковь пешком.
В церкви было тепло. Пахло ладаном, воском и лампадным маслом. Стариною пахло. По одну сторону стояли женщины, по другую – мужчины.
Гулко гудел под каменными низкими сводами голос чтеца. Слышно было, как покашливал в алтаре старый священник.
Куда ни глянет Федя – всюду видел темные «кручинные»[20] платья. Глубокие вздохи раздавались по церкви. У иконы Божьей Матери как рухнула на колени боярыня, так и стояла не шелохнувшись. Федя видел бледное, совсем белое лицо и слезы, бежавшие по впалым щекам. Полна была горем Москва!
Федя слышал шепот о казнях и пытках. Слышал, как говорили о том, как испошлился народ, идет с доносами и кляузами, брат предает брата, сын отца. Знал Федя, что по тем доносам хватали в Москве по ночам людей и везли к Малюте Скуратову на допрос.
«Где же тот светлый, смелый юноша царь, что на статном аргамаке, что икона залитой золотом, явился в Казанских воротах и одним появлением своим остановил бегство ратных людей? Или подменили царя? Где же царский светло-бронный полк юношей, дворян московских? Где радость и счастье молодого, победного царствования?»
По Москве шепот о неудачах, о поражениях и… об измене.
После часов – шла заупокойная обедня. Об убиенных на бранях боярах, князьях и простолюдинах… О в пытках замученных.
Громче стали плач и стенания.
Хор запел протяжно и печально. Мужские голоса звучали в лад с мрачною торжественностью.
– Житейское море, воздвигаемое зря, напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек, – вопию Ти…
Низко опустил голову Федя. И мысли!.. Мысли!.. «Где тихое пристанище? Смерть?.. Искать ратной чести?.. Что будет у Строгановых? Неужели опять считать меха, записывать в книги?.. Сушить шкуры, поднимать волос?.. Не надо мне тихого пристанища – хочу боев!.. Хочу победы, как была у Степана Филипповича – Казанская славная победа!!.. Боже, пошли мне смерть на ратном поле чести!»
Федя посмотрел туда, где стояли Марья Тимофеевна и Наташа. Первый раз подумал о том, что ведь Наташа – его невеста. Давно так было решено между его отцом и Степаном Филипповичем. Давно-то давно – да было решено тогда, когда был он сыном богатого купца, к самому царскому двору поставлявшего меха, когда заботливо подбирали родители лучших, с серебряной искрой, собольков – Наташе на шубу – Федин свадебный подарок. Теперь, когда в страшную январскую ночь лишился Федя и родителей, и всего богатства, когда сгорели сундуки с теми собольками, жениховскими подарками, и стал Федя гол, как мосол, нищим, дадут ли еще ему Наташу Исаковы? Все на нем чужое. И синий стаметовый кафтанец, и легкая на собачьем меху шубка, и шапка в опушке из потертой выдры – все это бедное и чужое, с чужого плеча – подарки Исакова и Селезнеева.
Наташа точно почувствовала на себе пристальный взгляд Феди. Краска покрыла бледные щеки. Она прижала в двуперстном сложении пальцы ко лбу и долго держала руку у лба. Под рукою в синей тени дрожали густые ресницы.
Прелесть Наташа!
Только теперь, когда почувствовал Федя, что, может быть, тоже в «одночасье», когда лишался родителей и богатства, лишился и Наташи, понял, как она хороша.
Да ведь он любит ее!..
Федя видел, как глубоко вздохнула, крестясь, Наташа. Щеки стали пунцовыми.
«Вчера, когда я утром выписывал из книг разные слова для неграмотного Исакова и сидел у окна, я слышал, как она ласкала Восяя… “Собаченька моя милая!” – говорила она… “Собаченька”. Какое ласковое слово! Да не то, что бы ласковое, а просто: – милое слово. И придумает же она! Не любила бы – не ласкала бы его Восяя, не говорила бы так нежно и мило».
«Ну что же, что беден?.. Что нищий?»
Федя повел плечами, расправил грудь.
«Да зато я сильный, молодой?! Пойду к Строгановым, накоплю богатства, заслужу в боях с вогулами и остяками великую славу, приду и к ножкам ее положу – вот тебе, свет Наталья Степановна, и богатство и слава!..
И не слышал, как тянул его за кафтанчик Исаков.
– На коленки, Федя, становись! На коленки. Святые Дары выносят!..
* * *
В Москве нечего делать. В Москве ни богатства не наживешь, ни славы не заслужишь… И правда надо ехать на Каму!
Эта мысль крепко засела в Фединой голове. Страшна стала Москва.
В тот вечер сидели в горнице Исаков и Селезнеев, ковыряли шильями в троечной сбруе, нанизывая на нее железные, оловом крытые бляшки Федя читал.
Над большими, тушью писанными листами горела в ставце лучина.
В густом сумраке, где чадно пахло сосновым дымом, звонко раздавались страшные и радостные слова. Вздыхали Исаков с Селезнеевым.
– Воскресл еси от гроба, всесильне Спасе, и ад видев, чудо ужасеся и мертвии восташа.
– Да, так было, – прошептал Селезнеев, старательно разжигая новую лучину. – Восстанут мертвые, и мы, когда умрем, будем ждать Спаса Нашего, Господа Иисуса Христа!
– Тварь же видящи срадуется Тебе, и Адам свеселится…
– Всякая тварь, Федя, от Господа. Всякая тварь Господу радуется. И конь и пес Господом даны на радость человеку. Жалей, Федя, всякую тварь земную…
Пока меняли лучину, в горнице было тихо. С крыши упал пласт снега, и слышно было, как он, шурша, рассыпался. Таять стало и по ночам. Близилась весна.
Ярко вспыхнула желтым пламенем свежая лучина, Федя, набравшись голоса, с силою прочел:
– И мир, Спасе мой, воспевает Тя присно…
По всей Москве царила торжественная предвесенняя ночная тишина. Днем мела метель. Намела сугробы. Как в мягком пуху, были московские улицы. Не слышно было шагов пешехода. Да и кто пойдет в ночную пору? Добрые люди давно сидят по домам.
– Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мышцею Своею Господь!..
– Да радуются земная… Подлинно так, – не разжимая рта прошепелявил Селезнеев. Он закусил дратву зубами и шилом пропускал другой ее конец в дырочку железной бляшки. – Радости на земле-то сколько от Господа положено. И кто мешает? – Человек! Он всему злому заводчик!
И точно подтверждение его словам, в мертвой, густой тишине, разрывая ее, раздались дикие пьяные крики:
– Ай!.. Ай!.. Лови… держи!… Улю-лю-лю!.. А та… та… та!…
Исаков проворно задул лучину
– Опричники царские за кем-то погнали, – прошептал он.
– Потеха царская, – проговорил Селезнеев, – попритчилось что-то царю батюшке! Послал крамолу искать.
– Подлый ныне, Федя, народ стал в Москве, – сказал Исаков. – Все на кого-то доносит. Нечего тебе тут делать… И правда, поезжай на Каму, к купцам Строгоновым. У них вольнее тебе будет дышать!
Лучину не засвечивали. Селезнеева оставили спать у Исакова. Ложились в темноте. В тихой Москве все мерещились пьяные крики, вопли опричников и резвый скок их быстрых коней…
XI Рукобитие
Исаков побывал в Московской палате братьев Строгановых и узнал, что большой караван товаров пойдет только летом, когда вскроются реки, и пойдет медленно. Он будет заходить в Нижний Новгород и в Казань и везде будет закупать товары для строгановских городков. Но до вскрытия рек, санями до Волги поедет доверенный человек Карл Залит. Он едет один и, конечно, может доставить Федю.
В строгановской палате Чашников знали и там приняли участие в судьбе Феди. Старший приказчик сказал Исакову:
– Хорошее дело надумали, Степан Филиппович, Чашниковского сынка к Строгановым послать. У них он и ратному делу научится, и свое меховое не забудет. А там, как ему полюбится, так и станет. То ли сотником будет в строгановских дружинах, то ли скупать будет меха, разбирать их и в Москву доставлять. У наших купцов дело огромадное. Молодому человеку там работа найдется всегда. А сами Строгановы не то что купцы, а почище и познатнее других бояр и князей будут.
Видал Исаков и Залита. Крепкий, широкоплечий, рыжий, с огненной, курчавой, короткой, больше по щекам, бородою, со шрамом на лбу, точно клейменый каторжник, Залит не понравился Исакову. Он хмуро выслушал приказчика и сказал:
– Доставить парня можно… Доставлю.
– У него, у Федора-то, – ласково сказал Исаков, – собака есть… Я знаю, ему бы так хотелось и собаку взять. Не стеснит ведь собачка-то вас в дороге.
– Это… нэт… это невозмошна… – решительно сказал Залит. – Никакой собаки я брать не желаю. Мальчонок дело другое. Мальчонка доставлю. А куда там с псом поганым возиться. У Строгановых и своих собак целая стая! Санки у меня малыя, еле вдвоем сесть.
– Да зачем собак ехать. Она и так добежит.
– Ну, а потом, – резко сказал латыш. – Я челноком пойду по рекам. До самого городка их Канкора, в устье Чусовой… Там и совсем нет места собаке. И не люблю я их, псов поганых.
Приказчик поддержал Залита.
– И точно, – сказал он. – На что в дороге собака?
– Да не возьму я собаки, – крикнул латыш. – Ни за что не возьму. На дьявола нужна она, твоя собака!
– Любит ее очень мальчик-то наш!
– Любит – разлюбит… Собака!.. Эка невидаль… Зарежу я собаку и все!..
Исаков больше не настаивал. Он решил в уме: ну, поплачет Федя, расставаясь с Восяем, да ведь Восяю не худо будет и у него. Наташа как полюбила Восяя! Останется он ей на утеху. Хорошо ему будет. А летом – видно будет. Можно будет Восяя отправить с караваном товаров. Авось там люди будут поласковее и подобрее, а то этот – вон какой сердитый, – чуть что не по нем – сейчас, как ерш иглами покроется. Такой колючий!..
Горько было Феде расставаться с Восяем, но горечь была смягчена тем, что Восяя он оставлял на попечение Наташи, а Наташа…
Про то уже вся дворня знала, про то весело чирикали воробьи по исаковскому двору: Наташа будет женою Федору Гавриловичу Чашнику!
Не изменил своему слову Исаков. Ну и Селезнеев, крепко полюбивший Федора, помог ему в этом деле.
Когда зашла об этом речь, был семейный совет. На том совете были Марья Тимофеевна, Исаков и Селезнеев.
Исаков повел речь о том, что, когда жив был Чашник, а Федя и Наташа были совсем малыми детьми, порушили они между собою, чтобы им породниться.
– Ну, а теперь, – поглаживая седеющую бороду, говорил Исаков, – теперь, когда, значит, Федор остался без ничего… Вот и хотел я… Значит…
Нелегко шли у него слова. Совестно было досказать свою мысль до конца.
– Наташа у нас, слава Те, Господи! без обмана какого!… По чистой по совести!.. Не увечна… Очами, или там рукою, али ногою… Все на своем месте… Собою красива… Не глуха… Не нема… Речью истолнена. А уже рукодельница!..
– И нравом послушна, – вставила Марья Тимофеевна, поджимая значительно губы.
– Не бесприданница… Мы ей сундук какой наложили, – продолжал Исаков. – Всего есть. И холстов и белья, и одежи, и шубы какие… Монисто, камни самоцветные… Колец сколько… Так я и думаю… Что ж… Говорили мы с Чашником – это точно… Я не отказываюсь. Говорили… Так ведь, когда говорили-то – Наташе тогда пятое лето шло. И Федя того и не знает… Вот я и думаю… Не такого жениха, может быть, Наташе надо… Ей можно какого боярского сына просватать… Князя какого… а… Марья Тимофеевна?
Марья Тимофеевна сочувственно кивала головою. Но тут вскочил со скамьи Селезнеев. Покраснела, побурела вся его голова-репка, серыми морщинами покрылась. Он забегал по комнате. То поднимет над головою руки с растопыренными пальцами, то заложит за спину, фыркнет, как разъяренный кот. Наконец, остановился против Исакова и, задрав голову кверху так, что бородка стала поперек лица, вскрикнул визгливо:
– А слово?
– Слова мы, прямо сказать, не давали. Ни сговора, ни рукобитья не было…
– Еще бы, – завизжал Селезнеев. – Еще бы! Девочке пятый годок, а он – рукобитье… Сватов засылать!
– Да чего ты ершишься? Ишь взгомонился как!
– Чего… чего? Ох не речист я, не речист… а того… того… этого…
– Чего этого?.. Запутался, Ярославич.
– Любят они друг друга… А что беден?.. Велика беда… Поедет к Строгановым. Какая там его судьба будет, кто знает?.. Может быть, еще и князем каким вернется! Мы с тобой под Казань простыми жильцами пошли, а теперь стрелецкие сотники!.. А, что? Не речист я, а правду тебе скажу: не хорошее дело затеял. Федора собаки лишил… а нынче и невесты любимой лишаешь.
– Да постой?! Елова голова! Откуда ты взял. Любимой!.. Да почему ты знаешь, что они любят друг друга. Моя Наташа воспитания строгого. Из терема никуда… Из воли родительской не выйдет… Где же успели они слюбиться?
– Где?.. Где… Да ты в церкви на них посмотрел бы когда! Где гляделы-то твои были? Федя на свет Наталью Степановну, как взглянет, та аж полымем зальется!
– Грех-то! Грех-то какой, – воскликнула Марья Тимофеевна.
– На масляной качели наладили… Стали качаться, доска-то летает, Наташа визжит, а Федя – румяный, счастливый… Я смотрю – совет да любовь!..
– Ох, греха-то, греха-то… – стонала Марья Тимофеевна. – Девичьего стыда не жалеют… Эти мне качели! Сыму их проклятых.
– Так ведь, чаю, покаялись! – напустился на нее Селезнеев. – Вы, матушка Марья Тимофеевна, помогите мне. Как можно их друг друга лишать.
– Беден уже очень Федор Гаврилович-то, – растерянно сказала Марья Тимофеевна.
– Беден, да умен. И читает, и пишет, и арифметику знает… Он чего достигнет, Господу одному известно.
– Не на Каму же ее отправлять?
– И на Каме, матушка, люди русские, православные! Там, пожалуй, еще поспокойнее будет, чем в Москве…
Долго еще препирались они. Визжал и фыркал Селезнеев, оправдывался Исаков, отстаивала Наташино богатство Марья Тимофеевна. Наконец, Селезнеев набросился на нее.
– Вы, матушка, все о богатстве, а о счастье своей дочери не подумаете… А если она за Федором счастлива будет, а за кем другим может с горя зачахнет!
– О, типун тебе на язык!.. Тьфу!.. тьфу!..
– Пусть мне типун, лишь бы им, голубкам нашим, счастье!
Эти слова вдруг растрогали Исакова.
– Ну ладно, – сказал он – Я от старого слова не отказчик. Порешим так: никому ничего объявлять не будем. Сватов пусть Федор не засылает. Будем ждать вестей от него с Камы. Как его судьба обернется. Будет достоин свет Натальи Степановны – его и Наташа. Если кто без него зашлет сватов – скажем: молода девка. Не примем сватов. Ладно?
– Ладно… А сколько ждать будем?
– Наташе пятнадцать… Ну… три года еще подождем. Если она другого сама не захочет…
Селезнеев успокоился. Он про себя решил рассказать обо всем Феде, да как-нибудь и Наташе сказать, чтобы ждали друг друга…
XII Прощанье
Тягостно было прощание Феди с Исаковыми и Селезнеевым. Прижились они за это время друг к другу, и стал Федя им как родной. Прощались еще затемно. Солнце не вставало. Наташу позвали сверху из терема. Нижняя горница была скупо освещена одною свечою, да у иконы Спасителя в красном венецианском стакане металось лампадное пламя. В печке жарко пылали дрова. Заслонка была раскрыта, и красные отблески ложились на пол и на ноги собравшихся проводить Федю. Челядь толпилась у дверей. Залит уже приехал и возился на дворе, устанавливая кульки – подарки Исакова на дорогу и небольшой ларец Феди в маленькие легкие санки. По просьбе Феди, привели со двора Восяя. На него уже надели цепь и держал его рослый жилец.
Долго и горячо молились перед иконами. Потом дали Феде выпить стремянную пенного вина. Выпили с ним Исаков с Селезнеевым, присаживались все, по обычаю, на лавки, вставали, а как настала пора расставанью, свет Наталья Степановна не выдержала. Бросилась на шею своему суженому, охватила его руками и стала покрывать мокрыми от слез поцелуями, куда попало: в щеки, в лоб, в шею.
Все были так растроганы, что никто не обратил внимания на эту, по тогдашнему времени, неприличную выходку.
Селезнеев зашел в угол за печку и сам заплакал.
– Ну… ну! – отрывисто говорил, точно хрюкал Исаков. – Вот оно как нынче-то… Мать… а мать… ты чего же смотришь-то!
Марья Тимофеевна разливалась слезами в три ручья.
– Пусть нацалуются, голубочки, в последний раз, – сквозь всхлипывания проговорила она. – Бог один ведает, увидятся-то еще когда.
Восяй, давно примечавший какие-то приготовления, казалось, понял в чем дело. Радостно взволнованный все эти дни, он вдруг стал необычайно грустный, взвизгнул и такими печальными, большими, укоряющими глазами посмотрел на Федю, что у него сердце перевернулось.
– Марья Тимофеевна, свет Наталья Степановна, – сказал Федя, – берегите мне Восяя!
Восяй бросился ему на грудь. Жарким языком лизал Федино лицо и скулил, скулил, скулил…
– Ну, пора! – решительно сказал Исаков.
Все задвигались, закрестились. Присели еще раз и пошли к дверям в сени.
– Наташа, останься с собакой, – приказал Исаков.
Наташа приподняла оконце и смотрела, как усаживался ее Федя рядом с рыжим латышем. Селезнеев заботливо подвернул ему полы шубы, уложил подле дорогую саблю – вчерашний его подарок Феде и крепко поцеловал Федю в губы.
Подле Наташи, пристально глядя в щель окна, визжал, скулил и метался Восяй. Жилец едва сдерживал его на цепи.
Латыш шагом тронул за ворота, все пошли за ним. Никого не осталось на дворе. Голуби, шумя крыльями, слегли на снег, сбились пестрой стаей над просыпанным овсом. Пахло со двора мокрым снегом, оттепелью, сеном и дымком. Казалось Наташе, что пахнет дальней, дальней дорогой, пахнет тяжелой разлукой.
– Восяй! – сквозь слезы проговорила она. – Собаченька моя милая! Что же это такое! Сердце мое! Сердце как ноет!
Восяй положил передние лапы на колени Наташе, лег грудью к ней, смотрел в ее заплаканные синие глаза своими черными, умными собачьими глазами и, жалобно повизгивая, плакал…
Точно жаловался ей на свое собачье горе.
XIII В дороге. Нечистая сила
Залит сидел крепко, вытеснив собою с сиденья Федю. И Феде, чтобы не выпасть из саней на раскат, пришлось выставить ногу и поставить ее на санный отвод.
Пара с пристяжкой некрупных, сильных вятских лошадей с хвостами коротко, по-ямщицки завязанными узлом, покойно бежала спорою рысью. Под дугою у коренника мирно позванивал колокольчик, три бубенчика на ожерелке у пристяжной ему вторили.
Только-только вставало зимнее солнце. Поднималось из густых туманов бледно-желтым шаром и плыло к голубым просторам. День обещал быть ясный, теплый, хороший.
Москва просыпалась. Кремлевскае церкви гудели колоколами к ранней обеде. Из домов появлялись люди. Из пекарен вкусно пахло горячими калачами и сайками.
Сани попрыгивали с легким грохотом по разъезженным московским улицам, проваливались в сугробы, где темнела уже вода, шелестели по рыхлому разбитому снегу.
Навстречу тянулись деревенские обозы. Лохматые мелкие лошади, в запотевшей курчавой шерсти, мерно шагали, и им в лад позванивали колокольцы под дугами. Под рогожами лежал деревенский припас. Мужики в просторных азямах и валенках шли рядом с санями.
Все в это утро в Москве казалось Феде новым, невиданным и прекрасным. Никогда не была ему так дорога Москва, как теперь, когда он с нею прощался. Больно сжималось сердце, когда Федя вспоминал Наташу и готов был плакать, думая о Восяе. Не подозревал Федя,что он так полюбил собаку, и понял, кем он сам был для Восяя.
«Поди есть не будет от горя, – думал Федя. – «С голода подохнет».
Латыш молчал. Так было лучше и Феде думать свои думы под мерно отзванивающие колокольцы.
Дорогая сабля касалась его бока. Он нежно гладил ее рукою. Точно с нею он стал старше, более взрослым.
Проехали Московские ворота. Стрельцы в потрепанных красных кафтанах проверили пропуски, и развернулась перед Федей далекая ширь полей и холмов, пахнуло свежим родным запахом лесов, дорога стала глаже, лошади прибавили рыси, свежий ветерок обвевал лицо. Казанский шлях упирался в холмы, над которыми еще редело восходными огнями небо.
* * *
На второй день пути с большого широкого шляха свернули в узкий лесной проселок. «Почему свернули?» – разве Федя знал. Латыш все молчал. За весь вчерашний день он и двух слов не сказал. Федя хотел спросить латыша, почему они покинули Казанскую дорогу и углубились в дремучие темные леса, но посмотрел на хмурое, угрюмое лицо с рыжими клочьями бороды и понял, что ответа от латыша не добьешься.
Отдохнувшие за ночь на постоялом дворе лошади легко бежали по мало подтаявшей лесной дороге. День был сумрачный. Небо грозилось снегом. Лиловые тучи низко нависли над лесом. Рано стало темнеть.
Уже в сумерках подъезжали к одинокому двору, стоявшему в лесной чаще. Сердитая собака глухо залаяла за забором и загремела цепью. На деревянном крыльце с привязанной к нему елкой появился старик в рубахе и портах, в накинутом на плечи бараньем тулупе.
– Карл что ли? – сиплым голосом спросил он.
– Я, – отвечал латыш. Они заговорили по-латышски.
Залит приказал Феде убрать и поставить лошадей. Когда Федя пришел в избу, он заметил латыша в оживленной беседе с хозяином. На столе стоял горшок горячих щей и лежал буханок хлеба.
– На вот, поешь, – сказал Залит. – Поди устал. Заморился.
– Нет, я ничего, – сказал Федя и принялся за еду. Но за эти два дня пути на свежем зимнем воздухе Федю разморило. Едва он кончил есть, как глаза его сами стали слипаться, заломило и плечи и ноги и потянуло лечь на широкую лавку, накрыться шубою и заснуть.
– Я вам не нужен, Карл Иванович? – спросил Федя.
– Нет. Лошадей я сам напою.
– Тогда я лягу.
– Ложись. Отдыхай.
В избе было темно. Хозяин не зажигал лучины. Федя улегся на лавке. Из широкой печи тянуло теплом. Было видно, как в ней под пеплом краснели уголья. Будто кто смотрел из печки кровавыми глазами. Маленькое оконце, заклеенное плотной бумагой чуть намечалось на темной стене. За ним глухо шумели высокие сосны дремучего бора.
Федя лежал под шубою, открыв глаза. Ему все слышалось: «дини-дини-динь-динь» – звон колокольцев, все казалось – шуршат полозьями сани, глухо постукивают на обледенелых ухабах, да мерно топочут бегущие лошади. В углу подле печки тихо говорили латыши. Хозяин в чем-то убеждал Залита, Залит отговаривался.
Под их разговор Федя и не заметил, как крепко заснул.
* * *
– Ты знаешь, кого везешь? – спросил Залита старый латыш.
– Знаю… Купеческого сына Федора Чашника… Поручили доставить к Строгоновым. Будет учиться торговому делу.
– Не бреши, Карл. – Старик засмеялся беззубым ртом.
– Чего мне брехать? Собака брешет. Я не собака.
– Так говоришь: купеческого сына Чашника везешь?
– Ну, да.
– Ты Карл большой дурак.
– От такового слышу.
– Ты везешь не Чашника… Вчера проезжали здесь царские опричники. Останавливались у меня. Коней кормили. Ищут: от царского гнева укрывают какого-то молодого боярского сына. Князя… знатнейшего рода.
– Не похоже на то. Я сам вывез мальчика из дома стрелецкого сотника.
– Не похоже… Ты саблю заметил?.. Ка-а-кая сабля!.. Это у купеческого сына, что в ученье едет, такая сабля!.. А лицо…
Старик засветил, раздув уголек, лучину и поднес ее к спящему Феде.
– Видал? Этот красавец – купеческий сын?
– Князя бы так не отправили. С ним были бы слуги.
– Когда укрыть-то надо!.. Лошадей он заводил, распрягать, супонь отпускать нагнулся, а на груди мешок монетами брякнул!.. Казны с ним!.. Уйма.
– Ну, дальше что?
– Дальше… Казна эта наша.
– Я тебя не понимаю.
– Спит.
– А ты подойди, тронь его. Сейчас за нож хватается. Он молодой, сильный, ловкий. Ты старик, у меня нога поврежденная… Да и не люблю я мокрого дела[21]. Кровь никуда не спрячешь. Говорит человеческая кровь. Вопиет о мести.
– Я сам не люблю, чтобы следы оставлять. Кто тебе говорит, чтобы это здесь делать. Сделаем по-иному.
– Царь не шутит с разбойниками. Сам говоришь – опричники близко.
– Да он-то кто? Крамольник! Еще награду получишь… На опричников скажешь! Они не отрекутся.
Залит покосился на спящего Федю. Тот, точно почувствовал на себе взгляд латыша, откинул со лба щекотавший его волос.
– Не справлюсь, – прошептал латыш.
– Со спящим?
– Вскочит… Опрокинет… Ты не смотри – он кроткий такой, да вежливый. По горлу ножом полоснет – мое почтение.
– Я тебе дам зелья, понимаешь.
– Ну?
– Бирючий овраг знаешь?
– Бывал.
– Завтра, как на Клязмино поедешь – будет тебе три дуба. Вот как те три дуба минуешь, пойдет вниз в овраг лесовозная дорога. По ней спустишься. Заночуешь… Там и…
Федя неясно замычал во сне. Рукою потянулся к поясу, где был нож.
Залит вздрогнул и показал старику.
– Видал?.. Какие силы стерегут его!
– Я тебе сказал, – прошептал, наклоняясь к самому уху Залита, старик, – зелья дам… Ничего не услышит. Под левую лопатку нож… А то вожжей затянешь… Все твое… Мне половина.
– Нет, ты мне дай такого, чтобы насовсем… Без ножа.
– Понимаю… – старик, скривив глаз, смотрел на лавку, где едва обрисовывался его молодой постоялец, крепко закутавшийся шубою. – Можно и совсем… Но с ножом всегда лучше.
Залит не отвечал. Долгое и тяжелое было молчание. Наконец Залит, чуть слышно, проговорил:
– Не люблю я с ножом… След оставляет. Закровянишь одежду.
– Первый раз действительно страшно, – прошептал старик, – потом ничего… Так дать настоящего крепкого зелья?
Опять наступило долгое молчание. Последний отблеск догоравшего дня погас на бумажном оконце. В избе стала непроглядная тьма. Проснувшийся Федя лежал с открытыми глазами. Он слышал, как глухим не своим голосом сказал Залит старику по-латышски непонятное короткое слово. Старик злобно засмеялся и, ответив утвердительно, ушел за перегородку.
И почему-то от этих непонятных слов стало Феде страшно одиноко и жутко в этой темной избе, в глухом лесу, с чужими людьми. Он стал горячо молиться. Молился он долго, и молитва его успокоила, но заснуть уже до самого утра он не мог.
* * *
Выехали поздно. Залит ехал шагом, сдерживая порывавшихся вперед хорошо кормленных лошадей. Опять оба молчали. Несколько раз Федя хотел спросить латыша, почему они бросили большой, широкий Казанский шлях и стали путаться кривыми, проселками по дремучему лесу, где могли быть и волки и медведи, что это за лес? Скоро ли будет какой-нибудь город? Но взглянет на рыжие клочья бороды своего спутника, на его хмурое, злое лицо, от шрама на лбу казавшееся зловещим, и замолчит.
«Где получил он шрам?, – думал Федя. – В бою? Если в бою, на чьей стороне он был – на нашей или на Ливонской? Может быть, дрался вместе с врагами нашими, был взят в плен и поступил на службу к Строгановым?.. Бывал ли он раньше на Каме и на Чусовой? Едет он уверенно, видно, что хорошо знает эти места. Спросить?»
Посмотрит Федя на лицо латыша и поймет, что не ответит ему латыш. Скривит презрительно и злобно свое лицо, скосит стальной, блестящий глаз, и так станет от этого обидно и неприятно Феде! Он привык к ласке. Исаков и Селезнеев всегда охотно отвечали на его вопросы. Ну да они были русские, свои, православные.
Нет! Лучше молчать, затаив в себе свои вопросы, чем увидеть это презрение взрослого к юному. Приметить нелюбовь чужеземца к русскому!
Они ехали часа три, никого не встречая, – ни пешего, ни конного. Лес был глухой. Зимняя птица не пела, и если бы не путаное кружево узора заячьих следов на зарыхлевшем снеге, можно было бы подумать, что лес никем не обитаем.
День был сырой и теплый. Небо серое, низко спустились темные тучи к земле. Легкий подувал с юга ветерок. С одной стороны лес кончился, была ширь полей, и нигде ни дымка, ни избы, ни деревушки.
В стороне стояли три старых корявых дуба. Они раскинули кривые ветви, переплелись ими и, точно три страшных великана, шли на встречу Феде. Против них латыш опять свернул в лес и поехал шагом по старому, уже засыпавшемуся санному следу.
Была ли там дорога? Федя чувствовал, как сани натыкались на пеньки и толкались. Лошади похрапывали, насторожив уши, и шли неохотно. Латыш покрикивал на них:
– Но!.. Но!.. Впер-рот! Впер-рот!
Темнело. Дорога спускалась в овраг. Лес кругом был молодой и густой. Серые сосны стояли часто. Везде лежал валежник. Кое-где попадались расчищенные поляны, и на них стояли поленницы дров. Но нигде не было слышно стука топора, и не было видно человеческих следов.
На небольшой прогалине показался шалаш. Залит направил лошадей к нему.
– Тпрру!.. Слезай, Федор… Здесь заночуем. А завтра опять на шляху будем. Верст тридцать мы выиграли, спрямили лесами.
Эти слова объяснили Федору, почему плутали они по лесам и успокоили его. По приказанию латыша Федя набрал валежника и дров и, разжегши огнивом трут, раздул большой костер.
Желтое пламя вспыхнуло и загудело. Оно осветило передние сосны, и еще гуще показался за ними мрак, спускавшейся на землю ночи.
Латыш устроил треногу, навесил на нее два чугуна и стал заправлять похлебку.
Лошадей не отпрягали. Он стояли в стороне и косились на пламя костра. Когда похлебка стала закипать, латыш, помешивая ее деревянной ложкой, сказал Феде:
– Поди-ка, Федор, напой и задай корма лошадям.
Федя пошел от костра. Залит внимательно следил за ним. Когда Федя, отвязав лошадей, повел их с санями вниз к темному ручью и скрылся во мраке, латыш проворно достал из-за пазухи тряпочку и, развязав ее, всыпал зеленый порошок в кипевшую похлебку. Похлебка запенилась и зашипела. Латыш стал ногою раскидывать костер и притушивать его в снегу. Лицо его было искажено злобою и страхом. Он пугливо осматривался по сторонам. В наступившей мгле совсем скрылись сани и Федя.
Залиту показалось, что сзади него кто-то крадется.
Дрожащий, он не смел оглянуться. Он напряг свой слух.
Что-то шуршало между низких прямых и сухих тонких ветвей частого сосняка Сломалась с легким треском веточка. Этот шум был едва слышный, но Залиту он показался громче пушечного выстрела. Он быстро оглянулся. Две огненных точки блистали в лесной чаще.
– Чорт!.. чорт!.. – прошептал латыш и выхватил из ножон кривой нож.
Редкие волосы зашевелились на макушке его головы и встали дыбом. Холодный озноб охватил его тело.
– Э! Чепуха!.. Померещилось!.. Еще чугуны перепутаю.
Он снова нагнулся к чугунам. И опять сзади упала затрещавшая веточка. Отчетливо стали слышны шаги.
Залит быстро оглянулся. Черная тень метнулась в лесной гуще. Вспыхнули и погасли огоньки чьих то неведомых глаз. Страх заставил Залита задрожать.
– Федор! – крикнул он в каком-то исступлении. – Федор! скорее!.. Ко мне… На помощь!..
– Э-геп!.. Я… – совсем близко отозвался Федя.
В то же мгновение черная тень стремительно прянула из чащи, опрокинула в своем прыжке оба котелка, залила похлебкой догоравшие угли и исчезла в вдруг наступившей мгле.
Залит как сумасшедший кинулся туда, где погромыхивали бубенцы лошадей. Из тьмы ночи донесся его дикий крик, неистовый звон бубенцов, треск саней… потом все стихло…
XIV Четвероногий гонец
В тот день, когда уехал Федя, уже вечером, после ужина, в женском тереме как всегда засветили две восковые свечи. Наташа стала раскладывать из шкатулки пестрые индийские шелка, чтобы по черному плату киевским метким швом вышивать сказочные, чудесные цветы.
Три сенные девушки помогали ей. На столе, на блюде, лежали сласти: медовый постный сахар, каленые орехи, изюм, пряники и жамки.
Было слышно, как поскрипывал под иглою туго натянутый шелк, да иногда какая-нибудь девушка тяжело вздохнет и тихо скажет: о, Господи!..
– Скучно мне, девушки, – сказала Наташа, – вот как мне грустно теперь…
– Еще бы не быть скучно, – ответила черноглазая бойкая Дуня, любимица Наташи. – Уехал суженый в чужедальнюю сторонушку… Что там его ожидает.
– И в Москве не сладко, – сказала другая, девушка постарше, с худым, темным лицом. – Сегодня ходила в церковь… Опять бояр пытать везли. На шести санях. С дитями.
– О, Господи!..
– Спойте мне, девушки, какой-нибудь хороший стих, – сказала Наташа.
– Что же спеть-то тебе, свет Наталья Степановна? – сказала Дуня.
Она оторвалась от работы, вынула изо рта прикушенный зубами шелк и задумалась. Темные глаза ее устремились в далекое пространство, точно искали в углу тесной горницы образы и слова хорошо знакомой песни.
Полный, грудной голос ее вдруг наполнил всю горницу и задрожала слюда в маленьком волоковом оконце.
Во святой земле, православной Нарожается желанное детище У тоя ли премудрый Софии…Пела Дуня, и карие глаза ее блистали золотистыми огоньками. Марфа, та девушка, что ходила утром в Москву, пристала к Дуне негромким низким голосом, и два девичьих голоса, сплетаясь, понеслись по терему, стали слышны внизу, где сидели за брагой Исаков с Селезнеевым, в соседней тесной боковушке, где прилегла Марья Тимофеевна, на дворе, где в сумраке у колодца жильцы поили лошадей.
…Соизволь родимая матушка, Осударыня премудрая София, Ехать мне ко Земле светло-Русской Утверждать веры христианские.– Вот так-то, – качая красивой головкой, сказала Наташа, – поехал и наш Федор Гаврилыч.
Наезжает он, Георгий-храброй, Ко той земле светло-Русской, На те леса, на темные, На те леса, на дремучие.– Ох, и где-то он теперь? – вздохнула Наташа. Девушки продолжали согласно петь.
– Наезжает он, Георгий-храброй, На тех зверей, на могучих, На тех зверей, на рогатых… Ой вы, звери, звери могучие! Ой вы, звери, звери рогатые! Заселитеся, звери могучие, По всей земле светло-Русской!..На мгновение пение прервалось, задрожав на высоком, красивом звуке. И в тишину терема донесся со двора протяжный, печальный вой.
– Это Восяй плачет по своем хозяину, – сказала Наташа.
– Он, боярышня, сегодня, как Федор Гаврилович уехал, ни крупиночки не ел, и воды даже ни капли не пил, – сказала Дуня. – Полная кошелка у него костей и даже мяса ему жильцы положили, а он только морду воротит. Запищит жалобно, словно ребенок заплачет, нос в лапы уткнет и так посмотрит, только что не скажет.
– Да вот, – сказала пожилая, – и пес, а тоже чувство какое сильное. Все понимает!
– Да пес, прости Господи, – сказала Дуня, – он вернее человека будет. Пес и простит и забудет, если кого полюбит, а человек обиду-то, что камень за пазухой носит… Ишь скулит, как жалостно!
– Ну, пойте, девушки, да и бай-бай пора, чай, боярышне, – сказала Марфа и завела своим густым, точно струна звенящим голосом:
– Егорий где наш храброй, Ты спаси нашего Федора.Дуня, улыбаясь, пристала к ее голосу:
– Федора, свет, Гаврилыча Во поле и за полем, В лесу и за лесом, Под светлым под месяцем, Под красным солнышком, От волка от хищного, От медведя лютого, От зверя лукавого.– От человека злого уберег бы моего Федора Гавриловича святый Георгий, – сказала Наташа, вставая из-за пяльцев. – Ну спасибо, милые, на беседе.
Девушки собирали работу и, кланяясь, уходили из горницы. Наташа подошла к своей постели и мягко опустилась на стеганое одеяло. Дуня, всегда раздевавшая ее, стояла подле.
Руки Наташи бессильно упали на колени, голова поникла, длинные русые косы сползли на грудь. Наташа стала их расплетать дрожащими пальцами.
– Господи!.. Как воет!.. Спать не смогу… Плачет собака-то…
– Пойти унять его?
– Не уймешь, Дуняша. Пусть выплачет свое горе! Так-то легче… И ему… и мне… Хотя бы весточку какую ему послать? Финиста ясна сокола сыскать, чтобы слетал к нему?..
* * *
Дуня расплела Наташины косы. Медным гребнем расчесывала золотистые волны.
– Боярышня, как думаешь, если его теперь пустить, ведь он найдет Федора Гавриловича?
– Кого пустить, Дуня?
– Восяя… С цепи снять и за калитку выпустить?
– Так что же будет? Он убежит. А Федор Гаврилович наказывал, чтобы нам Восяя беречь.
– Он, свет Наталья Степановна, умный. Никуда он не убежит. Следом пойдет и пойдет. И найдет Федора Гавриловича.
– Ну, найдет… А толку-то что?
– Как что. Да ты же ему напиши какую ни есть записку – он и прочтет, возрадуется.
– Как написать-то, – вздохнула Наташа. – Я читаю, не пишу – писать в лавочку хожу.
– А мы вот, как сделаем. Ты по-церковному-то в книгах маленько разбираешь?
– Так… больше по памяти, какое место упомнила.
– Вот и выбери, какое местечко вразумительное, чтобы Федор Гаврилович понял, что от тебя Восяй прибежал. То-то радости будет! Да и тебе спокойнее. От волка от хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого, да и от человека убережет собака Федора Гавриловича. Она сильная. Утром-то два жильца еле сдержать на цепи могли. Прямо цепь рвет, аж трещит… А зубища-то!.. Что у волка!
– Не собака убережет человека, а молитва ко Господу.
Наташа глубоко вздохнула.
– Достань, Дуня, с полочки под иконами, псалтырь. Знаешь, в кожаном переплете, самая малая книга.
Наташа листала тяжелые пергаментные страницы рукописного псалтыря. Она вглядывалась в пеструю вязь крупных славянских букв, в многочисленные титлы, точно черные птицы летавшие над строками. Разглядывала узорные тушью, киноварью и купоросом расписанные заглавные буквы и, едва умея читать, различала каждый псалом, которые все знали наизусть.
Сколько раз читал их батюшка, отец Георгий, а в молитвенной тишине их слушала вся семья. А последние месяцы их почти каждый вечер читал Федя и по тому, где больше замусолены были и почернели углы страниц, где самые строчки потемнели от усердных пальцев и от восковых капель, можно было судить, какие псалмы были наиболее почитаемыми.
– Вот, – сказала Наташа, – хорошей стих… Ты думаешь, Восяй найдет Федю?
– Найдет, свет Наталья Степановна. Теперь тихо – Василий Ярославич домой убрались, я слышала, как ворота запирали. Батюшка ваш спать полегли. Никто не услышит. А он… Слышите, как скулит, воет и плачет и мечется на цепи, аж сердце надрывается. Вы, какой стих надумали, вырежьте, мы его зашьем в шелковую ширинку, да на ошейник накрутим и навяжем. Вот-то хорошо будет! А уже за собаку не беспокойтесь. Так-то побежит по следу, причуивая, найдет Федора Гавриловича, а ему с вашей молитвой и совсем ладно будет.
– А латыш?
– Что же, боярышня? И латыш не зверь – человек. Покуражится, покочевряжится, а уже ничего не поделаешь. Собака от них не отстанет. Не убьет он собаки.
Наташа, молча, смотрела то на Дуню, то на псалтырь, то на занавешенные голубою занавеской окна. Весь дом спал глубоким, крепким сном, заливался различными храпами, стоявшими по всем его спаленкам, людским, жилецким, девичьим, боковушам и клетям. На дворе непрерывно выл, стонал и визжал, точно рыдал Восяй.
– Ну, хорошо, – наконец прошептала Наташа. – Дай мне, Дуня, ножницы!
* * *
Полный месяц ярко светил на дворе. Густые синие тени от домов, сараев и высокого забора легли по хрустящему, подмерзшему ночью снегу. Длинные, витые, толстые в основании, тонкие на конце ледяные сосульки алмазным кружевом свисали с крыш. Высокие березы в глубине двора казались в лунном блистании живыми. Таинственны были качели между ними, и Наташе показалось, что тихо покачивается их тяжелая доска.
По синему, темному небу в ярком сиянии месяца, точно души усопших, плыли серебряные, воздушные, легие облачка и Наташе казалось, что месяц стремительно мчится им навстречу, все оставаясь на месте.
Было смертельно страшно.
Никогда Наташа в этот зимний ночной час не выходила из своей горницы, никогда не видала она своего двора в обманчивом лунном свете.
Как только скрипнули деревянные, густо посыпанные песком ступени под ногами у Наташи, собака замолкла. Звякнула натянувшаяся цепь. Легкой побежкой Наташа подбежала к Восяю и опустилась на колени. Восяй положил ей голову на руки и с таким отчаянием посмотрел на нее, что в Наташе укрепилась уверенность, что Восяй найдет Федю.
– Восяюшка, собаченька милая, – тихо сказала Наташа. – Отыщи ты нам нашего свет-Федора Гавриловича.
Восяй глубоко вздохнул и забил по снегу пушистым черным хвостом.
– Постой, боярышня, я навяжу ему ширинку.
– Дай, Дуня, мне. Я с молитвою привяжу ее.
Подняв к небу большие, заплаканные, первое горе познавшие девичьи глаза, отразив в их глубокой синеве ясный месяц, Наташа шептала молитву. Потом тонкими пальчиками укручивала и увязывала шелковую ширинку, хрустящую бумагой.
Дуня осторожно сняла цепь.
– Пойдем, Восяй.
Собака точно понимала, что от нее требуют. Она послушно пошла подле Наташи, державшей ее за кольцо ошейника.
Дуня неслышно отодвинула дубовый засов и, приоткрыв калитку, выглянула в нее.
Серебряным полотном тянулась улица, и темные избы с крутыми крышами в сиянии месяца казались теремами царевен из сказки.
– Можно, боярышня, – поманила она рукою Наташу. – Никогошеньки никого на всей на Москве!
Наташа подошла с покорно шедшим рядом с нею Восяем к калитке.
«Можно ли перекрестить Восяя, – подумала она. – Пес ведь… Поганый пес… Ну, какой же он поганый? С молитвой гонцом идет к моему жениху!»
С верою перекрестила собаку. Поцеловала ее в голову. – С Богом, Восяй!..
Вынула пальчик из кольца. Собака посмотрела в глаза Наташе, вильнула хвостом, опустила морду, нагнулась и вдруг понеслась широким собачьим наметом, сначала, виляя хвостом, потом опустив его низко «поленом», по-волчьи.
Обе девушки вышли за калитку и следили за Восяем. Черная точка неслась по серебряному холсту озаренной луною улицы, домчалась до угла и свернула, скрывшись за домом.
– А ведь верно пошел Восяй, свет Наталья Степановна, – говорила Дуня, Федя под руку Наташу. – Ну увидал бы кто из людей нас теперь! Господи! Чего не наплели бы и на вас и на меня.
– Никто нас не видал, – улыбнулась в первый раз за день Наташа. – Вот разве луна?
Дуня погрозила пальчиком месяцу.
– Не скажи никому, лунушка-луна, как девки по ночам гуляют.
Обе неслышно прокрались в светелку Наташи.
XV Навстречу солнцу!
Глухой темный лес шумел над Федей. Где-то далеко звякнули в последний раз колокольцы и бубенцы и смолкли. Угольки разбросанного костра, залитого похлебкой, дотлевали в снегу. Низкие темные тучи делали ночь еще черней. Федя был один в неизвестном лесу, но ему не было страшно.
Подле него был Восяй! Разве не чудо было, что Восяй вдруг очутился подле него в этом страшном лесу?! И это чудо наполняло сердце Феди такою страстною глубокою верою в Промысел Божий, что уже не было места в его сердце страху.
Он ласкал Восяя, и Восяй ласкался к нему. Восяй пригинался к земле, Восяй клал морду на грудь Феде, вилял хвостом, тихо, сердечно повизгивал, точно не знал, как лучше показать Феде все свои собачьи ласки. Федя рассказывал Восяю все то, о чем думал он эти два молчаливых дня, и ему казалось, что Восяй его понимает. Внимательно глаза в глаза смотрела собака, точно и правда слушала и понимала рассказ Феди.
Шла свежая ночь. И хотя и было морозно, но сквозь мороз чувствовалось дуновение весны. В шубе было тепло, Федя не разжигал костра. Он уселся на подтаявшей земле, на месте костра, на груде обгорелого хвороста и полою бараньей шубы укутал Восяя.
Так коротали они долгую зимнюю ночь.
Не было сна. Мысли неслись в голове. Что делать? Вернуться домой? Начинать все снова?.. Почему Залит покинул его? Что замышлял он? – Федя заметил нож латыша, валявшийся подле костра. – Что делал Залит этим ножом? Резал ли хлеб?.. Вон большая горбушка его валяется возле опрокинутого чугуна… Или… что худое замышлял?
Вчерашняя ночь вспомнилась Феде. Да… что-то подозрительное и страшное было в том, как короткими и вескими словами перемолвились два латыша. И весь путь по лесам был подозрителен. Каждый час латыш мог вернуться… Или завез он Федю нарочно в глухой лес и бросил… Но… для чего?..
Ветер становился сильнее. Точно море шумел вершинами сосен лес. В небе образовались просветы. Медленно приближался рассвет, и сквозь лес ощущался близкий ясный восход. Желтело между деревьями.
Федя приподнял за передние лапы Восяя и любовался им.
«Вот он какой у меня умный Восяй?!.. Нашел!.. Отыскал меня!..»
Слезы умиления навернулись на глаза мальчика. Рукою он перебирал густой собачий мех, заглядывал в темные глаза Восяя, блиставшие, как два черных алмаза. Его пальцы ощупали ошейник, нашли шелковую ширинку[22]. Федя расправил шерсть. Малиновая ширинка?!.. В ней, что-то зашито… Шуршит под шелком бумага. Лицо Феди стало задумчивым.
– Так ты еще и вестником ко мне прибежал, – тихо сказал Федя. – От кого же ты мне принес это?
Восяй, раскрыв пасть и обнажив белые зубы, высунув алый язык, смотрел Феде в глаза. Федя прочел его ответ.
– Сам знаешь от кого. От свет Натальи Степановны.
Федя снял малиновую ширинку, распорол шов ножом, вынул бумажку.
Две строчки из так хорошо знакомого ему псалтыря Степана Филипповича!
Было уже совсем светло.
Федя прочитал дорогие, святые слова.
– «На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия»… – было на одном отрезке. И на другом стояло: «Ангелам своим заповест о тебе на руках возьмут тя, да не преткнеши о камень ногу твою»…
Федя поднял голову к небу. Сквозь частокол стволов просвечивало золотое солнце. В этих двух строках девяностого псалма Давидова он прочел ответ на все свои вопросы и сомнения.
Он встал. Поднял и положил за пазуху горбушку хлеба, спрятал за голенище нож Залита, гордо и смело выпрямился.
Бессонной ночи как не бывало, Федя не чувствовал утреннего холода. По всем жилкам бодрая струилась молодая, горячая кровь. Алкала подвига ратного.
Федя знал, что ему надо делать.
Он раздвинул ветви деревьев и смело зашагал прямо лесом. Восяй покорно пошел за ним.
Навстречу солнцу!
XVI Кто за кого?
Путь, путь!..
Бесконечно долгий путь пешком. Если нельзя было добраться до Строгановых лошадьми и на лодках с верным человеком, если верный человек его покинул, оказавшись неверным, Федя доберется до самого Каменного пояса пешком. При нем бумаги – епистолия[23] к Строгановым, при нем немного денег. Да разве нужны были деньги путнику в тогдашней темной, забитой, Иоанновой, православной Руси, в Московском царстве-государстве?
С раннего детства слышал Федя, как пешком, с котомкой, да посохом по всей земле Свято-Русской ходили богомольцы и богомолки, странники и странницы, старики и старухи, юноши и девушки, землепроходцы, вольные люди, и никто, никогда их не обижал. Ходили на далекий север в обитель Соловецкую, ходили в святой град Киев, добирались через чужие земли до Иерусалима и лавры святого Саввы. Где, где не бывали странники?.. Везде их принимали, Христа ради.
Так пошел и Федя.
Постучит в обед в окно затерявшегося поселка; откинется рама с бумагой, пахнет душным запахом курной избы, телятами и овцами, и выглянет темное лицо крестьянина.
Испуганно смотрит на саблю на боку у Феди, на нож, на собаку. Не похож Федя на странника.
– Дай хлебушка, добрый человек, Христа ради!..
И вот это-то «Христа ради» открывало сердца, давало доверие.
– Зайди… Не осуди на малом.
В избе еще внимательнее смотрит хозяин на странного гостя. На ногах остатки сапог, да онучи, потрепана шуба, видала ночлеги у костров, рвалась в лесной чаше. И странно на этом оборванном уборе лежит дорогая в серебре сабля.
– От царского гнева что ли бежал?
– Нет.
– Казак?
– Нет.
И Федя рассказывал, куда и зачем он идет.
Везде Федя находил и пищу и ласковое слово. Где подвезут его к Волге поближе, где дорогу покажут, где заночует, где переднюет, почитает на память псалмы, споет стихиры – и всюду принят, обласкан, обвеян теплым русским гостеприимством.
Человек Божий!
Чем дальше уходил Федя от Москвы, чем ближе была так желанная ему Волга, тем меньше становилось дорог, тем реже были селения, деревушки, отдельные избы лесорубов и охотников.
Весна наступала. Звенели ручьи. Из черной, сырой земли везде пробивалась трава, лес издали казался густым и лиловым, по вербе белыми пушинками побежали барашки, с орешины свисали зеленые вьющиеся червячки цветов, и легче стало дышать.
На последнем ночлеге у охотника Зырянина ему показали лесную дорогу, по которой Федя должен был к концу дня выйти на большой Казанский шлях, к городу Свияжску.
Но не понял ли Федя, что толковал ему Зырянин, или дорога, куда он свернул в лесу была не та, но только она становилась все глуше, колеи исчезли, она поросла молодою травою, белые цветочки, росшие по лесу, поползли по ней, и наконец она исчезла, Федя пошел ее искать, хотел вернуться обратно и окончательно запутался в лесу.
Когда Федя заметил, что сбился с пути, он стоял под громадным, кряжистым дубом. Федя запомнил продолговатое дупло в нем, исполинские ветви, тянувшиеся во все стороны. Ими точно растолкал от себя лес этот дуб, образовав небольшую поляну, густо поросшую желто-коричневым папоротником.
В поисках дороги Федя шел долго. Когда начал искать, солнце было над головою, коротка была тень, а теперь тени тянулись далеко, и иногда сквозь лесную гущу просвечивал красный солнечный диск.
И опять тот же дуб. То же дупло. И папоротник примят под ним. Видно: леший водил Федю по лесу. На суку чмокает серая белка. Смеется над Федей. Отчаяние напало на Федю. Куда же идти? От усталости ломило все тело. Федя решил заночевать в лесу. Хлеб еще был, вода была недалеко, Федя сложил небольшой шалаш, развел костер и прилег на корнях у дуба. Усталый Восяй лежал рядом.
«Утро вечера мудренее», – думал Федя, устраивая себе из сухого папоротника ложе. Он поел хлеба с водой, накормил исхудалого за время пути Восяя и прилег.
Медленно и незаметно вступала ночь в лес. Смолкали лесные шумы. Еще долго, почти в темноте пели птицы, да где-то далеко, в самой чаще, куковала кукушка. Потом все стихло. Ночью кричала сова, но и она смолкла. Федя спал крепким сном. Его сторожил Восяй.
Проснулся Федя, когда еще было темно. По светлевшему небу тянула стайка диких лебедей. Они протяжно и печально кликали – и этот звук и разбудил Федю. Сырой туман поднимался с земли. Лес был наполнен гулким шумом тетеревиного бормотанья. Совсем близко от Феди порвалась из лужины старая кряква. Немой и, казалось, пустой лес оживал.
Долго сидел Федя, прислушиваясь к этой шумной лесной жизни и стараясь понять ее. Восяй лежал смирно подле него. Он тоже слушал, насторожив уши, приглядывался в светлеющую мглу и сладко зевал, выворачивая глаза.
Тетерева и глухари смолкали. Хор маленьких птичек – снегирей, клестов, чижей, малиновок, синичек, сменил токование крупных птиц. Туман оседал росою на землю. На каждом беленьком цветочке алмазная горела капля. За одну ночь, казалось Феде, набухли на деревьях и кустах почки и лес стал гуще.
– Пойдем, – сказал Федя, вставая, – пойдем Восяй, куда-нибудь да выйдем. Если идти прямо – где-нибудь да будет конец леса…
* * *
Нелегок был прямой путь. То и дело сваленные бурей громадные ели преграждали его. Они лежали косматыми чудовищами. Их приходилось обходить, и Федя терял направление. Он старался идти на восток. И пока солнце было низко, это ему удавалось, но по мере того, как солнце поднималось, Федя невольно уклонялся к югу и боялся, что снова закружит.
Голод давал себя чувствовать. Туже подтягивал пояс Федя, жевал сухие листья, кору, стараясь себя обмануть. Восяй был счастливее его. Он что-то находил во мху, за кем-то гонялся. Хрустели на его зубах чьи-то косточки и он помахивал хвостом.
То густая поросль кустов – ольхи, ореха – перегородит путь, и надо или обходить ее, или продираться через нее, то крутой овраг станет поперек. Шумит внизу ручей. На северном пристене лежат пласты ноздреватого, почерневшего снега, и из оврага несет холодом, как из погреба.
К вечеру Федя совсем выбился из сил, а подвинулся ли он к цели пути, или нет – он и сам не знал. Все время приходилось уклоняться в стороны.
Опять был одинокий, голодный ночлег в лесу. Опять лесные шумы пугали Федю и не давали ему спать.
И еще, и еще прошли дни. Леший точно не хотел выпускать Федю. Голод мучил. В забытьи сна все снилась еда. Горячие, душистые караваи ржаного хлеба, грешневые блины целыми стопками, белозерский снеток, поджаренный в масле. Федя просыпался. Ему мерещилось, что – вот он – лежит каравай хлеба. Протянуть только руку. Он протягивал руку, а хлеб прыгал от него на дерево, висел на суку, Федя тянулся за ним, а хлеб был уже на небе – и Федя просыпался в мучительной голодной тоске.
Была ночь. Которая по счету в лесу – Федя не помнил. Третья или четвертая. Он быстро слабел и теперь долго и крепко спал, не обращая внимания на лесные шумы.
Он проснулся от громкого и злобного лая Восяя. Федя приподнял тяжелую голову.
Был мутный рассвет. Мелкий дождь уныло моросил с холодного серого неба. Лес нахохлился и стал темным и зловещим.
В пятидесяти шагах от Феди Восяй с поднявшейся на спине дыбом шерстью старался преградить дорогу большому бурому медведю. Медведь был облезлый, худой и голодный. Он вышел из чащи и, обнюхивая землю, шел к Феде. Его маленькие черные глаза смотрели на мальчика, и он то лапой, то мордой откидывал в сторону собаку. И пока собака оправлялась и вскакивала, медведь валкой побежкой пробегал шагов десять, приближаясь к Феде. Но на него снова со злобным лаем кидался Восяй, старался схватить его за бок или за гачи[24], и медведь опять останавливался, приседал и ловким ударом лапы отшвыривал собаку далеко от себя.
Федя сознал опасность и вскочил на ноги. Смертельный ужас заставил его позабыть усталость и голод. Сзади него была сосна с высоким и прямым стволом. Федя бросился к ней, влез до первых ветвей и притаился на них.
Медведь, занятый борьбой с Восяем, проглядел, как Федя лез на дерево и теперь остановился, как бы недоумевая, куда он давался. Восяй продолжал прыгать подле него, злобно на него лая.
Тогда медведь бросился на собаку. Восяй увернулся, стараясь ловкими прыжками отвлечь медведя от дерева, где скрылся Федя. Но рассвирепевший медведь стал необычайно ловок. Он настиг Восяя, быстрым взмахом обеих лап, как бы обнимая, подмял под себя, Восяя. Федя услышал жалобный визг, потом все стихло.
Ни о чем другом не думая, как только о том, чтобы спасти Восяя, Федя спрыгнул на землю, выхватил нож и побежал на медведя.
Медведь сейчас же оставил Восяя и, поднявшись на задние лапы, пошел навстречу Феде. Зажмурив от страха глаза, выставив вперед руку с ножом, Федя бросился на медведя. Человек и зверь сплелись в страшном смертельном объятии, и оба рухнули на землю.
* * *
Федя очнулся от прикосновения чего-то теплого и влажного к лицу и к плечу. Это прикосновение было болезненно и в то же время успокаивало едкую, саднящую боль у лба и на плече. Он чувствовал во всем теле леденящую сырость все сыпавшего и сыпавшего мелкого дождя и ощутил терпкий запах медвежьего меха и крови.
Он приоткрыл глаза. И сейчас же увидел Восяя. Собака лизала ему лицо и плечо, разодранные медведем.
Сам медведь лежал подле с большим ножом, по самую рукоятку всаженным в его левый бок. Голова Феди была мутна. Слабость была большая. Мысль, сознание, соображение медленно возвращались к нему. Он ощупал себя. С лица кое-где была содрана кожа, и сочилась кровь. Плечо было разодрано медвежьими когтями. Федя снял шубу, кафтан, оторвал кусок рубашки и помочив в мокром мху, перевязал себе раны. Одевшись, он подозвал Восяя.
– А ты, Восяй?
Восяй был весь изранен. Увидев, что его хозяин перевязался, что он шевелится, что он жив, Восяй стал весело лаять и прыгать подле Феди. Потом улегся и зализывал раны.
Большое напряжение, испытанное Федей, только что пережитая смертельная опасность вернули ему силы и заставили позабыть голод и усталость. Федя ласкал Восяя и думал о том, что же делать дальше?
Выходило не так плохо. Перед ним лежала громадная туша убитого медведя. У Феди были ножи, у него были целы трут и огниво. Медведь его накормит, медведь даст ему запасы на много дней, а там и – Волга!
– Живо! За дело!
Скорняцкая выучка сказалась в нем. Он умело снял с медведя часть шкуры, отделил заднюю ногу, развел костер и наладил палки, чтобы жарить медвежье мясо.
Вкусный запах жареной медвежатины стал раздражать Федю. Он дождался, когда мясо было готово и приступил к обеду, бросая большие куски улегшейся подле него собаке.
И когда совсем насытился, устроился под деревом и стал мечтать о Волге.
XVII Волга
«Кормилица Волга!»… «Волга-матушка!.. Волга – мать родная… Волга – русская река!…».
Москва и Волга в представлении Феди слились в одно. И обе были святы для него. Сколько раз в доме отца, человека ученого и бывалого, смотрел он на чертеж земли Московской. Как становой хребет или как некая животворящая жила, прорезывала Волга всю святорусскую землю. Начиналась в глуши Валдайских гор, в зеленых, мшистых болотах, где светлым кипуном выбивается из земли ручеек и, огибая стороною Москву, текла на юг громадною рекою, пересекая целый ряд неведомых прекрасных царств. Царство Казанское, которое так доблестно завоевали в 1552 году Иоанновы дружины и где сражались его отец, Исаков и Селезнеев, Саратовские степи, полные разбойников и царство Астраханское.
Чего-чего не дарила Москве Волга!
Зимою вдруг длинными громадными колодами станут у лавок в рыбном ряду мороженые осетры, розовыми пластами ляжет искрящаяся опаловым жиром, точно прозрачная белуга, нарубленная толстыми полупудовыми пластами, в серых крепких бляшках на боках и спине навалена тонкая стерлядь, а в корзинах груды покрытых обледенелым снегом серо-зеленых с белым брюхом чернополосых судаков… Откуда?.. – с Волги!
Осенью, когда придут караваны барок с Оки – вдруг наполнятся лавки желтыми мылами, розовыми конфетами, кедровыми орешками, фундуками, изюмом, фисташками, всякими восточными сластями, шелковыми тканями, золотыми вышивками, коврами, медной и глиняной татарской посудой, азиатским ладанным куреньем, – все с Волги, с нее кормилицы, с нее русской, родной реки!
Туда шли русские люди на смену татарам и оттуда возвращались крепкими, рослыми, могучими – богатырями – точно не водою, а материнским молоком кормила и поила их Волга-матушка.
Три с половиной тысячи верст протекала Волга и все по Московской земле!..
Сытый, отдохнувший, оправившийся от ран, полученных в схватке с медведем, Федя все это вспоминал, собираясь в путь – искать Волгу. Он отдохнул три дня, питаясь мясом медведя, дождался, что подсохли и зарубцевались раны, навялил на дорогу медвежатины и бодро, окрыленный победою, веруя в то, что Господь и дальше защитит и охранит его, пошел на восток.
* * *
Это был очаровательный день! Рассвет загорался за лесом, и по широкому зареву солнечного восхода. Федя видел, что это конец леса – дальше была – ширь!
Оттуда тянуло таким нежным запахом водного простора, что Федя понял, что там Волга.
Федя встал со своего ночлега, шестого после того, как он покинул место, где убил медведя, и бодро зашагал вперед.
Лес подошел к крутому обрыву и кончился.
Густой туман лежал внизу и скрывал реку. Но она чувствовалась своим тихим, величавым течением. Иногда в тишину утра, войдет тихий всплеск волны. Точно внизу вздохнет река.
С сильно бьющимся сердцем, опираясь на выломанный сук, Федя стал сбегать по почти отвесной песчаной круче. Хватался за паутиной свисавшие с обрыва тонкие древесные корни, за кусты, за камни и катился, сопровождаемый Восяем, к реке.
Волга точно спала под тяжелым серым пуховиком тумана. За ним не было видно другого лугового берега, и бесконечная гладь медленно неслась мимо Феди и казалась безбрежной.
Под ногами у Феди был серебристый песок, изрезанный тонким кружевом волн. Лежали ракушки, обломки старого серого камыша. Грудь распирало свежим дыханием могучей реки.
Федя склонился к воде. В темных глубинах, как в зеркале, отразилось его черное, загорелое, прокопченное в дымах костров лицо с большим шрамом через весь лоб. Шуба и кафтан в лохмотьях, опорки, рваные онучи – все, как у нищего, у последнего человека, – и только сабля блистала на боку, как у дворянина.
Восяй вошел по грудь в воду и жадно пил.
– Восяй, – сказал Федя, – ты понимаешь – это Волга! Это волжская вода!
Восяй оторвался от воды и посмотрел на Федю умными глазами.
– Ты рад? – как будто бы сказал он. – Ну и я рад. Твоя радость – моя радость. Ибо я твоя собака!
Федя вымылся в ледяной воде, выстирал лохмотья своей рубахи и, пока она сохла, лежал, закутавшись в шубу под лучами поднимающегося солнца.
Что будет дальше, он не думал. Он дошел до Волги. На Волге он найдет добрых людей, которые доставят его к Строгановым.
Христово имя накормит и проводит его опять.
Над его головою, в лесу, пели птицы. Перед ним, каждое мгновение меняя краски и очертания, развертывалась никогда не виданная им картина могучей реки. Туманы таяли под солнцем. Уже стал виден вдали широким разливом покрытый берег. Опушившияся зеленью ветлы вениками торчали из воды. За ними была бескрайняя ширь, синяя, сливавшаяся с быстро синевшим небом. Туман белыми тонкими простынями еще лежал кое-где над ставшей лилово-синей рекой.
Вдруг тут, там ослепительно яркими огоньками вспыхнула поднявшаяся по реке рябь, ветерок разогнал остатки туманов, река просветлела, и точно улыбнулась, сделавшись серебристо белой. Синь осталась только вдали. Середина горела на солнце и часто тут и там вспыхивали яркими огоньками переплески крошечных волн.
Белые чайки с резким чаканием носились над рекою.
Волга неслась перед Федей тихая, немая и совершенно безлюдная.
XVIII «Випп – вупп»…
Целый день просидел Федя на берегу. Волга текла перед ним все такая же прекрасная, широкая, торжественная и безлюдная. Ни один корабль, ни одна баржа или лодка не показались на ней. Точно из неведомого, безлюдного царства выходила она и в такое же неведомое царство исчезала.
Река текла с запада. В ее верхнем течении образовалась широкая заводь, покрытая старым сухим камышом. Перед закатом там зарозовела вода, отражая небо. Стая белых лебедей опустилась туда и скрылась в камышах. Тише становилось на реке. Плеснет на стрежне большая рыба. Стеклянным, прозрачным звуком донесется этот плеск до Феди, и опять молчаливо величественное стремление водных просторов. Сладко кружится от него у Феди голова.
Вдруг разом, чем-то потревоженные, трубным возгласом загыкали в камышах лебеди, снялись с воды и потянули на север. И был в этом внезапном полете какой то знак предупреждения.
Восяй, лежавший подле Феди, насторожился и приподнялся на передние лапы. В тишину наступавшего вечера по задремавшей реке понеслись слабые мерные звуки.
– «Випп – вупп»… – небольшой промежуток тишины – и опять – «випп – вупп»… и снова через такое же время – «випп – вупп».
Только люди могли производить такие мерные звуки. Еще ничего за поворотом реки не было видно, а уже стал слышен звенящий шелест раздвигаемой волны.
Федя напряженно вглядывался в золотистую даль реки. Там пламенело небо. Красное солнце прозрачным громадным шаром опускалось к реке и слепило Феде глаза.
Отчетливее были мерные звуки, легкий скрип и шелест воды. Вдруг ясно по реке донесся приятный нежный мужской голос. Он казался совсем близким. Слова легко было разобрать.
Вниз по Волге-реке С Нижня Новгорода!.. —пел тот голос.
И разом грянула хоровая песня:
Снаряжен стружок, Как стрела летит!Совсем неожиданно, и не там, где думал увидеть певцов Федя, из-за поворота реки выдвинулась большая темная одномачтовая лодка. Паруса были убраны. Косая рея чуть колебалась при напоре весел. В восемь пар гребли на ней гребцы, и скрип деревянных уключин мерно, в лад вторил песне: «випп – вупп».
В лучах заходящего солнца ладья казалась позолоченной, и огневыми искрами спадала с весел вода. Уже хорошо стали видны гребцы. В пестрых рубахах, рваных бараньих и собачьих шапках, кто в накинутом на плечи рыжем заплатанном азяме, они гребли привычными руками под лад песни, которую пели на корме вооруженные пищалями и луками с колчанами стрел люди. Красные саадаки[25] луков сафьяновой кожи, золотом и серебром горевшие сабли на боках у стоявших и сидевших людей не соответствовали их бедной и рваной одежд, и Федя догадался, скорее, почувствовал, что это шла по реке разбойничья казачья вольница.
Его еще не увидали. Он взял Восяя за ошейник и втянул его, скрываясь в кустах.
Лодка быстро приближалась, спускаясь вниз по течению. Нужный, за сердце хватающий и точно печальный в прохладе угасающего весеннего дня голос продолжал петь. Каждое слово было отчетливо слышно Феде.
А на том, на стружке, На снаряженном, —четко выговаривал запевала, и хор ответил ему:
Удалых гребцов Сорок два сидит.Песня влекла и тянула Федю. Вся тоска долгого одиночества в лесу поднялась в нем и залила его сердце страстным желанием соединиться и быть заодно с этими, из неведомой дали появившимися и в неведомую даль уплывающими людьми. И, будто приглашая Федю и представляясь ему, отчетливо и веско бросил запевал:
Удалы те гребцы — Казаки стародавние, —и хор ответил, мягко замирая:
Атаман у казаков Ермолай Тимофеевич…«Ермолай Тимофеевич», – думал Федя. Тот самый Ермак, о ком зимним вечером рассказывал Исаков и к кому с того рассказа непонятным образом тянуло Федю. – «Ермолай Тимофеевич здесь, на этом мимо плывущем струге. Не судьба ли это указывает мне, куда идти?.. Воры-казаки… Да ведь люди же».
Уже почти напротив Феди была лодка. Усталые гребцы сушили весла, и, отдаваясь течению, ладья плыла тихо, приближаясь к Феде.
Есаул у казаков Гаврила Лаврентьевич…Ясно стали видны богатые сабельные уборы на казаках. На корме грудой были навалены дорогие меха. Насыпаны вповалку, видно, поспешно выкинутые из деревянных ящиков.
Еще не замер в воздух голос запевалы, как Федя вышел из своего укрытия, замахал шапкой и что было мочи крикнул:
– Братцы!.. Родимые!.. Спасите!.. Христа ради!
Хор не продолжил песни. Казак на кормовом весле спросил что-то у сидевшего под ним чернобородого худого казака, одетого богаче других, и лодка, описывая плавную дугу, направилась к берегу.
XIX Собачья наука пригодилась
Казаки выпрыгнули на берег и окружили Федю. Смущенный Восяй жался к Фединым ногам.
Загорелые, черные, с растрепанными ветром бородами, молодые и старые, широкогрудые, сильные, они разглядывали без стеснения Федю, как какое-то заморское чудо.
– Что за человек? – зычно крикнул один из казаков.
– Я купец… Купеческий сын…
Краснорожий молодец, совсем юноша с едва пробивающимися над пухлой черной губою светлыми усами бросил скороговоркой.
– А ты чей молодец?.. – Торжковский купец. – А где был – в Москве по миру ходил!..
– Га-га-га-га! – загрохотали буйным смехом казаки.
– Ловко Меркулов уклеил… Купец! – рожа-то самая купецкая!.. Где раны получил?
– Это меня в лесу, – смущенно сказал Федя. – Медведь задрал…
– Охотник что ль? – спросил первый.
– А саблю у кого украл? Гляньте, братцы, какая у него саблюка.
Из лодки степенно вышел чернобородый казак. Обступившие Федю казаки раздались и примолкли с тихим шепотом: «Атаман!.. Атаман!».
Федя снял шапку и стоял перед высоким и худым казаком в чистой белой рубахе, в кафтане наопашь и сапогах красной кожи.
– Чей ты? – негромким голосом спросил атаман.
– Я – Чашников, – и Федя, смущаясь, заикаясь и повторяясь рассказал всю свою историю от самого пожара, до того, как он дошел до Волги. Он достал из-за пазухи потемневший сверток алого шелка и вынул оттуда бумаги – письмо к Строгановым.
Атаман внимательно выслушал Федю. Толпившиеся кругом казаки, казалось, были тронуты злоключениями юноши.
– Малый какой, – сказал кто-то в толпе, – а чего, чего не повидал на своем веку.
– Тому латышу горло надо перегрызть, – заметил Меркулов.
– Они такие… самые предатели!
– Что ж! – не возвышая голоса, покойно и властно сказал атаман. – Как положите, атаманы-молодцы, доставим молодца к купцам Строгановым?
– Отчего не доставить?.. Доставим… Не объест, не обопьет нас.
– В добрый час!
– Атаман, – блистая навернувшимися на глаза слезами благодарности, сказал Федя, – разреши мне и собаку взять?
Атаман еще ничего не ответил, как загудели голоса:
– Чего там собаку! На что она!
– Пес поганый на ладью с иконами…
– Ладья, что церква, нельзя туда, атаман, пса пускать.
– Нет, – строго сказал атаман, – я не могу пустить пса на ладью. Казаки против этого. Ступай, садись,
– А как же собаку? – молвил Федя.
– Да хвати ее, Меркулов, за задние ноги да шваркни затылком о землю, чтобы дух вон!
– Ишь какой боярин!.. Его самого спасают, так ему еще и собаку надо!..
– Ну, айда! – прикрикнул на Федю атаман.
– Атаман! она у меня ученая!..
– У нас тут, брат, не ярмарка, чтобы ученых собак на игрищах показывать! – сказал краснорожий казак.
– И мы не немцы или геновейцы[26] какие, чтобы такой пустяковиной заниматься.
– Атаман, – плача, говорил Федя, – позволь показать, что она умеет.
– А ну, пусть покажет, прикончить всегда успеем.
Лодка стояла у берега. Ее корма, где навалены были меха, упиралась в песок. На лодке никого из казаков не было.
– Восяй, – показывая рукой на меха и на атамана, сказал Федя, – принеси атаману лисицу.
Восяй проскочил мимо казаков на лодку, разметал мордой звериные шкуры и, схватив алый лисий мех, принес его атаману.
– Ах ты! – раздалось в толпе…
– Вот так пес!.. А ну-ка еще чего?
– Восяй, подай атаману соболя.
Собака без ошибки достала и принесла связку соболей.
– А еще, – ревели, хохоча, казаки.
– Восяй… куничку!
Восяй прыгнул в лодку, мордой разметал все меха и стал у борта, лая, точно что спрашивал.
– А ведь и точно… Куницы ни одной в добычу не попалось, – сказал молодой казак.
– Ну и пес!.. Такого пса точно на ярмарке можно показывать.
– Ну, – сказал атаман, – побаловались и буде… Айда на лодку.
– А собака?..
Никто ничего не ответил. Меркулов взял Федю под локоть и повел его, поталкивая на лодку. Остальные казаки толпою разом вспрыгнули за борт и разместились по скамьям. За Федей, незаметно в толпе казаков прыгнул в ладью Восяй и улегся комочком под его ногами.
Ни атаман, ни казаки не сказали ни слова. Точно не видали собаки.
Рыжий молодец отпихивался шестом от берега. Днище лодки скрипело по песку. Лодка мягко колыхнулась на глубокой воде. Казаки разобрали весла.
– На воду! – приказал атаман.
Мерно скрипнули весла у деревянных уключин, лодка понеслась по темневшей реке. За спиной у Феди молодой казак завел песню.
– Гей вы думайте, братцы, вы подумайте, И меня, Ермака, братцы, послушайте. Зимою мы, братцы, исправимся, А как вскроется весна красная, Мы тогда-то, други-братцы, в поход пойдем…Мерно, в лад песне поскрипывали весла у деревянных уключин: – «випп – вупп… випп – вупп»…
XX Воры – казаки
Ночь шли молча, без песен. Холодною сыростью тянуло от реки. Гребли осторожно, чуть-чуть. Не скрипели уключины. Свободные казаки притаились за бортами лодки. Пищали и луки были на готове. Маленькую чугунную пушку, стоявшую на носу будары[27] зарядили каменным ядром. Атаман Никита Пан зорко вглядывался в темноту.
На низком луговом берегу показались холмы, поросшие лесом. Еще тише стало на лодке.
Федя, напряженно смотревший туда, куда глядел атаман, увидал на темном небе восточный рисунок громадной башни и белые стены с бойницами новой крепости.
– Казань, – прошептал сидевший на дне, рядом с Федей, Меркулов. – Башня Сумбеки – в ней 35 сажень высоты… А то новые стены батюшка царь наставил заместо старых деревянных. И церкви православные – все его стройки.
– Тихо там! – грозно прошептал атаман. – Суши весла!
Лопасти весел повисли над водою. Лодка неслась от разгона и течением. Она точно призрак плыла мимо уснувшего города. На башнях желтыми огнями светились бумажные фонари. Огонек, качаясь, подвигался по стене, скрываясь за зубцами и вдруг появляясь. Проходила дозором стража.
– Слушай, – донеслось с Казанской башни.
– Слава Москве белокаменной! – жидким, дребезжащим голоском «по-московски», как перекликалась стража на стенах Московского Кремля, – ответили над самой рекой и так близко к лодке, что казаки круче нагнулись, пряча головы в плечах. Кто-то подле Феди на дне лодки тяжело и глубоко вздохнул.
– Слушай!.. – прилетело из глубины, сверху, точно с самой Сумбекиной башни, – глядеть на реку!..
Алым кругом закачался фонарь, точно старался осветить широкую Волгу.
– Глядим на реку!.. Слава Нижнему Новгороду!.. – задребезжал голос над водой. И, казалось, что человек стоит где-то близко от лодки.
Казачий струг несся тихо и плавно, управляемый одним кормовым веслом. Спящая Казань уходила назад.
Видны были деревянные пристани, где прозрачным звуком плямкала волна о борта лодок. На лодках горели фонари, и змеистый плавился от них по реке след и трепетал по волнам.
Казанские белые стены то подходили к самой реке, то поднимались на холмы и четко рисовались в глубоком небе, усеянном звездами. С берега тянуло терпким запахом соломенного дыма и пахло ладаном и еще чем-то пряным, что напоминало Феде те места московского торга, где торговали восточные купцы.
– Прошли Казанку? – прошептал атаман, и кто-то из казаков дрожащим шепотом ответил:
– Нет еще.
И уже сзади совсем тревожный, точно испуганный, раздался голос:
– Кто гребет?
На казачьем струге затаили дыхание. Лодка медленно уносилась течением.
– Кто гребет? – еще тревожнее донеслось с башни. Федя видел, как казаки подсыпали пороху под кремни пищалей. Незаметно по бортам поставили сошки[28].
Несколько мгновений, показавшихся Феде мучительно долгими, была тишина.
Последняя Казанская башня уходила назад. Совсем близко, – над самым казачьим стругом, распевный красивый голос ответил на встревоженный голос:
– Слава Твери-городу!..
Тот голос, что кричал тревожно: «кто гребет» – теперь успокоенно и тоже распевно издали ответил:
– Свияжску государеву слава!..
Казань осталась позади.
– На воду! – сказал атаман.
Весла мягко, без шума упали в реку.
– Навались!..
Подхваченный могучими гребками казачий струг точно приподнялся над рекой и полетел, шумно пеня воду.
За Казанью Волга круто повернула на юг. В темноте ночи за поворотом реки исчезли белые Казанские стены.
XXI Ермаковы станичники
Эта ночь под Казанью тягостное оставила воспоминание у Феди. Он задумался и припомнил все то, что говорил ему в Москве про казаков Исаков.
Еще бы немного, открой казанскае стража казачий струг – и между казаками и царскими стрельцами начался бы бой… На чьей стороне надлежало быть Феде?.. Кому помогать?.. Казакам, которые его приютили, относятся к нему как к равному и так просто взялись доставить его к Строгановым? Никита Пан подарил ему синего немецкого сукна кафтанчик и козловые хорошие сапоги, Меркулов дал рубаху, а рыжий молодой запевала – Семен Красный – новые холщовые порты… Или стрельцам, правящим государево дело и обязанным не позволять казакам грабить по Волге? – Тем стрельцам, в чьих рядах в Москве сотниками служат Исаков и Селезнеев.
Чьи это меха добычей лежат на корме быстрого струга? Откуда у атамана красивая и дорогая бобровая шапка и епанча, тонко расшитая серебряной канителью? Чей кафтанчик подарил Феде Никита Пан?
После казанской ночи простые казачьи лица стали казаться страшными. Кровавый разбой видали их карие и серые глаза и от кого были получены шрамы и раны – одному Господу Богу известно. Шли по Волге ночами.
Днем хоронились по глухим местам, выставляли сторожевые посты, прятались по лесам и под утесами нагорного берега. Всегда были настороже, за кем-то следили, кого-то опасались. Добрые люди никого не боятся. Значит, были казаки людьми недобрыми, и Феде, воспитанному и дома, и у Исакова в почитании государя и повиновении его законам, стало не по себе.
Но когда вошли в Каму, – точно все переменилось. Будто на Каме была какая-то другая власть и эта власть не преследовала казаков, но им помогала.
Поднимались по Каме днем. Каждый день, под вечер, когда за лодкой начинал краснеть закат, а впереди туманная дымка поднималась над рекой и закутывала густые дремучие прикамские леса, – вдруг появлялись на берегу высокие стены небольшого рубленного из бревен городка. В реку вдавалась пристань, и с пристани бодро и весело окликали:
– Ермаковы что ль?
– Эге! – отвечали со струга. – Ермаковы.
Если был поставлен парус – его сбивали, лодка гордым поворотом заходила к пристани. На пристань из городка выбегали ратные люди. Кто во всем уборе, в высокой с наушниками и назатыльником бумажной, стеганной шапке, в стальном, плитками «колонтаре» с «бармицей» на плечах, с лучным саадаком на поясе, кто «на простяка» в холщевой рубахе и портах, с босыми ногами. Русские, немцы, обрусевшие шведы обступали казаков, помогали им причалить и прибрать лодку.
Шли расспросы.
– Наши прошли?
– Давно еще… Вы – последние, – отвечали городские люди.
– Иван Кольцо прошел?
– Когда еще! Зимою… По льду… Санями и на лыжах. Полтораста человек с ним. Матвей Мещеряк в самый ледоход попал. Два стружка затонули. Пяти казаков недосчитались.
– Канкора не узнаете. Чистый город стал. Припасов, бочек с зельем – целые горы навалены…
– Ню, довольна, – говорил немец в колонтаре, – соловей на башню не сажают… Пожалюйте в крепость….
Феде смешно было, как немец сказал вместо «соловья баснями не кормят» – «соловей на башню не сажают».
В городке для казаков была натоплена баня, приготовлен сытный ужин. За ужином – немецкий начальник сторожевого городка, узнав, что Федя из Москвы, обратил на него внимание и приласкал его.
Федя решил его расспросить о казаках, о Ермаке, о Строгановых. Хотелось ему рассеять сомнения, тяготившие его после казанской ночи.
Они сидели на лугу, подле крепостной избы. Кругом возвышались стены, и весь городок был не больше сгоревшей Чашниковской усадьбы в Москве. На лугу лежали казаки, пили брагу, ели ломти пахучего ржаного хлеба, намазанного медом. За городом темнел высокий лес. Молодая луна бледным рогом висела в небе.
Немец – Алоизий Фабрициус, выслушал Федю и сказал, покручивая длинный седой ус:
– Ермак?.. Ню что Ермак!.. Не так страшен черт, как его малютка. Ермак теперь служит у Строгановых. Ну, как я, скажем.
Сидевший недалеко Никита Пан услышал слова немца и ввязался в разговор.
– Никогда, – сказал он, – казаки к Строгановым не нанимались. Врет он – немец!.. Казаки – люди вольные. Они служат только одному государю московскому… Служат по своей доброй воле… Радеют о его землях, чтобы басурманская вера над ними не посмеялась, чтобы государевой вотчины пяди не поступиться! Казак на то и родился, чтобы царю пригодился! Что делает теперь Ермак Тимофеевич, наш донской атаман, у Строгановых, про то я, Федор, не ведаю. Не зря он живет у них больше года, не зря приказал всем казачьим ватагам, что были на Волге, пригрянуть к весне к устью Чусовой. Что он задумал – его атаманская воля. Мы, казаки, когда выбираем атамана, шутим, и дерзкие речи говорим, но, когда выбрали – во всем ему подчиняемся, а кто ослушается – того в куль, да в воду!
– Всяк сверчок полезай на свой песок, – вставил опять Фабрициус.
Никита Пан посмотрел на него и задумчиво и задушевно сказал Феде:
– Ты, браток, в нашем атамане Ермолае Тимофеевиче не сомневайся… Были на Дону атаманы и будут еще, а такого, верь моему казачьему слову, и не было и не будет. Слыхал, может быть, как калики перехожие поют про Владимира Красное Солнышко, про его богатырей: матерого казака Илью Муромца, Добрыню Никитича, да удалого поповского сына Алешу. Вот такой и Ермак! Честный, прямой, умный. Он, браток, под тобой сквозь землю на аршин видит. Он ума палата.
– Да, – сказал Фабрициус, наливая всем в ковши пенной браги, – слыхал и я – рыцарь!
– Да, верное, немец, твое слово – лыцарь!.. Не бойся его![29]
– А как же? – начал было Федя. Он хотел спросить, почему же тогда грозили в Москве Ермаку плетьми и виселицей, и воевода Мурашкин гонялся за ним по Волге? Почему же они, Ермаковы люди, так скрытно, по-воровски, прошмыгнули ночью мимо царской Казани?
Но не посмел спросить. Стальными, немигающими глазами посмотрел на Федю ватажный атаман Никита Пан, точно прочел мысли Федины в них, и твердо и резко сказал:
– А вот так же!
Фабрициус жестко засмеялся и, поднимая чару, сказал:
– Быль для молодца – не укроп.
XXII У Строгановых
Еще пять дней поднимались по Каме.
На шестой, после полудня, вдруг точно раздвинулись дикие дремучие кедровые и сосновые леса. Горы, обступавшие Каму, отошли. Зеленые густой, весенней травою луга покрывали мягкие холмы – увалы. Стада коров и овец привольно паслись по ним. И задумчиво и печально позванивали их колокольцы. В тесной балке, ища тени, у каменистого пристена сбился пестрый табун мелких широкогрудых лошадей.
На холме показались толстые, двойные бревенчатый стены, башни по углам, тяжелые ворота, подъемный мост над рвом. Ярко-желтый с черным двуглавым орлом царский прапор весело реял на свежем ветру на высоком шесте над воротами.
Из-за стен крепости видны были крутые, черные, смоленые крыши многих изб и теремов. Весь берег был заставлен легкими стругами. Одни, густо просмоленные, блистали синим блеском, лежа кверху днищами, другие, еще не отделанные, сверкали розово-белыми, чисто оструганными досками. Сотни три людей в пестрых рубахах работали подле них, и гулкий стук многих топоров и визг пил отдавался эхом о холмы и лес противоположного берега.
– Вот он и строгановский городок Канкор, – сказал Никита Пан сидевшему подле него Феде. – Что же, браток, Федор Гаврилович, надумал? С нами, казаками, останешься или к Строганову подашься?
– Я не знаю еще, – сказал Федя, лаская и почесывая между ушами лежавшего у его ног Восяя. – Все во мне так смутно… Если бы меня кто наставил и научил.
Никита Пан, смотревший, как ласкал Восяя Федя, сказал:
– Да ты, браток, не бойся. Мы твоего пса больше не обидим. Привязались и мы к твоему Восяю. Полюбили… Коли что – и его возьмем.
– Спасибо, атаман, – тихо сказал Федя. – Побываю у Строганова. Поговорю с ним. Что он мне укажет, что он присоветует – так тому и быть.
– Дело доброе, – сказал Никита Пан. – Конечно, по сиротству твоему тебе кого-нибудь спросить надо… А только – мой тебе совет. Потолкуй с Ермаком. Таких людей днем с огнем не отыщешь!..
Старик Семен Строганов был болен, и Федю принял его племянник Максим Яковлевич.
В чистой соснового леса избе пахло смолою и ладаном. Широкое окно было задвинуто, и сквозь прожированную бумагу мутный свет входил в избу. Максим Яковлевич сидел у окна на липовой лавке. Он был одет по-восточному в длинный желтый бухарский халат, шитый малиновыми цветами, и в мягкие татарские ичеги[30] темно-зеленого сафьяна. На голове была черная шапочка-тюбетейка, прикрывавшая лысину.
Федя перекрестился на иконы с теплящеюся перед ними лампадой и, тряхнув кудрями, – ему их по-казачьи остриг Семен Красный, – поклонился, дотронувшись пола руками.
– Федор Чашник? – сказал, поднимая полное, белое лицо, обрамленное седеющей бородой Строганов.
– Я, Максим Яковлевич.
– Я прочел, что мне написал о тебе стрелецкий сотник Исаков… Мне всякие люди нужны… Молодые и смелые особенно… Дела тут много и людей надо – нет числа… Слышал я о тебе и от казаков и… легло мое к тебе сердце. Ты, слыхал я, с детства при пушном деле рос. Вот и приставлю я тебя к пушной палате, будешь меха разбирать каждый по его качеству… А там посмотрим. Ступай, разыщи поляка Неборского, скажи, что я приказал тебе быть при нем в приказчиках.
Федя, как стал у притолоки, так и стоял неподвижно. Только лицо его покрылось румянцем смущения, приоткрылся пухлый рот и он тяжело и неровно дышал.
– Ну, что же ты! – сказал уже строго Максим Яковлевич.
– Я, господин, – пробормотал Федя и упал в ноги Строганову. – Максим Яковлевич!.. Прости, если я согрублю тебе, отказываясь от доброго твоего предложения!.. Не за тем делом я к тебе ехал.
– А за каким же? Мы – купцы… Наше дело торговое. Соль, да меха, да сибирские, индейские и бухарские товары – вот чем мы занимаемся.
– Я, господин, хочу искать… искать – заикаясь и краснея все больше, говорил Федя и вдруг, решившись, выпалил: – Ратной чести!
Сказав главное, Федя встал с колен и, потупившись, ожидал решения своей участи.
Строгонов посмотрел на мальчика.
– Ратной чести… – наконец медленно сказал Строгонов. – Искать ратной чести приехал ты, малый, у меня, у купца московского?! Лютые, видно, настали в Москве послдние времена, что такие молодцы, как ты, идут за ратной честью не в государевы дружины, не к царским воеводам и тысяцким, а к купцам… Что же – твое счастье… Твоя удача!.. Ты с казаками сюда пришел?
– В ватаге атамана Никиты Пана.
– Вернись в нее! Обживись… А там и сам увидишь…
Максим Яковлевич еще раз внимательно посмотрел на Федю.
– Славный ты мальчик… – сказал он, – полюбился ты мне, сиротинушка… Так вот мой тебе совет. Здесь находится донской атаман Ермолай Тимофеевич, по прозвищу – Ермак… Так того Ермака слушайся во всем. Он худому тебя не научит. Живет он у меня побольше года, открыл мне свою душу и показал мне рыцарский пример покаяния не на словах, но на деле… У него найдешь, что ищешь. Либо славную могилу в чистом поле, либо честь молодецкую… Ступай!.. Да хранит тебя Господь!..
Федя земно поклонился Строганову, повернулся кругом и, не чуя пола под ногами, вышел из горницы. Кровь ключом била в виски, в глазах темнело от волнения и счастья, от ожидания чего-то нового, неведомого, страшного, опасного и вместе с тем поднимающего дух и дивно прекрасного.
XXIII Ермак
И еще прошла неделя. Смолили остальные струги, грузили мешки с хлебными сухарями, бочки с порохом, лили пули, заготовляли «жеребья»[31], устанавливали на лодках пушки, строгали весла, забивали уключины, упражнялись в стрельбе из луков и рушниц.
Федя, в ватаге Никиты Пана принимавший участие во всех этих работах и упражнениях, видел несколько раз Ермака, но всегда мельком.
Вдруг среди работающих шорохом пронесется: – «атаман!.. атаман!..». Одни еще прилежнее станут работать, другие, кто помоложе, оставят работу и смотрят туда, откуда раздались голоса.
От реки по зеленому холму поднималось несколько человек. Впереди всех шел смуглый, давно в черноту загоревший, крепкий широкоплечей и рослый человек лет пятидесяти.
Он так сразу выделялся среди шедших с ним казаков, что Федя, не спрашивая, знал, что это Ермак. Больше карие, слегка навыкате глаза были прекрасны. Они были строги и были бы страшны, если бы не смягчались длинными черными ресницами, то и дело притушивавшими пламень огневого взгляда. Черная, очень густая борода в легкой седине обрамляла худощавое лицо. Большая морщина, шедшая от носа к губам и прятавшаяся в бороде, придавала лицу выражение какой-то затаенной скорби и вместе с глазами всему облику атамана давала ту одухотворенность, которой не было в окружающих его казаках.
Чуть полнеющий, рослый и большой, Ермак легко поднимался на холм. Крепкие ноги в холщовых штанах, заправленных в высокие бурой кожи сапоги, шутя несли его крупное тело.
Он подошел к той кучке казаков, где был Федя.
– Поторапливайтесь, ребята, – сказал Ермак. Негромкий его голос раздался по полю. – Весна проходит, лето красное настает. Кончать надо-ть сборы да работы.
Казаки засуетились с работой, Федя, с Семеном Красным забивавший уключины, взялся за сосновый брусок. Семен Красный застучал колотушкой.
– Не так, станица, бабаечку держишь, – сказал Ермак, обращаясь к Феде. Тот залился румянцем, точно красная девушка.
– Этак-то держать будешь – он и не хотя тебя по пальцам может хватить колотушкой.
Атаман взял из рук Феди уключину и показал, как ее надо держать.
– Грамотный? – пристально глядя в глаза Феде и отдавая ему дощечку, сказал атаман.
– Да… Грамотный, – прошептал Федя.
Атаман уже шел дальше, за ним шли его есаулы. Никита Пан из их толпы ласково подмигнул Феде.
– Как он тебя-то, – восхищенно говорил Семен Красный, глядя вслед атаману, – в раз угадал… Он твою душу-то наизнанку вывернул!.. Грамотный!.. А? В первый, чать, раз на тебя глянул – а ну, твое почтение – вот он… Ровно сто лет знакомы… Ну и Ермак!..
XXV Казачий круг
Вечером по всему стану звонкими «есаульскими» голосами закричали ватажные атаманы:
– На круг!.. На круг… Атаман приказал…
Казаки собирались в стороне от городка, на опушке молодой березовой рощи. В стане жарко горели костры, здесь светил полный месяц и бросал серебристый отсвет на лица, одежду и оружие казаков. От костров на них иногда полыхал розовый блеск, и от этих двух светов лица казаков казались Феде торжественными, необычными, будто праздничными.
Идя на круг казаки надевали поверх рубах лучшие свои кафтаны, подпоясывали их наборными в золотых, серебряных и медных бляхах поясами, надевали сабли, закидывали за плечи рушницы или саадаки с луками, у кого, что было. Многие явились в стальных бахтерцах и панцирях.
Большая толпа, человек в шестьсот казаков, стала почти сомкнутым кольцом. От городка показалось шествие. На высоком древке, увенчанном восьмиконечным крестом, несли прикрепленную к нему железными скобами небольшую четырехугольную икону. На темно-коричневой основе яркими свежими красками был написан святой Георгий Победоносец на темно-сером коне. Белая узда ярко выделялась на щучьей голове лошади. Синий плащ веял за плечами святого, поражавшего копьем извивающееся под ногами коня чудовище.
Казаки снимали шапки и крестились. За этой иконой-знаменем несли большую хоругвь. Темно-зеленое тяжелое шелковое полотнище чуть развернулось, и на нем на золотой шитой основе был написан Лик Христов. За знаменами, окруженный ватажными атаманами шел Ермак. Он тоже оделся по-праздничному. На голове стальная шапка-ерихонка, тяжелый панцирь в медных бляхах на груди, поручни на руках, стальные бутурлуки на ногах, на поясе кинжал, на боку дорогая сабля, в правой руке тяжелый шестопер. Атаман убрался на круг, как в бой. Свое тяжелое снаряжение Ермак нес легко[32].
Он шел неторопливо. Рядом с ним шел сухощавый старик с узкой монгольской бородкой и седыми свисшими усами. Он был одет в дорогой лилового бархата халат. На голове была бобровая шапка. Этот роскошный наряд совсем не подходил к страшному лицу старика. Обе ноздри у него были вырваны и черное отверстие носа над ртом было ужасно. Серые глаза в припухших красных веках смотрели безжизненно спокойно. Точно повидал этот человек на своем веку так много ужасного, что ужас навсегда застыл в его светлых глазах. Шрамы на шее и на лбу придавали лицу еще более страшное выражение.
Сняв шапки, казаки ожидали атамана.
Ермак вошел в середину круга и низко поклонился ему на все четыре стороны. Казаки ответили ему поклоном.
Ермак, а за ним и казаки накрылись.
Ермак, показывая рукою на приведенного им старика, сказал ставшему впереди самой большой ватаги красивому худощавому чернобородому казаку.
– Узнаешь, Иван Кольцо, Гаврилу Лаврентьевича?
Иван Кольцо вгляделся в старика.
– Царица Небесная!.. Точно он… Да где же тебя, родимого, так изуродовали?..
Казаки с любопытством разглядывали старика. Стоявшие сзади поднимались на носки, опираясь на плечи впереди стоявших. Тихий гомон шел в толпе. Меркулов сказал Феде:
– Самый то есть первый друг Ермаков был этот Гаврила Лаврентьевич, когда ватажили они на Волге. И вот лет 15 тому назад скрылся, неведомо куда пропал.
Когда первое впечатление от появления на кругу давно пропавшего Гаврилы Лаврентьевича улеглось, атаман взялся рукою за свою ерихонку. По всему кругу звонко закричали есаулы:
– Замолчи, честная станица!.. Атаман слово держать будет.
– Помолчите – ста, атаманы-молодцы!
Когда смолк войсковой круг, Ермак отчетливо и ясно сказал:
– Атаманы-молодцы, послушайте, что вам поведает наш товарищ Гаврила Лаврентьевич о царстве Сибирском.
Ермак сел на траву. Казаки кто сел, кто остался стоять, и в ночной тиши, у опушки березовой рощи, где по-весеннему красиво, дыша счастьем, пел и щелкал соловей, откуда вдруг в ответ ему прокуковала кукушка, раздался гнусавый голос Гаврилы Лаврентьевича. Рваные ноздри, выбитые зубы его щербатого рта мешали ему говорить. Он шепелявил и гнусавил, но то, что он говорил, что он рассказывал было полно такого захватывающего смысла, что казаки, затаив дыхание, слушали его речь.
XXV Доклад о Сибири
– Лета 7075 года[33], по государеву и великого князя Ивана Васильевича всея Руси указу посланы были проведывать за Сибирь государств атаманы и казаки Иван Петров да Бурнаш Елычев… И с теми атаманами и казаками ходил я, – так начал свой рассказ Гаврила Лавтрентьевич.
Казался его рассказ затейливой, арабской сказкой из тех, что рассказывали казакам на Каспийском море персидские сказатели.
На Каменном поясе – Уральских горах – видел Гаврила Лаврентьевич самоцветные камни.
– Колупнешь ногою в камнях серый мох, а под мохом изумруд камень целым гнездом сидит. В скалах, бывает, в укромном, глухом месте – лиловым кустом раскинутся прозрачные аметисты – камень, что укрепляет память того, кто его носит. Зеленые, синие, розовые камни – такой красоты, какой нигде мы не видали, стоят там целыми скалами… А какой, братцы, лес! Кедровые деревья станут тесно и под ними, как в церкви, тишина… Сколько пушного зверя! Это, братцы, такое богатство, что, если умелому человеку за него взяться, – процветет Русская земля одними этими горами. Как можно храмы, иконы украсить этими камнями!
Много дней шли казаки землепроходцы через те великие горы, покрытые густым лесом и, перевалив через них, очутились в бескрайних сибирских, зеленых степях, где то тут, то там серебряными блюдами сверкали озера, полные рыбой, где стояли березовые рощи, а у тех рощ были идолы, священные вогульсие могилы богатырей и ханов, украшенные костями, звериными шкурами, цветными лентами, золотом и самоцветными камнями. Стерегли те могилы злые духи, и могли они напасть на человека и навести на него всякие беды.
По всей степи звериными тропками шли натоптанные конными людьми дорожки от одного татарского становища к другому, а настоящего шляха с царевыми кружалами – кабаками – там не было и не было там, как в Московском государстве, ямской гоньбы.
– Ох Бакана до Кумчаку-реки езды девять дней, – гнусавил Гаврила Лаврентьевич, рассказывая, как и сколько они шли. – От Кумчака иная река. Там в озере – цветной камень – и до того озера семь дней езды, а кругом озера на коне ехать двенадцать дней.
Ни Гаврила Лаврентьевич, ни жадно слушавшие его казаки не знали ни планов, ни карт, ни компаса, не мерили землю ни поприщами[34], ни верстами, ни милями.
В крепкой казачьей памяти их земля укладывалась вся со своими камнями – горами, озерами, лесами, реками и становищами. Страны света познавали по солнышку, и по звездам, и, не зная астрономии и движения небесных светил, – каждой звезде дали свое имя и знали место ее на всякое время года. Умели находить север по стволам деревьев, по мху на камнях, по полету пролетной птицы, по берегам рек. Не допытывались, почему это так, но знали твердо, что с южной стороны дерево гуще растет, стремится ветвями к солнышку, а с северной – мхом одевается, что горные скаты виденных ими Алатауских хребтов с северного края покрыты лесами, что у рек, текущих с севера на юг, западный берег нагорный, а восточный луговой, что по весне птица летит на север, а осенью на юг. Мерили землю днями конной езды, а за день проходили верст по шестидесяти.
И много сотен дней колесили казаки Гаврилы Лаврентьевича по Сибири. Определили ее края, и те края лежали – один в вечной ночи у Студеного моря, Ледовитого океана, другой – у Китайской великой стены и у Восточного моря, где край земли, где солнышко родится, а третий край – у высоких вечным снегом покрытых Алтайских гор, а за теми горами лежит песчаная степь, за тою степью великое царство Бухарское, а за ним индийский обезьянский царь живет и люди там ходят голые.
Давно закатилась луна и розовый рассвет играл красками на горах, а гнусавый голос Гаврилы Лаврентьевича все повествовал казакам о виданном. Он рассказывал о реке Оби с притоком прекрасным Иртышом, о Енисее, что больше и шире Волги.
– Ширше Волги! – шорохом пронеслось по казачьему кругу. – Мать честная, что же это за река-то будет…
Говорил Гаврила Лаврентьевич о громадной реке Лене, где в непролазной тайге, среди болот видал он ручьи, и в тех ручьях было чистое полновесное золото: самородки и песок. Рассказывал о реке Амуре.
– А по той реке лосось рыба, именуемая кета, идет стадами – тьмы темен. И вода точно кипит от ее ходу – идет поверху. Не удержишь – так идет. Лови хоть руками. И люди там от той рыбы все имеют – и пищу и одежду. Из рыбьей кожи выделывают себе платье. И то платье никакой дождь не возьмет. Езда там на собаках.
– Ах, ты!.. – срывался в толпе изумленный возглас. – Шут их возьми!.. На собаках… Вот черти!
– А ты это не шутейно говоришь, Гаврила Лаврентьевич, не голову нам морочишь? А?
Но Гаврила Лаврентьевич снимал шапку, крестился, доставал с груди черный кипарисовый крест и целовал его в доказательство, что говорит правду.
В казачьих головах шла работа. Прикидывался в ум свой казачий масштаб. Если с Раздорского городка на Дону легковая станица[35] шла на Москву сорок дней и проходила полцарства Московского, то во сколько же раз, то Сибирское царство было больше Московской земли! Выходило что-то чрезвычайно огромное. Упиралось в темную льдистую ночь, прикасалось чудесного Индийского царства с его обезьянским царем, уходило в песчаные степи.
– Д-да, земля! – вздохнул кто-то.
– Той земли, – сказал Никита Пан, – и сынам, и внукам, и правнукам нашим хватит.
– Воевать ту землю надо, – точно подсказал казакам Иван Кольцо.
И, отвечая на эту мысль, Гаврила Лаврентьевич стал рассказывать, что земля эта очень мало заселена, что живущее по ней остяки, вогулы, самоеды, чуваши на севере, киргизы, буряты и монголы на юге и на востоке своих постоянных городов не имеют, но кочуют с места на место, занимаясь скотоводством.
– А вояки совсем плохие. Огневого боя не знают. В лучном бою – искусники большие и стреляют из луков знатно, а в рукопашном сабельном бою больше галдят, чем бьются и такой толпой, что не приведи Бог…
Гаврила Лаврентьевич замолчал и жадно пил из оловянного кубка остывший в росной траве мед. Казаки тоже примолкли. Они за беседой не заметили, как прошла ночь. Светлый день наступал.
Каждый казак понимал, что не напрасно призвал Ермак Тимофеевич их на круг, что не ради пустой болтовни или арабской сказки заставил он рассказывать о скитаньях по Сибири своего лучшего есаула, побывавшего в мунгальском плену и там жестоко изувеченного. И все в напряженнейшей тишине ожидали, что скажет Ермак.
Ермак молчал.
XXVI На Сибирь!
Утро наступало. Звонче и больше становилось пение птиц в лесу. По реке прыгала, играя, рыба, и переплески волн будили в казаках какое-то смутное желание похода и деятельности.
Солнца не было. Был тот северный, весенний рассвет без теней, когда в олово отливает набухшая росою тяжелая трава и деревья стоят тихо, будто усталые от сна и только птицы поют наперебой, стараясь разбудить уснувшую за ночь природу.
Ермак медленно поднялся с земли. Сидевшие и лежавшие казаки встали. Над Ермаком в розовую краску ударил образ св. Георгия Победоносца, и тяжелыми складками, не шелохнувшись, свисало с древка зеленое знамя со Спасовым Ликом.
– Атаманы-молодцы, – сказал Ермак, – настало время нам исправить жизнь и заслужить перед царем московским его царскую милость. Заслужить великую славу казачью… Много крови на нас невинной… Грубостями на Волге мы занимались и через те грубости – сами, чай, понимаете, что заслужили…
– Топор да плаху, – вздохнул кто-то в казачьем кругу.
– Не первый год стоит наше славное войско на Дону оплотом от татар, от перекопского хана… Ныне, братцы, атаманы-молодцы, подлежит нам совершить настоящее казачье дело. Великое, честное и славное…
Атаман замолчал и испытующе оглядывал казаков. Солнце выплыло из-за гор и ярким светом озарило его крепкий стан, заиграло огоньками на медных бляхах панциря.
Точно раздвинулись дали. Синее небо в легких розовых облаках, горы, закрывавшие обзор, – все блистало в новом дне и точно звало в неведомые просторы казаков.
– Завоюем, атаманы-молодцы, Сибирь! – с воодушевлением, будто навстречу солнцу воскликнул Ермак. – Поклонимся тем царствам Сибирским от полночного края до Индийской земли – государю, царю и великому князю Ивану Васильевичу!!!…
– Самим обезьянским царем поклонимся! – сказал Иван Кольцо.
– Скажем царю-батюшке, – прости, государь, в чем согрубили тебе в прежние годы, и прими от нас царство Сибирское с нашими казачьими головами.
– Аминь, – сказал Никита Пан.
Ошеломленные, всего ожидавшие от таких больших приготовлений к походу, но не этого, казаки оцепенели и как один смотрели на восток, где, из-за лесистых гор, из далекой Сибири, выплывало яркое солнце. Оно будто звало казаков навстречу себе, влекло к месту своей колыбели.
Робкий голос раздался из толпы.
– Для такого похода, атаман, и казна нужна не малая… сзади, из-за спин впереди стоявших казаков, раздавались голоса.
– Войско великое, с воеводами…
– Малую Казань сто пятьдесят тысяч войска брало и то сразу не взяли.
– Наряд пушкарский… зелье…
– Справы нашей не хватит. Гаврила Лаврентьевич четырнадцать годов ходил по той Сибири… Поизносился…
– Всего нас восемьсот сорок считается, – сказал Никита Пан. – Не малое войско.
– И не большое, – запальчиво крикнул кто-то, прятавшийся за спинами других. – Меньше тысячи!.. Невозможное дело задумал атаман.
– Для Господа Бога все возможно, – вздохнул Семен Красный.
– Города рубить придется, караулы ставить – надо войско. Его нет, – сказал Матвей Мещеряк.
Все больше и громче шумел казачий круг. Казаки спорили друг с другом, но общая мысль была: «это невозможно!»
Ермак стоял, опустив голову, и точно не слушал круга, и думал свои думы. Наконец он поднял красивую голову. Под взглядом его больших прекрасных глаз опять смолкли голоса, утих войсковой круг.
– Обо всем, атаманы-молодцы, подумано. Обо всем решено у нас со Строгановыми. Как городками заняли они Прикамский край, так согласились и Сибирь занимать… Верите вы мне, атаману вашему, Ермаку?..
– Верим… верим… – глухо пронеслось по кругу.
– Любо ли вам идти со мною покорить царство Сибирское?
– Любо!.. Любо!.. Веди нас, атаман, – пронеслось опять ропотом.
– Так с Богом! В добрый час! – блеском глаз своих, удалым голосом, несокрушимою волею увлекая за собою казаков, воскликнул Ермак и быстрыми шагами вышел из расступившегося перед ним круга и пошел вниз к Строгановскому городку. За ним понесли знамена.
Казаки сбились толпою. Тут, там раздались выстрелы. Казаки стреляли вверх из пищалей.
– На Сибирь!.. На Сибирь!.. – кричали молодые и грозные голоса.
Шапки пестрою стаею полегли над головами. Возбужденная толпа шла, лихо ухая, по лугу и увлекала с собою Федю. Семен Красный обнял его за шею голой волосатой рукой, и дико топоча по земле ногами, орал во всю глотку:
– На Сиби-ирь!..
Федя шел с блестящими глазами. Случилось то, о чем в самых ярких своих мечтах никогда не смел он и подумать. Больше казанского подвига будет их дело!.. Он не ошибся в Ермаке, о ком мечтал с самого того рассказа Исакова, как ходил Ермак разведывать Казанскую крепость. И ведь хотелось чем-нибудь особенным заслужить перед Ермаком, совершить такой подвиг, чтобы обратить на себя внимание Ермака, чтобы ласково посмотрели на него эти страшные влекущие к себе глаза, а его голос – сказал бы ему слова похвалы и благодарности.
Федя не видел луга. Он видел у самого уже городка Ермака, уходившего со знаменами и видел, как вдруг набежавший утренний ветер широко развернул большое зеленое знамя, заискрилось золото и светлый Спасов Лик точно послал благословение казакам.
В тот же миг Ермак скрылся со знаменами в воротах.
За Федей кто-то молодым, звонким голосом пропел задорно:
– Ну, казаки, на коней! И айда! За славой!!!.Бешено и радостно лаял Восяй на дразнившего его шапкой Меркулова.
И все это казалось Феде таким солнечным, блистающим, радостным, ликующим, что этот день объявления похода на Сибирь запомнился Феде как яркий и светлый праздник.
XXVII На подвиг!
Ермак разбил свой отряд на сотни, распределил его по ладьям. Сотенными есаулами были назначены Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк.
По реке Чусовой, у устья которой теперь стоит г. Пермь, поднялись сколько возможно. Волоком перетащили лодки через Уральские горы к реке Туре и по ней спустились в речку Тобол.
Здесь Ермак заложил свою первую основу, построил Кокуй-город. В нем поставлен был отряд строгановских людей и установлена связь на ладьях и конными людьми с городом Канкором.
Зеленая ишимская степь развертывалась перед Ермаком. Лето приходило к концу, короче становились дни. Вечерело. Над Иртышом, в березовом лесу, дымились костры казачьего стана. Оттуда раздавался шум голосов, там начиналась и обрывалась песня, трещало дерево под топорами, ржали кони. На опушке леса было тихо. Федя стоял с Восяем на стороже и вглядывался в бескрайнюю ярко-зеленую степь. Она, ровная, расстилалась до самого озора и там, лиловея, незаметно сливалась с темневшим небом. И там, далеко, чуть дымили костры громадного татарского стана, и Федя знал от сторожевого казака, которого он сменял, что там был сам царь сибирский – Кучум.
Восяй насторожился, завилял хвостом и быстро обернулся. Сзади Феди послышался шорох раздвигаемых ветвей, и на опушку леса верхом на широкогрудом нарядном текинском коне выехал Ермак.
Он был в шапке-ерихонке и стальном колонтаре, при дорогой своей изукрашенной золотом и каменьями турецкой сабле, в простых посконных, мужицких портах и сношенных сапогах. Сильною рукою он сдержал порывавшегося на простор кровного коня и остановил его на опушке. Федя залюбовался Ермаком. Спускался тихий вечер и розовела зеленая степь. С бивака теперь ясно доносилась казачья песня, и хор подхватывал слова запевалы после каждого пропетого стиха.
– Ой вы, донские казаки, охотники, Вы донские, гребенские со яицкими…[36]Сердце Феди билось с неудержимою силою. Он смотрел на Ермака с обожанием. Ему хотелось теперь, сейчас, оказать какую-нибудь такую услугу Ермаку, чтобы он запомнил его, Федю, навсегда и приблизил к себе.
Ермак стоял и смотрел вдаль. Казалось, его взгляд шел дальше озора, прохватывал и то, что было в татарском стане Кучума.
– Если бы знать, что у них на душе теперь, – тихо, как бы про себя, сказал Ермак.
Федя услышал его слова. Он хотел слушать дальше, но из леса опять долетел веселый припев:
– Ой вы, донские казаки, охотники, Вы донские, гребенские со яицкими…Федя понял, что перед ним случай, который никогда не повторится. Он один, с глазу на глаз с Ермаком! Ему надо что-нибудь сделать! Федя мысленно призвал на себя благословение Божие и незаметно перекрестился.
Он сделал шаг к Ермаку и стал против него.
– Атаман! – сказал он, и голос его надломился и пресекся от сильного сердцебиения.
Ермак повернул голову на мальчика и нахмурился.
– Что скажешь, станица? – сказал он.
Песня опять донеслась припевом из леса и сбила все то, что хотел сказать Федя Ермаку.
– Атаман, – повторил он, и лицо его, загорелое и смуглое, потемнело от смущения.
– Я слушаю.
Ермак смотрел на Восяя, ставшего подле Феди и как будто старавшегося помочь своему хозяину сказать то, что он хотел сказать атаману.
– Дозволь мне пойти ночью в стан татарский и разведать, что у них на душе лежит.
Лицо Ермака прояснилось. Тихая улыбка на мгновение шевельнулась в углах его губ.
– Молод ты, станичник, и неопытен, – сказал Ермак.
– Дозволь, атаман, испытать мои силы… А что молод, – торопился, смущаясь, сказать Федя, – так и ты, Ермак Тимофеевич, чай не старше меня был, когда ходил в Казанскую крепость разведать, где стоит башня с порохом.
Выпалив сразу свою смелую речь, Федя растерялся и стоял теперь, опустив голову и теребя шапку лисьего меха.
– Чаю, был постарше тебя, – усмехаясь довольной усмешкой, сказал Ермак. – Который тебе год?
– Шестнадцать, – пробормотал Федя.
Ермак долго смотрел на мальчика и любовался его милым смущением. Потом быстро по-татарски спросил:
– Ты говоришь по-татарски?
– Да.
– Когда сменишься, приходи в мой шатер.
– Слушаю.
Ермак повернул круто лошадь в лес и быстро скрылся в листве.
* * *
В шатре у Ермака под иконою горела восковая свеча. Ермак сидел на ящике и о чем-то крепко думал, ероша густые седеющие волосы. Очередной казак пропустил Федю в палатку и задернул ее полы.
– А?.. Ты?.. – отрываясь от своих мыслей, сказал Ермак и быстро заговорил по-татарски.
– От пленного мирзы Таузака я знаю, что у царя Кучума сегодня ночью военный совет. Я отпустил Таузака, чтобы он на этом совете сказал, что мы за люди, и потребовал покорности. Я знаю, что войско, собранное Кучумом, во много раз превосходит мою дружину. Но – не в силе Бог, а в правде. Смелым Бог владеет. И мне, – понимаешь ты, молодой мой станичник и друг, – важно знать смелы ли татары? Или колеблется их сердце? Я бы мог послать другого, более старого казака. У нас многие говорят по-татарски… Но ты своею смелою речью мне полюбился. У тебя собака – их собака. Таких собак я на Руси не видал. Ночь едва наступила. Я дам тебе доброго коня, ты сейчас поскачешь к ним. У них есть сторожевые псы – они увлекутся твоею собакой и пропустят тебя. Ты прокрадешься к их самой большой юрге и будешь подслушивать, что там будут говорить. На рассвете будь здесь… Все мне расскажешь. Не боишься?
– Не боюсь, атаман.
– Добрый казак… Дай я тебя перекрещу… Родные, близкие есть у тебя?
– Были, атаман, и родные и близкие, была и невеста. На время похода вынул я их из сердца моего, чтобы они не смущали его. Вернусь – еще крепче полюблю их. А не случится мне живым быть – и их покой не надо смущать моею кончиной.
– Спасибо, станичник. Молодец!.. Воин царев – Божий воин и не след ему о земном думать. С Богом.
Ермак крикнул очередного есаула и приказал дать Феде лучшего коня из его атаманской сотни.
Еще через полчаса Федя мчался широким наметом по зеленой степи туда, где легким заревом светились костры татарского становища. Восяй поспевал за ним.
XXVIII Военный совет у Кучума
Ермак был прав. Татарские собаки засуетились было, но, признав в Восяе своего, а в Феде, одетом в татарский халат, – татарина, живо угомонились. Начавшийся было лай смолк и сменился собачьими любезностями, обнюхиваниями, облизываниями и дружным маханием хвостов.
Вероятно, татарские собаки расспрашивали Восяя. Что им плел про себя и про Федю Восяй – неизвестно, но, должно быть, плел что-нибудь забавное, потому что собаки кругом обступили его и сидели и лежали, глядя внимательно на пришельца…
Татарский стан полыхал кострами. Но была уже глубокая ночь. Костры догорали, и Феде было хорошо видно спящих подле них татар, им же – Федя это знал по опыту – со света в темноту не было ничего видно. С сильно бьющимся сердцем Федя неслышною тенью крался между костров в середину стана, где ярче горели огни и где слышалось ржание многих коней. Иногда кто-нибудь спросит от костра:
– Ким гелиор?[37].
– Улан, – ответит Федя и, охватив рукою рукоять ножа, скользнет во мрак и притаится не дыша.
У большой войлочной пестрой юрты было сбатовано около сотни богато поседланных лошадей. Татарские наездники – уланы с копьями стерегли их. Федя обошел сзади юрты и там, где не было костров, пополз по затоптанной траве к юрте. Он подполз к ее краю и чуть приподнял войлочную полу.
В очень большой круглой юрте чадно горели масляные, невиданного Федей устройства, китайские, должно быть, фонари.
Пестрые полы юрты то и дело распахивались, и в юрту входили богато одетые молодые и старые татары. В глубине юрты на вышитых золотом подушках сидел крепкий старик в богатой собольей шубе, крытой золототканным шелком. Он важно кивал головой входившему, отвечая на его низкий поклон. Федя догадался, что это Кучум. Военный совет еще не начинался. Кучум молчал. Глухое бормотание шло в юрте.
Наконец пола распахнулась последний раз и плотно задернулась. В юрте воцарилась глубокая тишина, Феде казалось, что он слышит биение своего сердца. Вцепившись руками в войлок, приникнув ухом к земле, он слышал теперь каждый шорох, раздававшиеся в юрте.
Тихо потрескивали фитили лампад. Вдруг громко икнул толсторожий вогул и испуганно заморгал глазами.
В эту тишину невнятным шепотом вошел гортанный голос Кучума.
– Мирза Таузак! – сказал он.
Из группы сидевших в юрте татар отделился нестарый, толстый татарин в широком коричневом азяме. Он поклонился в пояс Кучуму и приложил ладони ко лбу и сердцу.
– Мне говорили, мирза Таузак, – тихо сказал Кучум, – что ты видал каких-то неведомых нам людей, пришедших из-за Каменного пояса. Что те люди взяли тебя в плен и потом отпустили. Скажи нам, что это за люди?
Мирза Таузак поклонился еще раз Кучуму и заговорил ворчливым, точно лающим голосом.
– Те люди, бачка, страшные… Ростом великие. Глаза у них быстрые… Из луков своих они стреляют огнем и громом смертоносным. Летит тот гром дальнее стрелы, кинутой самым сильным лучником, ранит до смерти и всякие доспехи и тегиляи[38] пробивает насквозь.
– Ах-ха! – пронеслось шорохом по юрте. – Быть беде!
Старый мирза в темно-зеленом халате встал со своего места и торопливо заговорил шипящим старческим, беззубым шепотом:
– Были нам приметы и указания о том с неба. Мои подданные рассказывали мне, будто видели они этим летом город в небе. В том городе были христианские колокольни. А как с неба перевели глаза на Иртыш – глядят: стала вода в реке кровавой.
– Ах-ха!.. ах-а-а-ах, – раздалось по юрте. – Быть беде и неминучей.
Очень толстый татарин с черными усиками-стрелками на круглом, точно шар, полном лице, закачал головою и пропищал жалобным голосом:
– Видел я и мои люди, как Тобольский мыс выбрасывал золотые и серебряные искры… А мирза Девлетбай с Панина бугра, из города Бициктура[39] еще кое-что видал такого, что и сказать-то боится.
– Говори, говори, Девлетбай, не бойся, – сказал Кучум. – Мы все обсудим. Все сделаем на защиту нашего славного царства Сибирского.
Девлетбай, широкоплечей татарин, нехотя поднялся с подушек и сказал, недовольно оглядываясь на показавшего на него мирзу.
– Что пустое говоришь! По степи-то ездишь, мало ли чего не приметишь? Полна наша степь чудес.
– А ты не стесняйся, расскажи бачке, что видел и как виденное тобою тебе растолковали кудесники.
– Видел я: вот с Иртыша идет белый волк, а с реки Тобола, значит, черная гончая. И вот – схватились они. И гончая загрызла волка. Пошел я, значит, к шаманам[40]. Сказали мне те шаманы: белый волк – наша ханская сила, – а собака – Москва…
Кучум покачал головой. В юрте опять стало тихо и даже Федя ощутил, как трепет пробежал по ней. Смущенно поникли головами татарские старшины.
– Все это, – сказал Кучум, – пустые речи… Слова лукавые… Болтовня женщин, а не мужей доблестных достойная… Я знаю…
Кучум возвысил голос и повторил:
– Я знаю, как мало казаков. Наша же сила собрана достаточная.
Кучум встал, – стали подниматься и все татары.
– Царевичу Маметкулу, – строго сказал Кучум, – с пятью тысячами улан приказываю с рассветом идти на белых пришельцев. Разбить их!.. Прогнать за Каменный пояс!.. Истребить их всех до одного!.. Га!.. Гончая собака загрызла волка! Бабий бред… Стыдитесь!.. Идите, готовьте стрелы… Точите сабли… Огнем стреляют… Врать научились подлые собачьи души!..
Старшины и мирзы, пятясь, стали отступать к выходу из юрты.
Федя метнулся от юрты, хотел встать, наткнулся на какого то татарина, бежавшего с лошадью, чтобы подать ее мирзе, тот схватил его и крикнул:
– Держи его!.. Тут соглядатай?!..
Со всех сторон побежали люди. В темноте они сталкивались, сшибались, и в миг над Федей образовалась гора людей, то, что в детской игре называется «ма-ла-куча».
Кто-то кого-то бил, кто-то начальнически строго расспрашивал, кого поймали, и над Федей громоздились тяжело дышащие чесночным духом татары, и было видно, что никто в этой темноте ничего не понимал.
– Факелы сюда! Осветить огнем! – крикнул кто-то.
Куча зашевелилась, тяжесть, навалившаяся на Федю, стала меньше. Татары вскакивали и бежали к кострам. Освободившийся от них Федя побежал за ними.
XXIX Тамаша
Татары растаскивали костры, выхватывая головни. Мрак стал в Кучумовом стане. По всем направлениям, спотыкаясь о колья юрт, о коновязи, натыкаясь друг на друга, на лошадей, падая и вскакивая, метались татары. Головни в их руках носились, как громадные светляки. Потревоженные лошади ржали и прыгали, били задними ногами. Лаяли собаки. Кто-то, ушибленный в этой суматохе кричал и стонал, прося о помощи.
– Тамаша!.. Тамаша[41], – кричали кругом Феди бегущие татары, и уже никто не понимал, кто кого ищет.
Татары, пробегая мимо Феди, спрашивали его торопливо:
– Ты видал его?..
– Кого?
– Шайтана!.. Шайтан, сказывают, забрался в стан. – И бежали дальше.
Не думая о том, куда бежит, Федя стремился только скорее выбраться из татарского стана. Он пробежал мимо большого, полыхнувшегося от него табуна, и наконец темная влажная ночь обступила его. Сзади остались крики поднятого на ноги становища. Оттуда скакали по всем направлениям люди, посланные на поиски соглядатая.
Отбежав по степи около поприща, Федя лег и притаился в холодной и сырой траве. Где-то, шагах в трехстах от него, рысью, возвращаясь в стан, проехало два татарина. Они оживленно разговаривали.
– Ищи шайтана в степи, – говорил один. – Он тебе сусликом обернулся, в нору юркнул и был таков.
– Да никого, видать, и не было. Это Джемаледдину попритчилось так…
– Из-за одного человека весь стан всколыхнули, – отвечал другой, и оба скрылись в степи, направляясь к татарскому становищу, где красным заревом снова пылали раздутые и разожженные костры. Там продолжалась сумятица.
Федя приподнялся с земли и осмотрелся. Кругом была безбрежная тихая степь. Темная ночь была в ней. Небо сияло и переливалось бесчисленными звездами.
Если бы Федя умел, как казаки, по звездам определять свое место?! Если бы он умел примечать по ветру, откуда и куда он шел, – он знал бы, где искать стан Ермака. Но, когда скакал на разведку, не думал об этом. От быстрого скока лошади бил ветер ему в лицо, и он не заметил, откуда он дул.
Еще и еще раз огляделся Федя.
Кругом тьма. Погасли, видно, костры казачьего стана, или не видно их за березовой рощей. Отовсюду глядит чернота ночи, и отовсюду равно веет сладким духом осенней травы.
С рассветом царевич Маметкул с пятью тысячами улан пойдет на Ермака!.. Он, Федя, кому Ермак доверил такую важную разведку, не даст знать об этом Ермаку.
Двадцать поприщ[42] отделяло их станы, и Федя мог бы за ночь добежать и сказать Ермаку все то, что он услышал на военном совете Кучума. Ну, задохся бы, ну умер бы от утомления, но раньше сказал бы все это, такое важное для Ермака.
Татары колеблются… Татары боятся казаков… Они пугают себя разными страхами… Они смущены… Смелей Ермак – ты сотнями победишь тысячи!
Куда бежать?!..
Сердце мальчика разрывалось от тоски.
Обладать такою тайной!.. Так блестяще сделать разведку – и не иметь возможности найти в этой безбрежной степи Ермака! О! Если бы иметь такой голос, что сказать тут, а там Ермак услышал бы его?!. Но нет такого голоса!
Все было понапрасну. И опасность быть схваченным и разорванным на части татарами, и потерянная лошадь, и пропавший Восяй.
Слезы полились градом по Фединым щекам, когда он вспомнил о своем верном Восяе. Порвали его там в этой суматохе татарские собаки.
– Восяй?! – крикнул Федя, и голос его слабо замер в степных просторах.
Федя упал на колени и скинул с себя татарскую шапку. Наступит рассвет, выступит царевич Маметкул с конною ратью, рассыпятся по степи уланские дозоры и скоро заприметят одинокого пешего в степи. Поймают его. Куда убежишь от конных?.. Поймают, привяжут ногами к хвостам лошадей и пустят их в разные стороны. Разорвут пополам Федино тело те лошади.
– Ну что же? Он шел на это!.. Он, Федя, не смерти боится, а боится того, как же не скажет он Ермаку всего того, о чем он узнал в Кучумовом стане?!
Ану поколеблется Ермак? Испугается тысяч татарских и сдаст?!
– Пусть я умру, – повторял Федя, – но дай мне, Господи, раньше смерти сказать Ермаку: смелее! не бойся их силы… Они боятся тебя!..
Федя бил лбом землю.
– Пресвятая Богородица, помоги, Пресвятая Богородица, научи, ходатайствуй, проси обо мне Ты, Скоропоспешающая в людской беде, приди и скажи Своему Сыну!.. Явись за меня Ермаку и благослови его на брань…
Федя лежал лицом в росистой траве, уже ни о чем не думая. Он примирился с грядущею смертью. И перед нею он встал и несколько раз в разные стороны крикнул, позвав:
– Восяй!.. Восяечка!.. Восяйчик!.. Восяй!..
Тишина крепко лежала в степи. Мертвым сном спала бескрайняя зеленая пустыня, и замер в ней звук Федина голоса.
Ночь все шла. И нельзя было никакими силами остановить ее мерную, ровную поступь.
* * *
Знакомое, радостное повизгивание и шорох в траве от быстрого собачьего скока заставили Федю очнуться от тяжелого раздумья.
– Восяй!
Собака прыгала подле Феди, стараясь лизнуть в лицо, что означало крайний предел ее ласки. Всем видом своим, упругими изгибами мохнатого тела она как бы извинялась и оправдывалась в своем опоздании. Точно говорила:
– Ты думаешь, хозяин, мне легко было уйти от собак так, чтобы они не заметили, куда я пошел. Ты думаешь – это так просто? Они так полюбили меня! Они так хотели, чтобы я остался с ними! Пришлось сказать, что у меня в степи спрятана косточка и что я только сбегаю за ней. А как побежал – надо было заметывать следы. Я прыгал… Я петли делал, а сам все искал твой след… И вдруг услышал: ты позвал меня…
Но Федя не понимал того, что глазами, изгибами тела и хвостом торопливо рассказывал ему Восяй.
Федя был озабочен.
– Восяй, – сказал он. – Ермак!.. Понимаешь, Ермак… Ер-мак!.. Мне надо Ермака!..
– Ах только-то, – будто ответил, настораживая уши и внюхиваясь подвижными черными ноздрями в степную даль, Восяй. – Но это так просто! Иди за мной!
Восяй поскакал по степи, оглядываясь, точно зовя за собою Федю.
Федя побежал за Восяем.
– Скорей, Восяй, скорей, – говорил Федя и бежал бегом, как добрая лошадь бежит рысью, доверив свой путь Восяю.
Светлела ночь. Раздвигались дали.
Рассвет приближался.
XXX Бой с царевичем Маметкулом
Ермак, не выходя из шатра, всю ночь прождал Федю.
С рассветом он вызвал трубача и приказал поднимать казачий стан. Печальные звуки хриплой трубы понеслись по березовой роще с набухшими росою тяжелыми желтыми листьями. В утренний куталась степь туман. Невидная за ним река текла тихо. Чуть слышно было, как лодки ударялись бортами друг о друга.
В осеннюю, холодную, утреннюю сырость тяжело и неохотно поднимались казаки.
Глухой говор стоял над станом. Конные сотни раздавливали пущенных в табун лошадей, пешие казаки протирали покрытые каплями росы стволы пищалей, сушили полки, осматривали кремни. Задымили костры. В маленьких чугунах казаки варили похлебку.
Ермак пеший вышел на опушку леса. Он ждал того юношу, которого так беззаботно просто послал вчера вечером на разведку. Ермак все обдумал и все решил. Он не колебался. Но ему надо было знать, каково настроение татар. От этого зависело то, как он будет действовать.
Под густою пеленою тумана еще крепко спала степь. Туман спускался на землю. Вверху он прорывался, и там, как сквозь кисею, просвечивало лиловатое рассветное небо. Осенний день обещал быть ясным и солнечным.
На востоке стали пробивать золотые солнечные лучи. День наступал ветреный.
Ермак вздохнул: «Или обманул меня тот молодец?.. Или попался?.. Или в степи блукает?.. Неопытен… Напрасно, пожалуй, я послал его».
Он повернулся и бодрым шагом пошел в рощу.
У разобранного шатра его ожидали есаулы.
Ермак приказал Мещеряку с конными сотнями следовать за ладьями, укрываясь крутым берегом Иртыша.
– Ваш бой – сабельный. Когда мы опрокинем татар – вы их погоните.
Остальным сотням приказал садиться на лодки и подниматься вверх по Иртышу к столице Сибирского царства – Искеру.
Казаки разобрались по лодкам. Внесли на атаманский струг знамена. Гребцы сели на весла.
Река еще клубилась в тумане, высокие песчаные, обрывистые берега ее начали просвечивать. За ними алмазами росы блистала и будто дымилась степь.
– На воду! – приказал Ермак.
Весла ударили по реке, и, шелестя заигравшею волною, челны выдвинулись в стену тумана.
День наступил. Широко развернулись зеленые дали. Они то скрывались обрывистым берегом, то вдруг развертывались до самого озера. Солнце светило ярко, все выше взбираясь по голубому, безоблачному своду. Мерно раздавались всплески воды, разбуженной веслами, и ровный скрип уключин. Далеко сзади за лодками легкой, высокой пылью пылили сотни Мещеряка.
Степью вдоль реки шли редкие казачьи дозоры. Дозорный казак остановился, вгляделся в даль и поскакал к реке. Напружив зад и упираясь передними ногами, храпя от страха, побуждаемая сильными ударами плети к самой воде сползла лошадь.
– Атаман! – крикнул, маша шапкой, казак. – Татары! Видимо-невидимо!.. Вся степь пылит.
Казаки на ладьях бросили грести и стали вставать. Ермак рукою указал причалить и вышел на землю. Он поднялся по обрывистому скату и стал смотреть вдаль.
Озор был в золотом сиянии от легкой пыли, подымавшейся вдали. Искрами вспыхивали огоньки солнечных отражений на татарских копьях, доспехах и саблях. Глухой топот несся от тысяч конских ног. Земля гудела.
Хмуро и озабоченно смотрели на надвигавшуюся орду вылезшие за Ермаком на берег есаулы.
Казаки присмирели. Страшен был им бой с надвигавшейся громадной силой.
Лицо Ермака было сумрачно, но спокойно. Внимательно, из-под ладони он вглядывался в степь, и вдруг лицо его просветлело.
– Да помогите же, помогите ему! – крикнул он.
Есаулы и казаки, столпившиеся сзади Ермака, все свое внимание обратили на надвигавшуюся вдали и бывшую еще верстах в пятнадцати татарскую орду и не заметили бежавшего к ним по степи одинокого человека.
Человек этот бежал, видимо, из последних сил. Он падал, вставал и бежал уже не прямо, но делая петли.
– Григорий Недачин, – сказал атаман дозорному казаку. – Скачи к нему. Дай ему лошадь!
– Татарин, – сказал кто-то.
– Ну!.. Сказал!.. Да ведь это же наш Федор Чашник… И Восяй с ним, – радостно сказал Семен Красный.
– Откеля он?..
– С разведки! – строго сказал Ермак и быстро пошел навстречу к скакавшему на лошади Недачина Феде.
* * *
Федя упал к ногам Ермака. Он сейчас же пытался подняться, но силы его покидали. Мутнеющими глазами он осмотрел столпившихся подле него есаулов и, обращаясь к Ермаку, сказал слабым голосом:
– Татары боятся… Ночью… Кучума… совет… Я лежал под юртой… все слышал… Таузак сказал об огневом бое… Боятся пищалей… Рассказывали сны… Предчувствия… Их шаманы сказали: – Москва победит орду… Много их, а сила их… ничто…
Федя закрыл глаза и впал в забытье.
– Отнесите малого в мой челн, – приказал Ермак.
– Вы слышали? – обратился он к есаулам. – Как малый Давид победил великана Голиафа и с ним несметное войско филистимлянское, так и мы сокрушим татар! Начнем бой с ладей, пищальным огнем, а как собьем – Мещеряк со своими молодцами их прикончит. С Богом! На челны!
Золотисто-розовое облако пыли стало реже и выше. Татары пошли рысью. Вместе с гулом конского топота стали доноситься гортанные их крики.
– Ай-а!.. Гуа… га-на-на!.. Уа-а-ах! – неслось по степи.
Быстро росли всадники. Уже зоркие казаки различали кожаные коричневые доспехи татар, их мягкие, круглые, островерхие шапки, отороченные мехом. Кое-где блистали металлом щиты и тяжелые доспехи из стальных плиток, невиданной казаками работы. Пестроокрашенные пучки конских волос мотались под копьями. От строя татар отделялись, выскакивая, отдельные всадники и наметом скакали к реке.
Крики татар стали громче. Резко раздавались голоса начальников. Литавры забили, заглушая голоса.
Сотня Мещеряка укрылась за крутым береговым обрывом. Ладьи стояли в двадцати шагах от берега. Между ними, образуя плотную цепь, спрыгнули в воду казаки и стали, кто по колено, кто по пояс в реке. Пищали были заряжены. Одни казаки приладили их на сошках, распертых на борту лодки, другие положили на плечо товаририща-односума, третьи готовились стрелять, богатырскими руками уставив в плечо двадцатифунтовую рушницу.
Старый казак-монах Соловецкой обители и с ним два старика на атаманской ладье, под святыми знаменами, стариковскими голосами запели молебное пение.
– Пресвятая Богородице, спаси нас!
– Святый Великомучениче и Победоносче Георгий, моли Бога о нас!..
Казаки сняли шеломы, стальные шапки, бараньи папахи и собачьи треухи и крестились.
Татарская орда подошла к берегу. Начальники скакали вдоль нее, отдавая приказания. Алым пламенем сверкнули на солнце обтянутые красным сафьяном саадаки. Татары вынули луки. Туча стрел с приближающимся коварным свистом понеслась к реке и упала в воду, подняв засеребрившиеся брызги. Стрелы не долетели до казаков. Татары продвинулись ближе.
В то же мгновение вся линия казачьей цепи опоясалась густым белым дымом, сверкнуло яркое желтое пламя, и с резким воем полетели пули и жеребья по татарам. Грозный грохот, точно громовой раскат, прокатился над рекой и затрещал, эхом отдаваясь о крутые берега.
Татарские кони поднимались на дыбы и поворачивали назад. К гортанным крикам примкнули вопли о помощи и протяжный жалобный визг невидимо чем раненных татар.
Царевич Маметкул в сияющих серебром доспехах, в островерхом шеломе, на статном сером жеребце промчался вдоль строя, призывая к порядку. Новая туча стрел понеслась на казаков.
Выстрелившие из пищалей казаки сели на дно лодок и проворно засыпали из пороховниц порох, забивали войлочные пыжи, проталкивали пули и жеребья, насыпали под кремень порох.
Их место заняли другие казаки с готовыми пищалями, и новый гром поразил татар.
Маленькие пушки метнули ядра. – Орда смешалась.
Каждый татарин видел, что пришельцы из-за Каменного пояса были необычайные люди. Они знались с «ним» – с шайтаном – и дьявол им помогал. Они были громадного роста, силачи, богатыри. Отборные люди, молодцы-станичники, гулебщики по Волги пошли с Ермаком воевать Сибирь, и эти люди показались татарам страшными великанами.
Татарская орда повернула. Шагах в пятистах от реки царевичу и мирзам удалось успокоить татар и остановить их. Они устроились и понеслись полным скоком к реке. Точно хотели они спрянуть с обрыва в реку и самые лодки затоптать конскими копытами.
Крики стоном стояли над ордою. Копья, сверкая, крутились в руках у копейщиков, луки со стрелами были наготове. С размаху донеслись они до крутого обрыва и пустили отсюда стрелы. И так же покойно окуталась огнем и дымом казачья цепь, и пули и жеребья сразили еще многих татар.
Тогда, рассеиваясь по степи, пошли татары наутек.
Сотня Мещеряка бросилась за ними. В ней было без малого сто человек, татар было около пяти тысяч, но их охватила паника, и они неслись без оглядки по зеленой степи.
Казаки их настигали. Сильная рука заносила сабельный удар, и обезглавленное тело падало тяжело, точно куль муки, шлепаясь о землю.
И долго преследовали казаки, пока не стали сдавать уставшие лошади, не стали просить пощады татары.
Ермак пощадил пленных, дал им свободу и обласкал их. Он знал, как и чем купить сердца азиатов и как малыми силами завоевать Сибирь.
Покончив с пленными, перевязав своих раненных стрелами казаков, Ермак пошел вверх по Иртышу и в сумерках дошел до устья реки Тобола, где высадился на берег и устроил свой стан.
Все это время Федя в тяжелом не то сне, не то забытьи пролежал на дне ладьи и сквозь забытье неясно слышал грохот выстрелов, гортанные крики и протяжное молебное пение.
Очнулся он ночью. Над ним был холст шатра, освещенный свечою. Федя сел и увидел Ермака.
– Атаман! – воскликнул Федя. – Прости меня… Я совсем не помню, как забрался я сюда.
– Это я приказал тебя принести ко мне. Тот, кто показал себя храбрым, смышленым и неутомимым казаком, кто сослужил мне верную службу, – тот мой друг. Спасибо, Федор! Ты много мне помог в сегодняшней победе. Отныне ты будешь моим есаулом!
XXXI Мятеж в казачьем стане
Первая победа над конною ратью царевича Маметкула дала Ермаку много славы, но доставила ему и немало забот.
То, что увидали и испытали татары в этом первом бою с казаками, было так необычайно, невероятно и страшно, что от улуса к улусу, от ханства к ханству, из юрты в юрту пошла страшная молва: «Ермак знается с “ним” и “он” ему помогает». Нечистая сила вмешалась в людские дела и с нечистой силой нельзя было бороться. Огневой бой… Страшные раны, многие навылет от неведомого оружия, куски свинца и железа в ранах, грохот – все это не виданное никогда – было непонятно. И что могли противопоставить этому татары? Луки и стрелы? Копья и сабли?.. Ужас охватил сибирские племена.
Беспредельная степь ожила и заговорила. Все надежды татар были на громадное пространство их земли. Вогулы и остяки уходили при приближении казаков. Юрты снимались. Стада угонялись. Городки разрушались, и все, что можно было увезти, татары увозили с собою. Ермак не находил пропитания для своего отряда. Новые припасы от Строганова не прибыли. Старые сухари были съедены. Питались рыбой и мясом птиц и джейранов[43], которых находили в степи и убивали стрелами.
Приближалась сибирская зима. Утренники стали морозные, кругом был стеклянный иней и темная дымила в Иртыше вода. Кругом безлюдье и тишина осени. Казаки стали скучать и хворать. Смолкли песни. Хмурые, недовольные лица были кругом Ермака. При встрече с атаманом казаки не глядели ему открыто в глаза. Смотрели мимо него.
– Завел черт знает куда!.. А зачем?.. Очень нужна кому эта Сибирь!.. Говорили: золотое дно, а что оказалось! С голоду помирать, что ль?..
По берегам Иртыша пошли сосновые, еловые и кедровые леса. Природа становилась дикой. Скалы сменялись округлыми горами – сопками. В тесных ущельях балок густо рос дубняк и боярышник. Коричневый сухой лист звенел, обрываясь на ветру. Течение было быстрое, и тяжело было грести против него.
О Кучуме слышали, что он ушел в свою столицу Искер и недалеко от нее укрепился с несметным войском. Все вогульские и остяцкие князья собрались к нему. Посылал он будто и за Ишимскую степь, за Алтайские горы, поднимать киргизов на защиту Сибири от казаков.
Отряд Ермака таял. Из восьмисот оставалось немного более пятисот. Ермак упрямо шел вверх по Иртышу и, где считал нужным, закладывал городки, рубил избы, насыпал валы и оставлял там охранные отряды.
22-го октября 1581 года казаки заняли городок Атикмурзы, стоявший в трех поприщах от Искера.
Городок был пуст. Немногие глинобитные постройки были развалены. Каменные кошары[44] были полны овечьего помета. Нигде не было ни овцы, ни курицы, ни мешка зерна. Над берегом глухо шумел еловый лес. Глыбы гранита серыми скалами выбивались изо мха. Место было глухое и страшное.
По приказу Ермака казаки оставили лодки и вышли на берег. Они расставили атаманский шатер, снесли к нему знамена, себе построили шалаши из ветвей,
Молча сидели голодные казаки в лесу у костров. Морозило. Сильно вызвездило холодное, точно льдистое небо. Порывами налетал ветер и глухо шумел вершинами деревьев. С опушки было видно, как вдали заревом костров и огней пылал Кучумов стан подле Искера и, казалось, что слышен был неясный гул голосов, ржание коней, мычание и блеяние стад и рев верблюдов.
Когда Федя проходил по стану, он видел молчаливые хмурые лица. Никто не скажет Феде слова привета, не улыбнется, не позовет Восяя. Кто-нибудь поднимет глаза на Федю и проводит его тяжелым взглядом из-под лобья. От этого взгляда холодок побежит по спине у Феди и он невольно ускорит шаги.
Морозная ночь шла в мертвой тишине. В шатре Ермака мерцала, то вспыхивая, то угасая, лучина. Там собрались старик Гаврила Лаврентьевич, есаулы Иван Кольцо, Никита Пан и Мещеряк.
И там было тихо.
Ни вина, ни браги, ни меда у казаков давно не было. Пили студеную воду из Иртыша – и этим гулебщикам станичникам было скучно без хмеля, и в их бесшабашные головы шли мысли о тихом покое теплых хат, о доме, о покинутых соломенных городках на Дону, о пьяных кружалах на Волге и в Рязани.
Осточертела Сибирь, непонятная и необъятная.
Перевалило за полночь.
Вдруг по казачьему стану пронесли смоляные факелы.
– На круг… На круг!.. – раздались голоса.
– Кто приказал? – спрашивали кое-где, но звавшие на круг не отвечали и проходили дальше, негромко, точно потаясь, взывая:
– На круг!.. На круг…
Никто не шел к знаменам. Не слышно было распевно-звонких «есаульских» голосов. Все совершалось необычно, и Феде показалось: как-то воровски.
Казаки вставали от костров. Они пристегивали сабли, вздевали саадаки и колчаны и хмуро, медленно, точно с трудом отдирая ноги от земли, волоча пищали за дуло, шли к Ермакову шатру и сбивались недалеко от него кучами.
Федя вошел в их толпу.
Она была молчалива. Кто-нибудь скажет два-три слова, пустит ту мысль, что всеми владела, и замолчит, испуганно оглядываясь.
– Идти назад!.. Чего там… Довольно! Домой!..
– Не желаем воевать с татарами.
– Чтобы, значит, мир… и свободный пропуск на Каму.
– Вот-вот, гляди, реки станут. Сама зима! Какая тут война.
Факелы освещали хмурые и, ведь показалось, – злобные, зловещие лица.
– Подите к атаману, – скажите: войсковой круг требует атамана.
Но никто не шел к Ермакову шатру. Он был наглухо закрыт и было видно, как там, полыхая, горела лучина, отбрасывая на полотнища подвижные тени.
– Сказать атаману, чтобы вел назад… Повоевали и довольно.
– Ни добычи, ни славы!
– С голоду пухнем!
Грознее и громче шумел казачий круг, теснее сдвигался в лесу вокруг атаманского шатра. Факелы горели, треща смолою, и падали огромные, страшные тени в лесную чащу.
– Что в самом деле! Такого атамана и скинуть – вся недолга. Воля круга, – выкрикнул, выдвигаясь вперед, рябой, несуразный веснушчатый казак и сделал несколько шагов к палатке.
В то же мгновение разом, пошатнув шатер, распахнулись полы и из внезапно потемневшей палатки в свет факелов широко шагнул Ермак, сопровождаемый есаулами. Он был в броне и стальной шапке, при сабле, с тяжелым шестопером в могучей руке. Весь круг, как один человек, снял шапки. Мертвая тишина стала в лесу. Некоторое время так в полной неподвижности стоял Ермак против казаков.
Наконец он резко, рывком, кинул:
– Вы чего?..
Молчание было ответом. И опять в тишине точно остановилось напряженное время.
– Вы что здесь самовольно собрались?.. Какая такая нужда заставила вас ночью тамашу делать без моего на то приказа? – строго сказал Ермак и властными глазами окинул казаков.
Казаки потупились под его взглядом. Тогда рябой казак, вдруг оказавшийся впереди всех, стал говорить ни к кому не обращаясь.
– Воля казачьего круга: идти назад по домам… Сам с нечистым спознался – ему ничего… А мы дохнем в этой проклятой Сибири… Обрыдло… Мы воевали достаточно… Желаем идти назад на Тихий наш Дон. Такова воля бойцов! – он повысил голос и хрипло и напряженно выкрикнул. – А не то – скидывай атамана!.. Долой Ермака!
Ермак терпеливо выслушал несвязную речь казака. Он сбросил шелом и кинул его к шатру. Поседевшие кудри разметались по плечам. Ермак широко перекрестился.
– Сознался с нечистым! – усмехнулся он. – Татарские, бабьи россказни… Пустые речи… Так крестятся продавшие душу свою врагу христианского рода?
Он еще раз перекрестился и, вдруг сжав кулаки и откинув назад руки, весь порыв и движение, широко шагнул вперед и остановился против попятившегося перед ним казака.
– Такова воля бойцов! – грозно крикнул он. – Ты-то боец?! Я тебя, Ермолай Заяц, отлично знаю. По шерсти дана тебе кличка, презренный трус!.. В кашеварах весь поход был. Пороху не нюхал, сабли в руках не держал, а казаков мутишь!..
Смертельная бледность покрыла лицо Зайца.
– Я что ж! – хрипло сказал он. – Я ничего. Что люди, то и я. Воля народа!
– Взять его! – резко бросил Ермак.
Меркулов и Семен Красный схватили казака и под руки вывели из круга.
– Скидывать атамана во время похода! – грозно сказал Ермак. – Вы знаете чем это пахнет? В куль да в воду! Воля народа?.. Воля народа, что ли, бросать начатое дело?
Он замолчал и стоял против круга, тяжело дыша. Он ждал, что ему скажут казаки. Но они молчали. Наконец сзади кто-то несмело крикнул:
– Идти домой!..
– Домой… домой… домой!.. – загудели голоса.
Ермак ожидал, когда поднявшейся ропот утихнет.
– Домой?.. Назад?.. – тихо сказал он. И как только раздался нарочно притушенный его голос, на кругу стала напряженная тишина.
– Зачем?.. Идти назад через безлюдную и мрачную пустыню, которую мы только что с такими трудами прошли?.. Идти через горы, покрытые уже глубоким снегом?.. Идти пешком – потому что реки замерзнут, а коней нечем будет кормить в степи!
Ермак говорил это тихо с большою убедительностью. Казаки слушали его, опустив головы. В лесу была такая тишина, что слышно было, как далеко за лесом гомонила татарская орда.
– Идти назад, – повысил голос Ермак, – когда вот она, Сибирь, перед нами и наша! Еще одно усилие – и мы завершим великою победою наше славное дело… И мы смоем наши прошлые грехи… А если Бог судил умереть…
Ермак приостановился, и есаул Иван Кольцо весело договорил:
– На то казак и родился, что он царю пригодился!.. Помирать все равно когда-нибудь нам да придется. Не на постели же нам помирать, а в чистом поле.
– По местам! – сказал Ермак. – А Ермолая Зайца за его смутные речи, посадя в поле, забить стрелами насмерть..
И, круто повернувшись, шагнул в свой темный шатер.
Казаки, молча, расходились по шалашам. Было тихо в казачьем стане. Федя видел, как казаки озабоченно прочищали ружья, наполняли порохом пороховницы, лили пули и рубили железные жеребья. Тут, там слышался свистящий звук каменного бруска по сабельному клинку:
– Жжиг, жжиг!.. – и опять, – жжиг, жиг!..
И чей-то молодой, незнакомый Феде голос в тишине стана ясно и спокойно сказал:
– Если меня убьют, расскажи дома, как меня убили.
XXXII Бой у селения Чувашева
Утро наступило хмурое. Моросил мелкий холодный дождь. Ледяной ветер срывал последние листы с дубов. Сосны и ели печально шумели.
У Ермакова шатра появился старый трубач. Медная труба еще вчера черно-зеленая от грязи и ржавчины была ярко начищена, и сам трубач в чистой рубахе и сером заплатанном азяме выглядел молодцом. Он затрубил подъем. Хорунжие приняли знамена. Отец Досифей запел со стариками:
– Бог Господь и явися нам!
Кучум укрепился у селения Чувашева. Земляные валы и дубовые засеки было решено противопоставить силе казачьего огня.
Татары в восемь раз превосходили численно казаков. Но между ними не было единства. Остяцкие князья не ходили воевать. Киргизы не пришли. Маметкул с вогулами жаждал сразиться с казаками в чистом поле.
Когда в серой, парной завесе мелкого дождя татары увидали незначительный числом отряд Ермака, Маметкул приказал разметать засеки и вышел навстречу казакам.
Шедшие впереди Ермаковой дружины конные сотни Мещеряка и Никиты Пана развернулись широкою лавою, за ними устроились для огневого боя пешие сотни, руководимые самим Ермаком.
Татары с дикими криками в копья бросились на казаков. Казаки подпустили их на пятьдесят шагов и, круто повернув назад, поскакали, раздаваясь в стороны и открывая ставший наготове отряд Ермака. Оттуда точно гром грянул. Метнуло пламя, и визгнули пули. Татарская орда повернула назад. Казаки кинулись за нею. Они вскочили в самые засеки, за ними ворвались пешие сотни, и все перемешалось в рукопашном бою. Казаки были много рослее татар. Они, – одни закованные в броню, другие в овчинных крепких полушубках – подавались маленькими тесными кучками в толпы татар. И были их кучки, как подвижные крепости.
С хрипом падали сабли на татарские шеи. Казаки рубили головы до плеча и наводили ужас на татар. Схватившись руками, тесной стеною шли казаки, осыпаемые стрелами.
Федя шел при Ермаке под его знаменем. За ним, ощерившийся, с дыбом поднявшейся шерстью брел Восяй, готовый перегрызть горло всякому, кто к ним подойдет.
Бывалые были люди станичники Ермака. И на Волге, когда на абордаж брали персидские суда, и на Черном море на берегах Анатолии, где сражались с турецкими аскерами, и на Каспии, где видали персидских воинов, – они смотрели в глаза смерти. Но никогда не было у них такого неравенства сил. Рубили, били ослопами[45] палили из рушниц, стреляли из луков, падали сами израненные, мертвые, а татарская сила не уменьшалась числом.
Были мгновенья, когда казалась победа невозможной и напрасной борьба. Тогда оглядывались и видели: над горами трупов, по скользкой от крови земле медленно движется тяжелая икона св. Георгия. Рядом в сыром воздухе повисла зеленая хоругвь, и мягко светится в золотых нитях светлый Спасов Лик. И там увидят громадную широкую фигуру Ермака. В мокром стальном колонтаре, в высоком шишаке он тяжело шагает, и каждый взмах его сабли, как коса траву, кладет татар. Там увидят прекрасного юношу с румяным лицом и сияющими глазами и черного пса, бросающегося на татар со злобным ворчанием.
Оглянутся на них – и снова вперед, туда, где под конскими хвостами на палках, на возвышении стоит старый Кучум.
Прохрипит кто-нибудь:
– Мать честная Богородице, помилуй мя…
Скажет среди ударов прерывистым голосом казак:
– Дай рушницу… Пальну… Рука устала.
Небо потемнело от стрел. И не чувствуют казаки идет дождь или перестал. Холодно или нет.
Им жарко… Нестерпимо…
Все больше становилось алых рубах, стальных доспехов, светлых азямов среди гор татарских тел. Таяла в бою дружина Ермака. Не уменьшалась татарская сила.
* * *
Летописец, описавший этот бой 23 октября у Чувашева, отметил:
… «И бысть сеча зла; за руки емлюще сечахуся»…
* * *
Конные сотни Мещеряка и Никиты Пана, преследуя Маметкула, наткнулись на дружины остяцких князей.
Остяки, еще не принимая участия в бою, в ужасе толпились у Чувашева и смотрели, как казаки избивали вогулов. Мимо них на епанче пронесли раненого царевича Маметкула. Потом с дикими криками:
– Секут!.. Секут!.. – промчались, бросая копья, вогулы, и следом за ними показались конные казаки. Их появление было так неожиданно, а натиск так стремителен, что остяки, не приняв боя, кинулись назад, увлекая за собою охрану Кучума и самого сибирского царя.
Их отчаянные крики, вопли и визги смутили главное татарское войско, и в то самое время, когда казаки теряли последние силы, татары подались назад и стали отступать, очищая Чувашев.
Смерклось. Бой затихал. Иногда ударит где-то в сумерках рушница, раздастся придавленный стон, и опять станет казаться после криков и возни сражения тихо. Только все поле точно стонет стонами раненых и умирающих.
Уже в темноте прозвучала призыв труба ермаковского трубача.
Под стяг со святым Георгием медленно сходились казаки. Несли тела убитых. Их было 107 человек. Без малого четверть отряда потерял Ермак.
Ночью Ермак отошел на прежнее место к городку Атикамурзы.
* * *
24-го октября казаки хоронили убитых. День был морозный. Замерзшая земля обледенела, и неглубока была с трудом вырытая братская могила.
Отец Досифей со старцами отпевал умерших. Федя стоял сзади Ермака, широко крестился и слушал печальное пение.
Москва вспоминалась ему. Церковь Воздвижения и Наташа.
Так же, как там, надрывно пели старики:
– Житейское море, воздвигаемое зря, напастей бурею…
Русь Московская пришла в Сибирские пустыни и принесла свою веру.
Отец Досифей подошел к могиле, покадил пустым кадилом и сказал:
– Воины благочестивые, славою и честно венчанные.
Поднял с земли комок замерзшей глины и воскликнул:
– Земля бо еси и в землю отъидеши!
Потом был тихий, длинный день. Конные разведчики пошли в степь к Искеру.
Наступила ночь. В ее морозную тишину вошел далекий гул и треск арбяных колес, крики верблюдов и суета отступления. Шум, замирая, становился тише.
На утро, ясное и морозное, с сухим порхающим с голубого неба снежком вернулись разведчики и привезли радостное известие: Кучум поспешно оставил Искер, столицу Сибирского царства…
* * *
26-го октября дружина Ермака вступила в растворенные настежь ворота Искера.
Дул ледяной ветер. Он схватывал пучки соломы и сена, поднимал между домов пылевые смерчи и обжигал морозом зачугуневшие лица казаков.
В окнах домов бумага была порвана. Двери были растворены. По дворам и улицам валялись разбитые сундуки и короба, тюки, одежда, оружие, драгоценности, меха. Татары поспешно покидали Искер, бросая имущество.
Казаки нашли в городе богатую добычу, хлебные татарские лепешки, кумыс, битое мясо, скотину.
Они расходились по домам. Потянул кольцами и змеями белый дым из татарских труб, запахло соломенной гарью и жильем.
Веселее заговорили казаки. На башни полезли часовые.
Зеленое знамя со Спасовым Ликом зареяло на морозном сибирском ветру над главными воротами.
Отошла Сибирь к московскому царю.
К вечеру полетел, закружился со вдруг потемневшего неба снег. Степь забелела. Завыл сибирский буран, замел сугробами, все прибеляя, засыпая трупы татар у Чувашева, заметывая кровавые пятна.
Зимняя стужа настала сразу.
Все попряталось по домам. Чуть желтели окна от отблеска пламени в печах. Там отдыхали и отсыпались после подвигов казаки. С башен доносился грубый простуженный голос сторожевого казака.
Все одно было, что в Москве и Рязани, что в Орле или Казани, что в Канкоре у Строгановых, что в только что занятом Ермаком Искере – Сибири.
– Раздорскому на Дону городку слава!..
Пробасили на северной башне.
На южной ответили:
– Низовым черкасам слава!
Восточная башня отозвалась:
– Царской Сибири слава!
– Слава!.. Слава!.. Слава!..
Металась по ветру, подхватывалась бураном, уносилась в беспредельные сибирские степи великая весть о славной победе казаков Ермака.
XXXIII Дары Сибири
Все было покрыто снегом. Небо было синее, глубокое. Сибирский мороз трещал за домами. Изо всех труб хвостами вился к небу дым, и от этого дыма празднично и весело было на сердце у Феди.
Ермак ходил по избе. В горнице было тепло. Окна заклеили бумагой и исправили печи. Целый месяц занимался Ермак устройством своего отряда в Искере.
«Оконил», посадил на коней всех казаков. Далеко в степи послал есаулов оповестить татар о завоевании Сибири и о подчинении ее московскому царю.
С морозами стали возвращаться из лесов и степей мирные татары. Они посылали с поклонами гонцов и сами назначали дань. По приказу Ермака сдавали лучшее для посылки в Москву, Царю Иоанну Васильевичу.
Отдельные юрты и целые кочевья и городки посылали к Ермаку представителей заявить о верности Русскому Белому Царю и называли Ермака «правителем добрым». На сотни верст глухою зимою ушли казачьи отряды, приводя к клятве татар, устраивая охранные городки, ветвями и соломенными вехами, намечая в снежной степи будущие широкие шляхи.
Кучум от горя одряхлел, потерял зрение и с небольшим отрядом, одинокий скитался по Ишимской степи[46]. Оправившийся от ран Маметкул со своими уланами рыскал по степи, кругом Искера и захватывал одиночных казаков, заставляя Ермака быть настороже.
Весь дом Ермака был завален товарами, присланными от татар для отправки в Москву, в дар царю. По базам[47] стояли кони.
Ермак в собольей шубе подошел к Феде, переписывавшему за столом опись отобранного для царя, хлопнул Федю по плечу и сказал:
– А ну, читай, что пошлем с Иваном Кольцо для Москвы!
Федя встал с лавки, развернул длинный свиток и стал читать.
– Соболей темных шестьдесят сороков…
– По сорок шкурок увязывали?
– Так точно, атаман. Сам проверил. Все полностью две тысячи четыреста собольков, один другого краше. Таких в Москве и не видали. Таким соболям цены нет.
– Ну ты же знаток. Чти дальше.
– Черно-бурых лисиц – двадцать.
– Маловато.
– Да ведь каковы лисицы-то, атаман! Это не сиводушки, а черны, как ночь. Мех в синь отливает. А нежен как… Бобров камчатских – двадцать.
– Будет день, – задумчиво сказал Ермак, – когда казаки русские и на Камчатку заберутся. Мне рассказывал Бурнаш про Камчатку. Горы там есть дымные и течет из них грязь. Занятно те горы самому повидать… Ну, дальше что?
– Ларец березовый узорный, и в нем литого золота самородков восемь… По двадцать и тридцать золотников весом…
– Это только для начала… Так пусть и скажут. Богата золотом Сибирь…
– Ларец резной, мамонтовой кости, китайской работы и в нем – изумрудов пятнадцать крупных, аметистов камней восемнадцать.
Дверь в избу приоткрылась, впуская клубы морозного пара, и в нее заглянул казак в бараньей шубе.
– Атаман, – сказал он, – привели коней, что для царя отбирали. Пожалуешь смотреть?
– Постой, Федор. Пойдем посмотрим, какими конями поклонится Сибирь царю московскому.
Как гладкое серебряное блюдо, блистал утоптанным, крепким скрипучим снегом большой просторный двор. На нем собрались есаулы и казаки. Пять татар в теплых, наваченных халатах и круглых меховых шапках держали лошадей, накрытых дорогими пестрыми коврами. У крыльца на длинной лавке были разложены цветным сафьяном обшитые, украшенные бирюзою, лунным камнем, сердоликом и серебром конские узды.
– Ну, Слепый, похвались, каких коней достал по татарским табунам. Зовут тебя Слепый, а ты позрячее любого глазастого будешь. Где брал, рассказывай.
Тот, кого Ермак назвал Слепый, – невысокого роста, кривоногий, чернявый казак, весь заросший бородою и усами, с темным, точно чугунным, крепким лицом, скинул шапку с лохматой головы.
– Почти все кони Маметкуловых табунов. Он, сказывали мне татары, самый большой заводчик у них. Лишь первый конь пригнан из-за Ишимских степей, из-за верховьев Иртыша, из-за снеговых Алатауских гор. Особой породы-то конь.
– Ну, похвались, похвались… Скиньте ковры, подавай коней на посмотр!
Теснее обступили казаки круг, где татары водили, показывая Ермаку, лошадей. Они останавливались поочереди против Ермака, и Слепый докладывал Ермаку о породе и достоинствах коня.
– Мунгал – конь бел без единой отметины, – говорил он, когда против Ермака установили широкого серого[48] коня. – Ты погляди, атаман, – копыт у него какой, розовый совсем. Крепче сердолика камня. Нога короткая, широкой кости сбоку, а спереди тонкая. Спина с изгорбиной, а круп – хоть спать ложись. Семь лет коню, а побежка такая, что ни одна лошадь его обогнать не может.
– Наденьте на Мунгала голубую в серебре узду – так и подведете его царю. Давай следующего.
Татарин подвел к Ермаку прекрасного солового коня. На солнце он казался золотисто-розовым. Нижняя челка, грива и хвост были белые. Размытый, разобранный руками и расчесанный навес[49] сверкал на солнце. Конь не стоял и играл на месте. По спине и по крупу протянулся темный ремень. Три ноги были по щетку белые, четвертая – правая передняя черная. Прекрасные большие глаза косили на Ермака. Кругом зачмокали от восторга татары.
– Це… це… це… вот лошадь… ай-да лошадь!..
Казаки качали головами.
– Красота неписаная!
– Божие творение.
– Такому коню цены не сложить.
Дрожащим от радостного волнения, что так всем понравилась лошадь, докладывал Ермаку Слепый.
– Алтын – по-нашему Червончик… Эта масть, атаман, почитается у татар священной. Царская это масть. И такой конь – счастье приносит.
– Наденьте на него зеленую узду в золоте.
И как надели, еще больше залюбовались лошадью казаки.
– Дозволь, атаман, провести.
– А ну, проведи… Рыской.
– Не идет, а играет.
– Хозяина веселить.
– Сигает-то как!.. Ах ты…
– Да, только царю на ней и ездить.
– У кого другого такого коня увидал бы – ей-богу украл бы… Даже у тебя, атаман, – пошутил есаул Мещеряк.
– Сказано в писании: не завидуй, – усмехнулся Ермак.
– Про коня, атаман, в писании ничего не сказано. Там писано – ни вола его, ни осла его… Мне волов и ослов – без надобности.
– Ни всего, елико суть у ближнего твоего, – внушительно сказал атаман. – Давай дальше. Замерзнешь тут с вами. Мороз-то какой лютый!
На смену соловому стал светло-рыжий коренастый красавец…
* * *
После выводки Ермак с Иваном Кольцо и Федей вернулись в избу.
– Замерз! – сказал Ермак Феде. – Кусает сибирский мороз-то!..
Он скинул с лавки большой воловьей кожи кубический цибик.
– Ты мне сказывал – невеста у тебя в Москве есть.
– Есть и невеста, – ответил, краснея, Федя.
– Любишь?
Федя совсем спекся.
– Люблю, – чуть слышно сказал он.
– Ну сыпь сюда ей подарки от меня. Скажи – посаженым отцом твоим Ермак – донской атаман. Да кликни-ка, брат, Восяя.
Восяй, седой, от заиндевевшей на морозе шерсти, радостно оживленный, вбежал в избу. Будто спрашивал он: «ну что еще надо от Восяя? На что Восяй понадобился?»
– Ишь ты какой! Что бобер камчатский седой, – показал на собаку Иван Кольцо.
– Мороз всякого разукрасит, – сказал Ермак и подозвал Восяя к себе.
По лавкам были разложены дорогие мха.
– Ну, Восяй, – сказал Ермак, ласково гладя собаку по голове. – Ты своего хозяина любишь?.. Уважаешь?.. Как невесту-то твою, Федор, звать-величать? – спросил Федю Ермак.
– Наталья Степановна.
– Ты, Восяй, и Наталью Степановну знаешь? Ишь хвостищем-то своим завилял, замахал… Будто и правда понимает, о ком говорят.
– Он, атаман, слова понимает, – потупясь, робко сказал Федя.
– Ладно. Так ты и хозяйку свою будущую любишь? Эге! Глаза-то разгорелись… И пасть даже открыл… Ну-ка, Восяй, принеси для нее собольков.
Восяй в два прыжка был у лавки с мехами, схватил сверху соболей и подал Ермаку. Тот передал связку Ивану Кольцо.
– Клади, Иван, в цибик – это свет Наталье Степановне от меня на шубу сибирскую. А теперь, Восяй, тащи-ка нам лисицу.
Восяй кинулся к красным лисьим мехам, но Ермак строго окликнул его и показал толстым своим пальцем на дорогих черно-бурых, совсем почти черных лисиц, лежавших на низкой печи. Восяй понял указание Ермака и схватил прекрасный мех.
– И еще один! – пальцем показал Ермак.
– О, атаман! – простонал Федя. – За что меня жалуешь?
– Полюбился мне, за то и жалую. Это на воротник к той шубе. А теперь уже не по собачьей части. Возьми-ка вот тот темно-синий китайский шелк золотыми цветами тканный – это ей на отделку. Да вот это зеркальце из ханского дворца с гладким серебром и ларец березовый с жемчужным прибором…
– Атаман, – простонал Федя.
– Не каждый день, браток, казаки Сибирское царство берут. Было бы чем тебе и молодайке твоей попомнить нас и, когда умру, помолиться за меня. И, слушай, Федор! Оженишься и с войском, о котором прошу великого государя, поезжай обратно в Сибирь насаждать обычай русский, приветливою лаской в своей семье приучать и татар к Русскому православному обычаю. Так от Владимира Красное Солнышко, что сидел семьсот лет тому назад в стольном граде Киеве, повелось, что в новые страны шел с мечом богатырь казак, за ним инок с крестом, за ними купец и земледелец. Отцу Досифею наказал я по всем городкам сибирским церкви православные из кедрового леса рубить, да знатных монахов из Соловецкой обители, да от святого Сергия выписать, а тебе… Ты кем быть полагаешь – купцом или воином?
– Дозволь, атаман, по ратной мне части и дальше подвизаться?! За ратной честью пошел, хочу и сыскать ее.
– Ты, брат, ее уже и нашел! Есаул войсковой, а ныне испрошу у царя тебе сотницкий чин и сядешь ты со своею свет Натальей Степановной воеводою в каком ни есть новом сибирском городке. То и будет дело… Иван Кольцо! Ты за меня благословишь молодых иконою – Спасовым Ликом…
Ермак помолчал и добавил, опуская красивую голову:
– Все это тогда, конечно, когда царь наши старые грехи простит и примет наше завоевание.
Ермак встал с лавки и тихо, точно подавленный какими-то воспоминаниями, вышел из покоя и прошел в соседнюю клеть, где была его спальня и рабочая горница.
XXXIV Дома
Господи! как билось сердце у Феди, да, казалось, и у Восяя, сидевшего рядом с ним в широких розвальнях, было оно неспокойно, когда после трехмесячного тяжелого зимнего пути, вдруг из-за леса показалась на своих пяти холмах Москва белокаменная.
Заблистали на зимнем солнце беленые Кремлевские стены, купола церквей, высокие пестрые черепицы, покрытых золотистой и зеленой поливой в клетку крыш царских палат. И над всеми трубами кольцами вился, завивался белый дым. По синему небу розовые легли тучи. Деревья садов стояли в серебряном инее. И уже издали гудели, звонили к обедне московские колокола.
Шлях стал шире и люднее. Чаще стали попадаться «кружалы» – царевы кабаки – с елкой над крыльцом и санями обозов у деревянных колод.
Проехали городскую заставу, и Федя с казаком свернули по знакомым улицам к исаковскому дому.
Княжеский сад, несказанно прекрасный, стоял в белом зимнем уборе. Восяй спрыгнул с саней и наметом поскакал вперед. Федя отозвал его. Хотел он первым войти в ставший родным дом Исакова.
Ведь никто еще в Москве ничего не знал. Ни о завоевании Сибири, ни о славной победе казаков над Кучумом ничего не слыхали. Они первыми гонцами ехали к царю, и до них никто не принес о них никаких вестей о Ермаке-атамане.
То-то удивятся!.. Ну, поди, и обрадуются!
Год тому назад, почти в это время, нищим, с опаленным в пожарном пламени лицом въезжал сюда Федя на исаковских санях с пожарища… Давно ли? Под весну выехал отсюда с латышом, и вот теперь в ладной шубке, в шапке соболиной казачьим есаулом гонит он к невесте с подарками.
И какими!
Постучал щеколдой у ворот, придерживая за ошейник повизгивающего от радостного волнения Восяя.
Сердце билось и колотилось – выпрыгнуть хотело. Все ли живы, здоровы?.. Дома ли? Не уехали ли куда на богомолье?.. Или Боже упаси, не случилось ли беды какой! Все под Богом ходим! Лютует царь со своими опричниками. Невеселая что-то Москва… Может быть, в церковь убрались?
За воротами заскрипели по снегу шаги.
– Кого надо?..
Спрашивал жилец… Чужой незнакомый голос холодом обдал Федю.
– Доложи сотнику – есаул Федор Чашник приехал.
– Ладно… Доложу. Обожди малость…
Еще ждать?! Восяй выл от радостного волнения. Неужели свет Наталья Степановна не слышала и не признала того воя? Казак оправлял сбруйку на лошади, похлопывал руками в кожаных рукавицах.
Время точно остановилось. Стучало в висках. А за воротами по-прежнему все было тихо.
И вот хлопнула дверь. Откинулось на мороз окно, забрунжало тугою слюдою. Торопливые шаги заскрипели по снегу. Пробежал кто-то. Стукнул замок. Распахнулись настежь ворота.
И не разберешь, кто душит Федю в горячих объятиях, кого теребит Восяй, на кого бросается, точно с ног свалить хочет. И только тогда опомнился Федя, когда услышал равнодушный голос казака:
– Есаул, куда кошелку несть прикажешь?..
Тут уже все разобрались и стали понятны. Марья Тимофеевна, в шубе повисшая на шее у Феди, Наташа, держащая его под локоть и постаревший Исаков, что идет впереди и кидает жильцам приказания.
– Станичника принять… устроить… как своего!.. Лошадь завесть на конюшню, сена задать… Да сотника Селезнеева живо ко мне… Одна нога тут – другая там… И не говори, малый, кто приехал… Пусть подивится!..
* * *
Долго спорили, что раньше – вскрыть кошелку с жениховыми подарками, или слушать Федин рассказ, или бежать за отцом Георгием служить молебен.
И не утерпели – Наташа уже очень на этом настаивала – порешили все сразу. Жилец поехал санями за отцом Георгием, Селезнееву поручили вскрывать кошелку, а Федю усадили под образа и заставили рассказывать все с самого начала, по порядку.
И Федя начал свой рассказ с вероломства латыша.
Его рассказ часто прерывался ахами. Это Селезнев доставал из цибика мех и встряхивал его перед изумленными слушателями. Все вставали, щупали и гладили мех, и не было конца восторгам.
– Царский подарок… Ну и Ермак! Видно, крепко полюбил он тебя!..
– Продолжай, продолжай, Федор, – первый оборачивался от меха Исаков.
Когда дошел Федин рассказ до встречи с медведем и как Восяй пытался спасти Федю и сам чуть не погиб, и потом, как, спасая Восяя, Федя, все позабыв, с ножом кинулся на зверя, – все притихли. Селезнеев застыл над цибиком и слушал, как рассказывал Федя, как он свежевал зверя и питался им.
– Айда, Федя, Федя, – вырвалось у него, – съел медведя!
И свет Наташа, успевшая нарумяниться и подвести свои пухлые губки, радостно всплеснула ручками и повторила.
– Ну и Федя! Федя – съел медведя!..
Исаков погрозил ей пальцем и сказал притворно строго.
– Егоза! Еще и повенчаться не успела, а уже над мужем издеваешься!.. Я тебе, Федор, добрую плетку подарю… Стегать надо тебе жену… Учить уму-разуму, чтобы мужа почитала… Повесишь ее над своею постелью… Так-то, свет Наташенька!
Марья Тимофеевна поспешила на выручку дочери, сквозь румяна полымем вспыхнувшей.
– Сказывай дальше, Федя… Полно вам… Ярославич глупое слово сказал, а она, не подумав, повторила.
Но только Федя стал продолжать свой рассказ, как жилец доложил о приезде отца Георгия.
Засуетились приготовлять все для молебна…
– Только все это так, – озабоченно говорил Исаков, – а все надо подождать, как примет Ермаково посольство царь… Грозен он ныне.. Не было бы вместо радости – беды!
Когда входили в чистую горницу, где на накрытом белыми полотенцами столе были положены иконы и стоял сосуд со святой водой, мужчины становились вправо, женщины – влево. Собралась вся дворня и жильцы. Наташа улучила время, когда все затолпились в дверях и, схватив Федю повыше локтя, шепнула в самое ухо, жарко дыша:
– Ай да Федя! Съел медведя!..
Был тот ее смешок Феде как самая милая ласка!
XXXV Царская милость
Москва и царь Иван Васильевич приняли посольство Ермака с радостью. Царь и народ точно ожили. Так давно не было никаких хороших вестей.
При царском дворе бояре с восторгом говорили:
– Господь послал Руси новое царство.
Повелено было по всем церквам служить молебны и трое суток звонить в колокола пасхальным звоном. Так делали, когда была взята Казань и отошла к Руси Астрахань – в дни юности царя. Забылись неудачи шведской войны.
Ивану Кольцо и его посольству сейчас был назначен торжественный прием во дворце.
28-го февраля 1582 года, в Васильев день, царь Иван Васильевич слушал обедню в Успенском соборе.
После обедни в большой дворцовой палате был назначен прием казакам.
Иван Кольцо, Федор Чашник, Слепой и шесть станичников во время обедни были доставлены во дворец и разложили и расставили против царского места сибирские дары.
Царский стремянный и дьяк посольского приказа указывали Кольцо что, куда ставить и учили, что говорить царю. Кольцо слушал их с тонкой усмешкой на темном от морозных ветров и зимнего солнца лице. Он был чисто, но небогато одет в синей однорядке и скромном стальном «юшмане»[50], едва покрывавшем бока и грудь казачьего есаула. На юшмане были следы невытравимой ржавчины, и он был помят сабельными ударами. Старый матерчатый стеганный на вате тегиляй на Слепых был заплатан, а внизу пожжен и порван. Синий кафтанчик Феди был тщательно подштопан Марьей Тимофеевной и Наташей.
Станичники блистали только великолепным оружием. На Кольцо была драгоценная Маметкулова сабля, у всех казаков сабли в золоте и серебре.
Таков был приказ Ермака:
– Явиться царю в том, в чем бились с татарами.
Палата наполнялась.
Юноша царевич Федор Иоаннович запросто подошел к Кольцо и остановился, восторженно разглядывая казачьего есаула.
– Сибирь, сказывают, завоевали станичники, – сказал он, слегка заикаясь.
У царевича пробивалась по щекам молодая русая бородка. Жидкие волосы упадали до плеч. Он был от природы застенчив и скромен.
– Приехали, царевич, поклониться тем царством великому государю, – сказал, понижая голос Кольцо.
Ему все казалось, что в этих красиво убранных палатах его голос звучит слишком громко. Дубовый пол, хитрым рисунком в цветные шашки уложенный, был скользче льда на Иртыше. Старый станичник не знал, как называть царя, а советы дьяков посольского приказа не укладывались в его голове, занятой обдумыванием, что и как сказать царю, как выгородить Ермака и казаков.
– На дворе, атаман, – ласково сказал царевич, – глядел я коней сибирских. Сейчас мохнаты, ровно звери дикие, а весной отлиняют, я чаю, весьма красовиты будут. Гурмыз, Тайбун и Бимлей – понравились мне. Жалко батюшка теперь почти не ездит и царской потехой, соколиной охотой, перестал заниматься, а то бы порадовали его кони эти. Я думаю: резвы.
– Белый Мунгал самый резвый, – сказал Кольцо. – А что, царевич, разве недужен стал царь?
Царевич не успел ответить. По палате застучал боярин посохом. Шорохом пронеслось: «царь идет», – и полная тишина стала в палате.
Мутный свет солнечных лучей пробивался сквозь радугой игравшие слюдяные пластины и ложился хитрым бледным узором на сильно навощенный дубовый пол. От курильниц сладко пахло ладаном и розовой водою. Их перебивал терпкий запах мехов, разложенных по столам. От этого запаха и от волнения у Феди кружилась голова.
* * *
По широкому проходу раздались мерные шаги нескольких человек, и сквозь стук подкованных каблуков по полу слышна была чья то неровная шаркающая походка. Федя именно ее-то и услышал и понял, что то шел царь.
Федя стоял, вытянувшись, напряженно глядя на широко распахнутые двери. В них показались юноши, боярские дети, рынды в длинных белых кафтанах, расшитых золотом, в высоких шапках. Они шли по два в ряд и несли на плечах топоры.
За ними «в большом наряде»[51], поддерживаемый боярами под локти, шел царь.
Царю Иоанну IV Васильевичу шел всего 54-й год, но тяжелая болезнь, непосильное бремя царствования, вечная боязнь боярской измены, а последние годы, неудачные войны с Польшей, Ливонией и Швецией, потери земель, большою кровью и трудами приобретенных, сокрушили его тело, и он смотрел стариком. Золотая круглая шапка с алмазным крестом на ней, обшитая по краю соболем, давила изможденное в морщинах лицо. На плечах лежали тяжелые золотые «бармы» с иконами, и на них с шеи спускался большой четырехконечный крест с изображением Распятого Христа. Бледное лицо было изрыто глубокими морщинами. Длинный с горбиной тонкий нос прорезывал его. Седая бородка была неровна и жидка. И только в больших серых, бледных глазах еще сильно и ненасытно горел огонь жизни.
Тяжело опираясь на посох, царь поднялся на ступени царского места и уселся на нем, оправляя свой наряд. Он молча смотрел на казаков, и в его глазах светились восторг и недоверие.
Иван Кольцо и казаки с Федей, отбившее положенные по уставу поклоны, стояли против царя. Иван Кольцо, не мигая смотрел смелыми карими глазами в глаза царю.
– Сказывают… – раздельно и, показалось Феде, с какою-то злобною насмешкой, хриплым голосом сказал Иоанн, – станичники сибирские… царство… завоевали…
Кольцо сделал шаг вперед и, поклонившись до земли, откинув гордым движением головы назад седеющие кудри, сказал:
– Донской атаман Ермак Тимофеевич и с ним атаманы и казаки, повелели мне, атаману Ивану Кольцо, бить челом тебе, царь всея Руси, царством Сибирским!
Кольцо замолчал. Царь, опираясь на посох, опустив голову смотрел исподлобья на атамана. Было слышно сиплое государево дыхание.
Кольцо широким взмахом руки показал на столы, где были разложены сибирские дары и сказал:
– Приказал мне атаман поклониться тебе на первый раз образцами того, что производит и чем та Сибирь богата.
Царь равнодушным взглядом окинул разложенные по столам драгоценности и сказал стоявшему подле него боярину:
– Князь Василий Иванович, раскинь нам чертежи замосковских земель.
Боярин, имевший наготове большой свиток, развернул его. Стоявшие подле бояре держали его за края между царем и Иваном Кольцо.
– Ты, станичник, разумеешь чертеж читать? – спросил царь.
– Могу, ваше царское величество.
– Покажи мне, как завоевали вы Сибирь.
– Сейчас казачья дружина с Ермаком стоит в Искере… Послал Ермак землепроходцев вниз по реке Оби к Студеному морю… Вглубь – к Мунгальскому царству и за Ишимские степи – открыть дорогу к Аральскому морю для бухарских купцов… Одному Ермаку не управиться. Бьет челом Ермак, просит помощи: воевод… войска… наряда… Городки рубить… Ясак[52] накладывать… Разбои прекращать…
– Разбои!.. – прохрипел царь и гневно стукнул посохом в ступени царского места… – Мало разве разбоев чинят мне воры казаки на Волге?.. Не тот ли это Ермак, воровской атаманушка, что разбивал на Волге и мои военные корабли? А?..
Царь гневно застучал посохом и впился в глаза Ивана Кольцо.
Казак смело и гордо выдержал острый взгляд государя.
– Был я, царь, верным есаулом моему атаману с младых его лет. Вместе служили мы тебе, царь государь, под Казанью, вместе, что греха таить, гуляли по Волге. И в том тебе каемся, как отцу нашему, – смело сказал Кольцо.
Казаки поклонились царю до земли.
– Ну, – грозно сказал царь. – Дальше!
– Никогда, великий государь, мы не трогали твоих государевых, орленых[53] кораблей… Купчишкам, верно, карман потрошили… Без того, Государь, казаку не прожить и твое Царское дело не справить.
– Ну… ну!.. – еще строже сказал государь.
– Был у нас прошлою весною на Каме совет, круг войсковой… И на том на кругу порешили мы покаяться перед тобою, Государь, не словами, но делом. И те грубости, что делали мы на Волге, заслужить перед Русью и завоевать царство Сибирское!.. Бог помог нам, великий государь… Помилуй нас. Не вели казнить, вели миловать и прими царство Сибирское с нашими буйными головами.
Иван Кольцо говорил это воодушевленно, с подъемом, громко и просто.
Когда он кончил, во всей палате стало томительно тихо и слышно было, как, захлебываясь от удушья, хрипел царь, подавлявшей свой гнев. Он откинул посох и опираясь на подлокотники встал.
Его лицо изменилось. Гнев и насмешка сошли с него. Оно стало почти прекрасно. Расправились на нем морщины. Легкая краска появилась на щеках. Бывшие оловянными глаза заиграли стальным блеском. Вся душа Иоаннова, так редко проявлявшаяся, вернулась к нему и просветила и укрепила одряхлевшее тело любовью, добром и милостью.
– Мне понравилась, атаман, твоя смелая речь. Стал бы оправдываться, да лгать – не пощадил бы тебя за прошлое… Не терплю лжи… Люблю единую правду… – сказал государь.
Он перевел дух и продолжал говорить резко, чеканя слова, гулко раздававшиеся по палате:
– Грубости ваши прошлые на Волге.. прощаем… не помним… И о том будет наша Ермаку… князю Сибирскому… Ермаку Тимофеевичу… наша именная грамота!.. Жалуем мы того князя Сибирского нашим панцирем с золотым двуглавым орлом!.. Шубою со своего плеча!.. Саблею именною за покорение Сибири. Отвезешь все ему… Разрешаю тебе, пока ты здесь, набирать охотников заселять сибирское царство… На помощь князю Ермаку пошлю воеводу князя Семена Болховского и голову Ивана Глухова со стрельцами принимать от новопожалованного князя города Сибирские… В посольском и стрелецком приказах немедля исполнить мое повеление!
Царь, подхваченный под руки боярами, стал спускаться с царского места. Ему подали посох, Иоанн остановился, взмахнул посохом в сторону бояр и, тяжело дыша, заикаясь, гневно выкрикнул:
– Это не князю Курбскому подобно!.. Крамольники!.. Русский царь умеет казнить изменников и жаловать, хотя и заблудших, но верных слуг великой Руси… Учитесь… у… станичников!..
Царь пошел, ни на кого не глядя, из палаты. Бояре обступили казаков и горячо поздравляли их с монаршею милостью.
На дворе, залитом февральским солнцем, ржал нетерпеливо Мунгал, а сверху, с синего неба, неслись ликующие, пасхальные перезвоны, гнали во все дома радостную весть о покорении Сибирского царства.
XXXVI Опять в Сибири
После Пасхи, на Красную горку, торжественно, по старому обычаю, обвенчали Федора Гавриловича Чашника со свет Натальей Степановной, а красным летом он, в сотницком чине, с молодою женою поплыл на многих бударах со стрелецким отрядом воеводы Семена Болховского и головы Ивана Глухова обратно в Сибирь. Поплыл с молодыми и их верный Восяй.
Федя нашел Ермака в Искере.
Горячо и радостно принял Ермак рассказ Ивана Кольцо о царских милостях. Любовно осмотрел привезенный ему дорогой панцирь, надел его на себя, примеряя и прошелся по горнице.
– Точно по мерке делали, – сказал Ермак. – Как влит я в него. А тяжеловат немного… или… стар уже я становлюсь.
И задумался.
Федя, бывший в этой же избе, смотрел на Ермака с тихою грустью. Точно за это время разлуки переменили Ермака. Не было в глазах атамана прежнего, всегда так ярко горящего огня. Заблистали они, когда рассматривал он прекрасную чеканку золотого орла и клинок драгоценной сабли с выбитыми словами царского пожалования, и опять погасли. В волосах Ермака много стало седины, и борода была почти белая.
Не снимая панциря, присел Ермак на лавку, посадил против себя Ивана Кольцо и Федю и, положи руку на руку Кольцо, тихо сказал:
– Тяжелая, страшная вещь – власть, Иван. Это много тяжельше будет, чем воевать с басурманами…
И стал рассказывать.
– Не унимаются, Иван, татары. Он тебе и «таймыром»[54] прикинется, другом, братом станет, а камень за пазухой держит… То и дело гибнут казаки! Кучум с тоски и горя от потери Искера ослеп и скитается по степям, неуловимый для нас. Он везде строит козни против Руси и самых мирных князей настраивает против Москвы… Надо, Иван, ставить по степи города, проводить дороги, рубить засеки, чтобы было где у своих, у православных, отдыхать казакам.
Ермак вздохнул.
– Стары мы с тобою, Иван, стали. Пора нам на покой. В монастырь… В тихую келью… Грехи замаливать… О будущей жизни помышлять… Готовиться предстать перед Страшным судищем Христовым… Обдумать свои прошлые прегрешения, покаяться, просить пощады… Вот кому, – Ермак посмотрел на Федю, – вот кому наше дело продолжать! Молодым!!! Федор… Не покидай Сибири!.. Верь мне – как еще пригодится она Руси… Вот построим городки, и поставлю я тебя воеводой на самом краю, за Ишимскою степью, наблюдать шляхи к Аральскому морю. Оттуда бухарский купец к нам поедет. Надо ему охрану дать от кочевников… А мы с Иваном… На покой.
– Послужим еще, Ермак Тимофеевич, – сказал Кольцо, – царю-батюшке. После его таких великих к нам милостей нам нельзя уходить.
– Годика два послужим, – тихо сказал Ермак, – а там… на покой пора…
* * *
Тяжелые это были годы.
Летом Иван Кольцо с сорока казаками поехал гостить к мирному мирзе Караче. Там были скачки киргизских лошадей на резвость, киргизская «байга». Гонялись молодые киргизы за киргизом с бараньей тушей и старались выхватить ее у него, играли в «Двушку-волка», пели тягучие, гнусавые песни, объедались бараниной, без конца пили из плоских чашек забродивший, прозрачный, хмельной кумыс, братались с киргизами, дарили им оружие и на ночь полегли спать усталые и пьяные, среди татар и киргизов.
А на утро никто не встал. Всех – и Ивана Кольцо – зарезали во сне слуги Карачи, всем пришел «карачун»!
После своего злодейского дела Карача с большим войском осадил Искер. Не смея открыто напасть на Ермака, Карача окружил Искер засеками, обложил город и не выпускал ни конного, ни пешего. В Искере начался голод. Атаман Мещеряк с несколькими сотнями казаков пробился через татарские засеки, ушел в степи, а потом, неожиданно вернувшись, ночью напал сзади на Карачу. В жестоком бою оба сына Карачи были убиты, но немало пало и казаков. Ермак вышел из осады и с тремястами казаков прошел вниз по Иртышу до реки Оби, жалуя верных татар и казня бунтовщиков.
К зиме Ермак вернулся в Искер. Зима принесла новые беды. В Сибири не знали овощей. Ни капусты, ни бураков, ни моркови, ни лука, ни гороха, ни всего того, к чему привыкли у себя, в Москве, стрельцы, – в ней не было. Хлеба недоставало. Питались мясом. Суровая зима, плохие жилища, тоска по дому разрушали здоровье стрельцов. Среди них началась цинга. Пришлось прекратить работы по постройке городков.
Зимою 1583 года от скорбута умер князь Болховской, за ним последовал в могилу старый соратник Ермака есаул, Гаврила Лаврентьевич.
Никита Пан и Яков Михайлов пали в боях с татарами. Из старых есаулов оставался в живых Матвей Мещеряк, но и тот стал уставать.
Росли могилы на казачьем кладбище в Искере. Каждый день старый монах, отец Досифей, кого-нибудь хоронил. Много лежало казачьих тел в бескрестных могилах по сибирским степям.
Таяла казачья сила.
Чаще стал заглядывать в Федину избу Ермак. После смерти Гаврилы Лаврентьевича и Ивана Кольцо он приблизил Федю к себе. Часами рассказывал, как и что надо сделать в Сибири, как обходиться с татарами – точно хотел в него перелить свою мудрость.
Летом 1584 года слепой Кучум появился с ордою на реке Иртыше. Он запер путь бухарским купцам, ведшим свои караваны от Аральского моря на Ишим и по Ишиму на Иртыш.
Торговля с Бухарой прекратилась.
Надо было кончать с Кучумом.
XXXVII Смерть Ермака
Был август 1584 года, Федя сидел с Натальей Степановной на крыльце своей избы, и оба смотрели на Восяя, гревшегося на солнце. Вдруг Восяй насторожился, завилял хвостом и поднял голову.
– Кого-то своего учуял наш Восяйчик, – сказала Наташа.
– Не Ермак ли? – сказал Федя.
– Давно что-то не заходил к нам.
– Все татар, вогулов и остяков допрашивает. Допытывается, где Кучум.
– Тоска какая с Кучумом!.. Веришь, Федя, покоя нигде не найду, когда о нем думаю. Уж такой он ехидный, страшный. Чистая змея.
Восяй с радостным лаем бросился к воротам.
– Ну, конечно, Ермак! – сказал Федя. – Приготовь, Наташа, чем потчевовать дорогого гостя.
Калитка распахнулась и в нее быстро вошел Ермак. Он был в боевом уборе. Новый панцирь с золотым двуглавым орлом, подарок Иоаннов, сверкал на его груди. Шапка-ерихонка горела на солнце.
– Федор, – крикнул Ермак еще на порог. – Снаряжайся, едем ловить старую лисицу.
– На конях? – спросил Федя.
– На стругах. Все готово.
– Мне долго ли. Голому собраться – только подпоясаться, – сказал Федя. – Пожалуй атаман в горницу.
Посредине горницы уже стояла Наташа с большим подносом с кубками пенной браги и с блюдцами с различными сластями. Зарумянившись, она нагнула красивую голову в жемчужном уборе и сказала Ермаку.
– Дозволь, атаман, тебя чествовать.
Ермак взял чару. Федя пристегивал саблю и надевал широкий ремень с пороховницей и пулями.
– Я готов, атаман, – сказал он.
– Куда это? – чуть слышно вымолвила побледневшая Наташа.
– Лисицу ловить, Наталья Степановна, – бодро сказал Ермак.
Наташа уронила поднос. Кубки покатились по земле. Рассыпалось печенье.
– Надолго? – спросила она.
– Поймаем – вернемся, – сказал атаман.
Федя не узнал его голоса. Слова были бодрые, но сказал их Ермак как-то не по-своему, тихо и как бы неуверенно.
– Сейчас? – прошептала Наташа.
– Мешкать нечего. Гребцы на веслах, – сказал Ермак и пошел к дверям.
Восяй бегал, чем-то озабоченный, то к стоявшей неподвижно с опущенными руками Наташе, то к Феде.
Точно он не знал, с кем ему быть? При ком он нужнее.
Ермак с Федей выходили за ворота.
– К ним! К ним иди, – показывая рукою на уходивших, сказала Наташа. – Восяй, береги мне Ермака и Федю!
Собака жалобно визгнула и помчалась за Федей.
* * *
Пять суток гребли казаки на легких челнах вверх по Иртышу. Их было всего пятьдесят человек. Немного, но отборных молодцов взял с собою Ермак, чтобы прикончить Кучума. Старый царь Сибирский был неуловим. Казаки выходили из лодки, брали у мирных татар лошадей и искали Кучума в степях.
Он был где-то близко. Все говорило о том. И тревоги татар… И пустые юрты, – значит, ушли татары вместе в Кучумом, и оброненная стрела, и еще горячие следы костров.
Казаки были измучены… Бессонные на веслах ночи… Днем поиски под палящим солнцем… Иртыш тек в теснинах, был быстрый и порожистый. Берега поросли густым лесом. Громадные камни-валуны, обточенные водой, были по берегам. Глухо шумела подле них река.
5-го августа поднялся на реке сильный ветер. Темные тучи спустились над лесом. Вдали играли зарницы. Гроза надвигалась. До вечера то шли на веслах, то тащили челны берегом, минуя пороги.
– Не можем больше, атаман, – сказал, бросая весла, загребной казак на передовой атаманской ладье.
Ермак посмотрел на него тусклым взглядом и тихо сказал кормчему:
– Правь к берегу!
Федя с удивлением посмотрел на Ермака. Никогда раньше не прошло бы так даром казаку его самовольство. Никогда не потворствовал Ермак человеческой слабости.
Бывало крикнет: «Хоть сдохни, а греби!..» – да так крикнет, что мороз подерет по коже, и точно удесятерятся казачьи силы.
Челны приставали к реке. Их вязали к темным корчагам. Казаки входили в лес и наскоро рубили шатры из ветвей. Гроза приближалась. В быстро наступившей темноте глухо шумела река.
Ермак сидел под деревом.
– Атаман, – сказал Федя, – ты бы снял панцырь. Тяжело тебе, поди, в нем.
– Не панцырь тяжел, – сказал, проводя ладонью по лбу, Ермак, – а тяжела забота… Плохо… Федор… Ослабели людишки… Какой от них прок!..
И первый раз, кажется, не пошел Ермак сам осмотреть сторожей, Федя пошел за него. Все казаки спали. Никто не остался сторожить. Вернувшись, Федя нашел Ермака все так же в панцире сидящем под деревом.
– Атаман, – сказал он, – казаки не выставили охраны.
– А… – промычал Ермак. Он, казалось, засыпал… – Устали очень, родные.
– Ты бы атаман, доспехи снял!
Ермак не ответил. Он, как бы отталкивая что-то, провел рукою. Он уже спал.
Восяй был беспокоен. Он убегал куда-то, возвращался и жалобно скулил.
Воробьиная, черная, наступила ночь. Страшно шумел лес.
Кучум, давно следивши за Ермаком, подкрался ночью к казачьему стану и переправился через Иртыш.
С большим войском он остановился в трехстах шагах от того места, где спали казаки, и не смел на них напасть. Посланные им разведчики донесли, что все казаки спят.
– И Ермак спит? – спросил Кучум.
– Спит и Ермак, – ответил татарин.
– Не может того быть, – тихо качая лысеющей головой, проговорил Кучум. – Я знаю Ермака. Не станет он спать в такую ночь. Поди, бродит по стану и стережет покой своих казаков. Таков его обычай.
– Спит и Ермак, – повторил вогул разведчик.
– Ступай и докажи мне, что он спит!
Вогул удалился.
Дождь лил широкими потоками. Гроза бушевала над лесом. Сухие ветви летали с деревьев и щелкали о стволы – точно стреляли из пищалей. В блеске молний вдруг вставал озаренный лес, и, казалось, дубы качались от ветра.
Как змеи, ползли по траве вогулы. Тих был казачий стан, и только у реки сердито лаяла, заливалась собака.
Вогулы подкрались к крайнему ружейному козлу и утащили три пищали с пороховницами.
Когда они со своею добычей вернулись к Кучуму, старый хан решился. Под покровом бури он развел остяцкие, вогульские и киргизские отряды, окружая казачий стан и отрезывая его от берега, и приказал перерезать всех казаков сонными.
С ножами в зубах, с саблями за поясом тихо крались татары к казачьему стану. И, когда стихал на мгновение ветер и, удаляясь, смолкали раскаты грома, было слышно, как шелестела под тысячью крадущихся людей высокая, мокрая осенняя трава – шиль… шиль… шиль…
Никто не кашлянет. Не слышно дыхания людей, и только шелестят подоткнутые за пояс набухшие водой тяжелые халаты – шиль… шиль… ши…
* * *
Восяй неистовствовал, стараясь разбудить Федю. Он кидался на него с визгливым лаем. Упрек и недоумение, порою, гнев и брань были в его лае. Наконец он хватил Федю зубами за ворот и так стал трясти, что голова Феди моталась по хворосту и шапка свалилась Федя проснулся, раскрыл глаза. Точно еще продолжался страшный сон. Молния блеснула над лесом, зарокотал, удаляясь, гром, и в мгновенном света Федя увидал множество татар с ножами кидавшихся на спящих казаков. Он вскочил на ноги и выхватил саблю из ножен. Он сейчас же увидел Ермака. С десяток татар навалилось на него. Ермак стоял, прижавшись к дубу, и тяжко падал его закаленный булат по татарским плечам. Федя бросился на помощь. Татары оставили Ермака.
– К ладьям, братцы! К ладьям! – хриплым голосом крикнул Ермак.
И прянул с обрыва к реке. Федя прыгнул за ним.
Ветер гнал черные тучи. Дождь перестал. Открылось в небе окно, и месяц заглянул в него, засеребривши волны. Река вздулась и кипела, выходя из берегов. Далеко на ней колыхались челны.
Ермак бросился в воду, Федя и Восяй поплыли за ним.
Федя видел, как сверкнул на месяце панцирь Ермака и исчез… Месяц скрылся и снова полил дождь. Федя доплыл до лодки и влез в нее.
– Атаман! – крикнул он.
Ветер сорвал его крик. Мерно шумели дождевые струи по темной реке.
– Тимофеич!.. Сюда!..
Никто не отозвался.
– Восяй! Ищи атамана!
Собака, точно поняв, в чем дело, бросилась в воду и исчезла в мраке. Федя сидел на лодке. Мокрая одежда холодила тело. Ветер пронизывал насквозь. Никто из казаков не появлялся на берегу. Ликующий вой татар сказал Феде, что все кончено. Он ждал Ермака. Темные струи неслись мимо, ветер и течение натягивали причал, и он скрипнул у кормы. У Феди кружилась голова.
Из воды показался Восяй. Он тяжело плыл к лодке.
– Ермак, – крикнул Федя. – Восяй, ищи, ищи атамана!.. Ермак!.. Ермак!
Восяй повернул и поплыл по реке. На востоке, за лесом светлели дали. Громы уходили к горам и ровнее шумел дождь. Ни Ермака… Ни Восяя не было.
Стали видны беснующиеся на берегу татары. Они искали Ермака… Они увидали в ладье Федю. Свиснули стрелы. Несколько человек бросилось к воде. Федя взмахом сабли перерубил канат и челн понесся по течению. Федя поднял парус, и подгоняемый ветром челн стал быстро уходить от места боя.
В бледном рассвете стала видна вся река. Федя, стоя, правил веслом и вглядывался в волны. Ему показалось, что он увидал темное пятно… Это был Восяй. Он плыл кверху брюхом – мертвый. Федя хотел вытащить своего верного друга. Но снова зашумели стрелы и забрызгали кругом по воде. Татары гнались за челном.
Свежий ветер и сильное течение уносили Федю от татар. Уже не долетали до него стрелы. Стали казаться маленькими татары, наконец исчезли за поворотом реки.
Хмурый дождливый, осенний день наступал.
Под серым навесом туч бесконечно печальной казалась Феде Сибирь.
XXXVIII Покинутая Сибирь
После двухнедельного скитанья по степям, пользуясь услугами мирных татар, Федя прибыл в Искер.
Он застал большой переполох в столице Сибири. Там уже знали о гибели Ермака.
Казаки пали духом. Они повторяли рассказы остяков о смерти Ермака и о том, что было после. Федя узнал, что 13-го августа тело Ермака было прибито волнами к берегу у деревни Епанчинской в двенадцати верстах от городка Абалака. Татарин, по имени Яниш, ловил рыбу и заметил в реке чьи-то ноги. Он зацепил их веревкой и потащил. Показалось тело, закованное в железный панцирь, украшенный бронзой с большим золотым орлом на груди. Яниш сейчас же по этому панцирю узнал Ермака. С громкими криками радости он побежал в селение и рассказал о своей находке.
Весть быстро распространилась по степи. Прискакал мирза Кандаул с конными остяками. Он приказал снять с Ермака панцирь, тело Ермака подняли на столб и установили как цель для стрельбы. Со всей степи съехались к телу донского витязя татарские князья. Приехал и торжествующий Кучум. Шесть недель продолжалась гульба и пиры около тела, и татары пускали в него стрелы. Не могли достать живого – тешились над мертвым.. Но потом им стали мерещиться виденья, и они устроили торжественные похороны Ермаку. Его прах зарыли под сухою сосною на кладбище мурзы Белгиша. Пошла по степи страшная молва, что по ночам над могилой Ермака виден огненный столб. Тогда татары отвезли шлем Ермака к идолу в Белогорске, панцирь взял себе мирза Кандаул, одежду – князь Сейдек, а саблю с поясом – мирза Карача.
Все эти рассказы, и все, что делалось с останками Ермака, становилось известным в Искере через приходивших из степи людей, расстраивало казаков и стрельцов.
– Что же нам делать, – говорили казаки. – Ермака нет… Царских воевод никого не осталось. У нас и припасы и запасы все вышли. Нам ни есть нечего, ни воевать не с чем. Москва ничего нам не посылает… Пора по домам!
А как стало слышно, что Кучум, Сейдек и Карача скликают войска, чтобы идти на Искер, оставшийся за атамана Матвей Мещеряк собрал из городков казачьи части и выступил с ними к Уральским горам.
Шел с ними и Федор Чашник с Натальей Степановной. С грустью расставался он с Сибирью. Там осталась память о великой славе его, заслуженной на царской ратной службе с Ермаком, там осталась дорогая Ермакова могила, и, что греха таить, – сжималось сердце и по милому дорогому Восяю, отдавшему свою маленькую собачью жизнь по Фединому приказу для спасения Ермака.
Имеют таинственную силу дорогие могилы, и тянет к ним.
Федор Чашник дошел с казаками до строгановского городка и там остался зимовать. Казаки пошли на Дон.
Весною 1585 года через строгановский городок пошли на Сибирь запоздалые подкрепления. Воеводы Мансуров, Сукин и Мясной шли с большою ратью продолжать дело Ермака. С ними пошел к дорогим могилам Федор Чашник. В 1585 году поставили город Тюмень, а через два года крепко заложили города Тобольск, Пелым, Березов, Сургут, Тару и Нарым.
Сибирь занималась прочно.
XXXIX В сибирском городке
Прошло много лет. В Москве скончался 18-го марта, в Кириллин день 1584 года, царь Иоанн IV Васильевич. После царствования его сына Федора Иоанновича и потом Бориса Годунова – смутное наступило на Руси время. Брат пошел на брата. Поляки, и шведы устремились на Москву. В боях с ними пали смертью храбрых престарлые Исаков и Селезнеев. Умерла в те страшные годы, старой старухой от голода Марья Тимофеевна. Поляки, занимавшие дом Исаковых, сожгли его. Много лютых бед перенесла Москва. Видала чаны с человеческим мясом, видала людей, похожих на тени, видала злобу, казни и пытки.
Все эти годы, почти ничего не зная, не слыша о том, что происходит в Москве, прожил с семьею на границе Ишимской степи в маленьком городке Федя.
Впрочем, какой же это был Федя? У Наташи и язык бы не повернулся сказать: «ах ты, Федя, Федя, съел медведя»!
Крепкий и кряжистый, седобородый, рослый старик был Федор Гаврилович Чашник, лихой атаман сибирского городка. Старики сибирские говорили, что он лицом напоминал Ермака. А науку его превзошел в совершенства. Был ласков с мирными татарами, неукротимо жесток с хищниками и разбойниками. Держал порядок по своей линии до самого Аральского моря.
Трое сыновей – и все уже женатые – были при нем есаулами. Троих схоронил в степях. Дочь меньшую, Марьяну, недавно отдал за татарского князя, принявшего православие.
Как выйдет с семьею в воскресный день, чтобы идти в высокую бревенчатую церковь, – залюбоваться можно! Сам в светлой броне, в суконном кафтане, свет Наталья Степановна в шубе соболиной, Ермаковом подарке, с широким воротом черных лисиц, рослая, полная, седая, белолицая, что пава плывет. А за ними сыновья с женами, дочь с мужем. Чинно, по старшинству, медленно идут под дребезжащий звон старого колокола. Новый давно заказали в Москве – да Смутное время задержало доставку. Какое оружие на сынах! Какие доспехи! Какие меха, щелка, да бархаты на их женах – все сибирячках! А за ними – второе поколение идет – внуки! Старшему Феде – уже шестнадцатый год пошел… Поглядывает на него дедушка. Думает, не пора ли его снаряжать к Восточному морю-океану, царю Михаилу Федоровичу новые земли разведать?..
Но и то сказать, это благополучие, эта радость тоже не даром дались. Есть что вспомнить свет Наталье Степановне.
* * *
Сибирский Ермаков городок… Бревенчатый. низкие стены квадратом… Башни по углам… К башням поделаны земляные подъемы – апарели. На башнях пушки. Над воротами желтый прапор треплется ветром… Синее небо без облака. Высокое, далекое и точно чужое… В городке ряды низких изб – казачьи покои. Посередине изба побольше – в ней живет атаманская семья Чашников. Между казачьих покоев площадь, и на ней церковь.
Пыльно… Безлюдно… Нигде нет ни деревца, ни куста. Поднимет свет Наталья Степановна утром волоковое окно… В раскрытые ворота степь видна – без конца и без края. Чуть темнеют по реке Тургаю камыши.
Там тигры… кабаны… И еще лютее тигров и кабанов там немирные кочевники, нападающие на караваны… Редкий месяц пройдет без боев. Редкий месяц не хоронят на погосте стрелою сраженного казака.
В городке никого… Ветер завывает по пыльной площади смерчи. Душен весенний воздух. И муж – Федор Гаврилович – и сыновья давно ушли провожать бухарские караваны.
Благополучны ли?
В розовом мареве дрожит степной озор. Поднялась там золотая пыль. Народилась и стала слышна так знакомая песня.
Мальчик внук – сын меньшого – прибежал с площади.
– Мама!.. Мама!.. Бачка идет с казаками!..
Слышнее песня. Звенит, заливается степовой подголосок, струною звенит.
Утром рано весной На редут крепостной Раз поднялся пушкарь поседелой!..Помнит, помнит свет Наталья Степановна, как все это бывает. Как уходят сыны… и не возвращаются… Троих так потеряла.
Слышнее и ближе песня.
Я на пушке сижу, Сам на крепость гляжу Сквозь прозрачные волны тумана…Знает Наталья Степановна эти прозрачные волны далекого марева. Такие обманчивые. Что несут они? Печаль новой потери, или радость возвращения целыми и невредимыми?
Гром раздался волной, Звук пронесся стрелой, И по крепости гул прокатился.Ах, слыхала, сколько раз слыхала Наталья Степановна этот гулкий удар пушки, поднимающей весь городок по тревоге.
– Живо сабли на ремень, Живо шапки на бекрень, Не в поход нам идти собираться?Виден в степи отряд и караван. Длинной цепью идут, колыхаются большие двугорбые верблюды, сбоку сверкает доспехами, горит наконечниками стрел, золочеными колчанами и саадаками, стволами рушниц казачья сотня. И так ясны дорогие слова:
Как сибирский буран, Прилетел атаман, А за ним есаулы лихие.Тут, там хлопнули двери. Невестки бросили пекарни, кладовки, оставили вышиванье и тканье и побежали на площадь к воротам – встречать лихих есаулов.
– Мамынька!.. Что же вы!.. Наши идут!.. Ворочаются.
Совсем у ворот песня. Соловьем свистит, заливается могучий посвист:
Я бы рад на войну, Жаль покинуть жену, С голубыми, как небо, очами…Прижала платочек к голубым глазам свет Наталья Степановна, оправила седые волосы под повойником и спешит, маленькими «московскими» ножками, чуть касаясь земли.
Старуха ведь!
Господи! Все ли благополучны? Все ли вернулись?.. Не висит ли чье тело поперек шеи коня? Не ведут ли чьего коня без всадника, в окровавленном седле? А на передней луке повешены сабля, рушница, да саадак с луком?..
Выбежала в ворота и остановилась.
Навстречу ей точно вся Сибирь раскрыла объятия. Сладкий степной дух весенних цветущих трав кружил голову. Свежесть утра, бесконечная ширь захватили ей дух.
И кругом необъятный, дивный простор.
До студеного Ледовитого моря-океана… До далеких Китайских земель… До Индийского царства с его обезьянским царем!
Чудная, бесконечная, несказанно прекрасная – Ермакова Сибирь!!!
Апрель-июль 1929 года,
дер. Сантени.
Франция.
Амазонка пустыни (У подножия Божьего трона)
I
Иван Павлович Токарев, начальник Кольджатского поста, только что окончил вечерние занятия с казаками, обошел конюшни и помещения, осмотрел, чисто ли подметен двор, сделал дневальному замечание за валяющуюся солому и конский помет – он требовал на своем маленьком посту идеальную чистоту, «как на военном корабле», – и прошел на веранду домика, обращенную на восток. Сибирский казак, его денщик, принес ему на стол большой чайник с кипятком, маленький чайник с чаем, громадную чашку с аляповатой надписью золотом по синему полю «Пей другую» и бутылку рома, и Иван Павлович принялся за свое любимое вечернее занятое – бесконечное чаепитие со специальными сибирскими сухарями, которые ему готовил его же денщик – Запевалов.
Он любил эти часы умирания дня в дикой и нелюдимой природе Центральной Азии. Любил звенящую тишину гор, где каждый звук слышен издалека и кажется таким отчетливым. Любил часами созерцать бесконечную долину реки Текеса, поросшую камышами и кустарниками и кажущуюся с этих высот широкой темно-зеленой лентой, уходящую к другим, менее высоким горам, позлащенным лучами вечернего солнца. Он любил эти дикие пики гор, причудливые скалы, имеющие вид то каких-то великанов, то развалин старинных замков с башнями и зубчатыми стенами, любил крутые скаты Алатауского хребта, по которым шумно неслась холодная ледяная Кольджатка, рассыпаясь в пену и пыль, любил ее монотонный шум в жаркие летние дни, когда ледник сильнее таял и тысячами капель и ручьев пополнял непокорную Кольджатку… Любил Иван Павлович и своих угрюмых и молчаливых сибирских казаков, положительных и серьезных, и их маленьких мохнатых лошадок. Но больше всего любил свое одиночество, самостоятельность и независимость ни от кого.
Здесь, у подножия величайшей горы в мире Хан-Тенгри, называемой киргизами Божьим троном, на высоте двух с половиной верст от уровня моря, Иван Павлович чувствовал себя как-то лучше, возвышеннее, чувствовал себя особенным, не земным человеком.
Служба была не тяжелая, но томительно-скучная. Стерегли китайскую границу, к которой спускалась крутая, заброшенная каменьями, труднопроходимая тропа. По ту сторону границы стояла белая, квадратная в основании, высокая глинобитная башня с зубцами – сторожевой китайский пост, в котором должно было помещаться двадцать человек китайских солдат, но китайцы караула не держали, и жил там только хромой на одну ногу старый китаец, сторож поста.
Ивану Павловичу было лет под тридцать. Был он высок ростом, статен и строен, как настоящий горный охотник. У него были густые русые, слегка вьющиеся волосы, загорелое лицо с тонким прямым носом, с русыми небольшими усами, не скрадывавшими красиво очерченных губ. Бороду он брил, и энергичный подбородок красиво выделялся от тонкой, юношеской, темной от загара шеи.
Были какие-то причины, по которым он не любил и избегал женщин. Когда весной по Кольджатской дороге проходили киргизы на «летовку», на обширные плоскогорья Терскей-Алатау, он не любовался хорошенькими, разряженными в синие, желтые и красные цвета, в ярко горящих монисто молоденькими киргизками, не посылал им комплиментов на киргизском языке и не ездил потом в далекие кочевья, чтобы слушать их унылые песни и чувствовать подле себя женщину, полную первобытной прелести. Его не видали также никогда спускающимся в дунганский поселок, где темные дунганки в длинных белых одеждах носили на плечах глиняные кувшины, поддерживая их классическим изгибом руки.
Он занимался охотой, искал в неизведанных горах золото и драгоценные камни и жил, обожая природу и тщательно охраняя свое одиночество.
Его домик начальника поста был казенной глинобитной постройкой, устроенной инженерным ведомством со всеми претензиями и неудобствами казенной постройки.
Вдоль всего дома шла веранда с решеткой. Если бы эту веранду можно было обвить виноградом, плющом или хмелем, то она доставила бы много радости, но так как на каменьях Кольджата ничего не росло, она стояла голая, доступная всем ветрам, и зимой сплошь забивалась снегом. Посередине были двери, ведшие в сквозной коридорчик. Этим коридором дом разделялся на две самостоятельные квартиры, каждая из двух комнат, так как предполагалось, что на посту будет два офицера. Теперь вторая половина была скудно омеблирована на полковые средства на случай приезда «начальства».
Иван Павлович жил в левой половине домика. Здесь у него был уютный кабинет, устланный пестрыми коврами из Аксу, со стенами, покрытыми коврами и киргизскими вышивками. На них в красивом порядке висели: отделанная в мореный кавказский орех трехлинейная русская винтовка, трехстволка Зауера, нижний ствол нарезной под пулю, и легкая 20-го калибра двустволка без курков отличной английской работы. Между ружьями висели патронташи, кинжалы, ножи, принадлежности конского убора.
У этой стены стоял диван, сделанный из низких ящиков, на которые был положен набитый шерстью мешок, и все это было покрыто тяжелым ковром. Подушки и мутаки дополняли устройство. Большой письменный стол был более завален принадлежностями охоты, нежели письмами. Тут были весы, мерки для пороха и дроби, приборы для делания патронов и коробочки с капсюлями. На противоположной от дивана стене был большой книжный шкаф с книгами по зоологии, минералогии, описаниями путешествий и т.п. Беллетристика почти отсутствовала.
Соседняя, меньшая по размерам комната служила спальней. Вместо ковров в ней были постланы бараньи, медвежьи и козьи шкуры. У походной койки лежала громадная тигровая шкура, трофей самого Ивана Павловича, ездившего для этого на две недели к озеру Балхаш в поросшие густым камышом плавни реки Или. Простой умывальник и аккуратно развешанные по стене платья да офицерский сундук с бельем, на котором лежало седло, дополняли обстановку.
На веранде, по случаю весеннего времени, стоял обеденный стол, два венских стула и плетеный соломенный лонгшез, оставленный здесь приезжавшими на охоту несколько месяцев тому назад англичанами.
В правой половине домика, в большой комнате, была устроена спальная для приезжающих. Здесь стояла хорошая железная койка с пружинным матрацем, у окна большой стол с пришпиленным к нему кнопками клякс-папиром, накрытый от пыли старыми пожелтевшими газетами, и в углу простой, крашенный черной краской шкаф для платьев. На полу вместо ковров были протянуты поверх прибитых для тепла барданок[55] дунганские тканые циновки. Соседняя маленькая комната была пуста и служила для Ивана Павловича кладовой для патронов, консервов, запасов рома, сухарей и печенья.
Всюду была образцовая чистота. Стекла окон были вымыты, пыль обметена, а постель с подушками и сложенным пуховым одеялом была накрыта чехлом из холста.
Кухня, помещение для денщика, сараи, конюшня, баня и другие хозяйственные помещения находились в отдельных, не инженерного ведомства, а самодельных постройках, тяжелых, неуклюжих, нелепо свалянных из земли с соломой, кривых и косых, не включенных в общую ограду. Они лепились одни выше, другие ниже главного домика на небольшом горном плато, обрывавшемся отвесными скалами к реке Кольджатке, а за ней – к долине Текеса.
Веранда домика одним краем подходила к обрыву, и с нее-то и открывался тот чудный вид на необъятный простор таинственной, малоисследованной Центральной Азии, которым так любил любоваться и вечером, и утром Иван Павлович…
Большая чашка с надписью «Пей другую» допита маленькими глотками… Влитый в нее ром оставил приятное вкусовое ощущение во рту и разбудил неясные мысли и мечты, проносившиеся под маленьким шумом легкого хмеля.
Иван Павлович уютно протянулся на лонгшезе и устремил взгляд в Текесскую долину. Глазами мечты он видел то, чего не было, он бродил в густом кустарнике и камышах реки, он вспугивал стайки золотистых фазанов, сгонял уток и диких гусей. Мысль его устремлялась в пестрое Аксу, таинственный подземный Турфан, где люди, чтобы спастись от жары, устроили город под землей, ему чудилось, что он видит за снеговой полосой Алатауских гор еще более высокую, сверкающую ледниками цепь Гималаев и Индию…
Внизу дунгане прогнали стадо баранов и коз, и блеяние овец, крики дунган и лай собак, отчетливо слышные наверху, стихли и замерли, и вечерняя торжественная тишина вместе с надвигающимся холодом от морозного дыхания ледников начала охватывать Кольджатский пост.
Вдруг чуткое, охотничье ухо Ивана Павловича уловило по ту сторону веранды на Джаркентской дороге погромыхивание военной двуколки и топот конских ног. Было слышно, как маленькие камушки обрывались и катились вниз с узкой дороги, как скрипели они под подковами и шелестели под ободом колеса.
Никто не должен был приехать теперь на Кольджатский пост. Командир бригады был на нем всего неделю тому назад и проехал в Джаркент, где теперь разгар весенних смотров и скачек. Командир полка устраивал лагерь на Тышкане. Никакой смены или пополнения казакам быть не должно, продукты для довольствия людей доставлены подрядчиком-таранчинцем всего вчера, почта ходит без двуколки, на вьюке, раз в две недели, и раньше конца будущей недели ей незачем прийти. Охотникам теперь не время приезжать, да и путь идет прямо к Хан-Тенгри, минуя никому не нужный Кольджат.
Но слух не обманывал. И двуколка грохотала колесами, и топотали мерной ходкою подымавшиеся в гору лошади.
Иван Павлович взял бинокль и перешел на западную сторону веранды.
Красное солнце спускалось за отроги Алатауских гор. Изъеденные временем и волнами потопа, покрывавшими когда-то всю эту долину, скалы торчали здесь, вылепленные из мягкого мергеля, наслоившегося пластами темно-красного и серого цвета, то мягкими очертаниями холмов, то причудливыми пиками. Края их были точно окованы пылающей на солнце красной медью, тогда как сами горы тонули в фиолетовой мгле долины и казались изваянными из прозрачного аметиста.
Ближе виден был бесконечный скат Алатауских гор, покрытый каменными глыбами, Бог весть когда свалившимися с гор или принесенными сюда могучими ледниками и казавшимися отсюда, с этой высоты, маленькими черными камушками. Между ними от реки Или вилась дорога, которую можно было определить по поднявшейся, да так и застывшей в неподвижном вечернем воздухе золотой пыли, которая стояла змеей по всему длинному скату, насколько хватал глаз.
К самому посту, то скрываясь за скалами или в глубокой расселине горного ущелья, то появляясь на маленьком хребтике или горном плато, приближались три всадника и за ними тяжело нагруженная двуколка, запряженная парой лошадей. Простым глазом было видно, что два всадника – казаки, а третий был одет в бледно-серый казакин или черкеску и серую папаху…
Иван Павлович приставил к глазам бинокль и чуть не уронил его от удивления и от… негодования, потому что к Кольджату, несомненно, подъезжала женщина, и притом женщина европейского происхождения.
А значит… Значит, на некоторое время, Бог даст, конечно, недолгое, ему придется возиться, угощать, устраивать, заботиться именно о том существе, которое он меньше всего хотел бы видеть у себя на одинокой квартире.
Он снова поднес бинокль к глазам. Да, это была женщина. Хотя какая-то странная женщина, похожая на мальчика, на юношу в своем длинном сером армячке, с винтовкой за плечами, патронташем на поясе, большим ножом и в высоких, желтой кожи, сапогах.
Он не тронулся с места, не кликнул Запевалова, чтобы приказать ему согреть воду для чая и приготовить ужин. Слишком велико было его негодование и огорчение, и он так и остался стоять на веранде, пока к ней не приблизились вплотную приезжие и молодая женщина легким движением не сошла с лошади.
II
– Вы Токарев, Иван Павлович, – сказала она, и ее мягкий голос прозвучал в редком горном воздухе, как музыка. Была она красива? Иван Павлович не думал об этом. Он ненавидел в эту минуту ее, врывавшуюся в его жизнь и нарушавшую размеренное течение дня холостяка, установившего свои привычки. И перед казаками появление молодой девушки на одиноком посту являлось неудобным и как будто стыдным.
Но, прямо и сурово глядя ей в глаза, Иван Павлович не мог не заметить, что у нее были большие и прекрасные, темной синевы глаза, под длинными черными ресницами смотревшие смело. Это были глаза мальчика, но не девушки. Изящный овал лица был покрыт загаром и нежным беловатым пухом, полные губы показывали характер и упрямство, а ноздри при разговоре раздувались и трепетали. Густые темно-каштановые волосы были убраны под отличного серого каракуля папаху, из-под которой по-мальчишески задорно вырывались красивыми завитками локоны, сверкавшие теперь при последних лучах заходящего солнца, как темная бронза. И вся она была отлично сложена, с тонкой девичьей талией, с длинными ногами с красивой формы подъемом, четко обрисованным изящным сапогом. Винтовка была тяжела для нее, но она, как мальчишка, кокетничала ею, патронташем темно-малиновой кожи и большим кривым ножом. Ей, видимо, нравилось, что на ней все настоящее, мужское: и ружье, и нож, толстые ремни, и кафтан серого тонкого сукна, и синие шаровары, чуть видные из-под него, и мужская баранья шапка. Видно было, что она больше всего боялась, чтобы ее не приняли за обыкновенную барышню-наездницу, переодетую в кавказский костюм, которых так много на кавказских и крымских курортах… И Иван Павлович это заметил.
– Да, я Токарев, Иван Павлович, – сухо сказал он, не сходя с места и не двигаясь ей навстречу. – Подъесаул Сибирского казачьего полка и начальник Кольджатского поста. Что вам угодно?
Она рассмеялась веселым смехом, показав при этом два ряда прекрасных белых зубов.
– Я так и знала, – воскликнула она, – что вы меня так примете.
– Простите, но я не имею чести вас знать.
– Вернее, вы должны были бы сказать: «Я не узнаю вас, я не могу вас припомнить».
Нахальство этой женщины взорвало Токарева, и он настойчиво сказал:
– Нет, я не знаю вас.
– А между тем, – с какой-то грустью в голосе проговорила приезжая, – я вам довожусь даже родственницей. Помните Феодосию Николаевну Полякову, сумасшедшую Фанни, с которой вы играли мальчиком на зимовнике ее отца и вашего троюродного брата в Задонской степи? Я, значит, вам племянницей довожусь.
Лицо Ивана Павловича от этого открытия еще больше омрачилось.
«Родственница, племянница, да еще с целой двуколкой домашнего скарба; да что же она думает здесь делать», – с раздражением подумал он и протянул ей руку. Она пожала ее сильным мужским пожатием.
– Вижу, что не рады, – сказала Фанни.
– Но, Феодосия Николаевна… – начал было Иван Павлович. Она прервала его:
– Никаких «но», Иван Павлович. И очень прошу вас называть меня Фанни, как вы и называли меня когда-то, и признать факт свершившимся. Я буду здесь жить…
– Но позвольте…
– Так сложились обстоятельства. Сюда направил меня, умирая, мой отец.
– Как, разве Николай Федорович умер?
– Полгода тому назад. Наш зимовник отобрали. Имущество я продала. Я приехала сюда с деньгами и буду жить самостоятельно. Мне от вас ничего не нужно.
– Но, Феодосия Николаевна…
– Фанни, – прервала она его.
– Но, Феодосия…
– Фанни! – еще строже крикнула девушка, и глаза ее метнули молнии.
– Как же вы будете жить здесь, чем и для чего?
– Вам этикетка нужна?
Она издевалась над ним, хотя он был лет на десять старше ее.
– Да, этикетка. И она нужна не для меня, а для вас.
– Какие у вас, у всех мужчин, всегда подлые мысли и зоологические понятия.
– Но, Феодосия Николаевна…
– Фанни! – уже с сердцем воскликнула девушка. – Я знаю ваше «но». Что скажет свет? А если бы приехала не молодая девушка, не ваша племянница…
– Троюродная. Седьмая вода на киселе, – вставил Иван Павлович.
– Пусть так. Это к делу не относится. Так, если бы приехала не племянница, а племянник, я полагаю, вы были бы даже рады. Он помогал бы вам в вашей работе.
– Он тогда должен был бы быть офицером. Да и то на Кольджате положен один офицер.
– Пускай так, но вы ищете золото и охотитесь.
– И вы хотите, что ли, искать золото и охотиться? – насмешливо спросил Иван Павлович.
– Что же тут смешного?
– Простите, Феодосия Николаевна.
– Фанни, – гневно крикнула она, но он не рискнул так ее назвать, да, пожалуй, и не хотел, боясь, что это невольно установит ту интимную близость, которой он так боялся.
– Долг гостеприимства обязывает меня принять вас. Милости просим. Казаков я устрою. А ваши вещи… Я думаю, до выяснения ваших намерений их можно будет оставить в двуколке.
– Очень любезно с вашей стороны. Но вы напрасно так беспокоитесь. У меня в вещах есть отличная английская палатка, мой калмык – потому что он со мной, кроме казаков вашего полка, которых мне против моей воли навязал ваш бригадный генерал, – ее мне расставит. Скажите, вон та горная речушка и есть граница России и Китая?
– Да.
– Значит, по ту сторону, в ста шагах отсюда, китайская земля?
– Совершенно верно.
– Я думаю, что его величество китайский богдыхан ничего не будет иметь против, если Фанни Полякова воспользуется его гостеприимством?
– Я этого не допущу. У нас есть комната для приезжающих, и вы можете пока в ней устроиться. Запевалов! – крикнул Иван Павлович своему денщику и, когда тот явился, приказал ему согреть чай и приготовить что-либо на закуску. – Пока он готовит нам, я проведу вас в вашу комнату.
Казаки и калмык начали разгружать повозку и вносить ящики и сундуки в комнату для приезжающих. Запевалов подал ей воду для умывания, а в это время Иван Павлович гневно ходил взад и вперед по веранде и думал неотвязную думу: «Вот принесла нелегкая!.. Племянница, черт ее подери! Она такая же мне племянница, как чертяка батька. Вместе детьми играли!» Это правда, когда-то он из корпуса на вакации ездил в Задонские степи на зимовник Полякова, но он даже и не помнил, чтобы там была девочка. Да и мог ли он ее помнить, когда ей было тогда 5 лет. «Не было печали! Прощай теперь и охота, и поиски в горах за золотом, и экспедиции в таинственные пади к таким ущельям и водопадам, где никогда нога европейца не бывала! Нет, надо объясниться и дать ей понять всю неуместность и невозможность ее пребывания в Кольджате».
III
Запевалов поставил на не накрытый скатертью стол синий эмалированный чайник с кипятком, принес стаканы и подал на тарелке грубо нарезанную толстыми ломтями колбасу и кусок холодной баранины, из которой неаппетитно торчала кость. На тарелке же был и кусок хлеба. Все это выглядело жалко, бедно и неопрятно. Он поставил свечи в стеклянных колпаках, но их не зажигали, чтобы не залетали мошки.
– Феодосия Николаевна, – крикнул в двери Иван Павлович, – если готовы, пожалуйте, чай подан.
– Фанни! – гневно крикнула девушка. – Иду сейчас.
Она вошла в том же костюме в его кабинет.
– Можно повесить? – спросила она, указывая на ружье и на свободный гвоздь на стене против двери.
– Пожалуйста, – холодно сказал он.
Она ловким движением скинула винтовку и папаху и повесила их на гвоздь. Теперь при свете лампы ее густые темные волосы, подобранные вверх, отливали в изгибах червонцем. Они мешали ей. Она тряхнула головой и тяжелые косы упали на спину, рассыпались и ароматным облаком закрыли всю спину.
– Чай на веранде, – сказал Иван Павлович, открывая дверь кабинета.
Фанни вышла на веранду.
– Боже, какая прелесть! – воскликнула она. – И какой воздух! Какая легкость! Даже в ушах звенит. Какая здесь высота?
– Две с половиной версты.
– Вы знаете… Это такой вид, что его за деньги можно показывать.
Несколькими смелыми обрывами, крутыми отвесными скалами, рядом мягко сливающихся с равниной холмистых цепочек Алатауские горы срывались в долину реки Текеса. Эта долина теперь была полна клубящегося мрака и казалась бездонной. Где-то далеко-далеко на востоке совершенно черными зубцами перерезывали долину горы. Из-за них громадным красным диском поднималась луна, зардевшаяся, будто от стыда, и еще не дающая света. И по мере того как она поднималась, ее верхний край бледнел, становился серебристым и она уменьшалась в размерах. И точно шар, осторожно пущенный вверх, она медленно и величаво поднялась над далекими горами и поплыла в бледнеющую от ее прикосновения густую синеву неба. Колеблющийся в долине над рекой туман засеребрился и стал, как потрясаемая парча, переливать тонами яркого опала. Вспыхнул где-то красной точкой далекий костер пастухов, и взор, настраиваемый фантазией, начал творить волшебные картины восточной сказки. Чудились в серебром залитой долине города удивительной красоты, пестрые ковры, золото и самоцветные камни людских уборов.
Вправо грозно вздымались, уходя по краю долины, величественные черные отроги Терскей-Алатау, поросшие по северным скатам высокими елями с мохнатой хвоей. На их вершинах, как полированное серебро, горели ледники, и за ними далеко-далеко, будто висящий в воздухе, громадный брильянт Коинур, отделенный вереницей облаков от своей подошвы, блеснул сахарной головой, правильным покатым конусом, весь укрытый снегом Хан-Тенгри, почаровал несколько мгновений глаз таинственным блеском недосягаемой вершины своей и исчез, закутавшись облаками.
И странно было в прозрачной тиши ночи с неколеблемым воздухом сознавать, что там ревет жестокая вьюга и вихри снега мечутся по ледникам. И чудилось, будто чувствуешь, сидя на этой высоте, стремительный бег земли и ее непрерывное вращение. Казалось, что эта могучая вершина рассекает необъятное пространство миров и несется с землей в неведомую даль…
Кружилась голова от редкого воздуха, от ярко брошенной прямо в лицо мертвой улыбки луны, от высоты, необъятного простора и таинства ночи.
Внизу, между кустов рябины и дикого барбариса, по каменистому ложу неслась Кольджатка. Тихая днем, она начала теперь ворковать и шуметь, пополняемая водами подтаявших за день ледников. Ни одного человеческого голоса, ни лая собак, ни блеяния стад не было слышно, и ухватившейся за перила решетки Фанни показалось, что она одна несется где-то в безвоздушном пространстве, увлекаемая землей в ее неведомый путь.
Так прошло несколько минут. Иван Павлович не мешал Фанни любоваться видом. Он сам слишком любил, понимал, ценил и восхищался красотами Кольджатских восходов и закатов, и он как собственник, как хозяин этой красоты был доволен, что она так поразила его гостью. Но сам он в этот вечер уже не мог любоваться чарами лунной ночи в горах. Ему отравляла удовольствие эта женщина, стоявшая рядом с ним, непрошеная и незваная, явившаяся сюда Бог весть с какими целями…
Снизу и слева раздался протяжный зовущий крик. Он зазвенел в ночной тиши тоскующим призывом мятущейся души и стих, а потом повторился снова призывной нотой.
– Ла Аллах иль Аллах, – взывал муэдзин в дунганском поселке к ночной молитве.
Пролаяла внизу собака, и снова все стихло, будто видение жизни, будто трепет человеческого дыхания пронеслись вдоль мощной груди земли и затихли…
В выявившейся теперь ночи волшебными казались воздушные дали и таинственной тишина. И точно для того, чтобы нарушить эту грезу чарующей сказки, сзади дома раздался могучий окрик:
– Кот-торые люди, выходи строиться на перекличку…
И загомонили на площадке поста казаки. И скоро, хрипя и срываясь, будто простуженная сыростью ночи, запела кавалерийскую зорю старая ржавая труба постового трубача…
IV
– Итак, – проговорила Фанни, наливая себе второй стакан чая и вынимая тоненькими пальчиками с отделенным и манерно загнутым вверх мизинцем из жестянки, принесенной Иваном Павловичем, квадратное печенье petit beurre[56], – итак, вас удивляет, что я сюда приехала?
– Откровенно говоря, – да.
– Слушайте. Условимся наперед и навсегда говорить только правду. Говорить действительно откровенно и то, что думаешь.
– Вряд ли это возможно!
– Уж очень, верно, вы меня ругаете, – улыбаясь милой детской улыбкой, сказала Фанни.
– Нет, зачем так, – смутившись, отвечал Иван Павлович, – но признаюсь, ваш поступок мне не понятен.
– Почему?
– Да мало ли уголков в России более привлекательных, нежели глухой пограничный пост в Центральной Азии. И почему из всех родственников вы вспомнили какого-то троюродного, если еще и не дальше, дядю, который давно порвал с Доном и донской родней и живет отшельником?
– Меня тянуло путешествовать.
– Есть путешествия много интереснее. Поехали бы в Париж или Швейцарию, ну, на озеро Комо, что ли.
Брезгливая гримаска скривила хорошенькие губы Фанни.
– И в Париже, и в Швейцарии, и на итальянских озерах я была. Не нравится. Слишком много культуры. Все вылизано, исхожено, и мне кажется, на самой вершине Монблана стоит надпись: «Лучший в мире шоколад «Gala-Peter».
– Да мало ли куда можно ехать? Ну наконец можно проехать на Зондские острова, в Африку, в Трансвааль, к бурам…
– А меня тянуло по пути Пржевальского. Я вспомнила, что вы служите в Джаркенте, и поехала к вам.
– Что тут хорошего?
– Это мы увидим. И не беспокойтесь, пожалуйста, дядя Иван Павлович…
Она так его и назвала – «дядя Иван Павлович», и голос ее даже не дрогнул, хотя эта фамильярность передернула Ивана Павловича.
– Или нет, я вас буду называть «дядя Ваня», ведь правда, вы мне чеховского дядю Ваню напоминаете. Добрый бука. Я вас не стесню, дядя Ваня. У меня все есть. Со мной мой калмык Царанка, завтра я куплю себе лошадей, и затем – мы только соседи.
– Где же вы купите лошадей?
– В Каркаре, на ярмарке.
– Кто вам это сказал?
– Ваш командир, Первухин.
– Но ярмарка в Каркаре будет еще через месяц, да и лошади там дикие.
– А что, вы думаете, я не умею укрощать диких лошадей? Ого! У отца на зимовнике я сама арканом накидывала, сама валила, седлала. И скакала же вволю по степи!
Глаза ее заблестели. Если бы не эти волосы, гривой волнистых прядей разметавшиеся по спине, – мальчишка, совсем мальчишка-кадет, озорник. Мечут молнии задорные глаза, и губы оттопыриваются, как у капризного мальчугана.
«Да, характер, должно быть», – подумал Иван Павлович.
– И все-таки это не женское дело – путешествовать одной. Быть искательницей приключений.
– Во-первых, не одной.
– А с кем же?
– Да с вами, дядя Ваня.
– Ну, это положим. Этот номер не пройдет.
– А почему?
– Да что вы все «почему» да «почему», как малый ребенок? Очень просто, почему. Потому, что вы молоденькая девушка. Вот и все.
Фанни совсем по-детски всплеснула руками.
– Опять, – воскликнула она. – Слушайте, дядя Ваня, я вас раз и навсегда прошу это позабыть. Смотрите на меня как на мужчину. Ведь это же безумная отсталость, что вы говорите. Это прошлыми веками пахнет. Я, слава Богу, не кисейная барышня.
– Жизнь здесь полна опасностей и приключений.
– Тем лучше, – перебила она его, и лицо, и глаза ее загорелись, – я их-то и ищу, их-то и жажду.
– Притом здешняя жизнь первобытно проста.
– Великолепно.
– В этих условиях жить молодой девушке под одной кровлей с мужчиной невозможно.
– Я не одна, со мной мой калмык Царанка. И потом, все это архаические понятия. Время теремов, дядя Ваня, прошло. Женщина равноправна с мужчиной. Посмотрите на Запад.
– Мы на Востоке.
– Это все равно. Если все ехать на восток – то будет запад.
– Удивительные у вас географические понятия.
– Ну, конечно, – засмеялась она. – Там что? – спросила она и протянула руку к долине.
– Кульджа, – неохотно выговорил Иван Павлович.
– А дальше?
– Дальше пустыня Гоби.
– А дальше?
– Дальше Китай! Вы совершенный ребенок. Дальше, дальше, дальше… Точно сами не знаете.
– Ну, конечно же, знаю. Дальше Пекин, потом Великий Океан и Сан-Франциско. То есть Америка, то есть запад. Ну не права ли я, что если ехать на восток, то будет запад.
– Это еще Колумб раньше вас открыл, – мрачно проговорил Иван Павлович.
– Бука!
Иван Павлович не ответил.
Она встала из-за стола, потянулась, как кошечка с сытым и довольным видом, взглянула с чувством удовольствия в открытую дверь на винтовку и кабардинскую папаху, еще раз бросила взгляд на бесконечную долину и вздохнула.
– Ну, спокойной ночи. Благодарю за хлеб за соль.
– Спокойной ночи, – сердито сказал Иван Павлович.
– А все-таки – бука, – кинула она ему и легко впорхнула в свою комнату.
V
Долго в эту ночь не мог заснуть на своей узкой и жесткой походной койке Иван Павлович. Уж очень не нравилось ему все это приключение. Романом каким-то веяло. Точно у Фенимора Купера или Майн Рида, а ведь он человек положительный и серьезный. Бабья этого не любит и никак не переносит. Явилась сюда. Черт ее знает, с какими намерениями. Может быть, просто авантюристка и женить на себе думает.
«Не похоже, впрочем. Чем я ей дался? Я думаю, она в России жениха легче нашла бы. Красивая, слов нет. Стройная. Одни волосы чего стоят. Брови. Поступь какая! Ножки, ручки! Настоящая низовая казачка.
Ну и тем хуже. Наваждение дьявольское, да и только. Желает путешествовать. Открытия делать. Пржевальский в юбке. Тьфу ты, пропасть! Ведь додумаются эти бабы… Начиталась, поди, книг. Эмансипация, равноправие. Драть ее некому было. Мать-то ее умерла, она еще маленькой была, а отец в ней души не чаял, все ей позволял. Лошадей арканом накидывала. С нее станет».
И только под утро заснул Иван Павлович и проспал потому утреннюю зорю и волшебный восход солнца за Кольджатскими горами.
А Фанни достала из одного из своих сундуков чистые простыни, постелила их, надела на подушки свои холодные наволочки, быстро разделась, юркнула под теплое одеяло и заснула глубоким сном усталого физически человека, довольного собой, уснула тем крепким и волшебным сном, который дает холод ночи на высоких горах.
Она проснулась тогда, когда пурпуровая полоса загорелась на востоке, и, накинув туфли и легкий халат, бросилась на веранду любоваться восходом.
И опять вершина Хан-Тенгри показалась на полчаса из-за туч. Но теперь она была не серебряная, играющая томными красками опала, а розовая, прозрачная, воздушная, как облако. И долго Фанни не понимала, что висит это в небе, точно роза необъятной величины. Облако или гора? И когда догадалась, что это гора, то почему-то дивная радость сжала счастьем ее сердце, и она тихо засмеялась. Засмеялась приветом великому Божьему миру. Засмеялась и солнцу, и этой горе, подножию Божьего трона.
А когда солнце пустилось в свой путь и яркие краски побледнели, она, вся продрогшая и освеженная на утреннем холодке, прошла в свою комнату, разделась, растерлась мохнатым полотенцем, оделась в легкую шерстяную блузу с мужским галстуком, зашпиленным брошкой, сделанной из подковного ухналя, в синюю юбку, надела желтые американские ботинки на шнурках с двойной толстой подошвой, стянулась ремешком, застегнутым широкой кавказской пряжкой из серебра с чернью, убрала свои волосы в модную прическу и, не похожая уже на мальчика, занялась с калмыком и Запеваловым хозяйством.
Из недр ее сундуков был извлечен круглый медный самоварчик, фарфоровый голландский чайник, чашка, ситечко, ложки, она достала свое печенье и английское варенье-мармелад. Явилась скатерть с зелеными полосами блеклого цвета и бахромой по краям, салфеточки, тарелочки, хрустальная сахарница, вазочки для цветов, и, когда в девятом часу на веранде появился Иван Павлович, он не узнал своего чайного стола.
Самовар пыхтел и пускал клубы белого пара, напевая песню о России, в порядке на скатерти стоял утренний чай, а в вазочке торчали ветки желтых цветов дикого барбариса, синие ирисы, сухоцветы, и красивый прошлогодний репейник красовался среди белых и нежных анемонов.
И откуда она успела достать все это?
– Как спали, Феодосия Николаевна?
Фанни ему погрозила кулачком на это торжественное название, и опять, несмотря на юбку, на прядки вьющихся волос, красивыми локонами набегавшими на лоб, перед Иваном Павловичем был задорный забияка-мальчишка и вечный спорщик.
Она, как хозяйка, уселась за самовар, и даже мрачный Запевалов любовался ею, как она распоряжалась за чайным столом.
– Кто у вас ведет хозяйство, дядя Ваня? – спросила она, намазывая сухарик печенья вареньем и аппетитно отправляя его себе в рот.
Иван Павлович даже не понял. Какое хозяйство у постового офицера? Борщ из котла. Иногда денщик на второе сжарит или сварит что-либо. Баранью ногу, убитого фазана или утку, козлятину или кабана. Хлеб привозят из полка, из хлебопекарни. Так же и чай, и сахар, и рис… Только ром, который он любит подливать в чай, составляет его хозяйство и заботу.
– Но вы могли бы иметь молоко, масло, – сказала Фанни, когда Иван Павлович рассказал, как идет у него хозяйство. – Можно приготовить и наше донское кислое молоко, и каймак…
– Откуда?
– Я достану, – и опять самонадеянный мальчишка-озорник глядел на него из-под упрямых локонов хорошенькой барышни. – Можно будет сегодня попросить у вас взять лошадь для Царанки? Он поедет по моим делам.
– Какие у вас дела?
– Я хочу наладить вам хозяйство. Мне нужны лошади для моих разведок. Я надеюсь найти золото, застолбить участок.
– Что же, сами мыть думаете? Шурфовать? – насмешливо сказал Иван Павлович.
– Там увидим. Может быть, и продам участок, если найду выгодного покупателя.
– Здесь нет золота.
– А я найду.
– Да для чего оно вам?
– Я хочу быть богатой. Богатство дает свободу. Я могу тогда поехать, куда хочу. Буду путешествовать.
– Скажите пожалуйста. Если бы это было так легко и просто, многие бы разбогатели.
– У меня счастливое будущее.
– Цыганка вам это нагадала?
– Нет. Хиромантка. По руке. Я верю в хиромантию.
Задорный мальчишка стоял перед ним. Он протягивал ему свои маленькие ладони и говорил, задыхаясь от торопливости. Маленькие ручки были перед лицом, каштановый локон щекотал щеку, и свежий запах молодой девушки пьянил его.
– Вот это – линия жизни. Видите, какая она глубокая и четкая. А вот сколько маленьких линий ее пересекают. Это – приключения и опасности, это – перемена места, это – путешествия.
Близко-близко сверкали темные в серо-синем ободке задорные глаза, виден был нежный пушок, покрывавший щеки, и румянец под ним.
И жар охватывал Ивана Павловича.
«Неужели власть женщины так сильна, – думал он, – неужели и я, равнодушный к ее обаянию, так просто паду и низринусь в пучину любви?»
Но она уже отошла от него. Ее внимание отвлек орел, паривший над домом и тень от которого странным иероглифом ползала по песку перед верандой.
– Это орел? – восхищенно, и, как ребенок, кладя палец в рот, спросила Фанни.
– Беркут, – отвечал Иван Павлович.
– Можно убить его?
– Попробуйте. Это не так легко.
– Я? – глаза у Фанни разгорелись, и опять задорный мальчишка, в синей шерстяной юбке, стоял перед ним.
Фанни схватила свою винтовку, приложилась и выстрелила. Орел сделал быстрый круг, поднялся выше и продолжал парить.
– Позвольте ваше ружье, – сказал Иван Павлович. Она молча отдала ему ружье.
Иван Павлович прицелился, грянул выстрел, и орел камнем упал на скат на берегу Кольджатки.
– Ах! – воскликнула Фанни и в слезах от униженного самолюбия убежала в свою комнату.
«Нет, просто это ребенок», – подумал Иван Павлович, и, как бы нехотя, его мысль договорила ему:
– И может быть отличным товарищем.
VI
Царанка привел лошадей.
Это были отличные каракиргизские горные лошадки, легкие, сухие, живые и энергичные. У них были маленькие, изящные головы с большими злыми глазами, сухие, крепкие ноги и прекрасные спины с горбом. Их было три.
И откуда он их достал? И Иван Павлович, и казаки поста отлично знали, что хороших лошадей до ярмарки достать трудно, почти невозможно. А вот достал же!
– Ты где же, Царанка, лошадей достал? – спрашивали его Иван Павлович и казаки, окружившие лошадей.
Калмык только ухмылялся счастливой улыбкой.
– Моя достал, – гордо говорил он. – Моя для барышня все достал. Скажи: Царанка, птичье молоко достань, моя достанет. Такой калмык. А лошадь – калмык знает, где достать.
– Да где же, где достал-то, чудак-человек? – спрашивали сибиряки, уязвленные в своем самолюбии, что вот приезжий, чужой человек, а их перехитрил.
– Далеко! – улыбался Царанка.
– Ну где? В Каркаре? Или Пржевальске?
– Моя не знает где. Вон там, – и калмык махнул в сторону Китая.
– Так ты в китайской земле был? Сумасшедший ты человек.
– Народ хороший. Добрый народ. Лошади хороши! Ух, хороши. Маленькие лошади. Наши калмыцкие больше. Только хороши лошади.
Правда, за лошадей были заплачены большие деньги, но зато это были настоящее торгауты, выведенные из самых недр Центральной Азии, считающиеся близкими родственниками дикой лошади, сильные, резвые и необыкновенно выносливые.
Лошадей поставили под навес, и Фанни и Царанка от них не отходили. Им сделали «туалет», несмотря на все их протесты, прибрали им гривки, челки, хвосты, щетки. Царанка вымыл их мылом, вычистил щеткой и скребницей, и лошадки заблестели, отливая темным каштаном в пахах и у крупа; на одной появились на темно-золотистом фоне черные пятна. Им и названия дали такие: Мурзик, Маныч и Аксай.
Фанни целый день просидела в сарае подле них на вязанке соломы и достигла того, что эти дикие лошади стали позволять себя трогать, гладить, а к вечеру, долго обнюхавши маленькую ручку, протягивавшую им хлеб, недоверчиво взяли его, подержали во рту и, наконец, к великому счастью Фанни, прожевали его.
Она вскочила с вязанки и, сияющая счастьем, пошла к Ивану Павловичу, радостно крича:
– Дядя Ваня! Дядя Ваня! Смотрите, уже хлеб с руки едят. Царанка видал, как Мурзик взял и Маныч. Аксай дольше всех противился.
– Аксай лучше всех, барышня, будет, – говорил Царанка. – Это примета такая. Которая самая недоверчивая лошадь – самая сильная будет.
– Но Мурзик лучше всех. И у него, дядя Ваня, глаза добрые стали.
Иван Павлович должен был пойти и убедиться, что у Мурзика стали добрые глаза.
Да, это был ребенок, а не женщина. И так и приходилось смотреть на эту девушку и стараться не обращать на нее внимания как на женщину.
Но как она его стесняла! Она своей маленькой особой наполнила все существование Ивана Павловича и перевернула всю его сонливо-спокойную холостяцкую жизнь тихого созерцателя. Все переменилось. Созерцать природу одному, погрузившись почти в нирвану, как то любил делать Иван Павлович, не приходилось. Она была подле. Живым дополнением этой природы, самым чудным ее произведением, сидела она тут же, и меткие и восторженные ее восклицания и вопросы будили мысли Ивана Павловича и, как молния, резали темневший в его голове мрак.
– Это Венера, я знаю, а то Марс. А эти три звезды в линию, что это?
– Созвездие Стрельца, – вяло говорил задремавший после чая с ромом Иван Павлович.
– Дядя Ваня! Вы спите! В эту ночь! Смотрите, как горят звезды. Словно живые… Как вы думаете, на них есть живые существа?
– Говорят, на планетах есть. А кто знает? Там ведь никто не был. Только фантазия писателей носилась на Луну и на Марс.
– Я думаю, что там будут наши души. Глядя на эту голубизну синего неба, я начинаю понимать ту «жизнь бесконечную», о которой поется на панихиде… Смотрите, вон и еще, и еще зажглись. Совсем над головой. Сколько их! Вон то Плеяды… Там миллионы маленьких миров, и все это вертится и несется куда-то, и мы с ними! Милый дядя Ваня, я вам не надоедаю?
– Нет… Отчего же?
– Я знаю, что вы любите «помолчать»… А вот взойдет луна, и они начнут гаснуть, милые звездочки.
Она сидела, опершись полными пухлыми руками, обнаженными до локтя, о перила веранды, а начавшая формироваться грудь ее нагнулась за перила, голова с туго, по-гречески, затянутыми на затылке косами была поднята кверху и четко рисовалась на фоне неба силуэтом, полным красоты и гармонии.
И не мог не видеть Иван Павлович, что это женщина, что это прекрасная, молодая девушка, полная женского обаяния.
Она стесняла его.
– А вы знаете, дядя Ваня, у Мурзика прелестная звездочка на лбу. Совершенно правильный ромб. И вы заметили, у него самые маленькие уши из всех трех. Завтра мы их поседлаем, и я поеду на Мурзике, а Царанка на Аксае.
– Но ведь они совершенно невыезженные. Это почти дикие лошади. Я знаю этих торгаутов. Да вы видали, что они делали, когда ваш калмык их чистил.
– Ого! – задорно воскликнула Фанни, – не впервой мне диких лошадей объезжать. Айда – и в степь!
– Но тут горы, обрывы, пропасти.
– А не все ли равно!
Фанни задорно свистнула.
И опять это был взбалмошный казачок-мальчишка, избалованный отцом сорванец…
Фанни внесла в жизнь Ивана Павловича и еще неудобства. Она любила хорошо покушать. А стол постового офицера – спартанский стол. Борщ да рисовая каша – вот и все. На посту появилась корова и при корове дунганка. Откуда? – «Царанка привел». Кто приказал? – «Барышня Фаня» – как, по ее приказанию, называли ее казаки. Утром на столе стали часто появляться коржики, оладьи, пышки и пончики, стояли кувшины с молоком и кувшинчики со сливками. И обед стал иной. Запевалов начал под опытным руководством показывать большие успехи в кулинарном искусстве. Артельщик, ездивший в город, получал от «барышни Фани» длинный список, чего надо привезти. Из ее ящиков появлялись дорогие консервы, конфеты, варенье, печенье.
Спорить было невозможно. Она не признавала слов «мое» и «твое», но все было «наше», а в это «наше» она вносила так много «своего». И это становилось страшно.
Теперь вот купила лошадей. Значит, прочно думает засесть на Кольджатском посту. Куда-то ездит, что-то ищет. Не золото же в самом деле? Какая-то цель у нее есть. К этой цели она неуклонно стремится, не жалея денег.
Какая цель? Мужская или женская? Трудиться и завоевывать себе свободу и право жить на земле – или поработить женскими чарами мужчину, его, Ивана Павловича, и стать потом самой рабою его?..
– Дядя Ваня… Вот и луна. Смотрите, какой сконфуженно-глупый у нее вид. Точно ей стыдно, что она так запоздала… Вы знаете? Я уверена, что на луне нет людей. Ведь она совершенно замерзшая. Я учила… Правда?
– Правда.
– Ух! И поскачу же я завтра по плоскогорью! Держи! Держи! не поймаешь!.. Тут ни у кого нет борзых собак?
Иван Павлович не ответил. «Ну что с нею поделаешь», – думал он.
VII
Запевалов, Царанка и дюжий казак Стогниев, нарочно позванный с поста как знаток этого дела и силач, поседлали казачьими седлами Мурзика и Аксая. Фанни в легком кафтане, подтянутом тонким ремешком в серебряном наборе, и кабардинской шапке, с нагайкой на темляке, по-донскому перекинутой через плечо, наблюдала за процессом седлания этих диких лошадей и подавала советы.
– Закрутки не надо! – кричала она. – За уши возьмитесь, вот и все. Ишь ты какой!.. За уши его!..
Глаза ее стали темными и горели восторгом. Локоны развевались под мягкими завитками бараньей шапки.
– Готов, Царанка?
Казаки поста толпились на дворе, обмениваясь впечатлениями. Не каждый из них рискнул бы сесть на такую лошадь.
– Феодосия Николаевна, неужели вы сами сядете на эту лошадь? Это безумие! – говорил Иван Павлович и чувствовал, что волнение охватило его.
Он никогда еще так не волновался. На всякий случай он поседлал свою лошадь.
Фанни даже не посмотрела на него. Ей было не до разговоров.
– Царанка, – обратился Иван Павлович к калмыку, – барышне нельзя ехать на Мурзике. Он совсем дикий.
– Барышне все можно, ваше благородие, – покорно проговорил Царанка. – Готово, барышня, садись!
Он со Стогниевым едва сдерживали всего мокрого от пота Мурзика. Мурзик бил передними ногами, стараясь ударить державших его, и взвивался на дыбы. Глаза его метались во все стороны, открывая белки то вправо, то влево. Ноздри были раздуты. Он пыхтел и временами визжал. Страшно было подойти к нему.
Фанни быстро перекрестилась, легко подошла к лошади, схватилась левой рукой за поводья и за гриву, а правой, по-калмыцки, за переднюю луку, люди расступились… «Пускай»! – крикнул Царанка, и Фанни помчалась по каменистому широкому спуску. Мурзик прыгал, горбил спину, бил задом, и на каждый его протест Фанни сыпала ему нагайкой по обоим бокам. За ней на Аксае летел и Царанка. Когда и как он сел, никто не успел заметить. Этот выделывал курбеты еще злее, но калмык впился в него ногами и все посылал его вперед.
– Ух! Хорошо, барышня! – крикнул калмык, обгоняя Фанни и сейчас равняя свою лошадь с ее.
Иван Павлович не мог их догнать на своем сытеньком и круглом сером киргизе Красавчике…
Скачка продолжалась минут пять. Лошади сдали, перебились на рысь, а через час все трое – Фанни, Царанка и Иван Павлович – ехали шагом на взмыленных лошадях к дому. Лицо Фанни горело восторгом победы, волосы развевались, грудь порывисто вздымалась, из полуоткрытого рта блестели зубы. Маленькой ручкой без перчатки она то и дело похлопывала по мокрой шее лошадь, и та ежилась от ее прикосновения и подбирала голову, не зная, сердиться ей на своего победителя или признать его власть, покориться и быть счастливой этой лаской.
– Посмотрите, дядя Ваня, – сказала Фанни, показывая свою руку с кровавыми пятнами, мокрую от конского пота с налипшими на нее темными волосами, – всю руку в кровь разорвала поводом. Даром что поводок у меня лучшей работы, совсем мягкий.
– Вы сумасшедшая, – сказал Иван Павлович. Фанни засмеялась.
– А ваш Красавчик-то и близко не мог подойти к Мурзику и особенно Аксаю, – хвастливым тоном мальчишки сказала она. – И что за глупое имя Красавчик! Неужели вы лучше не нашли?
– Ну и Мурзик, по-моему, не лучше, – парировал Иван Павлович.
– Вы правы… Я согласна. Это Царанка его так назвал. У нас на зимовнике была собака Мурзик, и Царанка ее очень любил. Но я буду ездить на Аксае. Он сильнее и наряднее. Вы посмотрите, какой узор у него на крупе. Точно леопард, а не лошадь. И пятна, как от тени листьев. Отчего это так? Но очень красиво. Вы знаете, когда он наестся овса и вычистится, у него рубашка будет замечательно красива.
– Да, добрая лошадь, – сказал Иван Павлович, несколько обиженный замечанием насчет Красавчика.
– А вы все-таки бука, – кокетливо сказала Фанни. – Ну попробуемте пойти рысью. Смотрите, идет. Ах, какая рысь. Вот никогда бы не поверила, что у такой маленькой лошадки могут быть такие движения.
– Торгаутские лошади считаются в китайском Туркестане лучшими лошадьми, – сказал наставительно Иван Павлович.
– Ах, дядя Ваня, я хотела бы достать отличного туркмена. Говорят, они рослы и резвы, как чистокровная английская, а нарядны, как араб. Ах, если я разбогатею, я заведу себе завод, где будут самые лучшие в мире лошади. И сама буду скакать на них. Я слыхала, что в Ташкенте скачет одна барышня и берет призы. Правда?
– Да. Это Елена Петровна Петракова, дочь генерала.
– Завидую ей.
– Ну вам-то нечему завидовать.
– Почему?
– Да делаете все, что хотите.
– И отравляю вам жизнь, наслаждаясь своей волей.
– Нет. Но я ужасно за вас волновался.
– Милый дядя Ваня. Помните о равноправии.
– Но я мог бояться и за товарища.
Они перевели лошадей на шаг и въезжали на пост, где казаки с нетерпением ожидали возвращения лихой девушки.
Фанни, перед тем как слезать, повернулась к Ивану Павловичу и сказала: «Спасибо, дядя Ваня, на добром слове…»
И это ласковое слово, точно солнечным теплом, согрело одинокую душу Ивана Павловича.
VIII
Фанни каждое утро уезжала вдвоем с Царанкой. Она ездила на Аксае, на котором красиво сидела в полной гармонии с лошадью. Куда она ездила, она не говорила. Но пропадала надолго, до самого обеда.
На вопрос Ивана Павловича, куда она ездит, она ответила: «На Кудыкину гору», – а потом, точно стыдно ей стало грубого ответа, добавила: «Тренирую лошадь».
Ее лошади от работы, корма и заботливого ухода, которым их окружил Царанка, стали блестящими, статными и красивыми. Им завидовали казаки поста.
Но она не тренировкой лошадей была занята. Она ездила с какой-то определенной целью, она что-то делала, потому что ездила с сумами на седле, и эти сумы Царанка таинственно приносил в ее комнату. Сумы были тяжелые.
По ее подвижному живому лицу Иван Павлович всегда знал, что у нее – была удача или нет. Но она ревниво берегла свои секреты. А он не допытывался. Да и какое ему дело?! Он так был рад, что установились до некоторой степени товарищеские отношения, и ему казалось, что им обоим удалось взять верный тон во время обедов, ужинов и бесед. Мучило только одно. Что «говорят» теперь и в Джаркенте, и на Тышкане, и в Хоргосе, и в Суйдуне – словом, везде. Ничего не было. Жил в одном доме с ним сорванец-мальчишка, но говорили, должно быть, черт знает что. И Ивану Павловичу жаль становилось милую Фанни…
Так прошло две недели. Создалась привычка, и, когда Фанни опаздывала к обеду, Ивану Павловичу было беспокойно и скучно и он ходил взад и вперед по веранде, мурлыкал какую-то песню и все посматривал на горы, ожидая увидеть ее серый кафтан и папаху…
В комнату ее он никогда не входил. Она прибирала ее сама.
– Я еду на четыре дня, – сказала ему однажды Фанни.
– Ваше дело, – сухо сказал Иван Павлович.
– Да. Но говорю, чтобы вы не беспокоились.
– Я не беспокоюсь. У меня на это права нет.
– Будто?
Он не допытывал, куда она едет. Почему-то решил, что в Джаркент за покупками.
Ему было скучно эти четыре дня. Недоставало темных от загара маленьких ручек, наливавших ему его большую чашку чаем и подававших ром, недоставало ее мальчишеской усмешки, ее легких движений и аромата ее волос. Вечера казались скучными, и не тянуло смотреть с веранды на темное небо и яркие звезды. Даже по ее кабардинской шапке и винтовке, исчезнувшим на эти дни с гвоздя в его кабинете, он скучал.
Да, – стыдно было Ивану Павловичу в этом сознаться, – но он хандрил в отсутствие Фанни…
Она приехала еще более загоревшая. Ее волосы стали светлее и больше отдавали в золото, чем в каштан. Солнце пустыни не шутит. Она была пыльная, усталая, но по сверкающим глазам Иван Павлович заметил, что счастливая.
Она пошла купаться в Кольджатку, захвативши с собою тонкий шелковый халат и туфельки, и через час возвратилась, сверкающая свежестью, неся в руках кафтан, шаровары и сапоги.
– Ну и прожарилась я в этом костюме, – воскликнула она, поднимаясь на балкон. – Что же, вы недовольны, что я вернулась?
– Нет, Фанни… – он ее первый раз так назвал.
– Будто? – с сомнением покачивая головой с мокрыми волосами, небрежно скрученными большим узлом, сказала Фанни.
Они пообедали молча. После обеда она сказала:
– Дядя Ваня, я хочу с вами посоветоваться. Пойдемте ко мне.
Он не узнал теперь убогую комнату для приезжающих.
Ковры и вышивки, кисейные занавески, бриз-бизы на окнах, роскошное покрывало на одеяле и на подушках – это все было женское. Но стол и ящики подле стола и полки в углу, заваленные книгами и кусками каменных пород, – это уже было от того самоуверенного «мальчишки», который непрошеным гостем явился к нему на пост.
Большой букет альпийских горных цветов, набранный на плоскогорьях, стоял в глиняном дунганском кувшине, а рядом лежали молотки, маленькие кирки и ломики заправского минералога или золотоискателя.
Стоя у окна, освещенная яркими лучами, она брала куски камней со стола и подавала их один за другим Ивану Павловичу.
– Что вы скажете насчет этого? – протягивая большой полупрозрачный кусок нежного розового цвета, сказала она.
– Это розовый кварц.
– А это? – и она протянула ему кусок почти черного минерала, похожего на стекло.
– Это базальт.
– А это?
– Если не ошибаюсь – лабрадор.
– Да, милый дядя Ваня, и не только лабрадор, но нефрит, ляпис-лазурь, орлец лежат здесь у самого вашего носа.
– Я, да и все это знают. Скажу вам больше. Где-то на Среднеазиатской ветке, но только в стороне от нее, нашли серу…
– Да ведь это преступление – не разрабатывать все это.
– Ничего подобного. Не строить же нам, бедным поселенцам, дворцы из нефрита и базальта и украшать их колоннами из орлеца и ляпис-лазури.
– Нет. Конечно, нет. Но вывозить их.
– Овчинка выделки не стоит. Товар громоздкий, тяжелый, и его не повезешь гужом на две тысячи верст, через сотни перевалов, да еще при нашем полном бездорожье. Это не золото.
Фанни лукаво усмехнулась. Она подошла к шкафу и достала со средней полки несколько кусков совершенно белого камня, похожего на блестящий молочный сахар.
– Ну, тогда посмотрите это.
– Ну, что же – благородный кварц. Его здесь сколько угодно.
Она достала кусок побольше, покрытый коричневато-желтым налетом, будто ржавый.
– А это что? – с торжеством в голосе воскликнула она.
– Ну, что же – золотоносный кварц, – спокойно проговорил Иван Павлович.
– Это… золото, – прошептала она, восхищенная своей находкой.
– Да, золото, – холодно подтвердил Иван Павлович. – Золотая пыль. Но чтобы отделить эту пыль, нужны громадные машины, множество рабочих и труда и значит, – овчинка выделки не стоит. Сюда доставить эти машины, привести их в действие при отсутствии топлива – это почти невозможно, а главное, слишком мало этого золота на камне. Это знали и без вас. Давно знали.
Фанни была подавлена.
– Что же надо?
– Надо найти жилу. Вот если бы это была не золотая пыль, а маленькие комочки золота, слитки его, жилки между кварцем, стоило бы и искать его.
– А как же легенда о золотом кладе, зарытом в этих горах китайцами?
– Легенда легендой и останется. Потому она и легенда, что ничего этого нет.
Фанни печально смотрела на Ивана Павловича. Ей было горько, что ее работа, ее исследования, ее открытия, которыми она в душе так гордилась, оказались не новыми и бесполезными.
– Но я найду и жилу, и самородки! – упрямо сказала она. – И мы станем богаты, дядя Ваня.
– Говорите про себя. Я-то причем?
– Мы составим с вами компанию.
В этот вечер они долго стояли друг подле друга, облокотившись на перила. Внизу шумела в кустах рябины, барбариса, смородины и облепихи Кольджатка, а наверху тихо сверкали кроткие звезды.
Фанни говорила усталым голосом.
– Я не буду унывать и падать духом, дядя Ваня. Я найду это золото. Мы найдем рабочих дунган и китайцев, и мы выроем это золото. Кто знает, сколько его будет! И тогда мы поедем путешествовать. У меня есть двадцать пять тысяч рублей в банке, этого хватит для начала дела… А скажите, дядя Ваня, вы… вы нашли что-либо?
– Да, – тихо отвечал Иван Павлович, – я нашел. Мало нашел, но мне кажется, больше вас. И я думаю, что на верном пути.
– Простите. Я не спрашиваю… Где?
– Увы, не на нашей земле.
– Я так и знала. Там? – и Фанни маленькой ручкой махнула в сторону Китая.
– Да.
– Это ничего не значит, дядя Ваня. Мы достанем и оттуда!
IX
По приказанию командира бригады между Кольджатом, Джаркентом и Тышканским лагерем установили гелиограф.
Маленькая, нестерпимо яркая звездочка начала временами светиться в тумане далекой долины, где темным пятном мутно рисовались сады Джаркента. Она вспыхивала частыми и яркими всплесками солнечного света, давая позывные Тышкану, пока кто-либо из дремавших у треноги с зеркалом казаков не обращал на нее внимания, не становился у аппарата, а другой брал тетрадку и под диктовку – то по букве, то по слову – записывал медленно идущую гелиограмму. Гелиограммы были редкие и больше хозяйственного содержания. Справлялись о ценах на клевер и ячмень на Кольджате, сообщали, что хлеб, белье и консервы посланы, узнавали, сколько имеется на людях патронов и сколько патронов в запасе. Полковой врач справлялся у постового фельдшера, сколько больных на посту.
И в этом далеком мигании солнечной звездочки, за пятьдесят верст пускаемого «зайчика», было что-то таинственное. В хорошие дни, когда солнце особенно ярко светило, зоркий глаз казака-гелиографиста улавливал всплески света на противоположном горном хребте Кунгей-Алатау в Тышканском лагере и принимал сообщения непосредственно, без промежуточной станции.
Однажды под вечер, когда уже труднее стало улавливать косые лучи солнца, пошла «важная» гелиограмма. Начиналась она словами: «Секретно, весьма спешно!» Это сейчас же сообщили Ивану Павловичу, и он сам вышел к аппарату.
– «Начальнику Кольджатского поста. 19**. 11 июня. 6 часов 27 минут вечера. Получены сведения, что Зариф снова появился в Пржевальском уезде. Начальник области приказал послать отряды для его поимки. По приказанию командира бригады Аничков с 30 казаками сегодня пошел на Зайцевское, выступите немедленно пустыней на Каркару, соединитесь с Аничковым. Действуйте по обстоятельствам. 0139. Первухин…»
Гелиограмма была от командира полка, и содержание ее было ясно для Ивана Павловича. Зариф был таранчинец, знаменитый вождь шайки разбойников, набранной из отчаянных головорезов-каракиргизов, отлично вооруженных ножами, винтовками и револьверами. Он был грозой киргизов во время их летовок, а иногда осмеливался нападать и на русских переселенцев. Осенью прошлого года казаки гонялись за ним, но безуспешно. Он почти на их глазах вырезал небольшой молодой поселок и ушел за границу, в Китай. Китайское правительство обещало его поймать и выдать, но все отлично понимали, что оно бессильно это сделать.
Он снова появился в пределах России и крутился, по своему обыкновению, в горах, угоняя стада, уводя женщин, беспощадно грабя киргизские кочевья. За поимку его была обещана награда. Уничтожение этого опасного разбойника, издевавшегося над русскими войсками, было вопросом самолюбия для казаков. В случае его успеха к нему могли примкнуть каракиргизы, и Центральная Азия могла стать на долгое время ареной кровавой политической борьбы.
Про Зарифа рассказывали легенды. Он обладал, по словам таранчинцев и дунган, способностью проходить в день более трехсот верст. Или у него были двойники, или он мог одновременно появляться в разных местах. Его видели в Верном в образе продавца фруктов, разговаривающего с губернатором, и в тот же день он ограбил в Копальском уезде караван с чаем. Он проваливался сквозь землю, когда его окружали войска. Ездил он на особенном, пегом, белом с черными пежинами коне, едва ли не крылатом, и настичь его на обыкновенной лошади было невозможно. Он, наверно, знался с шайтаном, если только это не был сам шайтан, принявший на себя человеческое обличье.
Собраться сибирскому казаку в поход, в пустыню, хотя бы на месяц, – полчаса, не больше. Едва только Иван Павлович объявил на посту содержание гелиограммы и отделил сорок казаков на лучших лошадях, которые должны были идти с ним в набег, как уже казаки повели поить лошадей в Кольджатке, стали набирать ячмень в саквы и выносить всегда уложенные по-походному вьюки.
Фанни увидала эту суматоху и подошла к Ивану Павловичу, укладывавшему во вьюки консервы, чай, сахар, сухари и разную мелочь.
– Вы куда-нибудь уезжаете, дядя Ваня?
– Да.
– Куда?
– Принужден ответить вам грубостью. Какое вам до этого дело?
– Вы правы. Мне до этого нет никакого дела. Но так как я могу быть вам полезной, то я и спрашиваю вас об этом.
– Вы мне полезной в моей поездке быть не можете, а мешать будете.
Фанни надула губы.
– Кажется, я вам не мешала до сих пор.
Иван Павлович не ответил. «Действительно, – подумал он, – мешала она мне или нет? Стала с ее приездом моя жизнь лучше и уютнее или хуже? То стеснение, которое она делала, не окупалось ли оно ее хозяйственными способностями, а главное, ее милым, веселым характером?» Было бы жестокой несправедливостью сказать, что она ему мешала.
– Нет, не мешали. И я вам скажу: мы едем в военную экспедицию, в набег, в котором для женщины нет места.
– Почему?.. Нет, дядя Ваня, вы возьмете меня с собой.
И она бросилась переодеваться и приказала Царанке седлать и вьючить лошадь.
Она явилась на дворе, где уже строились казаки во всеоружии: в кабардинской шапке, лихо заломленной набок, с винтовкой за плечами, с ножом и патронташами на поясе.
– Фанни, – строго сказал ей Иван Павлович. – Вы не поедете с нами. Я вам это запрещаю.
– Я умоляю вас взять меня. Помилуйте. Военная экспедиция. Такой редкий случай. Дядя Ваня!
– Ни за что. И думать не смейте. Я не хочу рисковать вами… Да и своей служебной карьерой тоже.
– Дядя Ваня, я не стесню вас.
– И думать не смейте. Ни за что!
– Я сама поеду.
– Вы заставите меня употребить насилие. Я окружу вас казаками и со скандалом верну вас на пост.
Она заплакала.
– Дядя Ваня, это жестоко! За что вы со мною так поступаете?
Он молчал.
– Дядя Ваня, я все для вас сделаю, что вы ни попросите, только возьмите меня с собою.
– Я уже сказал вам, что не возьму. Потрудитесь идти в дом, переодеться в свое платье, расседлать ваших лошадей и терпеливо ожидать нас на посту, не смея никуда без меня отлучаться, так как неизвестно, куда бросятся разбойники, когда мы их нажмем.
– Вы гонитесь за разбойниками. И не берете меня, – простонала в отчаянии Фанни.
– Не беру-с!.. Потрудитесь идти в дом и переодеться…
Фанни знала характер Ивана Павловича и поняла, что дальнейшие разговоры бесполезны. Она замолчала.
Но она не пошла в дом и не переоделась, а решила ожидать во всеоружии на посту возвращения «счастливого» дяди Вани.
– Вахмистр, готовы люди? – крикнул Иван Павлович.
– Готовы, ваше благородие, – отвечал молодой, черноусый урядник Порох, бывший на посту за вахмистра.
– Носилки забраны?
– Забраны.
– Фельдшера и кузнец есть?
– Однако, есть.
– Господи, благослови! Айда, ребята, с Богом.
Иван Павлович сел на Красавчика и тронул его от поста. За ним стали вытягиваться казаки. Остающиеся десять казаков с пожеланиями счастливого пути проводили их до ворот с трепыхавшимся над ними вылинявшим русским флагом. Проводила вместе с ними и Фанни. Печальная, до глубины души оскорбленная, задетая за живое, она стояла у ворот и полными слез глазами смотрела, как спускался по красноватой песчаной дороге отряд всадников на маленьких пестрых лошадях. Тонкая пыль, озаренная последними лучами заходящего за горы солнца, вилась над ними и казалась золотой. Туманная даль, лиловые горы манили, суля неизведанные волнения, обещая новые переживания, обещая «приключения», которых так жаждало пылкое сердце Фанни.
Темная тихая ночь без луны незаметно надвинулась над пустыней. Загорелись яркие звезды и стали перешептываться между собой лучами, плетя бесконечную сказку мира. Фанни уселась у ворот на камни, поставила винтовку подле себя и стала внимать ночным шорохам земли: неумолчному шуму Кольджатки, тихому шепоту веками скользящих ледников и неуловимо тихому шелесту песков пустыни.
И волшебная темная ночь у подножия Божьего трона заколдовала ее.
X
Иван Павлович шел на соединение с Аничковым «лавой». Этот чисто восточный способ передвижения заключался в том, что шли, не останавливаясь, шагом, рысью и наметом до тех пор, пока хватало сил у лошадей. Потом отыскивали в степи табун, отбирали в нем лучших лошадей, переседлывали, своих, усталых, пускали в табун, а на свежих гнали дальше.
Переседлавши в предрассветном сумраке, Иван Павлович за ночь сделал восемьдесят верст, спустился в пустыню и около восьми часов в ярком блеске солнца и песков увидал глинобитные стены и низкие длинные постройки с плоскими соломенными, облепленными землей крышами маленького полуразрушенного кишлака у станции Менде-Кара, где, по его расчету, должен был ожидать Аничков.
И действительно, под навесами стояли оседланные лошади, а между ними крепким дневным сном спали казаки. Ружья лежали подле них.
Маленький приземистый казак с винтовкой на плече вытянулся перед Иваном Павловичем.
– Хорунжий Аничков здесь? – спросил у него Иван Павлович.
– У хате, – коротко ответил казак.
– Давно приехали?
– Да часа два как тут, ваше благородие.
– Ну, ребята, – сказал Иван Павлович уже слезшим казакам, – живо чаю, вари себе плов, отдохни мало-мало, после полудня и дальше.
– Понимаем, ваше благородие.
Не прошло и получаса, как на дворе горели костры из саксаула, в нанизанных на прутья котелках кипела вода и варился рис под наблюдением «очередных», лошади жевали сено, а казаки, разметавшись в самых невероятных позах, храпели на все лады «в солкынчике»[57] длинного пустого навеса.
Аничков сидел в хате на соломенной циновке подле низкого, в пол-аршина, квадратного желтого полированного стола, на котором были дунганские лепешки из полусырого теста, круглые низкие фарфоровые чашки без ручек и без блюдечек и два котелка: один – с кипятком, другой – с заваренным чаем.
Против Аничкова, поджав ноги, сидел худой желтый дунганин в грязно-серой длинной рубахе, маленькими косыми глазками поблескивал на офицера и отвечал короткими гортанными звуками. Говорили по-киргизски.
– Ну вот и ты, слава Богу, – сказал Аничков, вставая навстречу Ивану Павловичу.
– Ну как? Что разведали?
– Дело дрянь. Вот, видишь ли, – Аничков достал из полевой сумки испещренную густыми и черными горизонталями карту и разложил ее на столе.
Иван Павлович подсел к столу. Дунганин дул на чашку с чаем, с суеверным страхом косился на карту, но все посматривал на нее и прислушивался к тому, что говорили между собою по-русски офицеры.
– Вот, видишь ли… Дунгане и переселенцы в Зайцевском уверяют, что Зариф уже в Пржевальске или его окрестностях. Если нам идти, как приказано, на Каркару и через почтовый перевал на Пржевальск, все будет кончено. Пехоте… а какая там пехота и сколько – сам знаешь… Местная команда… Разве она за ним угонится! Значит, и Иссык-Кульский монастырь, и Сазановка в его власти. И мы… опять в дураках.
Аничков поднял свое худощавое лицо без бороды и усов, темное от загара, и остро-карими глазами посмотрел на Ивана Павловича.
– Так как же? Другого пути нет.
– Да, нет. А поэтому мало-мало надо считать двести верст.
– Да хоть и лавой идти – меньше двух суток не обернешься.
– А устанут люди как! А ведь настигли – и прямо бой. Зариф-то в Пржевальске лошадей сменит, а мы где!.. У Зарифа глаза везде – ему про нас скажут, а нам никогда.
Иван Павлович поник головой. Выходило, опять впустую. Опять в свиной след попадут, опять победа Зарифа и срам для сибирских казаков.
– Эх, нехорошо, – с досадой проговорил Иван Павлович.
– Что говорить… Плохо. Но смотри, что я надумал. Вот урочище Менде-Кара, где мы, а вот Пржевальск, где Зариф. Ведь сорок верст всего! Каких-нибудь двадцать дюймов по карте, – растопыривая по плану темные пальцы, сказал Аничков.
– Но горы?
– Видишь, ущелье отсюда и ущелье оттуда, а между – ледник. Почти сходятся. Я спрашивал дунгана, говорит, что киргизы летом здесь скот перегоняют в Пржевальск. Я послал за проводником. Как ни труден путь – за двенадцать часов сделаем его, а главное, насядем на Зарифа оттуда, откуда он нас никак не ждет.
– Ну что же, – раздумчиво сказал Иван Павлович, – попробуем.
– Да не попробуем, а сделаем. Если Зариф сегодня у Пржевальска, он сразу не нападет – побоится. Нападет завтра. А завтра мы его окружим. Проводник – мой тамыр[58] – человек надежный… Согласен.
– Ладно. А пока поспим. Я всю ночь в седле.
– Да и я тоже, – зевая, сказал Аничков.
Они допили чай, завернулись в бурки и улеглись на земляном полу в тенистой прохладе сумрачной дунганской фанзы.
Дунганин, тихо ступая босыми ногами между спящих, прибрал посуду и вышел за дверь дома. И в доме, и на дворе была томительная предполуденная тишина. Под навесом лошади лениво обмахивались хвостами и уже перестали жевать. Жара томила.
Солнце с безоблачного темно-синего неба лило жгучие лучи на желтый песок пустыни, на черные камни скал, на серую колючую траву, жесткими пучками торчавшую кое-где между камней, и на редкие, сухие, безобразные, точно серые змеи, ползущие по камням, мертвые стволы саксаула. Недвижный воздух был пропитан зноем. Большой орел застыл в небе, распластав в небесной синеве громадные крылья, черные с белым, и неподвижность пустыни нарушали только ящерицы с задранными кверху хвостами, озабоченно перебегавшие по раскаленному, как печь, песку.
Дунганин оглянулся на дневального казака – но и тот, казалось, стоя спал.
Дунганин сделал два шага и вышел за ворота. Здесь зной казался еще сильнее. Далекие горы резко блестели в безоблачном небе белыми пятнами ледников, казавшихся маленькими пушинками, насевшими на лиловых навесах и пиках вершин.
Дунганин быстрой и легкой походкой пошел по раскаленному желтому песку. И долго было видно, как мелькали его коричневые икры по поднимавшейся к горам пустыне и то поднималась, то опускалась черная голова.
XI
В одиннадцать часов приехал проводник. Это был немолодой, рослый, могучего сложения киргиз. Он приехал на маленькой тощей рыжей лошади, и казалось, что он раздавит ее своим большим тяжелым телом, одетым в теплый ватный халат, белый с темно-лиловыми полосами, и в шапку лилового бархата с опушкой из лисьего меха.
Открытая грудь, поросшая густыми волосами, была черна и серебрилась мелкими каплями пота, как роса, сверкавшими на мехе его волос. Черные прямые жесткие усы и маленькая бородка были на его темно-бронзовом лице.
– Ассалам алейкум! – сказал он, входя в фанзу и прикладывая ладони ко лбу.
– Алейкум ассалам, – поднимаясь, сказал Аничков, поздоровался за руку с киргизом и повел с ним беседу.
– Можно пройти, – весело сказал он Ивану Павловичу, – но надо идти сейчас, чтобы до ночи пройти ледник. Ночью идти нельзя.
– Ну, так я иду будить казаков, и айда!
Не прошло и десяти минут, как сонный двор был полон жизни. Кряхтели и стонали лошади, которым туго подтягивали подпруги, из колодезной ямы носили парусиновые ведра и поили лошадей, и с тихим гомоном садились на коней казаки. Сон не сошел еще с их распаренных зноем лиц. И движения были медленны и ленивы.
Тамыр Аничкова, сидя на своем рыжем коньке, покорно ожидал у ворот.
– Ну, – сказал Аничков, на прекрасной, рослой кровной лошади выдвигаясь к нему, – айда.
Отряд стал вытягиваться из ворот.
Пустыня полого поднималась к горам, и горы казались близкими. Ровный и плотный, точно утрамбованный, выглаженный водами давнишнего потопа, песок был красновато-желтого цвета. Розовая пыль поднималась от отряда и казалась прозрачной дымкой. Пучки желтой верблюжей травки становились реже и наконец исчезли. Кругом был только песок, и перед глазами часами стояли горы, все такие же близкие, но до которых никак не добраться.
Лошади сбавили ход. В синеве знойного неба трепетали над желтыми песками обманчивые миражи. Расстилались студеной синевой прозрачные озера, над ними в мягкой зелени тамарисков, груш и яблонь стояли дунганские кишлаки. В небе дрожали причудливые лиловые пики гор, которых на деле не было. Воздух точно играл, дрожал и переливался, создавая все новые картины.
Два часа пути не изменили ландшафта, только действительно придвинулись горы, стало легче дышать, воздух стал более редким. Но от раскаленных гор пылало жаром, как из печи, и лошади и всадники изнемогали от зноя.
На одиннадцатой версте в песке пустыни обнаружилось широкое углубление, сплошь забросанное шлифованными ползшим когда-то здесь ледником серыми камнями. Сошли в это углубление и пошли по мелкой гальке. Долина становилась глубже. Оба берега поднимались по краям на несколько аршин, обнажая породу камня и показывая сланцевые наслоения. Из песчаных осыпей кое-где торчали корявые ветки саксаула. Местами из-под земли среди камней пробивался тихо журчащий ручеек, разливался по песчаной осыпи и исчезал в песке. Мокрый песок был буро-красного цвета, и из него густо торчали иголки ярко-зеленой травы, и сверкали низкие желтые звездочки горного одуванчика.
Стало свежее. Холод гор и близость ледника дали наконец себя чувствовать, и казаки вздохнули полной грудью. Подъем становился круче. Русло было завалено крупными камнями, скалами, между которыми вилась чуть заметная тропинка. По бокам уже не был песок – гнейс и сланцы, но торчали черные скалы базальта, перемежаемые гранитами и порфирами. Шли по узкому коридору, по-одному, один на хвосте у другого. Разговоры и тихие протяжные песни в колонне смолкли. Вошли в ущелье мертвых диких гор, и давило величие скал и пиков. Под ногами непрерывно струился ручеек студеной воды, но не было травы, и темно-зеленый, почти черный мох покрывал скалы.
Орлы реяли над колонной. Их потревожило вторжение людей, и они срывались со скал, подпуская к себе так близко, что отчетливо были видны их большие и кривые клювы цвета слоновой кости и зоркие смелые глаза.
Наконец путь преградила осыпь громадных камней, наваленных один на другой. Пришлось карабкаться, цепляясь руками и помогая друг другу. За казаками карабкались лошади. За каменистым кряжем была ровная и чистая площадка нежного серебристого песка – дно бывшего здесь озера. Прошли его спорой рысью и подошли к беспорядочно наваленной груде камней, как лестница поднимавшейся наверх.
Воздух был редок и прохладен. Вечерело. Каждый аршин пути завоевывался с трудом, колонна растянулась, и люди, и лошади карабкались в гору, как козявки. Ни один звук не нарушал тишины гор, и в их вековечном безмолвии слышался топот копыт, тяжелое дыхание людей да вздохи и стоны падавших коленями на камни лошадей.
Древность породы, непостижимая человеческому уму тайна образования этих пиков, каменных осыпей, следы бывшей здесь когда-то титанической работы природы, которая льдами и водой шлифовала порфиры и граниты, присутствие здесь когда-то страшной массы воды, которая отлагала пласты слюды, сланца, глины и песка, разбросанные в беспорядке громадные камни и скалы, брошенные откуда-то страшной силой и вросшие в землю, – все говорило, что здесь раньше не было покоя. Двигались скалы и горы, бушевало море потопа, далекий вулкан бросал каменья на десятки верст, а потом медленно, упорно, с жестокостью природы ползли вниз громадные ледники. Это было. Когда? Никто из живущих здесь не помнит когда. Ни одна здешняя летопись не говорит об этом. И повествуют это только скалы, пролетевшие пространство, только истертые бока твердых каменных пород да жесткий кварц, обращенный в нежный, серебристый, легкий, полупрозрачный песок.
Жутко было здесь человеку, заглянувшему в тайны мироздания и прочитавшему книгу природы, услышавшему те «неизреченные глаголы», которые, по словам пророка, нельзя слышать безнаказанно людскими ушами.
Должно быть, солнце, давно невидное из узкого коридора скал, село за горы. Сумерки надвинулись. Небо стало темное, и ярко вспыхнули звезды. Иван Павлович нашел в полутьме хвост лошади головного дозора. Дозоры стояли. Оставив Красавчика, он протискался вперед. Аничков и киргиз совещались.
– В чем дело? – спросил Иван Павлович.
– Дальше идти нельзя, – отвечал Аничков.
– Как? Совсем?
– Нет, до утра. Мы стоим под ледником. Наверх пробита в снегу лестница, но сейчас ее не видно. В снегу могут быть провалы, заметенные снегом. Надо ждать до утра.
– Печально.
– Ничего не попишешь.
Иван Павлович с Аничковым прошли вперед. Щель расширилась, образовалась как бы чашка в скале. Под ногами захлюпала вода. Серебристо-белой стеной, преграждая дорогу, саженей десять вышиной, перед ними лежал ноздреватый снег. Ледяным холодом обжигало дыхание… Когда они остановились, стала слышна непрерывная капель на разные тона воды, падавшей со дна ледника в озеро.
Казаки вывязали из вьюков шинели и оделись в них. Появились маленькие сучки саксаула, которые опытный сибирский казак не ленится собирать на походе в пустыне, зная, что на привале нигде не достанешь леса и дров; запылали костры, бросая причудливые тени на снеговую стену и отсвечивая в ней красноватыми пятнами, и казаки уселись «чаевать».
XII
О, эта ночь, долгая ночь в горах у подошвы ледника! Ночь без ярких больших костров, которые могут согреть, ночь после зноя похода по раскаленной пустыне. Тихая молчаливая ночь. Какой бесконечно долгой и холодной казалась она казакам!
Сначала тишина ее нарушалась гомоном людей, сходившихся к котелкам с чаем и пившим чай, раздавались короткие, деловые замечания. Слышалось чавканье и дутье на горячие котелки и железные кружки. Потом водили поить лошадей, возились над ними, снимали седла и вьюки. Навешивали торбы с ячменем. Около получаса в сплошной темноте слышалось частое жевание лошадиных челюстей, довольное фыркание и тяжелые вздохи. Потом люди гомоздились, укладываясь кучками между скал, раздалось сопение, притихли лошади и тоже заснули, понуривши головы.
Иван Павлович и Аничков долго не могли уснуть. Цыганский пот пробивал, и тело в мокром белье не могло согреться.
Иван Павлович прислушивался к непрерывной капели воды, и его раздражала настойчивость и ритмическая последовательность ее, ничем не нарушаемая, вероятно, веками. Сначала падала одна большая тяжелая капля, дававшая глухой, плоский звук, потом быстро с серебристым звоном падали две маленькие капельки, и опять большая, тяжелая плоско плюхалась в лужицу. Через строго определенные промежутки времени какая-то чашечка, выдолбленная этими каплями в скале, переполнялась и оттуда с легким журчанием выбегала крошечная струйка. Иван Павлович сосчитал, что падало шесть больших капель и одиннадцать малых и после одиннадцатой бежала струйка. Так было вечно. Сколько времени понадобится, чтобы настолько углубить эту чашечку, чтобы струйка выбежала после двенадцатой малой капели или после седьмой большой? Ужас охватывал от сознания этой медленности и настойчивости работы природы. Ему захотелось нарушить ее расчеты, подойти, ударить ногой в снег, изменить расстояние между льдом и чашечкой, продолбленной в камне. Тогда будет какой-то другой ритм, который не сразу наладится.
Но ему было лень встать. И, борясь с желанием вступить в мелочную борьбу с природой, и ленью, и истомой, все более и более охватывавшей его тело, он начал засыпать.
Подумал о Фанни. Она бы непременно встала и разрушила бы это. Из своего мальчишеского упрямства сделала бы. Вспомнив ее, почему-то улыбнулся счастливой улыбкой и заснул крепким сном.
Проснулся он от свежего мужского голоса, который не то пропел, не то проговорил нараспев:
– Ах, да зачем эта ночь была так холодна.
Иван Павлович открыл глаза. Было еще темно, но звезды гасли, снег казался серым, и стали видны силуэты людей. Пропел эту фразу веселый казак Попадейкин, уже мостившийся, чтобы согреть чаю. Люди просыпались, потягивались, зевали… Начали поить лошадей, задавать ячмень, седлать и вьючить.
Стало светло. Но солнца не было. Оно было за горами, и было очевидно, что лишь около полудня заглянут его лучи на эту снеговую массу и начнут растапливать ледник.
Теперь стала видна узкая тропинка, протоптанная в снегу киргизами. Она врезалась в ледник и поднималась на его вершину. Легкая белая пушинка, будто прилипшая между двух черных утесов, оказалась ледяной равниной, тянувшейся на версту. По леднику проходили скорым шагом. Торопились миновать его. Знали о предательских расселинах в снегу, в которые можно провалиться безвозвратно. И когда снова под конскими ногами застучал твердый камень шлифованной скалы, вздохнули свободно, полной грудью. Еще несколько шагов – и были на перевале. Отсюда был ровный пологий скат по скале, уходивший в густой еловый лес. Необъятный простор и ширь открылись взорам казаков. Совсем близкое, окруженное горами, громадное, как море, синело густым сапфиром озеро Иссык-Куль. Горы спускались к нему пологими холмами, покрытыми квадратами полей. Черные, паровые поля чередовались с синевато-зелеными нивами ржи и зеленью лугов. Вились дороги, пестрыми крышами среди зеленых садов стоял, как игрушка, Пржевальск, видна была группа деревьев и скала памятника Пржевальскому, а за Пржевальском – снеговые горы без конца.
Отряд вошел в еловый лес. Среди можжевельника, как колонны тихого храма, высились серые стволы алтайской ели, и мутная зелень ее игл издавала легкий смолистый запах.
Едва заметная тропинка влилась теперь в широкую лесную дорогу, по которой волоком таскали деревья. Отряд сел на лошадей и быстро стал спускаться.
У домика лесника его хозяин вышел на топот коней и с удивлением смотрел, откуда появились казаки. Спросили его о Зарифе, но он ничего не слыхал.
Около полудня разведали Пржевальск. Там уже была тревога. Зарифа ожидали вчера из Каркары, но он не пришел. Обрадовались казакам, уговаривали их остаться, но Иван Павлович перемигнулся с Аничковым, и они пошли по почтовому тракту на восток.
Вечером у самого перевала еще раз переменили лошадей в хорошем киргизском табуне. Не без грусти оставил Иван Павлович своего Красавчика и сел на чужую, плохо знающую повод лошадь, и только Аничков ехал на своем блестящем, кровном, золотисто-рыжем Альмансоре, который не знал утомления.
На перевале встретились киргизы. Они бежали из Каркары. Там был Зариф со своей шайкой. Он резал баранов, угонял табуны, забирал все богатства киргизских кочевьев.
Старики и старухи спаслись, молодые киргизы частью были убиты, частью рассеялись в горы, девушек Зариф брал с собой… Продаст в Аксу или Турфане…
Это известие оживило изнемогавших от долгого пути казаков. Свежие лошади шли хорошо, и в сумерках отряд проходил мимо громадной груды, наваленной высокой пирамидой, по преданию, войсками Тамерлана, когда они шли в Европу, и рядом лежала маленькая кучка камней – это были камни, положенные солдатами великого монгола на обратном пути. Каждый воин клал камень, когда шел туда, и каждый положил при возвращении. Так наглядно исчислил Тамерлан свои потери во время похода на Европу.
Два трупа киргизов лежали на дороге. Они говорили красноречивее рассказов и донесений о близости разбойника.
Было совсем темно, когда казаки вошли в долину Каркары. Вперед от гор до гор побежали дозоры. Казаки сняли винтовки. В темноте ночи сторожко шли казачьи кони.
В полночь наткнулись еще на труп киргиза. Он был совершенно свеж. Орлы и вороны не успели исклевать, и шакалы не тронули его. Еще сегодня шайка хозяйничала здесь. И стало ясно, что Зариф о чем-то пронюхал и побоялся идти на Пржевальск и вдоль озера к русским поселкам, но ограничился грабежом киргизских летовок и ударился назад, к китайской границе.
Каркара, обычно в летнее время полная табунов и стад, была пуста. Ее как вымело. Изредка попадались одиночные овцы, отбившиеся при угоне.
Отряд Ивана Павловича шел рысью и наметом. Охотничьи сердца казаков разгорелись, темная ночь была не страшна, а долина реки Каркары была обставлена кругом горами, и в ней нельзя было заблудиться.
Далеко за полночь подошли к спуску с плоскогорья. Дорога раздваивалась. Труднопроходимая, каменистая узкая тропа шла подножиями Хан-Тенгри через много тяжелых перевалов и ущелий в Китай, большой тракт сворачивал на север и направлялся через Зайцевское в долину реки Или.
– Ты знаешь, Николай, – сказал Иван Павлович, подъезжая к остановившемуся на распутье Аничкову, – не понравился мне дунганин в Менде-Кара.
– Да… Конечно, это он донес о нас Зарифу и заставил свернуть от Пржевальска.
– Уйдет опять…
– Посмотрим.
– Как думаешь, как он пошел отсюда?
– Пошел по тракту и, не доходя до Зайцевского, свернул на Кольджат.
Мучительной, незнаемой раньше болью сжалось сердце Ивана Павловича. Фанни вспомнилась ему, встала перед ним в своем сером армячке и кабардинской шапке, и суровый воин и житель гор почувствовал, как похолодели руки и ноги, сердце остановилось от тоски и страха за нее.
– Ну конечно, – продолжал Аничков, – по горной тропе стада добычи скоро не погонишь, а он торопится.
Большой тракт и дорога вдоль Или кружна. Джаркент близок, и он боится, что там ему перережут путь. Лазутчики и преданные киргизы и дунгане сказали ему, что в Кольджате никого нет, и он пойдет на пролом Кольджатского поста.
– Вперед! – бешено, не своим голосом крикнул Иван Павлович, и отряд помчался к краю долины Каркары, к извилистому спуску в Илийскую долину.
XIII
Яркие огни выстрелов метнулись сполохами в полусвете нарождающегося дня, и горное эхо прокатилось по ущельям.
У спуска толпились стада. Тревожно блеяли бараны, быки сгрудились темно-бурой массой, и белые рога торчали над ними каким-то частоколом. Ревели потревоженные верблюды. Человек двадцать конных киргизов, охранявших их, открыли стрельбу по казакам.
– Строй лаву! – крикнул Иван Павлович. – Айда за мной!
Аничков выхватил из ножен стальную полоску дорогого клинка и, пустив Альмансора, мчался на маячившего с винтовкой в руках, на хорошей сытой лошади, богато одетого киргиза.
Грянуло «ура». Киргизы поскакали в стороны.
Аничков нагнал богатого киргиза. Киргиз бросил винтовку, соскочил на полном ходу с лошади и покорно стал на колени. Узкие глаза его бегали по сторонам и горели злобой. Казаки окружили его.
Иван Павлович организовал захват скота, оставил десять казаков для его охраны и подъехал к пленнику.
Он говорил на горном наречии каракиргизов, и его с трудом понимали казаки. Он «большой человек», помощник и правая рука Зарифа, Зариф поручил ему вчера остаться со стадами для отдыха в долине, а сам с главной добычей пошел на Кольджат, чтобы очистить путь.
Настал ясный день пустыни. Синее небо куполом опрокинулось над землей, без облака, без дымки, без намека на тучи. Казаки еще раз сменили лошадей и сели на лучших коней, отобранных из добычи Зарифа.
От края плоскогорья шли опять две дороги: одна – на Хан-Тенгри, другая – к Кольджату. И опять брало сомнение. Путались следы. Куда пошел Зариф? «Большой человек» мог и соврать, и Аничков задержал Альмансора, вглядываясь в притоптанную и тут и там пыль дороги. Где истинный, где ложный след?
Но Иван Павлович не раздумывал. Даже если бы Зариф не пошел на Кольджат, Иван Павлович пошел бы туда: там была Фанни – и весь интерес погони, охоты за разбойником, жажда подвига и славы, награды – все затмилось новым сильным чувством беспокойства за кого-то дорогого… любимого… да… может быть… любимого…
Был знойный полдень. Отряд только что поднялся на перевал. Внизу, под крутым обрывом, показались чуть видные в далеком мареве постройки Кольджата.
Аничков, выехавший вперед, вдруг круто осадил своего коня и крикнул взволнованным голосом:
– Гелиограф!
Кругом столпились казаки. Гелиографист доставал из пыльного чехла зеркало и устанавливал треногу.
Джаркент говорил с Кольджатом…
В далеком тумане пустыни у темного пятна садов Джаркента вспыхивала и угасала огненная точка.
О чем мог говорить Джаркент с Кольджатом? Что сообщал Кольджат Джаркенту и, если он просил помощи, то помощь ближе отсюда и надо вызвать Кольджатскую станцию сюда и расспросить ее. И, если там… не все благополучно, нестись по кручам вниз, без дороги, по горному скату, где и козы не проходили.
Авось пройдет киргизская лошадь с сибирским казаком!..
Зеркало Джаркентской станции мигало в бесконечной дали. Надо было отсюда схватить луч Джаркента и сказать ему, чтобы Кольджат связался с ними, назад, и вошел в лучевую связь с отрядом.
И долго стучал ключ зеркала в черных руках гелиографиста, подавая позывные Кольджата Джаркенту. Не так долго, как казалось долго. Занятые работой гелиографисты не сразу заметили блистанье зеркала над Кольджатом, не сразу сумели указать Кольджату направление новой станции. Проходили минуты, и казались они часами. Зеркало мигало и погасало и снова мигало, то часто, то останавливаясь, и казалось, что чья-то молодая жизнь трепещет в объятиях смерти предсмертными трепыханиями и мукой. Наконец, сверкнуло зеркало Кольджата, направленное на отряд.
Станции связались. И Кольджат заговорил торопливо, нервно, путаясь, ошибаясь в буквах, пропуская точки, путая слова…
– Положение отчаянное. Зариф большими силами окружил нас. Из двенадцати шесть ранено. Патроны на исходе. Готовится атаковать нас. Нужна немед…
Оборвался и погас. И никакие позывные не могли заставить Кольджат заговорить снова яркими огневыми лучами солнца. Да никто и не слушал дальше. На дороге остался один гелиографист с аппаратом.
С криком «айда, за мной» Иван Павлович ринулся с кручи, и покатилась, и заскользила его лошадь, подминая его под себя. Он вскочил… Было больно, неловко в плече, но он преодолел боль и пошел пешком за казаками. Упершись передними ногами в песок и осторожно ими перебирая, широко расставив задние и севши на круп, скользили лошади широкой лавой по крутому спуску более версты вниз.
Впереди всех, вспотевший от страха, спускался могучий золотистый Альмансор с худощавым Аничковым.
Перевернулся и упал один казак, у другого лошадь покатилась на боку и делала жалкие усилия встать…
Внизу слышнее становились выстрелы и дикий вой киргизов, обложивших густой цепью Кольджат. Стали видны в лощине их сбатованные лошади и тяжелые вьюки с добычей…
XIV
Зариф почуял опасность. Еще казаки были на середине спуска, как по его приказанию осаждавшие Кольджат каракиргизы стали маленькими партиями перебегать к лошадям и на глазах скользящего вниз по спуску отряда разбирали вьюки. Несколько казаков открыли стрельбу по разбойникам, но это только ускорило их сборы. Среди них появился всадник на пегой лошади, и по его знаку вся ватага киргизов бросилась наутек. Спуск стал положе. Аничков поднял Альмансора в галоп, за ним понеслись успевшие выбраться с кручи казаки. По горному плато мимо Кольджата неслось две группы всадников, и расстояние между ними все увеличивалось. Только кровный и рослый Альмансор могучими прыжками, выпущенный вовсю, быстро приближался к всаднику на пегом коне. И казакам была видна с горы напружившаяся, нагнувшаяся вперед тонкая фигура Аничкова с выхваченной и ярко блестящей в опущенной руке кривой шашкой, с небольшой головой на тонкой длинной шее, похожая на хищную птицу. Зариф понял, что ему не уйти на своем крылатом пегасе, вороном с белыми пежинами, от этого тонкого офицера. Он нервно ударил плетью по бокам пегого и вынесся вперед своих киргизов. И сейчас же увидел опасность с другой стороны. От Кольджата наперерез ему неслось шесть всадников. Впереди два на лучших конях, сзади четверо казаков. Скакавший впереди всех юноша был в высокой серой бараньей шапке и длиннополом сером кафтане. Зариф заметил, что он был красив, как может быть красива только женщина. Ему почудилось, что это ангел смерти Азраил мчится наперерез его пегому. И тошно стало у него на сердце.
Он гневно ударил плетью пегого коня. Не хотелось ему погибать от руки этого белого юнца. Он выхватил револьвер и приготовился стрелять по преследователю. Но вдруг какая-то черная змея сверкнула, с тонким свистом разворачиваясь в воздухе, и он почувствовал, как его руки и плечи крепко обвил волосяной аркан, грудь его сдавило, и он невидимой силой был стащен с седла, повержен на землю и покатился по песку. И сейчас же спереди на него наскочил юноша в сером одеянии, а сзади молодой офицер, которого он давно знал как самого смелого офицера Сибирского полка.
Юноша закричал звонким девичьим голосом кому-то:
– Царанка, накинь пегаша!
Торжество и упоение победой звучали в женском голосе, и стало от этого Зарифу нестерпимо больно, досадно и обидно. Но он сдержал нахлынувшую обиду и горе, придал своему темному лицу выражение непоколебимой покорности воле Божьей и ожидал, поверженный на землю и сильно разбившийся, что будет дальше.
Казак с лицом киргиза ловко накинул петлю аркана на его пегого, и пегий, полузадушенный петлей, метнулся на дыбы и рухнул на землю.
Разбойники, увидавшие гибель своего вождя, растерялись, начали метаться вдоль площадки, не зная, где спускаться, и казаки нагнали их и врубились. Тяжелые шашки разламывали черепа, и окровавленные трупы падали на землю. Казаки знали, что толстого наваченного халата им никогда не перерубить, и старались нанести удар прямо по лицу, и это привело в ужас киргизов. Они стали соскакивать, бросать оружие, становиться на колени, молить о пощаде.
Кто-то из казаков уже повел лошадь Ивану Павловичу, и он явился в разгар рубки, остановил властным голосом излишнее кровопролитие и приказал забирать пленных, оружие и лошадей и гнать все в Кольджат.
Аничков с казаком вязали руки Зарифу, подле, с гордым видом, на караковом Аксае крутилась Фанни. Ее лицо горело жаром схватки, глаза сверкали, и удовольствие, и хвастовство были разлиты на нем. Вся фигура ее говорила: «Видели вы меня? Видели вы, как я храбро кинулась на Зарифа, видели вы, как я ловко владею арканом? Теперь, мол, не будете смеяться надо мною! Не будете не верить! Я ловчее вас!»…
– Каким вы молодцом, Фанни! – искренно любуясь ею, воскликнул Иван Павлович.
– А вы видели? – отвечала она, протягивая ему маленькую ручку.
– Удивительно ловко! И вам, Фанни, мы обязаны поимкой важного разбойника.
– А мне жаль его. И какая хорошая под ним лошадь! Какой оригинальной масти! Не правда ли, она моя? Ее ведь Царанка накинул арканом.
– Безусловно, ваша.
– А что сделают с этим…
Она показала на Зарифа, который с гордо поднятой головой, оглядываясь по сторонам блестящими косыми глазами, шел со связанными назади руками между казаков.
– Повесят, – спокойно отвечал Иван Павлович. Страх и горечь метнулись по вдруг побледневшему лицу Фанни.
– Мне жаль его, – тихо, как бы в раздумье, проговорила она. – Зачем я это сделала!
– Если бы не вы накинули Зарифа своим арканом, его схватил бы Аничков.
– Ах, какая досада! Какая досада!.. – она смотрела на Зарифа и говорила как бы про себя: – Какой он гордый, сильный и смелый. Как орел пустыни! Идет, как на праздник.
– Жалеть его нечего… За ним много убийств невинных людей. А сколько бедных киргизских девушек мы освободили!
– Для чего они разбойникам?
– Их продали бы в рабство в Аксу или Турфан.
Подъехал Аничков. Он был великолепен на Альмансоре, и Фанни глазом знатока оценила его прекрасную лошадь.
– Феодосия Николаевна, – сказал Иван Павлович, – позвольте вас познакомить. Хорунжий Аничков.
– Какая прелестная лошадь у вас. Она чистокровная?
– Да… А вы любите лошадей?
– Ужасно, – по-женски отвечала Фанни. – И как не узнать чистокровной! Все жилки у нее выступили под кожей, и как легко вы нагоняли киргизов.
Аничков ласково потрепал Альмансора по шее.
Отряд входил в ворота поста. В неподвижном воздухе висел линялый русский флаг, и после оживления, скачки, рубки и победы на пустом песчаном дворе, по которому мирно бродили куры, пахло буднями.
Да будни и наступали. Надо было составить и, пока не зашло еще солнце, отправить в Джаркент по гелиографу подробное донесение, надо было хоронить убитых киргизов, перевязать раненых казаков, разобраться с пленными и добычей, с лошадьми, и всем этим занялись офицеры с казаками, а Фанни с Царанкой осматривали пегого коня Зарифа, любовались им, сравнивали с Аксаем. Возбуждение ее не проходило, была потребность двигаться, говорить, что-либо делать.
Фанни прошла в приемный покой, где фельдшер перевязывал раненых, и стала помогать ему. Раненых было восемь казаков и двадцать киргизов. Один тяжело раненный двумя пулями в живот казак лежал в забытьи с позеленевшим, уже обострившимся лицом.
– Сейчас и командира починим, барышня Фанни, – сказал фельдшер.
– Когда же его ранили? – тревожно спросила Фанни.
– Он не ранен, а только здорово ушиблен. Все тело в синяках. Мы боялись, нет ли поломов костей.
– Ну и что же?
– Ничего, слава Богу.
– Слава Богу.
«И ведь ничем, ничем не показал, что ему больно. Да он герой, этот дядя Ваня», – подумала Фанни и почувствовала, как какая-то тяжесть свалилась с ее души.
– Да. Им счастливо вышло. А вот двое так же упали, так поломалась. Один ключицу, другой руку. Теперь придется полежать.
– А тот что? Сидоренко? – кивнула головой Фанни.
– Умрет, – спокойно сказал фельдшер.
Он сказал это страшное слово просто и громко, и оно отдалось до самой глубины сердца Фанни. Она с испугом оглянулась. Ей казалось, что оно таким же страшным громовым ударом должно отдаться и в сердцах всех казаков. Но никто не обратил на это внимания. Перевязанные рассказывали друг другу эпизоды столкновения, беспокоились о сухарях, о чае, о дележе добычи, будут ли ровно делить и кольджатским, и тем, что ходили в набег, или кольджатским меньше, а может быть, и ничего не дадут. Разверстывали добытый скот и лошадей на рубли за выкуп и вычитывали, по сколько достанется на каждого. Раненный в живот ничего не слыхал. Он лежал и тихо стонал, беспокойно водя черной грязной рукой по груди.
И Фанни поняла, что они другие люди. С другой душой, с другими понятиями, взглядами, с другой философией. Может быть, они лучше ее, чище, проще, может быть, хуже, но друг друга они никогда не поймут.
XV
В эту ночь народилась молодая луна. И, когда солнце начало заходить за горы, она выявилась на небе бледная, стыдливая и робкая, тонким серпом с рогами, поднятыми кверху. А когда стало темнеть, она засеребрилась и стала сиять на синеве неба, точно оглядывая дремавшую под ней землю. Загорелись волшебными огнями звезды, появился опрокинутый котел семи звезд Большой Медведицы, и над еле видными темной полосой горами Кунгей-Алатау выявилась яркая Полярная звезда. Стало тихо на посту. Угомонились усталые люди, полегли под навесом на коновязи лошади, сильнее зашумела Кольджатка, и тихая ночь пустыни начала рассказывать вечную сказку мира, полную тайн, которую не каждому дано постигнуть и понять.
На веранде, обращенной на восток, был накрыт стол. На столе приветливо горели две свечи в лампионах, шумел маленький самовар и было наставлено все, что можно было наспех достать и сготовить. Все были голодны. Иван Павлович и Аничков третьи сутки питались чаем да сухарями с салом. Фанни тоже почти ничего не ела. Не до еды ей было.
Иван Павлович медленными глотками допил вторую свою громадную чашку и просительно посмотрел на Фанни.
– Налить еще? – спросила она.
– Да ведь совестно. Написано-то «Пей другую», а это уже третья будет.
– Ну что за счеты.
Но воды в самоваре не оказалось, и позвали Запевалова, чтобы он снова поставил самовар.
– Ну расскажите же нам подробно, Фанни, о всем, что произошло на посту после моего отъезда, – ласково сказал Иван Павлович.
С края стола сидел Аничков, и Фанни чувствовала на себе пристальный взгляд его зорких глаз, и было ей почему-то неловко. Ей хотелось хвастать, но в присутствии Аничкова погасал ее задор, и она начала робко и смущенно:
– Вы уехали… Мне стало так скучно, так обидно. Я так на вас разозлилась, что вы меня не взяли. Казаки скрылись за горами, а я все стояла у ворот и смотрела. Стало темно. Появились звезды. Я хотела идти домой. Но тут я заметила, что у ворот не было казака. Всегда стоял, а теперь нет. Я пошла на пост. Заглянула в казарму. При свете лампочки увидала, что девять казаков крепко спят на нарах. Десятого не было, я сообразила, что он на посту, на тропе, на китайской границе, а у ворот никого.
– Ах я, телятина! – воскликнул Иван Павлович. – Учись, Николай! Век живи, век учись, и все-таки умрешь дураком. Ведь если бы не Феодосия Николаевна, – быть бы Кольджатскому посту всему перерезанному.
– Мал гарнизон оставил, – примирительно сказал Аничков.
– Ну, говорите, говорите дальше. Простите, что перебил, – сказал Иван Павлович.
– Да… Ну, я пошла к Царанке. Он возился при лошадях. И решили мы караулить по очереди вдвоем. По четыре часа. Я села у ворот и просидела свою смену. Было хорошо. Я чувствовала, что и я нужна, и я вам помогаю… Первая ночь прошла спокойно… Днем мы просили казаков посматривать в эту сторону, но я, как и обещала вам, никуда не уезжала.
– И отлично сделали, – вставил Иван Павлович.
– Вторая ночь прошла так же тихо. Ночью у нас шел дождь со снегом, а что делалось там наверху, в горах, и особенно у Божьего трона, страшно и подумать. Там небо было черно, непрерывно сверкала молния, прорезавшая небо длинными зигзагами, но грома слышно не было, и от этого было еще страшнее. Я промокла и продрогла, и днем мне нездоровилось, и я, стыдно сказать, валялась в постели.
– Бедная Фанни, – вырвалось у Ивана Павловича.
– Наступила третья ночь. Небо было после вчерашней грозы удивительно чистое. Точно вымыло его дождем и выскоблило молниями. Тихо было, как никогда. Кольджатка, правда, шумела больше обыкновенного, но к ее шуму я так привыкла, что совсем его не замечала. Около полуночи я услышала в камнях, недалеко от поста, шорох и голоса. Камень сорвался и упал. Я разбудила Царанку. Он лег на землю и долго слушал. «Сюда идут, – сказал он. – Много идет». – «Это наши», – сказала я. Он опять долго слушал и потом сказал: «Нет, не наши… Киргизы… по-киргизски говорят»… Мы решили разбудить казаков…
– Экий вы молодчина, Феодосия Николаевна, – сказал Аничков, – это не всякий бы офицер догадался.
Фанни зарделась от этой похвалы.
– Казаки живо встали, разобрали винтовки и расположились за камнями, скалами и забором, что у конюшни. Но нас было так мало! Около часа ночи вдруг шагах в двухстах от нас раздался душераздирающий вой, и мы увидали бегущих на нас толпой людей. Мне показалось, что их страшно много…
Фанни замолчала.
– Ну что же дальше? – спросил Иван Павлович.
– Я так растерялась… – пробормотала смущенно Фанни. – Винтовка выпала у меня из рук. Я хотела бежать, но ноги не повиновались мне. Я вся стала какая-то мягкая. Было как во сне, как в кошмаре. Я готова была плакать и истерично кричать. Но тут затрещали спокойные и уверенные выстрелы казаков, и толпа так же стремительно бросилась назад.
– Да, они этого не любят! – сказал Аничков. – Узнаю наших сибиряков. И стреляли, должно быть, бесподобно.
– Несколько мгновений, – продолжала рассказывать Фанни, – было тихо. Слышно было, как отбегали люди, сыпались камни да резко стучали наши винтовки. Но вскоре по камням начали вспыхивать огоньки выстрелов, и над нашими головами со свистом стали проноситься пули. Казаки не стреляли. Было ужасно страшно. Мне казалось, что эти пули нас всех перебьют. Я собралась с духом, подползла к казаку и спросила, почему они не стреляют. «А для чего же стрелять-то? – отвечал казак. – Темно, да и они далеко. Вишь, как пули поверху свистят. Зря патроны тратить? Их и так немного». Всю ночь с редкими перерывами трещали выстрелы и свистали пули, но вреда от них никому не было, и я привыкла и успокоилась. С рассветом я увидала, что киргизы приближаются к нам, кое-где они стали хорошо видны, и казаки сейчас же открыли огонь. Я не стреляла. Не могла стрелять, – как бы оправдываясь, сказала Фанни. – Пробовала, но как только на мушке рисовалась человеческая фигура, у меня не хватало духа спустить курок. Но мне хотелось быть полезной. Пули уже не свистали, как ночью, а сильно щелкали, поднимая пыль и разбивая камни, осколки от которых летели во все стороны. Раздавались стоны раненых. Они отползали назад, их надо было перевязывать, а фельдшера не было, он уехал с вами. Я принялась за это дело. Среди легко раненных был гелиографист Воропаев, он предложил связаться с Джаркентом и просить помощи. Я знала, что это бесполезно. Ведь помощь из Джаркента пришла бы только на вторые сутки, но я решила хоть сообщить о нашей гибели. Казаки решили драться до последнего… Мы с Воропаевым установили станцию, и в самый разгар переговоров вдруг увидали, что наши лучи перебивают сверху лучи другой станции… Мы оглянулись. Яркая точка зеркала сверкала над нами… Это были вы. Мы стали передавать гелиограмму… Пуля ранила вторично гелиографиста. Я хотела хотя что-либо сделать, взялась за ручку… Другая пуля выбила аппарата из моих рук и разбила зеркало. Но главное было передано. Я побежала сказать об этом казакам, и тут мы увидали, что осаждавшие нас бегут… Мы выпустили по ним последние патроны и кинулись седлать лошадей. Я захватила арканы и понеслась с Царанкою. Дальше я почти ничего не помню. Все было как в тумане. Я видела только человека на пегой лошади, который скакал впереди. Я вспомнила уроки отца и калмыков, показывавших мне, как идти наперерез и как накидывать аркан, и я бросила петлю…
– И отлично попали, – восторженно сказал Аничков. – Мне надо будет поучиться у вас этому великолепному искусству.
– Что же, довольны теперь? – спросил Иван Павлович.
– Ах, очень! – горячо ответила Фанни. – Еще бы! Ведь это приключение!
– А вы любите приключения? – спросил Аничков.
Фанни не сразу ответила. Запевалов внес шипящий
самовар, и она занялась разливанием чая.
– Я заварю свежий, – сказала она, – на границе Китая можно позволить себе эту роскошь.
Она налила чай Ивану Павловичу, Аничкову и себе и, отхлебнувши из чашки, долго, как завороженная, смотрела в темноту ночи.
XVI
– Да, я люблю приключения, – сказала наконец Фанни, и ее большие серо-голубые глаза приняли мечтательное выражение. – Ведь надо знать и мою жизнь, и мое воспитание. Я училась в Петербурге, в гимназии. Рождество, Пасху и летние каникулы я проводила у отца на зимовнике, в степи, с калмыками. Матери я не помню. У меня было два мира – мир петербургских подруг, петербургских вечеров и «приключений» и мир степи. Табуны, лошади, жеребята, овцы, калмыки, однообразная бесконечная степь, горизонт, ничем не занятый, и тоже – приключения.
Иван Павлович и Аничков внимательно слушали Фанни, и Иван Павлович заметил, что она стала другая, новая. Серая кабардинская шапка была заломлена набок и плотно примята наверху, придавая ей вид мальчишки, серый армячок делал ее плечи шире и скрадывал грудь, но смотрела она серьезно, по-женски, и бесенок сорванца-мальчишки не играл огоньком в потемневших задумчивых глазах.
– От подруг по гимназии я слыхала о приключениях петербургской жизни. Поездка на тройке, ужин в ресторане… Шампанское… Чем-то серым и склизким представлялись мне эти приключения… Случайное знакомство в вагоне конки или железной дороги, ласковое слово модного актера или популярного писателя на вечере, вот и приключение… А для меня это было – ничто. Я знала, а кое-что и сама испытала из приключений иного порядка. Я проваливалась весной с тройкой, переправляясь по рыхлому льду в реке Сал. Я отстаивалась в степи во время бурана зимой… Меня носили дикие лошади. На мою лошадь нападал жеребец, и приходилось удирать от него, рискуя жизнью. Сердце усиленно билось. Рисовались страшные картины смерти, а потом, когда это проходило, – становилось так хорошо, и так горячо я любила жизнь. Я была ближе к Богу. Я чувствовала Его на себе. И эти приключения влекли меня. И я полюбила природу!
– Как я понимаю вас! – воскликнул Аничков.
– Вы любите природу? – спросила Фанни.
– Из-за нее я здесь. Я мог выйти в гвардию, у меня были хорошие баллы, но я предпочел остаться верным своим казакам и вернулся туда, где родился.
– Вы родились здесь?
– Я родился в пустыне между Кокчетавом и Верным. В тарантасе. И первая колыбель моя была подушки тарантаса, а первая песня – песня степного вихря и вой шакалов пустыни.
– А ты стал поэтом, – сказал Иван Павлович. Ирония против его воли звучала в его голосе. Аничков нахмурился. Фанни заметила, что в словах Ивана Павловича была насмешка над гостем, и ей стало неловко.
– Меня потянуло искать приключений сюда… Я прочла где-то в географии, что в Азии Хан-Тенгри называют подножием Божьего трона, и где же, подумала я, искать Бога, как не у подножия Его трона? Но как ехать одной в такую даль? И я вспомнила про дядю Ваню.
– И «дядя Ваня» очень холодно вас принял, – сказал Иван Павлович.
– Я так понимала его… И не обиделась… Но надеюсь, теперь он простил и примирился со мною.
– Как я намучился за вас! – с сердечной теплотой в голосе проговорил Иван Павлович.
Она сделала вид, что не заметила тона, каким были сказаны эти слова.
– Я приехала и поняла, что не ошиблась. Когда в первую ночь, вдосталь налюбовавшись видом лунной ночи и пустыней, озаренной луной, я прошла к себе в комнату, и юркнула под теплое пуховое одеяло, и почувствовала этот легкий холодный воздух, я ощутила на себе как бы дыхание Господа. Я поняла, что близость Божьего Трона – не сказка и не миф, и я заснула так блаженно-крепко, как спят только дети, когда их сон стережет ангел-хранитель… И я поняла, что все приключения, которые будут здесь, у подножия Божьего Трона, будут под охраной Его херувимов и серафимов…
Она подняла голову. Ее глаза блистали восторгом. Слезы дрожали в них…
– Ну, довольно, господа, – сказала она резко. – Ведь вы устали, вам спать хочется, а я занимаю вас бабьими сказками.
Она встала, по-мужски пожала им руки и, широко шагая, прошла в свою комнату.
Аничков задержался на Кольджатском посту на три дня. Он ждал, когда вернутся посланные им за своими лошадьми казаки.
– Ну, счастливец ты, – сказал Аничков, – вот тебе женщина, Иван, на которой смело можешь жениться.
– Предоставляю это тебе, – сухо сказал Иван Павлович.
– Ты меня знаешь. Я никогда не женюсь.
– Таковы же и мои намерения.
– А Феодосия Николаевна все-таки идеальная женщина, – протягивая руку, сказал Аничков.
– Ну и пусть будет так. Это меня не касается.
– Ну, песенники, начинай мою любимую, – сказал Аничков казакам.
Утром рано весной На редут крепостной Раз поднялся пушкарь поседелой! —раздалось в утреннем воздухе.
«Приключение» было кончено. Наступали скучные долгие будни…
Войдя в кабинет со двора, Иван Павлович уже с удовольствием поглядел на мирно висевшую на гвозде винтовку и серую кабардинскую шапку.
XVII
На Кольджате наступила тишина. Раненный в живот казак скончался, и его похоронили на небольшом казачьем кладбище, расположенном в версте от поста, где было десятка два казачьих могил. Хоронили без священника. Прочитали, какие знали, молитвы, пропели нестройными голосами «Отче наш» и закидали гроб камнями и песком. Постовой плотник поставил грубый крест, и еще одна безвестная казачья могила прибавилась на глухой китайской границе. Похоронили и убитых киргизов. Закопали, как падаль. Суровы и беспощадны обычаи глухой пустыни. За ранеными из Джаркента приехали санитарные линейки, и их повезли в госпиталь, легко раненные остались на посту. Следы набега и боя исчезли, добычу, пленниц и скот сдали уездному начальнику, составили акты и донесения, представили отличившихся к георгиевским медалям и в числе их поместили – тайно от Фанни – «добровольца Феодосию Полякову», и постовая жизнь вошла в свое нормальное, уныло-скучное русло.
Но отношения между Иваном Павловичем и Фанни наладились. Они стали теплые, сердечные.
Та гроза, которая бушевала в ночь накануне нападения Зарифа и покрывала молниями вершину Хан-Тенгри, подалась на север. Густой туман закутал Кольджатский пост, грозные тучи белым шаром клубились между постройками, сделалось сыро и холодно, почва и крыши намокли, как во время дождя. Потом эти тучи спустились еще ниже, с темного неба хлопьями повалил снег, и на три дня Кольджат принял зимний вид. Снег тяжелыми пластами лег на листья рябины и барбариса и покрыл зелень травы, росшей по берегам Кольджатки.
И странно было видеть, что над пустыней, над Джаркентом и на всем громадном протяжении в несколько сот верст от Кульджи до Алтын-Емеля было синее безоблачное небо, ярко, золотом от солнечного блеска горели пески пустыни. И в мороз, доходивший на горах до пяти градусов ниже нуля, странно было сознавать, что там люди изнемогали от 50 – 60-градусного жара. Стоило спуститься на одну версту, и уже солнце пропекло бы насквозь.
Пришлось убрать стол и стулья с веранды и обедать, ужинать и пить чай в кабинете Ивана Павловича. Фанни не ездила в горы и только по утрам вместе с калмыком объезжала Аксая и Зарифова пегого мерина, которого назвали Пегасом.
Винтовка и кабардинская шапка неизменно висели на гвозде после полудня, и это успокоительно действовало на Ивана Павловича. Что делать – он привык к ней. И ему стало бы скучно, если бы за обедом и за ужином он не слышал ее ребяческих вопросов. Иногда по вечерам он набивал патроны, а она читала ему вслух. Лампа под синим колпаком уютно горела на столе, освещая ее тонкое лицо, в комнате было тепло, нежно пахло фиалками – ее духами, а за окном ревела горная вьюга, потрясая ставнями и грозя снести весь маленький домик поста, и шумела вздувшаяся от дождей и снегов, вышедшая из своего русла Кольджатка.
Было хорошо в эти часы на унылом посту. Так хорошо, как никогда не бывало.
– Дядя Ваня, – откладывая книгу, сказала Фанни и посмотрела лучистыми глазами на Ивана Павловича. Не играл в них обычный бесенок.
– Что, дорогая Фанни?
– Дядя Ваня, отчего вы не заведете себе такой лошади, как Альмансор Аничкова? Ведь ваш Красавчик никудышный конь. На нем совестно ездить.
– Возит, – коротко сказал недовольным голосом Иван Павлович.
– Возит, – передразнила она его. – Стыдитесь. Разве вам не хочется скакать и побеждать на скачках?
– Не хочется.
– И неправда. Наверно, хочется. Вы только напускаете на себя эту сибирскую угрюмость. Я сразу определила, что вы – бука. Но мне кажется, что вы только притворяетесь букой, а на деле вам тоже хочется быть таким, как Аничков.
Иван Павлович молчал, и Фанни продолжала.
– Может быть, у вас денег нет купить? Скажите мне. Я с удовольствием вам дам. Хотите две, три тысячи. Мне не жаль, но мне так хотелось бы, чтобы у вас лошадь была лучше, нежели у Аничкова.
– Не говорите глупостей, Фанни, – строго сказал Иван Павлович и стал ходить взад и вперед по комнате.
– Дядя Ваня, а кто лише и смелее, вы или Аничков?
– Аничков моложе меня. Он всего третий год офицер, а я уже восьмой. Разница.
– Подумаешь! Старик! Вы знаете, дядя Ваня, это правда – Аничков лише вас, но и в вас есть свои достоинства. Вы такой положительный. Я знаю, вас очень любят и уважают казаки, ну а Аничкова они обожают.
– Фанни, я вас очень просил бы прекратить эти сравнения. Мне это неприятно. Да и вы слишком мало знаете Аничкова… Да и меня не знаете.
– Вы ревнуете?
– Не имею на это никакого права, – резко сказал Иван Павлович, накинул шинель и фуражку и вышел на веранду. Ледяной ветер охватил его и закружил вокруг него снежинки. Вьюга не унималась. Но она отвечала настроению Ивана Павловича, и он начал ходить взад и вперед по веранде. Ноги скользили, снег хрустел под ногами, морозный ветер жег лицо, но зато хорошо думалось и ясными казались выводы.
«Ревную? Неужели и правда, это сравнение Красавчика с Альмансором, этот разговор и видимое восхищение… Да, восхищение Аничковым ему неприятно потому, что он ревнует ее к нему? Ревнует – значит любит. Любит не как сестру, потому что сестер не ревнуют, а иначе. Любит сердцем… Страстью. Боже мой! Ее, этого доверчивого ребенка, этого мальчишку! Нет. Этого не может быть. Просто она задела его мужское самолюбие, его офицерскую гордость, и он возмутился. Да, у него другой характер, чем у Аничкова, но ужели ему переделывать себя для нее? А что, если она и правда полюбила Аничкова? Ведь он такой оригинальный. Именно «приключение», герой таких приключений, какие она любит. Ну что же, и пусть полюбила. Если и Аничков ее полюбит, и Бог с ними. Пускай вместе ловят разбойников, любуются подножием Божьего трона и ищут золото. Пара будет чрезвычайная. Американская пара. А мне-то что?»
«Да, вам-то что? – со злобой, как будто к кому-то другому, обратился Иван Павлович. – Вам-то что? Какое вам дело до этой неприступной красавицы? Ведь вы обрекли себя на холостую жизнь, ведь вы так любите одиночество!»…
Злоба кипела в нем. Против кого? Он и сам не знал. То ли сердился он на Фанни за ее обидные вопросы, то ли злился сам на себя, на свое вдруг заговорившее сердце.
Он все ходил и ходил по снегу балкона и подставлял лицо порывам ледяного ветра.
И когда он вошел в комнату, лицо его было красное от мороза и мокрое от снега, и принес он с собою волну озона, запах снега и горной бури.
– Дядя Ваня, – весело воскликнула Фанни, – как хорошо от вас пахнет. Воздухом, свежестью, снегом. И какой вы красный и бодрый!
– Читайте, Фанни, если не устали, – сказал он, садясь в кресло. – Вы так хорошо читаете. Только не устали?
– О-го! Я-то? С удовольствием.
XVIII
Вьюга бушевала три дня. Потом четыре дня лили дожди, сначала холодные, потом теплые, гремела гроза, и молнии освещали страшные тучи. Ни выехать, ни выйти не было возможности. Все притаились по своим углам. Снег исчез, и когда на восьмой день выглянуло солнце из заголубевшего неба, скалы Кольджата, песок плоскогорья, зеленая трава у речки были точно начисто отмыты и отполированы и блистали, как новые. И только листья рябины съежились от мороза и повяли…
После полудня в природе была тишина, весело чирикали птички, посвистывали тушканчики, и стало тепло. Балкон просох, и на него водворили стол, стулья и соломенное кресло.
После пятичасового чая Фанни и Иван Павлович остались на веранде. Так красивы были золотистые обрывки туч, таявшие на горизонте над знойной пустыней. Дивным алмазом горела вершина Хан-Тенгри.
– А ведь к нам кто-то едет, – сказал Иван Павлович, вглядываясь вдаль.
– Не доктор ли? Вы его ждали, дядя Ваня.
– Нет, не доктор. Куда! Наш доктор верхом сюда не поедет, ему подавай тарантас. Нет, я думаю не из иностранцев ли кто.
– Какие иностранцы?
– Да разные сюда ездят. Вот немец, профессор Мензбир, года три подряд сюда ездил. Все на вершину Хан-Тенгри собирался подняться. Ему хотелось сделать ее самые точные измерения и побывать на высочайшей горе в мире.
– Ну и что же, поднялся?
– Куда! Разве возможно! Там не то что европеец, там и киргиз-то ни один никогда не был. Сказано: подножие Божьего Трона. Разве можно туда подняться?! Там такие метели, такой ветер всегда, что человека, как песчинку, сдует. Ведь не было ни разу, чтобы вершина была целый день видна, а вы испытали на этой неделе, что это такое, когда вершина в тучах, а мы в три раза ниже, нежели Хан-Тенгри. Еще англичане на моей памяти два раза приезжали – один раз на охоту в долину реки Текеса, другой раз здесь за кабанами охотились… Вот и кресло это от них осталось… С собой привозили… Инженеры какие-то ездили, исследовали истоки рек Кунгеса и Текеса. Редкое лето проходит без того, чтобы один или два путешественника здесь не были. Вот и развлекут вас, Фанни.
– Я в этом не нуждаюсь. Мне совсем не скучно, – сказала Фанни.
Но побежала за биноклем и с любопытством вглядывалась в приближавшихся всадников.
– Дядя Ваня, двое впереди, и, правда, один, как англичане на картинках, в шляпе с зеленой вуалью, в гетрах, а рядом старик в пиджаке и в военной фуражке.
– Ну это Гараська. Так и есть, значит, англичанин сюда едет. Охотник.
– А сзади, – продолжала докладывать результат своих наблюдений Фанни, – шесть киргизов с заводными лошадьми с вьюками. Дядя Ваня, а кто это, Гараська?
– Гараська, иначе Герасим Карпович Коровин, – личность интересная. Это семиреченский казак, пьяница, бродяга, охотник, искатель приключений, препаратор чучел, все что угодно. Знает горы и пустыню как свои пять пальцев. Рассказывает, что ходил с Пржевальским, с Козловым и с Роборовским, но, кажется, врет. Он больше примазывается к богатым иностранцам. Говорит на всех туземных и европейских языках вообще и ни на одном в частности, имеет нюх на зверя, но еще лучший нюх на богатого путешественника. Достанет все что угодно: и маленьких живых тигрят, и живого марала или дикую лошадь, и ручного беркута. Имеет знакомство со всеми киргизами, китайцами, дунганами, таранчами, сартами, ходил до самых Гималаев, зарабатывал тысячи и все пропивал. Широкая русская натура. Смесь интеллигента и бродяги, крепкий, жилистый, не знающий возраста. Десять лет тому назад он был стариком, и такой же старик и теперь. Ни убавилось у него волос, ни прибавилось седины. Ловок, как кошка, и вынослив, как верблюд.
– А с ним кто? – передавая бинокль Ивану Павловичу, сказала Фанни.
– По-моему, англичанин. И большой барин. Смотрите, на нем, кроме футляра с папиросами и ножа, ничего. Зато киргизы обвешаны целым арсеналом ружей, треног для фотографии, фотографиями и еще какими-то мешками. Но, надо думать, знатный, потому что с ним два киргиза, губернаторские джигиты и один кавказец, а это значит – человек с протекцией. Надо готовить хороший ужин, Фанни.
– Сойдет и с нашим.
– Не обойдется и без водки. Ну ее-то мы у казаков достанем. Она у них не переводится.
Караван поднялся к посту и въехал в ворота.
Первый въехавший походил на англичанина. На нем был серый тропический фетровый шлем, обтянутый зеленой кисеей, просторная куртка с карманами, со сборками и кожаными пуговицами, подтянутая ремнем, на котором болтался изящный охотничий нож, серые галифе, рыжие башмаки и такие же гетры, обернутые по спирали ремнем. Это был молодой человек с чисто выбритым, нежным, розовым лицом, с красивыми холеными русыми усами, подвитыми кверху, а когда он снял для привета свои шлем, то под ним оказались русые волосы, подвитые и разделенные на аккуратный пробор.
Гараська был в старой зеленой фуражке с малиновым околышем, пиджаке, накинутом поверх серой фланелевой рубахи, в шароварах коричневатого цвета, заправленных в хорошие высокие сапоги с ремешком под коленом На нем не было никакого оружия.
Они слезли с лошадей. «Англичанин» долго расправлял ноги и, видимо, усталый и непривычный к езде, пошел неловкой походкой к веранде. Увидавши Фанни, бывшую в женском костюме, он приосанился и закрутил усы большой рукой, одетой в рыжую лайковую перчатку.
– Позвольте познакомиться, – сказал он на чистом русском языке, – Василий Иванович Василевский, которого прошу называть, как все меня называют, просто Васенька или Василек. Московский купец и, между прочим, путешественник, охотник, искатель приключении. Не все же, знаете, англичанам! И российской складки человек всегда показать себя сумеет.
– Мильярдер, – хриплым шепотом, прикрывая рот ладонью, прошептал на ухо Ивану Павловичу Гараська и, смакуя это слово, повторил еще: – Мильярдер и враль…
– Вы меня, надеюсь, познакомите… с супругой вашей.
– Это не жена моя, а… племянница, Феодосия Николаевна Полякова.
– Привет, привет российской жительнице на границе Небесной империи. Я удивлен и очарован встретить такую красоту.
– Горная роза, – хрипло сказал Гараська, протягивая черную загорелую руку Фанни. – Молодчага Иван Токарев. Губа не дура. Даром что тихоня, монах и аскет… а товар выбрать умел.
Иван Павлович толкнул его под локоть.
– Ты, брат, полегче.
– А что, Иван, нельзя?.. – робко спросил Гараська.
– Она племянница и барышня… институтка, – зачем-то соврал, отводя Гараську в сторону, Иван Павлович, – сирота… Надо быть осторожнее.
– Да ладно, Иван, – захрипел Гараська, – я-то что, я ничего. Ты вот за кем присматривай, – подмигнул он на своего спутника, – ходок по этой части! Ты за патроном моим гляди в оба.
– Мы едем, – говорил нежным певучим голосом Васенька, – в Аксу и Турфан. Знакомиться с тамошними нравами.
– И более по женской части, – шепнул опять хриплым басом Гараська Ивану Павловичу.
– Говорят, очень любопытства достойные города. Вот у меня письмо от губернатора… Вы разрешите сесть, – и Васенька небрежно развалился на лонгшезе, – устал, знаете. Отвык. Да, – письмо оказывать всяческое содействие. А вы давно здесь, Иван… Иван, простите не расслышал ваше отчество.
– Павлович.
– Да, так я говорю, давно вы здесь?
– Девятый год.
– Да что вы говорите!.. А… а… племянница ваша, Феодосия Николаевна?
– Феодосия Николаевна всего второй месяц.
– Скажите пожалуйста. И не соскучились? Удивительно. К вам никак и не доедешь. Мы три дня едем из Джаркента.
– Вольно же вам, Василек, – фамильярно сказал Гараська, – было заглянуть на Или.
– Ах, там поселок дунганский. Очаровательный. Прелесть. Мы там рыбу ловили.
– С дунганками, – добавил Гараська.
– Ах, оставь, пожалуйста. Это было просто приключение. А я, знаете Иван… Иван…
– Павлович, – смеясь, сказала Фанни.
– Да, Иван Павлович, я люблю приключения. Мне двадцать пять лет… Я уже был в Абиссинии, у негуса Менелика, охотился на слонов.
Не то удивление, не то насмешка играла в шаловливых глазах Фанни.
– Вы охотились на слонов, Василий Иванович?
– Что же тут удивительного? – смотря своими большими светло-серыми глазами на Фанни и как бы ощупывая ее своим взглядом, сказал Васенька.
– По-моему, много. Так мало русских путешественников и тем более охотников за слонами, – серьезно сказала Фанни.
– У меня, знаете, страсть. «Влеченье – род недуга»… Что-нибудь необыкновенное, – небрежно бросил Васенька.
– Папаша слишком много денег оставил, – вставил Гараська.
– Оставь, пожалуйста, – шутливо, но, видимо, довольный, сказал Васенька, – ты, охотник за черепами, «команчо», вождь индейцев. А знаете, удивительный человек!
Накрыли на стол. Запевалов и Фанни собрали закуску. Принесли бутылку смирновской водки, еще водившейся в Семиречье.
– Вы позволите, Иван Павлович, мне и свою лепту внести в угощение? – сказал Васенька. – Идрис! – крикнул он на двор, где его люди снимали вьюки.
Ловкий ингуш в черном бешмете, подтянутом тонким ремнем с кинжалом, подскочил к Васеньке.
– Достань… знаешь…
– Понимаю.
Идрис принес бутылку мадеры, коньяк и флягу в коричневой коже. Потом притащил несколько откупоренных жестянок с сардинками, паюсной икрой, кефалью и омаром.
– Вы позволите, Иван Павлович, у вас сделать дневку? Я постараюсь не стеснить… А это уже позвольте в общую, так сказать, долю.
– Прошу вас, Василий Иванович, может быть, хотите помыться, одеться с дороги, пожалуйте в мою комнату. В ней и заночуете. Гараська, а ты со мной в кабинете.
– Благодарю вас. Мы сейчас.
Фанни прошла на кухню. Ей хотелось не ударить перед гостями лицом в грязь, и она приказала отварить живых форелей, только сегодня наловленных в Кольджатке.
XIX
Прошло завтра, день, назначенный для дневки, наступило послезавтра, дни шли за днями, а кольджатские гости не уезжали. То не были готовы вьюки, то надо было подлечить натертую седлом спину лошади Васеньки, то был понедельник, тяжелый день. Васенька никак не мог раскачаться в путь-дорогу, и ни для кого не было тайной, что он серьезно увлекся Фанни.
Иван Павлович хмурился и молчал. Гараська за обедом, когда подвыпьет, открыто протестовал:
– Кабы я знал, Василек, за каким ты зверем охотиться собираешься в горах, разве же я поехал бы с тобою? Э-эх! Горе-охотники!
– Молчи, Гараська, пьяная морда. Не твое дело! Получай свое и молчи. Твой день настанет. Поедем.
– Обожжет тебе, брат Василек, крылья жар-птица, никуда ты не поедешь. Выпил бы хотя что ли для храбрости, а то и пьешь нынче не по-походному.
И правда, Васенька пил мало. Он держался изысканным кавалером и ухаживал за Фанни. По утрам долгие прогулки верхом с Фанни в сопровождении Идриса и Царанки. Фанни то на Аксае, то на Пегасе, изящная, ловкая, смелая, природная наездница, Васенька на небольшой покорной сытенькой киргизской лошадке, на которой неловко и неуверенно сидел в своем костюме путешественника. Перед обедом Васенька купался и делал гимнастику, после обеда отдыхал. А вечером раскладывали карту и, склонившись над ней, чуть не стукаясь головами, Васенька и Фанни мечтали о путешествии в Индию, намечали пути. Васенька попыхивал из английской трубки вонючим английским табаком, а в углу на софе сидели хмурый Иван Павлович и полупьяный Гараська.
Васенька, по требованию Фанни, не любившей своего полного имени, называл ее «Фанни».
– Вот видите, Фанни, один хребет и громадная впадина, тут Аксу и Турфан – жара здесь, по описаниям, страшенная, – говорил Васенька, попыхивая трубкой, сипевшей у него во рту. В этом он видел особенный английский шик и этим, казалось, чаровал Фанни. – Потом опять горы… неизвестные, дикие племена… тут Ангора, тут нога европейца не была, и северный склон Гималаев.
– И все ты врешь, Василек, – хрипел вполголоса пьяный Гараська.
– Смотрите дальше, Фанни. Вот знаменитый Дарджилинг, и от него железная дорога на Калькутту. Не может быть, чтобы тут не было прохода. Ну, хотя козьей тропы какой-нибудь.
– О, конечно, перейдем, – с разгоравшимися глазами сказала Фанни.
– Смотри, брат Иван, Гималаи перепер. А, каков враль, – вставил Гараська.
– И подумайте, после всех этих трудов и лишений, после путешествия по диким горам и пустыням, после тишины ледников мы в шумной Калькутте. Оттуда на Бенарес и Агру, потом на Бомбей и через Европу в Москву… А, что вы скажете?!
– Ну еще бы, Василий Иванович. Ведь это то, о чем я мечтала. Быть в Индии! Попасть в Индию столь необычным путем.
– Итак, вы едете, вы решились? – спросил Васенька.
– Ну конечно, еду. Вот это будет настоящее приключение.
– Чем-то оно кончится, – прохрипел Гараська. Иван Павлович встал и, выйдя на двор, начал ходить и думать свои думы.
«И что она нашла в этой парикмахерской кукле, в этом болване с лицом вербного херувима! Дурак, пошляк и, наверно, обольститель девушек… Мерзавец. Надо запретить ей ехать, вот и все. А по какому праву? По праву дяди! Ха-ха! Он сам не признал своего родства, так какой же может быть теперь разговор. Ишь какой попечительный дядюшка выискался!»
Но он не понимал и Фанни. Ужели она увлеклась Васенькой, ужели нравилась ей его хвастливая брехня, рассказы о фантастических путешествиях к негусу Мене-лику и об охоте на слонов? Она с удовольствием гарцевала перед ним, прыгала через расселины, спускалась с круч. Какой он кавалер для нее! Сидит на лошади плохо. Жирные, как у бабы, ляжки плоско лежат на седле, колени развернуты, носки торчат врозь, поясница выгнута. Собака на заборе, а не всадник!
Третьего дня он высказал это Фанни. Обиделась за Васеньку. Метнула молниями глаз: «Дался вам Василий Иванович. Откуда ему уметь ездить? Он не кавалерист и не казак. Другой и так бы не умел. Я его научу».
Значит, по утрам она учила его! А он в это время врал, врал и обольщал молодую неопытную девушку. Урок за урок.
Иван Павлович снова вошел в дом. Над столом друг против друга стояли Васенька и Фанни. И тут только Иван Павлович обратил внимание на то, что Васенька был красив. Вьющиеся золотистые припомаженные волосы, бледный, мало тронутый загаром цвет холеного лица, шелковистые усики и тонкий, красивой формы, нос, весь овал лица, руки большие, белые, холеные, с длинными ногтями пальцев, украшенные дорогим перстнем с синим камнем, и вся его крупная, начинающая полнеть фигура холеного мужчины, живущего для своего удовольствия, были красивы и могли вскружить голову именно такой неиспорченной девушке, как Фанни. А тут еще эта тога героя-путешественника, искателя приключений, в которую так нагло драпировался Васенька!
Что дал он, Иван Павлович, Фанни? Держал на посту, как в терему, никуда не пускал, смеялся над ней, как над ребенком. Нисколько не восхищался ею, когда она так великолепно ездила, даже тогда, когда она накинула арканом Зарифа, он не сумел преклониться перед нею. А женщина любит восторг и преклонение перед ней мужчины. Даже и такая, как Фанни.
Аничков больше восхищался ее удалью, и Аничков оставил и более сильное впечатление.
Аничков и Васенька… Худой и черный от загара, как цыган, Аничков, с темными и не всегда чистыми руками, с мозолями от турника и трапеции на ладонях и с грязными ногтями, живой, как ртуть, несравнимый и непобедимый на скачках и на охоте, и этот полубог, цедящий вяло слова, пыхающий своим английским табаком, изящно одетый и пахнущий помадой и душистым мылом!
Себя он и не сравнивал. Он с места обидел Фанни до слез. Нуда, тогда, когда убил орла, по которому она промазала. Он ей показал свое превосходство над нею, и, конечно, она этого не забыла. Вообразил себя на толстом, белом, плохо чищенном Красавчике. Тоже ведь не картина! Старый китель, старые рейтузы, старая фуражка, загорелое, плохо бритое лицо, руки без перчаток – мало изящества в нем.
Вот они стоят рядом у стола, один против другого: Васенька и Фанни. Оба одинаково освещенные светом лампы под синим абажуром. Ну разве не пара? Она в темно-синей, в крупных складках юбке, из-под которой выглядывают английские башмаки, в белой блузке с синими горошинами и с темно-синим мужским галстуком на шее, заколотым ухналем. Да, в глазах светится задор мальчишки, а на деле-то ведь женщина, изящная, хорошо воспитанная женщина. Ростом она немного ниже Васеньки. Ну конечно, пара!
– Что с вами, дядя Ваня?
– На дворе холодно. Долго гулял.
– А мы с Василием Ивановичем окончательно решили послезавтра и в путь. На Гималаи.
– Ох, Василек, Василек, – проворчал Гараська, – который раз ты это решаешь, мил человек.
– Нет, Гараська, вождь индейцев, на сей раз окончательно и бесповоротно. Обещано Феодосии Николаевне и будет исполнено. Завтра утром последняя прогулка, а вечером и сборы. Аминь.
– Аминь-то аминь, только бы не разаминиться нам потом…
«И не спросила его, дядю Ваню?! И не посоветовалась с ним? Точно и не жила с ним эти полтора месяца одной жизнью, одними думами», – с горечью подумал Иван Павлович.
– Через Аксу и Турфан, Герасим Карпович, – блестя глазами воскликнула Фанни, на Гималаи, через Гималаи в Дарджилинг и далее в Калькутту!
– Да, летим хорошо. Только где-то сядем, – проворчал Гараська.
XX
Фанни уже вскочила на своего Аксая, Васенька при помощи Идриса громоздился на своего маштака. Ему все неудобны стремена, и он каждый раз их перетягивает, то велит укоротить, то удлинить. Ни у Идриса, ни у Царанки лошади не поседланы, значит, едут вдвоем. Tete-a-tete[59] устраивают.
Не нравится это Ивану Павловичу. Вовсе не нравится. Во-первых, что за человек Васенька? Черт его знает. Миллионер – значит человек, выросший в убеждении, что за деньги все позволено и деньгами все купить можно. Во-вторых, человек, по-видимому, без принципов. Самодур и «моему нраву не препятствуй», что хочу, то и делаю…
Да и в пустыне… без вестового… Мало ли что может случиться?.. С тем же Васенькой? Ну, хотя солнечный удар… Или упадет с лошади… Ишь как стремена-то опустил, ноги болтаются совсем. Хорош наездник!
– Царанка, – подозвал Иван Павлович калмыка, едва только Васенька с Фанни выехали за дом. – Царанка, седлай-ка, брат, Пегаса и айда за барышней. Мало ли что в пустыне! Может, помочь надо будет. Понимаешь?
– Понимаю. Очень даже хорошо понимаю. Только я седлаю Мурзика. Не так заметно, а тоже резвый лошадь.
Царанка свое дело понимал. «Москаль нет хороший, ух, нехороший человек. Царанка по луна смотрел, Царанка по звездам смотрел. Нет… счастья нет. Совсем плохой человек».
И Царанка с той быстротой, на которую только калмыки и способны, накинул седло на Мурзика, взял патронташ и винтовку Запевалова, свистнул и спорой рысью выскочил вслед за своей госпожой.
«Может быть, это и подлость посылать соглядатая, – подумал Иван Павлович, – но иначе я не мог поступить. Даже и при том условии, что мне нет никакого дела до Фанни, как и ей нет до меня дела»…
Повернувшись от сарая, он увидал на веранде беспечно сидящего Гараську.
– Что же не укладываетесь? – сказал он, стараясь не обратить внимания Гараськи на то, что он сделал, и чувствуя, что старый охотник видит его насквозь.
– Чего собираться-то. Успеем. Результата надо выждать. А это ты, того… Правильно… Калмыка-то вслед… При нем, брат, свидетели нужны. Ух, посмотрел я на него – жох! Ну, жох!.. А уже врет! Через Гималаи махнул… А до Кольджата еле дополз…
Очень долго «катались» на этот раз Васенька с Фанни. Иван Павлович совсем истомился, ожидая их. И Гараське надоело ходить возле накрытого для обеда стола, на котором стояла остуженная в Кольджатке водка.
– Согреется, брат Иван, как полагаешь? А ну-ка, молодец, отнеси-ка ты ее опять в реку. Только погоди. Я единую, чтобы заморить червяка, с корочкой с солью…
И выпив, старик дал бутылку Запевалову, чтобы тот опять опустил ее в Кольджатку.
Наконец раскрасневшаяся, легким галопом вскочила во двор Фанни и звонко крикнула: «Царанка! Прими лошадь!» И, откуда ни возьмись, с донским казачьим шиком полным карьером подлетел к ней калмык и на лету соскочил на землю и принял Аксая.
Фанни не удивилась, что он ездил.
За ней рысью, расхлябанно болтаясь на длинных стременах, въехал во двор подрумянившийся на солнце Васенька. Он был не в духе.
– Сорвалось, – прохрипел Гараська, – эй, люди… давайте водку…
– Ух, да и голодна же я, – с напускным оживлением, входя на веранду, проговорила Фанни. – Сию минуту переоденусь. Проголодались, Герасим Карпович?
– Как не проголодаться. На целый час опоздание.
Васенька был мрачен и молчалив. Он пошел помыть руки и попудрил лицо от загара.
К обеду Фанни вышла скромно одетая в самую старую свою серенькую блузку и с гладко причесанными волосами, что очень шло к ее девичьему лицу.
– Что же, собираться прикажешь, Василек? – спросил Гараська после первой рюмки.
– А то как же! Непременно. Я сказал же. Завтра едем. Вы нам, Иван Павлович, одолжите ячменя на дорогу. И уже я вас попрошу вечером счетик, что мы должны за продовольствие.
– Решительно едешь? – спросил Гараська.
– Решительно и бесповоротно.
– Ну и слава Богу! Поглядим дорожку.
– Да ты это которую?
– Э, брат, сколько перевалов, столько и рюмок, а перевалам нет числа.
Кончили обед, Васенька пошел отдохнуть немного, Гараська отправился укладывать вьюки, Фанни медленно прибирала посуду на столе.
– А вы что же, укладываться? – спросил ее Иван Павлович.
– Я не поеду, – сухо сказала Фанни. – Передумала.
Иван Павлович ничего не сказал.
– Что же вы не спрашиваете меня, почему я не еду, – шаловливо, с прежней мальчишеской ухваткой спросила Фанни.
– А мне какое дело? Вы свободны, как ветер.
– А какое дело вам было посылать сегодня нам вслед Царанку? – лукаво спросила Фанни.
– Кто вам это сказал? – смущенно пробормотал Иван Павлович.
– Уж конечно, не Царанка. Он ни за что не выдаст. Милый дядя Ваня, я вам очень благодарна за вашу заботу… Но неужели вы думаете, что я и без Царанки не справилась бы с этим господином?
– А разве было что?
– Какой вы любопытный!
– Простите меня, Фанни.
Она посмотрела грустными глазами на Ивана Павловича и печально сказала:
– Да, я не еду в это путешествие, которое могло бы быть полно самых интересных, самых необычных приключений. И это так ужасно!.. Но Василий Иванович оказался не таким человеком, каким я его себе представляла.
– Он обидел вас, Фанни?
– Боже упаси! Нет. Конечно, нет. Скорее, я обидела его… Видите… Мы ездили пять часов шагом. По пустыне. Лошадь у него идет тихо, шага нет. Мне хотелось скакать, резвиться, делать тысячи безумств, стрелять орлов. А мы говорили. Все говорили, говорили. Господи, чего я ни наслушалась. Дядя Ваня, неужели не может мужчина смотреть на женщину иначе, как на предмет для своего наслаждения. Я оборвала Василия Ивановича и дала ему понять, что он жестоко во мне ошибается. Он умолк, но ненадолго. Он начал рассказывать про свои миллионы, про то большое дело, которое он ведет в Москве, про то, как в него всюду все влюблялись. Потом заговорил, что он одинок в своих путешествиях, что он давно искал себе женщину-товарища, ну, конечно, такую, как я, что он готов пропутешествовать со мною всю жизнь, звал на Камчатку и Клондайк и закончил тем, что сделал мне формальное предложение стать его женой…
– И вы?! – спросил с тревогой в голосе Иван Павлович.
– Конечно, отказала…
Вздох облегчения вырвался из груди Ивана Павловича.
– Дядя Ваня… А, дядя Ваня, – окликнула задумавшегося Ивана Павловича Фанни.
Оба примолкли, и дома, и на веранде была тишина. На дворе переговаривались Гараська с Идрисом, шуршали бумаги, звенели жестянки.
– Что, Фанни? – Иван Павлович поднял глаза на нее. Печальна была Фанни, тяжелая, скорбная дума морщинкой легла на ее лбу, и опустились концы губ.
– Неужели, дядя Ваня, будет такой день, когда и вы мне сделаете предложение?
– А что тогда, Фанни?
– Это будет так смешно… И так ужасно, – с невыразимой горечью в голосе сказала Фанни.
XXI
Отъезд Васеньки был назначен на восемь часов утра, но провозились, как всегда, при подъеме после продолжительной стоянки с укладкой и вьючением, потом завтракали, выпивали на дорогу посошки и стремянные, и по русскому, и по сибирскому обычаю, и только около одиннадцати караван Васеньки вышел за ворота и потянулся в горы…
Иван Павлович и Фанни проводили путешественников на пять верст, до первого подъема, и вернулись домой.
Было томительно-жарко. По двору крутились маленькие песчаные смерчи, валялись обрывки бумаги, соломы, навоз от лошадей. Иван Павлович отдал распоряжение об уборке двора и сараев и прошел в свою комнату.
Начинались постовые будни, и теперь они казались серее и однообразнее. Фанни заметно хандрила и скучала. Ее тянуло в горы, за горы, узнать, что там, за тем перевалом, за той цепью гор, скрывающих горизонт, какие города, какие люди?.. А еще дальше что?.. А если проехать еще дальше?.. Тянула и звала голубая даль, тянуло лето, стоявшее в полном разгаре, тянули лунные ночи с вновь народившейся луной.
Как будто скучала она и по Васеньке. Было похоже, что «розовый мужчина», болтун и хвастун, сытый, полный и холеный, как жирный лавочный кот, оставил след в ее сердце, и ее, может быть, и против воли, тянуло к нему.
Ведь как-никак со всеми своими смешными сторонами, со своими жирными ляжками, неумением пригнать стремена и несмелой ездой – он все-таки поехал туда, за горы. Он все-таки искал приключений, исследовал новые страны, ехал охотиться на редких зверей, посетить города, где никто или мало кто из европейцев был…
А Иван Павлович сидел на унылом Кольджатском посту, ходил на уборку лошадей, ругался там, занимал казаков рубкой шашками лозы и уколами пикой соломенных чучел и шаров, часами твердил с ними уставы, а по вечерам долго подсчитывал с артельщиком и фуражиром фунты муки, хлеба, зерна и мяса.
И это жизнь?..
Было приключение. Поимка Зарифа, но оно было и прошло. Да и в нем Фанни участвовала случайно…
А тут, у Васеньки, вся жизнь. Ему двадцать пять лет… А он уже охотился на слонов в Абиссинии, побывал на Зондских островах и теперь едет в Индию… Ему долгий путь. Перевалы. Встречи с полудикими людьми. Охота за дикими лошадьми. Индия, страна сказок, а потом океан и, может быть, кораблекрушение…
Она забывала пошлое лицо Васеньки, его замаслившиеся вдруг глаза и то, как он схватил ее за талию и пытался поцеловать, а сам твердил знойными, горячими устами: «Я хочу вас, я хочу, хочу вас. Вы должны быть моею, Фанни, что вам стоит. Я заплачу вам»…
Какая гадость!
А все-таки путешественник. Герой! А не офицер пограничного полка.
Вот хотя бы Аничков! Ну что он? Скачет, учит сотню в лагере и имеет приключения лишь по приказу начальства. Влюблен в своего Альмансора, влюблен в свои мускулы, а тоже, поди-ка, по вечерам вахмистр, и счеты, и разговор: «Седьмого на довольствии было пятьдесят два, восьмого два прибыло, один убыл, стало пятьдесят три… Ячмень брали по 52 копейки пуд»… О, противные!
Будни! Будни!
Иван Павлович догадывался, понимал и чуял драму, происходившую на душе у Фанни, и чутко присматривался.
Он звал ее на охоту на горных курочек, он поднимался с ней к подножию Кольджатского ледника и с этой высоты в четыре с половиной версты показывал и называл ей все окрестные горы и местечки. Голова кружилась от страшной выси, тонула далеко внизу огромная Илийская долина, и могучая река Или казалась жалким синим ручейком. Сады и города рисовались мутными пятнами, и все сливалось в розовато-золотистых тонах песков пустыни и камышей, окружающих Или… Ах, не то… Не то…
– Слушайте, Фанни, я даю вам слово: первая же экспедиция, командировка куда бы то ни было, и вы поедете со мною.
– Я вам верю. Спасибо, милый дядя Ваня! Но когда это будет? Разбойники у вас бывают не каждый день и даже не каждый год…
Она хандрила.
«Неужели она полюбила Васеньку? Неужели этот пошлый хлыщ нарушил равновесие ее жизни и выбил ее из колеи?»
Прошло две недели. Скучных, жарких, прерываемых только мимолетными жестокими грозами в горах. Две недели без приключений.
И вдруг вечером казак привез пакет. Это не обычная почта, а пакет особенной важности; пакет за сургучной печатью. И казак его вез «лавой», на переменных лошадях. Утром выехал, в десять часов вечера доставил. Он настойчиво требовал, чтобы и на конверте это отметили, чтобы начальство видело его расторопность.
В пакете приказ командира и пропуски китайского правительства в Турфан.
С русским путешественником Василевским что-то случилось в Турфане. Кажется, захвачен местными китайцами и арестован. Китайские власти бессильны. Необходимо вмешательство силы. Возьмите десять казаков и отправьтесь спешно в Турфан. Действуйте решительно и быстро, памятуя, что русский человек не может, помимо консула, нести наказания. Пропуски китайского правительства прилагаю, посылаю полторы тысячи рублей золотом и китайским серебром на расходы. Командир полка полковник Первухин…
– Ура! Экспедиция! Ура! Приключение! – вихрем носясь по комнате, восторженно кричала Фанни. – Когда мы едем, дядя Ваня?
– Завтра, в четыре часа утра…
XXII
– Вы не устали, Фанни?
– Я нет. Что с вами? Мне так дивно хорошо!
Шестой день в пути без отдыха. Они прошли ряд глухих ущелий, карабкались наверх по кручам. Вот, думалось, откроется горизонт без конца, станет видна широкая равнина, поля, города и села… Но все то же. За перевалом ряд небольших хребтов, песчаная площадка, иногда луг, покрытый травами, а верстах в трех уже снова вздымаются черными стенами крутые горы, громоздятся скалы, торчат пики, местами ущелья поросли еловым лесом и можжевельником, кое-где между вершинами белыми пятнами торчат ледники, и дорога снова вьется наверх к новому перевалу.
Гараська был прав. Перевалам не было числа.
Ночевали в горах. То в горных хижинах лесников и охотников, то в кибитках кочующих со стадами киргизов. Фанни засыпала под неугомонное блеяние баранов и мычание коров, образовывавшее своеобразную музыку пустыни. Невдалеке журчал горный ручей, смеялись и визжали киргизские дети, и вся эта мелодия вместе с величественной панорамой гор навевала такое удивительное спокойствие на душу, чувствовала себя Фанни такой простой, первобытно-чистой, что засыпала на свежем воздухе гор под эту музыку пустыни сном ребенка.
Как понимала она здесь Пржевальского, который скучал в столичной опере за этими видами, за этой музыкой стад, которая осталась неизменна из века в век со времен Лавана и Иова! Как понимала она и его желание, чтобы он был похоронен в такой же пустыне, на берегу дикого озера Иссык-Куль!
На пятый день пути, уже под вечер, они карабкались по красной тропинке между порфировых скал, имея влево от себя грозные отроги Хан-Тенгри. Он так мрачно насупился, и черные тучи закутали снега его вершины. И вдруг, перед самым закатом солнца, когда они наконец достигли вершины перевала, перед Фанни открылся бесконечный простор пустыни. Желтая трава, высохшая от солнечного зноя, расстилалась на сотни верст, ровная и чуть колеблемая ветром. Она была позлащена алыми лучами заходящего солнца и переливалась прозрачными тонами, вдаваясь то в ясное золото, то в темную медь. Местами она голубела от синеньких цветов и колыхалась, как море удивительной красоты. И на всем протяжении, сколько глаз хватал, не было видно никакого человеческого жилья – ни города, ни селения, ни кибиток киргизов.
Пустыня.
А за нею опять тянулись длинным хребтом горы мягких очертаний, с округлыми линиями вершин, без острых пиков, страшных утесов и таинственных ледников.
Они были совершенно лиловыми, эти горы, и мягко колебались в призрачной дали, как мираж, как не успокоившиеся декорации дальнего фона…
Целый день они шли, изнемогая от зноя пустыни. Кругом шелестела под знойным ветром сухая трава, убегали из-под ног ящерицы и черепахи, да носились над метелками семян маленькие птички – синицы пустыни, хорошенькие рисовки.
Ни одного встречного. Ни пешего, ни конного. Иногда вдали покажется темное пятно. Табун диких лошадей подойдет шагов на тысячу и вдруг умчится и скроется в густой траве… И топот лошадиных ног взволнует казачьих коней.
Следы степного пожара перегородят путь. Кто поджег его? Ударила ли молния в одну из страшных гроз пустыни или беспечный человек бросил спичку или окурок, не загасил костра? Черная земля потрескалась, покрылась сивым налетом пепла, и изумрудная трава мягкими иголками пробивается из черного пожарища… Сухое русло преградило дорогу пожару, и опять торчат желтые травы без конца.
Ночевали у воды. Колодцы, кем-то вырытые. Глиняные копанки в земле, иногда лужи мутной воды среди черной тинистой грязи, затоптанной следами многочисленных стад. Валяется черепок глиняного кувшина, и неподалеку тлеют белые кости верблюда или лошади.
Ставили для Фанни палатку, расстилали коврик, на нем расставляли койку. Казаки и Иван Павлович ложились под открытым небом на бурках, все вместе.
Соленый от воды чай сдабривали клюквенным экстрактом, на костре, на вертеле, жарилась нога барана или джейрана, убитого в пути казаком, доставали консервы. Раз как-то Иван Павлович вынул мешочек и из него насыпал в котелок с горячей водой какого-то темно-бурого порошка.
– Попробуйте, Фанни. – Яблочный кисель был перед ней.
– Откуда у вас эта прелесть?
– Специальное изобретение города Верного. Яблочный порошок.
– Итак, у нас обед из трех блюд, со сладким.
– Даже из четырех – с десертом.
Иван Павлович подал Фанни ветку, всю усеянную гроздьями дикой красной смородины.
Как он заботился о ней в пути! Да и не он один, а все казаки, и Царанка, и Запевалов, и Порох. На вид такие угрюмые и неприветливые, они словно ожили, как только коснулись этой бродячей жизни, как только углубились в бесконечную степь.
Ах, эти закаты на берегу степного озерка, среди гомона всякой водяной птицы, когда степь покрывается прозрачной дымкой и терпкий, но и нежный запах сухой травы и семян рвется в легкие. Наверху горит заря, и полнеба покрыто пурпуром ее пожара, солнце ярко-пунцовое, точно нарисованное на транспаранте, тихо уползает под горизонт! Ах, эта красота пустыни, ни с чем не сравнимая, дающая удивительный покой душе.
Сзади, как стены, берегут ее грозные отроги Хан-Тенгри, теперь весь он во всем своем очаровательном блеске, розовый и сверкающий снегами, дрожит в миражах воздушной выси.
Точно Бог с вершины Своего трона смотрит на мир и улыбается ему, и радуется всякой твари.
Вот Он тряхнул Своей рукой, и высыпались яркие серебряные звезды, выплыл таинственный месяц и понесся по небу любоваться Божьим миром и чаровать его своими колдовскими чарами…
Красота! Красота!
– Вы не устали, Фанни?
– Да разве можно устать среди этой красоты!
У нее точно крылья выросли. Она чувствовала себя легкой и подвижной, бесконечно счастливой, как счастлив бывает первобытный человек, когда приблизится он к Богу в своих творениях.
– Я так счастлива, дядя Ваня. И я сама не понимаю, почему… Но так счастлива я еще не была никогда. Что со мною, не знаю. Но так хорошо! Почему это так, дядя Ваня?
– Мы у подножия Божьего Трона, и Господь взирает на нас, – задумчиво говорит дядя Ваня.
Оба долго и восторженно смотрят на гаснущую в небе высокую вершину. Розовые тона перламутра заката исчезли на ней, она померкла, посинела и уже загорелась с другой стороны опалом, отражая ей одной видную с ее высоты луну.
Как хорошо! Как хорошо!!!
XXIII
Еще пять дней они шли по пустыне, потом был невысокий перевал и глубокий спуск в долину, где стоял «город ада» Турфан. Подземный город.
Степь покрылась людьми. В болотных низинах зеленели поля риса. Мягко шелестела большими пушистыми метелками джугара, и, точно лес камыша, стояли плантации гаоляна. Тропинка обратилась в дорогу, и от нее во все стороны пошли разветвления красной пылью покрытых дорог.
Громадные горбатые быки, запряженные в тяжелые двухколесные телеги, стояли возле скирд. Голые, с повязкой у бедра люди, темно-красные, обгоревшие на солнце, работали в полях. Встречались всадники на маленьких лошадках. Их костюмы и прически были оригинальны и разнообразны. Сюда сбирались люди со всех окрестных гор… Проехал важный китаец с маленькой свитой солдат в синих курмах с белыми кругами на груди и с головами, обмотанными чалмами. Он подозрительно посмотрел на встречных и, приветливо улыбаясь лицом, но с холодными глазами ответил на поклон Ивана Павловича.
Дикий житель гор на поджаром от худобы коне, сам полуголый, с выдающимися ребрами грудной клетки, с копной черных волос, украшенных перьями и раковинами, с большим колчаном со стрелами за плечами и с громадным луком у седла, в пестрых отрепанных панталонах и башмаках, промчался, обгоняя их; проехали киргизы в малахаях и халатах и остановились поболтать с казаками. Показался город…
Чем ближе была цель путешествия, тем более беспокоился Иван Павлович за успех своего предприятия. Он знал китайцев. Их суд скор. И если Васенька так провинился, что китайцы рискнули его арестовать, вряд ли он избежал казни или самосуда китайской толпы. А тогда требовать удовлетворения, наказания виновных, уплаты выкупа, опираясь на силу десяти казаков и находясь в пятистах верстах от своих, – было невозможно. Можно было и самому попасть в тяжелую передрягу.
Боялся он и за Фанни.
А она наслаждалась всем, как ребенок.
– Дядя Ваня, это китайцы?.. У их офицера прозрачный шарик на шапке. Какой это чин?.. Только поручик!.. А какой он толстый да важный!! А у солдат почему круги на груди? Что там написано? Дядя Ваня, вы по-китайски читать не умеете? А это что за человек? Дядя Ваня, совсем как индеец на картинках в романах Майн Рида…
Но и она, несмотря на весь сложный калейдоскоп впечатлений, помнила о Васеньке и беспокоилась о нем.
– Дядя Ваня, как вы думаете, выпустили Василия Ивановича? А как в китайской тюрьме, хорошо или нет?
– Милая Фанни, приготовьтесь к самому худшему. Китайская культура особенная и, по-нашему, – они дикари. Их жестокость и изобретательность на пытки неисчерпаемы.
– Вы думаете, что Василия Ивановича пытали?
– Все может быть.
– Но ведь он жив?
– Будем надеяться.
– Бедный Василий Иванович! Как ему, такому холеному и избалованному, должно быть тяжело.
Китайская башня с разлатыми краями крыши, загнутыми кверху, стена с зубцами и ряд невысоких домов начинали город. Но далее, спасаясь от зноя, люди ушли под землю. Широкая аппарель спустилась в темную улицу, мутно освещенную сквозь щели потолка, забранного бревнами, землей и сухим хворостом. Виднелись темные хижины, освещенные ночниками в виде глиняного соусника, налитого маслом, с края которого был укреплен фитиль. Попадались люди с такими же ночниками в белых одеждах. Пахло первобытными библейскими временами. Голые люди сидели у домов и занимались ремеслами. Цирюльник брил голову и разбирал косу при свете ночника, в харчевне обедали голые люди, пахло сырым пареным, пресным тестом, постным маслом и чесноком. От улицы вправо и влево шли переулки, о которых можно было догадываться по мерцанию огоньков ночников и по светящимся внутренним светом бумажным окнам подземных домов.
Духота вызывала испарину. Солнечный зной сюда не достигал, но и под землей жара была невероятная. Воздух был тяжелый и удушливый. Фанни удивлялась, как могли здесь жить люди.
При помощи расспросов узнали, где «ямынь», китайский кремль, присутственные места города. Он оказался на значительной глубине под землей, на большой площади, выкопанной Бог знает в какие первобытные времена. Здесь светилась переплетом больших окон фанза, помещение тифангуаня и его канцелярии, а с боков были фанзы поменьше, для чиновников и солдат караула. По другую сторону площади находился обширный постоялый двор, на который и въехали казаки.
Было около четырех часов дня. Устроив Фанни в маленькой комнате, любезно уступленной хозяином в своем помещении, разместив казаков и лошадей и узнав, что в ямыне присутствие чиновников до шести часов вечера, Иван Павлович собрался сейчас же идти в ямынь.
– Дядя Ваня, возьмите меня с собой, – попросила Фанни. – Мне страшно здесь одной, без вас.
Иван Павлович согласился. Он приказал Пороху как хорошо говорящему по-китайски, Царанке и пяти казакам следовать с собой, а четверым остаться при лошадях.
В полной темноте подземелья, где мрак рассеивался только мутным красноватым светом, лившимся сквозь бумажные окна ямыня, Иван Павлович прошел через площадь.
Стража не хотела его пропустить, он предъявил документы, и его с его спутниками провели в длинную комнату с соломенными циновками на полу. Вдоль комнаты по обеим стенам стояли низенькие столики, и полуголые писцы кисточками разведенной в небольших чашечках тушью писали на длинных и узких полосках бумаги желтоватого и красного цвета. Подле лежали большие печатные книги, свитки бумаги и газеты. Перед некоторыми в плоских круглых чашечках дымился бледный чай.
Полная тишина стояла в комнате, освещенной целым рядом ночников и двумя висячими керосиновыми лампами с плоскими железными абажурами.
Старый китаец в замасленной темно-синей шелковой кофте, надетой на голое тело, и в широкой черной юбке, мягко ступая ногами в туфлях, ходил между столами. У него была седая косичка, и лицо его, темно-коричневое, покрытое тысячью морщин, было маленькое, как яблочко.
При виде Ивана Павловича с Фанни и казаками он степенно подошел к ним, присел в виде привета, потом подал каждому маленькую темную иссохшую руку и, улыбаясь беззубым ртом, спросил по-китайски, что нужно русским вооруженным людям.
Он подчеркнул слово «вооруженным», как бы деликатно намекая Ивану Павловичу на неуместность входа в ямынь казаков.
Иван Павлович понял намек и приказал казакам выйти на двор и ожидать его там. Фанни осталась при нем.
– Я имею дело от моего начальника до тифангуаня, – сказал по-китайски Иван Павлович.
– Хорошо. Я скажу тифангуаню. Он примет.
И, знаком указав подождать, старичок медленно и важно прошел между писцов к дальней двери, с резными, заклеенными бумагой створками и скрылся за ними. Прошло с полчаса.
Фанни с любопытством и страхом осматривалась кругом. В полутьме подземной канцелярии вся эта странная обстановка казалась отчетливым, ярким и ясным сном…
– Тифангуань нас потому не принимает, – тихо сказал Иван Павлович Фанни, – что он делает свой туалет. Надевает шитое серебром платье, шапку с шариком. Он сидел по простоте в такой же кофте, как и его чиновник, и встретить нас так – это значило бы «потерять лицо» перед нами.
Старенький чиновник вышел из-за двери. И он приоделся. На голове у него была черная фетровая шапка с молочно-белым шариком.
– Пожалуйста, – приседая, сказал он. – Тифангуань может говорить и понимать по-русски. Он из Кульджи, – добавил он и распахнул обе створки двери.
XXIV
– Садитесь. Как доехали?
Полный нестарый китаец в черной, расшитой серебром и шелком курме, в шапке с непрозрачным розовым шариком встал с тяжелого кресла навстречу Ивану Павловичу и Фанни.
Молодой китаец принес на красном крошечном деревянном подносе две чашечки бледного чая и китайские печенья на блюдечках.
– Не было жарко в пустыне?
– Ничего, было терпимо.
– Всюду нашли воду?
– Да, вода была.
– Разбойники не нападали?
– Нет, слава Богу, шли спокойно.
– Я рад. Сколько дней шли из России?
– Одиннадцать дней.
– Как скоро! И ваша барыня не устала?
– Нет.
– Барыня первый раз в наших краях?
– Да.
– Нравится? Тут бедная, дикая земля. Барыне надо посмотреть Кульджу, а еще лучше – Пекин. Тифангуань в Пекине не был, но он был молодым еще в Москве. Москва немного меньше Кульджи. Суйдун тоже хороший город. Прошу откушать чай, китайское печенье. Это хорошо. Русская барыня боится – не надо бояться. Это миндаль в сахаре, а это миндальное печенье, совсем как в Москве.
Фанни попробовала и то, и другое. Печенье хотя и отзывало бобовым маслом, но было нежное и вкусное, а миндалины в белом сахаре и просто хороши. Чай был очень ароматный и, несмотря на свою бледность, крепкий.
Этикет был выполнен. Можно было начать говорить о деле.
Иван Павлович доложил о цели своей поездки.
– Это Ва-си-лев, – по слогам, с трудом разбираясь с фамилией, проговорил тифангуань. – Я знаю. Это крупное, нехорошее дело. Он очень нехороший человек. Пухао.
– Что же он сделал? – спросил Иван Павлович.
– Подойдите ближе.
Иван Павлович прошел к самому креслу тифангуаня, в темный угол его небольшого кабинета, и тифангуань зашептал ему на ухо, но так, что Фанни почти все слышала. И по мере того как она слушала отрывистый рассказ толстого китайца, краска то приливала, то отливала от ее лица. Она старалась заняться чаем, печеньями – и не могла. Ей становилось мучительно стыдно и за оскорбленное русское имя, и за Василия Ивановича, и за самое себя. Потому что сюда она ехала, уже любя этого беспутного человека, этого путешественника. Она простила ему его выходку накануне отъезда. Она создала из него в своей головке героя, искателя приключений. Она мечтала, освободив его, стать героиней. Самой поднявшись до него своим приключением, поднять и его до себя по высокому нравственному чувству, и тогда, когда он поймет, какая она женщина и какая она натура, отправиться дальше с ним испытывать новые приключения. А тут… Какая грязь… Какое низкое падение ее героя.
– В нашем город живет старый мандарин на покое, – шептал тифангуань. – Очень хороший человек. Народ его шибко любит. У него дочь шестнадцати лет. В Шанхае училась. Совсем европейская барышня. По-английски говорит, как англичанка. Красавица. Лучше во всем Китае нет. Одета, как китаянка. Месяц тому назад приехала к отцу… И ее весь народ полюбил. Шибко полюбил… Ну и этот Ва-си-лев, понимаешь, украл ее… Да, затащил в фанзу… Ну, она не перенесла этого. Утром, у него же и – харакири, ножом, значит, распорола живот. Ну, умерла. Ничего никому не сказала. Только прислуга того дома, где они были, и выдала его. Народ узнал. Старик узнал! Ой, ой, ой, что тут было. Я боялся, разорвут его на части. Требуют смерти. Как быть? Я друг русских, я был в Москве, я понимаю, что нельзя. Ну тут придумали – надо судить. Надо донести по начальству. Тут телеграф далеко. Кульджа надо ехать – телеграф. Кульджа на Пекин, Пекин на Петербург, Петербург в Ташкент, Ташкент в Джаркент, – ой, долго, долго… Пока приедут, целый месяц пройдет. Народ волнуется. Сам знаешь, какой у меня народ! Кабы это китайцы были! А у меня люди с гор, горячие люди. Хотели живьем сжечь. Насилу уговорил ждать суда. А суд что – все равно – голова долой. Кантами. Тут русские далеко, Пекин далеко, народ никого не боится. Ой, ой, ой, думаю, что делать. Ну, решили посадить в яму.
– В клоповник? – воскликнул Иван Павлович. – Да ведь он не выживет.
– Сегодня еще жив был, я справлялся.
– Надо сейчас освободить.
– Нельзя. Народ знаешь. Большое волнение будет.
Наступило молчание. Тифангуань прошел к одной двери и заглянул за нее, потом к другой, не подглядывает ли и не подслушивает ли кто.
– Это дело надо деликатно сделать, – прошептал таинственно тифангуань, и его полное лицо стало маслянистым от проступившего на лбу пота, и глаза сузились, как щелки.
– Пятьсот золотом, – прошептал Иван Павлович, догадавшись, в чем дело.
Китаец отрицательно покачал головой.
– Иго[60], – сказал он, вытягивая указательный палец правой руки кверху. – Одна тысяча.
Иван Павлович покрутил головой.
– Иго. Я шибко рискую. Сегодня ночью бери – завтра утром я погоню посылаю. Мне надо лицо сохранить. Погоня найдет – бой. Никого живьем не оставит кавалерия Ян-цзе-лина. Ух, хорошие солдаты.
– Ну ладно.
Звякнул мешок с золотыми монетами
– Считать не надо. Верно.
– Где остановился?
– В чофане[61] напротив. На постоялом дворе.
– Сегодня ночью. Поздно… Луна уходит – лошади готовы, все готово. Возьми двух человек, веревка крепкий. Придет мой человек, дунганин. Ему сто дай. Он проведет куда надо. Темно. Огня не надо. Нельзя огонь. Стража я опиум давай. Стража спит. Быстро взять. Там решетка в земле. Ну только два человека потянут – вынут. Потом все на место и айда – быстро на лошадь. Солнце на небо – ты на горе. Понимаешь. Ян-цзе-лин… погоня… Он найдет… У него «японьски» офицер.
Тифангуань хлопнул в ладоши, и молодой китаец, приносивший раньше чай, подал большой поднос. На нем стояло три грубых стеклянных стакана, наполненных искрящимся вином, тарелочки с виноградом, изюмом, абрикосами, калеными орехами, лепешечками из теста, темными леденцами, черным и горьким китайским сахаром и другими китайскими сладостями. Это был «достархан»[62], отказаться от которого было нельзя. Этикет требовал принять его.
Вино оказалось противным теплым шампанским.
– Кушайте прошу вас, на здоровье, – радушно говорил тифангуань. – Очень хороший вино.
И когда к нему в кабинет осторожно протискался старик, правитель дел канцелярии, он застал всех трех за достарханом, беседующих о трудности пути, о необходимости продолжительного отдыха. Тифангуань рассыпался в любезностях перед русской барыней, обещал ей достать диких лошадей и уговаривал выпить еще стакан вина.
Своему чиновнику он приказал на завтра отыскать хорошую фанзу для русских гостей.
Русские червонцы и не звякали у него в большом кармане, плотно заложенные кисетом с табаком и полотенцем.
XXV
В чофане с казаками был Гараська. Он узнал о прибытии русского отряда и без труда отыскал его. Все европейцы всегда останавливались на этом постоялом дворе.
Он уже успел зарядиться с казаками скверной китайской водкой и кислым вином и был на втором взводе, но бодрости телесной не терял. Стал только чрезмерно словоохотлив.
– Гараська, Гараська, – качая укоризненно головой, сказал Иван Павлович. – Как же это вышло?
– По пьяному делу, Иван. Обычно, по русскому пьяному делу. Тифангуань кругом виноват. Надо было ему этой девицей хвастать. Пошли обедать. Ну, шуры-муры, вино, коньяк, портвейн. Вижу, у Василька уже ажитация начинается. Комплименты по-английски так и сыплет. А она тает. Тоже пойми, друг Иван, и ее психологию. Какие-никакие языки не изучай, а ведь все китаянка, желтая раса. А тут белый – европеец. В Шанхае-то ее в английском пансионе, конечно, напичкали прямо трепетом перед белыми людьми. Полубоги! А Василек, надо отдать справедливость, по-английски, как настоящий англичанин, так и сыплет. Да и вид джентльменистый. Ну и все ничего. Только после обеда и подают русскую наливку. Сладкая черносмородиновка. Бутылка в песке оклеена. Ярлык наш, «смирновский». Ну, московское сердце Василька и размякло. «Гараська, – кричит, – “вождь индейцев”! Гляди, московская запеканка! Наша родная! Думал ли ты, что у чертей в аду, в самом подземелье, российская гостья!» Ну и махнул ее на готовые дрожжи. Да и той подливает: «Мисс да мисс»… Нельзя, мол… «Рашен бренди», уважьте, мол. Она и подпила. А хорошенькая! А главное, брат Иван, ты знаешь, ведь у них ручки, пальчики, ножки, ведь это, и правда, что-то неземное. Размяк Василек. Он и то дорогой все мечтал о китаянке. По-русски мне планы свои развивает, как затащить ее к себе. А тифангуань сам китаянке по-русски говорит… Я ему и знаками, и словами. Куда! Расходился. И она к нему размякла. Думает – джентльмен. А он – совсем распоясался. Уговорил пойти посмотреть его ружья. Пошли.
Она свободная такая. Да и то, во хмелю были… Да… Затащил он ее к себе, значит, и заперся. Ну, мне какое дело. Наутро, слышу, кричит. Бежим. Идрис и я. Дверь заперта. «Ломай!» – орет, а сам рыдает. Что за притча… Взломали… Темно. Журчит что-то, запах нехороший. Ровно как скотину зарезали. Ну, зажгли ночники. Представилась же нам картинка! Маленькая темная фанза. На широком кане матрас и тряпье китайское набросано в беспорядке. В стене ниша. И так чуть отблескивает на ней бронзовый Будда. Василек у стенки лежит лицом к стене и весь трясется и орет. А с края она. Мертвая. Черные волосы в две косы разделаны, рубашка вся в крови, рука в крови по локоть, глаза выпучены, нож уронила на ковер, а живот весь раскрыт, и кишки на землю ползут и еще трепещут, как живые… От такой картины и не Васильку испугаться. Ну, вытащили мы его. Только шум уже вышел. Хозяева узнали. Не скроешь. Не схоронишь. Ну, и пошла, брат, баталия. Кабы не Идрис да киргизы, зарезали бы всех нас. Прискакал тифангуань с солдатами. Что крика было! Ей-богу, до самой ночи в темноте, как демоны, дрались и орали. Уже ночью так голодного в клоповник бросили. А где – и не знаем. Искали, допытывали, ничего не нашли. Да и нам-то тут боязно стало ходить. Народ на нас волками смотрит.
– Ах, Гараська, Гараська! Вместо того чтобы удержать, направить…
– По-пьяному, брат, делу. Ничего с ним тогда не столку ешь.
– Ну, вот что… Сегодня ночью ты и весь его караван с лошадьми выходите за город. Приспособьте носилки на двух лошадях. Я, Идрис и Порох пойдем его добывать.
– И я, – тихо сказала Фанни.
– Зачем?
– Мне так страшно без вас.
Иван Павлович посмотрел на нее. Она побледнела, и тревога и страх светились в ее глазах. Ивану Павловичу стало страшно оставлять ее одну, хотя бы с Гараськой и казаками. Все вспоминался Кольджат, где он ее оставил, и вышло хуже. И Иван Павлович согласился взять ее с собой.
XXVI
– Капитана! Капитана…
Кто-то нерешительно дергал за ногу Ивана Павловича. Он так крепко заснул после похода, после волнений, после всех этих разговоров. В фанзе было темно. В дверях стоял хозяин-китаец с ночником, тускло мигавшим у него в руке, а дунганин-солдат, обнаженный до пояса, будил Ивана Павловича.
Пора.
Иван Павлович встал и принялся будить Пороха и Идриса.
Дверь в соседнюю каморку приоткрылась, и Фанни вышла к Ивану Павловичу. Она не спала, лицо у нее было бледное, глаза обведены большими темными кругами, веки стали коричневыми, черные зрачки горели больным лихорадочным огнем. Винтовка висела на плече, большой нож – на поясе. Обмявшийся за дорогу армячок облегал ее тело мягкими складками. Из-под кабардинской шапки выбились развившиеся волосы, висящие не локонами, а прядками… У нее был больной вид.
– Вам нездоровится, Фанни? – спросил Иван Павлович.
– Нет. Я отлично себя чувствую. Но я так потрясена. Мне так стыдно за русское имя.
– Приключение, – чуть улыбаясь, сказал Иван Павлович.
– Ну какое же это приключение! Просто свинство одно. А как вы думаете, дядя Ваня, он жив?
– Будем надеяться. Но перенес бедный Василий Иванович, должно быть, немало ужасов. Ну что же, Порох, готовы? Веревку взяли? Клубок белых ниток есть?
– Все готово.
– Фанни, это я вас попрошу. Нам нужна на всякий случай Ариаднина нить. В этом мраке мы можем заблудиться и потеряться. Я попрошу вас закрепить эту нитку у ворот нашего постоялого двора и, не выпуская мотка из рук, разматывать его постепенно. Не надо забывать, что тифангуаню очень будет выгодно, если мы запоздаем, чтобы проявить свое полицейское усердие и тогда – мы все пропали… Итак, все готово? Идрис, носилки у тебя? Ну, с Богом.
Кромешный мрак окутал их, едва они вышли из полосы мутного света, бросаемого бумажным фонарем чофана. Это не был мрак ночи, это был мрак пещеры, мрак дома глухой воробьиной ночью с наглухо закрытыми ставнями. Мрак выдвигался перед путниками, как стена, и инстинктивно они вытягивали вперед руки, чтобы не наткнуться на что-либо. Нигде не светилось ни одно окно, не горел фонарь, не видно было ночника пешехода. В одном месте, в углублении, за деревянной решеткой была открытая кумирня. Тонкие душистые свечки, воткнутые в горку песка, догорая, тлели. Их красные огоньки отразились в бронзе какого-то бога, и ужасное лицо с громадными выпученными глазами и всклокоченной бородой показалось живым. Нервная дрожь потрясла Фанни.
Это был кошмар, полный ужасов, какие только может придумать расстроенный и больной мозг. Они шли гуськом. Впереди – дунганин, за ним – Идрис, потом – Порох, Иван Павлович и последней – Фанни, медленно разматывая клубок. Их шаги гулко и глухо раздавались по убитой земле в тишине черной ночи. Иногда кто-либо терял впереди идущих. Слышался сзади робкий голос: «Где вы?» – «Здесь, здесь», – отвечали несколько голосов, шаги стихали и отставшие наталкивались на нервно дышащих людей. Было душно. Иногда останавливались, чтобы перевести дыхание. В сырой духоте ручьи пота стремились по лицам. Обтирались платками, и белые платки чуть определялись во мраке. Стояли у стен таинственных спящих домов и, казалось, слышали мерное дыхание и храп их обитателей. Точно спустились в царство мертвых, в город могил, полных ожившими мертвецами. Дома-пещеры были склепами, и жутко было думать, что земля может обвалиться и всех засыпать. Судя по тому, что дорога все время спускалась, что нигде не было видно отдушин, углублялись в землю. Много раз поворачивали то направо, то налево. Попалась под ноги собака. Она не залаяла, но сама испугалась и метнулась в сторону.
Сколько шли? Казалось, что долго, но, судя по тому, что ноги не устали и клубка было размотано меньше половины, прошли не так далеко.
Вдали замаячил мутно-желтый свет фонаря. Точно кто шел навстречу. Невольно схватились за винтовки, но скоро разобрали, что свет был на месте. Подошли к нему. На длинной, косо воткнутой в землю жерди висел четырехугольный фонарь из промасленной бумаги. В нем тускло горел ночник. При неясном свете его стали видны две совершенно голые фигуры китайских солдат. Они разметались в беспокойном бредовом сне, который дает опиум, и что-то бормотали. Ружья были брошены, валялись маленькие трубочки, погасшие лампочки, коробочки с опиумом. Все было, как обещал тифангуань.
– Здесь, – сказал, останавливаясь, дунганин и, помолчав, добавил: – Ченна.
Все стояли, не зная, что предпринять. Ничего не было видно.
Дунганин показал на землю в трех шагах от себя и еще настойчивее проговорил свое «ченна» – «деньги».
Порох отошел к указываемому месту и сказал: «В земле окно, закрытое решеткой». Иван Павлович стал доставать деньги.
Идрис с Порохом взялись за края решетки и потянули их. Она подалась. Иван Павлович пришел к ним на помощь, заложили петлей веревку и дружными усилиями вырвали решетку вместе с рамой из каменного основания. Пахнуло смрадом нечистот, теплой сыростью погреба.
– Василий Иванович, – окликнул вполголоса Иван Павлович, – вы здесь?
Молчание.
Идрис нагнулся над ямой.
– Господина, а господина. Это я, Идрис, твой ингуш. Господина!..
Где-то глубоко послышался тихий шелест и слабые стоны.
– Василий Иванович! Это я, Иван Павлович Токарев, офицер с Кольджатского поста.
Стоны стали сильнее. Послышались плач и рыдания.
– Василий Иванович, Васенька, – снова заговорил Иван Павлович, – откликнитесь, отзовитесь, вы ли это?
– Да… это… я… Был… я… теперь нет, – раздалось неясно из ямы.
– Василий Иванович, мы вам спустим веревку. Можете ли вы обвязать себя ею, и мы вас вытащим.
– Не… понимаю.
Иван Павлович повторил.
– Нет… Не могу… Она душит меня…
– Кто она?
– Эта… китаянка… Она опутала меня своими кишками… душит. Как жжет, как жжет!.. Пить.
– Он в бреду, – проговорил Иван Павлович. – Придется спуститься кому-либо из нас, привязать его, а потом остаться и дождаться петли снова.
Вызвался Идрис. Его обвязали веревкой, но, когда он подошел к яме, он затрясся.
– Не могу, господина! Там шайтан… Ой, прости, господина. Лучше убей – не могу.
Мистический ужас охватил ингуша. Из ямы неслись едва уловимые стоны, вздохи и жалобы.
– Она душит… Она смотрит на меня мертвыми глазами…
Наступила минута замешательства.
– Извольте, ваше благородие, я живо спущусь, – проговорил спокойно, почти весело Порох. – Мы так сделаем.
Он устроил петлю и отпустил веревку в яму. Когда она коснулась дна и начала изгибаться, он закрепил ее за края рамы.
– Не так и глубоко, – сказал он, – сажени две, не больше будет.
Его бодрый голос, его уверенные движения ободрили всех. Он перекрестился, обвил веревку ногами, опустился в яму, ухватился руками за края, подался еще и еще и исчез под землей.
– Вот и готово, – послышался его голос. – Сейчас начну увязывать. Только принимайте осторожней, не ушибить бы о края.
Иван Павлович хотел призвать дунганина-проводника на помощь, но его нигде не было. Он исчез. Он предал их в этой ночи. Молча переглянулся он с Фанни.
– Как хорошо, что клубок… – прошептала она. – Это вы придумали?
– Меня точно что толкнуло. Наитие какое-то.
– Только бы он не перервал.
– Бог не без милости…
– Готово, можете тянуть, – послышался снизу голос Пороха.
Иван Павлович и Идрис взялись за канат и медленно стали поднимать Васеньку. Фанни стояла на коленях над ямой, готовая принять его. Показалась бледная и страшно худая голова с всклокоченными, спутанными усами, щеки, обросшие шершавой красно-рыжей бородой, порванная грязная куртка, покрытая крупными темными пятнами. И Фанни поняла, что это и были знаменитые, ужасные земляные клопы. Брезгливость охватила ее.
– Да принимайте же, Христа ради, – услышала она торопливый голос Ивана Павловича, – берите под мышки, чуть-чуть придержите. Удержитесь, не упадете?
– Нет, – прошептала Фанни и, подавив отвращение, охватила в свои нежные объятия покрытые нечистотами и землей с клопами плечи Васеньки и держала их, пока не подоспел Идрис. Вместе они оттянули его и положили на носилки. Веревку распутали и спустили для Пороха.
– Ух, да и клопов здесь! – раздался его веселый голос. – Ну и кусачие! Аж как собаки. Так и напали!
И сейчас же показалась его голова, он ухватился крепкими пальцами за борта ямы и стал вывязывать веревку.
– Да оставь ты ее, – сказал Иван Павлович, у которого нервное напряжение начало проходить.
– Помилуйте, ваше благородие, такая добрая веревка. И на походе она нам пригодится да и дома лишней не будет… Да вот и готово.
XXVII
Назад впереди всех шла Фанни. Она подавалась медленно, неуверенными шагами, наматывая нитку. За ней Порох и Идрис несли на носилках Васеньку. Сзади всех шел Иван Павлович.
Вдруг раздался полный отчаяния голос Фанни:
– Нитка оборвана.
Все остановились.
– Надо искать. Найдем. Где же она, она недалеко, ей некуда пропасть, – спокойно проговорил Порох.
Носилки поставили на землю и, нагнувшись над землею и став во всю ширину улицы, пошли, а Идрис и Порох поползли на четвереньках.
И вспомнилось Ивану Павловичу училище и игра «в лисичку». Бумажный след мелких обрывков потерян в кустах за Лабораторной рощей. Широкой лавой разъехались юнкера и ищут бумаги. Они изображают гончих собак. И вот кто-то тявкнул. Показались клочки бумаг, и все кинулись к нему и поскакали веселой вереницей по следу искать запрятавшегося юнкера-«лисичку». Им надо поймать его и вырвать из-под погона лисий хвост. Там призом явится этот лисий хвост и маленькая ленточка с жетоном… Здесь выигравшему – жизнь, а проигравшему – смерть в страшном подземелье…
Глаза и руки напряжены. Пальцы нервно хватают то куски навоза, то перья, то соломины, травки…
Мелькнула под ногтем мягкая тонкая полоска, еще и еще.
– Нашел, – крикнул он. – Сюда!
– Ну, слава Богу! – сказала Фанни и подошла к нему, тяжело дыша.
– Испугались?..
– Я-то! Ну что вы!
Задор мальчишки заглушил только что сказанное ею робкое, женское: «Ну, слава Богу!».
Фанни взялась за нитку. Порох с Идрисом вернулись за Васенькой и опять пошли в прежнем порядке.
С нервной дрожью ожидали утра. Проснется город, замигают таинственные огоньки в окнах, засветятся бумажные рамы, и явятся люди на улицу.
Узнают… схватят… и страшный самосуд толпы дунган и киргизов прикончит с ним, и с Фанни, и со всеми… Что толку, что потом, по требованию консула, совершится китайское правосудие и несколько обезглавленных тел будет выброшено на поле собакам! Их смертью не вернешь к жизни тех, кому так хочется жить…
Ивану Павловичу именно теперь хочется жить. Именно теперь… Когда приехала к нему эта фантастическая девушка, этот озорник-мальчишка с трехлинейной винтовкой за плечами и в кабардинской шапке набекрень.
Может быть, она его и полюбит. Потому что он-то ее уже полюбил. Полюбил за время этого путешествия, за время этих вечерних и утренних зорь в необъятном просторе степи. Полюбил, и надеется, и мечтает, что будет когда-либо день, когда на его предложение она не скажет, что это смешно и ужасно.
Впереди шли, покряхтывая, Порох и Идрис. Они устали. Иван Павлович предложил подменить кого-либо из них.
– Не стоит, ваше благородие. Уже дошли. Чофан видать.
В темноте подземного города показался круглый фонарь харчевни.
– Ты, барышня? – осторожно окликнул кто-то Фанни из глубокого мрака.
– Царанка!
– Я, барышня. Лошадь привел, командир привел, всем привел. Поедем. Надо ехать. Светать скоро. Луна светит.
Иван Павлович и Фанни сели на лошадей. Царанка подменил уставшего Идриса. Идрис взял лошадь Пороха, Иван Павлович – Мурзика, на котором приехал Царанка в завод, и все поехали за носилками, на которых метался больной Васенька.
Свернули на большую улицу. Сквозь щели в потолке луна лила свет, и серебристые полосы четко ложились на черную землю пола. Лошади пугались и заминались перед ними, храпя и поводя ушами, как перед водой. Аксай прыгнул через одну из них, боясь ступить на полосу лунного света.
Светлело. Показалось широкое отверстие выезда из подземного города. Потянуло знойным воздухом раскаленной земли… Выехали из-под земли, проехали пустую улицу, ворота со спящим часовым-китайцем старых войск. Уснувшие желтые поля окружили их.
Из-за стены колосящейся джугары вышел человек с лошадью в поводу, другой, третий… Казаки… наши…
– А долго, – хрипел Гараська. – Уже светает.
– Да, надо торопиться, – сказал Иван Павлович, – а между тем Васенька может только лежать и рысью не пойдешь.
Их голоса звучали бледно и устало.
– Его надо напоить… Вычистить и вымыть, – сказала Фанни.
– Напоить – напоим. У казаков согрет уже чай, а у меня есть фляга с коньяком, а вычистить сейчас некогда. Ведь после этой ямы его отпарить надо, – сказал Иван Павлович.
– По мне, барышня Фаня, – сказал Порох, – так и ходят клопы.
– И по мне, Порох… Чувствую, – с насмешкой над собою проговорила Фанни.
Загорелся восток, раздвинулись дали, погасали звезды, и луна, бледная, катилась к горам.
Больного напоили чаем. Он успокоился и в полусознании лежал на носилках, привязанных к двум вьючным лошадям. Отряд потянулся по полям к синеющим горам, и все, что было – темный чофан, канцелярия тифангуаня с писцами, сидящими перед тарелочками с тушью и бумагой, старый чиновник, сам тифангуань с его достарханом, ужасный рассказ Гараськи про китаянку, ночное хождение по тьме кромешной, по лабиринту улиц, яма с клопами, порванная нитка – все это казалось больным, кошмарным бредом.
XXVIII
Первые пять дней пути шли сторожко, с оглядкой, все ждали погони. Васенька окреп на воздухе и на хорошей пище и пришел в себя. Идрис ему достал все чистое из вьюков, он побрился и даже усы подвил. Ехать верхом он еще не мог, но уже легко выносил качку носилок на широком ходу лошадей. Он исхудал, был молчалив и задумчив. И его, испытанного искателя приключений, это приключение придавило.
Был молчалив и тревожен и Иван Павлович. Лошади уставали. Впереди был ряд перевалов, грозных ущелий, и успеют или не успеют они пройти их до погони? И это беспокоило его.
Был молчалив Иван Павлович еще и потому, что все сильнее захватывала его привязанность к Фанни и он не знал, что ему делать. Отдаться ли этому чувству и плыть в сладостной истоме мечтаний и соблазнительных грез по течению или гнать их от себя и смотреть, как раньше, суровым взглядом осуждения и на ее лихо заломленную набок кабардинскую шапку, и на винтовку за плечами, и на всю ее мальчишескую ухватку…
Фанни с беззаботностью юности наслаждалась путешествием в полной мере. Стряхнув призрак начинавшегося увлечения Васенькой, испытывая к нему только отвращение и жалость, она снова стала тем веселым, беззаботным мальчишкой, каким была, и она носилась на Аксае с Царанкой и Гараськой, подстерегая диких лошадей, стреляя по стадам джейранов и кладя их меткими выстрелами к великому удовольствию старого охотника.
– Вот по лошади, Герасим Карпович, не могу стрелять. И чувствую, что попала бы, – говорила она, – а душа не налегает, не могу. Что по человеку, что по лошади – не хватает духа.
Гараська был искренно, по-стариковски, рыцарски увлечен Фанни. И старый, и малый оглашали пустыню веселыми голосами.
– А я вам, погодите, Феодосия Николаевна, живую лошадь поймаю.
И если бы не Иван Павлович, старик устроил бы с казаками, калмыком и Фанни настоящую охоту, бросил бы дорогу и увлекся бы в сторону, на юг, дня на три, туда, где было много диких лошадей.
Иван Павлович не позволил этого. И Гараська трунил над ним.
– Кто из нас старик, брат Иван, я или ты, ей-богу, не пойму. Ведь эдакий случай! Табуны их тут, я же знаю! С места не сойти, тут на юг, на верст сто, не больше. Ах, да и богато же там зверем и птицей, и лошадью богато! Ну и места там! Махнем, Иван! А?.. Ну его к богу! Казаки довезут, – махал он рукой в сторону Васеньки.
– Дядя Ваня… Ведь правда, можно?.. Теперь уже безопасно.
Но верный офицерскому долгу, Иван Павлович все шел и шел упорно на север и с удовольствием видел, как темные склоны и закутанная густыми тучками вершина Хан-Тенгри становились ближе.
«Только не перегородили бы дорогу, не устроили бы засады», – с тревогой думал он, уходя из степи и поднимаясь на песчаные склоны гор.
XXIX
Погоня приближалась. С полуподъема, когда во время передышки оглянулись назад, чтобы еще раз полюбоваться прекрасным видом пустыни, на ней заметили три темных пятна. Это не были табуны диких лошадей и не были стада джейранов. И в их форме, и в строгой правильности их движения, направляемого одной волей, было то, что всегда издали дает знать о приближении военного отряда. Иван Павлович сразу определил, что это шел эскадрон реформированной кавалерии Ян-цзе-лина. Срединное пятно – взвод, шедший по дороге, – поднимал облака пыли, боковые оставляли примятую траву. Шли быстро, рысью, и Иван Павлович на глаз определил, что к вечеру китайские солдаты их нагонят.
Он поделился своими наблюдениями с Гараськой, и старый охотник задумался.
– Наши лошади еле идут, – сказал Иван Павлович, – необходимо сделать ночевку, иначе завтра они совсем не встанут.
– Да, положеньице. Слушай, брат Иван… Я тут когда-то на этом самом Хан-Тенгри с какими-то немцами на маралов охотился. Есть здесь тропа. Под самыми снегами. И хижину мы там установили, не так, чтобы важную, однако киргизы одобряют, поддерживают. Этой тропы солдаты не могут знать. Притом она, хотя и выше, но ближе. Да и обороняться на круче будет легче.
– Хорошо. На ночь выставим охранение. А утром как? Ведь если они нас осадят у подножия Божьего трона, сами прокормимся, а лошади как? Я ведь рассчитывал завтра к вечеру быть в Каркаре, там и трава, и ячмень у киргизов. У меня только на сегодня и завтрашнее утро хватит ячменя. Осадят, так никто же сюда не заглянет. Могут просто голодом извести, а потом и оставить. И никто не узнает, почему погиб отряд. Скажут, когда найдут, сбились с пути и замерзли.
– Снегом заметет раньше. Никто и костей не отыщет, – подтвердил Гараська. – Ну а низом идти чем лучше?
– Низом… Да и низом не лучше. На перевалах два человека могут нас перестрелять, как куропаток.
– Наверху есть та надежда, что китайцы, не зная нашего пути, пойдут по обычной дороге, обгонят нас и мы окажемся у них в тылу. А тогда можем выйти к границе не на Каркару, а прямо идти к Кольджату, а там, на виду у поста, никто не посмеет нас тронуть.
– Но ведь это, Гараська, еще пять дней пути!
– Выхода-то иного нет. Ну, примем бой. Нас пятнадцать винтовок, считая Васильковых киргизов.
– А их по меньшей мере восемьдесят.
– А что поделаешь?..
– Да, выхода нет, – сказал Иван Павлович. – Хорошо, веди по своей тропе, а там что Бог даст.
Серьезное положение отряда не ускользнуло ни от казаков, ни от Фанни. Казаки на глаз определили и силу преследующего их отряда, и свежесть лошадей китайского эскадрона и поняли, что надежда только на меткость своего глаза да на то, что каждый из них дорого продаст свою жизнь.
Все стали серьезны. Отряд медленно полз по кручам, ведя лошадей в поводу. С дороги свернули, замели следы, где сворачивали, и пошли по крутому откосу, направляясь прямо к вершине Хан-Тенгри, закутанной густыми облаками. Гараська шел впереди, отыскивая ему одному известную тропу.
Громадные скалы, торчавшие уродливыми столбами из земли, перегораживали дорогу. По пути были разбросаны такие большие камни, что их приходилось обходить, и потому шли медленно, шаг за шагом. Лошади, недовольные тем, что свернули с большой дороги, еле тянулись. Васенька беспокойно озирался и спрашивал, что это значит. Ему сказали, что идут на ночлег. Часто останавливались и с тревогой в сердце замечали, что расстояние между ними и эскадроном уменьшилось, что стали видны отдельные всадники. Вступая в горы, эскадрон свернулся в одну колонну и выслал дозоры, и по тому, как широко пошли эти дозоры, было ясно, что они захватят и обнаружат отряд.
Туман густого облака закутал путников и вымочил их одежды, как хороший дождь. Между валунов, скал и пик показались следы бараньего помета, узенькая тропочка чуть заметной лентой вилась по откосу горы над глубокой пропастью, заросшей густым лесом. Вершины елей сплошным зеленовато-серым ковром расстилались под ногами отряда.
– Вот оно, где самые-то маралы водятся, – проговорил Гараська.
– Не до маралов, брат, – мрачно сказал Иван Павлович.
Тропинка стала отложе, перешла по узенькому хребтику между двух пропастей на небольшое плоскогорье, на котором кое-где пятнами лежал рыхлый ноздреватый снег. Сквозь туман облака было видно, что подошли к снеговой линии, к подножию громадных сплошных снегов и ледников, образующих вершину Хан-Тенгри. Она, казавшаяся издали небольшой сахарной головой, тянулась вдаль на многие версты. Еще немного поднялись, пошли по снегу, по тропинке, натоптанной в нем, и спустились в котловину. Здесь из жердей и веток была сложена квадратная хижина с очагом из камней внутри, в ней было устроено некоторое подобие нар и перегородка.
– Вот в этой хижине, Феодосия Николаевна, – говорил Гараська, – я как-то с немцами две недели прожил, охотясь на маралов. Вы посмотрите, как она поставлена. Вся между скал. И только окно в заднем ее отделении, где была наша спальня, имеет небольшой выход, и оттуда видна вершина Хан-Тенгри. И кажется – вот она. Полчаса ходу по снегу. А, однако, ни одна человеческая душа там не была. Там, занесенный снегом, сохранивший до мелочей всю свою утварь, стоит Ноев ковчег. Там было первое место, которое обнажилось от воды при всемирном потопе… Там, говорят тихим суеверным шепотом киргизы, подножие Божьего трона. И никто никогда там не был. Недаром поется: «Бога человеку невозможно видети, на Него же нельзя взирати…» Великая тайна лежит там…
Наэлектризованная простым, но полным глубокой веры в правдивость своих слов, рассказом Гараськи, Фанни, как только слезла с лошади, пошла в хижину, но сквозь отверстие между скал был виден только густой туман, который клубился по снегу.
Носилки с Васенькой установили в первом, более просторном помещении хижины. Лошадей устроили между скал в загородке из камней, служившей и прежним обитателям этой хижины для той же цели. Их стали расседлывать и вывязывать сено из кошелей, и трое казаков поднялись на хребтик, чтобы наблюдать за противником.
Иван Павлович собрал казаков, киргизов, Идриса и Царанку и в присутствии Фанни и Гараськи рассказал им, насколько серьезна была обстановка. Он сказал, что решил драться до последнего, что, если нужно, зарежет лошадей и, питаясь их мясом, отсидится хотя несколько месяцев. Твердая решимость и суровая воля звучали в каждом слове молодого сибирского офицера, и передалась она и казакам.
Иван Павлович указал каждому казаку и киргизу его место при обороне. Фанни должна была в хижине устроить перевязку раненых. Идрис, оставаясь при Васеньке, должен был быть общим кашеваром.
– Секреты высланы, – закончил он свои слова, – по первому их выстрелу – все по местам. А теперь, пока у нас еще есть время, приберем лошадей, зададим им корма и сами пообедаем.
Надвигавшиеся сумрак и ненастье усиливали гнетущее впечатление тоски, охватившей Фанни.
После обеда она достала пакеты с бинтами и маленький футляр с йодом и мелкими хирургическими принадлежностями, приготовила сулемовый раствор, вату. Она возилась в темной хижине, не желая зажигать свечей. Кругом было тихо. За стеной мерно жевали сено и отфыркивались лошади. Казаки прочищали винтовки. Некоторые достали из подушек седла чистое белье и переодевались, готовясь к смерти.
Приближалась ночь.
Тяжело было Фанни. Ей казалось, что все погибло. Опять она должна видеть смерть кругом. Будут стонать и умирать казаки… Потом она останется среди убитых и раненых. Она и Васенька. На ее глазах схватят Васеньку. Схватят ее. На минуту ясно, как будто бы она сама была свидетельницей этого дела, увидала она китаянку.
Дрожь омерзения охватила ее. Вата, которую она держала в эту минуту, выпала из рук. Она приложила ладони к лицу и закрыла ими глаза. Невольно стала на колени. И молитва без слов, молитва отчаяния и искренней веры полилась из тайников ее души и согрела захолодевшее от ужаса сердце.
Она оторвала руки от лица и несколько секунд не могла прийти в себя от изумления.
В небольшую расселину между скал глядело бледное чистое небо. Туч как не бывало. Туман упал вниз, в долины. И почти все небо, видное между скал, занимала розовая вершина, громадной шапкой нетающих снегов стоявшая перед нею. Солнце зашло в долине за видимый горизонт, но алые лучи его посылали прощальный привет этой горе.
Подножие Божьего трона рисовалось в прозрачной выси редкого воздуха с удивительной чистотой и ясностью.
Фанни широко раскрытыми глазами смотрела на дивную красоту этой величайшей в мире горы. Ее сердце быстро билось, и чудилось ей, что оттуда льется в ее душу благодать веры. И вся – восторг, вера и любовь к Божеству – она простерла руки к Божьему трону и молилась. Молилась о чуде.
Только чудо могло спасти их всех целыми и невредимыми.
На ее глазах таяли розовые краски, темнело небо, проявлялись звезды, а вершина горела, переливая в серебро, отражая синеву неба и блеск звезд, полная непостижимой красоты и неразгаданной тайны.
Сильный порыв ветра налетел на скалы, зашумел в ветвях и стволах хижины, стих на минуту и снова налетел еще более сильным порывом.
Прошла минута поразительной тишины, лошади перестали жевать за стенкой и прислушивались к чему-то.
И заревел ураган, который только и возможен на четырехверстной вышине. Завыл ветер в скалах и камнях, и казалось, сметет самые горы. И содрогнулись от его силы горные утесы.
Еще ярче в чистоте звездного неба стояла серебряная вершина горы и точно посылала мир и благоволение затихшей в мистическом ужас Фанни.
И вдруг громкий веселый голос Гараськи заставил ее очнуться.
– Мы спасены, Иван. Смотри! Видишь?
Фанни выскочила из хижины и побежала к стоявшим на краю площадки людям.
XXX
Над площадкой было ясное небо, сверкающее мириадами ясных звезд, а в нескольких шагах ниже ее клубились черные тучи. Ветер крутил и гнал их со страшной силой. Там разыгралась небывалая горная вьюга.
– Ты понимаешь, Иван, что внизу теперь творится? – говорил, в восторге потирая руки, Гараська. – Там ад кромешный. Ни человек, ни лошадь не устоит. Им одно спасенье – бежать вниз. Да еще и убегут ли? Понял?..
– Да, – тихо и раздельно сказал Иван Павлович. – Это чудо Божие! Должно быть, кто-нибудь за нас горячо и с верой помолился.
– Я раз был застигнут здесь такой вьюгой, – говорил Гараська. – Чуть не погиб. Одну лошадь сорвало ветром с обрыва. Так и не нашли. Им теперь не до нас. Уходят, поди-ка, голубчики, в степь.
– А если вьюга поднимается? – спросил Иван Павлович.
– Не было примера. Сколько живу в горах, всегда она идет вниз, а не вверх. Да и если бы поднялась, так в этой котловине единственно, что засыпало бы нас по пояс снегом, и больше ничего. Теперь, брат, можно спать спокойно.
Фанни, шатаясь, пошла в хижину. Все пережитое за этот день сломило ее. Васенька тревожно глядел по сторонам, испуганно прислушиваясь к вою ветра и гулу его между скал.
– Что там? – спросил он Фанни.
– Ничего. Ветер. Буря… – отвечала она
– А нас не снесет?
– Никогда. Мы защищены скалами.
В заднем отделении хижины Царанка расставлял ей койку. Меховое на бараньем меху одеяло было уже разостлано. Фанни сняла армячок, стянула сапоги, завернулась в одеяло. Вершина Хан-Тенгри, как живая, послала ей свое благословение. Она подогнула ноги, свернулась калачиком и заснула крепчайшим сном.
Ей казалось, что она спала несколько минут, не больше получаса. Но когда она открыла глаза, вся вершина была залита ярким солнечным светом и горела золотом, небо было синее. Розовая тучка прилегла на краю снегового конуса, будто для того, чтобы еще ярче оттенить блеск девственного снега. Ветер стих. За стеной перекликались в редком морозном воздухе казаки. Седлали и вьючили лошадей.
Когда Фанни вышла из хижины, она не узнала пейзажа. Кругом была зима. Снег покрыл горы и опустился почти до подошвы. И только степь, по-прежнему золотая, млела под лучами, знойная и душная. На ней, у подножия гор, было темное правильное пятно. Это, как догадался Иван Павлович, был бивак китайского эскадрона. На глазах у Ивана Павловича темное пятно вытянулось в узкую полоску и стало удаляться по пустыне от гор. Погоня прекратилась.
С веселыми разговорами и шутками пошел отряд Ивана Павловича по снежным скатам. Снег таял на солнце. Молодые ручьи шумели и звенели по камням, и казалось, что снова наступила весна. Освеженный воздух вливал бодрость, и даже Васенька, когда вышли снова на большую дорогу, пересел на лошадь и поехал верхом.
Через четыре дня после полудня на склоне гор показались белые стены и низкие дома казарменной постройки. Вместо полинялого флага постовой портной успел сшить новый, и яркий бело-сине-красный флаг гордо развевался над воротами.
Почти месяц прошел с того дня, как покинули они пост, а ничто на нем не изменилось: так же по чистой песчаной площадке бродили куры, ветер крутил смерч, по дымая бумажки и перья… Но, странное дело, не тоской и скукой как прежде веяло от этого унылого пограничного поста, а уютом старого родного дома. Он принял, как добрый знакомый, как хороший друг. Точно та благодать, влияние которой испытала на себе Фанни у подножия Божьего трона, изменила ее отношение к посту. Вечером и утром с веранды она почти ежедневно видела тающую в воздухе вершину, то как опрокинутую нежную розу, то как сверкающую перламутровую раковину, то как серебристо-синий опал.
И, обращая с молитвой к Богу свой взор на эту гору, Фанни уже знала, что молитва дойдет… Странной любовью освятилась ее комнатка на посту, с коврами и циновками, с девичьей постелью и со столом мальчишки.
Она повесила на привычное место ружье и кабардинскую шапку, встряхнула кудрями, посмотрела на загорелое и радостное лицо Ивана Павловича и весело рассмеялась.
– А хорошо у нас, дядя Ваня.
И вдруг застыдилась тем, что невольно вырвалось у нее это «у нас», и, как смущенная девочка, пробормотав: «Я хочу вам пока, до обеда, шоколад приготовить», – она, припрыгивая, как мальчик, побежала через двор на кухню.
По гелиографу выписали для Васеньки из Джаркента полковой экипаж. Васенька уезжал «в Россию». Путешествие в Индию, так неудачно начатое, отлагалось на неопределенное время. Слишком сильное впечатление произвело на него происшествие в Турфане.
Через два дня, отправив вперед киргизов с лошадьми, Васенька с Гараськой и Идрисом уселись в просторный тарантас и, сопровождаемые пожеланьями счастливого пути, покатили за ворота.
О Васеньке на посту никто не жалел. Гараська оставил след в памяти Фанни. Старый охотник явился ярким штрихом на общей картине «приключения», Фанни часто вспоминала его образную речь, меткие сравнения, его знание природы, гор и жизни животных и зверей.
Само же «приключение» слилось в какую-то фантасмагорию, полную красочных картин пустыни и гор, кошмарного не то сна, не то яви, пребывания в Турфане и ночного освобождения Васеньки. И было все это или нет, Фанни часто сомневалась. То ей казалось, что она видела сама и Будду в полутьме алькова, и зарезавшуюся китаянку, то думалось ей, что канцелярия тифангуаня, чофан, клоповник и ночное возвращение по размотанной нитке – все это было только чьим-то рассказом.
Но яркое видение волшебного Хан-Тенгри и чудо, совершившееся на ее глазах у подножия Божьего трона, – это уже было несомненной правдой, оставившей глубокий след и заставившей ее задуматься.
Иван Павлович с радостью и тайной тревогой должен был отметить, что месяц тому назад с поста уехал шаловливый мальчишка, а на пост вернулась серьезная молодая девушка, чем-то озабоченная.
Кто знает, чем?
Но будить ее сердце, спрашивать ее он боялся. Так было страшно снова услышать, что стать его женой – «это было бы смешно и ужасно».
XXXI
Наступила осень. Но ничто не изменилось в природе Кольджата. Так же черны были скалы и утесы ущелий, и так же желт песок. Только горы, на которых летом белыми были лишь вершины да ущелья с ледниками, искрились сплошь снегами, и снега эти спускались с каждой бурей все ниже и подходили к Кольджату.
Потянулись киргизы с высоких плоскогорий своих летовок на зимовку в пустыню. Отъевшиеся в густых травах гор табуны и стада шли на зимнюю голодовку.
Почта, приходившая из полка, говорила, что и там заканчивалась летняя работа. Ушли на льготу казаки, были отданы приказы о смотрах полковых учений и стрельбы. Приезжал командующий войсками, были маневры. Пушечная стрельба доносилась до Кольджата. Внизу были скачки, балы, спектакли, концерты, вечера – праздновали и веселились, как умели. На скачках все призы забрал Аничков на Альмансоре, а на состязаниях в стрельбе отличился командир полка Первухин, – но эта жизнь не касалась Кольджатского поста, и он по-прежнему не жил, а прозябал унылой постовой жизнью. Ни контрабанды, ни разбойников, ни приключений.
Однажды с почтой, вместе с приказами и казенными пакетами, пришло и частное письмо. Кривым, размашистым почерком был написан адрес Ивана Павловича, и по почерку и по печати Иван Павлович узнал, что писал бриг<адный> генерал Павел Павлович Кондоров. Он беспокоился, что «прелестная племянница» Ивана Павловича соскучилась в одиночестве, упрекал Ивана Павловича за то, что он ни разу не вывез ее повеселить в лагерь на скачки или на вечер, и настойчиво приглашал «барышню» приехать 10 сентября в Каркару, где будет киргизская байга, устраиваемая киргизами Пржевальского уезда. Заботливый генерал уже распорядился, чтобы в доме почтовой станции для барышни отвели особую комнату. Езды же им всего шестьдесят верст, за один день доедут. Там будут Пеговские, и, может быть, туда с мужем приедет и Первухина.
Иван Павлович прочел это письмо Фанни и увидел, как у нее разгорелись глаза. Но она сдержала себя.
– А что же, – сказала она спокойно, – и правда, поедем. Надо же нам на людей посмотреть… Только, дядя Ваня, возьмите моего Пегаса, очень прошу вас.
– Вам совестно меня видеть на Красавчике? – Фанни вспыхнула:
– Нет. Я на это права не имею… Но мне хочется. Я вас так прошу…
Мог ли он ей отказать? Да, месяц тому назад, когда он резонился с мальчишкой-шалуном, когда он чувствовал себя так им стесненным, но теперь…
И за два дня до байги они поехали. Она вычистила и починила свой армячок, тщательно подвила волосы и в лихо заломленной шапке была прелестна. Он тоже приоделся и на оригинальном своими пежинами Пегасе выглядел молодцом. Царанка, Запевалов и два казака сопровождали их.
На байгу в Каркаре съехалось около шести тысяч киргизов, цвет русского общества Пржевальска и Джаркента, и все верхом.
В день байги пологие скаты гор над широкой долиной с поеденной стадами низкой травой, еще зеленой и цветущей мелкими осенними цветами с печальными белыми, бледно-розовыми и лиловыми мальвами, торчащими у дороги, у ручья, у забора станции, были покрыты густой толпой всадников.
В пестром ковре халатов и цветных малахаев киргизов на маленьких лошадках всех мастей и отмастков, шумевших гортанными голосами, резкой чертой выделялся конвой генерала, подобранный на одинаковых гнедых лошадях. Люди были молодец к молодцу, в черных мундирах и черных папахах. Алая полоса погон резко прочерчивалась на пестром поле киргизских одеяний. Значок красный с синим обводом тихо реял в воздухе. Впереди конвоя стояла группа наиболее почетных конных гостей с генералом Кондоровым во главе.
Генерал Кондоров, среднего роста, довольно полный старик с седыми усами и маленькой седой бородкой, с Георгиевским крестом на груди, в шашке, украшенной серебром, сидел на прекрасном белом арабе. Он был окружен дамами. Справа от него была Первухина, худощавая брюнетка с выразительным, тонким, умным лицом. В черном фетровом треухе на гладкой английской охотничьей прическе, в черной жакетке поверх блузки с мужским галстуком и в прекрасно сидящей черной разрезной амазонке, она сидела на английском седле. Ее лошадь, большая, кровная, бурая, отливающая золотом кобыла, была отлично собрана на мундштуке.
Фанни должна была сознаться, что она позавидовала ей. Позавидовала лошади, стилю одежды, умению сидеть и осанистой посадке ее. Она подумала: «Такой должна быть женщина на лошади. Такой буду я, когда стану женщиной».
Фанни вообразила себя, какая она рядом с генералом. Она стояла по левую руку его. На маленьком Аксае, на высоком казачьем седле с богатым калмыцким набором, в сереньком армячке, туго подтянутом ремешком с кинжалом, с плеткой на темляке через плечо и в кабардинской шапке на вьющихся волосах. Мальчишка, и только! Почуяла молодую грудь, нервно и часто поднимавшуюся и уже заметную под армячком. Поняла, что будет же и она женщиной. Поняла, задумалась и улыбнулась сама себе счастливой улыбкой. «Тогда, – подумала она, – буду такая, как “командирша”».
Лихая наездница Пеговская была тоже в амазонке, резко обрисовывавшей красивые формы ее полного тела. Она сидела на прекрасном гнедом англотекинце, и с нею был ее муж на чистокровном английском жеребце. Первухин, длинный, нескладный, озабоченный чем-то, подъехал к Фанни на великолепной шестивершковой золотисто-рыжей кобыле в сопровождении адъютанта и хорунжего Аничкова. Оба офицера были на прекрасных лошадях.
Большие, кровные, нервные лошади, грациозно ступавшие по траве, едва касаясь копытами земли, стоявшие, круто подогнув изящные головы с маленькими ушами, и поводившие дивными, полными гордого ума глазами, косясь на массу лошадей кругом, – щегольство их убранства, стиль седловки и посадка всадников восхищало и раздражало Фанни. Ничего она так не любила, как лошадей. Она чувствовала себя приниженной и мелкой на своем маленьком Аксае, приравненной к туземцам.
Царанка, должно быть, испытывал то же самое. Она слышала, как при всякой проходившей мимо кровной и рослой лошади, всякий раз, как Первухина, или ее муж, или Пеговские, или кто-либо из офицеров полка подъезжали к Фанни, заговаривали с ней или останавливали неподалеку своих прекрасных лошадей, он чмокал и говорил:
– Эх, барышня! Наша бы такая! Ах! Лошадь! Лошадь!
Туземцы, толстый и важный старик бай Юлдашев, татарин Нурмаметов, распорядитель байги Исмалетдин Исмалетдинович Исмалетдинов, сидели на прекрасно вычищенных, сытых, блестящих от овса маленьких киргизских лошадках. Уздечки, нагрудники, пахвы и широкие луки седел были почти сплошь убраны серебром, золотом и самородными камнями – халцедонами, яшмами, ониксами, лунным камнем и мутно-зелеными хризопразами. Тяжелые седельные уборы стоили не одну тысячу рублей.
Всадники в пышных, золотом шитых халатах сидели как изваяния. На бае Юлдашеве костюм был выдержан в темно-фиолетовых тонах. Лиловый бархатный колпак круглой шапки был оторочен седым соболем. Лиловый халат, на который с шеи спускались ордена Станислава и Анны на бледно-розовой и на пунцовой лентах, был расшит большими золотыми цветами и оторочен соболем. В большие золотые, чеканной работы, круглые стремена были вложены ноги в мягких темно-красного сафьяна ичигах.
Толстый, круглый и темнолицый Нурмаметов был в ярко-зеленом, шитом серебром халате и черной шапке, на Исмалетдинове был халат золотистого цвета, а голова его была повязана пышными складками зеленой чалмы. Он был в Мекке.
За их рослыми, жирными, осанистыми фигурами густой толпой стояли киргизы. Одни – в богатых, вышитых вручную шелками халатах, другие – в простых ситцевых белых с лиловыми, зелеными или желтыми полосами, третьи – в однотонных цветных – лиловых, малиновых, зеленых и розовых.
Желтые, медно-красные, темные, почти черные лица, узкие глаза со сверкающими белками, черные усы, реже – черные бороды. На лицах, обычно спокойных, горел азарт, глаза сверкали страстью, темные губы были открыты, и блистали удивительной белизны зубы. Гортанная, крикливая болтовня киргизов переливалась по полю, затихая в минуту полного напряжения внимания и разражаясь криками восторга, порицания, угрозами, бранью и сразу потом одобрением.
Сзади обширным становищем по широкому степному плоскогорью были раскинуты их кибитки. Там бродили женщины, дымили костры, и налетающий ветер доносил оттуда раздражающий запах жареной баранины. Там готовилось угощение. В больших тазах остуживали кумыс и медленно переливали его, чтобы вызвать игру, кипятили крепкий бульон на бараньем сале, разваривали курдюки и запекали в углях бараньи головы с нежными, белыми, как бумага, мозгами.
Слуги Юлдашева и Исмалетдинова в больших ведрах со снегом, набранным с гор, замораживали бутылки французского шампанского и на громадных подносах раскладывали красивыми кучами дыни, персики, яблоки, груши и виноград всех цветов и величин.
Состязание на пятьдесят верст окончилось, и первый пришел в 1 час 38 минут. Это был маленький мальчишка, жокей Исмалетдинова, в шелковой зеленой шапочке, такой же рубашке и темных штанишках. Он был крепко привязан ремнями к седлу и болтался изнеможенный, почти в обмороке, еле держа поводья в руках. Лошадь подхватили, мальчика отвязали и понесли отпаивать горячим чаем. За ним, растянувшись почти на версту, прискакали и другие участники скачки. Толпа загалдела и двинулась с поздравлениями к владельцу. Лошадь, худую до костей, но с сильными мускулами ног, злобно косившуюся по сторонам, увели и разместились снова, более тесно. Скачки были кончены. Начинались конные игры.
На середину зеленого луга на ловком длинногривом и длиннохвостом вороном жеребце, сверкающем набором из белых раковин, выскочила девушка лет шестнадцати. Она была очень красивая, с матовым цветом лица, с румянцем во всю щеку, с блестящими карими, чуть косыми глазами и черными косами, могущими закрыть всю спину и прикрытыми пунцовой шелковой шапочкой. На ней был пестрый, с темно-синими и красными полосами, халатик и темно-синие шаровары. Алые туфельки были обуты на ноги. Пестрые ленты и монисто бились на молодой шее и груди. Сверкали золотые монеты, горели алмазы стеклянных бус, и она, живая, как ртуть, на ловком и подвижном коне, с тяжелой плеткой в руках, проносилась вдоль публики взад и вперед, скаля белые зубы и дразня многообещающей улыбкой.
Это «девушка-волк».
Молодой парень-киргиз лихо изогнулся в седле, дико гикнул и вылетел из толпы вслед за нею. Но она уклонилась, и он, при смехе толпы, пролетел мимо, а она, смеясь, поскакала за ним. Начиналась милая, грациозная, но жестокая киргизская игра. Девушка-волк не только уклонялась от нападавших на нее молодых людей, но и награждала жестокими ударами плети по чем попало тех из них, которые подлетали слишком близко и неосторожно.
Игра продолжалась уже больше пятнадцати минут. Девушка-волк увлекала своею ловкостью толпу. Зрители ахали, смеялись при всяком ее удачном взмахе плеткой, при всяком ловком обороте коня. Уже пятеро вернулись с рассеченными в кровь щеками и шеями, наконец выскочил шестой. Это был ловкий молодец на прекрасной гнедой лошади. Когда он выскочил, толпа радостно приветствовала его шумным гоготанием. Это была знаменитость степей. Лучший джигит и наездник – Ахмет.
Гнедой и вороной кони сходились и расходились, Ахмет снижался корпусом чуть не до земли, избегая метких ударов плети, отскакивал в сторону и живо нагонял девушку-волка, как только она начинала уходить. Из-под набора раковин белыми клочьями выступила на вороном жеребце пена. Наконец парень изловчился, схватил девушку обеими руками поперек за талию и крепко поцеловал ее в губы…
«А-а-а…» – загалдела восторженно толпа, и Ахмет с девушкой-волком подлетели к генералу Кондорову. Он указал им глазами на бая Юлдашева и Исмалетдинова, и победитель, и побежденная, счастливые, разгоряченные и сияющие, подъехали к важным старикам за призами.
Толпа загалдела и направилась к кибиткам и к кострам. Поле стало пустеть. Группа европейцев оставалась еще, обмениваясь впечатлениями.
Аничков подъехал к Фанни.
– Ну как, Феодосия Николаевна, понравились вам киргизские скачки и игры? – спросил он.
– Ах, очень. Особенно эта девушка-волк. Такая прелесть!
– Давайте сыграем и мы.
Мальчишеский задор сверкнул в глазах Аничкова и нашел ответ в улыбающемся лице Фанни. Начавший было засыпать в ней сорванец-мальчишка проснулся с новой силой.
– Ну, Фанни Николаевна, – сказал генерал, – начинайте. Я за вами первый.
– Ваше превосходительство, – сказал Первухин, – пусть раньше молодежь утомит этого волка, а потом мы уже с вами кинемся приканчивать его.
Фанни оглянулась. Все смотрели на нее, улыбаясь.
– И правда, Фанни, это можно, – сказала Первухина.
– Только, чур, по лицу не бить! – крикнул Аничков и отскочил на Алъмансоре шагов на триста, чтобы оттуда кинуться на девушку-волка.
Фанни не выдержала. Мальчишка-хвастун одержал верх над просыпающейся в ней женщиной, и она лихо вылетела на середину поля.
Киргизы, увидавшие игру, стали останавливаться. Посадка и манера править лошадью, чудная приездка каракового в яблоках Аксая были сразу замечены и оценены ими, и между ними начались пари, которая девушка-волк окажется ловчее – русская или киргизская… Киргизская пара тоже остановилась, залюбовавшись русской девушкой-волком.
Первая схватка с Аничковым была неудачна для него. Могучий Альмансор не послушался своего хозяина и пролетел мимо.
– Нет, чистокровная лошадь для этого не годится, – проговорил генерал Кондоров. – Тут нужна ловкая лошадь. Эту разве так остановишь. Ну вот и попался, – воскликнул он, когда нагайка Фанни звонко щелкнула по спине Аничкова.
На смену ему на дивной караковой кобыле выскочил полковой адъютант.
С непонятным волнением, с ревностью в сердце следил Иван Павлович за всеми положениями их борьбы. Кобыла адъютанта оказалась мягкоуздой и совкой, и он избегал опасных положений, склоняясь тонкой талией то вправо, то влево, то отгибаясь назад. Уже несколько раз промахнулась Фанни, разгорелось ее лицо, и засверкали глаза. Первая пара киргиза с киргизкой была великолепна своими пестрыми красками и дикой удалью, но эта еще красивее рядом пластичных движений, групп и положений.
Всякий раз, как адъютант был близок к тому, чтобы поцеловать, обнявши, Фанни, Иван Павлович замирал и… почти ненавидел своего лучшего друга, красавца адъютанта.
– Ах, какая прелесть! Смотрите, Павел Павлович, – нервно сжимая маленькой ручкой в коричневой перчатке повода, говорила генералу Первухина. – Как вы думаете, он победит?.. Ах!
Хлесткий удар нагайки раздался по плечу адъютанта…
Вздох облегчения вырвался у Ивана Павловича, он выскочил на оригинальном Пегасе и помчался за Фанни.
О! Как она была прелестна в эти минуты! Раскрасневшаяся, возбужденная, с прядками волос, вырвавшимися из-под кабардинской шапки и спустившимися на лоб, с разгоревшимися и ставшими большими серо-синими глазами с темным обводом, с открытыми губами, из-за которых ярко сверкали ее белые зубы.
Отличный наездник и джигит, Иван Павлович живо овладел конем и понял сразу его совкую натуру, получившую воспитание у разбойника Зарифа. Пегас вертелся под ним на одной ноге, он останавливался с полного карьера, как вкопанный, и мчался снова.
– Браво! браво! – раздавалось в группе русских дам и офицеров.
Киргизы были увлечены борьбой. Им нравилось то, что так ловко боролся с девушкой-волком всадник на их киргизском коне. Они любили Ивана Павловича, они мечтали видеть его начальником уезда, ценили в нем разумного, хорошего, доброго человека и желали ему победы…
Одна секунда… Одна секунда, меньше… Зазевалась Фанни, и сильные руки схватили ее талию, и грудь ее прижалась к чужой груди, и жадные мужские губы с мягкими усами прижались к ее полуоткрытому рту.
Она ответила на этот поцелуй.
Иван Павлович не поверил своему ощущению. Неземной восторг охватил его, и он повторил поцелуй. Отвечая ему вторично, она пробормотала сконфуженно:
– Довольно!.. Ведь видят же!..
И, взявшись за руки, они полетели к Исмалетдинову.
Толстый киргиз улыбался. Он был дорог им в эту минуту, как отец, как добрый старый друг. Ивана Павловича поздравляли с победой, ему жали руки, и Фанни со странной гордостью чувствовала, что ей приятно, что Ивана Павловича так любят, и генерал, и полковник Первухин, и его жена, и Пеговские, и адъютант, и Аничков.
– Ну и огрели же вы меня, Феодосия Николаевна, – смеясь, говорил адъютант. – Долго буду помнить.
– Подождите, Феодосия Николаевна, – говорил Аничков, – мы еще раз поиграем. Я не рассчитал игры. Никак не думал, что против меня такой свирепый волк.
Фанни улыбалась счастливой улыбкой.
За столом в громадной кибитке Исмалетдинова они сидели рядом, и рядом с ними сидели и киргизы, девушка-волк и ее победитель. Против них был добрый генерал, изящная Первухина, ее длинный муж, бай Юлдашев, Пеговские, Исмалетдинов, Аничков, адъютант. Всем было весело.
Ивану Павловичу казалось, что они уже жених и невеста, что несбыточное счастье сбывается и опьяняет его.
Ему казалось, что если он сделает теперь предложение, это не будет «смешно и ужасно»…
Он посмотрел на Фанни. Держа обеими ручками, как обезьянка, большую плоскую чашку, до краев наполненную кумысом, она пила маленькими глотками. Улыбающееся лицо было мальчишески задорно, и видно было, что она любуется только собою, что, если она в кого влюблена, так только в мальчишку в сером армячке и кабардинской шапке, который так ловко ездил, так здорово огрел Аничкова и адъютанта, и, несмотря на то, что был на киргизской лошади, утер нос всем этим господам, и который завидовал и был влюблен после себя только в Первухину, за которой следил жадными глазами, изучая все ее движения, манеру носить амазонку и шпоры, манеру говорить и есть.
Иван Павлович завял в своем неземном счастье и решил еще подождать.
И только временами, вспоминая ощущение этих алых трепетных губ, этого чистого рта, прижавшегося к его губам, он нервно вздрагивал и порывисто хватался за стакан с ледяным шампанским.
XXXII
Когда Иван Павлович с Фанни вернулись на Кольджат, там уже была зима. Снег ровной пеленой покрыл крыши постовых построек, двор, склоны гор. Глухо шумела Кольджатка между обледенелых камней. Веранда была засыпана снегом, и слоем снега же покрыты были неубранные стол, стулья и кресло. Скучная, долгая горная зима наступила.
Внизу, в долине, зеленели деревья, висели на яблонях тяжелые и крупные румяные верненские яблоки, желтая, выгоревшая степь и пески пустыни млели под знойными лучами солнца. Там наступало лучшее время года, продолжительная среднеазиатская осень, которая обещала стоять до конца декабря.
Убрали снег с веранды, перенесли столовую в кабинет, затопили печи, устроились по-зимнему. В первый же день Иван Павлович попробовал напомнить Фанни о том, что дала ему Фанни, девушка-волк.
Был тихий вечер. Чай был допит. Самовар пел про Россию, про Дон, про зимовники задонской степи, про Петербург и про театры… Не разберешь, что именно пел он, но ворошил мозги в хорошенькой головке, и она опустилась на грудь, прикрытую шерстяной кофточкой, и глаза из-под черного полога ресниц смотрели упорно на допитую чашку. В этом взгляде, в наклоне головы на тонкой шее, в тихой грусти, точно охватившей всю юную душу, было столько женственного, девичьего, любящего и любовного, что Иван Павлович решил попробовать и намекнуть, только намекнуть, на мучивший его вопрос.
– Фанни, – тихо сказал он, – вам хорошо было вчера на киргизской байге?
Она подняла голову. Темные глаза с большими зрачками, вытеснившими синеву, казались черными. Какая-то дымка закутала их. Не сразу оторвалась она от своих дум. Она вспоминала, переживала вновь свою победу, и огонек удовольствия заискрился в глазах.
– Ах! было дивно хорошо! Такая красота лучше всякого театра, – воскликнула она.
– Фанни, а вам понравилась… Эта киргизская игра… Девушка-волк?
Она насторожилась. Маленькая складка легла между темных бровей и забавно наморщила их, придав всему лицу детское выражение. Тут бы и остановиться и не продолжать дальше, но Ивана Павловича точно толкало что-то вперед и вперед.
– Вы знаете, у киргизов это свадебная игра.
– Да, – неопределенно протянула она.
– Все заранее подстроено, – продолжал, не замечая холодности Фанни, нестись в пучину Иван Павлович, – и ловит девушку-волка обыкновенно ее нареченный жених, ее избранник сердца.
– В самом деле? – уже совершенно ледяным голосом произнесла Фанни и положила руки на стол, будто собираясь встать.
Он ничего не видел и сладким, так не идущим к его мужественной фигуре, голосом продолжал:
– Вы серьезно играли?
– Да, играла, что же из этого? Сами видели, и как огрела Аничкова, и этого херувима-адъютанта, местного сердцееда.
– Нет, Фанни… А относительно меня? – молил Иван Павлович.
– Вы воспользовались минутной заминкой. Я устала.
– Фанни! Так это было… Несерьезно?
Лицо ее покрылось внезапно пурпуром стыда и гнева. Кровь побежала к вискам, залила весь лоб, маленькие уши стали малиновыми. Гроза надвинулась. Темные глаза метнули молнии.
– Да вы о чем?.. Вы с ума сошли… Оставьте, пожалуйста!
Она нервно встала и широкими шагами прошла в свою комнату. Там она бросилась на постель, уткнулась лицом в подушки и залилась слезами.
«Ах, Боже мой, Боже мой! – думала она сквозь рыдания. – Неужели все они такие? Неужели у всех у них только одно на уме? И даже лучшие из них. Потому что, – это-то ей подсказывало ее сердце, – Иван Павлович оказался лучшим, самым лучшим из них, – и он… Он… Он мог подумать, он смел подумать»… Ей было «ужасно» больно и совсем не смешно это робкое признание безвозвратно влюбленного человека.
Иван Павлович выскочил на веранду и ходил по ней, подставляя раскаленную голову морозному воздуху гор и все повторял: «Ах, я болван, болван… Нетерпеливый, грубый болван… А как хорошо было бы теперь… До Рождественского поста и обвенчаться. Совсем бы иной показалась зима, совсем бы иначе потекли дни на скучном посту… Ах, я нетерпеливый идиот. Этакое грубое животное… Теперь надолго все испортил… Пожалуй, навсегда… Обидел ее, милого ребенка…»
Фанни, вволю выплакавшись, села за туалетный столик и стала прибирать на ночь свои волосы. Когда она вглядывалась в отражение печальных, опухших и покрасневших глаз, ей было жаль себя, одинокую, не имеющую ни родных, ни друзей, заброшенную далеко, на край света, и было жаль Ивана Павловича, такого доброго, деликатного, которого она так совершенно напрасно огорчила и обидела.
«Ну чем он виноват, – думала Фанни, глядясь в зеркало, – что я, и правда… такая хорошенькая».
XXXIII
В эти недели сентября Иван Павлович часто отлучался. Раз уехал на сутки, потом пропадал трое суток, потом опять на сутки, наконец, уехал на неделю. Ездил он «по делам службы», как он говорил Фанни, всякий раз предупреждая ее об отъезде и указывая приблизительно, когда он вернется. Возвращался он всегда раньше срока, и в этом Фанни оценила его деликатность: он не хотел, чтобы она беспокоилась.
Уезжал он таинственно, всегда под вечер или ночью, выбирая темные безлунные ночи, часто в ненастную погоду, и возвращался ночью. Тихо проходил к себе, так, что Фанни и не знала о его приезде. И только утром заставала его ожидающим ее выхода за чайным столом. Она искренно радовалась его возвращению и весело его встречала.
Сначала она думала, что он ловит контрабанду. Но на это не походило. Он уезжал всегда с одним и тем же казаком Воробьевым. Очень недалеким, неразвитым парнем, который никогда ничего толком не мог сказать. Уезжал он озабоченный и возвращался такой же.
Фанни не допрашивала его ни о чем. Не говорит, – значит нельзя. Не ее дело. Она была уверена, что он ей скажет, что от нее у него секрета нет. И не ошиблась.
В последнюю поездку, длившуюся неделю, он брал с собою пять казаков и Пороха и предварительно посылал пакет в полковой штаб.
Поехал он, только получивши бумагу из штаба. Уезжал он рано утром, и Фанни видела, что он поехал за границу. Вернулся озабоченный.
Как ни старалась Фанни дождаться, чтобы он первый заговорил о цели своей поездки, она не вытерпела и спросила его за обедом, к которому он подоспел:
– Ну, как дела, дядя Ваня?
– И хорошо, и худо, – отвечал он. – Вот что, Фанни. Хотите поехать со мною и посмотреть то, что я нашел?
– С наслаждением. Я так соскучилась одна… Без приключений… – живо ответила Фанни.
– Да, Фанни, это будет приключение и, может быть, опасное.
– Тем лучше, – разгораясь мальчишеским пылом, сказала Фанни, – мне уже надоело скакать с Царанкой и стрелять вам кекликов к обеду.
– А это ваша охота? – спросил Иван Павлович, кладя себе на тарелку вторую половинку рябчика.
– Ну! А то чья же! Итак – я вся внимание. Что за опасное приключение хотите вы мне предложить?
– Поедемте сегодня в одно место. Вдвоем. С нами только Воробьев поедет.
– А Царанке можно? Почему такая таинственность?
– Мы поедем за границу.
– Ну так что же! Разве первый раз? Я третьего дня все утро охотилась на фазанов за границей, и китайские солдаты видели это и даже помогали мне доставать убитых петухов.
– Вот видите, Фанни, а теперь нужно, чтобы не только китайские солдаты, но чтобы и никто, никто не видел нас.
– Почему такая тайна? Не понимаю.
– Поймете после.
– В котором часу поедем?
– Да так, часа в два ночи.
– Хорошо.
– Оденьтесь так, чтобы вам легко было ходить.
– А что, много ходить придется?
– Да, порядочно.
– Вы меня совсем заинтересовали своей тайной. А вы сами не устали с дороги?
– Успею отдохнуть. Вот лошадь, если позволите, я попрошу у вас. Дайте мне Пегаса, он мне счастье приносит.
– Берите, – сухо сказала она.
Ей не понравилось, что он напомнил ей о случае с девушкой-волком, и он заметил это.
– Только, Фанни, никому не говорите. Я знаю, без Царанки не обойдется, он услышит, что берут лошадей, так вы скажите ему, чтобы и он помалкивал.
– Какая таинственность! – насмешливо сказала Фанни. – Совсем роман!
После обеда Иван Павлович лег спать и проспал до самого ужина. Пыталась сделать это и Фанни, но ей не удалось. Любопытство мучило ее. Не заснула она и ночью, а Иван Павлович лег и добросовестно проспал до часа.
Вышел он одетый в шведскую куртку, при винтовке и большой охотничьей сумке.
Лошади были готовы. Царанка и Воробьев ожидали с ними на дворе. Царанка был, видимо, обижен, что в ночную экспедицию взяли не его, надежного калмыка, а самого глупого казака, который ни дорог не знает, ни сказать что-либо путное не может. Но он ничего не сказал. Только особенно тщательно оправил полушубочек Фанни, когда она села, осмотрел подпруги и ласково молвил:
– Храни Бог.
– Спасибо, Царанка.
Ночь была темная, в горах бродили тучи. Был сильный мороз.
– Следуйте за мною, – сказал Иван Павлович.
Он поехал вперед, за ним Фанни, сзади всех Воробьев.
Дорогу Иван Павлович знал отлично. Он в сплошном мраке выехал на большую тропу, проехал с полверсты и свернул в горы без дороги. Поднявшись саженей на пять, он повернул круто назад и поехал, огибая пост. Стали видны внизу фонари у конюшенного сарая и у главных ворот, потом Иван Павлович стал круто спускаться к Кольджатке.
– Осторожно, не поскользнитесь, – сказал он, подходя к речке. – Тут большие камни.
Перед Фанни в темноте выделялись белые пятна на крупе Пегаса, и теперь она поняла, что Иван Павлович не зря просил взять его. Местами, среди голых кустов и скал, где не было снега, было так темно, что только эти белые пятна пегого показывали ей, где находится Иван Павлович.
Перейдя вброд речку, они продолжали спускаться, направляясь в долину. Снег стал менее глубок, более рыхлый и наконец исчез. Стало теплее.
Прошло около часа, что они ехали, и все спускались по какой-то крутой каменистой осыпи. Шуршали и сыпались вниз кремни и песок, и по тому, что они долго летели, можно было судить о том, что спуск очень большой. Лошади храпели и шли осторожно, маленькими шагами, опустив головы и рассматривая путь.
Наконец дорога стала положе, вместо камней был плотно убитый песок, и, несмотря на предрассветное время, было совсем тепло. Где-то подле, чуть журча и звеня на камнях, едва приметный, струился ручеек. Появилась трава, желтая, сухая, потом она стала выше, свежее. Пахнуло осенним ароматом цветов и семян. Корявые ветки джигды с сухими листьями, ветви краснотала то и дело задевали за ноги и за лицо. Было видно, что тут нет никакой дороги и что Иван Павлович ведет по каким-то им изученным путям.
Стало светать. Они все спускались. Ехали они по руслу едва приметного ручейка, струившегося по широкому старому руслу. В горах это русло было каменистое, здесь, внизу, оно стало песчаным и глубоко врылось в почву. В мутном сумраке начинающегося рассвета стали видны крутые стены песчаных осыпей, бывшие по обеим сторонам русла. Берега поросли кустарником, кое-где торчали и корявые джигды, и карагачи, на ветвях которых большими светло-зелеными шарами, покрытыми мелкими белыми ягодками, нависли омелы.
Взошло солнце. Стало жарко, и по совету Ивана Павловича Фанни сняла полушубок. Пряный аромат вечноцветущих маленьких, низких, лиловых ирисов вливался в легкие. Ехали уже около восьми часов. Наконец Иван Павлович остановился у песчаного, нависшего над руслом берега. Темные корни пробились сквозь этот земляной навес и образовали тонкую, точно из сети сделанную завесу. Внутри было некоторое подобие пещеры.
Иван Павлович слез с лошади, примеру его последовали Фанни и Воробьев. Лошадей завели в пещеру и привязали там к корням.
– Здесь отдохнем. Напьемся чаю и закусим, – предложил Иван Павлович.
Они с Воробьевым набрали сухой травы и камыша и вскипятили воду.
– Ну, как, Фанни, идем дальше? – спросил Иван Павлович, когда утренний завтрак был окончен.
– С удовольствием. Я готова.
– Пожалуйте за мной.
Лошади и Воробьев остались в пещере, а они пошли вдвоем по руслу. Фанни стало занимать это новое приключение.
Когда они прошли шагов двести, они увидали, что справа в это русло входил другой проток. Иван Павлович свернул в него. Этот проток повернул почти параллельно первому и стал подниматься очень круто на отрог горы. Русло стало таким узким, что пришлось идти по одному. Берега были каменистые, и наконец Иван Павлович и Фанни вошли в узкий блестящий коридор, выложенный громадными, правильной прямоугольной формы кристаллами белого кварца.
Здесь Иван Павлович остановился. Они стояли в естественной или искусственной шахте, пробитой или водой, или льдами, или человеческими руками в породе. Шахта углублялась в землю саженей на пять, и свет мутно проливался в нее сквозь узкую щель, заросшую кустарником и травами.
– Смотрите, Фанни, – сказал Иван Павлович и, вынув из сумки молоток, ударил им несколько раз по стене коридора. Блестящие куски кварца отскакивали прямыми плоскостями, гладкие и белые, как снег, и падали к их ногам. За ними в породе показалась тонкая, как проволока, золотая жилка. Она вливалась в углубление и образовала маленький желвачок величиной с горошину.
– Что это? – не веря своим глазам, воскликнула Фанни.
– Это золото. Золотая жила и самородки.
– Не может быть.
– Вы видите сами.
– Дядя Ваня! Это ваше… Ваше золото?!
– Пока не мое. Оно китайское. Оно находится на китайской земле. Вот почему нужно было так таинственно ехать, чтобы никто не пошел по нашим следам, чтобы никто его не открыл, кроме нас.
– Но оно будет наше?
– Оно может быть нашим, если вы согласитесь стать моим компаньоном.
– Я вас не понимаю.
– Я был вчера в Суйдуне у тамошнего фудутуна. Это его земля. Я выторговал весь этот участок со всеми недрами, и он согласился его продать. Но он просил шесть тысяч…
– Да ведь это даром. Тут сотни тысяч рублей.
– Да, это даром. Но я не могу купить этого участка.
– Почему?
– Очень просто. У меня нет шести тысяч.
– Да я вам дам эти деньги, – быстро воскликнула Фанни.
– Так много и не нужно. У меня накоплено три тысячи.
– А три тысячи я дам.
– И будете моим компаньоном?
– И буду вашим компаньоном.
– По рукам.
– По рукам! – она восторженно протянула ему обе свои крошечные ручки.
Всю дорогу назад они болтали и строили планы. О, это не так просто и не так скоро. Бумаги пойдут в Пекин, из Пекина в Суйдун – пройдет два-три месяца, пока явится возможность застолбить участок и поставить охрану. Но что значат эти месяцы! Впереди открывалась большая золотоносная жила, и кто знает, какое неисчерпаемое богатство она сулила.
Чтобы незаметно переехать границу, дожидались сумерек и в темноте ненастной ночи поднимались по кручам к Кольджатскому посту и только в первом часу приехали домой.
Но как же хорошо показалось зато дома! В теплой комнате был приготовлен, по распоряжению Ивана Павловича, Запеваловым ужин, внесен был весело шумящий самовар, ярко горела лампа, и было тепло и уютно.
После ужина Фанни спросила Ивана Павловича:
– Ну, расскажите мне, дядя Ваня, как же вы нашли это место. Кто указал вам эту жилу?
– Один совершенно неизвестный мне покойник. Один мертвец, – ответил Иван Павлович и, видя недоумение в глазах Фанни, добавил: – Да, милая Фанни, это совершенно особое приключение и, если вы позволите, я расскажу его вам подробно.
Иван Павлович прошел в свою спальню, открыл ключом сундук и принес небольшую синюю бумажную папку, из которой достал сверток бумаг. После этого он подлил в свою чашку порядочную порцию рома и начал рассказ.
XXXIV
– Это было два года тому назад. Я охотился поздней осенью на фазанов на восточных склонах Кольджатского хребта. Охота была неудачная. Взлетывали все курицы, петухов не было. Куриц я никогда не бью, даже и в этой стране, где фазанов хоть отбавляй, и я подвигался по густой заросли сухих трав между громадных метелок старого камыша, закрытый ими с головой. Передо мной был тесный переплет тонких стволов, сухих шелестящих листьев, внизу была цепкая трава, опутывавшая мои ноги, и над головой кое-где проблескивало небо.
Вдруг яркий белый предмет сверкнул между травами в самой гуще. Я невольно посмотрел на него. Это был человеческий череп. Явление обыкновенное в пустыне, где люди часто гибнут в борьбе друг с другом, с хищным зверем или с природой. Судя по тому, что череп был весь выбелен солнцем и дождями и лежал, как гипсовый, – это был очень старый череп, пролежавший здесь не один десяток лет. Я подошел ближе и увидал, что в траве покоились останки и всего человека. Правда, звери и время расхитили часть костей, но кости бедра, голени, часть ребер и несколько позвонков валялись тут же. Печальное зрелище того, что было когда-то человеком, навело меня на грустные размышления, и я остановился над ним. У черепа была благородная форма, и я, хотя и плохой физиолог и френолог, понял, что это череп европейца, а не азиата. Я поднял его и посмотрел. Все зубы были целы, и по ним можно было догадаться, что это был человек, полный силы, крепкий, молодой, обладавший, должно быть, хорошим аппетитом. Я положил его опять на землю. Потом что-то кольнуло меня, и я решил похоронить его и оставшиеся кости в земле. Ножом и руками я стал выкапывать в песке для этого яму. Когда я окончил свою работу и в молитвенном и грустном раздумье о бренности человеческой жизни сидел на корточках в траве, небольшой темный предмет, лежавший неподалеку, привлек мое внимание. Если череп был до некоторой степени предметом обычным для пустыни, то предмет, замеченный мною, был необычен.
Это была небольшая кожаная сумочка. Кожа истлела почти совершенно, порыжела и стала мохнатой. Она не застегивалась замком, но была завязана ременными петельками, как завязывают казаки свои сумы. Я поднял ее. Она оказалась тяжелой. Когда я раскрыл ее, из нее выпало несколько медных монет российской чеканки времен Петра I и небольшой слиток золота, золотников пять весом. Там же лежала небольшая, вся исписанная книжечка с плотной бумагой.
Я забрал эти вещи и принес их домой. Дома я попытался разобрать написанное и по нему узнать, кто же таинственный пришелец в пустыню, печальные останки которого я похоронил сегодня среди трав.
Задача оказалась нелегкой. Буквы истлели вместе с бумагой, частью были смыты. Писаны они были китайской тушью, выцветшей, смытой сыростью и временем, едва заметные. Писана церковнославянскими буквами под титлами. Она представляла из себя ребус, и я занялся скучными зимними вечерами разгадкой этого ребуса. Вот эта книжечка.
Иван Павлович вынул из бумаг небольшую кожаную книжку в старом тяжелом переплете, и Фанни увидела листки, исписанные крупными буквами, похожими на китайские иероглифы.
– Я никогда бы не разгадала того, что здесь написано, – сказала Фанни.
– Вероятно, не угадал бы и я, если бы книжечка не начиналась знакомыми мне молитвами. Угадавши одно слово, я знал продолжение. Сличая написание букв, угадывал и дальнейшие слова и таким образом вот, что я получил.
Иван Павлович достал листок бумаги и начал читать:
– «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови венец благости Твоей, Господи. И благослови раба Твоего, воина… – тут пропуск. Счастие великое державе Российской и благочестивому царю царств Петру Алексеевичу и воеводе, и начальнику генералу князю, – здесь я более догадался, чем прочел, – Бековичу-Черкасскому. А мне, недостойному рабу, богатство и почет. Господи помилуй…»
Тут недостает большого куска и дальше следует:
«Возьми от горы, реченной Божий трон, на север цепь гор и стань у нее там, где большая река тихо течет в желтых песках. День святыя Феодосии. Заходящу солнцу се тень великия горы падет в последний час умирания на древо высокое и вельми богатое ветвями, одиноко стоящее. И от того древа сто саженей на Божий трон, и ту буде река сухая. И по той реке иди вниз двести тридцать одну сажень и ту видевши стрелу…»
Тут опять пропуск, время смыло три страницы, и остались только слова: «Галдарея камени белаго яко мармор»… «бей молотом»… «и Святого Духа. Аминь».
Итак, передо мной были останки славянина, русского, вероятно, офицера или солдата, посланного от отряда Бековича-Черкасского двести лет тому назад. Какие драгоценные указания давала эта книжечка, что мне говорил голос из могилы, я не задумывался. Я не Шерлок Холмс и не отгадчик тайн пустыни в стиле Эдгар да По, и я спрятал и книжечку, и перевод до поры до времени к себе в стол.
– И даже мне ничего не сказали, – вырвалось у Фанни.
– Представьте, забыл. Хотя вы же мне об этом и напомнили. Когда я узнал ваше имя, мне вспомнилось – «день св. Феодосии», и я посмотрел в календарь, когда это будет. Оказалось – 29 мая. Вы его не праздновали, и я решил им воспользоваться. Я вынул свою бумажку и стал размышлять.
Цепь – от Божьего трона на север – да ведь это будет наш Терскей-Алатау. Большая река тут одна-единственная – река Или. Великая гора здесь только наша Кольджатская. Местонахождение останков автора этой записки указывало на то, что иначе и быть не может. Итак, я стоял перед разгадкой всей этой тайны.
Вы помните, вы тогда говорили о золоте в этих горах. Я давно знал легенду о золоте, оставленном китайцами и охраняемом драконами, но не верил в нее. Присутствие в сумочке самородка заставило меня приняться за розыски.
– И вы мне ничего не сказали, и вы не сделали меня участницей этих поисков! – с упреком воскликнула Фанни.
– А вы помните, какой я тогда был бука?
– Ну, продолжайте, пожалуйста. На самом интересном месте остановились.
– Итак, 29 мая надо было искать дерево, на котором остановится тень Кольджатской горы, бросаемая заходящим солнцем. Я выехал днем, один, и перед вечером остановился в тени гор. И вот она скрылась. Стало темно. Я отметил место. Никакого дерева не было поблизости. Ни большого, ни малого. Это меня не удивило. За двести лет так естественно было, что дерево погибло, но ведь хотя бы пень должен был от него остаться. Но тут не было ничего. Я не силен в космографии и астрономии, и я не мог точно сказать, упадает ли тень из года в год в одно и то же число на одно и то же место. Что могло произойти за 200 лет? Могла, и легко могла измениться фигура горы. Землетрясения, горные обвалы, мало ли что, – сдвиг ледников могли сократить или увеличить тень. Но вряд ли значительно. Дерево или останки его должны быть здесь. А здесь кругом было пустое место. Песок, камни, жалкая травка.
Стало совершенно темно, и я решил заночевать в пустыне. И вот ночью, глядя на звезды, я размышлял: земля вращается вокруг своей оси, и от этого происходит смена дня и ночи. И это в одно и то же число разных лет будет неизменно. Земля ходит вокруг солнца, и от этого смены зимы и лета, но отношение ее к солнцу неизменно в одни и те же числа. Наконец вся солнечная система стремится куда-то, и вот в этом движении не может ли быть каких-либо колебаний в долготе тени? И я ответил сам себе: да, могли, и я могу, и я должен найти это дерево. И я нашел его. Оно было спилено много лет тому назад почти вровень с землей. Большой черный пень громадного, должно быть, карагача был наполовину занесен песком. Я смотрел на него с умилением. Так вот оно, то «древо высокое и вельми богатое ветвями», которое принял неизвестный исследователь за базисную точку своих определений. Дальше все пошло уже гладко. Я взял направление на ослепительно горевшую в лучах восходящего солнца вершину Хан-Тенгри и отсчитал триста шагов. За стеной камыша, ивняка и сухой травы передо мною была в глубоком русле та самая река, по которой мы шли вчера. Я прошел по ней шестьсот девяносто три шага и стал искать то, что обозначил в своем описании неизвестный «стрелой». Вот далее пришлось немного поработать и головой, и ногами, разыскивая «галдарею камени белаго, яко мрамор»… Но это уже были пустяки.
– Так вот, милая Фанни, – закончил свой рассказ Иван Павлович, – я обязан неизвестному покойнику, чьи останки я так случайно нашел во время охоты, и вам открытием золотой жилы…
– А я-то тут причем? – спросила Фанни.
– Если бы не ваше имя, натолкнувшее меня снова взяться за таинственную книжечку, если бы не ваши мечты о золоте, я бы, вероятно, и совсем позабыл о том, что у меня в столе хранится столь необычайный и драгоценный документ.
– Но почему, дядя Ваня, вы так долго молчали об этом? Почему тогда же, в мае, в июне, вы не начали этого дела?
– Вы мне мешали.
– Удивительный вы человек, дядя Ваня, и совершенно непоследовательный. То вы мне обязаны, то я вам мешала.
– И то, и другое правда, Фанни. Вспомните, пожалуйста. Вы принесли сюда, на пост, жажду приключений, и за вами побежали приключения. Я только что начал производить разведки, как это приключение с Зарифом. Не успел я отделаться от него, сдать все донесения, акты и расписки, является Васенька, поездка в Турфан, и пошло, и пошло. А дело деликатное. Надо, чтобы никто не пронюхал этого места. Особенно китайцы или, Боже сохрани, такие люди, как Гараська. Не то что продадут секрет, а просто разболтают в пьяном виде.
– Вы могли поручить разведку мне, – сказала Фанни.
– Не хотел, – просто ответил Иван Павлович, смело и прямо глядя ей в глаза.
– Вы мне не доверяли?
– Нет. А просто тогда не хотел делать вас своим компаньоном.
– А теперь?
– Очень хочу.
– Что же произошло?
– Много воды утекло с тех пор, и мы с вами пуд соли съели, Фанни. И я… полюбил вас…
– Ну вот. Я так и знала… Бросьте это из своей головы, милый дядя Ваня, – вставая из-за стола, сказала Фанни. – Не к лицу это вам.
Но в голосе звучала не злоба, а какая-то ласковая печаль, и глаза не метали молний, а смотрели с тихой грустью на кабардинскую шапку и на винтовку, висевшую на стене, будто прощался с ними шалун-мальчишка, уступающий дорогу женщине…
– Глупости все это, – резко сказала Фанни. – Договорились!.. Я ваш компаньон, и больше ничего… Спать пора… Смотрите, четвертый час уже.
И широкими шагами, как всегда, когда она была чем-либо недовольна, Фанни прошла в свою комнату и заперлась в ней.
XXXV
Почти три месяца потребовалось на то, чтобы снестись с китайским правительством, получить необходимые бумаги, внести деньги через отделение Русско-китайского банка в Кульдже и застолбить участок.
Не раз пришлось Ивану Павловичу съездить в Кульджу и Суйдун. Фанни сопровождала его. Эти деловые поездки, спокойные, несмотря на необычность передвижения верхом через замерзшие речки, по большому тракту с телеграфом, их еще более сблизили.
Но держала она себя как товарищ, как компаньон, как равный, как мужчина.
У Первухиной она достала выкройку разрезной юбки, сшила себе при помощи джаркентской портнихи щегольскую суконную амазонку, выписала из Петербурга шляпу, жакет, седло и мечтала купить чистокровную лошадь. Она часто ездила амазонкой и стремилась в манере держаться и ездить подражать молодой командирше.
Иван Павлович с удовольствием отмечал, что шалун-мальчишка постепенно исчезал из ее характера и перед ним выявлялась хорошенькая девушка.
Однажды перед самым Рождеством фудутун города Суйдуна, старый семидесятилетний мандарин, вызвал экстренно Ивана Павловича письмом по весьма важному делу. Экстренность была относительная. Два дня письмо шло до полкового штаба, да в канцелярии ждали десять дней оказии, и от Джаркента до Кольджата письмо шло еще два дня. Прошло две недели с того времени, когда старый мандарин просил приехать «поскорее» Ивана Павловича к нему – «поговорить».
Когда Иван Павлович с Фанни наконец добрались до Суйдуна, они не узнали этой тихой китайской крепости. Можно было подумать, что у китайцев празднуется Новый год. Тут и там трещали пороховые хлопушки, народ толпился по улицам, и в толпе было много солдат с отрезанными косами. Часто попадались коротко остриженные под гребенку молодые китайцы, одетые в военные куртки и шаровары цвета хаки, в сапоги желтой кожи и фуражки японского образца – ученики военной школы. По городу вместо желтых с черным драконом флагов висели большие пятицветные знамена и красные флаги.
Иван Павлович встретил знакомого китайца и спросил у него, что случилось.
– В Китае революция, – отвечал он, – в Пекине арестованы императрица и император. Президент будет. Будет республика – новый Китай.
– Кто же будет президентом?
– Кто? Говорят, Юан-ши-кай, – недовольным голосом сказал китаец. – Он и мутил всех. Здесь Ян-цзе-лин, в Пекине он. Видишь, вырядились как. И косы обрезали, а китаец без косы – это уже последнее дело. Ты к кому едешь? В Кульджу?
– Нет. К здешнему фудутуну.
– Пустое дело. Он теперь ничто. Тьфу, а жаль старика. Хороший был старик. Почтенный. Настоящий губернатор. У! Народ его боялся. Что хотел, то и делал.
У ямыни было пусто. Возле больших черных ворот с каменными изображениями мистических не то драконов, не то львов «шидзы» по-прежнему стоял часовой, солдат старых войск, в синей куртке с белым, расписанным черными буквами, кругом и с тяжелой четырехлинейной винтовкой Гра на плече. Часовой был беззубый старик со сморщенным лицом и глубоко впавшими глазами. Голова его походила на череп.
В проходе между воротами стояли в станках принадлежности казни и символы губернаторской власти – большие топоры. Все, как было.
На дворе против парадной красивой фанзы Ивана Павловича и Фанни встретил почтенный чиновник, просил пройти в фанзу и подождать.
В просторной комнате, освещенной большими, в узорчатом переплете окнами, заклеенными белой бумагой, было очень холодно. Здесь были столы, большие кресла со спинками и подлокотниками черного дерева, чудной резьбы. В лицевой стене на домашнем алтаре стояли бронзовые изображения Будды, перед ними лежали белые круглые хлебцы, и в горке чистого песку курились тонкие темно-желтые свечи. Едкий, похожий на ладан, дым шел от них, и в комнате было им накурено. Бумажные цветы украшали алтарь и Будду. В фанзе никого не было.
В ней за двумя дворами, за высокими серого кирпича стенами, вдоль которых росли громадные карагачи, раскинувшие корявые ветви над всем двором, было тихо.
Слышно было, как потрескивали тлеющие свечки. Кругом во всем дворце не было никакого движения.
Прошло около получаса. Ивану Павловичу и Фанни принесли «достархан» – китайские твердые, жесткие, сочные, круглые, желтые груши, финики, изюм, конфеты, печенье и чай, поставили перед ними и ушли, оставив их одних.
Пить и есть с дороги хотелось, и они выпили с удовольствием желтого горьковатого, чуть теплого цветочного чая.
Наконец двери во внутренние помещения открылись, и старый почтенный чиновник пригласил их к фудутуну.
XXXVI
Фудутун был в полном парадном уборе. На его черной шапке, точно сапфир, сверкал в бронзовой ажурной оправе голубой прозрачный стеклянный шарик, и два длинных пера эспри торчали из-под него вниз. На роскошном черном, тяжелого драгоценного шелка халате был художественно вышит серебром лебедь и вокруг него цветы и листья. Широкие рукава падали до локтя, а из-под них видны были рукава нижнего халата темно-синего блестящего шелка. Он сидел в большом резном кресле с подлокотниками и с малиновой бархатной подушкой.
Сбоку, в другом кресле, сидел мандарин с розовым шариком – это был чиновник иностранных дел Фен-ты-мин, говоривший мастерски по-русски.
Два кресла были приготовлены для гостей.
Фудутун приветствовал Ивана Павловича и Фанни, вставши им навстречу, присел и протянул маленькую худую руку с нежной кожей и тонкими пальцами.
Фудутун попросил гостей садиться. Фанни смотрела на его лицо, и ей становилось жутко. Мертвое лицо страшной маски было под парадной шапкой мандарина. Старое, сморщенное, бледно-желтого цвета, почти белое, с седыми бровями, с седыми усами и маленькой бородкой, с узкими черными глазами. Оно поражало своей неподвижностью. Он сел, оперся обеими руками о подлокотники и застыл.
Фен-ты-мин, так же парадно одетый, так же торжественно настроенный, задал обычные вопросы этикета: «как доехали», «не случилось ли чего». Он перевел ответы фудутуну, и тот на каждый молча качал головой.
Фудутун стал говорить.
Мертвое лицо маски было все так же неподвижно, глаза тусклые, и лицо не выражало ничего. Но странно, в гортанных, икающих и щелкающих звуках непонятных Фанни слов Фанни ощущала страшную, мучительную скорбь. Скорбь, перед которой смерть – ничто.
Ту же скорбь чувствовал в словах старого мандарина и Иван Павлович, понимавший его из пятого в десятое.
В маленькой комнате было холодно. В углу мутными блестками отсвечивали на лбу, на толстых щеках, на груди и животе золотого Будды огоньки курительных свечек. Мертвая тишина звенела кругом во дворце.
Длинные века неподвижного покоя смотрели с пыльных стен, оклеенных малиновой бумагой. Тяжелые дубовые стропила потолка были изъедены временем. Чудилось, что так же древен и дряхлый мандарин и что то, что он говорит, говорит его седое время.
Фен-ты-мин переводил четко, выговаривая каждое слово, подыскивая цветистые сравнения и яркие эпитеты, которыми была пересыпана речь старого китайского чиновника, воспитанника Пекинской школы.
– Ты приехал в нехорошее время, сын мой и русский друг мой, – говорил фудутун. – Твое дело погибло. Твои деньги погибли, и все надо начинать сначала.
В Пекине революция. Если революция хороша в Европе, если новости тамошней жизни могут дать счастье европейскому народу, то для Китая – это гибель.
Обрезают косы. Уничтожают вековой обычай. Разрушают религию и выгоняют бонз из храмов. Разве может народ жить без веры? У бедняка отнимают утешение надежды возродиться в будущей жизни в образе богатого купца. У нехорошего человека нет страха перед тем, что после смерти судьба покарает и сделает его скотом. Если после смерти ничего, если жизнь кончается здесь, каждый захочет насладиться этой жизнью и для всех не хватит. Потерян будет стыд и совесть, преступления покроют землю, и люди обратятся в животных.
Они прогнали императора и императрицу и говорят, пусть правит сам народ. Но ведь и раньше правили не император и императрица, а правили ученые люди из народа, мы, мандарины, и народ нас слушал, потому что знал, что за нами стоит знание, и слово наше – слово императора. И мы старались делать так, чтобы хорошо было не одиночным людям, а хорошо всему народу, всей стране, хорошо императору – богдыхану. Нас никто не выбирал, и мы ни для кого не старались, кроме императора, олицетворения Бога и справедливости.
Сын мой, разве возможно, чтобы на земле были одни бараны и не было львов? Покроют бараны всю землю, и негде им будет питаться, и станут ссориться и сталкивать друг друга с круч в пропасти целыми стадами.
Сын мой, разве возможно, чтобы на небе не было солнца и луны, но были одни звезды? Или чтобы горы были равной высоты, или чтобы земля одинаково напоена была водой и давала травы и деревья одного роста?
Но есть у нас великий Хан-Тенгри, и ему первому при выходе посылает привет свой румяное солнце, и он розовеет, как роза долин, тогда, когда вся земля еще покоится во мраке. И с него последнего срывает свою прощальную улыбку заходящее солнце, и румянцем горит он до той поры, пока не отразятся в нем звезды.
Так установлено во веки веков.
Устами моими говорит отходящая мудрость, потому что я уйду сегодня и не вернусь…
Что знают их выборные начальники? Головы их пусты, голоса их грубы, а желудки жадны, и руки берут то, что им не принадлежит. Они не знают всех десяти тысяч правил и установлений, они не признают этикета, они не стесняются приличиями, и носятся они, как ветер гор носится по пустыне, вырывая с корнем могучие деревья и пригибая тростник к земле. И никому от него не хорошо. Он иссушает нивы, он разрушает урожаи, срывает плоды и листья с деревьев, и после него голые стоят рощи, безобразные своими черными сучьями, и повержена во прах колосящаяся нива.
И солнце они хотят заменить ветром!
Горе китайскому народу за то, что он хочет изменить течение своей жизни. Раньше земледелец выходил на свое поле и говорил: поле мое очень малое, но мой отец, дед, прадед трудились на нем и были сыты. И он молился у кумирни «ляо-мяо», он возжигал свечу богине полей, он трудился над каждым вершком земли, и земля награждала его труды урожаем.
Теперь выходит земледелец в поле и видит: нива его мала, и нужно много работы, чтобы прокормить с нее и себя, и свою семью. И он говорит: поле мое мало, и не стоит в нем работать. Лучше я ничего не буду делать, нежели обрабатывать четверть десятины. И когда настанет время жатвы, ему нечего собрать, и он умирает с голоду.
Из века в век существовала династия императоров. И сын видел то, что делает отец, и знал, что нужно делать. Он знал, что лучше отрубить одну голову преступнику, нежели уничтожить потом целое селение, и он брал на себя смерть людей…
Но пришли люди и сказали: все люди братья, и все равны, и нет преступников, и нет праведников, и они пустили преступников. И заколебались слабые души. И восторжествовала зависть, жадность и злоба, и люди бросились убивать друг друга, чтобы овладеть имуществом богатых.
И земля покрылась потоками крови…
Фудутун замолк и прислушался. Чей-то резкий голос раздавался в соседней комнате. Двери фанзы внезапно распахнулись, и в нее вошел большими шагами, звеня шпорами, привязанными к ботфортам, среднего роста коренастый китаец. Он был в круглой фуражке французского образца, черной, расшитой по донышку золотым тонким шнуром, и с тремя золотыми галунами по околышу. Серо-желтая куртка с карманами была застегнута большими гладкими золотыми пуговицами. На ней были колодка с четырьмя орденами, золотой аксельбант и золотые русские генеральские погоны. Черные рейтузы с золотым широким лампасом были заправлены в высокие сапоги. Из-под куртки на поясной портупее висела прямая сабля в железных ножнах. Лицо его было круглое, с выразительными злыми глазами под густыми черными бровями, и небольшие усы торчали пучком над губой. Косы не было, но волосы были коротко острижены.
При его входе Фен-ты-мин встал и низко присел. Иван Павлович узнал в вошедшем начальника реформированных войск генерал-лейтенанта Ян-цзе-лина, встал и поклонился ему, как знакомому. Ян-цзе-лин не обратил на него внимания.
Только старый мандарин и Фанни остались на своих местах.
Фанни с любопытством смотрела то на вошедшего, похожего на японца, генерала, то на старого мандарина.
Ян-цзе-лин бросил несколько властных слов фудутуну. Ни один мускул на старом лице не дрогнул. Фудутун ответил тихими спокойными фразами, и каждая фраза его взрывала Ян-цзе-лина. Он гневно посмотрел на Фанни и на Ивана Павловича, пожал плечами и так же стремительно вышел. И когда шаги его тяжелых сапог замолкли в соседней комнате, старый мандарин заговорил снова, и в его словах послышались еще большая горечь и скорбь.
Временами его речь становилась так тиха, что Фен-ты-мин приподнимался с места, чтобы прислушиваться. Но лицо по-прежнему было мертво, и порой Фанни казалось, что она находится не в ямыне перед живым губернатором, а в музее восковых фигур, перед говорящей куклой.
– Мудрость они заменили грубостью, – продолжал говорить фудутун, – и отсутствие знаний скрывают не допускающим возражений тоном голоса. Они провозгласили свободу и начали с того, что стали гнать и не давать жить старым слугам императрицы и наполняют ими тюрьмы. Они провозгласили равенство и оделись петухами, чтобы выделиться из толпы, и потребовали себе конвой слуг и прихлебателей. Они провозгласили братство и стали притеснять богатых купцов и уничтожать тысячами тех, кто с ними не был согласен.
Все обман!
Что хорошего в том, что старый маньчжур-победитель стал равен китайцу покоренному, что древние монголы, владевшие некогда всем миром, стали подобны молодым мусульманам, пришедшим с запада, и грубым дунганам. Они слили в один пестрый флаг желтый, красный, белый, зеленый и синий и залили кровью долину Ян-се-кианга, реки мира, и Пей-хо, владычицы Китая.
Он приходил, этот новый человек, поторопить меня очистить для него этот священный дом императоров.
Он не постеснялся ворваться ко мне, когда у меня сидели гости. Он с презрением относится к приличиям, которыми так гордится Китай.
Своею грубостью он прикрывает свое ничтожество и жесткими манерами и громким голосом – свое невежество.
Сын мой, я вызвал тебя, чтобы сказать тебе, что они отобрали твои деньги и уничтожили наш договор на золотоносные земли.
Сын мой и русский друг мой, потому что я всю жизнь ценил и любил русских, я позвал тебя, чтобы ты был свидетелем того, как уходит к небу старый Китай, вытесняемый новым… Передай об этом своему генералу, которого я уважаю, как брата.
Вот близится солнце к закату, и новые люди хотят завладеть старым ямынем. Они думают, что тени тысяч мандаринов, губернаторов старой крепости позволят им это сделать?
Уже целую неделю перевозили порох из склада в подвалы ямыня, и там его достаточно. Вот зайдет солнце, и раздастся взрыв, равного которому не было и не будет во всем свете. Он отдастся в далекой Кульдже, и русские в Джаркенте услышат его, и пусть узнают, что это погиб старый Китай.
Посмотри, русский друг, и запомни, что в старом Китае были величие и гордость, и знай, что люди, которые так умеют умирать, умели и жить и были достойны править народом. Но когда солдат поднесет фитиль к шнуру – беги дальше. Беги на свой русский пост к моему другу, офицеру Красильникову, потому что небо подымется и земля разверзнется, и старый Китай не оставит камня на камне Китаю новому, забывшему заветы предков.
Ни одна нота не изменилась в голосе фудутуна, и он ничем не показал волнения. Замкнулись уста, и величавое спокойствие стянуло лицо в маску, застывшую, как у мертвеца.
Фен-ты-мин сказал, что аудиенция окончена.
Он предложил выйти во двор, усадил Ивана Павловича и Фанни на мраморную скамью под громадным каштаном, против главной фанзы, и просил подождать до заката солнца.
Совершалось что-то страшное, таинственное и необычное.
Величие совершающегося захватило Ивана Павловича и Фанни, и молча, подавленные, не отдавая себе отчета в том, что происходит, они покорно сели на старую скамью и стали ждать, что же будет дальше…
XXXVII
Наступал тихий вечер. Зеленело бледное зимнее небо, на котором не было ни облака.
Из двери главной фанзы губернаторского дома потянулась медленная, молчаливая процессия.
Двенадцать старых солдат в прекрасном одеянии, в шапочках, верхи которых были покрыты алыми нитками, с трудом вытащили громадный тяжелый гроб, в котором среди шелков и бумажных цветов лежал покойник. Темное лицо и руки почти истлели от времени. Его поставили посредине и приподняли верх гроба так, что весь покойник был хорошо виден.
Сзади слуги несли резные кресла. И можно было подумать, что готовятся снять на фотографию страшную семейную группу во главе с умершим родоначальником.
Медленно и важно вышел фудутун в том самом парадном одеянии, в котором он принимал Ивана Павловича. За ним шло шесть старых солдат-палачей с большими мечами на плечах.
Фудутун сел в кресло рядом с гробом.
Ковыляя на изуродованных, точно козьих, ножках, в синем, тканном золотом халате, с искусственной высокой прической седых волос, заткнутых длинными булавками с бабочками из серебра, вышла старая женщина, жена фудутуна, и села рядом с мужем.
За ней вышло еще семь женщин, молодых, с накрашенными щеками и черными волосами, и старых, седых, с худыми темно-коричневыми лицами. Маленькие дети шли за ними. Других вынесли и посадили тут же. Это были дети, внуки и правнуки фудутуна.
Важный и величественный, вышел почтенный Фен-ты-мин, и за ним его миловидная, приветливая жена, знакомая Ивану Павловичу.
Сзади устанавливались старики чиновники, офицеры, солдаты, слуги и служанки, все в лучших одеждах, и группа росла и ширилась и достигала уже трехсот человек.
Тут были все только старые чиновники и письмоводители, тут были офицеры, сорок лет служившие в конвое фудухуна, седые и дряхлые. Молодежь отсутствовала. Белые прозрачные, золотые, белые матовые шарики младших чинов, розовые матовые и малиновые, как рубин, шарики старших были на их шапках.
Ни слова, ни звука. Каждый в торжественном молчании занимал свое место, садился или становился согласно со своим положением и рангом. Все было заранее обдумано, расписано и указано.
Точно устанавливалась хорошо разученная группа немого балета для какого-то апофеоза.
Принесли большого бронзового величавого Будду и поставили у ног покойника.
Наконец вышел очень старый, совсем дряхлый солдат и вытянул откуда-то снизу темный шнур.
– Боже мой! Какой ужас! – воскликнула, закрывая лицо руками, Фанни.
Томительная тишина царила кругом. Молча готовился старый Китай к таинству смерти.
– Идем, идем отсюда, – прошептал Иван Павлович. Но ни он, ни Фанни не трогались с места. Ужас сковал их члены. Едва заметным движением губ старый мандарин отдал приказание.
Солдат нагнул голову. Он медленно и спокойно достал спичечницу и стал разжигать фитиль…
Вот он приложил фитиль к шнуру, и белый дымок быстро побежал кверху в неподвижном воздухе.
Иван Павлович кинул последний взгляд на группу. Солнце бросало на нее прощальные кроваво-красные лучи. Все сидели и стояли в величавом покое. Ни на одном лице не было заметно волнения или страха. Даже дети не шевелились, если бы глаза не моргали, то можно было бы подумать, что это коллекция наряженных манекенов или восковых фигур.
Секунды шли. Белый дымок быстро бежал кверху, и с ним бежала смерть, приближаясь к этим людям.
Все это знали… И никто не боялся…
Вдруг маленький ребенок, сидевший внизу у ног старухи, жены фудутуна, капризно расплакался. Мать, молодая китаянка, нагнулась, подняла его на руки и стала качать, успокаивая.
Ни одно лицо ни у кого не дрогнуло.
Это было последнее, что видела Фанни. Иван Павлович схватил ее за руку и повлек за собой. Они выбежали за ворота на первый двор, прошли вторые ворота, где уже не было часового, и, пробежав через пустынную площадь, вошли в переулок.
В это мгновение страшный взрыв раздался сзади них и поверг их на землю.
Земля охнула и разверзлась. Со свистом и шумом полетели в небо тяжелые балки, громадные деревья, обломки стен, кирпичи и тела, тела…
Обрывки тел.
Безобразные «шидзы», стоявшие у входа в ямынь, сдвинулись со своего места и опрокинулись.
Старый Китай погиб…
XXXVIII
Фанни сейчас же очнулась. Она была только повержена на землю, оглушена, но не ушиблена. Иван Павлович был зашиблен камнем в голову и лежал без движения. Кругом не было ни души. Все, что могло бежать, бежало дальше от страшного взрыва, от фонтана тел и обломков, тяжело падавших на землю. Суйдун точно вымер.
Ян-цзе-лин и реформированные войска притаились в своих казармах. Люди, бродившие по улицам, попрятались по фанзам.
Темная ночь наступила в могильной тишине притихшего в ужасе города.
Фанни сидела на земле, положив голову Ивана Павловича к себе на колени, и снегом оттирала у него с лица кровь. Страшные мысли неслись в мозгу Фанни: «Неужели он умер?» Теперь она стала понимать, что был для нее Иван Павлович. Теперь вдруг, над бездыханным телом его, она поняла, что он не дядя, не товарищ, не друг, но любимый, которому она готова отдать все, самое себя. Ей как-то раньше не приходила в голову мысль о его смерти. Теперь, когда подумала об этом, поняла, что тогда все пропало бы для нее, пропал бы самый смысл жизни.
Она нервно терла ему лоб и виски снегом, прислушивалась к нему с сильно бьющимся сердцем, осыпала его нежными ласковыми словами и звала его к жизни. Вдруг проснулось ее женское сердце, и любовь ее, давно накоплявшаяся в нем и тщательно маскируемая мальчишескими выходками, проявилась сразу, и Фанни давала обеты все сделать для Ивана Павловича, лишь бы он был жив.
– Боже, спаси его! – шептала она. – Боже, как тогда, во время погони, соверши, соверши чудо.
И то, что под снегом и льдом не холодела его голова, но становилась горячей, пробудило в ней надежду.
Наконец Иван Павлович вздохнул и очнулся.
Надо было нести его куда-нибудь, а темнота надвигалась. Их лошади и казаки остались на посту, где-то на окраине города, и где, Фанни не знала, и не могла бы найти дорогу.
Кругом не было ни души, а ей одной не поднять, не снести его… Да и куда? Страшный, только что совершившийся Китай, пугал ее.
Шли долгие минуты. Беспокойный пульс отбивал их частыми ударами в виски. Холодели руки и ноги, и ночной мороз дрожью охватывал тело.
– Фанни! Вы здесь… – послышался слабый голос. Иван Павлович зашевелился и приподнялся.
– Я здесь, мой милый. Как вы себя чувствуете?
– Ничего… надо идти. Вы мне поможете.
Он с трудом встал. Пошатнулся и снова сел.
– Темно в глазах. Голова кружится. Простите. Это сейчас пройдет.
Он сосал грязный снег и прижимал его к вискам.
– Вот и легче, – прошептал он.
Они пошли. Фанни вела Ивана Павловича. У него болела и кружилась голова. Приходилось часто отдыхать.
Темные улицы были пусты. Чудилось, что старый мандарин последним дозором обходил крепость. И казалось, что по улицам раздавался дробный и частый шаг мягких туфель носильщиков его паланкина и солдата.
Где-то завыла собака. Ей стала вторить другая, третья. Они почуяли покойников. Страшен был их вой в темноте ночи.
Старый Китай покончил с собой.
Наконец Фанни увидала стеклянный фонарь и дневального казака у ворот. Казак заботливо взял за талию Ивана Павловича и повел его с Фанни в ярко освещенную комнату постовой квартиры.
Хорунжий Красильников послал за фельдшером. Он все знал. Фудутун две недели тому назад решил это сделать. Молодец фудутун! Не сдался Ян-цзе-лину. Не поехал в Пекин к Юан-ши-каю.
Фельдшер осмотрел Ивана Павловича.
Ничего. Все благополучно. Нужен только покой. Поспать эту ночь!
Ивана Павловича уложили в постель Красильникова. Кровь с лица была отмыта, его напоили чаем, и он заснул спокойным крепким сном.
Маленькая лампочка горела в комнате. Для Фанни была отведена столовая, где Царанка приготовил ей постель.
Но ложиться ей было нельзя. Стол в квартире постового офицера был один, за ним сидел Красильников и, мусоля карандаш, строчил два донесения – одно в Кульджу, к консулу, другое – в Джаркент, в штаб бригады.
Совершенно готовые ехать казаки, в полушубках, при шашках и с винтовками за плечами, топтались у дверей.
Старый Китай умер, но какое до этого дело Европе? И лица казаков были спокойны и безразличны.
Фанни встала со стула, на котором сидела у окна, и на носках пошла в комнату, где спал Иван Павлович.
– Простите, – растерянно сказал Красильников, – я вам мешаю, я сейчас кончу писать…
Он был очень сконфужен пребыванием девушки на его постовой квартире.
Фанни вошла к Ивану Павловичу. Он крепко спал.
Фанни села у постели Ивана Павловича и задумалась.
«Какое у него доброе и мужественное лицо, – думала Фанни. – Он красив. Да, он красив. Как это я раньше не замечала. Он герой… Смелый, спокойный. На него можно опереться».
Фанни вспомнила Зарифа, Аничкова, Васеньку Василевского, Гараську, Турфан, девушку-волка, поиски золота. Все это было и прошло. И ничего нет… Ничего не осталось… И золота нет… И денег нет.
Остался он. Он лежит и спокойно дышит. По лицу уже разлился румянец. Он будет здоров.
Он ее любит. Она это знает.
Счастье колыхнуло ее сердце и залило кровью нежные щеки.
Старый Китай умер. Ужасно умер. А ей какое дело? Разве она такая уж бесчувственная? Но ей не тяжело. Ей не печально. От ужасной картины смерти фудутуна и его двора осталось только воспоминание, как от страшной мелодрамы, изображенной мастерски в театре. На душе у нее легко и весело…
XXXIX
«Так вот он какой, дядя Ваня!..» – думает Фанни и смотрит сквозь полуоткрытую дверь своей комнаты, через сени в кабинет Ивана Павловича. На Фанни лучшее ее платье. Она его еще не надевала, и оно очень к ней идет. Она только что смотрелась в зеркало. Положительно, она хороша… Посмотрелась еще раз. Поправила прядку волос. Та не послушалась и снова спустилась на лоб. Оставила так. Пожалуй, еще лучше.
Дядя Ваня сидит за своим письменным столом. Перед ним большой лист бумаги, и на нем ряды цифр.
Фанни знает, что это такое. Всю дорогу из Суйдуна до Кольджата третьего дня и вчера Иван Павлович терзался мыслью, что в этом неудачном предприятии с золотом пропали ее три тысячи рублей. О своих он не думал и не говорил. Он был у Ян-цзе-лина, и новый правитель провинции не только наотрез отказался продавать землю, но и отказал вернуть деньги. Мало того, республиканское правительство предполагает само начать там изыскания, так как пункт договора «и со всеми недрами» им показался подозрительным… Вчера вечером… а может быть, и всю ночь дядя Ваня высчитывал свои будущие возможные сбережения, чтобы скопить эти три тысячи и вернуть их Фанни.
Чудак дядя Ваня!.. Точно нужны ей эти его три тысячи. У нее еще довольно осталось. Разве деньги ей нужны? Разве в деньгах счастье?
А в чем? Жить – вот это счастье. Жить на этой прекрасной земле, именно здесь, у подножия Божьего трона, жить, верить и молиться!
Она вздохнула полной грудью, и радость бытия охватила ее. Всеми жилками, всеми кончиками нервов почувствовала свое молодое упругое тело от корней волос и до маленьких ноготков на ногах. Чуть потянулась в утренней истоме.
Жить, ездить верхом, охотиться, дышать этим редким воздухом, немного хлопотать по хозяйству, придумывать сюрпризы для него, дяди Вани, и радоваться тому, как он до слез бывает ими тронут.
Как-то раз через свою гимназическую подругу она выписала для него конфет из Петербурга. Дядя Ваня не курит и любит сладкое. Как тронут был он! До слез. Другой раз в его отсутствие, по страшной жаре, рискуя получить солнечный удар, она съездила в Джаркент и привезла ему бутылку рома. И он был счастлив. Для него это был особенный ром.
Это были веселые минуты. Так приятно его порадовать. Сделать что-либо для него. Чем-либо пожертвовать, поступиться для него. Эти три тысячи! Конечно, жаль, что они пропали так, без всякой пользы. Но ничего не поделаешь. Она готова и еще три тысячи бросить для него. Она уже в заговоре с Аничковым. Аничков весной поедет в «Россию» за чистокровными лошадьми, и она просила его привезти двух. Ей и дяде Ване.
А дядя Ваня терзается этими тысячами! Чудак-человек!.. А хороший… Немного серьезный, строгий… Она его боится иногда, хотя ни в грош не ставит. Нет, в самом деле…
Ну что он ей! Дядя?!
Сама смеется. Какой же он дядя? Вместе в детстве играли. Ей было четыре, ему двенадцать, и он носил ее на руках, дарил цветы и ягоды… Видно, и тогда любил. Ей было двенадцать, ему двадцать – вместе по степи скакали. Он юнкером, она девчонкой-гимназисткой. Волосы распущены до плеч, в завитках.
Потом уехал в полк и пропал. Пропал на целых восемь лет. И вот ей двадцать – ему двадцать восемь.
Как он ее принял? Как чужую! Чудак!.. Да ведь если о ком думала она иногда в гимназии, так это о том шаловливом кадете, с жизнью которого ее жизнь сплеталась каждое лето, каждое Рождество и Пасху.
Как странно думать, что он в нее влюблен. По всему видно… Вчера, ложась спать, спросила его: «Дядя Ваня, ведь я ваш компаньон?» – «Ну и что же?» – «Предприятие наше потерпело неудачу, и я должна пострадать так же, как и вы?» – «Ничего подобного». – «Позвольте, но если бы вместо меня был Аничков, вы бы думали, что ему нужно вернуть его три тысячи?» – «Нет». – «Так о чем же вы думаете теперь?» – «Вы – другое дело!»
«Ах, так! Я – другое дело!.. Я не настоящий компаньон, я не товарищ вам… А что же?..»
Даже вспылила.
– Вы женщина, – сказал он, заикнувшись, и по глазам его она поняла, что он не договорил: «Вы женщина, в которую я влюблен».
«Так, так бы и говорили, милостивый государь», – думает Фанни и лукаво улыбается. Нет, в самом деле, какой он милый и хороший чудак. Вот так, подойти и погладить по его волосам, разобрать прядки, свесившиеся на лоб, а потом погладить усы. Он, наверно, начнет целовать пальцы. И что тогда?
Что?.. Ничего…
Ни-че-го.
И она входит в кабинет.
Он оборачивается к ней вместе со стулом. Лицо бледное. Глаза воспалены, горят. Видно, не спал ночь. Бледный свет утра белыми пятнами ложится на его щеки. Неужели он все считал эти деньги?
– Вы не спали, дядя Ваня?
– Нет.
– Все считали?
– Нет… Впрочем, да… Может быть… Я думал…
– О чем же вы думали, дядя Ваня?
– О многом, Фанни… О том, какой я подлец.
– Подлец?
– Ну да. Мне не надо было втравливать вас в это проклятое предприятие… Вообще не надо было принимать вас на пост, позволять жить здесь, путешествовать с вами.
– Надо было прогнать? – тихо спрашивает Фанни и кладет свою маленькую ручку ему на плечо.
– Да, прогнать.
– Спасибо.
– Не на чем.
– Что же я вам сделала?
– Вы? Ничего… Кроме хорошего.
– И вы хотите меня все-таки прогнать?
– Если вы уедете, Фанни, я не переживу этого. Я умру с тоски.
– А если останусь?
– Я с ума сойду.
– И так и эдак, значит, нехорошо выходит… Что же мне делать, чтобы вам было хорошо?
– Вы сами знаете, Фанни.
– Улететь на небо… Туда… к подножию Божьего трона?..
Она смотрит в окно. Темно-синее небо спокойно и тихо. Ни туч, ни облаков, ни дымки. Так тиха и ее жизнь, несмотря на все приключения. Так безоблачно на ее душе.
Как ярко горит на солнце далекая вершина Хан-Тенгри! Теперь она, как опрокинутый золотой потир, и точно червонцы сыплет она на землю. Червонцы, золото Божьей благодати!
Долина млеет и горит в лучах поднимающегося солнца. Край Небесной Империи позлащен лучами. Что до того природе, что там три дня тому назад трагически погиб старый Китай?
Для неба он не старый. Оно равнодушно к векам человеческой жизни, потому что его века много больше лет жизни людей. И к смерти людей оно равнодушно и спокойно смотрит на кровь и на тела усопших.
Радуется оно только счастью… счастью любви…
Чья-то невидимая рука опрокинула в голубой выси золотой потир и сыплет, и сыплет червонцы на землю.
Эти червонцы – счастье. Умей только поймать его. Не упускай его. Краткотечны его мгновения. Блеснут, как молния в грозе, и исчезнут. Лови ее…
Фанни смотрит в окно, и улыбка радости поднимает концы ее губ, вот приоткрылись и брызнули жемчугом ровных зубов навстречу солнцу.
Скользнула взглядом по стене. Висит ее кабардинская шапка, а под ней – винтовка. Пусть висят, милые…
Шире стала улыбка. Сколько счастливых минут с ними пережито!
Перевела свой взор на дядю Ваню. И его щеки, и подбородок позолотили лучи утреннего солнца. Невидимая рука осыпала и его золотыми монетами счастья из опрокинутого потира, что поднят над Божьим троном.
Бог осыпал его золотом своей благодати и бросил бриллианты счастливых слез в его добрые глаза. Счастье пришло к нему. Он будет счастлив. Она даст ему это счастье.
Сами собою сгибаются ноги. Она медленно опускается к нему на колени и садится, как сидела четырехлетней девочкой. Она обвивает своею рукой его шею, и раскрытые в улыбку уста прижимаются стыдливо к его губам.
– Милый дядя Ваня! Я твоя… Я хочу твоего счастья. Только твоего счастья…
Золотой потир опрокинула невидимая рука у подножия Божьего трона и сыплет, и сыплет золото благодати Божией на сконфуженное лицо Фанни и на счастливое лицо Ивана Павловича.
Примечания
1
Конный стрелец, они набирались из дворянских детей московских.
(обратно)2
До Петра Великого летосчисление в России шло от сотворения мира, которое считалось за 5508 лет до Рождества Христова. Таким образом 7055-й год соответствовал 1547-му году.
(обратно)3
Родственники матери Иоанна IV – Елены Глинской, второй жены князя Василия Иоаннова, бывшей правительницей в детство Иоанново.
(обратно)4
Кафтан-однорядка – однобортная одежда, напоминающая кавказский бешмет, надеваемый под черкеску.
(обратно)5
Крепкая, широкая русская лошадь. Типа легкого битюга, невысокая ростом.
(обратно)6
Кружала – кабаки.
(обратно)7
Знак опричника: – верны царю, как собаки и метут крамолу метлами.
(обратно)8
Охабень – верхняя одежда с длинными полами, высоким во-ротником и длинными рукавами.
(обратно)9
Это было в августе 1552 года. С XV века год начинался с 1-го сентября – и август, по-тогдашнему – зарев – был двенадцатым месяцем.
(обратно)10
Стрелецкие головы. Исаков, соратник Курбского, называет их так же, как и Курбский немецким именем – ротмистров, взятым им из Польши.
(обратно)11
Лошади восточных пород – кавказские, персидские, турецкие и арабские.
(обратно)12
Созвездие Большой Медведицы.
(обратно)13
Волосами Богородицы наши предки называли Млечный Путь.
(обратно)14
Артиллерию.
(обратно)15
Т. е. послав лошадей полным скоком.
(обратно)16
Русские дворяне по Царскому указу должны были выступать в поход со своими вооруженными и, кому положено, конными людьми: людные, конные, и оружные.
(обратно)17
С травы – т.е. скотоводством, с воды – рыбною ловлею.
(обратно)18
Сарынь – чернь, голытьба, незнатные люди. Кичка – кик – нос судна. Отсюда и глагол – кикнуть. «Сарынь на кичку» – разбойничий клич волжских гулебщиков при нападении на суда.
(обратно)19
Уральским.
(обратно)20
Траурный.
(обратно)21
«Мокрое дело» на воровском язык – убийство.
(обратно)22
Узкая полоска.
(обратно)23
Епистолия – письмо.
(обратно)24
Задние ноги.
(обратно)25
Саадак – чехол для лука из тонких досок или кожи.
(обратно)26
Геновейцы – генуезцы, моряки, жители итальянского города Генуи. Их видали казаки в Малой Азии и в Крыму.
(обратно)27
Будара – большая ладья.
(обратно)28
В те времена ружья были кремневые. Кремень на курке ударялся о стальное огниво и высекал искру. Под огнивом, у начала ствола, была полка, на нее подсыпали порох, он, воспламеняясь, зажигал заряд в ствол. Так как ружья были тяжелые, до 18 – 20 фунтов, их для стрельбы подпирали железными сошками.
(обратно)29
Казаки называли по-своему – «лыцарь» – и это слово их не совсем точно отвечало понятию – рыцаря.
(обратно)30
Мягкие сапоги без каблуков.
(обратно)31
Куски железа. Они заменяли картечь.
(обратно)32
Шапка-ерихонка – круглый стальной шлем с острым верхом, бутурлуки – стальные пластины, прикрывавшие голень и привязанные к ногам ремнями, шестопер – тяжелый железный шар с острыми на нем ребрами на палке, им в бою били неприятеля по голове.
(обратно)33
В 1567 году.
(обратно)34
В поприще считали полторы версты, но считали и больше.
(обратно)35
Легковая станица – нечто вроде посольства казаков в Москве.
(обратно)36
Яицкие – ныне Уральские казаки.
(обратно)37
Ким гелиор – кто идет?
(обратно)38
Тегиляй подбитый ватой, длинный матерчатый доспех.
(обратно)39
Против теперешнего города Тобольска.
(обратно)40
Шаманы – колдуны.
(обратно)41
Тамаша – тревога. Шайтан – дьявол.
(обратно)42
Точная мера поприща не установлена. Это и 350, и 500, и 750 сажень, в данном случае 750 сажень, т.е. 30 верст было между Кучумом и Ермаком.
(обратно)43
Дикие козы.
(обратно)44
Загоны для овец.
(обратно)45
Дубинами с тяжестью на конце.
(обратно)46
К югу от Тобольска в верховьях реки Ишима, в нынешней Акмолинской области, около теперешнего гор. Кокчетава.
(обратно)47
Дворам.
(обратно)48
Белых лошадей называют серыми. Почти всякая лошадь белой становится с годами. Белыми зовут лошадей серебристой шерсти по темной коже.
(обратно)49
Хвост, грива и челка – носят общее название «навес».
(обратно)50
Стальной доспех из отдельных плиток.
(обратно)51
«Большой наряд» – полный убор царя – в шапку, золотой кафтан и т.д. – праздничная царская одежда, надеваемая на большие приемы.
(обратно)52
Дань.
(обратно)53
Правительственные «царские» барки ходили по Волге под желтым прапором с орлом. Они имели на борту и на корме изображение двуглавого орла.
(обратно)54
«Таймыр» – приятель. На Кавказе горцы называли приятелей кунаками, в Азии – татары – таймырами.
(обратно)55
Циновки, плетенные из рисовой соломы.
(обратно)56
Маленькое пирожное (фр.).
(обратно)57
Тень (киргиз.).
(обратно)58
Приятель, кунак.
(обратно)59
С глазу на глаз (фр.).
(обратно)60
Один (китайск.).
(обратно)61
Гостиница, съестная лавка.
(обратно)62
Сладости и вино. Чисто туркестанский и среднеазиатский обычай приветствовать гостя достарханом.
(обратно)



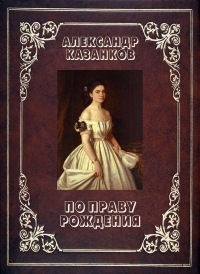

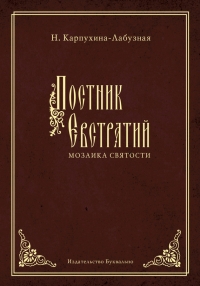


Комментарии к книге «С Ермаком на Сибирь», Петр Николаевич Краснов
Всего 0 комментариев