Петр Николаевич Краснов Белая свитка
Белая свитка
Часть первая ОТЦЫ
День в санатории доктора Грюнделя начинался рано: в шесть часов утра. Ровно в шесть, внизу, в чистых подвальных комнатах, окружавших просторную кухню, выложенных по стенам кафельными пестрыми плитками и с кафельным же, рубчатым в клетку полом кремового цвета, трепетно и нудно звонил тонким серебряным звоном будильник.
Золотистоволосые, крепкие, здоровые горничные просыпались молчаливо, – доктор Грюндель требовал в санатории полную тишину, – они, одевшись в модные, короткие платья до колен, надевали белые, в плойку чепцы и передники и спешили на кухню. Полные икры в черных чулках подрагивали, и мягко шевелились мускулы голых рук под розовой, бархатистой кожей. Здоровье и радость точно шли вместе с ними.
В четверть седьмого по асфальтовой дорожке, влажной от росы, к кухонному крыльцу, оставляя змеиный след, подкатывал на велосипеде булочник с большою корзиною маленьких булочек и румяных хрустящих «хернхен»-подковок. На кухню, звеня ключами на поясе, спускалась фрейлейн Шален, старая барышня, экономка, и крепкой суровой ниткой резала на кухонном столе блестящее, покрытое водяными слезами сливочное масло, приготовляя аккуратные, ровные порции для гостей санатория.
Горничные: Марихен, высокая, румяная и красивая, Софихен с приветливыми, милыми, влекущими глазами, малютка Анна и коротышка Лизхен составляли на длинном столе деревянные подносы с чашками, тарелками, кофейниками, сливочниками, сахарницами и раскладывали булочки, масло и варенье по номерам, – куда одну, куда две порции.
На газовой плите мерно и ровно, с легким гулом, горели прозрачно огни, и кухня наполнялась запахом кофе и поджариваемых в масле сухарей.
Фрейлейн Шален посматривала на черную доску с номерами. В дверях, просительно поглядывая на фрейлейн, вертелся соседний черный такс. Он вилял длинным, прямым и тонким хвостом. Пускать собак на землю санатория было строго запрещено старым доктором Грюнделем. «Боже упаси: собаки – зараза». Фрейлейн Шален, горничные и сам такс отлично это знали. Но доктор просыпается в семь часов, а прием от восьми. В утренние часы, когда в верхних этажах царил еще сон, такс был дорогим гостем на кухне.
В половине седьмого, – подносы еще не были готовы и кофе не кипел, – раздался долгий, настойчивый звонок и выпрыгнула цифра. Звонили госпожи Костриц, две толстые дамы, не могшие помириться с тем, что воды надо пить натощак, и начинавшие день ранним завтраком.
Красивая Марихен сидела у двери на корточках, выпятив полные, круглые ноги, и заставляла такса служить и просить лапками. Такс торопился схватить из ее розовых пальцев кусок поджаренного сухаря. Она ударяла его по мордочке. Софихен со страданием на добром веснушчатом лице смотрела на такса и на Марихен и жалобно говорила:
– Hauen ist verboten[1].
– Марихен, – сказала фрейлейн Шален, – одиннадцатый звонил. Несите фрыштык…
Марихен гибко выпрямилась на сильных ногах и стала наливать кофе в кофейник.
Зазвонил снова колокольчик. На черном глянцевом фоне выскочила белая цифра пять.
– Это русский, что приехал вчера… Софихен, не забудьте передать ему Anmeldungsblatt[2], – сказала фрейлейн Шален. – Впрочем, я сама ему принесу и покажу, что писать.
Софихен, бросив таксу кусок сахара и потрепав его за длинные шелковые уши, пошла за подносом.
– Господину генералу чай, – сказала фрейлейн Шален. – Господин доктор сказал: жидкий.
Софихен с подносом стала подниматься по лестнице. В санатории царила ничем не нарушаемая тишина. В большой приемной, куда выходили двери некоторых номеров и куда упирался высокий коридор, пол был сплошь застлан мягким коричневым толстым бобриком. В мутном свете, проникавшем через одно окно, заслоненное густыми кустами цветущей сирени, виднелся стол с вазою, где сладко пахли ландыши. Под ландышами были аккуратно разложены свежие газеты и иллюстрированные журналы. Оранжевая «Die Woche» с коричневыми буквами и пахнущая красками свежая «Illustrierte Zeitung» с изображением Гинденбурга в парадной форме на какой-то церемонии лежали наверху.
В приемной была утренняя прохладная сырость и, казалось, притаились по темным углам печальные думы ожидавших приема больных. За высокими белыми без портьер дверями чуть слышались ритмичные движения и точно всплески голого тела. Доктор Грюндель делал свою утреннюю гимнастику. В углу, у окна, за маленьким столиком с пишущей машинкой сидела худенькая стриженая девица с тонким горбатым носом, – секретарша доктора, фрейлейн Шпис.
Софихен, легко держа одною рукою широкий поднос, уставленный посудой, неслышно скользнула в коридор и постучала у двери с номером пятым.
– Войдите, – раздалось по-русски, и сейчас же хрипло добавили: – Herein.
Софихен нажала на ручку двери. Дверь была заперта. Раздались шаркающие шаги, щелкнул ключ, дверь открылась.
Жилец, в черных в белую строчку штанах и в туфлях, в рубашке без воротника и галстука, впустил Софихен. Он был высокого роста, полный и старый. Седые, редкие волосы беспорядочными прядями сбивались к ушам на лоб. Не бритый со вчерашнего дня подбородок шершавился седою щетиною, короткие стриженые седые усы торчали под носом. Он смотрел на бодрую, веселую, пышащую здоровьем Софихен, словно ощупывая ее мутными глазами от ее белой накрахмаленной наколки на бронзовых волосах до полных крепких ног, упруго выходящих из-под передника. В его глазах были удивление и зависть.
Кровать, широкая, чистая, «гигиеническая», блестела металлическими прутьями и чистым бельем. Пуховое одеяло было скомкано. Белые подушки разметаны.
Софихен прибрала на столе пепельницу, сдвинула в сторону газеты, развесила на стуле валявшийся на столе жилет и расставила чайники, блюдца, тарелки и чашку.
– Прикажете открыть окно? – сказала она. – Очень хорошая погода.
– Да, откройте, – не спуская с нее тяжелого взгляда, сказал гость.
Софихен отдернула прозрачную желтую занавесь и растворила обе половины окна. В душную спальню, пропитанную табачным дымом, легко и приятно вошла утренняя весенняя свежесть. Она принесла запах сирени, мокрой листвы и только что скошенной травы. За небольшим палисадником с цветущими розовыми рододендронами была улица, за нею парк. Громадные каштаны были все в свечках белых восковых цветов. Раскидистые липы аллей уходили вниз. Влево, на обширном лугу – «ремизе» – розово распускалось железное дерево.
Там косили едва поднявшуюся траву, и длинная вереница пестро одетых девушек граблями ворошила ее. Снизу из-за парка, из города, несся мерный и ровный звон. Звонили в лютеранской церкви.
Кругом были мир, тишина и счастье здоровой, ничем не волнуемой жизни.
2
– Фрейлейн Шален просит позволения прийти к вам, чтобы заполнить Anmeldungsblatt, – сказала Софихен, в два-три незаметных движения прибравшая спальню и придавшая ей опрятный вид.
– Хорошо, – сказал постоялец и тяжело опустился в кресло. Он уже допил свою чашку, когда пришла фрейлейн Шален.
Худенькая, неопределенных лет, с гладко приглаженными русыми волосами, с покорным выражением серых глаз, она подала узкий розовый листок и попросила заполнить его. Постоялец быстро записал сведения и подал листок.
Фрейлейн Шален читала, проверяя, все ли записано, что надо. «Alexis… Vatername – Sergius… Familienname – Baholdin… Geboren in Jahre 1867… Aus U.S.S.R.».
– Что это значит? – спросила она, указывая на показавшиеся ей странными буквы.
– Union sovietigues, socialistigues republigues, – скучающе сказал постоялец.
– Что это такое?
– Вы не знаете?
Простые глаза смотрели ясно и честно. Под их взглядом Бахолдин скосил свои мутные глаза.
– Не знаю.
– Ну, если хотите, Россия, – сказал Бахолдин.
– Ах, так… Советская… Она перебрала в руках листок и зазвенела ключами на поясе. Ее лицо покрылось красными пятнами. Она была сильно смущена. С трудом выдавила из себя:
– Вам придется платить за неделю вперед.
– Почему?
– Такое правило.
– Для всех?
– Да… Нет… Хозяин просил, чтобы… если русские… из России…
– Ну а если бы я был из Франции?
– Тогда другое дело… Я не знаю… Это хозяин… Я вечером пришлю счет.
Фрейлейн Шален, совсем уничтоженная своим смущением, исчезла в дверях.
Бахолдин откинулся в кресле, стал было намазывать сдобную подковку маслом и бросил. Он смотрел в окно, сквозь тихо шевелящиеся ветки сирени, на синее небо с белыми легкими прозрачными облаками, на густую зелень парка, на луг, бегущий вниз к могучим, раскидистым, далеким каштанам.
«Пора привыкнуть», – тяжело зашевелилась в его мозгу мысль. Ему вспомнилось, как на польской границе румяный, молоденький мальчик-офицер в тяжелой фуражке, с прямым, окованным металлом козырьком, при сабле, с цветными ленточками орденов на серо-желтом френче, с нескрытой брезгливостью взял в руки его советский паспорт и долго рассматривал польскую визу.
«Им-то что, – думал Бахолдин. – Облопались, благодаря нам, русскими землями. Если бы не мы, была бы маленькая скромная Польша, десяток привислинских губерний, и только. И была бы и этим счастлива. Благоговела бы перед Россией, молилась бы на нее. Старшая сестра… Да… И собор православный не посмели бы тронуть в Варшаве. Побоялись бы России. Советская республика дала им все… Почти: от моря и до моря… Так получили, как в Варшаве никогда и не мечтали. Вот и собор они разрушили и православную церковь прижимают, а мы молчим. Кажется, с почетом должны были бы меня встречать и провожать. А нет… почета не было. Не было даже обычного у чиновников равнодушия: было презрение… На немецкой границе таможенный досмотр ничьих чемоданов не тронул. А мой чемодан чуть не насквозь смотрели… Советский… При этом даже любезны были… но опять, сквозь любезность, презрение. А ведь друзья… И Брестский договор, и Рапалло… Все отдано немцам, все как они хотели. И здесь опять… Советскому не доверяют… Советский – деньги вперед. Для всех мы страна воров и мошенников».
Бахолдин поджал нижнюю губу.
«Не надо раздражаться… Думать не надо… Это все кажется от больного сердца».
Он давно положил намазанную маслом подковку прямо на скатерть и забыл про нее. Как только подумал о том, что не надо раздражаться, что раздражение вредно, что думать не надо, так думы непрошенным вихрем влетели в больную голову, закрутились там, заплясали и уже нельзя было ни остановить их, ни прогнать.
«Неужели я так уже плох? Шестьдесят лет. Что же такое, что шестьдесят? Гинденбургу минуло восемьдесят, а он президент огромного государства. И какой президент!.. Вчера в газетах было про одну старуху на Корсике, что она умерла ста одиннадцати лет. Ну, сто одиннадцать это слишком. Но почему бы мне не дожить до восьмидесяти четырех, скажем… Это еще двадцать четыре года… Почти столько, сколько я прожил после Японской войны. В Японскую войну женился… Был здоров двадцать четыре года тому назад. Почему же нельзя быть здоровым и сейчас, если еще осталось жить целых двадцать четыре года. Четверть века?.. Отлично можно. Только вот сердце… Плохое… слабое… расширенное сердце».
Бахолдин вспомнил, как вчера, почти прямо с вокзала, он по особой рекомендации самого Крестинского попал в санаторий доктора Грюнделя и на его осмотр.
Он был принят в шесть часов вечера, последним. Перед ним из кабинета вышла очень высокая и толстая дама в старомодной прическе. Точно овальная золотая дыня была у нее на голове. Бахолдин вошел в кабинет. Доктор, без пиджака, в жилетке под длинным, белым, чуть накрахмаленным халатом, сверкая твердыми белоснежными манжетами, мыл в углу руки. В большом кабинете, уставленном многими приборами, значения которых не понимал Бахолдин и которые казались ему потому страшными, терпко пахло особым «докторским» запахом – формалином и мылом… Нарядная сестра милосердия, с сухим, бесстрастным, красивым лицом, перетирала чистым полотенцем черные воронки стетоскопов, и коричневые гуттаперчевые трубки, точно длинные земляные черви, змеились вдоль ее белого передника.
Доктор кончил мыть руки, кивнул седою головою с длинной волнистой бородкой и попросил садиться. Он спрашивал то, что всегда спрашивают доктора. Сестра записывала ответы. Он спрашивал о курении, о спиртных напитках, о том, что заставило его, Бахолдина, приехать в санаторий.
– Хорошо… Разденьтесь… Посмотрим.
Сестра вышла в соседнюю комнату.
Доктор приступил к осмотру Бахолдина, как часовщик приступает к осмотру часов. Он прикладывал шершавое, волосатое, холодное ухо то к груди, то к спине, потом, вооружась стетоскопом и часами, слушал, передвигая эбонитовую чашечку по груди, то выше, то ниже. Он взял толстый синий карандаш и чертил им по телу Бахолдина кривые линии, ставил какие-то кружки и запятые. Громадным циркулем с резиновыми шариками на концах и с дугою с делениями он мерял Бахолдина от лопатки к нижнему ребру. Лицо доктора было озабочено, мохнатые седые брови сдвигались и раздвигались, лоб покраснел и покрылся морщинами. Доктор диктовал сквозь открытые двери цифры и свои замечания. Над головою доктора, то наклонявшегося, то выпрямлявшегося, в зеркале за столом Бахолдин видел отражение своего тела. Оно показалось ему слишком белым, как у трупа. Синие карандашные линии и значки усиливали белизну кожи. С боков над ребрами висели толстые, дряблые складки. Сосцы на груди провалились и были почти так же белы, как и грудь. Глядя в зеркало на свое тело, Бахолдин вдруг понял: плохо.
Осмотр шел к концу. Доктор добросовестно и внимательно, не жалея времени, проделал все то, что полагается проделать доктору. Он положил Бахолдина на кушетку, накрыв его чистой, нагретой простыней, он мял и тискал ему живот, вызывая неприятное ощущение сосущей боли, он стянул ему руку повыше локтя резиновым обручем с трубками и на особом манометре следил, как колебалась тонкая стрелка, и его красивое лицо в бороде становилось серьезным.
– Можете одеваться, – сказал он.
Он прошел в соседнюю комнату, взял листок, исписанный сестрою, и стал вписывать в него свои замечания.
– Что, доктор, очень плохо? – спросил, стараясь быть равнодушным, Бахолдин, повязывая галстук у зеркала. Он видел хмурое лицо доктора и как шевелились на нем темно-серые мохнатые брови.
– Как сказать, – протянул доктор. – Очень плохо никогда не бывает. Сердце сильно расширено. – Доктор показал пальцем на стоявшую в углу раскрашенную гипсовую модель сердца и добавил: – В два раза больше этого… Но это ничего. Вы знаете, иногда чашку разобьешь, потом склеишь и она больше новой живет. Наши источники чудодейственны… Тут и не такие больные поправлялись.
Он кончил писать и, подавая листок одевшемуся Бахолдину, сказал:
– Главное: не волноваться. Никаких газет не читать. Вы из советской… – доктор не знал, как сказать. Не хотел, видно, сказать: – России.
– Да.
– Так никаких газет не читайте. Ни русских, ни наших. Не думайте ни о чем. Не надо думать.
– Как же, доктор, не думать?
– А вы… не думайте, и все… Живите растительною жизнью. У нас тут парк прекрасный. Но… ходить тоже нельзя… Так: десять минут тихим шагом, и не в гору. Потом сядьте. Сидите – смотрите. Зяблик прилетел, прыгает, смотрите на зяблика… Дама идет с собакой – полюбуйтесь собачкой… Не дамой… И в голове, чтобы пусто было… Впитывайте в себя чистый воздух, дышите ровно, мерно и глубоко. Полчаса посидели, и опять пять минут тихим шагом. К пруду. Там лебеди, австралийские утки. Смотрите на них. Бог много даров рассыпал по земле. Немецкий гений собрал их здесь. Пользуйтесь ими. На музыку пока не ходите. Музыка тоже волнует. Вам сейчас главное это успокоить сердце, которое слишком раздуто и уже не может работать.
– А ванны?
– Ванны еще погодим… У нас сегодня понедельник. Через три дня, в четверг, опять ровно в 6, приходите ко мне. Тогда посмотрим. Может быть, можно будет легенький thermal вам прописать, минут на шесть… Но это мы увидим…
Доктор проводил до дверей Бахолдина. Уже звонили в гонг к ужину.
Бахолдин прошел в свой номер. Ему подали ужин в его комнату. Он не притронулся к нему, разделся не спеша, в несколько приемов, и лег в постель.
Главное: не думать.
3
«Да, конечно, это конец».
Бахолдин не опустил ставней и только задернул желтую легкую занавеску. На улице за окном горел фонарь. Свет от него мутно входил сквозь занавеску и создавал в комнате подозрительный, тревожный, точно населенный живыми существами полумрак.
Смерть глядела отовсюду. Она точно подстерегала Бахолдина, стараясь внезапно и неожиданно схватить его. Она то выставляла свой страшный череп из угла, где висели пальто и шляпа Бахолдина, то блистала лезвием косы под самым потолком. Она шелестела совсем подле, по мягкому ковру. Садилась на корточки, пряталась за стулом с брошенным за него платьем.
Бахолдин знал, что смерть это – «ничего». Это конец, крышка, полное небытие. Не Нирвана, ибо в Нирване все-таки что-то есть. Бахолдин читал где-то: когда спросили Будду, что такое Нирвана, он сказал: «Понять Нирвану нельзя. Можно только постигнуть. Объяснять же лишнее, ибо объяснение ничего не дает и не подвигает по пути познания совершенства в Правде». И тогда же, когда прочитал это суждение Будды Бахолдин, он решил: «Никакой Нирваны нет. Просто и ясно: нет ничего». Была клеточка, росла, множилась, почковалась, создавая органы, давая ощущения и мысли, шевелилась под напором крови, двигала мозгами, думала, образуя свое «Я»… И вот сердце расширилось, стало как старый растянутый пульверизатор, не подает больше крови, куда надо, и нельзя думать и волноваться. Ноги и руки стали холодными, тяжелыми, скользкими и нечувствительными, как у мертвеца. В ушах ныла какая-то звенящая струна, и нудно, тяжело под самой лобною костью болела голова.
Бахолдин стал думать, как и когда он умрет. Будет ли это удар и он лишится языка, способности двигаться, станет полуидиотом, как стал Ленин, евший свои нечистоты и мычавший в ответ на замечания?.. Или он уснет и не проснется?.. Однако как ни старался понять, как это он уснет и не проснется, не мог. Сквозь строй разумных выкладок пробивалось, как травка на погорелом черном месте, соображение: «Если есть конец жизни, есть конец и смерти… – И сейчас же он думал: – А как же клетчатка? Она будет распадаться, разлагаться. – И тут же мысль забегала вперед: – А что, если я буду чувствовать и ощущать это распадение?»
Бахолдин давно был атеистом. Последние годы, занимая видный пост в коммунистическом государстве, он не только укрепился в своем атеизме, но даже приучил себя издеваться над Богом и над верою, стараясь в своем цинизме превзойти самых ярых безбожников. Несколько раз, с каким-то волнующим ощущением сладострастного вызова, он писал и отсылал в «Безбожник» стихи, полные такого издевательства, что у наборщиков, набиравших эти стихи, холодели руки.
Это было: карьера…
Карьера и деньги влекли его всю жизнь.
«Жареным пахнет…» «Гони монету», – вот что заставляло его работать, учиться и служить.
Выйдя из военного училища в полк, он не полюбил полка, не слился с ним, не стал участником веселых офицерских пирушек и резвых шалостей. Он не увлекся работой над солдатом, просвещением новобранцев, не старался заслужить похвалу ротного, одобрение полкового командира, не щеголял гимнастикой, не стремился попасть в охотничью команду, чтобы с людьми-молодцами стать и самому молодцом. Он не увлекался ни танцами, ни музыкой, не искал романов с дамами гарнизона, не горел любовью, не мучился ревностью.
Он сразу засел за книги. Он готовился поступить в Академию. Без Академии и вне Академии нет карьеры. Нет карьеры, нет власти, нет и денег.
Бахолдин блестяще окончил Николаевскую Академию Генерального Штаба, тогда еще помещавшуюся на Неве у Николаевского моста. Он усвоил военные науки и с ними получил все пути к карьере.
Он понял, что карьера – не строй, не фронт, не тревожная, полукочевая жизнь с солдатами, полная трудов и лишений, но большой штаб с тишиною высоких, просторных кабинетов, из чьих широких окон видна большая площадь. Самые стены так толсты, что они кладут какой-то предел между кабинетом и площадью, и оттого дворец и колонна памятника, видные снаружи, кажутся далекими. В этих кабинетах, где пахнет дорогим табаком и пылью бумажных папок с делами, надо проводить недолгие часы, а остальное время посвящать «карьере».
Бахолдин оценил все. У него были тонкий ум и большое чутье. В длинном, в талию, черного сукна сюртуке, сшитом у Норденштрема, с академическим значком и серебряным аксельбантом, в узких брюках с тонким кантом и со штрипками, изящный, надушенный, с коробкой дорогих конфет от Балле или с букетом Ремпеновских роз, он умел появиться в гостиной жены высшего начальника, сановника или министра, рассказать новость и по поводу нее ввернуть красивое и умное слово.
«Le beau Baholdine»[3] – появлялся везде, где было высшее общество. Он посещал салон графини Фрицевой и был своим у баронессы Шенграбен. К нему льнули иностранные атташе. Дамы счастливо улыбались, когда он подходил.
Он умел все и охотно брался за все. Он устраивал благотворительные концерты, базары и маскарады. Он разрабатывал планы осенних маневров. Он делал сообщения, руководил военной игрой, писал статьи в газетах и журналах. При всем этом он умел, когда нужно, остаться в тени. С блестящим и ярким талантом он составлял «всеподданнейшие доклады» для своего начальства, нисколько не тревожась, что под его работой стояла не его подпись.
В своем служебном кабинете он появлялся часа на три, между полуднем и четырьмя часами дня, но он умел работать, когда нужно, всю ночь.
За его работоспособность и готовность отдать, кому нужно, свою работу его сослуживцы, офицеры генерального штаба, прозвали его «паровым ослом».
Однако он вовсе не был ослом. Он умел тонко прислушаться к мнению начальника, угадать его желание, и, все равно, сходилось ли оно с его мнением или было ему обратно, он писал работу в духе, желательном начальнику, с одинаковою убедительностью и с одинаковым пафосом.
Когда в штабе кто-нибудь из старших терялся, как ответить на какой-нибудь запрос, как разработать новый проект, говорили всегда: «Ничего. Надо поручить Бахолдину. Бахолдин сумеет».
Во имя карьеры Бахолдин отрекся от себя. У него не было личных убеждений и это ценилось в нем особенно.
«Бахолдин беспристрастен…» «Бахолдин бесстрастен…» «Надо попросить Бахолдина подготовить в прессе новый проект».
Бахолдин с одинаковой готовностью писал о значении красивой, пестрой, старой формы для духа армии, о количестве калорий в солдатской пищевой даче, о единстве военной доктрины, о лыжах, о мундштуке, о стратегии Леера, о количестве материи, потребной для солдатских портянок, о маневрах во Франции.
Все, что прикажут. Все, что требовала жизнь. Все, что давало карьеру. Он сделал карьеру. В тридцать лет он был полковником. Холодно, сдержанно и сухо, «в белых перчатках», он откомандовал на ценз полком. В двухтысячной солдатской массе он не вызвал ни любви, ни ненависти. Точно и не было его. И когда он сдал полк, солдаты уже не могли вспомнить его фамилии. Восемьдесят офицеров полка едва знали его в лицо. Он и к ним подходил «в белых перчатках». Иногда он появлялся в полковом собрании к завтраку, сопровождаемый почтительным, копировавшим его одежду и манеры адъютантом, бросал кому-нибудь из офицеров два-три небрежно ласковых слова и садился в голове стола между штаб-офицерами. Он даже не знал по фамилиям всех офицеров. Зато он устроил «военную игру», на которую пригласил свое начальство из округа. На экономию от солдатского пайка он выстроил унтер-офицерский клуб и солдатский театр. Тогда это было модно: сближение с солдатом, своего рода «хождение в народ». Все это, впрочем, как-то осталось незаконченным, незавершенным. Не было времени. Он томился в полку, торопясь вернуться в приятную теплоту своего штабного кабинета. Живые люди тяготили его.
4
Были, конечно, и женщины. Любви тут не было. Бахолдин считал, что сантименты вредны и для карьеры и для здоровья. Все должно быть подчинено разуму. Потому, когда разум указывал ему, что есть опасность полюбить, когда он начинал слишком долго останавливать свой взгляд на какой-нибудь одной женщине, он ехал на Итальянскую в светский дом свиданий и там оставался несколько часов, выбирая всегда разных.
В свете на него обращали внимание. Жены товарищей восторгались им: le beau Baholdine! Он был и в самом деле красив в полном расцвете своей мужской силы. Ни полон, ни худ, всегда элегантно и модно одет, остроумен. Он был на виду. Могли бы быть и романы. Но их не было. Романы могли завести далеко и помешать карьере. Женщины требовали чувства. Бахолдин гасил в своем сердце всякое чувство и был осторожен в ухаживаниях. Тем больше им увлекались, и восторженный дамский хор сопутствовал его карьере.
Приближался сороковой год, – год для решительной, быстрой карьеры. Ему намекнула баронесса Шенграбен, что ему надо жениться. Губернаторы, генерал-губернаторы, атаманы казачьих войск, командиры корпусов должны быть женаты. Так легче получить место, легче сделать карьеру. Требовались не только губернаторы, атаманы и командиры, но и губернаторши, атаманши и командирши. В семье легче устроить необходимые «приемы».
В три недели вопрос был решен. Бахолдин сделал предложение графине Тамаре Дмитриевне Сохоцкой и получил согласие. По отцу полька, по матери русская, православная. Тамара Дмитриевна была богата и очень красива тою славянской, чуть полной красотою, которая делает «представительных» дам. Такая именно была нужна Бахолдину. Она засиделась в невестах. Ей шел 27-й год, и она с радостью приняла предложение великолепного Бахолдина.
Для брака надо было побывать у исповеди. Бахолдин, лет двенадцать не бывший у исповеди, – в штабе за этим не следили, – пошел в церковь. Холодно и чинно он заявил, что ему нужно быть у исповеди. Когда он стал у аналоя, он равнодушно окинул глазами крест и Евангелие и вопросительно взглянул на священника.
– Давно ли вы были у исповеди и у святого причастия? – кротко спросил священник.
Бахолдин не ответил ничего. Он так строго посмотрел на священника своими серыми, немигающими глазами, что бедный батюшка смутился, завозился руками под епитрахилью, предложил исповеднику поцеловать крест и Евангелие и поспешно стал читать разрешительную молитву.
К причастию Бахолдин не пошел вовсе. Ему вовсе не было надобно таинственное общение с Христом, великая извечная тайна. Ему надобно было только свидетельство о бытии у исповеди, и он получил его тогда же.
Свадьба была торжественная. С высокопоставленными особами, с Высочайшими посаженым отцом и посаженой матерью.
Это тоже было звено карьеры.
Когда через два года у Бахолдина родилась дочь, названная Светланой, Бахолдин не обрадовался и не опечалился. Родительское чувство в нем не заговорило. Появление ребенка было в порядке вещей. Это входило в понятие карьеры.
Дочь росла. Сначала ее приносили к нему в кабинет поздороваться с папой. Потом она приходила для этого сама, нарядная, как куколка, и синими, не мигающими глазами с испугом и любопытством смотрела на отца. «Banjour, papa». – «Bonjour, mafille». Отец больше ничего ей не говорил, не ласкал ее и отпускал сейчас же в детскую. Она росла возле матери и была чужой отцу.
Карьера приблизила Бахолдина к Царю. Ему поручали делать доклады, он привозил к Государю бумаги своего начальника. Почтительно, более того – раболепно, он делал доклад, стараясь угодить Государю и не думая о цели доклада. После он, где нужно, восторженно, с умилением, радостным голосом рассказывал, что ему сказал Государь и как он ответил. И он же, попав в другое общество, умел в почтительный рассказ о Государе вложить чуть заметную насмешку, едва уловимую иронию. Он не любил Государя, как не любил никого, кроме себя.
Однако Бахолдин скоро почувствовал, что путь карьеры, раньше такой простой, прямой и быстрый, стал извилистым и трудным. Явилась Государственная Дума, заговорила общественность. Бахолдин устроился докладчиком при Думской комиссии. Появились новые знакомства, новые связи и вместе с ними новые пути. «Запахло жареным» там, где, казалось, и пахнуть не могло. Бахолдин стал необходим для министерства. При столкновениях с Думой, при нападках ее членов он умел так округлять и смягчать все недоразумения, так представлять доклады Думе, а думские запросы министерству, что взаимная работа казалась возможной. – Это надо поручить Бахолдину… Бахолдин выкрутится… У Бахолдина были квартира в двенадцать комнат, пара лошадей, казенная машина, адъютанты, ординарцы и два телефона. Он достиг, чего хотел. Впереди было назначение маленьким царьком на очень богатую окраину. Его проталкивали туда с редким единодушием и Дума и Министерство. Его карьера завершилась. Ум не даром работал. Чувства были не напрасно подавлены.
В эту бессонную ночь, в тишине немецкого курорта все это проносилось в голове Бахолдина. Проносилось и другое.
Он будто слышал в этой чужой немецкой комнате торопливые шаги своей дочери, девятилетней Светланы, как слышал он, когда она пришла в последний раз в его кабинет. Синие глаза смотрели тогда с непонятной мольбой. В загнутых вверх ресницах блистали слезы.
Она ничего тогда не сказала ему, но и сейчас Бахолдин чувствовал на себе немой детский упрек ее взгляда.
Не тогда ли, не после ли того и началась у него эта болезнь, которая привела его сюда, на немецкий курорт?
5
Фонарь за окном горел всю ночь. Здесь с этим не считались. Он мешал спать Бахолдину. Ему казалось, что под фонарем стоит кто-то и стережет его. Всегда кто-то должен стеречь, подслушивать и подглядывать. Непривычная тишина томила. Тут по ночам все спали. Тут, видно, не было ничего такого, что надо делать ночью. Прогудит где-то далеко, за парком, поезд. Протяжно, точно призывая кого-то или посылая привет спящим росистым лугам, просвистит паровоз и смолкнет. Нарушенная было тишина станет еще заметнее. Долго потом звенит в ушах, потревоженных этим неожиданным шумом.
За окном, в зелени кустов, пошевелится птица. Черный дрозд вполголоса просвистит что-то короткое, точно спросит о чем-то спросонья. И снова тишина. В эту тишину опять и опять входят непрошеные мысли.
Пришла Великая война. Карьера потребовала Бахолдина на войну. Он сразу устроился в большом штабе. В уютном, теплом кабинете городского дома, разведя на блюдечках кармин и синюю прусскую краску, он рисовал на плотной бумаге неправильные овалы с цифрами и продвигал от них тонкие заостренные стрелы, создавая стратегические планы. В эти часы он не видел грязной, дождливой осени, что стояла за окном. Он не видел раскисшей, размокшей дороги, разбитого обозами шоссе, конских трупов в залитых грязью ямах, повозок, затонувших в иле. Он не видел бесконечного потока людей в тяжелых, топорщащихся мокрых шинелях и грязных свалявшихся фуражках. Он не слышал глухого гула голосов, побрякивания колес походных кухонь. Он не думал о том, что загрузшая кухня делала четыреста человек голодными, оставляла их на ночь под дождем в грязи с пустым желудком.
Он спокойно вел на бумаге свои линии и стрелы. А там, восьмериками, напруживая зады до морщин на коже, усталые лошади тянули низкие пушки. Там облепленные грязью люди вцеплялись в колеса и хрипло кричали: «Ну, разом!.. Ать!.. Два!.. Подай еще!.. Подай еще, родные!..»
Когда ему случалось в автомобиле попасть в такую колонну, он гнал шофера и несся с непрерывными гудками через солдатскую толпу, расплескивая жидкую грязь и брызжа ею на шинели и на лица людей. Он брезгливо морщился, вдыхая тошный запах пота и кухонного чада, и торопился обогнать колонну. Он никогда не задумывался о том, что это люди, идущие в бой, на раны, на смерть. Он никогда не задумывался о том, что, может быть, и ему надо идти с ними туда, где белыми мячиками вспыхивали разрывы шрапнелей и где точно вода кипела в громадном котле от частого ружейного огня.
Его «я» относилось к этому со спокойным отрицанием. «Начальник не может рисковать собою. Начальник должен беречь себя», – говорил он своему начальнику штаба. Его нисколько не интересовало, что будет с этими людьми, так покорно идущими навстречу смерти. Ему ведь незачем туда идти. Не для того он учился, чтобы умирать «на поле брани». И он сворачивал назад, как только шрапнельные разрывы становились близкими. Он возвращался в теплый покой и тишину штабного помещения и опять придумывал комбинации со стрелами. Цель всех этих движений, бои, самая победа его не трогали. Он думал только о том, как угодить тем, от кого зависело его новое повышение, более спокойное и выгодное место.
Своим тонким чутьем он уловил в середине войны, что для некоторых целей поражение на фронте было бы выгоднее, чем победа, и тогда карминные и голубые стрелы стали направляться им вразброд, так, чтобы они не давали победы. Он подновил связи с думскими деятелями, он узнал то, что ему было нужно, и обещал свое содействие. Пахло дворцовым переворотом, может быть, революцией. Это давало возможность играть на два фронта. Если удастся, он займет место Ананьина. Если сорвется, он раскроет карты, пойдет с усмирителями, и тогда наверно станет на место Эйхвальда.
Революция совершилась. Она, однако, не принесла ему тех выгод, каких он от нее ожидал. Место Ананьина совершенно неожиданно дали Елагину. Дума не играла никакой роли, и все его думские связи оказались ни к чему. Временное правительство растерялось и позабыло о Бахолдине. Он снова приехал в Петроград и опять стал принюхиваться, где «пахло жареным». Поздней ночью, на извозчике, с поднятым верхом, он приехал в Смольный и явился в совет солдатских и рабочих депутатов.
В интимной компании он до самого утра, четыре часа, говорил о том, что надо сделать на фронте, говорил о своей любви и верности народу, говорил о том, что он был слеп и заблуждался всю свою жизнь, служа «проклятому царизму». Теперь он прозрел. Он сорвал с себя в экстазе аксельбант и ордена и назвал погоны «печатью рабства». «Сам» Троцкий жал ему руку. Ему было обещано все, что он ни пожелает. На другой день он уехал на фронт и там отдал все управление комиссарам и совету солдатских депутатов. Он разрешил издание «Окопной Правды» и стал ждать.
Наступил октябрь. Его карта выиграла. Оставалось получить выигрыш. Бахолдин прибыл в Петроград с заявлениями о своей верности. Его приняли восторженно. Ему поручили написать письма его товарищам, другим генералам Русской армии. Он написал. Одни ему не ответили, другие ответили коротко и четко, одним словом: «подлец», третьи пространно и туманно обещали идти с новым правительством, если, если и если… Больше всех его огорчили промолчавшие. «Подлеца» он съел. Он давно привык по некоторым редким намекам чувствовать, что он и раньше был в глазах многих подлецом. Но его «я» было неизменно спокойно. Он всегда был достаточно окружен преданными и льстящими ему людьми, и ему было решительно все равно, что о нем думают вдали.
Однако заслуженный выигрыш упорно убегал от него. Тех выгод, каких он ожидал: высокого положения, больших денег, он не получил. Казалось, связавшись с большевиками, он наложил на себя какое-то заклятие. Между тем дома разыгралась семейная драма. Его жена, узнав о его решении, заявила, что она этому не сочувствует, что она, графиня Сохоцкая, не может допустить, чтобы ее муж служил «жидам и хамам», и что она требует, чтобы он порвал с ними и ехал на юг. Бахолдин не ожидал такого протеста и был им захвачен врасплох. Он попробовал принять невозмутимый вид и в первый раз удостоил жену длинной серьезной беседы. С наигранной убежденностью он и ей говорил, что настал новый век, когда личность потеряла свое значение, что надо служить народу и что всякий честный человек должен идти с большевиками, потому что только они могут дать счастье всему народу.
– Ты лжешь! – воскликнула всегда раньше спокойная и сдержанная Тамара Дмитриевна. – Ты лжешь, как лгал всю твою жизнь. Знай, если ты не переменишь своего решения, я брошу тебя. Я возьму Светлану и уеду, куда глаза глядят. С тобою, продавшим душу дьяволу, я жить не стану.
Бахолдин презрительно пожал плечами и вышел. Он не выносил истерик. Упоминание же о дьяволе было только смешно.
«Все они так… Поплачут и передумают», – говорил он себе. Однако Тамара Дмитриевна исполнила свою угрозу. Она исчезла с дочерью, гувернанткой-француженкой и со всеми своими драгоценностями. Тогда ходили особые «украинские» вагоны, и она, пользуясь тем, что ее родители были поляками с Украины, устроилась туда и уехала тайно, так что ее не могли задержать. Бахолдин поморщился при этих воспоминаниях и повернулся на бок, лицом к окну.
Светало. Черные дрозды за окном переговаривались короткими певучими фразами, точно спрашивали друг друга, как провели ночь, или озабоченно совещались о том, что делать днем. Солнца еще не было. За окном чуялся тот нежный свет без теней, какой бывает перед восходом. Ни один людской шум не доносился ниоткуда. Крепко спали по домам люди.
«Надо наконец спать и мне, – подумал Бахолдин. – Нельзя волноваться. Нельзя думать. Надо заставить замолчать эти глупые мысли».
А мысли шли.
6
Того «жареного», что хотел получить от большевиков Бахолдин, той «монеты», на какую он рассчитывал, он так и не получил.
Раньше всякий шаг его вперед знаменовал улучшение его благополучия, увеличения его свободы. Из трех комнат, где-то на Песках, он переехал в свое время на Троицкую, в квартиру из пяти комнат с денщиком и горничной в наколке. Потом, когда женился, он получил квартиру в двенадцать комнат на Дворцовой площади, с видом на сад. Жена и маленькая дочь, бонна и гувернантка, денщик, лакей, кухарка и горничная берегли его покой и охраняли его «я». Когда он возвращался домой, говорил, что он устал, и ложился на диван, невидимые руки снимали с него заботливо ботинки, кто-то неслышно притворял дверь. Кругом ходили на цыпочках. «Папа спит…» «Барин изволили лечь…» «Их превосходительство отдыхают…» Малейший каприз его исполнялся. Были деньги, были люди. Были верная, любящая жена, малютка дочь, простор высоких комнат, тишина и уют семейной квартиры.
Жена и дочь ушли. Разошлась прислуга, и Бахолдин остался один с неопрятным вестовым, назначенным к нему. В квартиру вселили жильцов, оставив Бахолдину всего две комнаты. «Монеты» давали мало, да и купить на нее было нечего. В квартире была грязь и не было покоя. Но, главное, не было свободы. Главное было в том, что его «я» было угнетено и подавлено.
Раньше Бахолдин был свободен. Чем выше поднимался он по служебной лестнице, тем свободнее он становился. Начальство в его совесть не заглядывало. Верил он в Бога или не верил, ходил в церковь или нет, соблюдал посты и обряды или не соблюдал – это никого не касалось.
Теперь ему приказали: не верить, не ходить в церковь. Ему это было легко, он и так не верил, но это все-таки было насилие над совестью. Его службу, его работу из тиши кабинета точно вынесли на улицу. Он должен был выступать на митингах, он должен был ходить на демонстрации, он должен был то ехать на фронт, то работать в невозможной обстановке.
Конечно, по сравнению с другими, Бахолдину приходилось еще быть довольным. Могло быть и хуже. Могла быть «стенка», смертная казнь ни за что. Или тяжелая война в белой армии, страдания и эмиграция. Сравнивая себя с теми, кто пошел против большевиков, Бахолдин и теперь находил, что он поступил правильно: он все-таки делал карьеру. Только какой ценой!
Возможности были большие. Все то, о чем когда-то, как о недостижимом благополучии армии, писал Бахолдин, – всеобщее воинское обучение, широкое полевое обучение, сокращение муштры, усиление техники, – теперь, по его старым докладам, делалось одним росчерком пера.
«Быть по сему» вдумчивой, со многими советовавшейся Императорской власти сменилось дерзким, смелым, кружащим голову, задорным: «даешь».
«Даешь Все-воен-обуч!.. Даешь Авио-хим!.. Даешь наш ответ Чемберлену!..»
Но за этим «даешь» на деле скрывались обман, очковтирательство и крайняя грубость…
Штабы и полки наполнялись женщинами. В войсковые, армейские нравы влилась распущенность. Бахолдину было за пятьдесят. Он, гонясь за карьерой, никогда не был ни бабником, ни кутилой. Теперь и то и другое стало обязательным, вошло в войсковой обиход и стало его утомлять. Начались перебои в сердце, потом обмороки. Первый раз он задумался о смерти и… о Боге.
Бахолдин не верил в Бога. Не верил и в дьявола. Ни белого ни черного для него не было. Был только разум. Теперь ему вдруг стало казаться, что есть «что-то» помимо разумной воли людей. Есть какая-то «единица», кроме своего «я». Бахолдин мысленно чертил единицу. У ней два конца, два полюса. Если она есть в жизни, то все в жизни становится полярным, двойственным. Есть свет и тьма. Есть жизнь и есть смерть. Есть добро и есть зло.
Этого «добра и зла» Бахолдин всегда боялся.
За этим крылась совесть. А совесть скучное дело.
Бахолдин чувствовал, что он переутомился. Бессонные ночи в комиссиях, советах и на митингах, кутежи с «начальством», заигрывания военных барышень его замучили.
Выполнение бесплодных работ, писание невыполнимых проектов, все это топтание на месте, эта работа на холостом ходу были тяжелее самой трудной работы. Одиночество в толпе самое ужасное одиночество. Он был одинок. Господа положения не пускали его в «свое» общество. Он всегда был с чужими. Сердечное недомогание усилилось. Он обратился с просьбой о лечении. Загаженный пролетариатом Кисловодск, без врачей, без достаточной прислуги, ему не помог. Он стал проситься за границу. Никого не пускали. Никому не давали таких командировок.
Ему дали. Или очень ценили его… или…
Бахолдину показалось, что он задремал на минуту. Но сейчас же горячие струи побежали по спине, обожгли поясницу и он в страхе раскрыл глаза.
«…Или считали, что все равно умру… Как умер Красин, Дзержинский, как умирает в итоге все на свете, и коммунисты и некоммунисты…»
На желтую занавеску легла узорчатая тень кустов. Всходило солнце. Птицы пели наперебой. Черные дрозды, зяблики, щеглята торопились восхвалять солнце и тепло.
Воспаленные от бессонной ночи глаза болели, слух был напряжен. Страх смерти усилился. Ему велено: не волноваться и не думать. А он волновался и думал всю ночь.
Бахолдин томительно ждал людей, ждал, чтобы скорее прошла эта тяжелая, одинокая ночь, говорившая о смерти.
Настороженным ухом он ловил живые звуки. Пение птиц его восхищало и вместе с тем раздражало. Он слышал, как внизу, под полом, трепетно и настойчиво забил будильник. Ему казалось, что он слышит шаги босых ног и сонные голоса просыпающейся прислуги. Он слышал, как прошелестел велосипед резиновою шиной по асфальту, как у дверей в саду говорили.
– Hauen ist verboten, – бить запрещается, – сказал кто-то молодым и звучным голосом. Другой голос ответил, и из ответа было ясно, что говорят о собаке.
“Бить запрещается…” Не только можно бить, – и не собак, а людей, – но можно мучить, истязать и убивать… Hauen ist verboten!.. Что за страна, где нельзя ударить и собаки?»
Бахолдин ждал, когда кто-нибудь позвонит. Когда он услышал чей-то звонок, тогда он проворно, задыхаясь, натянул на полные, дряблые ноги подштанники и брюки, надел туфли и, не умываясь, позвонил.
Когда вошла Софихен с подносом, он смотрел на ее молодое, свежее, в веснушках лицо. В ее волосах золотом заиграло солнце, когда она отдернула занавесь. Полные, упругие ноги легко передвигали ее тело. Мягко шевелились белые руки с розовыми ладонями и пальцами. Она была живая и здоровая. Он был умирающий и больной.
У нее своя жизнь, свое «я», которое она будет по-своему устраивать, не спросясь у него, и он никогда не узнает, чего она хочет, к чему стремится и что думает. Первый раз Бахолдин набрел на мысль о другом человеке, о другом «я» и, подумав о том, что таких других миллионы миллионов, вдруг сразу с обидной ясностью почувствовал все ничтожество своего собственного «я».
Бахолдин не пошел гулять. Он был разбит телесно и чувствовал себя усталым, он даже не мог заставить себя умыться и одеться. Он сел в кресло у окна и сидел, бездумно глядя на улицу за палисадником. Его сердце как будто успокаивалось.
В час дня бил гонг в столовой, к завтраку.
Софихен заглянула к нему.
– Прикажете подать завтрак в комнату? – сказала она, увидав гостя неодетым и немытым.
– Да. Прошу вас.
Она принесла поднос. Он не тронулся с места. Через полчаса Софихен пришла за посудой.
– Вы не кушали ваш завтрак… Может быть, вам дать что-нибудь другое?.. Хотите молока, яиц, ветчины?
Бахолдин смотрел на озабоченное лицо Софихен. В ее янтарных глазах горели огни жизни.
«Если бы ты могла дать мне этого огня жизни, – подумал он, – я все отдал бы за него…» Он сказал слабым голосом:
– Мне не хочется ничего. У меня, фрейлен, нет аппетита. Я просто посижу так.
«Не волноваться… Не думать… Я поправлюсь здесь, в этой тишине, в этом уюте, в этих заботах обо мне… Тут мне никто не помешает».
Он сидел, прислонив голову к подушке, и смотрел в окно. Он не видел прохожих. Он смотрел на темную глянцевую зелень рододендронов и на нежные колокольчики их лилово-розовых цветов.
Бахолдин задремал, и последняя мысль, которая вдруг обозначилась в его мозгу, прорываясь сквозь наплывающую дремоту, была проста и несложна:
«Подлец… Ну и пусть».
7
Незапертая на ключ дверь стала тихо растворяться. Входивший не стучал. Это был «свой».
Бахолдин с недоумением и страхом, раскрыв глаза, смотрел на знакомое ему лицо полного короткого человека в черном пиджаке и темно-серых брюках с черными полосками, в неопрятной рубашке с мягким воротником, повязанным красным галстуком.
Это был Сергей Михайлович Полозов, видный коммунист, комиссар и член революционного военного совета. Он был еврей. Настоящее его имя было Самуил Моисеевич Пац. В далеком прошлом студент-естественник, потом политический ссыльный, потом эмигрант, он явился в Россию в свите Ленина, в знаменитом «запломбированном вагоне» и сразу занял видное место в военном комиссариате, хотя раньше никогда не занимался военным делом и даже не отбывал воинской повинности, бежав от нее за границу.
– Не ждали, товарищ? – весело бросил Пац. – Что вы кислый такой? Мне наши писали, что вы будете здесь. Я и зашел. Кстати, у меня тут дело к вам одно есть… По вашей специальности.
Он сел на стол против Бахолдина. Жирная ляжка была обтянута новыми брюками. Живот в жилете мягким пузырем нежно лег на нее. Бритое, полное лицо с толстыми губами и синеватыми щеками, с розовым крупным носом и черными широкими бровями сияло радостью жизни и довольством.
– Ну, как? Были у доктора?
– Был.
– И что же?
– Да что, Сергей Михайлович, плохо. Как бы помирать не пришлось.
– Все подохнем, товарищ, – весело сказал Пац. – А тут у вас персональчик не вредный. Я по дороге двух штучек встретил… Прелесть… Так и тянет мяса потрогать. – Пац щелкнул пальцами. Впрочем, говорят, строгие… Не то что у нас, в социалистическом раю, наши милые совбарышни…
Он захохотал. – Вы знаете, Алексей Сергеевич, какая мысль иногда приходит мне в голову? С вами я буду вполне откровенен. Мы ведь оба старые партийные работники. Так вот. Мы все твердили о свободе женщины. Мы все говорили, что в России, в той старой России, женщина была раба… Что надо ее освободить. Ну, и освободили. Вы знаете, я теперь на свободе обдумал. Да мы ее в такие кандалы загнали, такою рабою сделали, какой она и во время теремов не была. Тогда у нее все-таки какое ни на есть женское достоинство было… Боярыня!.. А теперь? Кто она? Я вам прямо скажу, кто. Сука. Ну да… Сука, и больше ничего. Вот что сделала с женщиной наша народная власть.
Бахолдин повернул голову на Паца и с некоторым недоумением посмотрел на него. Пац продолжал:
– Сука вяжется со многими кобелями и когда родит щенят, то выкормит их, научит кое-какой собачьей науке и уже тогда бросит. Сука лучше нашей советской девушки. Наша вяжется, заражается и заражает других, ей на это плевать. Она родит и не кормит. Подкинет в детдом, отряхнется и пойдет алименты взыскивать. А потом опять выйдет замуж за другого. Мы вот гордимся, что у нас сократилась проституция. Да на что нам она? Девушки школ второй ступени – проститутки, девушки вузов – проститутки, совбарышни – проститутки. Мы им сказали: «Невинность – буржуазный предрассудок, стыд – невежество, семья – мещанство, стыдно стыдиться». А они, дуры, поверили. Они не видят того, что от этого выиграли только кобели, а они сами, тратя молодость, теряя женские чары, обращаются в рабынь и принуждены нести каторжный труд, чтобы кормиться. Они, дуры, даже того не видят, что в нашем правящем слое наши-то собственные, настоящие девушки свои «буржуазные предрассудки» блюдут, женихов ищут за границей и не для советского брака. Какие-нибудь дочки Красина себе цену знают, или скажем, моя дочь… Да посмеет она так-то по-советски путаться… Н-нет… Мы-то понимаем… Или, например, ваша дочь… Где она, кстати?
– Не знаю… Бежала с матерью.
– За границу?.. Значит, тоже в буржуазных условиях обретается… Да… для себя-то мы дело понимаем…
– Ваши слова отзываются белогвардейским фельетоном, – холодно сказал Бахолдин. – Мне, Сергей Михайлович, странно и скучно вас слушать. Это меня волнует. Мне вредно волноваться.
Но Пац заговорил опять, и по-прежнему Бахолдин не мог понять, были ли это действительно его мысли или только тайная насмешка над бывшим буржуем.
– Что вас волнует? Гибель русской женщины? Гибель прелестной, акварельной нежности помещичьей девушки Тургенева и Пушкина? Гибель русской семьи? Но вы же сами должны были это знать. Вы сами работали с нами. Разве вы не понимаете, что в то время, когда вся Европа, кроме, может быть, господина Муссолини, думает только о том, как дожить сегодняшний день, мы на сто лет вперед смотрим? Вы сказали: белогвардейский фельетон. Х-ха! Эмигрантские выдумки. Ну, нет, дорогой Алексей Сергеевич, это такой фельетон, от которого любой эмигрант поперхнется. Где будущее России, ее дети? Вы посмотрите, какая масса их попадает прямо в детдома. Они не знают материнской ласки, и слово «мать» для них только один из членов трехэтажного ругательства. У нас растет целая армия беспризорных.
Здесь Пац насмешливо подмигнул одним глазом, и опять нельзя было разобрать, говорит он серьезно или просто балагурит.
– Это такие могучие кадры будущего пролетариата, что стоит над ними задуматься. Без Бога (ну, конечно, с маленькой буквы!), без всякой морали, неграмотные, не знающие ни России, ни русского языка, говорящие на своем воровском, беспризорном жаргоне, – это создатели будущих невероятных социальных потрясений. Это гений человеческий, родящийся дичком, это люди закаленной воли и с притупленным чувством страха… Это будущие вожди неслыханно аморальных движений. Под ними – темная, будущая, неграмотная Русь. Такой беспросветной безграмотности, такого ужасного положения школы Россия не знала и при «царизме»… Тогда были министерские и церковные школы, тогда и частным лицам не было запрещено «сеять разумное, доброе, вечное», как любили повторять старые студенты. Ну а попробуйте теперь. Наши сельские школы! Смешно о них говорить… Наши крестьянские дети и дети рабочих, в сущности, безграмотны. А мы их суем в рабфаки. Юношу, не умеющего сложить трехзначного числа, мы учим аналитической геометрии… Это тоже гениально. Человека, еле знающего русскую грамоту, мы заставляем долбить латинские названия частей тела… Ну, и в результате через какое-то время у нас не будет ни академиков, ни профессоров, ни учителей, ни инженеров, ни архитекторов, ни техников, ни генералов, ни офицеров. – Пац широко развел руками, как бы обнимая пространство, и торжественно добавил: – Вся Россия с ее стомиллионным населением, темная, неграмотная и годная только быть рабами. Вы это поняли? Чем не достижение?
– Уж если вам угодно сбиваться на белогвардейскую точку зрения, то на крайний случай есть про запас эмиграция… Она везде отлично учится… В ней не малые кадры русского ума.
Пац двусмысленно хихикнул.
– Эмиграция?.. Вы думаете, мы об этом не подумали? Еще несколько лет…
Он вдруг стал говорить медленно, четко чеканя слова.
– Еще пять-десять лет и старая эмиграция вымрет. Умрут своею смертью те, кто помнил Императорскую Россию. Умрут профессора, академики и сановники, знающие дело и могущие поставить Россию на рельсы… Молодежь, учившаяся в заграничных университетах, колледжах и гимназиях, оторвется от России, ассимилируется с теми странами, где она нашла приют, и забудет даже думать о России. Что ей Россия? Грязь, клопы, беспризорные, беспросветное хамство, беспробудное пьянство… Да она и язык-то русский забудет… Нет, эмиграция никогда и нигде никакой роли не играла… Да и приняты меры… Все более здоровое, более крепкое, более русское мы сумеем, не показывая себя, направить в Канаду, в Аргентину, в Бразилию, подальше, подальше… Прикрепим к земле, закрепостим контрактами, закабалим работами… Нет, оттуда не выберешься в Россию. Россия останется полем для нашей работы.
– Допустим… А дальше?
– Дальше?.. Явимся везде мы. Мы будем правителями, начальниками, мы взнуздаем серую скотину и покорим с ее помощью весь мир.
Бахолдин покачал головою.
– А вдруг у вас выйдет ошибка? – сказал он серьезно. – Не везде выйдет так просто, как в России. Я сегодня не спал всю ночь. И утром, ровно в шесть, там внизу, в подвальном этаже, забил будильник. Проснулись горничные, и ожил весь этот дом в стройном и чинном порядке… Вчера, когда я ехал сюда с вокзала, я проезжал по главной улице. Городок маленький, тихий. Был полдень. Движения никакого. Но, когда я подъезжал к перекрестку, городовой в кожаной каске вроде высокого кэпи, в зеленом мундире, в черных штанах и сапогах с крагами, подтянутый, торжественный и важный, руками в белых перчатках указал, что мы едем прямо… Какая тут везде организация! Я взял в ожидании приема у доктора местный листок. На этот маленький городок двести с лишним врачей. Пускай это курорт. Но двести врачей на двадцать тысяч курсовых, это выходит врач на сто больных… А у нас на двадцать тысяч населения не выйдет по рассчету и одного фельдшера… Смотрел я сегодня утром в окно. Идут люди в штатском. Но по выправке, по манере ходить, по всему вижу: офицеры… Бывшие, будущие, все равно. Они ждут того часа, когда смогут опять командовать, учить и покорять… Заглянул в газету. Регирунгсраты… Переведем дословно. «Правительствующие советники». Даже звучит дисциплиной. Везде идет учение. Не наша советская «учеба», а настоящее учение. Гимназии полны, везде университеты, политехникумы, академии. Куда готовится этот переизбыток людей мозга, интеллигенции? Куда пойдут все эти инженеры, архитекторы, фабриканты, врачи и офицеры? Сколько людей изучает здесь русский язык, сколько есть обществ Русско-германского сближения! Природа не терпит пустоты. Вы не боитесь, Сергей Михайлович, что, когда обезлюдеет культурными силами Россия, все это кинется туда, и не вы, а они займут командные высоты? Они сумеют каленым железом вытравить наших беспризорных и розгами и шпицрутенами заставят повиноваться комсомол. Опять был на Украине в 1918 году… Наш народ скоро понял, что значит немецкое «рраус» и «аусгешлоссен»… Да ведь им, пришельцам, несущим этот порядок и организацию, руки будут целовать. Рабские спины-то вы в итоге подведете под других господ. Будет русская Германия или немецкая Россия, но вашего пролетарского царства, покорного только вам, не будет.
Бахолдин говорил тихо и ровно с неожиданною самому себе горечью. Пац кивал головою.
– Пхе, – презрительно сказал он. – Вы забыли полуторавековой гипноз человеческой глупости. Именем короля… Именем государя… Именем нации… какую бы умную и благодетельную реформу, какое бы величайшее добро кто бы ни стал сеять, он встретит протест всего мира. Да, почтеннейший… Представьте себе, что к нам с того света явится Император Николай II, объявит шестичасовой рабочий день и раздарит земли… Фантазировать, так фантазировать… Ну, словом, действительный рай на земле учинит. Как в сказке, все сделается. Что же будет? Америка, Англия, Франция, Япония, весь мир восстанет против. Как? Опять Империя?.. Опять царизм? Ни за что! Не позволим!.. Это такая будет интервенция, какой не снилось ни Колчаку, ни Деникину. Против Царской России станет пролетариат всего мира. Рабочие будут грузить днем и ночью военными припасами суда, матросы и солдаты будут рваться в экспедиционный корпус… Против Царя. Хотя, казалось бы, что им Русский Царь сделал? Ну а если именем рабочих и крестьян мы пол-Европы поставим к стенке, если мы учредим страшные казни, пытки и насилия, весь пролетариат станет за нас.
Пац поглядел на Бахолдина сверху вниз, точно с презрительным сожалением.
– Так вот! Если немцы вздумают сделать то, что вы говорите, мы им не позволим. Мы крикнем на весь свет: германские капиталисты хотят удушить свободных рабочих и крестьян социалистического союза советских республик. Товарищи! Все на защиту социализма!.. И сами же немецкие рабочие забастовками помешают немцам прийти в советскую республику. А нам?.. Нам никто не помешает. Нам все будут помогать. Ибо мы кричим их голосами. Мы идем в их одежде… Пхэ, товарищ… Нет ничего гениальнее, как дать право дураку и невежде рассуждать о государственных делах. А если еще допустить и женщин, готов настоящий омут. Такая там станет мутная вода, что лови из нее, что хочешь.
Пац прочнее уселся на столе, вынул из золотого портсигара папиросу и закурил ее.
– Мы сила, – сказал он. – Мы умеем пустяками волновать и занимать народ. Мы из какого-нибудь дела Сакко и Ванцетти, двух негодяев, умеем сделать сенсацию. Заставим о них говорить народы всего мира, сделаем запросы в парламентах, выгоним народ на демонстрации. Из процесса Шварцборда, убившего давно всеми забытого Петлюру, мы умеем сделать мировой скандал. Еврейские погромы!.. О-о-о-о!.. Как это ужасно!.. А погромы помещиков, а изнасилование ваших «тургеневских девушек» в старых усадьбах, а истребление десятками тысяч молодежи, офицеров, а погромы монастырей и церквей?.. Молчание… Молчание… Это все было в порядке «народного гнева»… Вы понимаете, Алексей Сергеевич, какая мы сила? Вы понимаете, как хорошо вы сделали, что пошли именно с нами?
Полное лицо Паца вдруг сложилось в тысячу мелких складок. С актерской мимикой он придал ему выражение тончайшей иронии и, закутываясь табачным дымом, сказал, прищурив глаза:
– Я хочу сказать, пошли… с народом…
Бахолдин был сильно взволнован. Табачный дым тяжело ложился ему на сердце. Он подошел к зеркалу и дрожащими неловкими руками стал прилаживать воротник к рубашке. Пальцы дрожали. Запонка не попадала в прорезь рубашки. Долго не завязывался петлею галстук. Он обтер лицо мокрым полотенцем и пригладил волосы на висках.
– Не авантажный у вас вид, Алексей Сергеевич, – заметил Пац.
Бахолдин надел пиджак. Руки у него дрожали. Он едва сдерживал себя.
– Все это, – сказал он, – может быть, и так. В массе народ глуп. Это верно… Мы загоняем его в самые потемки… Только загнали ли?.. Весь ли он такой? Не встанет ли в нем протест против всего этого?.. Не начинает ли он прозревать?.. Я бы вам поверил… Меня не мучили бы сомнения… Колебания… Даже представьте, Полозов, страх… Самый низкопробный страх… Если бы не было… – Бахолдин оглянулся и закончил почти шепотом: – Если б не было Белой Свитки…
8
Последние два слова Бахолдин произнес так тихо, что их было едва слышно. И все-таки они произвели сильное действие на Паца. Опершись руками на стол, он вскочил на ноги и быстро подошел к Бахолдину.
– Что вы говорите? – воскликнул он. – Ну вы прямо-таки угадали все мои мысли. Ну, я за этим же к вам и шел. Я за этим сюда за вами и приехал. Я вам хотел только дать вот столечко поправиться. Ну, там еще пару дней побыть в покое… Вы знаете, вы должны здесь узнать, кто им помогает… Кто дает деньги, кто шлет литературу… Вы же знаете, у меня такое чувство, что эта проклятая Белая Свитка везде… Что она ползет и ползет по России, как вошь, пожирая все наше красное дело. Вы знаете, даже сегодня, проснувшись рано утром в своем номере, в парке, в этом дивном отеле, – как жаль, что вы в нем тоже не остановились! – я подумал с испугом: «А вдруг зашевелится окно и Белая Свитка с ножом кинется на меня». Ну, я понимаю, в Европе это невозможно. Ну а все-таки. Почему-таки невозможно? И разве не было тому случаев? Ну, редко, понятно… А все-таки… Тут… там… Тут везде, знаете, так оскорбительно на нас, советских, смотрят, просто до ужаса. Я взял теперь два смежных номера и товарищу Сидорову приказал спать рядом. Это с одной стороны очень неудобно, потому что, знаете, я думал, ну, иногда ночью… Тут, говорят, есть такие кафэ ночные… Я для того и не поселился в санаторий… И потом… Вы знаете… Конечно, Сидоров преданный чекист. Он мне самим Менжинским рекомендован… Он даже при особе Дзержинского состоял… А только я ложусь вчера спать и думаю: «А вдруг этот самый Сидоров тоже Белая Свитка?..» Что вы думаете? Глупая мысль? Может быть, не такая уж глупая… Ведь это у русских как болезнь… Был себе человек верным коммунистом, давил белогвардейцев, как клопов на стенке, а потом, здравствуйте, пожалуйста, хватает вас за горло… Очень даже просто.
– Вы боитесь? – криво усмехаясь, сказал Бахолдин…
– Ну, нет… Белогвардеец бы сказал: Бог не выдаст. А я скажу: дьявол не выдаст…
– Вы что же, в дьявола верите?
Пац справился с собою и успокоился. Он сел в кресло, где раньше сидел у окна Бахолдин. Бахолдин, одетый, лег на кровать на спину и заложил обе руки за голову.
– Было бы забавно доложить в Реввоенсовете, что товарищ Полозов уверовал в дьявола.
– А вот послушайте… Я вам расскажу одну историю.
– Рассказывайте. Хотя мне, по совести сказать, нет дела ни до Бога, ни до дьявола. Я и без них отвратительно себя чувствую.
– Вы знаете, что, когда я был студентом, я был сослан в административном порядке на север Сибири?.. В Нарымский край.
– Который, кстати сказать, и теперь не пустует, – вставил с невольной иронией Бахолдин.
Пац не обратил внимания на его слова и продолжал:
– Ну, знаете, дело было молодое и был я ужасно какой любопытный. Самоедский язык изучать стал. Интернационал по-самоедски перевел. Быт их наблюдал, хотел даже книгу об этом писать. Очень меня тогда шаманы их интересовали. Вот, думаю, дикий какой народ, в духов верит и с духами общается. Много я их расспрашивал об этом. А они мне говорят: «Вот, погоди, шаман комлать будет, тогда увидишь такое, что страшно станет…» Зима, знаете, полярная, скука отчаянная, со скуки чего не надумаешь. Приходят ко мне знакомые самоеды и говорят: «У старшины дочь больна, шамана позвали. Хочешь поглядеть, как комлать будет? Только не испугайся. Дело опасное». Ну, я-таки пошел. Юрта, или чум по-тамошнему, у старшины большой, из оленьих шкур сложен. Пахнет мехом и еще углями пахнет. Посередине на железном листе печка горит. Дым тянет кверху. На самом верху отверстие в чуме, – крышкой закрыто тяжелой, двум человекам не поднять, – для тепла. Человек пять самоедов сидит, запах от них тяжелый: скверно от самоеда пахнет. Больная на постели под песцовым одеялом лежит. Знаете, прямо из кинематографа сцена. Тут колдовства ждут и тут же я, ссыльный, политический, студент, материалист, ни во что не верящий. Шаман уже пришел. Тощий. Живота совсем нет. Они ведь постятся, шаманы эти самые. В шкуры рваные одет. Бубен в руках. Переговаривается со старшиной.
«Что счастье человеку? – говорит. – Много оленей – счастье человеку… Красивая девка – счастье человеку… Ром пить – счастье человеку… Духи в тундре злые. Надо злых духов просить. Злому духу что? Придет – на оленей мор нагонит. Девка больная лежит. Не веселит, не греет ром… Помрет твоя девка!» – И замолчал шаман.
«Комлать будешь? – спрашивает его старшина. – Шестьдесят оленей дашь, буду комлать».
Старшина покрутил головою. Жалко ему показалось так много давать. И дочку жалко. Любимая-таки дочка была.
«Много», – сказал старшина. «Умрет девка-то», – сказал шаман. «Ну, ладно. Бери двадцать».
Поладили. Стал шаман пояс с железными плитками навязывать, а самоед, что привел меня, объясняет: «Боится железа дух. Бубна боится дух. Ух! С духом надо умеючи обходиться. Его обвести надо…»
Обрядился, наконец, шаман. Лисьи хвосты висят на нем, побрякушки, бубенцы звякают, лицо страшное, напряженное, и сквозь кирпичную бронзу морозного загара светятся в лице его тоска и страх. Будто, знаете, до смерти чего боится человек, а все-таки идет навстречу. Взял он кнут, стал ходить по кругу, кнутом щелкает, непонятные слова говорит. Я гляжу: балаган, да и только… А всмотрюсь в лица и думаю: балаган-то балаган, а только есть что-то и кроме балагана. У всех лица стали серьезные. Про шамана и говорить нечего. Он-таки весь дрожащий стал, и по лицу крупные капли пота текут. Шаман ходит, травы сухие в костер-печку бросает и от того по чуму стала удушливая вонь. Глаза ест. Брянчат позвоночки на поясе, гудит бубен, воет шаман истошным голосом, точно буря в тундре. Пар от него идет, так старается человек. В чуме стала духота такая, что дышать нечем. И вдруг… Вы знаете, если бы не сам видел, так и не поверил бы… Вдруг точно гул какой сверху донесся, снаружи юрты. Ближе и ближе. Словно поезд гудит по рельсам… И так, знаете, тяжелая крышка легко откинулась и стало видно черное небо и звезды. Шум стал под потолком, будто там кто-то быстро по кругу носится. Но никого не было. Шаман выкрикнул что-то, а ему оттуда сверху ответ, другим голосом, и еще, и еще. Самоеды легли на землю. Морды в ковры уткнули. Не дышут. Я смотрю, знаете, изучаю. Что за чертовщина? Что он, чревовещатель, что ли? Так нет… Такого шума животом не сделаешь. Да и не похоже на это. Так, понимаете, с пару минут продолжалось. Потом стихло. Шаман полумертвый лежит на коврах. Вот, видите… Дьявола нет, а все-таки что-то есть такое, что и не снилось нашему Пролеткульту.
– Что же больная выздоровела? – с неожиданным интересом быстро спросил Бахолдин и сел на постели.
– Представьте, да… А у ней, по моему определению, был рак желудка в последней, безнадежной степени.
– Вас послушать, в нечистую силу уверуешь, – хмуро сказал Бахолдин.
Пац весело расхохотался животным здоровым смехом.
– Знаете, Сергей Михайлович, мне очень нехорошо. Вы меня волнуете. Мне волноваться вредно… Мне даже кажется, что я умираю, – с раздражением сказал Бахолдин.
– А умирать-таки не хочется? – все так же весело бросил Пац.
Бахолдин посмотрел на него печальными глазами.
– Я бы теперь, кажется, и шамана позвал. И ему поверил бы.
– А вот вы и вообразите себя этаким средневековым человеком, – хихикнул Пац. – В старые времена на этот случай особенные заклинания были. Ну, в современности можно и без заклинаний. Вы крикните, когда плохо станет, три раза: дьявол, возьми мою дочь и отдай мне жизнь… Смотришь, и откупитесь не хуже любого Фауста.
Бахолдин чуть слышно сказал:
– Оставьте меня. Мне не до шуток. Мне очень плохо.
– Я уже вижу, я вас утомил. Ну, до свидания… А про дьявола-то не забудьте. Хе-хе-хе.
Толстая фигурка Паца с пиджаком, вздернутым над жирными ляжками, мелькнула в дверях, и в комнате сразу наступила тишина.
9
Бахолдин лежал не шевелясь.
Он сполз с подушки и теперь лежал плоско, всеми косточками, всеми уголками кожи ощущая покой и отдых.
«Вот так же плоско, – думал он, – я буду лежать в гробу… Потом начну гнить. Буду ли я чувствовать, что я разлагаюсь? И какое это будет ощущение?»
Он дышал так тихо, что ему казалось порою, что он уже совсем не дышит.
За окном, в курзале парка, заиграла музыка. Шарканье ног по панели усилилось. С улицы доходили голоса. Этот уличный шум и музыка подчеркивали ощущение тишины и покоя в комнате, и Бахолдин стал чувствовать облегчение. Он потянулся, стараясь задремать.
Вдруг странные, стрекочущие, экзотические, азиатские звуки беспокойно понеслись от оркестра. Они точно разбудили Бахолдина, заставив его прислушаться. Потом…
Было то сном или явью?
Плавный, торжественный, красивый, слишком знакомый напев внезапно вырвался из оркестра и с грозною силою наполнил комнату. Бахолдин невольно спустил ноги и сел на постели.
«Боже, Царя храни, – неслось из оркестра. – Сильный, державный, царствуй на славу, на славу нам…»
Где, когда в первый раз услышал эти волнующие, поднимающие Душу ноты Бахолдин? Ему было лет восемь. Он с отцом и матерью, со старою тетею и гувернанткой сидел в ложе Большого театра. Вдруг все встали. Взвился занавес. Маленький Алеша Бахолдин увидал, что вся громадная сцена была полна людьми. Солистки и солисты, певцы и певицы, женские и мужские хоры в блистающих русских костюмах, в цветных сарафанах и кокошниках наполняли сцену. И тогда-то полились эти прекрасные звуки. Был Царский «табельный» день в старой Императорской России. Было празднично, тепло и уютно, и властным призывом гремел Русский народный гимн.
В окно, сквозь сиреневые кусты, продолжали входить мощные голоса инструментов:
«Царствуй, на страх врагам…»
В последний раз Бахолдин слышал гимн лет десять тому назад. Была зима. Замерзшее поле с угловатыми скользкими комьями земли было припорошено снегом. Серые квадраты резервных колонн полков стояли под печальным зимним небом. Тучи нависли низко. Припархивал редкий снежок. В солдатских рядах уже ощущалась небрежность усталости. Неоднообразно были надеты грязные серые папахи. Кое-кто в рядах был укручен башлыком. Не на всех ружьях были погонные ремни, кое-где висели мокрые, прокисшие веревки. На ногах вместо сапог были башмаки с обмотками. Бахолдин был на фланге, на мохнатой лошади, присланной из драгунского полка. Тогда эти мощные звуки сменили печальное завывание труб армейского похода.
Бахолдин ехал сзади Государя. Он видел его спину, и была тогда в этой чуть согнутой спине, под шинелью солдатского сукна без складок, какая-то печаль обреченности. Бахолдин уже знал тогда о заговоре и сам связывал нити между подымавшим мятежную голову Петроградом и еще верной Государю Ставкой.
С тех пор он больше не слыхал Русского гимна. России не стало. Гимна нигде не смели играть. Даже, говорят, и у «белых». Никто и нигде не мог возбуждать чувства:
– славы нам,
– страха врагам…
Не стало ни Бога, ни Царя… Пропала тогда и русская слава, сгинул и страх врагов. Сгибла сама Россия.
Кто же теперь посмел из тьмы небытия вырвать эти звуки, – звуки мощи и силы былой Императорской России? Или это приснилось? Или это дьявольское наваждение, подобное тому шуму невидимых крыльев в самоедском чуме, когда прилетели туда духи, вызванные шаманом?
Последние торжественные звуки замирали вдали и их снова перебивали стрекочущие звуки экзотической, азиатской музыки. Бахолдин сильно надавил на кнопку электрического звонка. В дверь сейчас же постучали. Дежурная девушка вошла в комнату и остановилась, вопросительно глядя на гостя..
– Фрейлен, – сказал Бахолдин, трясущейся рукой доставая серебряные монеты. – Вот вам две… нет, три марки… Бегите скорее, принесите мне программу того, что играет оркестр, и узнайте, какой номер играли сейчас… сию минуту.
Девушка ушла, а Бахолдин стал ходить взад и вперед. Он спотыкался о ковер. У него кружилась голова. Сердце бурно колотилось. Кто смел вызвать эти призраки? Что умерло, то умерло. Императорская Россия не встанет никогда. Вечно, вечно будет союз советских социалистических республик с суками вместо женщин, с алиментами вместо детей, с беспризорными, с комсомольцами, рабфаковцами и шкрабами вместо учеников и учителей и с тревожным Интернационалом вместо плавного Русского гимна… Кто смел там играть?.. Чего смотрит Пац?.. О чем думают Руфь Фишер и Клара Цеткин?.. Конечно, это приснилось.
Он ждал. Ему казалось, что девушка ушла давно. Между тем не прошло и двух минут, как она постучала вновь.
– Herein.
Горничная подала ему свежий Badeblatt.
– Ну?.. Какой номер?
Она показала пальцем место на программе и сказала: «Шестой». Потом протянула ему сдачу.
– Возьмите это себе… Это вам…
– Как, все?.. Тут две марки восемьдесят пфеннигов. Программа стоит двадцать пфеннигов.
– Все, все вам… – Бахолдин торопился… – Да, еще. Дайте мне чего-нибудь поесть…
– Прикажете кофе?
– Да, кофе.
– И шлаг-зане?.. Может быть, масла с хлебом?.. Сухарей?
– Да… да… Скорее… Он читал программу.
«Nachmittags 4 Uhr im Kurhaus: Konzert des Kurorchesters. Leitung: Musikdirektor Willy Naue»[4].
Шестой, предпоследний номер:
«C.Machts: Tscherkessischer Zapfenstreich» – черкесская заря. Вечерняя заря русских черкесов… Русских?.. Да, Русских… Разве они все, эти доблестные Султан-Гиреи, лихие Улагаи, все эти мужественные люди с благородным характером не были русскими, верными слугами своего Государя?
Бахолдин смотрел дальше программу: «P. Tschaikowsky: Andante cantabile a.d. Streichguartett D-dur op. 11».
«Чайковский?.. Русское искусство, русский гимн живы? Они, загнанные в подполье, они, забитые жидами и хамами, смененные джаз-бандами негров и пролетарской музыкой, они все еще живут здесь?.. Тоже попали в эмиграцию. Что же выходит? Он, Бахолдин, умрет… И Пац умрет, или, может быть, его придушит где-нибудь Белая Свитка. А они не умрут. Россия не умрет.
Они вечны.
Или правилен тот девиз, что он с негодованием увидел однажды на первой странице подпольного белогвардейского журнала, подброшенного кем-то в его комиссариат: «Коммунизм умрет – Россия не умрет?..» Журнал назывался «Русская Правда»… Значит, есть Русская правда?.. Не все коммунистическая ложь?
Ему стало холодно. Горячий кофе с пышно взбитыми нежными сливками не мог подкрепить и согреть его. Его трясла лихорадка.
10
Когда зазвонили в гонг к ужину, в семь часов, Бахолдин нахлобучил мягкую старую панаму и вышел из санатория. Оживление ужина в санатории ему казалось невыносимым.
«Надо исполнять приказ доктора. Гулять тихими шагами… и не в гору». Сейчас же, только перейти через улицу, была железная калитка. За нею вход в парк. В парке было пусто. Во всех пансионах ужин был в семь часов, и все курортные гости сидели по домам за общими столами и за отдельными круглыми столиками пансионов и гостиниц. На улице пахло овсяным супом и пригорелым маргарином.
Бахолдин медленно спустился по усыпанной гравием дорожке в главную аллею и сел на скамейке.
Тут было тихо, спокойно и пустынно. Тело приятно уместилось в изгибе белой широкой скамьи. Напротив, на лугу, в зеленых волнах лежала молодая скошенная трава и в самой смерти своей благоухала сладко и нежно. Вечернее солнце освещало стоявшее рядом со скамьей железное дерево. Коричневые его листья сквозили малиновым огнем. Небо было высокое, прозрачное и легкое, как бывает оно весною. Мягкие облака легли по нему золотыми пушинками. Птицы пели, точно молились, прощаясь с солнцем. Широкая тенистая аллея незаметно спускалась в долину. В ее глубине, в зеленой древесной арке виднелся каменный водоем. В нем золотом бил освещенный солнцем пенистый фонтан целительного Шпруделя. Редкие прохожие, любители тишины и уединения или зашедшие далеко на прогулке и опоздавшие к ужину, двигались в сквозных аллеях.
Бахолдин любовался красивым подбором кустов и деревьев и переливами зеленого цвета в их группах. На бледной, томной зелени берез с их молодою листвою темными пирамидами выделялись стройные елки. Аллеи столетних лип упирались в круглую площадку, обсаженную двумя рядами каштанов. Там красиво чеканился серебристый тополь среди темных дубов, там акация обвесилась сережками душистых гроздьев своих восковых цветов. Обширный зеленый луг с каждой стороны имел зеленую прелесть разнородных и разнопородных деревьев и кустов, и зелень эта была бесконечных тонов и оттенков.
Сзади, из города, временами доносились гудки автомобилей и веселая музыка квартета, игравшего в модном Tennis-Cafe. Впереди были тишина и темнеющие просторы вдаль уходящих аллей.
«Вот это все, а не праздные разговоры с этим Пацем, мне нужно, – думал Бахолдин. – Тут в природе ничто не взволнует. Если бы был действительно рай, в нем был бы человек и не было бы людей. Мы называем наше государство «советским раем». А у нас слишком много людей согнано на очень малом пространстве».
Бахолдин вспомнил взвихренную, мятущуюся, точно покрытую тысячью людских смерчей Москву и зябко поежился. Там точно кто гнал бичем людей, заставляя их всех суетиться и нестись куда-то. Заседания, комиссии, митинги, сообщения, отчеты, дискуссии, демонстрации, а в промежутке дикие кутежи, неистовое пьянство и разврат… Стыд ушел из Москвы. Голые или почти голые девицы на улицах, смесь голых мужчин и женщин на народных купаньях, точно хвастовство тем, чего должно было стыдиться. То притуплённое, то, напротив, возбужденное чувство страсти, намазанные лица машинисток, стенотиписток и секретарш, женщины везде, даже в военных академиях, их особый, то волнующий, то противный запах, смесь приторных плохих духов и острого запаха пота и пудры, постоянная напряженность ума, – все это создавало повышенную чувствительность. Не жили там, а прожигали жизнь. Умирали сорока-пятидесяти лет. В шестьдесят лет считались стариками…
«А тут, – подумал Бахолдин, – моему доктору за семьдесят, а какой молодец. Он и не думает о смерти. Президенту Гинденбургу все восемьдесят, а как правит… Нет… Поживу и я… Надо только успокоиться… Не волноваться… Не думать…»
К нему приближался по аллее высокий видный старик. Загорелое темное лицо поросло красивой, седой, холеной бородкой. Его одежда – старенький пиджак и потертые брюки – была аккуратно вычищена и разглажена, и во всей его осанке были те особенные щеголеватость и подтянутость, которые и штатскому костюму придают особый, не штатский вид. Какая-то маленькая розетка, – Бахолдин не разглядел, какая, – была в левом лацкане пиджака. Старик покосился на Бахолдина, остановился, оглянулся еще раз, повернулся назад, прошел мимо.
Это не понравилось Бахолдину, и он неловко задвигался на скамейке.
Между тем старик внимательно вгляделся в Бахолдина и наконец, решительно подошел к нему и, приподнимая котелок, сказал:
– Если не ошибаюсь, Бахолдин?
Он сказал по-русски. Бахолдину следовало бы притвориться непонимающим, но он не успел подумать об этом и по-русски же хмуро ответил:
– Бахолдин… Чем могу служить?..
Старик раскрыл объятия и заключил в них Бахолдина…
– Боже мой! – воскликнул он. – Вот удивительная встреча! Да мы лет сорок не видались. А вот узнал. По твоей гордой уверенной складке у подбородка… А ты не узнаешь?.. Ядринцев… Сева Ядринцев – фланговый кадет, а потом ротный жалонер. Неужели Севку Ядринцева, жалонера и запевалу забыл?
Усевшись на скамейку рядом с Бахолдиным и обнимая его за талию, Ядринцев верным стариковским тенорком напел:
Как приехали два брата Из деревни в Пинтербург…– Помнишь… Прямо Божие чудо, что я тебя здесь встретил. Мы с тобой как бы свояками не стали. Мой Володька совсем без ума от твоей дочери Светланы, такие сумасшедшие письма мне пишет…
– Где она?.. Светлана?
– Та-та-та… Болван я, болван. Может быть, и говорить тебе этого не следовало. Этакая я скотина, не догадался, что они, и графиня Тамара Дмитриевна и Светланочка, живут под девичьей фамилией Сохоцких… Я думал потому, что в Польше так удобнее, чтобы не русское имя. А вы что же?.. Разъехались? – вдруг смутился старик.
– Тамара Дмитриевна с дочерью бежали от меня.
– Вот как… Володя мне про это ничего не писал. Они ему ничего не говорили…
– Они не говорили, почему ушли от меня? – волнуясь внутренним волнением, спросил Бахолдин. Помимо воли Ядринцев был приятен ему воспоминаниями того детства, когда честолюбивые мечты его не шли дальше того, чтобы быть вице-унтер-офицером в роте, и когда он понимал чувства товарищества.
– Нет… Ничего не говорили… А ты почему здесь? Болен? – деликатно переменил разговор Ядринцев.
– Да, я очень болен. Сердце совсем плохо.
– Ничего, брат. Здешние воды чудеса творят. Тут Бог излил свое милосердие на людей. Ты ходить-то можешь?
– Немного, да.
– Пойдем, я тебе покажу кое-что, и ты поймешь, что вся твоя болезнь – пустяки.
11
Они пошли тихими шагами по широкой аллее под гору. Опять Ядринцев «взял ногу» и напел с лихим былым шиком кадетского запевалы:
Рано утром енералы В липартаменты спешат. Сам он красный, с заду ясный. И наплечники горят.– Да, брат, вот мы с тобой и сами стали генералами, а только ни «липартаментов» у нас нет, ни спешить нам некуда… И наплечников давно нет… А помнишь?.. Однокашники ведь мы с тобой, однокорытники… Помнишь, как в сумерки зимнего дня выстраивался, бывало, наш «старший возраст» в воротах корпуса и Кольдевин… Ты Кольдевина-то, ротного, помнишь?
– Помню.
– Кольдевин командовал: «Ряды вздвой. Ружья воль-но. Шагом… Марш…» А гвардейские барабанщики и флейтисты ударят «козу»… Ах, тогда «коза» нам казалась слаще оперы. Всего триста шагов и за маленьким сквером тускло освещенный громадный манеж. Как все казалось славно, уютно и хорошо! Да… Точно вчера все было, а в сущности как давно. Мы разошлись с тобой после корпуса. И никогда потом не встречались. На войне слыхал я как-то, что ты в штабе, где-то высоко… Потом еще раз слыхал, будто большевики-солдаты тебя в Минске расстреляли.
– Это моего младшего брата, – глухо сказал Бахолдин. – А как ты сюда попал?
– Нас не спрашивают, как попал, а спрашивают, какой эвакуации.
– Ну, какой же?
– Я – Новороссийской… В Крым меня не взяли. А в добровольцах лихо поработал. Я этим дьяволам под Царицыным немало наложил… Да, что тут долго разговаривать. Чудом спасся, чудом выжил, чудом живу. Все милосердием Божиим.
Они перешли по широкому мосту через мирно струящую мутные волны речку. За рекою был как бы обширный двор, образуемый низкими тяжелыми каменными зданиями ванн. Посередине этого двора возвышался высокий и тяжелый, из дикого камня сооруженный водоем. Грубо обтесанные, под статуи времен Галльских войн Юлия Цезаря и первых императоров барельефы поддерживали края. В водоеме бил пенистый фонтан. И от него в воздухе разносилось влажное тепло.
– Смотри и читай, – сказал Ядринцев, подводя Бахолдина к водоему. – Читай и ты поймешь, что твое сердце в надежных руках, что тебя ждет исцеление.
Грубо произнося по-немецки, Ядринцев прочел высеченную старинными немецкими буквами надпись по краю бассейна:
– Auf Gottes Geheib, aus der Tiefe geboren der lebenden Leiden zu lindern erkoren…[5] Здесь, как и везде, Бог. С Его помощью твоя болезнь пройдет… Ты видишь здесь Его особенное милосердие.
– Ты так говоришь о Боге, точно ты Его сам видел, – сказал Бахолдин с легкой иронией.
– Мы еще в корпусе у батюшки Середонина учили: «Бога нигде же виде никто же, на Него же невозможно взирати…» Бога никто не видел, ибо Он везде. Посмотри кругом. Бьет этот фонтан. Это Бог. Он тут, подле нас. Он слышит наши слова. Он знает наши мысли…
Ядринцев повел Бахолдина назад, к парку. Остановился у моста, возле кустов сирени и жасмина.
– Чувствуешь, как пахнет сирень? Это Бог насадил ее нам на радость. Слышишь, птица пропела короткую песню? Это она молитву вознесла к Творцу неба и земли…
Прошли за мост, перешли круглую площадку, обсаженную тополями, и вышли на открытое место.
Из города несся мерный печальный перезвон. Над курзалом возвышалась в зеленых лесах гора Johannisberg, за нею пламенело небо. Солнце садилось.
– На колокольне бьют Angelus, – сказал Ядринцев. – День отходит в ночь. Когда-то при звуках этого звона все останавливались, складывали руки и молились Творцу. Молились в поле, окончив трудовой день, молились в хате, готовя ужин для главы семьи, молились в городе. На минуту мысль возносилась к Богу… Теперь этого нет… Звенит джаз-банд и рычат, носясь, автомобили… Материалисты изгнали Бога. Они думают, что все это само образовалось, по каким-то химическим, им известным законам. Невежды они. Те, что стояли, молитвенно сложив руки, и слушали Angelus, были мудрецы. Мир идет не вперед, но назад. Те люди знали тихое счастье молитвы. Теперешние несчастны в своей гордыне и зависти.
– Тебя послушать… Совсем проповедник.
– Я не проповедник, а человек, знающий Бога, испытавший на себе Его милосердие, видавший чудеса.
– Ты, действительно, видел чудеса?..
– Да, милый мой, я видел чудеса и немало… Да вот тебе… После развала фронта, я с семьей очутился в Кисловодске. Там набилось генералов и этого самого буржуя несть числа. Пришли большевики. Начались, как водится, выемки, расстрелы. Раз ночью будят. Стук в дверь: пришли с обыском. Солдаты и с ними стройный, молодцеватый, сразу видно офицер, молодой человек. Конечно, без погон. «Вы, – говорит, – Ядринцев?» – «Ядринцев», – говорю я… – «Генерал?» – «Генерал». – «Придется вас побеспокоить. Обыск сделать. Насчет оружия и переписки». Им, чертям полосатым, все тогда казалось подозрительным. Жена в халатике села в кресле в углу, я присел на постель, закурил, взял книгу.
«Делайте, – говорю, – что вам приказано».
«Товарищи, – говорит офицер, – вы осматривайте ту комнату, а я буду смотреть здесь».
Сразу взял он со столика жены бювар. А в том бюваре было письмо моей жены, написанное Варваре Михайловне Дуварской, моей тетке. Ждало оказии для отправки.
«Это, – говорит, – что такое?»
Я говорю: «Сами видите, письмо».
«Вы знакомы с Варварой Михайловной Дуварской?»
«Да».
«Она очень богатая женщина?»
«Да».
«У ней был лазарет в Москве?»
«Да, офицерский».
«Кем она вам приходится?»
«Теткой».
«Я лежал в этом лазарете. Я видел много добра от вашей тетки. Я не буду делать у вас обыска. Но вам надо уходить. Сюда могут прийти другие… Товарищи, – крикнул он красноармейцам, – нам здесь нечего делать. Идемте дальше…»
Ядринцев дружески взял Бахолдина под руку.
– Ну, разве не чудо?
Бахолдин промолчал. Они тихо поднимались к курзалу.
– Потом стал я собираться бежать к добровольцам. А уже знали мы, что в Екатеринодаре Добровольческая армия Деникина и на Дону спокойно. Добыл я себе паспорт на имя купца, сбрил бороду и усы и тронулся в путь. Благополучно добрался до станции Минеральные Воды, там мне надо было доехать до станции Овечки, а оттуда уж были люди, которые должны были лошадьми доставить меня за фронт. На станции Минеральные Воды – осмотр документов. Гляжу: одних пропускают, других отбирают на площадку. И уже человек шесть отобрали. Дошли до меня. «Ваш документ?» Посмотрели. Берут мои руки, смотрят. «Пожалуйте на площадку». Я было, протестовать. «Не задерживайте, – говорю, – товарищи, сейчас поезд уйдет… Я по делу еду…» – «Много не разговаривать, – говорят мне. – Может, вам даже и никакого поезда вовсе не потребуется. Пожалуйте. Там разберут». Окружили нас тут и повели через пути к станции. И вдруг со станции из буфета вываливается человек десять красноармейцев. Все пьяные. «Товарищи!» – кричат. – Что же вы не идете? У нас тут гулянка. Вина припасли вдоволь… И барышни пришли…»
Караульные взялись разговаривать, расспрашивать. Я гляжу: сзади меня никого… А тут поезд товарный надвигается тихо так, – цык, цык – стучит колесами по стыкам рельс, накатывает ко мне площадкой. Я схватился за поручни… В поезд! Перешел площадку и сел на ступеньки. Сижу. Катит поезд на Пятигорск. Ускоряет ход… Разве не чудо?..
Бахолдин опять ничего не сказал. Он тяжело дышал и остановился.
– Тебе трудно идти в гору, сердяга… Ничего. И я, как приехал сюда, тоже до музыки дойти не мог, а теперь на самый Johannisberg карабкаюсь. Вот оно воды-то какие.
Бахолдин слабым голосом сказал:
– Нет, пойдем уж. Тут недалеко. Пойдем ко мне.
Пошли. Некоторое время молчали. Потом опять заговорил Ядринцев. Он был так рад встречи со старым корпусным товарищем, что не видел в Бахолдине старого рыхлого человека с бритыми щеками и стрижеными усами, но видел стройного юношу, вице-унтер-офицера, товарища его детских игр. Ему хорошо было с ним. Хотелось излить ему радость выздоровления, рассказать о сыне, о жене, о возможном скором браке его Володьки с дочерью Бахолдина Светланой.
«Ну, разошлись они, – думал он. – Мало ли почему. Может быть, и не он виноват. Он вот, старенький стал, больной, слабый, а про Тамару Дмитриевну Володя пишет: красавица, молодая, свежая, совсем старшая сестра своей дочери. Может быть, она сама его бросила. Скучно ей стало… Мало ли что на свете бывает»…
Смешанное чувство любви и жалости к старому товарищу залило его сердце сладким теплом.
12
Как только Бахолдин очутился в своей комнате, он почувствовал себя очень плохо. Сердце мучительно сжималось, и едкая тошнота подступала к горлу. Голова болела и кружилась. Он как-то сразу ослабел. С трудом, напрягаясь до темноты в глазах, он закрыл окно и ставни и задернул занавески. Уличный шум его раздражал. Мимо санатория публика шла на музыку. Когда закрывал окно, услышал, что оркестр играет марш.
Бахолдин зажег под потолком одну лампочку. Когда все было закрыто, в комнате наступила тишина. Уличные шумы больше не проникали в нее. Только было чуть слышно, как в приемной, через коридор, секретарша щелкала на машинке, да внизу, в людской, горничные, в два голоса, пели молитву. Эти звуки тоже скоро затихли.
Бахолдин снял пиджак и жилет. Он с отвращением посмотрел на аккуратно приготовленную, с откинутым чистым одеялом постель. Вчерашняя бессонная вспомнилась ему ночь. Нет… Он в постель не ляжет. Он взял подушку и устроился на кушетке.
Только лег, его стало тошнить. Рвоты не было, но его так тянуло, что, казалось, все внутренности вот-вот вывернутся на изнанку. Лицо налилось кровью, жилы на шее вздулись, лоб покрылся холодными каплями пота. Бахолдин сидел на кушетке, склонившись над ведром, и только липкая слюна шла из его перекошенного рта. Так продолжалось долго. Когда тошнота прекратилась, он откинулся в полном изнеможении на подушку, и тотчас сильный озноб охватил все его тело. Ноги тряслись. Хотел позвать кого-нибудь, позвонить, но голоса не было, не было и сил дотянуться до кнопки звонка.
Бахолдин стащил с постели одеяло и пуховик и навалил на себя. Озноб не прекращался, но ноги перестали дрожать. Он лежал теперь неподвижно, на спине, и чувствовал, как ледяной холод охватывает его конечности, ползет по телу, подходит к голове и от него цепенеет мозг. Похолодел и стал твердым, как кость, живот. Когда захолодеет сердце, наступит конец.
Бахолдин открыл глаза. В странной полупрозрачной тьме потонула комната. Он видел кушетку и свои ноги. На них белым пузырем вздымался пуховик, маленькое освещенное пространство бобрикового рыжего ковра выделялось кругом кушетки. Дальше чуть намечался край постели, смутно и печально блистало зеркало шкапа с отраженной лампочкой и был виден белый прибор умывальника. Дальше все сливалось во мраке. Бахолдину казалось, что этот мрак медленно надвигается, наплывает и давит его… Скоро все сольется в вечном черном покое.
Озноб прекратился, но тело стыло в холоде. Ничто не могло его прогнать. Томительная тишина была кругом. Скучно и зловеще блистала под потолком на изогнутом рожке одинокая лампочка.
Бахолдин глядел на нее, и вдруг, внезапно и ярко, с неожиданной остротой открылись ему пустота и ненужность всей его жизни. Карьера, ордена, академический значок и аксельбанты, предательство и подсиживание своих товарищей, измена Государю, раболепство перед жидами и хамами, лесть толпе и подслуживание «народу», кучке хулиганов и мерзавцев, – все, чем жил он всю свою жизнь, было совсем не то, что надо. Бахолдин с удивившим его самого равнодушием думал теперь обо всем этом. Не нужны были деньги. Не нужен был почет… Не нужны и женщины… К чему они?
Мрак надвигался. Все исчезло в этом мраке. Предметы, образы прошлого, мысли о будущем. Потухли отблески света на никелевых кранах умывальника. Он исчез и слился с коричневым сумраком. Не стало видно зеркального шкапа. В овале света стояла кушетка – последний оплот против тьмы. Сейчас и ее зальет тьмою.
«Стоит ли волноваться, – подумал Бахолдин. – Все так просто. Захватит темнота. Ничего не будет. Ничего и не надо… Ни золота, ни чинов, ни женщин, ни вообще людей. Подохну и конец… Вот Ядринцев верит в чудеса. Бога везде видит… Птица поет – Бог… Дерево стоит – Бог».
Прояснившаяся на мгновение мысль потускнела опять. Так догорающий костер вспыхивает последними порывами пламени. Вспыхнет пламя и упадет, чтобы снова вспыхнуть еще короче.
«Не верю я Ядринцеву. Святоша… Елейный человек… Врет он про чудо и про Бога… Никакого Бога нет… И не может быть… Наука доказала… Ему хочется верить, он и верит… Что такое религия?.. Опиум… сладкий… дурманящий опиум… Священники, пение, золото икон… Гашиш… Гашиш… Нет… просто, – шиш». Бахолдин тяжело вздохнул.
Тьма продолжала надвигаться. Точно замороженные, обледенелые ноги лежали тяжело. Пот на лбу высох. Голова была как во льду. Живот холодный, окаменел. Но мысль еще билась и искала, цепляясь за что-то.
«Ядринцев что?.. чудак… русак… В е р у ю щ и й… Смешно… Такой большой, старый и верующий… Пацу я бы поверил… Пац рассказывал про шамана… Он не шутил…»
Вдруг быстрая мысль яркой молнией прорезала сознание. Как будто снова стало светлее в комнате. Мутно наметились во мраке никелевые краны. Зеркало проявило свою тусклую гладь.
«А ведь самоедка-то поправилась… Рак, говорит, был у ней в желудке в последней степени, а она поправилась… Шаман сказал, кому кланяться надо. Дьявола вызвал. Дьявол помог. Двадцать оленей дали».
Он закрыл на миг и снова открыл глаза. За этот миг мрак надвинулся на него вплотную. Не было видно ни одного предмета в комнате, все потонуло во тьме. Мрак захватил пуховик, лежавший на ногах. Только тяжелые, белые, узловатые руки, лежавшие на животе, были ясно и четко видны.
«Когда смерть рядом, можно призвать и без заклинаний», – прошли в мозгу слова Паца.
Ужас охватил Бахолдина. Он понял, что это конец. Неминуемый, неотразимый, стремительно надвигающийся. Осталось несколько минут жизни… Может быть, несколько секунд. Беззвучно прошептал одними губами:
– Дьявол, дьявол… Возьми мою дочь, верни мне жизнь.
Прислушался. Точно ожидал услышать шум под потолком, подобный хлопанью крыльев и звуку пропеллера летящего вдали аэроплана. Кругом была необычайная, м е р т в а я тишина.
«Обманет, не придет, – крутилось в мозгу. – “Яко ложь есть и отец лжи”, – вдруг всплыли откуда-то забытые слова.
Ужас стал еще сильнее. Бахолдин хотел приподняться и не мог. Он собрал все силы и громко и внятно сказал:
– Дьявол, дьявол, возьми мою дочь, Светлану… Верни мне жизнь.
Мертвая тишина стыла кругом, как ледяная глыба.
Казалось: кругом уже ничего не было. Не было города, не было парка, людей, не было самой комнаты с ее мебелью, с ее обыденными предметами. Все исчезло… Растворилось в прозрачном, коричневом, гнилом мраке.
Тогда закричал Бахолдин во весь голос, так громко, что испуганная дежурная горничная бросилась к дверям его номера:
– Дьявол, дьявол, возьми мою дочь Светлану, верни мне жизнь…
Бахолдин почувствовал, как всю нижнюю часть его тела точно погрузили в кипящий, расплавленный металл. Она загорелась страшным жаром. Раскаленные струйки побежали к ногам. После ледяного холода это было так необычно и страшно. Он еще раз открыл глаза.
Мрак смыкался над его, ставшими тяжелыми, белыми, мраморными и чужими, не его, руками…
13
Горничная стучала в номер и, не добившись ответа, запасным ключом открыла дверь…
По санаторию пошли тревожные шепоты и беготня. Зазвонил телефон, не общий, подле приемной, а секретный, из кабинета доктора. Торопясь, пока не вернулись с музыки гости и никого не было ни в коридоре, ни в приемной, ни в палисаднике, явились два человека в длинных черных сюртуках со светлыми плоскими пуговицами и в фельдшерских передниках, с ручной тележкой в два колеса, с длинными оглоблями с обеих сторон и с холщовой покрышкой. Они быстро вынесли Бахолдина, положили на тележку, накинули холщовую покрышку и повезли по асфальтовой дорожке, а потом по шоссе вниз, за город, к большому многоэтажному зданию городской больницы.
В приличных отелях, гостиницах, пансионах и санаториях нельзя допускать, чтобы умирали гости.
Это производит дурное впечатление на других жильцов. Это портит репутацию заведения.
Часть вторая ДЕТИ
Это был город, где в странном очаровании слилась изящная прелесть средневекового католического латинства с суровым и тяжелым порядком и чистотою германцев и небрежным, широким уютом славянства. Здесь были улицы – ни дать ни взять – провинциального русского города, где без всякого ранжира, вдоль чахлых деревьев бульваров, вытянулись четырехэтажные, трехэтажные и одноэтажные дома, где над вокзалом железной дороги возвышалась строгая своей прямолинейностью башенка, на ней балюстрада, за балюстрадой еще башенка и высокий шпиль флаг-штока, видавшего еще недавно в табельные дни бело-желто-черный русский Романовский флаг. Точно пришла в эту русскую улицу с ее пестрыми нерусскими вывесками «bilardu», «Paris» и с веселым трамваем с прицепным вагончиком какая-нибудь каланча из приволжского Саратова.
В городе была площадь, где в чинной ровности сжались узкие, каких не знает славянский мир, в три-четыре окна по фасаду, четырехэтажные дома с широкими низкими дверями аркой, со старым памятником, окруженным столбами с висящими между ними цепями. Эта площадь явилась из средневекового германского города, где была она рынком, куда по утрам спешили торговцы и торговки. Они ставили на ней свои холщовые навесы и раскладывали зеленые, упругие кочаны капусты, корзины с картофелем, пучки алой моркови в перистой нежной зелени, головки луку и чесноку. Подле тележек мирно лежали громадные, лобастые, умные псы с толстыми лапами в ременной сбруе на шее.
На южной окраине города был парк с серебристыми прудами. Мрамор мостов с конными статуями четко вылеплялся на густой зелени деревьев и кустов. Казалось, то был французский Версаль в его лучшие дни.
В этом городе была немецкая чистота подстриженных цветников и скверов. Там, на высоких пьедесталах, стояли бронзовые статуи, памятники великим людям народа, создавшего этот город, полководцам, писателям и поэтам. Были его улицы и площади подметены. В пыльные, жаркие дни по ним с журчащим шорохом проезжали тяжелые автомобили, поливавшие тысячью мелких струй раскаленные каменные и асфальтовые мостовые.
В жителях этого города была самоуверенная, петушиная пылкость французов, упорство и самонадеянность немцев и благородная мягкость славян. Из тысячи противоречий слагались их нравы. Давали всему городу характер, полный неожиданностей и самых различных возможностей.
Женщины в этом городе были телом прекрасны, как славянки, с льняными или цвета спелой ржи волосами, с голубыми или серыми большими, выпуклыми, блестящими глазами. Но душа у них была легковерная, неглубокая, изменчивая и легкомысленная, как у женщин латинской расы. Были они изящно одеты по последней парижской моде, стрекотали быстро на мягком, звучном и шипящем языке, но под платьем занашивали белье и не слишком охотно мылись, подобно француженкам.
Климат в этом городе тоже был полон противоречий. То по-русски нападет белый снег. Мороз заблестит инеем, хрусталями и алмазами, покрыв деревья и кусты садов и бульваров. Повалит из труб белый дым, завиваясь кудрями. Понесутся по улицам, по первопутку, санки с бубенцами. Дворники, напрягаясь, станут лопатами чистить мостовые, чтобы цари современного мира, автомобили, могли свободно катить по улицам. Под морозным голубым небом широко и румяно улыбается яркая, веселая, точно московская зима. И вдруг насупится небо, покроется темными, низкими тучами, полетят по улицам густые туманы, пойдет дождь, смоет без остатка снег, растопит алмазное очарование инея, и гнилым французским Парижем несет тогда от мокрых улиц и блестящих асфальтов, где, как в реке, отражаются свиные рыла автомобилей.
Этот город испытал военный постой и был занят неприятельскими войсками. Но тогда, когда гибли от своих и чужих солдат деревни, сгорали дотла, стояли с объеденными фруктовыми садами и потоптанными полями, точно по ним прошла всепожирающая саранча, когда гибли помещичьи усадьбы и, после прохода войск, с разбитыми окнами, с бумагой разорванных книг на полу, с осколками разбитой посуды и порванными картинами, казались мертвецами, – города не могла победить и одолеть даже война. Он потускнел, загрязнился, точно завшивел одно время. Потом быстро поправился. Или не хватило солдат, чтобы разойтись по всем его домам и квартирам, или захватчикам совестно было на глазах у людей грабить и уничтожать чужое добро. Сохранились по комнатам квартир картины и ковры, остался электрический орнамент, не была побита посуда, не было растащено платье и белье, не были разорваны книги, не были раскиданы бумаги и письма.
Во время войны и после нее в городе сохранился веками насиженный комфорт.
Так в полной роскоши и неприкосновенности уюта сохранился большой каменный особняк Владека Подбельского, стоявший в глубине двора. Высокие, темноватые комнаты стыли в холодном покое. От мраморных подоконников и резной мраморной внутренней облицовки окон веяло зимой и морозом. Полы были покрыты мягкими, пушистыми коврами и шкурами редких зверей. По стенам висело старинное оружие. Рыцарские доспехи, надетые на манекен, выделялись в углу. Широкая тахта занимала треть большого кабинета. Со стен, из шкапов, глядели темные книги Средневековья, книги колдовских, тайных знаний.
Владек Подбельский, богатый, не скованный делами помещик, посвятил свою жизнь изучению всего таинственного, что когда-либо волновало человечество. Ему было сорок лет.
В обширном кабинете Подбельского, где по темным углам словно чудилось чье-то тайное незримое присутствие, где щелкал порою внезапно пол, где пахло дымом душистых папирос и где совсем не было слышно городского шума, часто бывала русская молодежь, осевшая в этом городе. Здесь говорила она о том, что ее смущало: о судьбах России, о будущем России. Хватались за оккультизм, думали при помощи тайных сил заглянуть в будущее.
Здесь бывала, среди других, и девятнадцатилетная Светлана Бахолдина.
2
Бывать у холостого Владека Подбельского Светлане удалось не сразу и не без борьбы с ее матерью, Тамарой Дмитриевной.
Тамара Дмитриевна прямо из Петербурга попала в этот город, еще взъерошенный войною, тесный и трудный для жизни. Она восстановила старые связи, заменила свой мужнин паспорт на девичий и стала опять графиней Сохоцкой. Она отдала свою дочь в гимназию Святой Ядвиги и семь лет прилежно следила, чтобы дочь ее не забывала ни православной веры, ни русского языка, ни русской истории.
Пока девочка ходила в монументальное, белое, кубической формы здание, с шестью колоннами по фасаду, увенчанными шестью женскими статуями, все шло хорошо, но когда по окончании гимназии она поступила в Политехникум и вкусила свободной жизни студентов и студенток, она как-то вся изменилась, стала нервной, легко возбудимой, разочарованной, капризной, временами озлобленной. Она остригла по моде свои прекрасные, густые, золотистые волосы. Появились карандаши для губ, цветная пудра для лица. Появились тонкие папиросы с золотыми мундштуками. В разговорах с матерью появился покровительственный тон. В нем то и дело звучало: «ты, мама, ничего не понимаешь».
Что особенно заботило и печалило Тамару Дмитриевну, это был рано развившийся в ее дочери скептицизм, равнодушие к религии. Она боялась, что за этим придет и сухой карьеризм, сгубивший отца Светланы.
Тамара Дмитриевна была очень рада, когда в их город приехал старый генерал Ядринцев с сыном Владимиром, и еще более рада, когда заметила, какое сильное впечатление произвела на Владимира Ядринцева Светлана. Мать с удовольствием глядела на начавшееся, нежное, стариной отзывающее ухаживание молодого Ядринцева.
Ближайшей подругой Светланы была Ольга Вонсович, русская, сибирячка по матери, дочь русского поляка, всю жизнь прослужившего в русской армии, в Сибири, и убитого в боях под Варшавой. И Ольга и ее брат Глеб были оба такими русскими, что Тамара Дмитриевна знала, что Светлана с ними не ополячится. Кроме сестры и брата Вонсович, часто бывали со Светланой Стае Замбровский, влюбленный в Ольгу, ярый поляк, и Ляпочка Николаева. Все это была хорошая, неиспорченная молодежь с точки зрения Тамары Дмитриевны. Беда была только в том, что сходились они чаще всего у Подбельского. Что мог им дать, молодым и несложившимся, лепким, как воск, этот пожилой человек? Что он такое? Оккультист… Йог… Быть может – масон… Не дай бог, сатанист… О тайном культе Сатаны в городе поговаривали… Называли имена… Тамара Дмитриевна за работой мало что знала, но слышала о каких-то таинственных сборищах, о ксендзах, лишенных благодати. Среди приводимых в связи с этим имен называли и Подбельского. Тамара Дмитриевна боялась за дочь. Слишком впечатлительна и болезненно-восприимчива была Светлана. Ей так легко было увлечься…
В этот вечерний час, работая иглой, Тамара Дмитриевна как раз думала обо всем этом, когда в дверях появилась Светлана.
Светлана вошла к матери, одетая, чтобы идти в город. Голубая шляпка блеклого сукна, формой похожая на приплюснутый котелок, была надвинута на брови. Короткая юбка почти не покрывала колен. Желто-розовые чулки обтягивали красивые полные икры. Золотистые, вырезные башмачки закрывали только пятку и кончики пальцев. В руках был короткий, толстый, подобный старинному «мольеровскому инструменту» зонтик. В узком, без корсета, точно на голое тело надетом платье, гибкая и стройная, Светлана казалась не то купальщицей на пляже, не то манекеном из большого модного магазина. Она вошла той подрагивающей плечами и бедрами, качающейся походкой, какой заставляют ходить слишком узкое в коленях платье и французские высокие каблуки и какой, подражая моделям, ходили в городе многие девушки.
Светлана сейчас показалась Тамаре Дмитриевне как-то странно чужой и далекой.
Тамара Дмитриевна видела, как красива была в блеске своей двадцатой весны ее дочь, и невольно думала о том, что таким же красивым когда-то был и ее муж, «le beau Baholdine…». Тоже чужой и далекий, весь в своих скрытых помыслах, всегда прекрасный и влекущий…
«Неужели она будет такая же?»
Тамара Дмитриевна даже вздрогнула от этой мысли. Она оторвалась от работы и, щурясь со света лампы в полумрак вечерней комнаты, сказала:
– Ты куда?
– К Подбельскому.
– Мне, Лана, очень не нравится, что ты туда часто ходишь… Холостой… одинокий… без семьи…
– Там будут Вонсовичи… Ляпочка… Стас… Ядринцев. Под покровительством вице-жениха, я думаю, можно.
Светлана села в низкое кресло против матери. Платье поднялось выше колен. Стали видны края шелковой палевого цвета combinaison, подобранные на резинке. Тамара Дмитриевна стыдливо отвела глаза.
«Какие моды!» – подумала она.
Светлана вынула из маленькой кожаной сумочки зеркальце и карандаш и подрисовала алые точки на верхней губе. Потом, закинув ногу на ногу, она закурила папироску. Непринужденная поза, папироска и короткие волосы придавали ей что-то жесткое, мужское.
«Garconne»[6] – подумала Тамара Дмитриевна.
Светлана точно угадала мысли матери. Она затянулась, небрежно, по-мужски, пальчиком с выхоленным розовым ногтем стряхнула пепел, потом притушила папироску о деревянный конец ручки кресла.
– Ну, ты, мама, совсем у меня antedeluvienne[7] – чуть хрипловатым от курения, красивым контральто сказала Светлана. – Она встала. – Я бы, мама, на твоем месте тоже волосы остригла. И красивей, и удобнее. Ни с прической, ни с мытьем нет возни… До свидания, мама.
Тамара Дмитриевна хотела встать и перекрестить дочь. Светлана угадала ее движение.
– К чему это, мама?.. Вздор… Глупости…
Она исчезла за дверью.
3
На низком круглом столе в высоком громадном кабинете Владека Подбельского горит лампа под темно-малиновым шелковым абажуром, накрытым черным кружевом.
Потолок, углы комнаты, лица сидящих на тахте, их тела, – все во мраке. Освещены только руки. По ним можно узнать сидящих. Такие они разные.
В самом углу тахты, на полных, круглых красивых коленях, почти не закрытых платьем, лежат прекрасные, крупные, девичьи руки. Пальцы розовеют к концам, украшенным прозрачным блеском сердоликовых ногтей. Полная белизна скрашена нежным рисунком тонких голубоватых жилок. Эти руки должны быть холодны и сухи при нежной мягкости. Они созданы для поцелуев. Самый взгляд на них будит грешные мысли. На них нет колец. Не нужно. Так классически красивы ровные пальцы. Это руки Светланы.
Рядом – маленькие, тонкие, с узкими пальцами, чуть загорелые руки. От них веет солнечным зноем. Одна ладонь повернута наружу: она мягкая, нежная. Розовым тоном она оттеняет коричневый загар верха другой руки. От объятий этих рук должно дышать медовым, летним теплом… Эти маленькие ручки принадлежат Ольге Вонсович.
Каким контрастом кажутся рядом толстенькие, пухлые ручки с короткими пальцами и с нехолеными ногтями у маленькой полной Ляпочки.
Ляпочка сидит на середине тахты, отделяя Ольгу Вонсович от ее брата Глеба. Руки Глеба приходятся под самым абажуром и от того подернуты красноватым блеском. Они похожи на руки сестры: тонкие, длинные, но гораздо больше и с узловатыми пальцами. Его сосед Стас заложил свои руки в карманы, и на свету видны только их запястья, покрытые веснушками с густыми красно-рыжими волосами.
С другого края тахты, против Светланы, сидит хозяин, Владек Подбельский. Он весь в тени, и в сумраке кабинета со спущенными тяжелыми портьерами едва намечается его длинная, угловатая, тонкая фигура.
Говорит Ольга. Она эти дни служит вместе с Ляпочкой, ради случайного подработка, продавщицей в павильоне на выставке. Волнуясь и сбиваясь, она рассказывает о сегодняшней утренней встрече с большевиком. Настоящим большевиком, из советской республики.
– Я вся еще дрожу, – говорит Ольга красивым, вибрирующим голосом… – Сегодня подходит к нашему киоску какой-то русский. Я сразу узнала по костюму и манерам. Никогда русский в Польше не заговорит на своем языке с незнакомыми. А этот смело сказал: «Пожалуйста, объясните мне, что это такое…» И представился: «Профессор Буковкин…» Мы с Ляпочкой недогадливые, все ему объяснили, дали образчики, мило улыбались, любезно смотрели.
– Parlez pour vous[8], – заметила Ляпочка.
– Спрашиваем, откуда он… «Из Москвы. Еду в Берлин». —
«Ну, как в России? Вы обязаны туда вернуться?» – Он был румяный, откормленный, веселый, улыбающийся, с шутливым видом. Отлично, по моде одет. Тут меня вдруг сразу осенило, что он такое, и от негодования у меня даже в глазах потемнело. «Как же, непременно вернусь. Сейчас я в Берлин… потом в Наугейм… Оттуда домой… Я в научной командировке. У нас теперь все хорошо, новый строй установился твердо, наука идет быстрыми шагами вперед. Жизнь вошла в норму. Народ испытывает счастье подлинной свободы». – «А как же, – воскликнула я, – шестьдесят расстрелянных и тысячи замученных из-за Войкова?» Он засмеялся. «Ну, – сказал он. – Во-первых, только двадцать, а не шестьдесят. Во-вторых, советской власти надо было показать свою силу, чтобы остановить эти безобразные убийства. Если хотите меня спрашивать, я буду вам отвечать. Только не надо запальчивости. Я не хочу говорить вам неприятностей, но поддерживать ваших иллюзий я не буду». – «У вас наверху одни жиды», – выпалила я. «Хе-хе, – усмехнулся он. – Ну, далеко не одни жиды. Крестьяне и интеллигенция тоже участвуют во власти. Вообще большевики эволюционируют». – «Большевики эволюционировать не могут. Впрочем, понятно, что вы так говорите. Вы, верно, боитесь, что за вами следят… Во всяком случае нам рассказывать про эту эволюцию бесплодно. Хороша эволюция! А беспризорные дети?» – «А что ж беспризорные дети?» – спросил он меня. «Да ведь это ужас, – то, что растет у вас в советской республике. Целое поколение аморальных людей, убийц, воров, грабителей, насильников… Что же будет, когда они вырастут?» Он покачал головою. «Они никогда не вырастут», – спокойно сказал он. – «Как не вырастут? Что же они так навеки и останутся детьми?» – «Одни умрут, а других просто уничтожат, когда надо». – «Боже мой, что вы говорите? – воскликнула я. – И так спокойно?» – «Печальная необходимость», – ответил он, пожимая плечами. «Вы готовите войну всему миру и прежде всего нашей милой Польше», – сказала я. «Войны мы не начнем, но защищаться будем с ожесточением… Ваши русские эмигрантские газеты, откуда вы черпаете свою информацию о нас, произвели на меня очень, очень несерьезное впечатление. На деле все в России не так. Мы привыкли, сжились с нашим советским строем и любим его». – «Любите? – воскликнула я. – Любите цареубийц, развратителей детей? Любите палачей? Простите, но вы не русский человек». Он искренно и весело рассмеялся: «Хе-хе-хе… Ну, и пускай не русский. От этого я не меньше доволен жизнью. У нас наука процветает. Я работаю в клинике. Правда, я не могу иметь ни своего кабинета, ни частной практики». – «Какая же это свобода?» – перебила я. «У нас свобода для рабочих. Для буржуазии пока нет свободы. Но зато какой подъем в массах! Сколько пафоса! Какой идеализм!..» Тут я не могла больше выдержать. – Голос Ольги стал напряженным. Ее ручки с тонкими пальчиками нервно двигались. Ладони то раскрывались, показывая розовую мягкость кожи, то сжимались в маленькие, темные кулачки с бронзовым весенним загаром. – Я выскочила из павильона. Я вся тряслась… Не знаю, на кого я была похожа в эту минуту.
– На торговку с Парижского рынка, – вставила Ляпочка.
– Ну уж! – Ручки Ольги разжались и розовые пальчики растопырились. – Скорее на кошку, которую атакует злобный фокс. Так вот… Я подступила к нему. «Идеализм?» – крикнула я. – А что вы сделали с религией? Замученные священники, медленная смерть в заточении патриарха, загубленные дети, поруганные церкви… Это идеализм?..» – «Это все было раньше. Теперь этого нет», – с невозмутимым спокойствием, но уже без шуточек ответил советский профессор. «Раньше?» – наступала я на него. – На днях заточили в тюрьму митрополита. А Соловки?..» – «Соловки? Это что такое? Я не слыхал. Не знаю». Тут, кажется, я уж совсем, как парижская торговка, уперлась кулаками в бедра: «Не знаете? Так вот в Берлине узнаете. Туда из Соловков многие бежали и рассказывают про все прелести вашего советского рая. Там знают, что такое Соловецкий Слон». Тут уж напала на него и молчавшая до сих пор Ляпочка: «Вы посылаете своим представителем к нам, сюда в Польшу, цареубийцу, мерзавца Войкова!»
Пухлые ручки Ляпочки развелись по коленям, подтверждая рассказ Ольги.
– «Войков? – Тут лицо у советчика передернулось и он покраснел. Точно оторопел. Однако тотчас оправился. – Но это талантливейший человек. Кого же он убил?» – «Беззащитную семью». Мне казалось, что я разрыдаюсь. «Какую»? – «Романовых». – «Разве?.. Я не знал». – «Вы, очевидно, многого не знаете…» Тут кто-то подошел к нам и он, уже не кланяясь и не оглядываясь, стал поспешно удаляться. Весь день я не могла успокоиться. Я ничего не могла есть. Мне было душно, мерзко и противно, точно в руках держала какого-то скользкого гада.
Ольга замолчала и, волнуясь, тяжело дышала.
Руки Светланы, до тех пор спокойные, с силою сжались в кулаки. Даже пальцы порозовели от напряжения. Владимир смотрел на них и такие неподходящие к моменту мысли шли ему в голову. Прикоснуться бы к этим розовым пальцам с белыми между косточками впадинками и начать бы считать с ласковой шутливостью: январь, февраль, март, апрель…
Светлана вздохнула. Короткое платье поднялось еще выше, и она красивым движением обеих рук поправила его.
– У меня сегодня на душе почему-то тревожно, – сказала она низким, грудным, точно издалека идущим голосом. – Всю ночь снилась вода. Внезапный разлив реки, повернувшей назад. Вода была такая мутная…
Она замолчала. Все притихли, прижавшись в сумраке к спинке тахты.
– Только подумать, – продолжала Светлана. – Мой отец там… с ними… Я знаю, хотя мама и скрывает. Я помню все… Он им служит… Этим дьяволам… Когда все это кончится?..
Из темноты послышался спокойный, твердый голос. Говорил Глеб:
– У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них…[9]
4
Светлана долго раскуривала папироску. Спичка освещала снизу ее лицо. Глаза были опущены и прикрыты длинными, загнутыми кверху ресницами. Спичка погасла. Светлана затянулась папиросой. Красная точка сверкнула в темноте.
– Никогда они не погибнут… Мы погибнем, а не они, – сказала Светлана. – Когда они зашатаются, тысячи рук из Варшавы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, тысячи красных рук пролетариата протянутся, чтобы поддержать их и помочь им. Я часто думаю о том, что там. Вы читали «Голос из бездны»? Вы читали Мельгуновскую «Че-ка», или записки индуса Курейши, пять лет без вины томившегося в советских тюрьмах?.. Неужели могут существовать на земле такие кошмары? Неужели могут быть такие жестокие люди?.. «Вы говорите: “Мне отмщение”, – сказал Господь. Да ведь Господь-то все это видит и слышит. Ведь Он всеведущий и вездесущий… А Он молчит. Так где же Его милосердие и справедливость?.. Если бы Он был подлинно милосердным, разве мог бы Он вынести весь ужас страданий хотя бы только беспризорных детей?.. Детей, которых Он сам призвал к себе…» Не мешайте детям приходить ко Мне…» Страдания юношей, героев, за Него кладущих свою душу… Стариков… За что замучен красными Эльвенгрен? Как мог Господь допустить страдания и смерть старого князя Павла Долгорукова? Как может допустить Господь везде и всюду, во всем мире торжество злых, гнусных и подлых людей?.. – Светлана вздохнула. – Что же? – продолжала она. – Значит, Бог хочет гибели всего лучшего в людях? Гибели детей?.. Гибели России?.. Хочет… Да… А мы молимся ежедневно: да будет воля Твоя… А Его воля – нас, Россию, погубить… Зачем же я буду молиться Ему?.. Надо тогда молиться другому. Просить того, другого, восстать на Бога и спасти Россию… Помешать Богу погубить Россию.
Светлана сказала это одним духом и без малейшего колебания. Она говорила то, что ее мучило все это время. Противоречие между тем, чему учила мать, говоря о Боге и России, и тем, что было в действительности.
Ольга, Глеб, Лапочка, Ядринцев, даже плотный рыжий Стас притихли от ее слов. Эти слова звучали дерзким и страшным вызовом. Особенно здесь, в этом кабинете, где в старых толстых книгах, стоявших рядами на резных полках за стеклами, казалось, были скованы какие-то тайны, неведомые, опасные силы.
– Мне рассказывали, – бросая в пепельницу под лампой папиросу, начала опять Светлана. Ее лицо, на один миг нагнувшееся к столу, в отсвете красного абажура казалось суровым и гневным.
– Мне рассказывали: там красноармейцы, ночью, улягутся по койкам и под шинелью, тайно, крестятся. Явно не смеют. И такую молитву Бог не принимает… Нет, Бог, должно быть, бессилен. Надо д р у г о м у молиться… Надо молиться дьяволу.
Она снова чиркнула спичку. Ее руки дрожали и огонек не мог сразу найти папиросы.
– Может быть, вы и правы, – холодно и неторопливо сказал Подбельский. – Если Бог не хочет помогать людям, они приходят к мысли искать помощи у Сатаны. Не вы первая это говорите и не вы первая это думаете. В истории человечества, когда люди отчаивались в Боге или когда они видели, что Бог отказывается помочь им, нередко обращались к Сатане.
– И что же? – поворачивая голову в сторону говорившего, спросила Светлана. – Сатана им помогал?
– Как когда… Чаще лгал. Впрочем, иногда и помогал, но дорогою ценой. Ценой преступлений и ужасов.
– Больших ужасов, чем теперь в России, не может быть, – глухо сказала Светлана.
– Об этом есть целая литература, – продолжал Подбельский.
Он встал, подошел к книжному шкапу, не глядя вынул пачку небольших книг и бросил на стол.
– Bibliothegue Chacornac, – сказал он. – В Париже, конечно… Это главное издательство оккультных книг. Сатанизм идет с Запада, он развился рядом с католичеством. Православие тоже знало Сатану, но оно в нем видело просто черта и как-то лучше умело с ним справляться. В православии нет того, так сказать, любопытства к дьяволу, которое присуще католицизму. Католики подошли к Сатане вплотную. У православных отход от Бога превращался в простое равнодушие. Только у католика, где религии присуща страстность, он мог породить сатанизм. Только католики могли создать литургию Сатане, так называемую черную мессу.
– Когда и как это случилось? – спросила Светлана.
– Очень давно. В дни ужасов, подобных тем, которые переживает Россия. В тысячном году было предсказано Светопреставление, кончина мира. В Европе был страшный голод. Все было съедено. Почти не осталось домашних животных. Дичь была истреблена, люди питались древесной корой и травою. А голод все усиливался. Выкапывали из земли трупы и пожирали их.
– Как у нас в 1921 году, – вздохнул Владимир.
– Слабые ели мертвечину. Сильные охотились за живыми людьми. Подстерегали прохожих на больших дорогах и убивали их, чтобы насытиться. Приманивали детей обещанием накормить, а потом душили и поедали их. И это, говорят летописцы, длилось три года, три года, длинных, как три века. К голоду присоединилась чума. Тогда сбылись предвещания Апокалипсиса. «Конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть» прошли по Европе. «Ад следовал за ним, и дана была ему власть умерщвлять мечом и голодом». Ужас жителей был так велик, что погребали еще живых больных вместе с мертвыми.
– Как в советской республике при расстрелах, – заметил опять Владимир.
– Все ждали конца света. Людей охватил трепет страха. Они не спали по ночам. Массовые галлюцинации овладевали народом. Люди отчаялись в Боге. Тогда многие обратились к Сатане, готовые разделить алтари между Богом Добра и Богом Зла. Вот тогда и было положено начало Шабашу, церкви Сатаны, где совершалась литургия, обращенная к дьяволу, и где изрекали проклятия небу, покинувшему в несчастье человеческий род.
– Я их понимаю, – сказала Светлана. – Они были правы в своем отчаянии.
– Черные мессы, – продолжал Подбельский, – совершались во Франции уже во времена Генриха IV. Первые книги об этом относятся к XV веку. В 1440 году был составлен Formicarius немцем Лидером, бенедиктинским монахом. Потом вышли Disguisitiones magicae, сочинение Дель-Рио, и знаменитая книга инквизитора Якова Шпренгера для руководства судьям при изобличении колдовства «Malleus maleficarum» – «Молот ведьм». В практике тогдашних служителей Сатаны много было страшных, диких обрядов… Дьявол всегда любил ступать в область патологии. Тут не обошлось и без евреев. Каббала сродни черной магии. До нас дошло дело Орлеанских Манихеев, открытых в 1022-м году при Роберте Благочестивом и присужденных к сожжению на костре в качестве почитателей демона. Это была своеобразная, полуеврейская, полусатаническая, секта. Они учили, что Бог имеет два лика, светлый и темный. Они отождествляли Сатану с еврейским Богом, творцом материи. Потемки человечества… Человек бродил в этих потемках в поисках света и не находил истинного света.
– Я их понимаю, – повторила Светлана. – Разве теперь мы не в таких же потемках? Не наступило ли и для нас самое ужасное Средневековье? И где теперь этот истинный свет? Все видят, что Россия своими силами никак не может спастись, и все оставляют ее гибнуть. Европе не выгодна настоящая Россия… Особенно тем, кто рядом. Что же получается? Как сильны и могущественны коммунисты! Какая у них организация и дисциплина! Все у них разыгрывается, как в оркестре под дирижерскую палочку. Их могущество сильнее всех национализмов и патриотизмов. Они постепенно отравляют весь мир. Народы Европы не видят, как загнивает их кровь. Выборные этих народов идут к ним в услужение, продают им свои нации, их честь, их благородство оптом и в розницу. За Царские бриллианты, за золото, картины и драгоценности, накопленные Российскими Государями. Не Россия своим горьким опытом спасет мир, а весь мир неминуемо станет коммунистическим… Нас ждет не возрождение России, а гибель Европы. И Бог не хочет и не может помешать этому. При таком положении дел, если Бог оставил Россию, остается обратиться только к дьяволу. Она затянулась несколько раз короткими глубокими затяжками и бросила окурок в пепельницу. – Скажите, Владек, в чем же состояли эти черные мессы. Как там молились Сатане?
5
Подбельский развел руками.
– Простите, Светлана Алексеевна, я затрудняюсь говорить о таких вещах перед барышнями.
– Ну, мы современные, – бросила Ляпочка. – Да еще студентки. Милый Владек, расскажите нам. Мы же не дети.
– Это был, прежде всего, неистовый разврат… Человеческие жертвоприношения… Оскорбления всего святого… Кровь детей… Сладострастие убийства… Ненасытность мучителей. Довольно прочесть историю Жильде-Реца, коннетабля Франции, похитителя детей, истреблявшего их на своих кровавых мессах… Извращение!.. Зверство!.. Нет, сказать «зверство» – значит оскорблять зверей. Или, например, черная месса, совершенная королевой Екатериной Медичи для выздоровления ее сына Карла IX. Это самое настоящее ритуальное убийство ребенка, только совершенное не изуверами евреями, а католиками. Во время этой мессы причастили заранее заготовленной облаткой ребенка, а потом служивший мессу ренегат-священник кинжалом отсек ему голову. Эту голову, истекающую кровью, поставили на черную облатку и принесли на стол, окруженный магическими лампами и курильницами. К столу поднесли больного Карла IX. Тогда совершитель мессы стал заклинать демона ответить на вопросы устами отрубленной головы. И вдруг разомкнулись мертвые губы и странный, будто откуда-то из далекой глубины идущий слабый голос произнес: «Vim patior» – «надо мною совершается насилие». Больной пришел в необычайное возбуждение. Он стал глухо и надрывисто кричать: «Уберите эту голову… уберите эту голову». Его унесли. После, во время болезни и в час своей смерти, он все повторял эти слова. Окружающие, не знавшие ничего о служении Сатане, думали, что его мучает призрак обезглавленного по его приказанию адмирала Колиньи, но его мучала эта ожившая властью Сатаны мертвая голова.
Ольга тяжело вздохнула и прошептала:
– Какие ужасы были в старые времена.
– Вы думаете, только в старые времена человеческий ум тянулся к тайнам ада и смерти? – сказал Владек. – Нет… И тогда, и теперь, и всегда они влекли к себе человеческий разум. В золотой век Людовика XIV, «Короля-Солнца», в век мадригалов и придворной красоты, самые изящные женщины не гнушались самых черных и мрачных обрядов служения Сатане. Процесс волшебницы Вуазея на этот счет раскрыл многое. Оказалось, что черные мессы с убийством детей служились самой мадам Монтеснан, фавориткой короля, боявшейся потерять его любовь. Сохранилось установленное судом описание такой мессы. Мадам Монтеснан, обнаженная, с маскою на лице, легла на престол. На ее груди поставили распятие, а на живот чашу, и на таком живом алтаре стали служить кощунственную мессу. Когда наступил момент освящения даров, к алтарю подошла женщина с ребенком. Служивший мессу священник схватил ребенка и заколол его, собирая кровь в чашу. Этою кровью и облатками потом приобщали присутствующих… Это уже не Средние века, это пышный расцвет Франции.
– Приведший, кстати сказать, к революции, – заметил Глеб.
– И революция не спасла от Сатаны… В 1846 году в Париже служили черную мессу. На эту мессу принесли труп женщины. Над ним посадили живую женщину, усыпленную гипнотическим сном. Во время мессы усыпленная стала кричать: – «Причастите труп!.. Причастите труп…» Труп причастили. Труп поднял руку, потом ногу. Толпа кричала: – «Победа!»
– Что же это было такое? – задыхаясь спросила Ольга.
– Гипноз… Гальванизация… Может быть, просто общая галлюцинация. Кто знает… Важно не то, что это было, а важно, зачем это было.
– Праздное любопытство, – сказал Глеб.
– Нет… Это не праздное любопытство. Это вера в силу и могущество Сатаны. Надежда при его помощи достигнуть того, чего не дает Бог. Люди исходили из тех же побуждений, как сейчас Светлана Алексеевна, которая предлагает молиться Сатане, чтобы он не дал Богу больше мучить и терзать Россию.
– А что же делать, – сказала Светлана, – если в Божьей помощи я изверилась?.. Не верить ни во что не могу. Раз я отчаялась в светлом, тянет к темному. – Ее голос был глух. Она опять курила. Может быть, десятую папиросу за этот вечер. – Когда вся душа перевернута, – продолжала она почти шепотом… – Когда нет спокойного места в сердце… В девятнадцать лет… Вы понимаете? – вдруг воскликнула она громко. – Я не могу больше слышать обо всех этих казнях, расстрелах, арестах, тюрьмах, ссылках и насилиях. За что лишили меня моей России? По какому праву у меня отняли мой Петербург? Слышите? Я хочу его!.. Я хочу вот в такую весеннюю ночь пойти на Набережную и услащать запах тополевой почки от Александровского сада. Кто смеет меня не пустить? Она моя… Россия. Он мой, Петербург…
– Успокойся, Лана, – сказала Ольга.
Маленькая загорелая ручка с длинными узкими пальцами ласково легла на полную руку Светланы.
– Не могу успокоиться, – задыхаясь, сказала Светлана. – Скажите, Владек, а теперь, сейчас… где-нибудь… совершают черные мессы?
– Даже в нашем городе.
– В нашем городе? Кто?.. Где?..
– Некий Пинский.
– Скажите, Владек, кто такой Пинский.
– Нет, не скажу, Светлана Алексеевна. И без того мы зашли слишком далеко. Могу сказать одно. Пинский – страшный человек. О нем говорят, что это «Калиостро двадцатого века». Но это слишком слабо.
– Где он живет?
– Оставим это. Довольно, господа, чертовщины, – сказал Подбельский.
Он встал, подошел к двери и повернул выключатель. Ровный, матовый свет от большого плоского фонаря, вделанного в потолке, мягко разлился по кабинету. Блеснули в углу стальные латы на манекене, на стене выявились призрачные картины большого гобелена и резные полки. Стали видны взволнованные лица гостей, сидевших на тахте.
Владек оглядел молодежь и сказал:
– Алэ, проше пане, поедемы тераз цусь зъесть…
– Не, до Савои, – сказал Стась.
– Цо до мне, то я тылько хербатэ выпиэ, – сказала Ольга.
К ней присоединились и остальные. Владек объявил, что чай он может устроить дома, и стал хлопотать. Вместе со светом куда-то ушли все мрачные призраки и страшные образы черной мессы. Стас ухаживал за Ольгой, Ляпочка трунила над нею.
– Ты посмотри, Ольга, на Стася. Как он старается для тебя. Пальцы обжег. Чем не кавалер?
– Стась настоящий пень, – смеясь, ответила Ольга. Ее милое лицо осветилось ясной, беспечной улыбкой. Короткие, по-мальчишески остриженные волосы не могли уничтожить его нежной, женственной красоты. – Ну как есть пень… – повторила она и приподнялась принять чашку от рослого рыжего Стася.
Светлана как сидела, так и осталась сидеть в углу тахты. Она была все еще во власти своих мыслей. «Надо во что бы то ни стало познакомиться с Пинским».
6
Светлана скоро все разузнала про Пинского. В городе его знали и боялись. Пинский, известный как гипнотизер и оккультист, был уже человек старый. Он жил на окраине города, недалеко от скакового поля. Про Пинского говорили, что он умеет выделять свое астральное тело и направлять его куда угодно, не считаясь ни с временем, ни с пространством: в прошлое, в будущее, в любую часть света. Говорили, что он был всю свою жизнь большой сладострастник и что за ним числится много романов с женщинами самого различного положения в свете.
Слава Пинского началась еще до революции 1905 года. В Петербурге, в Фонарном переулке, было обнаружено страшное преступление. В квартире некоего инженера Гилевича были найдены следы ужасного убийства. В печи остались пепел и куски обгорелого человеческого тела. Другие куски, упакованные в бумагу, были найдены в разных частях города. Голову не могли найти нигде, и потому нельзя было определить, кому принадлежали эти останки. Так как преступление было совершено на квартире Гилевича, а сам Гилевич исчез, явилось подозрение, что Гилевич и стал жертвой преступления. Было странно одно: незадолго до этого убийства Гилевич застраховал свою жизнь в огромной сумме. Петербургская сыскная полиция сбилась с ног, ища убийцу. Никаких следов… По чьему-то совету решили частным образом обратиться к Пинскому. Пинский согласился помочь розыскам. Погрузившись в самопроизвольный транс, он вышел в астрал и направился в прошлое, в квартиру Гилевича в момент совершения преступления. Оттуда он последовал за Гилевичем и нашел его в Париже с уже купленным билетом океанского парохода в Америку. Когда транс кончился, Пинский сообщил обо всем виденном им полиции. Он назвал гостиницу, где в данное время находится Гилевич, и подробно, с точностью очевидца, описал, как Гилевич заманил к себе на квартиру постороннего человека, убил его, разрезал тело на куски, часть сжег в печке, а часть запаковал в бумагу и разбросал по городу. Оказалось, что Гилевич симулировал свое убийство, чтобы потом при помощи брата получить страховую премию. Доложили Петербургскому градоначальнику Драчевскому. Драчевский телеграфировал в Surete Generale, в Париж. По указанному им адресу французские агенты отправились арестовать Гилевича. Когда Гилевич увидал полицию, он застрелился.
После этого слава Пинского разнеслась по всему Петербургу. Его приглашали в светские салоны устраивать свои сеансы. Он применял свою магическую силу, чтобы вымогать деньги и овладевать женщинами. В него, шестидесятилетнего старика, влюбилась одна молодая фрейлина. Скандал разгорался. Пинского выслали из Петербурга. Он поселился в том городе, где теперь жила Светлана. Перед великою войною, когда ему было уже 74 года, он появился в Берлине. Там он навел свои чары на одну молодую девушку, родственницу Императора Вильгельма, и она влюбилась в него. Говорили даже, что он тайно обвенчался с нею.
«Es ist schon zu viel»[10], – сказал Вильгельм. Пинского посадили в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Однако у него нашлись преданные и влиятельные заступники и по их настоянию его освободили.
Когда немцы вошли в город, где жила теперь Светлана, Пинский вернулся в свой дом.
Ему было 86 лет. Несмотря на свою старость, он не оставил своих темных занятий. Про него говорили, что он при помощи расстриженного, беспутного ксендза тайно совершает «черные мессы».
Эти рассказы возбудили любопытство Светланы.
Смешно бояться 86-летнего старика. Что может он ей сделать худого лично? Если есть черные мессы, если есть действительно Сатана, она обратится к нему с мольбою восстать против Бога и не дать Богу разрушить Россию. Если для этого надо пожертвовать собою, она принесет себя в жертву. Если нельзя светлым, то она темным путем загладит измену отца.
В голове Светланы смешались понятия добра и зла, и все ее существо было как бы охвачено гипнозом ожидания чуда. Выход в астрал… Странствия в прошлом, настоящем и будущем. По всем странам света… По другим планетам… Это было так «безумно» интересно…
Если Сатана может сделать все это, стоит поклониться и Сатане. За такие чудеса не жалко отдать и жизнь.
Это не опиум, не кокаин, не морфий, что предлагали ей подруги и что вело к разрушению тела и преждевременной старости.
Пинскому 86 лет. А он, говорят, все еще бодр. Значит, его чары не сокращают, а продляют жизненную силу.
Так напряженно думала Светлана, отыскивая способ встретиться с Пинским.
7
Весна… В этом городе она особенно яркая, красивая и приветливая. Она – везде. В звонком цоканьи конских подков по асфальту мостовой, в тихом шелесте резиновых шин автомобилей, в воробьином писке и в хлопаньи крыльев гулькающих по подоконникам и крышам голубей. Она – в сиянии вдруг ставшего высоким и бездонным неба, в плесках солнечных отражений на стеклах открытой двери, на лакированных стенках кареты, на луже оставшейся от поливки воды. Она благоухает сиренями и ландышами. Их целыми корзинами носят девочки, протягивая букетики прохожим. В скверах и в садах молодая трава пробилась сквозь вкусно пахнущую черную землю и манит глаз свежею нежностью зеленого ковра. На круглых шапках боярышников просвечивают розовые почки бутонов. Лиловые ирисы горят прозрачными огнями под гранитными цоколями памятников. Цветочный ковер распускается на глазах, сливая зеленые и синие разводы лобеллий и анютиных глазок в причудливые узоры. Садовники щеголяют пестротою садовых клумб. Окна домов раскрыты настежь. Из квартир люди выглядывают на улицу. С улицы кричат, зовут на воздух. Лица людей помолодели, покрылись легким, нежным загаром. Глаза блестят. Походка шире и увереннее. С неба несется мерный, ровный, католический благовест. Он говорит о небесном. С реки налетает теплый благоуханный ветер полей и лесов: зовет к воскресающей земле.
В такие дни в кондитерской Франболи после четырех часов не достать свободного места. Кондитерская выбежала столиками, накрытыми парусиновым тентом, на улицу, завоевала половину широкой панели и слилась с уличной толпой. Совсем по-парижски. Только чище, уютнее, симпатичнее Парижских кафе на бульварах и Champs Elusecs. Маленькие столики блестят скатертями. Служанки в коротких черных платьях и белых передниках служат неслышно и внимательно.
Чтобы получить хорошие места, посидеть подольше и на славу отпраздновать окончание Политехникума Ядринцевым и Глебом Вонсович, Светлана, Ольга, Стась и Ляпочка, вместе с обоими «героями дня», забрались в кофейню с трех часов.
Кофейня была пуста. Только за одним столом сидел какой-то человек за стаканом недопитого чая.
Молодежь шумно сдвинула в углу три столика. Светлана уселась в самый угол, прямо под высоким олеандром в зеленой кадке. Против нее, спиною к улице, сел Глеб. По другую сторону Светланы поместилась Ольга, снявшая лиловую шапочку и вся сиявшая молодым весельем. С ней рядом была Ляпочка, сжимавшая руку Ольги горячею пухлою рукою. Против Светланы сел Владимир Ядринцев. Он встревоженно большими, серыми, чуть выпуклыми глазами смотрел на Светлану. Он не слыхал и не понимал ни слова из того, что она быстро и возбужденно говорила Глебу. Он видел только блистание ее синих глаз, видел, как красиво раскрывался ее изящно очерченный рот и как из-за алых губ сверкали белые влажные зубы. Он смотрел, как ветер играл ее золотистыми прядями, выбившимися из-под блекло-голубой шляпки. Все очарование весны, вся прелесть расцветающей природы, все ароматы цветов, небо и солнце сливались для него, как в фокусе выпуклого стекла, в этом несказанно красивом девичьем лице. Счастливая улыбка не сходила с его губ.
Рядом с ним в такой же, только еще более глубокой, улыбке расплылся Стась. Он был великолепен в своей студенческой «амарантовой» шапочке корпорации «Patria» и в английской рубашке с широким отложным воротником.
Как только вошли, заказали шоколад со взбитыми сливками и пирожные, много пирожных. Заговорили по-польски.
– Колер охронны[11], – засмеялась Ольга.
Они, говорившие дома между собою по-русски, на улице и на людях говорили по-польски, чтобы не навлекать на себя косых взглядов.
– Панно Светлано, я пани видялэм вчорай на улицы, – сказал Ядринцев.
– Цо? – рассеянно обернулась Светлана, прервав свой рассказ Глебу.
Она была очень возбуждена. Сегодня она решилась пойти к Пинскому. Вчера она ходила к его дому. Она долго разглядывала этот каменный мрачный особняк, стоявший в глубине небольшого сада, окруженного высоким деревянным забором. В ясном свете весеннего вечера покрашенные желтой охрой доски глухой сплошной ограды, казалось, хранили за собой безмолвие какой-то тайны. Все равно, хотя бы то была тайна смерти, Светлана переступит ее сегодня и узнает то, что открыто немногим. Она никому не говорила о своем решении, боясь, что ей помешают. Но все в ней дрожало скрытым волнением и потому она была сегодня особенно возбуждена и интересна.
– Посмотрите, Глеб, на того господина, что сидит через столик от нас. Мне кажется, что он нас слушает.
Сидевший был стройный человек, высокого роста. Он был безукоризненно одет в штатское платье, которое сидело на нем с особым спортсменским шиком. Легкий костюм из серой дорогой материи был надет точно в первый раз. Крахмальный отложной воротник, модный, пестрый галстук, зашпиленный дорогой булавкой, серые брюки с острою складкой, американские башмаки – все было элегантное, красивое и не дешевое. Его бритое лицо было покрыто тем особым, мужественным загаром, который дается не ленивым лежанием на согреваемом солнцем пляже, а суровыми ночлегами у костра, на морозе, пребыванием целыми месяцами на воздухе. Вместе с тем лицо это было тонко, барски породисто и солдатски закалено. Из-под слегка примятой серой шляпы с широкими, небрежно загнутыми полями остро смотрели сине-серые, стальные глаза. Их сильный, упорный, волевой блеск был притушен длинными ресницами. Трудно было определить, сколько ему лет. Светлана мысленно давала ему двадцать пять и пятьдесят. Он держал в руках газету, обернув ее название к улице, но, видимо, не читал ее. Газета была английская, «Times». Он давно держал ее все в одном положении.
– Как думаете, Глеб, кто это такой? Может быть, авиатор… У него глаза, как у орла, что глядит сквозь тучи на солнце… Такие глаза бывают у авиаторов… Впрочем, нет… Он слишком, пожалуй, строен и мускулист для авиатора… Он, видимо, много ходил и много ездил. Ольга прислушалась к ее словам.
– А как ты думаешь, Светлана? Это русский?
– По-моему, англичанин… Вряд ли поляк.
– Ты думаешь, он нас не слышит?
– Он не слушает нас. Он кого-то ждет. У него, наверно, любовное свидание.
– Посмотрим, кто его предмет, – перегибаясь через Ольгу к Светлане, сказала Ляпочка. – Я вам скажу только одно. Я не влюбчива. Но в такого «типа» я бы влюбилась с головой.
8
Светлана, осторожно макая мягкую рассыпчатую вафлю в шоколад, быстро рассказывала Глебу о том, что она узнала на этих днях.
– Слушайте, Глеб… Я бы хотела, чтобы вы поняли то, чего я не понимаю, и объяснили мне. Представьте себе: мысль… Вот я думаю: это мысль. А от нее идет, излучается волна, подобная волне беспроволочного телеграфа… Говорят, эту волну можно уловить и тогда явится возможность читать мысли человека.
– Ну уж, – возмутилась Ольга, слушавшая Светлану. – Благодарю покорно. Этого только не доставало. Тогда уж и думать нельзя. Всякий узнает.
– А ты не греши в думах… Если волна моей мысли достаточно сильна, я могу направить ее на другого и заставить думать так же, стать моим единомышленником этого другого. Вы понимаете, Глеб? Образуется как бы цепь мыслей, как в гальванической батарее. Рождается живая сила мысли. То, что называется у оккультистов «эгрегором». Впрочем, может быть, эгрегор не то. Вы меня остановите, если я говорю глупости. Отсюда – масонство. Почему люди, умные, добрые, хорошие, честные, идут в масоны? Ведь они, как я слышала, не знают, кому они подчинены, чему они служат. А идут… Почему масоны – такая сила? Да потому, что их единомыслие, связанное внутренней дисциплиной, создает сильный эгрегор, заставляющий и других людей, посторонних масонам, думать, как они. Вы понимаете этот способ завоевания человеческой души? Ведь это сильнее, чем порабощение тела. Вот теперь взять коммунистов. Они создали своею единою ненавистью ко всей христианской цивилизации такой могучий эгрегор, что он порабощает умы масс. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» – это и есть создание мыслевой страшной силы, создание всепорабощающего эгрегора. Ну какой же коммунист насквозь буржуазный, скопидомный француз? А вот, подите же. Он идет под красное знамя, сам готовя себе гибель. Парламенты бессильны бороться с коммунизмом. В парламентах – партии. В парламентах – борьба. Туда проникли те же коммунисты. Там уже нельзя создать общей мыслевой батареи, и эгрегоры правительств оказываются слабее эгрегора коммунизма. Вот что ужасно. Вот что мне не дает покоя.
Светлана говорила все это по-польски. Ядринцев напряженно ее слушал, стараясь сквозь чарующую прелесть ее оживленного лица понять все то, что она говорит. Ему хотелось самому вставить свое слово и он, наконец, сказал, запинаясь и смущаясь своей неправильной польской речью:
– Вы поймуете, вы розумите, проше пани. Коммунизм, он от шатана, то конец нации… Каждой, и польской также. Пшеба вольчить, пшеба вшистким, вшистким взятьсс за рэнки и скрушить иего.
Светлана покачала головой.
– Ах, если бы тут был только Сатана. Может быть, и удалось бы уговорить Сатану оставить Россию.
Она напряженно смотрела на улицу. Глеб и Ядринцев невольно повернулись в ту сторону, куда устремились ее блестящие, синие глаза.
Из толпы прохожих, становившейся все гуще, – четвертый час был уже на исходе, – выделился статный молодцеватый крестьянин. Он был одет, как одеваются земледельцы в Галиции или в Витебской губернии. На голове, остриженной в кружок, была небольшая, белая, круглая шапка. Белая свитка грубого домотканного крестьянского сукна была запахнута наискось. Косой ворот был обшит белой дубленой кожей. Белый ручник, скрученный жгутом, опоясывал свитку. Одежду дополняли добротные высокие сапоги. Он подошел к кондитерской и окинул сидевших за столами взглядом своих зорких глаз. Он быстро заметил незнакомца в сером костюме. Тот встал, продолжая держать, точно на показ, английскую газету. Крестьянин подошел к нему, сдернул с солдатской отчетливостью шапку с головы, что-то доложил вполголоса незнакомцу и повернулся назад. Господин в сером вышел за ним вслед на улицу. Проходя мимо Глеба и Светланы, он вдруг приостановился. Его стальные глаза со странной силой пронзили Глеба.
– Глеб! – сказал он негромко, но отчетливо. – Когда будете готовы заслужить Родину, пойдете за мной.
Он говорил на безупречном русском языке.
Глеб машинально встал, за ним поднялся Ядринцев. Они оба стояли против незнакомца и смотрели на него не понимая.
– Помните одно, – строго, точно внушая им свою мысль, продолжал незнакомец: – Коммунизм умрет, Россия не умрет.
Он повернулся и быстро вышел за ожидавшим его крестьянином в белой свитке.
9
Когда Светлана вернулась домой, ее мать молча подала ей газету и пальцем указала то место, где читать. В газете коротко сообщалось, что в Германии, в курорте скончался от болезни сердца видный коммунист и член Реввоенсовета Бахолдин. Тело его заботами советского правительства сожжено во Франкфурте. Прах в почетной мраморной урне отправляется в Москву, где будет заложен рядом с прахом Красина в Кремлевской стене.
Светлана прочла заметку и подняла на мать большие синие глаза.
– Ты знаешь, Лана, кто это?
– Да, мама.
– Ты его помнишь?
– Смутно. Очень немного… Тебе его жаль, мама?
– Он умер для меня в тот день, когда пошел служить дьяволу.
Светлана вздрогнула. У нее забилось сердце. Но она овладела собою и тихо спросила:
– Ты будешь служить панихиду?
– Нет… К чему? – сказала холодно и враждебно Тамара Дмитриевна. – Он ни во что не верил… Он был атеист.
Светлана пожала плечами. Она хотела возразить матери, что тем более о нем надо бы помолиться, но вспомнила, что она сама потеряла веру в Бога. Гордое чувство опять заговорило в ней. Она, через дьявола, сделает для отца и для Родины больше, чем все эти люди могли бы сделать через Бога. Она будет как Жанна д’Арк. Только Жанну д’Арк призвала на подвиг Богоматерь и она пошла, окруженная светлыми силами. Она, Светлана, пойдет, окруженная силами тьмы. Пинский научит ее овладеть тайною бытия. Она станет, как и он, выходить в астрал. Она узнает прошедшее, настоящее и будущее. Люди ходят за советскую границу на разведку и гибнут там, либо томятся в тюрьмах, ничего не узнав. Без пользы. Она невидимым духом войдет в Кремлевские тайники, она узнает все… Она тайною силою поразит и уничтожит вождей большевизма. Разве этого нельзя? Сатана может все. С его помощью она создаст новый, мощный эгрегор для борьбы с большевиками и поразит их. Ей казалось, что она выросла за эти несколько минут. Она встала и выпрямилась. Положительно, она стала выше ростом. Светлана подошла к зеркалу и надела на завитые волосы синюю шапочку. Подрисовала губы: всего две точки наверху, а как красиво! В складке рта явилась влекущая прелесть. Чуть положила розовой пудры на щеки, у самых глаз. Какие длинные ресницы! Какие глубокие большие глаза! Они хранят тайну, которой не узнает никто. Не через них ли выйдет ее астральное тело, чтобы потом вместе с монадою духа помчаться в далекое странствие?
Светлана была в том же коротком, почти не прикрывающем колен платье, в котором была у Франболи. Она повернула зеркало, чтобы видеть ноги. Они такие красивые в палевых шелковых чулках… Прелестные башмачки. Только все уже чуть-чуть поношено. Вот на правом чулке еле заметная подштопанная дырочка. Ничего. Сатана даст и богатство.
– Куда ты, Лана?
– Я к Ольге.
Светлана в первый раз солгала матери.
«Ничего, – подумала она. – Надо привыкать».
– Посидела бы со мной, – робко сказала Тамара Дмитриевна.
– Ты все-таки грустишь, мама?
– Нет… Я уже сказала тебе. Да и слишком давно все это было. Десять лет назад… Мне просто не по себе.
– Ну, до свидания, мама.
Свежие губы коснулись щеки Тамары Дмитриевны. Пахнуло запахом душистой пудры – нежным девичьим запахом. Светлана накинула белую шаль с вышитыми шелком, киевским швом, цветами, – Ляпочкина работа, – и скользнула за дверь.
Светлана хорошо знала дорогу. Доехав на трамвае до самого конца, она торопливо пошла по небольшой уличке в направлении скакового поля. Тут было пустынно. Высокие заборы и сады скрывали небольшие дома, похожие на дачи.
Дом, который ей был указан, имел нежилой вид. Серые ставни были закрыты. На диком камне стен искрились слезы росы. Дом глядел навстречу Светлане таинственно и загадочно. Казалось, сквозь щели ставен чьи-то глаза следили за нею. Светлана хотела спросить у кого-нибудь, тот ли это дом. Но кругом не было никого. Вдали шумел весенним шумом город. Трубили чуть слышные гудки автомобилей. Где-то далеко как будто играл оркестр. У ворот нигде ни дощечки с именем, ни надписи. Тяжелой, холодной, железной петлей висел рычаг колокольчика. Светлана остановилась перед ним в нерешительности. Наконец, решилась.
Она потянула рукоять. Звонок раздался глухой и деревянный. Ударил два раза и тотчас, будто кто-то уже ждал ее за высокой, разбухшей от сырости калиткой, калитка открылась.
Старик, с седыми волосами, в черном узком пальто до пят, стоял против Светланы и вопросительно смотрел на нее немигающими серыми глазами.
– Цо вельможна пани собе жычи?
– Пан Пинский дома? – по-польски спросила Светлана.
Старик сделал пригласительный знак рукою, пропустил Светлану вперед, тщательно запер двери и пошел за ней.
В высоком, полутемном, пыльном вестибюле был стылый, почти зимний холод. Тяжелая дубовая лестница, изгибаясь вдоль стен, двумя маршами шла во второй этаж. Старик пригласил Светлану следовать за собой и стал подыматься по лестнице. На площадке он постучал у тяжелой двери.
– Да, да, – раздался негромкий, твердый голос.
Старик пропустил Светлану за дверь.
Три стены потолка были уставлены полками с книгами. Книжный запах тлеющей бумаги стоял в комнате. Против окна помещался громадный стол, заваленный книгами, рукописями и бумагами. Из-за него навстречу Светлане поднялся сухой человек среднего роста в длинном черном сюртуке. Седая узкая борода закрывала рубашку. Лицо было пергаментно-желтое, но без морщин. Из-под седых кустистых бровей пронзительно смотрели на Светлану глубоко запавшие глаза. Их зрачки были странно расширены, и Светлане казалось, что два больших черных отверстия остро смотрят на нее своей блестящей глубиной.
– Чем могу быть полезен? – сухо спросил человек.
Светлана так растерялась, что долго не могла ничего сказать.
Все в ней дрожало внутренней дрожью. Взгляд стоявшего перед нею был суров, властен и надменен, и Светлана почувствовала себя перед ним маленькою и ничтожною. Ей стало страшно за свое дерзкое вторжение. Однако хозяин точно читал ее мысли.
– Успокойтесь, – сказал он.
Его голос был звучен, негромок и красив. Он напоминал голоса ксендзов, беседующих с прихожанами. Все еще не приглашая ее сесть, он подал ей папиросы и спички.
– Курите, – сказал он, – это успокаивает.
Светлана закурила, втянула дым двумя-тремя сильными затяжками и тихо, с покорною мольбою в голосе, сказала:
– Вы пан Пинский? Я не ошибаюсь?
– Да, я Пинский.
– Пан Пинский… Я пришла к вам… – Светлана замялась, не находя слов.
– Если ясновельможна пани пришла ко мне гадать, я этим не занимаюсь.
Светлана молчала. Опустив голову, она перебирала концы своего шарфа.
– Нет, – наконец сказала она. – Я пришла за более важным… Мне говорили, что вы можете усыплять… Можете выходить в астрал… Можете колдовать.
– Кто вам говорил такой вздор?
– Я… – Светлана чуть не плакала. – Я готова… я согласна… Сатане… если он может…
– Глупости… Глупости, – сказал Пинский. – Бабьи сплетни… пустые городские слухи.
Он внимательно с головы до ног осмотрел Светлану. Светлана вспыхнула. Ей показалось, что он видит сквозь платье ее тело и читает ее мысли.
– Садитесь, – сказал Пинский, указывая на тяжелое кресло. Он сел рядом на таком же кресле. – Колдовать?.. – сказал Пинский. – Как это нелепо. Люди смотрят на это, как на фокусы ярмарочного волшебника… Дайте вашу левую руку.
Светлана протянула Пинскому свою полную красивую руку. Сухие, точно из одних костей, обернутых кожей, длинные пальцы взяли ее, и острые глаза впились в ладонь.
– Светлана… – сказал Пинский… – Вас зовут Светланой. Очень впечатлительны… нервны… До десяти лет жили в богатстве… Гм… Отец… да… отец…
– Он только что умер, – воскликнула Светлана.
– Да знаю же… Знаю, – резко перебил Пинский. – Умер… Н-да… Хорошо… Я займусь вами… Очень хорошо… Отец… Ну да… мать, положим… Прекрасная женщина, ваша мать… Мало вы ее цените… Да… отец… Ну хорошо… Прежде всего надо, чтобы вы мне верили.
10
Пинский оставил руку Светланы и взял с письменного стола тяжелое, плоское, каменное пресс-папье.
– Возьмите это… Камень?
– Камень, – робко ответила Светлана.
– Твердый?
– Очень твердый… Я думаю, это оникс.
– Агат! – сердито крикнул Пинский. – Самый твердый камень. Чтобы из него сделать какую-нибудь фигуру, китайцы точат его годами.
Он надавил своими тонкими пальцами пресс-папье, и оно подалось под ними, как воск. Он стал быстро мять его, лепить, формовать. Несколько минут оба молчали. Светлана с удивлением и ужасом смотрела, как из камня выходили тонкие полупрозрачные лепестки. Казалось, жилки можно было ощущать на них. Появился стебель, за ним тычинки, пестики, развернулся сбоку листок.
– Лотос, – передавая великолепный каменный тяжелый цветок Светлане, сказал Пинский. Он улыбался. Сухие губы растянулись, обнажая черное отверстие рта. Крючковатый, тонкий нос навис над белыми усами. – Ударьте пальцами. Звенит?.. А?
Лепестки звенели каменным звоном. Они были выточены из агата.
Светлана протянула обратно цветок Пинскому. Ей было страшно его держать. Пинский взял его, провел между ладонями и небрежно бросил на стол. Глухо и тяжело ударилось о доску стола бесформенное плоское пресс-папье.
У Светланы кружилась голова.
– Ну-с, панна Светлана… Может быть, с вас довольно… Посмотрели и идите себе домой. Вы понимаете теперь, что это уже не шутки.
– Ах, нет, нет, – простонала Светлана. – Напротив… Я так хочу.
– Что хотите?
– Все… Власть… над временем… над пространством.
– Пустое.
– Видеть страну… где лотосы…
– Пустое.
Пинский подошел к окну и широко раскрыл его.
Светлана отлично помнила, что она была во втором этаже и деревья сада были выше дома. Сейчас она их не видела. Беспредельная синь вечереющего неба открылась перед нею. Без конца тянулись просторы. Они влекли к себе. У Светланы было такое чувство, точно она поднялась на высокую башню. Пинский смотрел Светлане в глаза. Его взгляд был неподвижен и страшен. Этот взгляд, казалось, испытывал, готова ли она.
– Встаньте сюда, – показал Светлане Пинский на подоконник.
Светлана послушно встала на окно. Ни сада, ни города не было видно кругом. Дом как будто плавал в густом синем тумане.
Светлана ощущала на своем затылке взгляд Пинского. Ей казалось, что у нее там шевелились волосы, точно кто тихо дул сзади. Как сквозь сон, она услышала приказание:
– Прыгайте вниз.
Она сделала шаг вперед, вытянула ногу. Что-то крепко и сильно будто ударило ее по затылку.
В ушах загудел быстро несущийся навстречу воздух. Какая-то мягкая сила подхватила ее, подняла кверху и со страшной быстротою помчала вперед.
Светлана, закрывшая было глаза, открыла их…
Все ее чувства сохранились, стали даже острее, но себя она не ощущала. Она неслась над землею, должно быть, на страшной высоте. Она слышала гудение воздуха. Она видела, как быстро темнела под нею земля, облитая красными закатными лучами солнца. Эти лучи на ее глазах гасли, сменялись сумерками, темною ночью. Вдруг вдали показалось светлое, туманное пятно. Оно становилось более ясным, открывались огневые зарева фабрик, гирлянды ярких фонарей, бегущих навстречу прихотливым узором. Светлана слышала нудный запах копоти, угля и керосиновой гари. Это продолжалось всего несколько мгновений. Теперь снизу уже доносился влажный запах травы и лесов… То холод охватывал Светлану, но он не был мучителен, то было жарко, но эта жара не томила. Впереди золотом загорелся рассвет. Была золотая степь. Над нею обрывом, наискось поднималось плоскогорье, все зеленое от садов. Точно белая жемчужина горела на его краю. Светлана легко и плавно, как мотылек, спускающийся к цветку, приближалась к ней. Стали видны огромные размеры этой жемчужины. На ней отразились розовые отсветы восходящего солнца. От земли неслись радостный писк и пение птиц. Зелеными точками порхали кругом те самые неразлучные попугайчики, которых Светлана видела когда-то в детстве, в Петербурге, в Биржевом саду.
Перед нею был храм из белого мрамора, с большим круглым куполом. Светлана стала на землю. Она с изумлением смотрела на дивные очертания храма. Как тончайшее кружево, сквозила сложная резьба его портиков. Над большими дверями из бронзы змеились золотом арабские, причудливые буквы надписи. Над белой громадой храма порхали зеленые попугаи, садились, как воробьи, вдоль верхнего карниза, и живая изумрудная лента опоясывала стены.
Вокруг храма был сад. Прямоугольный, длинный, выложенный узорным мрамором бассейн, обсаженный пестрыми цветущими растениями, уходил в глубь сада. Громадные тамариски обступили его. Вода голубела, блистая золотыми точками в бассейне. Стаи красных рыбок играли на солнце. Высокие эвкалипты с прямыми, точно выкованными из железа стволами опускали вниз свои нежные тонкие листья. Ближе к самому храму пальмы с мохнатыми, шерстистыми, бурыми стволами раскинули пестрые веера своих длинных ветвей, и в золотой солнечной раме прозрачным зеленым опахалом раздвинул громадные листья высокий банан.
Земля выдыхала влажное дыхание корней, трав и цветов, и воздух был напоен густым и пряным ароматом, как воздух оранжереи. Светлана ходила взад и вперед по саду, вдоль мраморного бассейна. То она приближалась к храму. Дивилась его громаде. Разглядывала тонкую каменную резьбу его портиков, любовалась маленькими птичками, порхавшими кругом… То уходила на самый край сада, откуда был виден храм весь целиком, на фоне синего, голубого неба. Легким и воздушным казался он, подобный мечте, воплощенной в мраморе…
У ее ног по краю бассейна ползла черная с ярко желтыми пятнами саламандра, прелестная в своем безобразии. Зеленые ящерицы играли на камне. То быстро, извиваясь, бежали они, то замирали на солнце. Из чащи гранатовых кустов, между стволов тутового дерева выступил голубой павлин. Корона из тонких палочек с шариками дрожала на его голове. С трепетным шелестом он развернул свой золотисто-зеленый хвост, усеянный темно-синими глазками. Солнце играло на его нежных перьях.
Светлана в восторге запрокинула голову к синему небу. В небе, широко раскинув крылья, тихо парил орел.
Опять острый, мучительный удар в затылок – так начиналась у нее всегда мигрень. Светлана очнулась.
Она глубоко сидела в мягком кожаном кресле. Против нее сидел Пинский. Комната – во мраке. В открытое окно вливалась ночная свежесть. Совсем близкими казались глядевшие в окно темные березы в молодой, сладко пахнущей листве. Город затих. Где-то далеко прогудел поезд. Была поздняя ночь.
– На первый раз довольно, – сказал Пинский.
– Когда же еще? – вздохнула Светлана. – Это был такой чудный сон.
– Не совсем сон, – сказал, как бы про себя, Пинский. – Приходите по вторникам. В это время… К семи… Посмотрим…
Он проводил Светлану до калитки. Она с трудом дошла до остановки трамвая. Голова болела. Точно железный обруч давил виски. Над бровями ныло. В глазах была какая-то рябь. Ноги с трудом несли усталое тело. Девушка чувствовала себя разбитой, как после долгого путешествия.
11
Светлана избегала теперь людей. Ей не хотелось видеть ни Вонсовичей, ни Ляпочку, ни Ядринцева. Особенно избегала она последнего. С матерью была часто груба и отвечала на ее вопросы с капризной резкостью: «не твое дело…», «да», «нет», «голова болит…» «Оставь, мама… Тебе не понять…»
Она жила от вторника до вторника. От одного чудного сна до другого, от полета до нового полета, всякий раз еще более захватывающего. Остальные дни недели она выходила из дому очень рано и, с книгой под мышкой, спешила в большой пригородный, дворцовый сад. Там она забиралась в самую глушь, где не было прохожих, в аллею, где сирень, жимолость, бузина и калина сплелись тесною стеною и где белая скамейка совсем была закрыта листвою. Она садилась там, развернув на коленях книгу. Она ее не читала, от чтения только болела голова и темнело в глазах. Она закрывала их. Тогда сладкая истома охватывала ее всю, тихо отходила боль, и Светлана снова и снова переживала свои волшебные сны.
В эти часы она сознавала, что это не были сны. Это было волшебство, которого она искала. Сила, что была ей нужна. Если эта сила от дьявола, пускай. Она примет ее и от него.
Проходили часы. Глухими дальними улицами она возвращалась к завтраку домой и после завтрака уходила снова.
От матери Светлана знала, что молодой Ядринцев каждый день заходит к ним, надеясь ее застать. Но она намеренно избегала его. Светлана по вечерам уходила в кинематограф и там, в полутьме, перед живыми тенями людей тихо сидела, стараясь отвлечься и уйти в себя, как учил ее Пинский.
– Лана, – говорила ей мать, – это из рук вон. Что все это значит? Так, наконец, нельзя. Владимир был опять.
– Ну и что же?
– Он и Вонсовичи получают место на лесопильном заводе. Хорошее место. Правда, в глуши, подле самой границы. Владимир хочет с тобою поговорить.
– О чем же?
– Разве ты не догадываешься? Он хочет просить твоей руки.
– Этого только не доставало.
– Лана… Не в старых же девах тебе сидеть? Чего же ты хочешь? – с тоскою говорила Тамара Дмитриевна. – Владимир из хорошей семьи. Место, которое он получает, отличное. Глеб от него в восторге. Ольга едет с ними. Там, как говорил их патрон, всем работа найдется.
– А кто же этот патрон?
– Они сами на знают. Приходил от него человек… Крестьянин… В белой свитке… Витебский, должно быть.
Светлана вздрогнула.
– В белой свитке? – быстро спросила она.
– Ну да… как мужики-белорусы ходят…
– И что же они, Глеб и Владимир?
– Контракт подписали…
– С кем?
– С компанией какой-то… Польской или русской. Не добилась я толком.
– Вот бы, мама, подписать контракт с чертом.
– Что ты говоришь, Лана?
– Нет, в самом деле, мама, – деланно засмеялась Светлана, – подписать бы контракт с чертом. Все по форме, кровью… Будет счастье… Богатство… Слава… Может, он-то еще добрее Бога окажется. Вот Россия-то наша гибнет… Даром что Святая Русь православная… А атеисты, коммунисты, материалисты, те благоденствуют, им хоть бы что… Народ против них и пикнуть не смеет.
– Я совсем тебя не понимаю, Лана.
– Я, мама, хочу или все, или ничего. Ты говоришь, Владимир. Ты, мама, подумай. Ну, что он такое? Так… ни то ни се. Ни Богу свечка, ни черту кочерга… Впрочем, Богу-то он, пожалуй, и свечка. Начетчик… Я слышала, что он в церкви читает и поет. Стихарь скоро получит. Он мне сам давно говорил. А я даже, признаться, и не знаю, что такое стихарь.
– Как ты говорить стала, Лана! Откуда все это у тебя берется? Где ты бываешь?
– За меня не беспокойся, мама. Я бываю одна. Сама с собой. Сама себя учусь понимать.
– Но что же я скажу Владимиру?.. Он опять придет.
– Пусть ждет. Не выйдет то, на что надеюсь, пойду за него. Мне все ровно тогда. А выйдет, пусть не обижается. Значит – кисмет.
– Все у тебя какие-то загадки.
– Будут, мама, и разгадки.
Светлана курила папиросу за папиросой и смотрела на мать далекими, как казалось Тамаре Дмитриевне, какими-то злыми и чужими глазами. Тамаре Дмитриевне стало страшно. Такой же далекий и чужой, замкнутый в себе взгляд, помнит она, бывал так часто у отца Светланы, «le beau Baholdine». Только у того в жизни была хоть карьера. А у Светланы что?
Тяжело, заботно и сумрачно было на душе у Тамары Дмитриевны. Что такое со Светланой? Где она пропадает все время? Но спрашивать было бесполезно. Она знала наперед:
«Не скажет».
12
Теперь Светлана часто летала во сне.
Ей снилось обычно, будто она, а иной раз с близкими ей людьми, – с матерью, Ольгой Вонсович, Ляпочкой, еще кем-нибудь из подруг, – находится в очень большой и высокой комнате, где почти нет мебели. Светлана, обнаженная, выходит на середину комнаты, вытягивает руки над головой, складывает ладони вместе, как бы собираясь броситься в воду, потом легким движением разводит руки вдоль плеч, отталкиваясь ногами от пола, и сейчас же легко отделяется от земли и мягко, плавно несется к потолку. Взмахом рук и изгибом тела она поворачивается, описывает круг, ныряет вниз к самому полу, летит над полом и снова взмывает к потолку. Она точно купается в воздухе с неизъяснимой легкостью. Мать и подруги смотрят на нее, удивляются ей, но ни мать, ни подруги этого сделать не могут. Несказанно приятно было это чувство легкости, невесомости и гибкости тела. Стыда от своей наготы не было, была только опьяняющая радость полета.
Когда Светлана просыпалась, она еще ощущала в себе необъяснимую легкость, и сознание, что она действительно летала, ее не покидало. Ей не хотелось открыть глаза, знала, что разрушит тогда очарование. Наконец, она медленно открывала их. Бледное, тихое утро глядело сквозь щели ставней и белую занавесь. Ощущение легкости все еще не пропадало. Она прислушивалась: спит ли мать. Приглядывалась в легком сумраке к другой стороне комнаты, где стояла ее постель. Мать крепко и неслышно спала на боку, повернувшись к ней спиною. Светлана вставала с постели, сбрасывала рубашку, снимала цепочку с крестом, встряхивала волосы, окидывала глазами комнату, точно соображала, как полетит и где повернет. Она поднимала руки, складывала ладони и тотчас же ощущала всю тяжесть тела, всю невозможность отделиться от земли. Ей вдруг делалось стыдно. Она набрасывала на себя рубашку и забивалась назад под одеяло. И только закрывала глаза: опять летала, ныряла, купалась в воздухе уже не чужой комнаты, а своей спальни, тихо пролетала над спящей матерью и улыбалась ей…
Иногда ей снилось, что с ней летает какой-то молодой человек. Он меньше ее ростом, очень строен, его тоже обнаженное тело не белое, но красноватое, бронзовое, будто сильно загорелое. Волосы темные, слегка курчавые, лицо точно точеное из металла, без усов и бороды, серьезное и красивое. Светлане не было стыдно перед ним ни своей, ни его наготы. Она бестрепетно и спокойно любуется сложением своего спутника. Он ей – близкий. Он – друг. Он – учитель. Он открывает большое до полу окно, и они вместе вылетают на улицу… Ночь… Внизу горят, уходя вдаль, смыкаясь треугольником, фонари. Темные дома спят живым одушевленным сном. Светлана ощущает прохладу ночи. Они летят над городом. Делают круг, пролетают между башнями костела Спасителя так близко, что Светлана в сумраке ночи видит спящих по карнизам голубей. Если протянуть руку, их можно погладить.
Сделав круг над городом, они возвращаются домой. Окно открыто. Спутник исчезает у окна. Светлана влетает в гостиную, становится на пол, идет, легкая, освеженная, отворяет дверь. Ее спальня. Мать спит на спине. Постель с откинутым одеялом ждет Светлану. Она ложится и, лежа, еще ощущает возбуждение прогулки и сладкую усталость тела.
После таких снов Светлана вставала вся разбитая, с тяжелой головой, она неохотно занималась домашними делами и отвечала матери односложно и резко. Ждала только ночи, чтобы снова летать.
13
Пинский надел на палец Светланы кольцо.
– Вы обручаетесь властителю тьмы, Сатане.
Он говорил совершенно серьезно, и лицо его было строго. В другое время, при других обстоятельствах, Светлане было бы просто смешно. Теперь она испуганными глазами посмотрела на Пинского и ее сердце билось, как у маленькой птички, зажатой мальчиком в кулак. Пинский мог все. Разве не видела она то, что он сделал с пресс-папье во время их первой встречи? А полеты, радость которых он дал ей узнать? Теперь она принимала каждое его слово трепетно и покорно.
Пинский снял кольцо, достал хрустальный кубок, налил в него воды и опустил кольцо в воду.
– Глядите, пани Светлана, пока не увидите жениха.
Светлане сквозь хрусталь воды стало казаться, что золотой кружок ширится. Голубой сумрак клубится в нем. В этом сумраке стали явственно, четко, со спины намечаться две обнаженные человеческие фигуры. В одной Светлана узнала себя. Она стояла, точно собиралась лететь в клубящиеся голубые дали. Ее обнял одной рукой смуглый, стройный юноша, с курчавыми черными волосами… Тот самый… Тот, с кем она летала над городом в своих частых снах.
Стало истомно хорошо. По всему телу прошли какие-то сладкие, волнующие токи.
Светлана глядела не отрываясь. Ее жених точно приподнял ее, и они оба исчезли в голубом тумане. Кольцо желтым ободком по-прежнему сквозило в воде. Оно лежало, такое простое и будничное. Светлана повернула голову к Пинскому. На лице ее была покорная улыбка.
Пинский стал говорить Светлане о черной мессе. Он объяснял ей, что она должна будет во время нее делать, заставлял затверживать на память какие-то латинские слова, говорил, когда ей надо будет для этого прийти к нему. Она слушала и старательно, чтобы не забыть, повторяла за ним по многу раз незнакомые слова.
– Пани Светлана, – сказал ей, наконец, Пинский, – по обычаю, издревле заведенному и освященному мудростью знающих, вам надо дать расписку кровью.
И опять ей не было смешно и не показалось ни странным, ни нелепым, когда, уколов ей руку, он дал вытечь оттуда в маленькую чашечку нескольким каплям крови и подал ей гусиное перо. Так было надо.
На ее совсем еще детское лицо разом легла печать спокойной решимости. Кровь?.. Тем лучше. Должно быть нерушимым и важным то, что пишется кровью. Она писала под диктовку Пинского по латыни. Потом подписалась: Светлана, – тоже латинскими буквами.
Когда она выходила от Пинского, она чувствовала, что ее колени дрожали. Порог перейден, отступления нет, подписано обязательство заплатить за поддержку страшной и тайной силы какой-то величайшею ценностью, – может быть жизнью.
Когда Светлана пришла домой, в ней внезапно началась борьба. Что-то внутри ее восстало и спорило. «Так можно совсем с ума сойти, – думала она. – Куда я зашла со всеми этими опытами? В конце концов, во всем этом нет ничего сверхъестественного. Пинский просто сильнейший гипнотизер. Все остальное, в конце концов, фокусы. Разве не видела я в разных “Варьете” и цирках фокусов, еще более необычайных? Какую цену имеет моя расписка? Никакой. Кому, куда, в какой суд можно предъявить этот глупый клочок пергамента, написанный кровью? И что такое кровь?.. Красная жидкость, как любые красные чернила».
Светлана стала думать о предстоящей черной мессе… Это ужас! Ее оскорбляло не кощунство. Мысль о Боге, которого она собиралась оскорбить, не приходила ей в голову. Она не верила в Него. Богохульство ее не пугало. Ее страшили самый обряд и та роль, которая, как она смутно догадывалась, была в нем предназначена ей.
«Грязь… Разврат» – вспомнились ей слова Подбельского.
Зачем ей идти на это?
«Невеста Сатаны… Расписка кровью… Как это глупо! Как в старых романах, которыми пугали бабушек».
Она поборола себя и в следующий вторник не пошла к Пинскому. Эта победа над собою ободрила ее. Она решила бороться и дальше и пропустила еще одну неделю. Был даже момент, когда она хотела искать защиты у Бога. Даже не веря в Него, точно затем, чтоб испытать себя, она пошла на кладбище, в православной церкви. Однако что-то внутри нее помешало ей войти. Она постояла вдали, посмотрела на золотые купола, хотела перекреститься. Вдруг все это показалось ей смешным. Ей стало стыдно и она вернулась домой. Три раза повторяла она эту попытку и три раза не могла войти в церковь и помолиться. Да и как она стала бы молиться? Она не знала молитв… Смеялась над священниками и обрядами. Если бы кто помог ей в эти дни!
Мать? Как часто Светлана сидела рядом с матерью, помогая ей шить. Их сердца бились близко друг от друга. Их головы склонялись к работе, касались, и Светлана ничего не ощущала. Тридцать лет разницы, что легли между ними, казались Светлане непереходимою пропастью. Мать была – Царская, Императорская, православная. Все то, что она рассказывала про придворные балы, про парады, про Высочайшие выходы во дворце, про свою девичью жизнь, казалось Светлане, пожалуй, красивой, но неправдивой сказкой. Светлана осознала себя впервые во время войны. Она любила свой взвихренный войною Петроград, шумный и кипящий, а не тот чинный и чопорный, «господский» Санкт-Петербург, который боготворила ее мать.
У матери на первом месте были церковь и Государь. Светлана любила народ, Государя не знала, к церкви была равнодушна. Ее мать в несчастиях Родины обвиняла самый народ, Светлана считала его только обманутым. Сколько раз она пыталась говорить с матерью: никогда ничего не выходило. Нет, эти тридцать лет, эту пропасть не перескочишь… Как же сказать теперь матери о Пинском?.. О чудных снах… О полетах… О том, что она теперь невеста Сатаны… О черной мессе…
«Мать не поймет меня, станет рыдать и ужасаться… Станет твердить: грех. У нее только и есть одно объяснение, что грех. А что такое грех?»
Не поймет ее и Владимир Ядринцев. Он, как и мать, придет в ужас, будет возмущаться и говорить, что ее просто «надули». Будет стремиться непременно с кем-то «разделаться». А то еще хуже: не поверит и сочтет ее за лгунью. Нет, от матери и от Владимира лучше подальше. Может быть, ей мог бы помочь Глеб? В его загорелом лице, в его стройном, худощавом теле и стальною волею горящих глазах было что-то странно схожее с тем юношей, с которым летала Светлана. В нем была сила.
Но Глеб был далеко. Он уехал в лесное имение, на фольварк Александрию. За ним скоро должна была ехать Ольга, потом и Ядринцев… Хотели, чтобы и Светлана ехала с Владимиром, его женою.
«Невеста Сатаны… Хороша жена!»
Светлана боролась с собою. Проходил вторник за вторником.
Она побеждала желание пойти к Пинскому и не шла. Радовалась победе над собою, но всякий раз чувствовала себя после такой победы еще более ослабевшей, еще менее способной на борьбу.
Светлана похудела и побледнела. Большие синие глаза были полны иногда такого страдания, что мать брала Светлану за руку и говорила ей:
– Что с тобой, милая детка?
– Ты не поймешь, мама, – говорила печально Светлана.
Тамара Дмитриевна пробовала следить за дочерью и тщетно выпытывала у Ольги и у Ляпочки, по ком могла «сохнуть» Светлана. А она «сохла» – другого слова нельзя было придумать. Она таяла, как свеча на огне. Она не интересовалась некем из молодых людей и негде не бывала. Дворцовый сад, библиотека, иногда, очень редко, Владек Подбельский или кинематограф… Она не ходила на танцы. Чарлстон и блэк-боттом ее не увлекали… Она была как-то совсем вне жизни.
– Лана, ты больна. Хочешь, поедем к доктору? Пусть он осмотрит тебя, – говорила Тамара Дмитриевна.
– Ах, при чем тут доктор, мама? У меня ровно ничего не болит.
Светлана брезгливо поводила плечами и уходила.
Так проходило лето. Как-то сразу, в одно утро, пожелтели березы, дикий виноград у подъезда стал красным, посыпались колючие шишки каштанов и первые сухие листья зашуршали по каменным тротуарам. По утрам стали потеть окна, а за окнами на траве скверов серебряной скатертью лег иней. Осень вступила в борьбу с летом. Днем солнце обманывало людей, пели птицы в ветвях и в пестрой одежде были прекрасные сады. А ночью осень стучалась холодными заморозками, гудела долгими ветрами, обрывала листья, и вместо прекрасных деревьев черные скелеты размахивали голыми ветвями. Унылую песню пели над улицами провода телеграфов.
Светлана чувствовала, как с холодами и ранними сумерками ей становится все труднее бороться с собою.
14
Третий день дул холодный восточный ветер. Он нес из России дождь со снегом. Река надулась и поднялась.
В комнате Светланы, на пятом этаже, вой бури был страшен и зловещ. Дождь барабанил в стекла. Казалось, кто-то темный и сердитый назойливо стучит костлявыми пальцами. Мокрые снежинки плотными пятнами прилипали к стеклу, точно чьи-то белые глаза заглядывали в бедную комнату русских эмигрантов, без ставен и занавесей. Дом был на окраине города, и снежному вихрю было привольно носиться по обширным пустырям.
Все эти дни Светлана ощущала особое беспокойство. Сейчас, когда наступила ночь, какая-то неоформленная мысль вдруг охватила ее тягучим томлением.
Светлана почувствовала: она пойдет к Пинскому.
«Не пойду», – говорила она себе. Говорила и ощущала, как сзади на ее затылок кто-то словно нажимал сильною рукою. Впечатление было такое отчетливое, что Светлана несколько раз невольно хваталась рукою за голову и, хватаясь, боялась коснуться чужой руки.
«Сегодня?» – мысленно спросила она и стала вспоминать, на какой день, говорил ей Пинский, назначена черная месса. – Да, сегодня».
Светлана тихонько, незаметно от матери, достала из сумочки золотое кольцо, данное ей Пинским, и надела на палец. Стало ясно: теперь уж не отступить. Вспомнила про расписку кровью. Да, не отступить.
Она встала и прошла в угол за свою постель, где висели ее платья.
«Конечно, то белое, короткое, в котором я была весной у Франболи и у “него” в первый раз…»
Ей было неприятно переодеваться при матери. Мать спросит, начнутся аханья: куда, зачем, в такую погоду. «Ах, все равно…»
Она взялась за платье. В то же мгновение электричество погасло.
Тамара Дмитриевна со вздохом отложила работу.
– Где ты, Лана?.. Что ты там делаешь?.. – В голосе матери было беспокойство. – Как это скучно с электричеством! Какая буря! Не порвала ли провода? Я зажгу свечу. Ты мне почитаешь пока, Лана.
– Погоди, мама.
Голос Светланы внезапно для нее самой стал уверенным и спокойным. В темноте проворными и ловкими движениями она сбросила с себя обычное платье, надела чистое белье и свое лучшее белое платье. Торопилась, но знала непонятным знанием, что свет не вспыхнет раньше, чем надо. Движения ее были точны, гибки, легки и размерены. Она словно видела в темноте, что достать и что надеть. Казалось, невидимые руки подавали ей все, что нужно.
Светлана надела шапочку, потом свой осенний красно-коричневый гладкий impermeable[12], взяла зонтик и скользнула за дверь.
Дешевый отель, где они жили, был погружен во мрак. Далеко внизу, у конторы, горел огарок. Светлана уверенно нашла во мраке лестницу, взялась рукой за холодные, железные перила и стала быстро спускаться.
Когда она была у первого этажа, она услышала, как на верхнюю площадку со свечою вышла мать.
– Лана! Куда ты? – крикнула она. – Куда ты, Лана?
Голос матери дрожал от испуга. Он проник до самого сердца Светланы. Она почувствовала: если оглянется, вернется назад.
Она не оглянулась. Хлопнула в подъезде выходная дверь. Отель по-прежнему был во мраке.
Тамара Дмитриевна со свечою в руке вошла в номер. Вспыхнуло электричество, озаряя комнату с разбросанными в углу бельем и платьями Светланы. Дождь по-прежнему стучал в стекла.
Тамара Дмитриевна опустилась в кресло и беспомощно заплакала.
15
Теперь для Светланы все было ясно и определенно.
Все шло просто, твердо и уверенно, точно само собою. Едва вышла из переулка на большую улицу, на остановке, точно дожидаясь ее, стоял трамвай. Светлана вскочила туда. В ярко освещенном вагоне не было никого. Кто поедет в такую погоду? Но Светлана не ощущала холода.
Мутными желтыми пятнами светились окна магазинов. Город был пуст. Редкие прохожие шли торопливо, нагнувшись вперед и борясь с ветром.
Светлана доехала до той улицы, где жил Пинский, и вышла из трамвая. Холодный ветер окрутил ее мокрое пальто около ног. Зонтик трепетал в руках, спасая только лицо и шляпу. На плечах наросли пушистые эполеты из снега. Здесь, на окраине, все было бело от рыхлого, глубокого снега. Деревья качались и махали ветвями, выла проволока на столбах.
Светлана не успела даже позвонить, как калитка открылась. Сам Пинский, весь в черном, ее ожидал. Он провел ее через сад. Они вышли на другую, темную улицу. Здесь, на снегу, четко чернел большой «господский» автомобиль с погашенными фонарями. Пинский открыл дверцу и жестом пригласил Светлану садиться. Все делалось молча. Шофер завел внутренним заводом машину, она дрогнула и, шелестя прочными, темными, туго надутыми шинами по снегу, покатилась по улице. Светлана не видела, куда ее везли. Снег залепил окна. Машина шла быстро по гладким мостовым, потом замедлила ход, ее бросало по ухабам и рытвинам немощеной улицы. Внезапно остановились. Шофер открыл дверцу.
– Здесь? – спросил он.
Пинский выглянул.
– Да, здесь.
Светлана вышла за Пинским.
Свежо и отрадно пахло снегом, ширью, полями. Пустынная, узкая уличка с деревянными, покрытыми снегом панелями была почти без фонарей. Светлана увидала высокие заборы, сады, маленькие еврейские хатки городского предместья. Вдали в снеговых вихрях высилась неуклюжая громада шестиэтажного доходного дома. Ни одно окно не светилось.
Они стояли у высокого деревянного забора с набитыми на верхней доске гвоздями. Пинский своим ключом открыл калитку. От калитки расчищенная от снега, мокрая дощатая дорожка шла через сад к большому одноэтажному дому. Все ставни в нем были наглухо заперты, и он казался необитаемым.
Однако едва они поднялись на крыльцо и вошли в открытую дверь, как душистый, жаркий воздух, пропитанный запахом какой-то смолистой гари, пахнул в лицо Светлане. В прихожей, где на столе, заваленном мужскими и женскими шляпами, в высоких бронзовых подсвечниках горело три свечи, пахло мокрым платьем. Под длинной вешалкой, завешанной шубами, были лужи воды.
Две старые женщины, одна высокая, тощая, в модном черном платье, с низким декольте и с жемчугами на темной морщинистой груди, другая толстуха в коротком до колен платье, бросились навстречу Светлане.
– Сюда, сюда, пани, – суетливо и почтительно говорили они и, подхватив Светлану под руки, повели ее в боковую комнату, тускло освещенную одной свечой.
– Ножки-то мокрые… Ах… беда-то какая, – говорила толстуха.
Они усадили Светлану на кресло, сняли с нее шляпу, сняли башмаки и чулки. Толстуха спиртом и шершавым полотенцем обтирала мокрые ноги Светланы.
Светлана без удивления отдавалась их заботам. Значит, так надо.
Толстуха заметила на Светлане палевые панталоны и спросила у худощавой:
– Et les culottes aussi?
– Mais certainement…[13] Только рубашка и платье, как всегда. Не там же возиться. Некрасиво выйдет.
– Другое платье готово? – спросила толстая.
– В углу, в картонке.
Они обращались со Светланой, как с манекеном. Ничто теперь не удивляло Светлану. Она шла на это… Что ждет впереди? Светлый, свадебный пир или смертная казнь, не все ли равно. Она обручалась Сатане. Блестит на пальце золотое кольцо. Ее расписка кровью лежит у Пинского.
Худая старухa, причесывая ей волосы, нащупала на шее цепочку с крестом и сердитым, быстрым движением сорвала ее.
Светлана не противилась. Она стояла босая, в сорочке и платье, готовая идти, куда ей укажут. «Что ж? – думала она. – Везде свой ритуал. У масонов свои обряды, у христиан, посвящаемых в монахи, свои, здесь тоже свои, – вспомнила она объяснение Пинского. – Всякий жест, платье, все имеет свое магическое значение, все приводит в движение какие-то невидимые силы. Босая? Ну, что ж… Знаю: буду и обнаженная. Он вперед говорил: “Да, конечно, будете обнаженная, но нагота будет без стыда, ибо будет она прекрасная, священная, чистая…”»
Мгновениями Светлане казалось, что все это сон.
Как во сне, послушная знаку своих руководительниц, она пошла по коридору, упруго ступая по ковровой дорожке голыми ногами.
16
Полутемный, обширный, высокий зал был уставлен скамьями с высокими спинками, как в католическом храме. Место, где помещался алтарь, было занавешено тяжелым черным занавесом. Две свечи в высоких подсвечниках едва разгоняли мрак. В их свете намечались молчаливые, неподвижно сидящие люди. Светлана заметила, что больше всего было женщин. Несколько черных сутан католических аббатов, без крестов на груди, темнело среди дамских платьев.
Появление Светланы возбудило внимание. Тихим шорохом пронесся шепот. Светлану посадили в первом ряду. Тишина становилась напряженнее. Когда вздыхали женщины, их вздохи казались громкими. Кто-то кашлянул, и эхо гулко подхватило его кашель. По залу становился сильнее терпкий и душный запах гари. Он шел из-за занавеса. За ним чудилось какое-то движение.
Вдруг коротко и, как казалось в тишине, неожиданно резко звякнул колокольчик, как при начале католической службы. Один раз длинно, потом еще два раза коротко, с промежутками.
Светлана вздрогнула. Ни одной мысли не было в ее голове. Она погрузилась в какое-то бездумье.
Черный занавес медленно и бесшумно раздался в обе стороны. Теплый воздух и яркий свет пахнули из-за него. Точно сдерживаемые им, они ворвались в зал, осветили и согрели его.
Католический алтарь, украшенный золотыми треугольниками, обращенными вершинами книзу, пылал в жарком блистании многих свечей.
За престолом стояло большое распятие. Чья-то кощунственная рука по лику Спасителя мира провела краской полосы, придавшие Ему выражение страшной усмешки.
У подножия распятия стояла статуя Божией Матери. Ее лик был тоже обезображен такими же дерзкими полосами, придавшими Ей злобное и наглое выражение.
На обширном престоле лежал парчовый, золотой матрас с небольшим изголовьем. Все остальное: чаша, треугольник в золоте было как в католических алтарях.
«Вот она, черная месса», – подумала Светлана. Эта мысль сейчас же исчезла в сумраке безразличия. Она опустила глаза. Когда снова подняла их, встретила упорный взгляд Пинского. Он стоял в одежде ксендза из пурпуровой ткани и в черной круглой ермолке на голове. Его седая борода, лежавшая на груди, показалась Светлане странно похожей на бороду козла. Руки Пинского были сложены на поясе. В свете огней они казались большими и страшными.
Мальчики в красных кафтанах с капюшонами, обшитыми белым кружевом, бросали в сквозные медные курильницы с раскаленными углями пучки сухих трав. Едкий белый дым шел полосами к потолку. От него у Светланы щекотало в горле и кружилась голова.
Светлана не знала, сколько времени длилось молчаливое ожидание. Жесты мальчиков становились чаще, едкий дым гуще входил в залу и зыбкими волнами колыхался над головами.
Коротким звоном брызнул опять колокольчик и рассыпался в тишине. Орган заиграл хорал. Все пели в унисон. Светлана не разбирала слов.
К алтарю из-за стены медленно подошел ксендз, одетый в обычные облачения… Он говорил по-французски, с той обычной интонацией, как говорят ксендзы во время службы. Светлана слушала напевные, слегка носовые звуки его голоса:
– Maitre des esclandres, dispensateur des bienfaits du crime, intendant des somptueux peches et des grands vices, Satan, c’est toi gue nous adorons, dieu logigue, dieu juste![14]
Хор запел:
– Gloria in profundis Satani! In profundis Satani gloria![15]
Только смолкли отзвуки хора, ксендз снова забормотал свою страшную молитву.
В зале загорелись огни. Стали отчетливо видны по стенам каббалистические знаки древних письмен. Но Светлана не глядела на них. Точно стремительный мутный поток подхватил ее и нес к неизбежному.
Хор гремел с нараставшим возбуждением. Возгласы неутоленной страсти врывались в стройные звуки. Кто-то сзади Светланы истерично смеялся, кто-то рыдал, громко всхлипывая. Уже нельзя было разобрать слов. Точно буря, гремел орган. Ксендз, размахивая руками, говорил заклинания. Неподвижно стоял, напряженно глядя на Светлану, Пинский.
Перед алтарем появилась старуха. На ее рыже-сивых космах волос, на затылке, едва держалась старомодная, смятая, грязная шляпа. Платье темными складками окутывало ее фигуру. Она показалась Светлане ведьмой. Костлявыми руками она оттолкнула мальчика, прислуживавшего ксендзу, и гнусавя провозгласила:
– Introibo ad altarem dei nostri Satanis[16].
Светлана увидела ее черную тень на блеске золотого с красным алтаря. Она почти теряла сознание.
«Теперь? – мысленно спрашивала она Пинского. – Пора?..» Она беззвучно шептала какие-то латинские слова и уже не знала сама, повторяла ли она раньше заученные у Пинского, или это он сейчас внушал ей новые, непонятные молитвы. Ею овладевал экстаз. Дикие возгласы, вопли, рыдания и крики, раздававшиеся позади, не пугали ее. Ей не было стыдно. Ей казалось, что она поднимается на недосягаемую вышину, где все можно, все позволено.
Она схватила обеими руками ворот своего легкого платья.
«Да? – мысленно спросила она. – Уже?» – И она резким движением разорвала платье сверху донизу. Сидевшие рядом с нею женщины бросились на нее и сорвали с нее рубашку. Светлана уже ничего не видела.
Обнаженная, оставляя за собою, точно белую пену, лоскутья одежды, она поднималась к алтарю. Гордо закинув голову, выгнув вперед грудь с молодыми розовыми сосцами, прекрасная и стройная, как молодая богиня, она остановилась позади ксендза. Ксендз медленно повернулся к ней. Светлана на миг опустила глаза и снова подняла их. В темной бронзе бритого лица, в прямом и тонком носе, в сухо сжатых губах она узнала знакомые черты своего таинственного жениха и учителя, спутника ночных полетов.
– Quid velis?[17] – строго спросил ее ксендз.
Светлана пробормотала давно готовую, заученную фразу:
– Ad sacrificium offerre corpus meum[18].
Ксендз отошел от престола, давая Светлане дорогу. Светлана подошла к золотому матрасу, перекинула ногу на престол и легла, положив голову на подушку и спустив ноги от колен вдоль престола.
Ей казалось, что она встретит раскаленный уголь костра, но ее тело погрузилось в теплую мягкость нагретого шелка. Все плыло у нее перед глазами. Она ничего не видела. Ощутила на мгновение холод золотого круга чаши на животе. Слышала звуки органа, пение гимнов, бормотание молитв Сатане. Ксендз припадал на одно колено перед нею, лежащею на престоле, и целовал то ее вытянутую вдоль тела руку, то грудь, то живот, то ногу. Светлана приоткрыла глаза.
Ксендз распахнул одеяние и достал облатку, которою причащаются католики. Облатка была черная. Светлана заметила, что одежды ксендза были надеты на голое тело.
Ксендз повернулся к собранию и воскликнул звенящим от возбуждения голосом:
– Suscipe, sancte pater, hostiam hanc![19]
Чей-то дикий, нечеловеческий голос произнес за престолом:
– Accipe etiam sanguinem nostrum![20]
Светлана почувствовала мучительное прикосновение. Она вздрогнула и сцепила зубы. В зале воцарилась томящая тишина. Острая, жгучая боль пронзила тело Светланы.
Резко прозвенел колокольчик.
Светлана вскрикнула и потеряла сознание.
В зале играл орган. Бывшие в ней с дикими воплями кинулись к алтарю. Иные ползли на четвереньках. Быстро гасли свечи… В темноте слышались крики, визги, треск разрываемых одежд, поцелуи и стоны.
17
Светлана очнулась. Сквозь сомкнутые веки она ощущала дневной свет. Она лежала на чем-то жестком, от чего неприятно пахло. Не открывая глаз, она ощупала себя. Она сама была одета в какое-то платье из жесткой, непривычной ей материи. Светлана медленно открыла глаза. Испуганно осмотрелась, ничего не понимая. Она лежала на широкой деревянной постели, одетая в чужое, серое, грязное платье. Перед нею были стена и два небольших окна, с прилипшими к стеклам желтоватыми холщовыми шторами. За окнами начинался день. В комнате было холодно. Стены, оклеенные грязными, заплеванными обоями, казались сырыми. На одной, над комодом, висело запотелое длинное зеркало, на другой плохая, засиженная мухами олеография: тирольский пастух и рядом большой плакат, изображающий океанский пароход: Norddeutscher Lloyd. На когда-то крашенном желтой охрой полу протянулась дорожка из пестрых лоскутков. На простом соломенном стуле были небрежно брошены ее панталоны, чулки, скомканное непромокаемое пальто и синяя шапочка.
Обстановка жидовской гостиницы, «номеров для приезжающих» в городском предместье.
Светлана посмотрела на свои жалобно висевшие на стуле чулки, с потемневшими, жухлыми от высохшей грязи носками, и сразу вспомнила все.
Она гадливо поежилась. Ощутила синяки на плечах и груди. Почувствовала себя грязной, захватанной чужими мужскими руками.
Дверь, одностворчатая, деревянная, с облупившейся, пожелтелой краской, с грубым железным замком, была притворена. В щель, должно быть из коридора, тянуло холодным и противным запахом дешевых номеров.
Светлана села на постели. Привычным движением она поправила волосы и заплакала.
«Невеста Сатаны… Вот оно, пробуждение после брачной ночи». Плач перешел в рыдания. Точно пелена спала с ее глаз. Она все поняла. Куда она теперь пойдет, к кому явится, вся грязная, опозоренная, мерзкая самой себе? Она до крови закусила губы, чтобы подавить стон, и стала поспешно обуваться. Чулки терли ноги. Башмаки были сыры и грязны. Светлана надела пальто и шапочку, взяла сумочку. Она не знала, куда пойдет и что будет делать. Хотелось одного: как можно скорее уйти из этого грязного притона.
Она заглянула в щель у двери. Недлинный коридор с некрашенным деревянным полом и дорожкой из лоскутков упирался с одной стороны в коричневую дверь с задвижкой и прорезом в виде сердца, откуда тянуло нудной вонью, с другой была обитая рваной клеенкой выходная дверь с веревочным блоком. К блоку был привязан кирпич. В коридоре никого не было. Светлана неслышно скользнула за дверь и побежала по коридору. Тяжело распахнулась дверь с блоком, и Светлана вышла на улицу.
Ночная буря, дождь и снег прекратились. Было тихое, туманное утро. Морозило. Выпавший за ночь мокрый снег подмерз и покрылся льдистой хрустящей коркой. Улица была узкая, пустынная. Она легким изгибом спускалась, должно быть, к реке. Шаги редких прохожих оставили глубокие следы на снегу. Две колеи переплетались по белой глади. Кругом заборы, пустыри, огороды, узкие ряды берез и ив, редкие жидовские хаты.
Наискось в деревянном, побольше других, доме с мезонином, в нижнем, подвальном, этаже светились желтыми огнями два окна. Над узкой дверью висела вывеска: «Sklepspozuwczy» – и пониже: «Icek Samowar». На ставнях были прибиты жестянки реклам: «Czcklad Wedel», желтый куб «Maggi», изображение пестрого мыла «Radion». Дверь в лавочку была приоткрыта. Из нее на улицу клубился пар.
Эта лавочка почему-то привлекла внимание Светланы.
«Да, конечно», – подумала она и перебежала через улицу к лавочке.
В окнах, не особенно аппетитно, лежали длинные, витые, мучные булки, стояли корзины с картофелем, лежала в кадке глыба желтого масла и пирамидой были сложены шоколадные плитки в засиженных мухами пыльных обертках.
Три ступеньки вниз, мимо веревок, ремней, пахнущих дегтем, и извощичьих кнутов с малиновыми в блестящей коре рукоятками. На исщербленном, изрезанном, темном прилавке старинные весы с медными чашками на длинных цепочках с железным коромыслом, чугунные гири, пахучие ящики с копчеными селедками и ящики с гвоздями. За прилавком еврей в черном пальто с потертым, широким, до плеч, лохматым бараньим воротом, с черной узкой бородой, в шапке. Как только Светлана посмотрела на него, ей все стало ясно. Она уже знала, за чем пришла, и знала, что ей осталось сделать.
Другого выхода нет. Для этого у нее еще достаточно гордости.
– Цо пани потшебуе?
Острые темные глаза безразлично смотрели в темно-синий огонь глаз Светланы. Ее смятая голубая шапочка и точно изжеванный impermeable не удивляли жида. Это его не касается. Он готов служить всем, что есть у него в лавочке, и даже больше. Если чего нет, он достанет. От керосиновой лампы под жестяным плоским абажуром на его голову и воротник льется теплый, желтый свет.
Плоское, языком, пламя в стекле раздражает Светлану, мешает тому решительному и важному, что совершается в ее душе.
– Чи пан ма папьеру листового, коперты и значек почтовы?
Светлана удивляется, как спокойно и естественно звучит ее голос.
– Проше бардзо.
– И атрамэнт есть?
– Но для чего не. Знайдется и атрамэнт.
– Чи могла бым написать у пана лист?
– Проше вэйст. Таки лист пани напишэ, же навэт самэму цесажови альбо презыдентови послать можна.
Жид сбросил с края прилавка толстого полосатого серого кота, расстелил, чтобы щели прилавка не мешали писать, старый номер газеты, подвинул Светлане просиженный соломенный стул и подал баночку с чернилами, перо, бумагу, конверт и марку. Сам деликатно отошел в темный угол лавки.
Светлана наклеила марку, быстро написала адрес Ядринцева и стала писать записку. Заметила, что чернила красные. «Как странно. Точно кровью». Она писала уверенно, без колебаний, без обращения: к Владимиру. Это ведь не ему, это всем… Это будет единственное объяснение.
Подняла голову, посмотрела на жида. Спросила по-польски:
– Почтовый ящик далеко?
– Внизу у реки.
Все стало ясно Светлане. Тем лучше. Писала большими прямыми, четкими, тонкими, женскими буквами:
«Жить не хочу. Замуж не выйду. Иду к моему настоящему любовнику, Сатане».
Ни слова больше. Ни подписи… Больше не надо ничего…
18
Письмо глухо ударилось о дно пустого железного ящика. Река была внизу, неподалеку, под песчано-глинистым обрывом. Она была прикрыта густым слоем тумана.
Светлана спустилась к самому берегу. У глины, изрезанной прибоем, стыла черная вода. Легкий пар поднимался от нее и сливался с туманным покровом.
Ноги Светланы в легких серых туфельках и чулках застыли, когда она вошла в воду. Заледеневшим ногам вода показалась теплой. Остановилась. Перед нею тихо колебался туман. Беспредельной и бескрайной казалась река.
«Поднять руки. Сложить ладонями вместе и развести… А вдруг полечу?.. К небу?.. Нет, к небу не полечу… In profundis! Gloria in profundis Satani![21]
Ступила еще два шага…
«In pro-fun-dis!»
Захватило дух ледяным, тяжким холодом. Было противно прикосновение тяжело намокшего белья. Сцепив зубы, Светлана заставила себя сделать еще шаг.
Вода подступила по пояс. Туман застилал глаза. Ужас мертвыми белыми глазами заглянул в душу Светланы.
«Назад… Назад… Что я?.. Жить… Жить! Во что бы то ни стало жить», – молнией пронеслось в голове. Светлана хотела повернуться. Ноги скользнули вниз по илистой глине. Она взмахнула руками и сразу ушла в воду по шею.
– Спасите… Спасите!.. – крикнула она.
Туман точно ватной подушкой прикрыл ей горло. Глухим и неслышным показался ей ее крик. Она быстро перебрала ногами, ноги нигде не находили упора. Пальто путалось вокруг колен. Холодная вода подступила к глазам и сомкнулась над головой. Светлана дернулась всем телом и на секунду вынырнула. Белое лицо было искажено мукой. На намокших, облепивших затылок коротких волосах нелепым темным пятном еще держалась смятая шапочка. Теперь вода сняла ее, и она медленно, не колышась, поплыла, исчезая в тумане. Голова опять исчезла под водой. Один миг были видны руки с судорожно растопыренными тонкими пальцами… Потом исчезли…
Под покровом тумана река тихо, без шелеста, без всплеска, неслышно несла свои воды, точно испуганная тем, что случилось. Казалось, она стремилась уйти подальше от того места, где, свернувшись безобразным комком, в густом иле, между скользких коряг и водорослей, лежала невеста Сатаны.
19
Тамара Дмитриевна ходила по комнате взад и вперед. Металась как зверь в клетке. Чувствовала, что со Светланой должно случиться что-то ужасное. Сердце ее мучительно билось. Что делать? Куда бежать?
Она посмотрела на окно. Оно было залеплено снежными мокрыми брызгами.
«В такую погоду».
У нее с дочерью было только одно непромокаемое пальто. Когда в непогоду дочь выходила, мать сидела дома.
«Пустяки… Ну, промокну», – подумала она.
Она надела старую черную соломенную шляпу и вязаную шерстяную кофту. Взяла свой старомодный зонтик с тонкой ручкою.
«Но куда же идти? В полицейский комиссариат? Что сказать там? Ушла дочь… Ну, ушла и придет… Какое до этого дело полиции?.. Ведь я даже не знаю, куда пошла Светлана».
Она отложила эту мысль.
«К Ядринцеву?.. Чем он поможет? Тямтя-лямтя, как зовет его Светлана. Только будет зря суетиться… К Подбельскому?.. Ах, если бы Глеб и Ольга были здесь…»
Идти ночью было некуда. Но оставаться дома не было сил. Тамара Дмитриевна посмотрела на часы. Десятый час… «Пойти на городской телеграф… Послать телеграмму Глебу и Ольге, вызвать их».
Тамара Дмитриевна быстро шла по мокрым и грязным улицам. Она сдала телеграмму: «Светланой неблагополучно. Приезжайте немедленно…»
Возращалась, несколько успокоившись. Что-то сделано. Оставалось только ждать.
Дома она сняла промокшее платье, прибрала разбросанные вещи Светланы и легла в постель. Холодный озноб стучал ее зубами. Без сна ждала утра.
Когда наступило утро, Тамара Дмитриевна решила идти к Подбельскому. К нему рано нельзя. Он сибарит. Встает в двенадцатом часу. Потому сперва зашла к Ядринцеву. Его не оказалось дома. Он пошел на вокзал встречать отца. Отец приезжал из-за границы. Тамара Дмитриевна оставила Владимиру записку, прося сейчас же приехать к Подбельскому.
Подбельский вышел к Тамаре Дмитриевне в роскошном халате, надетом поверх пижамы. Он извинился за свой костюм. Его чисто выбритое лицо было помято и устало. Он плохо спал ночь.
– Что-нибудь со Светланой? – спросил он тревожно, целуя руку Тамары Дмитриевны.
– Я, Владимир Станиславович, прямо не знаю, что и думать. Светлана вчера ушла в десятом часу вечера по этой ужасной погоде и ее до сих пор нет.
– Она вам ничего не говорила?
– Ничего…
– Гм… странно… Однако… не думаю…
– У вас есть какие-нибудь предположения? – с беспокойством спросила Тамара Дмитриевна.
– Пока никаких… Вот что… Подождите меня одну минуту… Как вы бледны, однако! Я прикажу подать вам кофе… Сам я сейчас оденусь и поеду в комиссариат… Мы нажмем все пружины… Ведь можно послать искать полицейских собак.
Мысль, что ее дочь будут искать собаками, показалась Тамаре Дмитриевне оскорбительной. Но она промолчала.
Когда она одна в кабинете Подбельского пила кофе, пришел Владимир. На нем не было лица. Увидав Тамару Дмитриевну, он кинулся к ее ногам и, целуя ее полные белые руки, так похожие на руки Светланы, залился слезами.
– Какой ужас!.. Вы еще не знаете… Светлана…
Вошел Подбельский. Владимир бросился к нему.
– Читайте!.. – выкрикнул он с так не шедшей ему злобою, протягивая листок, исписанный красными чернилами… – Вот до чего довели ее ваши рассказы о всякой чертовщине!
– Успокойтесь, – сказал Владек. – Это почерк Светланы Алексеевны?
– Да.
Владек, пробежав записку, побледнел. Он молча стоял, видимо, охваченный какой-то неожиданной мыслью. Тамара Дмитриевна поднялась с кресла и глядела на него большими глазами, из которых падали слезы.
Владимир рыдал, закрыв лицо руками.
– Что же?.. Говорите, – едва вымолвила Тамара Дмитриевна. – Говорите. Я готова на все… На самое худшее…
– Я боюсь, – твердо и жестко сказал Подбельский, – что это хуже самого худшего.
– Она… покончила с собой?..
Подбельский не ответил на вопрос. Он говорил, ни к кому не обращаясь:
– Вчера ночью здесь, у нас в городе, сатанисты служили черную мессу…
Тамара Дмитриевна с немым вопросом смотрела на говорившего. От ужаса и изумления даже слезы перестали течь из ее глаз.
– Когда совершается черная месса, гибнут молодые невинные девушки, – продолжал говорить Подбельский. – Помните, два года тому назад, у нас в городе говорили о самоубийстве Рахили Абрамович, семнадцатилетней красавицы еврейки. Богатая, прелестная девушка, она вдруг загрустила и внезапно, как будто без всякой причины, покончила с собой. Тогда мы были заняты «переворотами». Улицы были покрыты трупами убитых, и смерть девушки прошла бесследно… Совсем недавно отравилась цианистым кали шестнадцатилетняя девочка, прелестная куколка, баронесса Финтеклюзе. Была весела, жизнерадостна, имела жениха, которого безумно любила. Потом вдруг стала вялой, раздражительной, злой… Временами была лихорадочно возбуждена, торопливо уходила из дома и пропадала на несколько часов…
– Как моя бедная Светлана… – прошептала Тамара Дмитриевна.
– Жених выследил ее. Она ходила к Пинскому.
– К Пинскому! – крикнул Владимир. – Почему же его не арестуют?
– Попробуйте.
– Но есть же полиция, правосудие, суд?
– Только не в демократическом государстве, – сказал с печальной усмешкой Подбельский.
– Такие дела в двадцатом веке!.. Это, наконец, не времена Генриха IV во Франции… Да и тогда, вы сами рассказывали, короли и папы карали преступников. Живыми сжигали их на костре.
– Да, тогда… Короли и папы… Тогда все-таки были честь и совесть… Впрочем, и тогда добираться до виновников было нелегко. В черных мессах принимали участие люди света, аристократия, высшее католическое духовенство…
– Теперь нет аристократии… Теперь все равны! – пылко сказал Владимир.
– Увы, нет. В наш партийный век аристократия есть, только она иначе называется… К кому вы пойдете?.. Раньше таких мерзавцев, как Пинский, мог сократить любой генерал-губернатор… Наконец, вы могли обратиться к Государю… А теперь… К кому вы пойдете? К президенту?.. Но вмешаться ему – значит поднять скандал на всю Европу… В демократической республике – черная месса!.. Правительство, которое об этом заявило бы, просмеют на весь свет реакционным. Сорвут ему выборы… Допустить судебный процесс против Пинского значило бы признать, что демократия не спасет от пороков феодализма… Кроме того, Пинский близок к советскому полпредству… При нашем-то ухаживании за Советами разве посмеют тронуть «красного» Пинского из-за какой-то «белой» девушки, графини Сохоцкой?
– Что же тогда делать? – бледнея, сказал Владимир. – Может быть, мы еще ошибаемся… Позвольте мне посвятить сегодняшний день на расследование… В шесть часов вы, графиня, и вы, Владимир, а если приедут Вонсовичи, то и они, пожалуйте все вместе ко мне. Посмотрим… Если нельзя воскресить мертвую, из этого не следует, что живые должны падать духом.
– Я знаю, что я сделаю, – угрюмо сказал Владимир. – Я убью Пинского.
Подбельский окинул его взглядом с головы до ног. Точно хотел оценить его.
– Нет, – тихо сказал он. – Вы не убьете Пинского. Это не так просто.
– А вот посмотрим, устоит ли его колдовство перед простым отцовским Смит-Вессоном.
Ядринцев резко повернулся и, ни с кем не прощаясь, вышел.
– Я поеду, – сказал Подбельский, обращаясь к Тамаре Дмитриевне. – Будем надеяться, что дело не зашло так далеко. Может быть, дочь ваша жива и ее еще можно спасти.
20
Спустился туман, и ранние наступили сумерки. В серых пеленах, как тени, ходили люди. Трамваи непрерывно звонили, и часто гудели автомобили, звуками прокладывая себе путь. Уже с трех часов по городу были зажжены фонари и засветились огнями окна домов и магазинов. Город жил полною жизнью, кричал, звонил, трубил и гудел в море тумана. Как всегда, вспыхивали вывески электрических реклам, у кафе суетились лакеи и служанки, и жизнь шла, равнодушная ко всему, мимо чужого горя.
Владимир не сразу и не скоро разузнал адрес Пинского. Когда он вышел на окраину города, стало темно. На пустынной улице не горели фонари и Владимир долго бродил, отыскивая нужный ему номер. Скорее догадался, чем узнал, где дом Пинского, и резко позвонил у калитки. Никакого движения не было в доме, нигде сквозь щели ставен не показалось света… Владимир продолжал звонить. Хотя бы скандалом, он заставит открыть ему двери, он узнает все о Светлане и, если надо, убьет Пинского.
Когда Владимир брал отцовский револьвер, старый, тяжелый Смит-Вессон, он решил просто и сразу убить Пинского, как несомненного виновника гибели Светланы. Теперь, стоя у калитки его дома, Владимир не ощущал в себе этой первоначальной решимости. Были уже колебания. Сначала надо убедиться, будет ли с ним говорить сам Пинский. Ведь Пинского он никогда не видел в глаза. Знал только, что Пинский очень старый… Но ведь и другой старик может оказаться в доме. Не убить бы другого, невинного. Надо раньше спросить, показать записку Светланы, выяснить, что все это значит, а потом уж стрелять. Стрелять, пулю за пулей… Упадет– палить и в лежачего, пока не сдохнет.
Опустив правую руку в карман пальто и сжимая в ней рукоятку револьвера, Владимир продолжал левой рукою дергать звонок. Внезапно почувствовал, что за калиткой кто-то есть. Он не слышал шагов, хотя по подмерзлому хрусткому снегу шаги должны были быть слышны. Он только ощутил чье-то присутствие за толстыми темными досками и ему стало страшно. Он выпустил звонок. Лишь только затихло его противное глухое дребезжание, тяжелая высокая калитка медленно и бесшумно раскрылась, и в туманном сумраке сада, на белом снегу, наметилась фигура невысокого человека в маленькой черной шапочке, в широкой шубе с большим меховым воротником. Острый взгляд бесцветных глубоких глаз впился во Владимира. Владимир разглядел острую седую бороду. Он сразу так растерялся, что, ничего не спрашивая, стоял против старика. Так продолжалось несколько мгновений; Владимир не мог оправиться и терялся все больше. Старик ясно и внятно сказал по-русски:
– Вы Владимир Ядринцев… Вы пришли убить меня…
Он помолчал немного, точно ожидая подтверждения или протеста со стороны Владимира, но Владимир по-прежнему растерянно молчал.
– Отдайте ваш револьвер, – приказал старик.
Владимир медленным и деревянным движением, точно у него затекла в кармане рука, достал из кармана пальто револьвер и подал его, держа дулом вниз, старику.
Калитка так же медленно и бесшумно закрылась. Было слышно, как визгнул на морозе тяжелый, железный засов.
Владимир повернулся от калитки. Казалось, прошло всего несколько минут, что он пришел сюда, а кругом уже стояла черная ночь. Сады и заборы на противоположной стороне улицы были едва приметны.
Владимир позабыл, откуда и как он пришел. Он двинулся теперь наобум вдоль по улице. Улица становилась пустыннее. Показалась какая-то площадь. Высокие деревья неподвижно темнели кругом. «Куда я иду?» – подумал Владимир. Он повернул назад. Три улицы острым углом сходились к нему, и он не знал, по которой ему идти. Он пошел по средней, свернул налево, опять налево… Заблудился… На лбу выступила испарина. Шерстяной шарф давил шею. Стало страшно. Кругом не было никого. По сторонам тянулись высокие заборы и сады. Обледенелая деревянная панель была под ногами… Владимир не узнавал места.
– С нами крестная сила, – прошептал он, потом снял шапку с намокших волос и перекрестился. Вдруг неясно услышал шум города. Где-то проблеял рожок автомобиля. Владимир пошел в ту сторону, по середине улицы, по снегу. Шел, торопился, скользил и спотыкался. Ему казалось, что прошла целая вечность с той минуты, что он стоял перед стариком. Да и стоял ли? Не был ли это сон? Не померещилось ли ему? Он ощупал карман, где лежал револьвер… Нет… В кармане было пусто. Зря пропал старый отцовский Смит-Вессон. Мысли о Светлане, боль и скорбь, отчаяние и злоба куда-то отошли. Его все сильнее охватывал мерзкий, липкий, подлый, тупой, животный страх за самого себя. Стало казаться, что старый Пинский заворожил его. Так вот и будет ходить без конца по прикрытому туманом городу. Никогда не найдет дорогу домой. Никогда не выйдет из лабиринта маленьких темных уличек и переулков. Владимир стал читать молитвы. Он снимал теплую шапку и часто крестился.
Вдали показались огни большой улицы. Прогудел трамвай, сверкнул огнями стекол. Большой номер выявился вверху – двадцать пятый…
Владимир с облегчением вздохнул и пустился бегом к остановке трамвая.
21
Был восьмой час вечера на исходе, когда Владимир, усталый и весь разбитый, добрался до дома Подбельского. Хозяина еще не было, но кабинет его был полон людей. На тахте сидели Тамара Дмитриевна, Ольга и Глеб, старый Ядринцев стоял у камина.
– Ну что?.. Нашли мою Лану? – повернулась Тамара Дмитриевна к Владимиру, в расстегнутом теплом пальто и в шерстяном шарфе, висящем на шее, со спутанными мокрыми волосами, вошедшему в кабинет.
Голос Тамары Дмитриевны стал низок и хриповат, странно напоминая хриплое от куренья контральто Светланы. Лицо ее было бело. За этот день она сразу постарела на несколько лет. Владимир начал рассказывать о своей встрече с Пинским. Тамара Дмитриевна перебила его.
– Значит, ничего? – сказала она, закрыв лицо руками.
В эту минуту в кабинет вошел сам Подбельский. За ним шел незнакомый человек лет тридцати. Он был высокого роста, красивый, стройный, худощавый. Мягкие светло-русые волосы были густы, и ясные голубые глаза смотрели твердо и прямо. Он был хорошо одет в штатское платье, только не того преувеличенно модного покроя, как носили в городе. Все на нем было просто, строго и удобно, как носят американцы.
Подбельский и незнакомец, сделавший при входе только общий поклон, прошли к письменному столу в глубь кабинета. Подбельского встретили молящие глаза Тамары Дмитриевны. Он невольно опустил свои.
– Ничего не удалось узнать?
– Мы с моим другом… он очень ловкий и опытный человек… – сказал Подбельский, – были везде. Были в морге, во всех больницах, в полицейских комиссариатах, в речной полиции, на железнодорожных вокзалах… Панны Светланы, ни живой, ни мертвой, мы нигде не нашли… Мы были даже у ясновидящей. Она нам сказала: «Не ищите девушку… Она погибла».
Тамара Дмитриевна опустила голову на плечо Ольги и залилась слезами. Ольга брала ее руки, гладила их и тихо целовала.
– Нет… – наконец сквозь слезы, с трудом вымолвила Тамара Дмитриевна. – Не могу я больше… Мне слишком тяжело… Я лучше поеду домой.
Она через силу поднялась с тахты. Ноги ее не держали. Ольга тоже встала, поддерживая ее.
– Я поеду с вами, – сказала Ольга. – Глеб, ты потом приезжай за мной.
Они вышли. Хозяин пошел их проводить. Владимир продолжал стоять посередине кабинета, все еще в пальто и шарфе. Он ерошил спутанные волосы и дико озирался.
Когда Подбельский вернулся, Владимир тупо посмотрел на него, потом на отца и вдруг закричал:
– Господи! Что же это? Мне остается только застрелиться. Папа!.. Папочка!.. Что же мне делать? – И он глухо и некрасиво, как плачут мужчины, зарыдал. – Не уберег я Светланы…
Старый Ядринцев подошел к сыну и положил ему руку на голову.
– Володя, – тихо и ласково сказал он, – вспомни, что у тебя есть мать… сестра… Меня, старика, пожалей.
– Вспомните также, что есть еще Россия, – твердо, но сердечно сказал незнакомец.
– Что? – повернул к нему заплаканное, искаженное, некрасивое лицо Владимир. Теперь и Глеб, и Владимир, и старый Ядринцев как-то сразу подумали, что они, собственно, даже не знают, кто этот человек.
– Есть еще Россия, – повторил незнакомец. – Вы приходите в отчаяние, вы хотите покончить с собой из-за одной девушки. Пускай прекрасной… Пускай вами горячо любимой… Невесты вашей. Но думали ли вы о миллионах молодых и тоже, быть может, прекрасных девушек, кем-то не менее вашего любимых, тоже кому-то нужных и дорогих, погибающих в сатанинском союзе советских республик?
Владимир тупо смотрел на незнакомца, казалось, ничего не понимая.
– Думали ли вы о миллионах детей, отнятых от родителей, брошенных матерями, не знающих, кто их отец, и беспризорно бродящих по городам и селам? Они умирают в нищете от холода и голода. Завшивевшие, покрытые паршами, они предаются самому гнусному разврату и порокам. Думали ли вы о стариках и старухах, о юношах, расстреливаемых по подвалам, умирающих в застенках, о Христовой православной вере, гонимой и ожесточенно преследуемой?
– Какое же все это имеет отношение к Светлане? – спросил, недоуменно оглядываясь на окружающих, точно ища у них помощи, Владимир.
– Какое?.. А вот какое! Вы хотели убить одного сатаниста. Убейте сотни еще более вредных сатанистов, измывающихся над вашей Родиной. Если вам суждено умереть, сложите свою голову в честном бою, а не берите на себя греха напрасного самоубийства, – горячо сказал незнакомец.
– Но почему, наконец, по какому праву вы мне все это говорите? Я вас совсем не знаю, – точно просыпаясь, сказал Владимир.
– По тому праву, что я сам пережил в ваши годы такое же горе.
– Вы тоже потеряли невесту?
– Да, она пропала без следа в тогдашнем хаосе. Тогда все рушилось под ногами. Родина изгоняла нас… Потом я был грузчиком угля в Константинополе, служил стюардом на итальянском пароходе, мыл посуду в кафе Буэнос-Айреса, служил в Парагвае в кавалерии… И вот там, в глуши американских прерий, я почувствовал зов матери-России. Я бросил обеспеченное место и приехал сюда. Здесь я понял, что бороться и умереть за Родину – счастье… Я вас зову к подвигу и к этому счастью. Разве мало примеров? Я видел Бориса Коверду, молодого героя, по мужеству равного героям древности. Юношу, бестрепетно совершившего кару Божию и вошедшего в русскую историю. Или вы думаете, что не найдется других? Я видел героиню-женщину. Когда все, разбитые, успокоились по заграничным логовам, она не успокоилась. Она продолжала борьбу. Она появилась здесь. Сколько раз она переходила границу, носила «туда» газеты, письма, книги. Свет живой вносила в мрачный застенок… Она уничтожала, где могла, коммунистов.
– Убивала их? – спросил жадно прислушивавшийся Глеб.
– Конечно, убивала… Как же иначе? – просто ответил незнакомец и продолжал: – Раз в Москве она бросила бомбу в собрание коммунистов… и ушла невредимая. Мне рассказывали приезжие из Москвы. Там в милиции, среди красноармейцев, у обывателей, в народе стала даже ходить легенда: по ночам в Кремле бродит маленькая хрупкая женщина с бомбой в руках. Ее ловят, но поймать не могут. Исчезает, как призрак. Она была опять за границей, видела, кого надо, и пошла снова в Россию. Ее предали… Этот гнусный «Трест», устроенный ГПУ, завлек ее в засаду. Она с двумя спутниками была окружена целым батальоном. С пулеметами. Был долгий бой. Трое против четырехсот. Они сумели дорого продать свою жизнь. Много красных пало… Ее спутников взяли раненых. Конечно, расстреляли. Про нее кто говорит, не нашли вовсе, кто говорит, нашли убитой… Или застрелили в бою, или она сама покончила с собою: последний патрон себе… Я зову вас к такой же действенной любви к России, чтобы отдать ей и жизнь… Нас еще мало… Но когда станут нас тысячи, – такая раскачка пойдет в Совдепии, что сгинет дьявольская власть. Эта задача получше, чем убить Пинского.
Незнакомец кончил и посмотрел на внимательно слушавшего его старого Ядринцева.
– Вы, кажется, хотите что-то сказать, ваше превосходительство? – обратился он к нему.
22
– Да, – проговорил, поглаживая седую бороду, Ядринцев. – Все это верно. Я сам много по этому поводу думал. А только как? Прежде всего вождей нет… Командиров.
Подбельский повернулся к нему.
– Век такой нынче, Всеволод Матвеевич… Без вождей… Демократический теперь век… Вы оглянитесь. Была величайшая за всю историю война. Буквально мировая война. Кажется, каких бы Цезарей, Наполеонов, Фридрихов должна была родить. А где они? Поставила ли Франция памятники своим Жоффру, Фошу или Петэну?.. Нарекла ли их героями? Нет. Одна могила «неизвестного солдата…». Кто он такой? Никто не знает… Неизвестный… Никто или не́кто.
– Еще, может быть, дезертир какой-нибудь, случайно подвернувшийся под пулю, – хмуро заметил Ядринцев.
– Что ни говори, а неизвестный солдат, а не маршалы, спас Францию. Неизвестные солдаты – вот кто вожди! Люди из народа… Вот и применяйтесь ко времени. Ведь и ваших вождей – я говорю вам по-русски, но, как поляк, – разве вознесли?.. Разве поддержали, подняли, пошли за ними? Колчака предали. Деникину изменили… Врангеля бросили… Век такой, что надо как-то самим… без вождей. Те кому вы верите, оказались за границей, и заграница эта самая им не то что действовать, но и говорить-то не позволит.
Незнакомец, все время внимательно присматривавшийся к Глебу и Владимиру, сделал шаг на середину комнаты и, глядя на Глеба и старого Ядринцева, сказал:
– Наше дело – партизанское. Работать по всей России от Никольска-Уссурийского до Петербурга, от Архангельска до Баку и Батума, работать тайно, подпольно, при постоянной слежке, при невозможности держать между собой правильную связь… Как можем мы при таких условиях иметь одного вождя и слушать его приказы? Это технически невозможно. Довольно иметь единое идейное руководство, и мы его имеем.
– Ну, и будет разброд, – сказал старый Ядринцев.
– Разброда не будет, если есть единый план и единая цель… Наш вождь – единая идея спасти Россию от коммунистов. Вытравить, уничтожить их, сделать их разрушительную работу невозможной. У нас есть и далекий Вождь, Верховный Главнокомандующий. К голосу его мы прислушиваемся и его общие заветы свято храним. И он говорит, и мы сами знаем, что коренные вопросы всего русского устройства могут быть разрешены только на русской земле и в согласии с желаниями самого народа. Потому мы идем работать в Россию. Мы не несем с собою никаких партийных программ и не имеем под собою никаких политических платформ. Мы прежде всего солдаты, чернорабочие активисты, освободители России от 3-го интернационала. Мы не мстим за прошлое. У нас нет ни религиозной, ни племенной нетерпимости. Мы верим, что будущая русская государственная власть будет внеклассовой и внепартийной. Она будет властью русской, национальной. Мы идем не за отнятие у крестьян земли, а за то, чтоб она была укреплена за ними законом в полную собственность… Да и девять десятых из нас – крестьяне… Мы стоим за мир. Но мы знаем, что мир достигается не кабинетными рассуждениями и сговорами, а общим уважением к праву, могуществу, богатству и законности… Бедного толкнут – богатого не тронут… Нас были сотни… растут тысячи… Когда будут десятки тысяч, мы уничтожим коммунистов… Я скажу вам коротко: вам жизнь не нужна? Тогда отдайте ее отечеству, а не губите даром.
– Но для этого, – сказал старый Ядринцев, – надо идти в Россию.
– Конечно, – холодно бросил незнакомец.
– Но туда не пускают. Нужны паспорта… визы.
– Сильному и смелому не нужны ни паспорта, ни визы. Сильный и смелый обернется серым волком и проскочит лесами… Я изъездил весь свет, и я не знаю, что такое паспорт. Наши визы – болотные туманы, наш паспорт – темный лес, а консулы наши – русские крестьяне.
– Выдадут, – сказал Глеб.
– Кто выдаст, того другие смертью накажут. Нет расчета выдавать.
– Но ведь для борьбы нужно оружие… Где достать его? – сказал старый Ядринцев.
– Оружие? – пожал плечами незнакомец. – Вы еще скажите: патроны, снаряды, аэропланы.
– Как же без них воевать?
– Да разве вас-то самих большевики оружием победили? Ленин и его присные прибыли в вагонах без всякого оружия, а у вас пятнадцать миллионов солдат и матросни под ружьем стояло… А что же вышло?
– Ну уж, – возмутился, не находя слов для ответа, Ядринцев. Он густо покраснел, и его шея стала бурой.
– Белая армия Корнилова, Деникина и Маркова побеждала безоружная… А когда получила оружие и танки, кончились и ее победы. Самое мощное оружие есть слово… Идея!.. На их жадное, подлое, развращенное слово надо найти более сильное, но честное слово и этим словом выбить из красных рук оружие.
– Это, конечно, – сказал старый Ядринцев. – Только и это не так просто… – И как бы про себя договорил: – Много ведь и провокаторов теперь по белу свету ходит.
Незнакомец твердо и смело посмотрел в серые, честные глаза Ядринцева.
– Вы, ваше превосходительство, если не ошибаюсь, служили в Тмутараканском пехотном полку?
– Восемь лет имел честь командовать этим полком. Шесть лет до войны и два года на войне, пока не получил бригады.
– Казармы полка были в Борисовой Гриве?
– Совершенно верно. На урочище Борисова Грива, подле самого городка Добротина были наши казармы.
– И совсем недалеко от Борового и фольварка Александрии, где теперь граница польской республики и где служат господа Вонсовичи?
– Недалеко-то недалеко… Двадцати даже верст нет… А вот поди ж ты. Никак туда не доберешься. Лес… топи… болота… Чистая тайга… Хуже Сибирской тайги будет.
– Но вы-то, вероятно, там всякую тропинку знаете?
– Еще бы… И охотничал… И на маневрах, и с разведками… Я, кажется, каждую сосну, каждую кривую березку на кочке там знаю, как родного кого…
– Вот и поезжайте с вашим сыном на фольварк Александрию. Там, у границы, самый воздух научит вас, что делать. Да, кстати, Бог даст, там научитесь и тому, как отличать провокаторов от честных людей.
В голосе незнакомца не было ни волнения, ни гнева. Он поклонился общим поклоном и вышел из комнаты.
– Кто это? – обратился к хозяину старый Ядринцев.
– Я не могу его вам назвать, – сказал Владек. – Это участник Братства Русской Правды и один из «Белых Свиток».
– Белая Свитка! – воскликнул Владимир. – Глеб, ты помнишь? Весна у Франболи… «Коммунизм умрет – Россия не умрет».
Часть третья БЕЛАЯ СВИТКА
Казармы N-ского стрелкового полка рабоче-крестьянской Красной армии вытянулись вдоль шоссе, в полутора верстах от маленького городка Добротина. Они были построены за десять лет до войны Инженерным ведомством. Тогда Русское правительство, по стратегическим соображениям, отодвигало войска в глубь страны и строило для них казармы. Теперь эти казармы оказались снова около самой границы новой Польской республики.
Четыре одинаковых, точно красные коробки, четырехэтажных флигеля вытянулись в линию, отступя от шоссе. Каждый в царское время вмещал по батальону. Посередине пятый, особый, трехэтажный флигель, покрасивее фасадом, имел внизу полковой околодок и канцелярию, во втором этаже – офицерское собрание и квартиру командира полка и в третьем этаже квартиры штаб-офицеров. Под прямым углом к этой линии красных домов-коробок, образуя обширный плац, тянулись к шоссе трехэтажный офицерский флигель с квартирами ротных командиров и младших офицеров и низкие здания: широкая, разлатая, с небольшим золотым куполом и звонницей над входом церковь-манеж и длинные подслеповатые постройки конюшен, обозных сараев и цейхгаузов. Эти постройки смыкались между собою высокою кирпичною стеною в две сажени, образуя утоптанный и ровный полковой плац.
С лицевого фасада, вдоль самого шоссе, забор был сквозной, решетчатый, из точеных деревянных жердей на кирпичном фундаменте.
До войны, когда все это было чисто, ново и цело, в середине, над широкими железными воротами между двух кирпичных столбов с белыми глиняными шарами, была водружена синяя вывеска в виде «змейки», что бывает на головных военных уборах, и на ней золотом было написано: «Казармы 899-го пехотного Тмутараканского генерал-фельдмаршала графа Миниха полка».
Часть плаца у офицерского флигеля была отделена сквозным деревянным забором, и там был разделан молодой еще сад. Густо, большими купами разрослись по краям и в середине сирень, жимолость и жасмин. Подстриженный кротекус тянулся вдоль решетки. Молодые тополя образовали две аллеи. На площадках были поставлены скамейки и насыпаны груды желтого песка для игр маленьким детям. В середине садика была высокая круглая ротонда для музыкантов с резными перилами и досчатою темно-коричневою крышей.
Против казарм, по другую сторону шоссе, шли широкие навесы и деревянные большие сараи фуражного и продовольственного магазинов.
Кругом, подступая к самому забору, на многие версты тянулся густой, сплошной, дремучий бор. Он шел по песчаному хребту над болотами и носил название Борисовой Гривы.
До войны эти плац, садик и казармы-коробки блистали немного скучною, точно прилизанною, казарменною чистотою. В них с утра и до вечера кипела жизнь, а ночью казармы горели длинными рядами ярко освещенных окон.
Стекла в казармах были всегда чисто вымыты и по вечерам алым пламенем отсвечивали на солнце. Плац был чисто подметен. В саду полковой садовник разделывал цветочные клумбы. На плацу с двух сторон стояли высокие столбы для гимнастики, висели лестницы, канаты, веревки, кольца и трапеции. Стояли турники и кобылы.
В саду по утрам в песке копошились дети, а те, что постарше, висли на решетке, смотря на ученья солдат на плацу. По четвергам и воскресеньям, от 4-х до 6-ти часов вечера, на круглой эстраде появлялся полковой оркестр. Полковой капельмейстер Адольф Иванович Баум составлял первую часть концерта из сложных увертюр и попурри из опер Чайковского, Глинки, Даргомыжского, осторожно подпуская иной раз (полковник Ядринцев не любил немецкой музыки) Вагнера и Моцарта. В это время полковые дамы, офицеры и барышни скромно сидели по скамейкам под жасминами и сиренью и мечтали о будущем. Во второй половине концерта Адольф Иванович с немецким сентиментализмом и с русской чувствительностью играл вальс «Березку», или «На сопках Маньчжурии», или «Хризантемы». Вдруг залихватски грянет он польку «Крендель» или Венгерку, и все придет в движение. Барышни в длинных розовых платьицах станут ходить с молодыми подпоручиками, вспоминая зимние балы в собрании. Ноги сами незаметно выделывают па. Глядишь, и где-нибудь в боковой аллее лихой поручик обхватил стройную штабс-капитаншу и вальсирует по песку на зависть менее смелым.
Головка в русых кудрях клонится к золотому погону, пение звонкого корнета эхом двоится о стены казарм, легкий вздох срывается с пухлых губок… Жизнь не кажется тяжелой…
Концерт заканчивается бодрым маршем Оглобина. Под него музыканты уходили из садика. Мерно качался турецкий барабан, грохот и звон тарелок отдавались по двору, и все окна казарм, точно розовым виноградом, были полны солдатскими короткостриженными головами.
Где-то далеко неслась и шумела жизнь. Кричала депутатскими глотками в Думе, шуршала газетными листами, полными клеветы и яда. В казармы эта жизнь не доходила. В зале офицерского собрания, давая всему тон, висели, как всегда, по одну сторону большие, в рост, портреты Государя и Государыни, и на них с другой стороны смотрели поясные изображения Императрицы Анны Иоанновны и фельдмаршала Миниха, шефа полка.
Прошлое спокойно смотрело на настоящее.
Паркетные полы зала гладко блистали, буковые стулья то чинно стояли вдоль стен под большими фотографиями начальствующих лиц и прежних командиров полка, то сдвигались в несколько рядов, выстраиваясь колонной перед доской, на которой висели карты и планы сообщения или военной игры.
В часы обеденного перерыва и вечером собрание гудело голосами. Столовая с длинными столами, покрытыми белыми скатертями, была полна. У буфетной стойки толпились офицеры. Солдаты, прислуга собрания, в чистых рубахах с алыми погонами, выходили из кухни, откуда славно пахло малороссийским борщом и с ним вместе то котлетами, то шнель-клопсом с луком, то пышащими капустным духом упругими голубцами. Заведующий собранием, поручик Червяков, летал как пушинка, рекомендуя командиру полка, плотному, кряжистому полковнику Ядринцеву, попробовать только что настоянную на померанцевом цвету водку: «Аромат удивительный. Любому бенедиктину не уступит…»
Полковой двор с утра кишел людьми, гремел барабанным боем и звучал возгласами команд и резкими щелчками выстрелов уменьшенным зарядом. На гимнастических городках липли люди в серо-зеленых рубашках с красными погонами.
Тут стояла шеренга и, рявкая в раз, отбивала оружейные приемы «по разделениям, счет вслух», и молодой безусый подпоручик с увлечением, сам рисуясь силою и звучностью своего голоса, тянул:
– Дела-а-ай… два!..
Там, гуськом, человек двенадцать новобранцев тянули носок и звучно ставили ногу на всю пятку, а против них маленький веснушчатый барабанщик отбивал редкий шаг:
«Там-там, там-та-там…»
Ефрейтор Кобыла, чернявый, с лицом красивой девки, в начальственном азарте бегал вдоль своей «гусеницы». Маршировал рядом, сгибал непослушную руку молодого солдата, выпрямлял кому-нибудь согнутую поясницу, убирая выпяченный зад, и кричал звонким голосом запевалы:
– Тяни носок униз!.. Осердись, вдарь усею пяткою!.. Становись на мягкую лапу… У, серота деревенская!..
С угла рычал молодцоватый бас штабс-капитана Зборилова, командовавшего всею собранною ротою… К полудню больше появлялось детей в полковом сквере и в окнах офицерского флигеля показывались завитые головки дам в соблазнительных распашонках и капотах. Штабс-капитанша Зборилова звонким голосом, врывавшимся между команд, звала к себе увлекшегося перебежками цепи в 16-й роте фокса:
– Буби!.. Буби!.. Ах, Боже мой! Он попадет-таки под стрельбу… Алексей Платоныч, поймайте же моего Буби. Что вы так стоите?..
Полковник Ядринцев со своим адъютантом Стрижевским переходил от роты к роте. Он смотрел, как крутились на шведской лестнице рослые молодцы 1-й роты. Поправлял подсумки на людях 9-й. Объяснял молодому подпоручику Разгонову, что учить надо рассказом, а больше показом и не надо трогать руками людей, и Разгонов с румяным, вспотевшим лицом стоял на вытяжку, радостно тараща глазами на «дедушку», как звали в полку Ядринцева, и держа руку у козырька заломленной на бок фуражки с синим околышем с таким видом, будто ему доставляло особенное удовольствие тянуться перед командиром.
К полудню от батальонных кухонь сильнее несло запахом щей, вареного мяса и в меру упревшей, сочно-зернистой гречневой каши. Роты постепенно кончали занятия.
Первою свернулась шестая, и запевало, тот самый ефрейтор Кобыла, что убеждал своих молодцов «осерчать и становиться на мягкую лапу», выводил нежным сиповатым голосом, точно играл на кларнете:
Из-под горки, из-под крутой, Едет парень молодой. Держит Сашу под полой. Не под левой – под правой…Вся рота подхватила:
«Здравствуй Саша, здравствуй Маша, Здравствуй милая Наташа, Дома ль маменька твоя?..»Первая рота, сверкая штыками, с громовым «ура» штурмовала входные двери правого флигеля.
Люди несли чучела для уколов. С гимнастики бежали к казармам на носках, и поручик Белкин на бегу подсчитывал, задыхаясь: – Ать-два, а… ать-два, ать-два…» Сзади, пыхтя, тащили тяжелую кожаную кобылу.
Командир полка внизу, в 5-й роте, в столовой, под большим образом Михаила Архангела, дуя на мельхиоровую ложку, пробовал из блестящих алюминиевых судков пищу, и повар-солдат в белом колпаке и белом переднике, с чистым лицом, внимательно и весело смотрел на него, ожидая похвалы.
Полковой двор пустел. Подполковник Обросимов, заведующий хозяйством, в сопровождении фельдфебеля и полкового каптенармуса, пожилого сверхсрочного подпрапорщика Корыто, обходил двор и смотрел сделанные за день повреждения. Вдоль стен казарм и на сараях белой краской были поставлены внизу вертикальные черты и от них в обе стороны стрелы с надписями: «участок 13-й роты», «участок 14-й роты».
На этом участке Обросимов остановился и пальцем показал на старый след собаки.
– Это постоянно на этом месте собака его высокоблагородия, – сказал полковой каптенармус.
– Как-кая собака? – строго спросил Обросимов.
– Да Бобка ихний.
– Ну и что же?
– Четырнадцатая рота так что обижаются. Собака двенадцатой роты, а им убирать приходится.
– Не то дело, Корыто, какой роты собака, а какой роты участок… Убрать.
– Слушаюсь…
Они шли дальше. Чистота в Российской Императорской Армии требовалась, как на военном корабле. Нигде ни пылинки, ни паутинки, ни клопа…
После занятий выходил «наряд» и под наблюдением подпрапорщика Корыто мел, чистил, ровнял и поливал водою плац.
По субботам, в ясные дни, весь плац покрывался подушками, матрацами и одеяла, ми и тростниковые палки били по ним, выбивая непрерывную дробь: можно было подумать, что в казармах шла частая перестрелка. Возня, мытье лестниц с песком, а также полов и окон шли до самого того часа, когда медленно и призывно дрожал колокол, оповещая роты, что через полчаса будет вечерня в полковом храме-манеже.
2
Так жили эти казармы до войны. Налетали на них осенние дожди, зима засыпала их снегом. Тогда наряд уборщиков увеличивался и люди, запрягшись в доски-лопаты, сгребали снег, расчищая плац, и из снеговых куч по сторонам вырастали белые валы, а потом строились из них показные укрепления. Шумели теплые весенние дожди, и обозные и артельные лошади со слипшейся в локоны пропотелой шерстью, сытые и блестящие, торопились свозить снег в лес, чтобы не затопило плаца. Однообразные ученья и муштровка сменялись блестящими парадами полкового праздника, когда красно горели груди лацканов, пристегнутых на мундир, а радостные крики людей сливались с медными зовами труб и треском барабанов.
Уходил полк длинной колонной на маневр на боевую стрельбу, и долго, все замирая, отдавался об окна офицерского флигеля задорный марш «Под двуглавым орлом», а полковые дамы и дети смотрели в раскрытые окна, не боясь простуды.
Летом уходил полк в лагеря. Казармы пустели. В офицерском флигеле оставались только две семьи, никогда не выезжавшие на дачи. Полковой квартермистр, капитан Заустинский с малярами, плотниками, слесарями и кровельщиками делал очередной ремонт на средства полка, «без расходов от казны…».
Так жили казармы своею замкнутою жизнью, чуждые бывшему невдалеке городу, не сливаясь с его населением.
Дамы ездили к мадам Пуцыкович за шляпами и нарядами, когда получала их она «из самой из Варшавы». Утром, на полковой линейке, на обозных лошадях отвозили детей, мальчиков и девочек, в школы и гимназии, а к трем часам их привозили обратно. Ездили разлатые зеленые артельные телеги, а зимою сани, запряженные сытыми Тамбовскими выкормками, с цветными поротно дугами, в город за мясом и приварочным продуктом, да в установленные дни с вениками под мышкой ходили роты в семейные бани Канторовича на Петербургскую улицу против костела. Иногда офицерская молодежь, после загула ночью, на жидовских балагулах, приведенных из города собранскою прислугою, мчалась с пьяными криками в заведение Фанни Михайловны на окраине города, у Виленского шоссе, где призывно горели фонари с красными стеклами, а из окон с алыми занавесками томно пахло помадой, рисовой пудрой и Варшавскими духами…
Да еще ходили по праздникам на базар солдаты, покупали переда и пахучий сапожный товар, выпивали в шинке и держались всегда своими группами, не смешиваясь с горожанами. Казармы к себе горожан не пускали.
У ворот, под синей вывеской, днем и ночью стоял дневальный: летом, весною и осенью, когда было тепло, был он в зелено-желтой рубашке, подтянутой ремнем с бляхою и со штыком в кожаной ножне, именуемым почему-то «селедкой», когда прохладнее, – в серо-желтом мундире с двумя рядами пуговиц для лацкана, а в большие праздники и с пристегнутым красным лацканом. Когда начинались холода и дожди, стоял он в шинели, а в сильные холода, – в тяжелом бараньем тулупе и кеньгах.
Такие были эти сменявшие каждые четыре часа дневальные ядовитые и придирчивые, что никого постороннего на казарменный двор не пускали. Раз не пустили даже барышню от госпожи Пуцыкович, шедшую с картонкой для примерки платья командирской дочке. Так и повернули назад. Барышня плакала, а командир полка похвалил дневального за порядок и за точное знание службы. Ибо это был уже не порядок, чтобы еврейские девицы, хотя бы и от самой Пуцыкович и к командирской дочери, ходили через полковой двор без разрешения на то дежурного по полку офицера. Мало ли кто может пройти и какую принести заразу. Так же и из казарм никто не мог уйти без увольнительной записки и за этим следили строго. Земляк ли, не земляк, своей ли, чужой ли роты, покажи записку и тогда ступай.
Были, конечно, отчаянные головы, что ночью лазили через двухсаженный каменный забор и удирали в город к девицам или просто в кабак. Но такие люди были редким исключением, и, когда ловили их, отсиживали они по двадцать суток «смешанным» арестом.
Так жили казармы на Виленском шоссе до войны.
С тех пор многое пришлось им повидать и многое пережить, пока не повисла над воротами синяя вывеска с намалеванной наверху красной пятиконечной звездой с кругом посередине, где, похожие на какой-то талмудический знак, были изображены круто изогнутый серп и молот. Внизу стояли буквы «Р.К.К.А.», что должно было обозначать «Рабоче-Крестьянская Красная Армия», а по насмешливому толкованию солдат-красноармейцев и жителей местечка значило: «разбойники, каты, каторжники, арестанты». Пониже звезды было написано: «N-ский стрелковый полк». И странно выглядело слово «стрелковый» без родного ему «ять».
Началась вся эта новая полоса жизни для казарм еще тогда, когда перед Великой войной была объявлена мобилизация. Тогда вдруг наполнился двор, такой всегда чистый, прилизанный и строгий, крестьянскими подводами и лошадьми, точно базар в жидовском местечке. Тогда во всех флигелях орали пьяные песни запасные и везде были суета и тревога.
Потом, в ночь, перед тем бледным августовским утром, когда уходили на погрузку, в каком-то не то патриотическом азарте, не то прощальном отчаянном порыве разбили во всех казармах прикладами окна и ушли, разорив изящные когда-то, как лакированная игрушка, красные казармы.
Тмутараканцы скрылись, бесконечной змеей уходя в колонне по отделениям, провожаемые плачущими женщинами. Ушли, чтобы никогда уже не вернуться. В казармах от всего полка остался только досидевший до нынешних времен полковой каптенармус Корыто с дочерью Пульхерией, теперь девятнадцатилетней разбитной девицей, кончившей гимназию.
Слыхал стороной Корыто, что их командир с семьей жив и где-то за границей. Только он один и остался. Остальные все погибли, кто на Великой войне, кто после, на гражданской. Капельмейстера Баума, как немецкого подданного, отвезли в начале войны в Сибирь, и он там помер. Поручик Червяков, что собранием заведовал, умер в семнадцатом году от тифа. Бравый запевало ефрейтор Кобыла получил три креста и под Ивангородом, пойдя за четвертым, так и остался лежать на немецком окопе, подняв кверху ставшее белым лицо и открыв рот: как кричал «ура», так и умер. Убит и штабс-капитан Зборилов в ночном бою, на Бзуре, когда на болоте брали немецкую позицию. Его жена, штабс-капитанша, приезжала в семнадцатом году в казармы, думала, что, может, что-нибудь осталось из ее вещей, сданных на хранение в полковой цейхгауз. Да только еще в шестнадцатом году маршевые роты начисто разграбили все офицерское имущество. Рассказывала тогда штабс-капитанша Зборилова, что даже и фокс ее Буби поколел, не вынес разлуки с казармами. Слыхал потом Корыто, что и самое штабс-капитаншу Зборилову убила в восемнадцатом году красная власть за сопротивление и упорную контрреволюцию. Не хотела, сказывали, отдавать портреты Государя и золотую шашку с георгиевским темляком мужа ее покойного. Убит был и стройный штабс-капитан Стрижевский: нес к полку знамя, чтобы идти в атаку, да так и лег под ним, накрытый тяжелым полотнищем. Умер от ран веселый, румяный подпоручик Разгонов, тот самый, что так любил тянуться перед командиром полка. Квартермистр Заустинский и подполковник Обросимов, ближайшее начальство Корыта, тоже, слышно, погибли на юге, в «казацко-кулацких помещичьих бандах Деникина…».
Да, все погибли… Самого имени Тмутараканского, фельдмаршала Миниха пехотного полка не осталось.
Остались казармы, да он, их хранитель, старый каптенармус Корыто.
Однако разбитые, продувные, точно слепые казармы не пустовали ни одного дня. Как только ушли из них Тмутараканцы, в них поместили маршевые батальоны. Устроились кое-как – ведь на время стараться не стоит, – занавесили окна рогожными кулями и мешками и, не чистя и не моя полов, на грязных провшивевших матрасах без одеял, валялись до отправки на фронт. Потом помещались там беженцы из Польши с женами и детьми, разгородившие казармы разным тряпьем, понабившие гвоздей в стены и пол, загадившие коридоры. Прошумела стороною польская война, когда казармы то пустовали, то являлись временным жилищем на несколько дней. Наконец, обосновался в них N-ский стрелковый полк Красной армии и казармы было приказано заново отремонтировать. Тогда взяли Корыто на службу, и попал он сразу в должность как бы самого Обросимова, заведующего в полку хозяйством и помощника командира полка, или, как смешно называли его молодые красные командиры из красных военных школ, пом-ком-полка. Не выговоришь натощак.
3
Советский полк имел три батальона, двенадцать рот очень слабого состава. Он не мог занять всех казарм. В Тмутараканском полку при Ядринцеве (живо это помнил Корыто!) все было полно, каждый уголок жил своей жизнью, своим порядком и нигде не было пустоты. Казалось, полною грудью дышали казармы.
Теперь, когда, из экономии, денег на ремонт помещений с трудом допросились и ремонт делали красноармейцы своими руками, часть флигелей пустовала, так и оставшись стоять без окон и дверей, усиленно загаживаемая красноармейцами и воняющая нудною вонью. Пришлось эти постройки наглухо забить досками. В других, где были помещены роты, вставили окна, не такие, как раньше, что при закатном солнце блистали багровым пожаром, а зеленоватые, с пузырями, с радужными, ало-лиловыми подтеками. Окна тускло блистали, будто печальные, слезою налитые глаза. Казармы кое-как подправили, подкрасили, лишние койки сдвинули в ротах по углам. Все стало как будто по-старому, только много хуже, чем прежде.
Однако молодежь, – молодые красные командиры и сами красноармейцы, – мало замечала все эти недостатки. Она не знала, как было раньше, «при царях». Знал про это только Корыто, но он предпочитал помалкивать.
Ожил и офицерский флигель. Но и он ожил не тою жизнью, как жил раньше. Корыту было приказано при распределении командирских квартир и ремонте их руководиться нормами, определенными приказами Нарком-воен. 1918 года, №№ 36 и 37. Одиноким холостым были устроены общежития, семейным были отведены квартиры из спальни и столовой, командирам рот и батальонов добавили по маленькому кабинету, а командиру полка еще и приемную. Было тесно, грязно, суетно и суматошно в этом флигеле.
Комиссия из рабочих-коммунистов строго следила, чтобы никто не смел получить больше «жилплощади», чем ему полагалось. Все мерили не саженями, к которым привыкли, а метрами, которых никто хорошенько не понимал. Корыто вспоминал, как тогда, когда строили казармы, старались каждому дать больше и инженерная комиссия, не скупясь, прибавляла комнаты и радовалась, если могла устроить кому лишний камин, кому ванную, кому гостиную побольше. «У штабс-капитанши Збориловой, – думал про себя Корыто, – перегородку сняли, так у ней гостиная в два окна получилась. Танцевать можно было… Этого, чтобы каждый вершок мерить, на было. Старались угодить господам офицерам».
Теперь в тесноту и грязь командирских квартир с общими кухнями понавезли примусов (чего, упаси Боже, раньше совсем и не знали) и эмалированной грязной посуды. У семейных появлялись то одни, то другие жены, стриженые, лохматые, озлобленные, ругающиеся последними словами и бегающие к Корыту (самому пом-ком-полка) с жалобами друг на друга. В ротах старались держать чистоту, но это не всегда было возможно. То по распоряжению свыше пригонять для обучения территориальных частей окрестных мужиков и они пакостят повсюду, так что и уследить невозможно, то явятся не то инспектировать, не то учиться рабочие экскурсии коммунистов или пригонят комсомольцев и на несколько дней полк полон гама, шума, скверной ругани и грязи.
В распределении дня старались все-таки соблюдать такой же порядок, как был раньше. В восемь часов утра выходил на полковой двор командир 1-го отделения очередной роты с нечищенным сигнальным рожком и сипло играл сигнал «приступить к занятиям», точно пастух сзывал коров на деревне. Из казарм выходили люди в шинелях с косыми красными нашивками, в фуражках с красными звездами на тулье.
Начиналось ученье.
Корыто стоял в углу двора. Когда он смотрел на двор, на подслеповатые, забитые досками лишние флигеля, он думал:
«Нет, не то… Какой же это полк?.. Это не Тмутараканцы лихие. Рвань какая-то…» Закроет глаза и картины старого замелькают в уме.
«– Делай… два, – тянет кто-то звонко, ну совсем, как поручик Разгонов… Крепко бьют, щелкают у сараев выстрелы уменьшенным зарядом. Подле Корыта молодой командир взвода учит красноармейцев отвечать на приветствие: “здравствуйте”, без разделения на слога. Бодро звучит его голос:
– Отвечайте, будто члену Революционного Военного Совета Союза. Здравствуйте, товарищи стрелки!
– Здра… – рявкнуло человек тридцать, и Корыто вспомнил, как так отвечали когда-то в Киевском округе при генерале Драгомирове, который тоже не любил, чтобы рубили на слоги.
– Спасибо, товарищи красноармейцы!
– Служим трудовому народу! – четко отбивал взвод».
Да все было как будто и то же, как в Тмутараканском полку, только много хуже.
Корыто открыл глаза. Был теплый ноябрьский день. Низко нависли над лесами темные тучи. Грозили снегом.
Через двор озабоченною рысью, придерживая болтавшуюся шашку, бежал начальник полкового штаба Смидин. Он был без шинели. За борт мундира были заложены бумаги.
– К командиру, что ль? – бодро крикнул ему Корыто.
– Эге, – ответил Смидин.
– А где он?
– В девятой… На словесной учебе.
Корыто направился к флигелю, где помещался третий батальон.
4
После холода и свежести двора неприятно пахнуло жилым теплом, запахом печеного хлеба, капусты и нечистот.
Корыто покрутил носом.
«Да, – подумал он, – того при полковнике Ядринцеве не бывало». Вспомнил давно испорченные водопроводы, которые все никак не могли наладить. Не было специалистов.
Он открыл скрипучую на блоке дверь. В большом помещении было душно и парно. Сквозь запотелые стекла тускло лился свет темного ноябрьского дня.
Командир полка, Михаил Антонович Выжва, плотный кряжистый человек лет сорока, с бритым лицом, где было оставлено два маленьких пучка волос под ноздрями, из рабочих-металлистов, отличившийся в Гражданскую войну и выдвинутый на командирский пост его товарищем по слесарной мастерской Ворошиловым, в запрокинутой на затылок фуражке со звездой и в расшитой знаками командирского достоинства шинели, стоял у первого взвода и слушал, как молодой красный командир, «краском» Свиридов, обучал красноармейцев. Сбоку командира полка стоял политический комиссар, Сруль Соломонович Медяник, а за ним начальник полкового штаба и ротный старшина.
Давясь от волнения, весь красный, стрелок, красноармеец Каминский, смущенный таким скоплением начальства, путаясь и заикаясь, отвечал Свиридову. Остальные люди взвода сидели на койках, деревянно положив руки на колени, и тупо глядели на командира полка.
Корыто посмотрел на них и подумал: «Ну, совсем как и прежде в Тмутараканском полку. Бывало, и меня так-то Зборилов, – он тогда поручиком был в учебной команде, – жучил… Аж до седьмого пота догонял. “Скажи мне, Корыто, что есть присяга”. А я ему: “Присяга есть клятва перед Богом и перед святым Его Евангелием” – как сейчас слова помню…» Корыто испуганно покосился на командира, точно тот мог прочесть его мысли. Мысли эти были контрреволюционные.
– Ну-с, скажите мне, товарищ Каминский, – говорил изысканно вежливо Свиридов, – слова красной присяги, торжественного обещания, которое вы приносите трудовому народу. Вот на днях под красным знаменем вы будете присягать. И я вас учил, и мой помощник, товарищ Посекин, и ваш командир отделения, Артеменко, с вами протверживали эти знаменательные слова. Так повторите их мне.
Каминский обшлагом длинной серо-зеленой рубахи стер пот со лба, тупо уставился на Свиридова и начал скороговоркой:
– Я, сын трудового народа, гражданин со… со… со… – Тут у него совершенно заело. Лицо стало багровым. Даже слезы выступили на глазах.
– Ну что же вы?.. Союза Советских… – подсказал Свиридов.
– Союза свецких сици… си… ли… сти… – ей-Богу, не выговорю, товарищ командир взвода…
– Да вы не смущайтесь, товарищ красноармеец… Ну, если уж вам так трудно сказать: «гражданин Союза Советских Социалистических Республик, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии», тогда скажите просто: «гражданин России…», «Русский гражданин…» Это же вам понятно?.. Ведь вы же русский?..
– Так точно, товарищ командир… Россия, это очень даже понятно… – с облегчением выпалил Каминский.
– Ну так и говорите: гражданин России…
– Товарищ командир взвода! – раздался визгливый голос комиссара Медяника. – Пожалуйте сюда!
Свиридов торопливо пробрался между красноармейцев взвода и вытянулся перед комиссаром.
– К-как вы учите?.. – захлебываясь слюною и взвизгивая, кричал весь покрасневший Медяник. – Ч-чему в-вы уч-чите? То есть эт-то же таки безобразие! Я вам задам, черт бы вашу матушку побрал, Россию!.. Ком-полка! Михаил Антонович, я вас попрошу, знаете, обратить внимание на товарища командира Свиридова… Откуда он у вас взялся?..
Свиридов с бледным лицом стоял против Медяника. У него трясся подбородок и дрожали пальцы, вытянутые вдоль шаровар. Медяник внимательно посмотрел на него и, быстро повернувшись, пошел по казарме. За ним двинулась его свита.
– Ну что вы, Сруль Соломонович, – примирительно заговорил Выжва. – Охота вам из-за пустяков волноваться. Он просто хотел помочь красноармейцу понять смысл присяги.
Медяник, пыхтя, через плечо обернулся к начальнику полкового штаба.
– Товарищ Смидин. Какого происхождения краском Свиридов?
– Самого пролетарского, товарищ комиссар, – вытягиваясь, подбираясь на ходу и прикладывая руку к фуражке, быстро ответил Смидин. – Незаконный сын ленинградской прачки. Окончил Ленинградскую пехотную школу комсостава имени товарища Склянского.
– Что же? – насмешливо проговорил Медяник. – Или там живут традиции Пажеского Его Величества корпуса? Какую он Россию еще выдумал?.. Надо будет написать командиру школы. Какими идеями питают они курсантов!.. Это-таки удивительно: Россия! Откуда взялась Россия?.. Нет никакой России. Вот так, – обратился он к Выжве, – вот так они все и учат. У них все Россия на уме… Я и у вас, – снова повернулся он к Смидину, – видел… Карта висит и написано: дорожная карта Российской Империи.
– Да ведь, товарищ комиссар, нету другой. А нам постоянно маршруты отпускным составлять приходится.
– Бросьте, Сруль Соломонович, – опять вступился Выжва. – Я его хорошенько сам проберу. Я им сколько раз говорил… Никаких России, и баста.
– Ну, знаете, говорить это мало. Надо-таки внушать. Надо убеждать, надо доказывать.
«Поди, докажи, – подумал про себя Корыто, – когда она есть. Когда она кругом. – Он потянул носом крутой запах солдатских щей и крякнул: – Вот она тебе самая настоящая Россия».
– Вы что, товарищ Корыто? Ну, и вы, я вижу, не совсем со мной согласны.
– Помилуйте, товарищ комиссар. Разве я могу-с в чем-нибудь быть с вами не согласен?
– Ну-ну, – снисходительно промычал Медяник. – Что же вы, Михаил Антонович? Идете пробовать пищу, как всегда?
– Да, как же.
– Ну, а я, знаете… С меня довольно одной этой вони. Я этих самых щей ваших терпеть не могу. Мой желудок их прямо не переносит. Прощайте. Товарищ Корыто, проводите меня.
«Тебе бы все фаршированную щуку лопать», – подумал Выжва и громко спросил:
– Сруль Соломонович, придете сегодня в девять?
– Ну и почему нет? Выржиковский будет?
– Придет и Выржиковский.
– Ну и я приду… Пхэ… Я старый студент. Люблю-таки эти холостые пирушки до утра. Я тоже богема. Вот он, – Медяник снисходительно кивнул на Смидина, – может стихи нам почитать.
– Можно, товарищ комиссар, – откозырял Смидин.
5
Всю эту, такую разнообразную компанию – Выжву, рабочего белоруса, еврея Медяника, русского старого солдата Корыто, полуполяка-полурусского офицера Выржиковского и начальника полкового штаба, развратника и кокаиниста Смидина – объединяло одно: водка.
Собирались у командира полка. У него жилплощадь была больше. Он был холостой, и никто не мог помешать у него посидеть и пошуметь. Обстановка была небогатая и сборная. Бывшую Ядринцевскую командирскую квартиру разделили на четыре: для комполка, для комиссара, для начальника хозяйственной части и для помощника по строевой части. Четырехоконная зала была разделена на три неравные части. В большей, в два окна, была столовая Выжвы. В ней на большом столе, накрытом грязной полопавшейся клеенкой, были поставлены стаканы, рюмки и тарелки с закуской. С края кипел старый, помятый самовар. Красноармеец-ординарец перетирал у стола посуду.
Выжва в ожидании гостей сидел на простом диване и просматривал только что поданный ему дежурным по полку вечерний рапорт. Грозные цифры ведомости его смущали. Он третий раз перечитывал:
– «Доношу, что за истекший день во вверенном вам полку никаких происшествий не случилось. Арестованных состоит восемь. На перекличках не оказалось 15 человек. Приложение – 2 списка».
Выжва посмотрел списки.
Арестованы были за нарушение внутреннего порядка в казармах. Выжва знал: пакостили в Ленинском уголке… За неблагопристойное поведение на улице: избили в пьяном виде местных жидов… За изнасилование тринадцатилетней девочки, за воровство, за дерзость.
Отсутствовали по разным неизвестным причинам… Впрочем, Выжва эти причины тоже знал – находились в побеге. Из полка бежали каждый день.
Выжва крепко задумался над рапортом. Слова утром слышанной от красноармейцев присяги бродили в голове.
«…Перед лицом трудящихся классов Союза Советских Социалистических Республик и всего мира обязуюсь носить звание воина рабочей и крестьянской армии с честью, добросовестно изучать военное дело и как зеницу ока хранить народное и военное имущество от порчи и расхищения…»
И крали, и проматывали, и продавали все, что можно продать.
«Обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких поступков, унижающих достоинство гражданина Союза Советских Социалистических Республик, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся».
Выжва опустил голову. Стаями, как кобели над сукой, в очередь, насиловали загнанных, застращанных девчонок, были грозою местечковым жителям… Его начальник штаба, Смидин, жил уже с шестою женою и теперь норовил соблазнить Пульхерию, дочь Корыто. Нюхал кокаин, писал стихи, разыгрывая из себя какого-то Есенина, и пользовался расположением комиссара Медяника.
И дальше лезли в голову такие же громкие слова торжественного обещания.
«Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Союза Советских Социалистических Республик от всяких опасностей и покушений всех врагов и в борьбе за Союз Советских Социалистических Республик, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни…»
Здорово сказано: «Дело социализма и братства народов».
Выжва свистнул.
«Как же… Знаю я их. Разбегутся… Не станут воевать. Они ничего этого не понимают. Они и слова-то “социализм” выговорить не могут. Утром на словесности спросил я у Краснодуба, что такое социализм. А он вытаращил круглые, бараньи глаза, да и выпалил во все свое красноармейское горло: “Так что сицилизма энто «царь-отечество», товарищ командир…” А потом я же окажусь виноват. Придется мне отвечать за все это и будет, как гласит пункт шестой присяги, “моим уделом всеобщее презрение и покарает меня суровая рука революционного закона…”».
Выжва даже сплюнул от раздражения.
«Эх, поговорить с Выржиковским про то, как раньше было…»
Точно мысль его была способна привлекать людей, зазвонил в приемной звонок и красный от мороза и ветра вошел Выржиковскии.
Иван Дмитриевич Выржиковскии был старый кадровый офицер. Ему было за сорок. Преждевременно поседевшие волосы были еще густы и темно-серою шапкою покрывали его голову. Над верхней губой были небольшие стриженые седые усы. Лицо было тонкое, породистое. Он был худ, строен, высокого роста. Отличный фронтовик, гимнаст, строевик, охотник, он служил только делу, не интересуясь политикой.
Все строевое обучение полка лежало на нем.
Как раньше, до войны, он был образцовым ротным командиром, а на войне блестяще командовал батальоном и получил Георгиевское оружие в доблестном Муринском полку, так и теперь он с полным знанием и сознанием правоты своего дела принялся муштровать и ставить на военную ногу весь полк. «Армия, – говорил он, – великая молчальница. Армия должна быть вне политики, и я человек аполитичный. Мне все равно, что царь, что советы». С тем же подобострастно-служебным видом, с каким, бывало, он подходил с рапортом к командиру корпуса, седому заслуженному генералу с Георгиевским крестом за Шипку, он подходил теперь к юному еврейчику, члену Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик, отчетливо салютовал шашкою, рапортовал, осаживал и вытягивался. И нельзя было в глазах его уловить никакой мысли. «Служу-с», – показывал он своею фигурою, лицом, отчетливостью поворота, стройностью выправки.
Выжва видел в нем все-таки опору. Приезжал ли народный комиссар по военным и морским делам или кто-нибудь из членов Революционного Военного Совета, Выржиковскии знал, как построить полк, как рапортовать, что показать, где поставить начальство, как провести полк. В полковом клубе он умел умно, любезно и всегда аполитично сказать спич в честь приезжего, устроить какое-нибудь интересное состязание красноармейцев, какой-нибудь бег под ведром или замысловатые прыжки, езду конных ординарцев, развлечь ни уха ни рыла в военном деле не понимающее начальство и рядом с этим не показать ничем, что начальство иногда ляпнет глупость, а, напротив, ловко подсказать начальству то, что нужно сказать.
На летней «учебе» в лагерях он был незаменим. На стрельбе, на маневрах он знал, что надо делать, и за него цеплялись и командир полка, рабочий Выжва, и политический комиссар, еврей Медяник.
– Что вы такой красный?.. Снег, что ли, идет? – спросил его Выжва, глядя, как алмазами горели в густой седине Выржиковского тающие снежинки.
– То есть такая вьюга, Михаил Антонович, что прямо страшно. На плацу уже на четверть снега. От клуба едва дошел. С ног валит. Так и крутит. Беда в поле в такую непогоду, да и в лесу не сладко. Бор шумит как железная дорога.
– Отчасти хорошо, что зима наступает, – промолвил Выжва.
– Ну? – удивился Выржиковский. – Что тут хорошего?
– С партизанами станет спокойнее. А то, слыхали, на прошлой неделе опять нашли в лесу девять повешенных чинов местного ГПУ и надпись: «Это за тех, кого вы расстреляли. Белая Свитка».
– Вы уже, ради Бога, не говорите Срулю, а то он замучает полк облавами.
– Ладно… Да теперь вьюга. Какие теперь облавы? Что же, приступим к чаепитию?
– Может быть, подождем комиссара.
– Хорошо. Да вот, кажется, и он.
Вошедший, однако, был Смидин. Он был в элегантном, в талию сшитом френче, напудренный, завитой, надушенный даже, как будто слегка подкрашенный. Высокий, затянутый, с бритым, сухим, «под англичанина», надменным лицом, он был бы красив, если бы не голубые веки глаз, следы разврата, кокаина и безумных ночей с женщинами.
– Ну, как Пульхерия? – спросил, подмигнув, Выжва. – Подается?
– Тс, – зашипел, становясь на цыпочки, Смидин. – Корыто здесь шествует со Срулем.
– А все-таки?
– Вчера сдалась под кокаином. Ну и страстная же, сука. Замучила.
– Ты смотри, Яшка, – сказал Выржиковский, распяливая пальцы ладони. – Как у нас говорили: корнет, – тронул он задранный кверху палец, – поручик, ротный, полковник, генерал, – показал он на опущенный палец. – Не попади в генералы прямо из корнетов. Тогда плакать будешь, что был так расточителен теперь. Побереги себя.
– На мой век хватит. Веришь ли, Иван Дмитриевич, и теперь иногда такая тоска подступит, что просто сил нет. Все кажется, скоро умру. Сердце так и сожмется. Пустота кругом. Тогда мне и бабы противны.
– А к Пульхерии все-таки подсыпался? – толкнул его кулаком в бок Выжва.
– Ой, больно, товарищ командир, – жеманно скривился Смидин. – Пульку эту самую жалко пропустить было. Лестно, что она ученая. Председательница местного женотдела. Все толковала о равноправии, о свободе… Э… У всех одинаково… Сука, как и все…
– Тише ты… Слышишь? Пришли, – сказал ему Выржиковский.
Выжва пошел в приемную встречать комиссара.
6
Медяник был в большом возбуждении.
– Ну, слушайте, – говорил он, не здороваясь, – лапаться после будем… Даже совсем-таки не будем… Совсем лишнее… Не гигиеничный, буржуазный обычай… Я сейчас получил телеграмму из Уисполкома… Послезавтра через станцию Гилевичи изволит по пути из заграницы проследовать прямым поездом Варшава – Москва сам Полозов…
– Чайку позволите, Сруль Соломонович? – спросил Выжва.
– Не перебивайте меня, товарищ, когда я говорю. Да, налейте, не очень крепкого… И приказано, – поднимая кверху палец и повышая голос, продолжал Медяник. – Вы слышите? И приказано, – в виду усиления деятельности братьев «Русской Правды» и появления в нашем уезде опять этой проклятой Белой Свитки, – приказано с завтрашнего дня поставить полк на охрану железной дороги от самой границы до станции Гилевичи. Там товарищ комиссар изволит кушать. Я звонил на станцию. Там уже, знаете, большая тревога. Полозов ведь любит кушать хорошо. Он любит, знаете, уху из стерлядок, он любит борщок со сметаной. Ну, борщок – это Гилевичам по силам. Но вот стерляди? Мне передавали, что послали помощника повара на паровозе в Минск за стерлядями и персиками. Нам надо составить приказ: выступать полку завтра в восемь утра, чтобы занять дорогу. Вы поняли?
– И приказ составим, – сказал Выржиковский. – Мне до войны приходилось в Муринском полку стоять на охране пути при проезде Государя Императора. И теперь так же выставим. Вы только скажите нам, кто такой товарищ комиссар Полозов.
– Н-ну? – удивился Медяник и отставил руку с бутербродом с ветчиной в сторону так, что Смидин должен был посторониться. – Вы-таки не знаете, кто такой товарищ Полозов? Так я же вам скажу: это же Пац! Сам Пац… Самуил Моисеевич Пац… Вы не слыхали? Он был прежде помощник аптекарского ученика в Овруче. Ну, знаете, маленький такой жидок, совсем незначительный. Ну, только он был ужасно какой умный. Когда надо было ему отбывать воинскую повинность, он бежал себе в Индию. Я вам говорю, прямо-таки в Индию. Потом с чужим паспортом учился в Казанском университете, вступил в партию, ну и засыпался, знаете-таки, с прокламациями. Тогда это строго было. Так его сослали в Якутскую область. Обычные зверства царизма. Ну, он-таки оттуда бежал и смылся в Швейцарию. Там, я вам скажу, – вставая, сказал Медяник, и с ним невольно встали все, – он даже самого Ленина, – он ткнул пальцем на литографированный портрет Ленина, висевший в черной рамке на стене между маленькими портретами Ворошилова и Тухачевского. – Он самого Ленина знал… Ну, теперь он в Реввоенсовете. Важная шишка. Он ездил за границу с секретным поручением вместе с товарищем Бахолдиным. Ну, вы же его все, военщина, знаете. Бахолдин весною умер, и теперь товарищ Пац едет назад один. И на вас возложен священный долг, прямая обязанность честного красноармейца, охранить его на пути. Мы-таки этим должны гордиться. Пац очень сильный человек, а ум, можно сказать, выдающийся. Про него дураки болтают, он с самим чертом знается. Это, конечно, знаете, бабьи сплетни. Кстати сказать, по части баб товарищ Пац нашему товарищу начальнику штаба не уступит. Любит девчонок. Он и покушать любит… Нам надо перед ним особенно отличиться. Прежде всего – охрана. На станции охранять будет ГПУ. Потому что, вы сами понимаете, это же, – Медяник шепотом договорил, – самое их, Белой Свитки, гнездо.
– Теперь Белая Свитка везде, – сказал сытым голосом Выжва. Он сложил руки на круглом животе и крутил один палец около другого. – На прошлой неделе ездил я в N-ский кавалерийский полк относительно бракованных лошадей. Мне комполка и говорит: – «Как я вам могу дать лошадей, когда у меня Белые Свитки сорок штук угнали? Я теперь и бракованным рад. Молодых красноармейцев обучать».
– Как же они угнали? – спросил Корыто.
– А очень просто. Так просто, что проще и быть не может. Является к нему представитель губернского Исполкома и с ним сорок молодых людей. Показывает бумагу. Написано, что приказано, мол, для теснейшей смычки рабочей и крестьянской молодежи дать этим сорока молодцам урок верховой езды по всем правилам. Никому ничего этакого и в голову не приходило. У нас, сами знаете, всяко бывает… Ведь и девок из женотделов стрельбе обучали. Приказал командир поседлать сорок лошадей посмирнее, назначил командира эскадрона для обучения, старшину дал в придачу, они все, болваны, пешие были. Потом вывели лошадей. Комсомольцы эти самые вид показывают, что боятся. Представитель Губисполкома взял лошадь и говорит: «Я им пример покажу». Сел… Посадили и комсомольцев. Только сели, как хватят в карьер в ворота! Только их и видали. Ищи-свищи. Полк по тревоге, понятное дело, собрали, бросили в погоню. А там, кругом Борисова, леса, болота… Въехали в лес, а их оттуда залпами приняли. Пятнадцать человек не досчитались. Вот оно как! Приехали назад, глядят, а во всех эскадронах по койкам журнал «Русская правда» разложен.
– Это и мы на прошлой неделе получили, – сказал Смидин.
– Как так?
– Да очень просто. Приходит в штаб человек и приносит пачку газет. Обращается к дежурному переписчику: доложите, мол, адъютанту. Я выхожу. Вижу, человек, по виду рабочий, дает мне сверток и говорит: «Вот, гражданин, нашел я пачку подле казарм. Думал, что путное, а вижу, самая пакостная белогвардейщина. Дозвольте сдать». Я имя-фамилию его записал. Поблагодарил.
– Отпустили? – спросил Медяник.
– Еще руб целковый награды дал.
– Ду-рак, – вырвалось у Медяника.
Смидин сделал вид, что не слышал.
– А вы? – сказал Медяник, обращаясь к Выжве.
– Я в местное ГПУ отослал. Такая гадость… Прямо читать невозможно. А написано, надо сказать, забористо. Все, знаете, монархисты работают.
– Писали мне, – чтобы отвести разговор подальше, тактично начал Выржиковский, – в Ленинграде в Райселькредсоюзе получают из порта машины, а в ящике «Русская Правда».
– То же, мне говорили, и в Гомзах, и в Рудмсталторге делается, – сказал Выжва.
– Да… От нее, стало быть, – простодушно заметил Корыто, – никуда не укроешься, от Русской-то Правды.
Медяник только махнул на него рукою: дурак, мол, что с него спрашивать.
– После смерти товарища Дзержинского, – сказал он, – распустили эту белогвардейскую сволочь.
– Знаете, Сруль Соломонович, плюньте вы на это дело. Волноваться не стоит, давайте перейдем к существенному. Попробуйте-ка новое наше изобретение. Называется «Рыковка по-красноармейски», – с красным перцем внутри. Вы посмотрите: огнем горит.
– Под баклажаны бы по-гречески оно, точно, не плохо, – сказал деловитым тоном Корыто.
Забулькала красноватая жидкость, налились стаканчики. Выпили, крякнули, закусили по началу солеными груздями.
– Товарищи, прошу расстегнуться, – предложил Выжва.
Смидин встал и пошел в его кабинет писать приказ об охране пути для товарища комиссара Полозова.
7
Пили больше молча, обмениваясь лишь короткими фразами. За окнами выла вьюга, потрясала железными листами крыши, и за ее воем в комнате казалось странно тихо.
Выржиковскии, полулежа на широком, рваном, крытом серой материей диване, тренькал на гитаре и мурлыкал старые цыганские романсы.
…Тройка мчится… тройка скачет…Гитара звенела, подражая звону бубенцов.
– А не хотел бы я, товарищи, – прервал он пение, – лететь в такую погоду на аэроплане.
– Оно, Иван Дмитриевич, и в автомобиле-то замерзнешь, – сказал, икая, Выжва.
– Очень даже просто, – подтвердил Корыто. – У нас в Тмутараканском полку раз часовой чуть не замерз. Хорошо, тогда порядок был. Все под рукой. Спиртом оттерли. Тоже такая вьюга была.
– Вы, Иван Дмитриевич, – сказал Выжва, – говорили в карауле, чтобы часовых у магазина чаще сменяли?
– Сами знают, – потянулся Выржиковский и опять замурлыкал под гитару:
Не уходи, побудь со мною, Здесь так отрадно, так светло…– Я этот романс помню еще, как Настасья Дмитриевна Вяльцева пела. Манера у ней была.
Он пропел два куплета и замолчал. Страшною за окном казалась ночь. Водка не разгоняла темных мыслей. От нее и от жарко натопленной голландки с потрескавшимися и пожелтевшими плитками кафелей было нестерпимо жарко. Выжва предложил открыть форточку. Вернувшийся из его кабинета Смидин поднял простую, синего коленкора штору с кривым железным прутом и открыл форточку в двойном окне. Вьюга то налетала порывами, гремя железом и завывая между трубами, то внезапно стихала, и тогда казалась зловещей вдруг наступавшая тишина. Вдали монотонно шумел громадный бор, Борисова Грива. От лампы шел свет, и было видно в нем, как крутились, сверкая, большие, блестящие снежинки.
Вдруг в наступившей тишине отчетливо и близко со стороны леса и фуражных складов раздался крик филина.
«Аха-ха-ха-ха-о-о-о», – словно звонко, рассмеялся кто-то. Ему ответил другой, подальше, точно из самой чащи, потом опять очень близко.
– Вы слышите? – сказал тревожно Выржиковский. Но ничего не было слышно. Опять выла и стучала железом вьюга.
– А что? – спросил Выжва.
– Как будто филин кричал.
– Полноте, Иван Дмитриевич. Какого черта филин будет кричать в такую-то бурю, – сказал Корыто. – Да еще зимой. Филины кричат в хорошую, теплую, летнюю ночь… Я сколько лет живу в здешних казармах, а никогда никаких филинов тут и в помине не было.
– Но я слыхал, – уже нерешительно сказал Выржиковский.
– Это вам показалось, товарищ, – сказал Медяник.
Он уютно уселся с ногами на тахту рядом с Выжвой и чувствовал себя прекрасно. Ему казалось, что он и сам «настоящий офицер», какие были в царское время, и находится среди «настоящих офицеров». «Вот жаль только, что погон нет. А то еще лучше бы эполеты, густые, с бахромой из золотой канители». Он самодовольно покосился на золотые звезды на рукаве, улыбнулся, поежился и сказал сытым изнеженным голосом:
– Закройте-ка форточку, товарищ начштаба. А то опять товарищу Выржиковскому что-нибудь начнет мерещиться.
Выржиковский отошел от окна, сел за стол и налил себе большую рюмку водки.
– Вот, – сказал он, – Сруль Соломонович, да и вы, товарищ комполка, вы ни во что не верите в сверхъестественное. А между тем все-таки что-то есть. А если есть что-то, хотя бесконечно малая величина какого-то неизвестного икса, то уже можно найти, отыскать, исследовать уже и более крупные величины. Да вот хотя бы такой случай…
– Ну, расскажите, расскажите, – снисходительно сказал, щурясь, как жирный кот, Медяник.
– Это было, когда я служил в Муринском полку. Был у нас врач. Очень хороший врач, материалист, в Бога, понятно, не верил. Он и по нынешним временам годился бы. Попал этот врач к нам из Петербурга, где он много лечил в богатых, хороших домах. Вот что он мне рассказывал. У одного уже пожилого полковника, однако еще красивого, молодцеватого и бодрого, была старая связь с женою его товарища. Связь длилась годы, но только так ловко они ее скрывали, что не только муж, но и вообще никто никогда не догадывался об этом. Считалась эта дама примернейшей супругой, самой добродетельной полковою дамой, образцом и примером буржуазной семьи.
– Вот сволочь, – сказал Выжва.
– Муж ее поигрывал в карты. Каждый день он пропадал часов до двух ночи в клубе, а в его отсутствие, когда прислуга уходила в свою комнату, являлся любовник, отворял своим ключом двери, прокрадывался в спальню, раздевался и забирался в супружескую постель. Там они приятно проводили время, а в час ночи любовник тихонько одевался и тем же способом исчезал. Вот раз, – рассказывал мне доктор со слов этой самой дамы, – перетянул ли полковник струну наслаждений или просто пришла ему пора умирать, только вдруг он тяжело упал на грудь своей любовницы и стал холодеть. Она вырвалась из-под него, стала его тормошить. Он был мертв. Дело обыкновенное: разрыв сердца. Был первый час ночи. Вы понимаете, каково положение? Примернейшая супруга, матрона, образец добродетели, известная всем высокою нравственностью, и вдруг у нее в постели труп чужого мужчины…
– Да, – вздохнул Корыто, – тут в ЗАГС не пойдешь алименты взыскивать.
– Она металась по комнате. Она кинулась на колени перед иконой, молилась…
– Вот они, буржуазные предрассудки, – вставил Выжва.
– Она стала перед трупом, взывала к его чести, умоляла, проклинала его… Наконец, готовая на все, бросилась в угол в кресло и застыла, глядя на труп, лежащий на ее взбудораженной постели. Вдруг, что же она видит? Медленно и угловато, тяжело и неестественно согнулось тело, неловкими движениями отыскало белье, платье, оделось, обулось и, мерно шагая, как манекен, вышло из комнаты. Вся оцепенев от ужаса, она глядела ему вслед. Неровные, будто чужие шаги раздались по будуару, по гостиной, потом хлопнула дверь и все стихло. Тогда она стала приводить спальню в порядок. Через пять минут пришел муж.
– Ну а дальше что? – спросил Медяник.
– Дальше идут показания извозчика. Извозчик показал в полиции, что около часа ночи он проезжал по Николаевской улице, – это, что теперь улица Марата, – в поисках седока и увидел человека в военной шинели, показавшегося ему словно пьяным. Этот человек сделал рукою знак остановиться, сел в пролетку и приказал странным, деревянным, точно лающим голосом ехать на Знаменскую улицу, что теперь улица Восстания, и, вопреки обычаю, указал номер дома. Тогда ведь в Петербурге говорили только, на какую улицу везти, а потом уже показывали рукой: «сюда, мол, вон к этому розовому дому, или говорили: налево-де, третий дом от угла. А этот седок указал точно: к такому-то номеру. Извозчик привез, остановился. Седок не слезает. Он оглянулся, седок сполз вниз и сидит кулем на дне пролетки. Видимо дело, пьян и заснул. Извозчик слез, стал расталкивать и с ужасом увидел, что в пролетке закоченелый труп. Вызвали полицию, позвали того доктора и доктор определил, что этот военный умер часа два тому назад, т. е. примерно за час до того времени, как он нанимал извозчика. После, когда он был у своей пациентки, сильно потрясенной, она поверила ему, как доктору и старому другу, свою историю. Вот я и спрашиваю вас: что это такое?
– Это, наверное, рефлекс головного мозга, – сказал с важным видом Медяник.
– Да, может быть, он тогда и не умер, а был в обмороке, – сказал Смидин.
– Нет, товарищ. Эго было исполнение долга чести. Душа, покинувшая тело, поняла, что она не может оставить тело в постели своей возлюбленной, и снова вернулась в тело, оживила его и заставила одеться и уйти. Тайна осталась тайной.
– Да, – вздохнул Корыто и сказал, ни к кому не обращаясь, но глядя на Смидина: – Тогда действительно понимали, что такое долг чести… Тогда… Честь… Это знаете… Было… Теперь что же – алименты, мещанство, предрассудки?..
Смидин отвернулся, встал, отошел в угол и порывисто сказал, обращаясь к Медянику:
– Товарищ комиссар, вы, кажется, хотели послушать новые стихи?
– Пожалуйста… Отчего же нет, – снисходительно сказал Медяник.
– Просим, просим, – поддержали Выжва и Выржиковский.
Смидин откинул со лба седеющую прядь русых волос, поднял бледное, накрашенное лицо, устремил вверх из-под голубых век серые глаза и начал, скандируя чуть в нос слова, подражая поэтам Лефа[22], свои стихи:
Ллойд-джорджу лорду Набьем мы морду Враз. А Чемберлену Все рыло в пену Вдрызг. Осточертели Нам все Черчили До дна! В плохой игре Пуанкарэ. Вон!..Он замолчал, прислушиваясь. За окном с поднятою шторою выла вьюга. За дверью, где помещался вестовой, как будто кто-то негромко, но быстро и взволнованно говорил.
В комнате точно еще оставалась жуть от рассказа Выржиковского.
– Таки придумает тоже, – снисходительно засмеялся Медяник, – «Лорду-морду». Созвучие-то какое! Это не хуже самого Есенина.
В дверь сильно постучали.
– Кто еще там? – недовольно крикнул Выжва.
– Товарищ командир, – раздался за дверью голос вестового. – Так что, дозвольте доложить, дежурный по полку с екстренным докладом.
Медяник и Выжва быстро переглянулись.
– Пусть войдет, – сказал Выжва.
8
Дверь распахнулась. В высоком прямоугольнике входа освещенный сзади керосиновою лампою появился затянутый в шинель молодой краском, с пухлыми губами и щеками подушками. Попав из темноты в свет, он заморгал серыми в длинных ресницах глазами, шмыгнул носом, составил каблуки, вытянулся, быстро приложил руку к козырьку и сейчас же опустил ее со строго официальным видом. Отдал «по-советски» честь. Говорить будет по службе.
Все встали.
– Ну, рапортуйте же командиру полка, – строго сказал Выржиковский. – Что там случилось?
– Товарищ командир… – прерывающимся от волнения и скорого бега по лестнице голосом сказал дежурный. – Во вверенном вам полку… происшествие.
– Ну? – нахмурился Выжва.
– Сейчас разводящий, водивший часового к фуражным складам… не нашел его на посту. Пошли с фонарями. Бо́льшая часть склада увезена… На конторке заведующего найдена вот эта расписка в книге об отпуске фуража.
Дежурный деревянно шагнул к Выжве и подал ему листок желтоватой бумаги. Все склонились над ним. На листке четко, вечным пером было написано:
– «Расписка. Принято мною из фуражного склада Р.К.К.А. “Борисова Грива”, для нужд конного партизанского отряда № 67, овса 300 пудов, сена кипового 600 пудов. Белая Свитка. Брат № 163».
– Ах ты, елки зеленые! – воскликнул Корыто. – Вот тебе и филин, Иван Дмитриевич!
– Следы? – грозно крикнул Выжва.
Дежурный его не понял и молчал, вытянувшись и глядя прямо в глаза.
– Следы-то, черт вас всех, сукиных сынов, заешь, следы-то ведь остались? Не иголку унесли, а девятьсот пудов выволокли. На это пятьдесят подвод нужно.
– Там, товарищ командир, – слезливо моргая глазами, отвечал дежурный, – так намело, что пройти то есть даже нельзя… Кругом сугробы… Ничего не видать… Кто… что…
– Кто часовой? – бешено загремел Выржиковский.
– Красноармеец Лавда.
– Вот вам и Русская Правда, тоже созвучие, – угрюмо сказал Корыто.
– Лавда? Это тот, что ли, что в прошлом году черные часы спер?
– Не могу знать… Он не нашей роты.
– Да я его суду Ревтрибунала передам! Все сволочи!.. Предатели!.. – вопил в исступлении Выржиковский. – Михаил Антонович, разрешите тревогу. Мы их сейчас догоним… Обыщем лес. По этой непогоде далеко не уедут.
– Да, да, – топтался на месте, как ученый медведь, Выжва. – Кликните дежурного сигналиста, пусть бежит по батальонам, играет тревогу.
У него и хмель выскочил.
Было шесть часов утра. До солнца было еще далеко, но от напавшего за ночь снега было светло на дворе, куда все вышли в ожидании сбора полка. Мороз крепчал. Вьюга унялась. Только ветер посвистывал у крыльца и шумел в темном бору. Видно: сразу пришла зима.
Во флигелях красными пятнами засвечивались окна. Слышнее становились голоса. Стучали люди тяжелыми сапогами и прикладами винтовок по лестницам. Заспанные, неумытые, неуклюже одетые, в ранцах и патронташах, стали появляться красноармейцы. У конюшен торопливо выводили наскоро заамуниченных лошадей. Пулеметчики выкатывали тачанки. Темными квадратами в сумраке намечались строящиеся роты. Резко раздавались команды старшин:
– Смирно!.. По порядку рассчитайсь!..
Полыхали в зимнем сумраке короткие выкрики расчета: первый, второй… третий… шестнадцатый… двадцатый…
К крыльцу командирской квартиры коноводы вели поседланных лошадей.
Медяник в теплой оленьей дохе с поднятым высоким воротником, точно боярин в охабне, меся ногами в валенках снег, подошел к Выжве, уже влезшему на лошадь.
– Михаил Антоныч, товарищ командир, – крикнул он ему начальственно строго. – Вы куда думаете полк вести?
– Как куда? Надо же поймать эту монархическую белогвардейщину.
– Товарищ командир, есть приказ идти на охрану пути господина комиссара Паца и вы этот приказ обязаны выполнить. Поняли?
– Ничего не понимаю. Да что, Сруль Соломонович, важнее? Уничтожение белогвардейщины или охрана Паца?
– Теперь, – торжественно сказал Медяник, – когда определилась здесь близость Белой Свитки, священный долг рабоче-крестьянской Красной армии охранить товарища комиссара Паца. Я надеюсь, товарищ, что вы меня поняли? Ведите полк к границе и расставляйте охрану от границы до станции Гилевичи. Я сам сейчас санями поеду на станцию. Было бы хорошо, если бы вы предупредили и польскую жандармерию на станции Стобыхва.
– Я распоряжусь, Михаил Антонович, – сказал подъехавший на лошади Выржиковский. – Мы сейчас всем полком по большой дороге дойдем до переезда, а там я направлю 1-й и 2-й батальоны к границе, а 3-й к Гилевичам. Сам на дрезине поеду и расставлю посты. Не извольте беспокоиться, Сруль Соломонович. К ночи люди займут линию, переночуют в путевых сторожках, а с рассветом все командиры осмотрят путь и ни одна мышь не подойдет больше к полотну.
– Благодарю вас, Иван Дмитриевич. Я-таки на вас надеюсь.
Выржиковский взял под козырек, повернул своего коня и поскакал к полку. Он вызвал батальонных командиров и отдал им распоряжения. Раздалась команда: «Товарищи командиры». Заиграли сигналисты. Смидин нес красное полковое знамя.
– Все готово, товарищ командир, – откозырял Выржиковский Выжве.
– Ведите полк, – сказал угрюмо Выжва и поехал шагом к воротам.
Длинной колонной по четыре полк стал вытягиваться за ним. Снег местами был выше колен, и люди шли тяжело и медленно. Выржиковский пропустил полк и поехал впереди тихо погромыхивающих походных кухонь.
Начинало светать. На востоке оранжевая полоса протянулась над лесом. Яснело в вышине бледно-зеленое небо. День обещал быть солнечным и крепко морозным. Длинной лентой по прямому шоссе между высоких лесов уходил полк. Выржиковский смотрел на него и вспоминал другое. Он вспоминал, как двадцать лет тому назад, вот так же зимою, он молодым офицером шел на охрану Государя. Люди были в бараньих шапках, укрученных башлыками, в нарочно присланных на этот случай интендантством полушубках, поддетых под шинели, в валенках и в теплых рукавицах. Они шли бодро, неся ружья на плече, равняясь в отделениях. Впереди играла музыка и в такт с нею весело скрипели валенки по крепкому морозному снегу.
Выржиковский смотрел, как все более растягивалась колонна и как скользили по обледенелому шоссе, там, где снег снесло ветром, в рваных сапогах и в башмаках с обмотками люди. Они шли, неся ружья «на ремень», держа руки в карманах. Они часто вынимали руки, терли ими уши под суконными безобразными касками, похожими на спринцовки, дули в кулаки, а на привалах танцевали на месте, стараясь согреться. Ни полушубков, ни перчаток, ни валенок… Бедна была рабоче-крестьянская армия, как были бедны и сами рабочие и крестьяне.
«Будут ознобленные, – думал Выржиковский, – будут отмороженные руки и ноги. Для чего?»
Он смотрел на выплывающее над лесом желтое, зимнее, неяркое солнце, от которого веяло холодом, и странным образом уму вспоминался его ночной рассказ. «Долг и честь… Когда-то было и то и другое… А теперь?.. Долг наш обморозить людей для охраны какого-то аптекарского ученика и дезертира Паца… Когда была монархия, мы знали одного Государя. Величественного, благостного, ясного, как это зимнее солнце, одно приближение которого сладко волновало сердца всех солдат. Теперь в нашем республиканском союзе явилось, как невешанных собак, самозванных вельмож, которых надо охранять ценою жизни красноармейцев. Может быть, в этом и смысл демократии: заменить Государя, который родился, чтобы управлять, учился, чтобы управлять, и который знал, что значит царствовать толпою диких, малограмотных неучей и жидов, которые не знают, не умеют и не могут знать и уметь. Вот что нам дал социализм».
На привале он догнал Выжву.
– Так ты уж распорядись всем, Иван Дмитрич, – ласково говорил Выжва. – Чтобы как при царе было. Сам знаешь: головами рискуем… Головами.
Ярко блестел впереди на шоссе чистый белый снег. Темный глухой бор смыкался над ним и задумчиво шумел зелеными вершинами розовых сосен в голубом, точно замороженном небе.
В этом лесу, в несказанном очаровании зимней природы, в прозрачной нежности ее красок, в тихой песне хвои, колеблемой по вершинам ветром, все, что делалось сейчас людьми, казалось Выржиковскому ненужным, скучным, пошлым и противным до одури.
9
Старый Ядринцев внимательно обошел лесопильный завод на фольварке Александрия.
– Ну и ну, – промычал он про себя и покрутил головою.
Сопровождавший его старший дровосек, Феопен Иванович, услышав, встрепенулся, как птица ночью, и спросил:
– Чего изволите?
Ядринцев смотрел Феопену прямо в глаза, по-солдатски, честно, прямо и открыто. Феопен потупил глаза.
– Это завод русско-польской компании?
– Так точно.
Высокий, широкоплечий, сильный мужик, в русой бороде, с серыми маленькими глазами, стоял против Ядринцева. Тип старого лесника-объездчика… В старину в барских охотах бывали такие доезжачие. Век в лесу или в степи с природой. От природы ли или от общения с барами бывала в них всегда какая-то мягкая, внутренняя деликатность, прикрытая хмурой сдержанностью и соединенная как будто с чувством своего превосходства над другими. Превосходства в умении слышать голоса и понимать язык природы.
– Сам откуда?
– Села Борового.
– Что там мужики говорят про Советы?
– Что говорят? Вам, чай, известно, как верить мужику… У него что зарубил, по тому и тешет… А там, поди, снуй основу… Говорят хорошо… Да проверять надоть.
Ядринцев стоял против сараев с прочными дверями. Сараи были замкнуты на замок и опечатаны польскою казенною сургучной печатью.
– Здесь что?
– Не могу знать… Опечатано без нас.
– Не ври… В армии служил?
– Кто теперь не служил… Все служили, – вздохнул Феопен.
– Так не знаешь, что в сараях?
Феопен опустил глаза.
– Кто ж их знает…
Ядринцев прошел к конюшням. Двадцать лошадей, не крупных, легких, не крестьянских, не рабочих, скорее верховых, стояло в военном порядке на конюшне.
– Лес куда теперь возите?
– На узкоколейку, на Копыли.
– А оттуда?
– На Стобыхву.
– Это почти сто верст?
– Сто верст и будет, – как бы удивился знанию Ядринцева Феопен.
– Какой же расчет?
– Дело хозяйское.
– Почему не в Гилевичи через Боровое?
– Там теперь совецкая земля…
– Ну и ну… Обкарнали матушку Россию, – пробормотал Ядринцев. – А что в урочище Красный Бор глухари теперь есть?
– Кто ж их знает… Как сказать… Об весну токовали, однако.
– Так вот, Феопен. Значит, весь внутренний распорядок, наряд лошадей, харчи – все от меня… Понял?
– Точно так… То есть… по заводу?
– Что значит «по заводу»?
– Да уж так… Если что прикажут со вне, то уж… как прикажут.
– Я не понимаю, Феопен.
Но Феопен хмуро молчал и ничего от него больше нельзя было добиться.
В большом досчатом сарае пыхтел локомобиль. С дребезжащим свистом ходила широкая продольная пила, ей дробно вторила круглая поперечная. Каждые полминуты раздавался плоский, шлепающий, звонкий звук падающей доски, и почти непрерывно стучали летящие из-под круглой пилы обрубки тонких стволов.
Ядринцев прошел в калитку, прорезанную в широких воротах. В тусклом свете осеннего дня, проходившем через многостекольные широкие окна, все было в розовом отблеске летящих опилок. Едко пахло спиртным запахом свежераспиленного дерева. Визжала, вертясь, широкая звонкая пила и точно стонала под нею красная сосна.
Глеб и Владимир с двумя рабочими направляли работу.
Тут ничто не казалось подозрительным Ядринцеву. Глеб в кожаном фартуке стоял у машины. Над его головой, шелестя, порхал широкий ремень, мягко скользя с блестевшего смазанной сталью маховика. Владимир склонился, стоя у высокой конторки, отмечая по большой книге работу. Рабочие, крестьяне, больше люди лет под сорок, направляли под пилы бревна и тонкие стволы.
«Да, конечно, лесопильный завод на полном ходу. Эксплуатация лесной дачи господина Заркевича. А все-таки… – подумал Ядринцев. – Девять человек ушли на работу по рубке леса за пять верст отсюда. Завтра поедут возить. Но что опечатано в сараях?.. Почему такие хорошие лошади? И люди под одно лицо. Точно переодетые в крестьянские свитки гвардейцы… Впрочем… Верно сказал Феопен: кто теперь не служил».
По деревянной, со свежими, еще не зачерневшими ступенями лестнице Ядринцев поднялся наверх, в жилое помещение. В небольшой кухоньке пахло супом. Кипела в кастрюлях вода. За дверью Ольга что-то приколачивала, напевая по-польски.
– Ольга Николаевна, можно?
– Пожалуйте, Всеволод Матвеевич.
Ольга на стуле, с молотком, сухими дубовыми ветвями окружала портрет маршала Пилсудского в черной раме. В зубах у нее были гвозди. В глазах горел смех. Сквозь зубы напевала:
– Колор охронны… Колор охронны…[23]
Вынула гвозди из зубов и, улыбаясь сама своей затес, смотрела на Ядринцева.
– Что, дедушка? Так ладно придумала? Хотела напротив еще Ленина повесить, да нигде на нашла здесь портрета. Как-нибудь с оказией достану из Минска. Приходи, кто хочет. Самые настоящие, заядлые поляки, – показала Ольга на портрет Пилсудского. – Самые правоверные коммунисты, – махнула рукой на пустую досчатую стену, где по щелям золотистым янтарем блестела смола.
«И она тоже догадывается, – подумал Ядринцев. – У ней та же дума, что у меня. Глеб и Владимир… Те… Нет… Просты, как дети… А она поняла… Лесопильный завод это только – “колор охронны”… Только от кого?.. От чего?.. Как видно, и от поляков, и от коммунистов… А ну, как только от поляков?..»
Ядринцев прошел в свою комнату и стал разбирать счета и конторские книги.
10
Днем нудно и надоедливо стучала машина и визжали пилы. Весь дом дрожал в мерном порхании махового колеса, пыхтела наружу пароотводная труба. Ночью была такая тишина, что, казалось, слышно было, как крутится и летит в бездну земля.
Глеб и Владимир, измученные непрерывной работой и долгим стоянием на ногах, – у них ноги пухли от этого, – ложились рано и спали крепко. Ольга, прибравшая кухню и столовую, помывшая посуду, уставшая от домашней суеты, – шутка сказать, она одной стряпухой на весь завод, – надев старую беличью шубку, еще «прошлую», сибирскую, купленную для матери «когда папа полком командовал», вышла на верхний маленький деревянный балкончик, примыкавший к общей столовой.
Было так хорошо после кухонного чада вздохнуть свежим лесным воздухом.
Ночь давно спустилась над беспредельною далью лесов. Небо было сумрачно. Низко нависли черные тучи, закрыв даже и ночью чувствуемые лесные дали. От леса и болот по-осеннему терпко тянуло прелым осиновым листом, скипидарным запахом можжевельника и свежим духом сосны. На лес порывами набегал ветер. Шумел вершинами. В воздухе пахло бурею. Ольга, в сером вязаном платке, в шубке, в валенках, подошла к перилам. Темная фигура сидела в углу.
– Вы, дедушка?
С тех пор как Всеволод Матвеевич Ядринцев переехал на завод и стал помогать Ольге в ее хозяйстве, она, полушутя, полусерьезно, по-детски мило, стала звать его «дедушкой». Точно поставила его себе вместо отца.
– Какая тревожная ночь!
Голос у Ольги был звучный. От привычки говорить по-польски она говорила, мягко произнося слова.
– Вот и зима настает, – сказал Ядринцев. – Здесь всегда так. Долгая, дождливая, теплая осень… А потом, в один день, – вьюга, снег валом валит, наметет сугробы и сразу наступит зима.
– Страшно как, дедушка… Тревожно на сердце.
– Под Богом мы все, Ольга Николаевна. А под Богом нет ничего ни страшного, ни опасного.
– Правда, дедушка, что мы ни в Польше, ни в советской республике? Мне наши ребята говорили… Служащие.
– Не совсем так… Мы, конечно, в Польше. Это имение господина Заркевича значится в польском воеводстве. А служащие так говорят потому, что по местным условиям, из-за страшных болот и топей, польская пограничная стража стоит западнее нас, а советская отошла верст на двадцать к востоку. Образовался большой, никем не охраняемый остров. Я знаю, что и село Боровое, уже русское село, считающееся в Белорусской республике, и Перскалье – вне охраны, как и мы.
– Значит, мы что же? Вроде как бы автономная республика «фольварк Александрия»? – засмеялась Ольга.
Ядринцев не сказал ничего.
Они стояли на балконе и прислушивались, как все громче и громче шумел лес: Ольга все с тою же тревогой, Ядринцев спокойно.
– Ну что, дедушка, осмотрели завод?
– Да ознакомился.
– Ничего такого не заметили?
– А что?
– Живем мы с Глебом второй месяц и кое что приметили. Глеб как-то мне сказал… Только он не придает этому значения… Или не понимает. Мы ведь леса не продаем.
– Как так?
– Ребята по семь, по девять человек, то пешком, то на телегах уезжают в лес. С топорами… А привезут одну-две сосны… Если бы не старая заготовка, и машине работать было бы нечего. Что же они делают-то в лесу? Иногда дня по три пропадают. Вернутся исхудалые, замученные, а веселые… И привезут… три сосны… Чудно, дедушка…
– Что же вы думаете, Ольга Николаевна?
– Что думаю?
Ольга долго молчала. Ветер задувал грознее. Темное небо тучами валилось на землю. Нигде не было видно ни зги. Точно в бездне, в хаосе мироздания, висел маленький серый балкончик.
Контрабандисты… – прошептала Ольга… Помолчала и добавила: – Только не хуже бы того… Не советские ли агенты?.. Не шпионы ли?.. Чего доброго, дедушка, попадутся они, тогда и нам ответ держать. А мы чем виноваты? Кто их тут разберет: большевики или нет. На лице не написано… Даже скорей нет… Лица такие славные, русские лица… И Богу молятся… Помните, в субботу, Владимир вечерню читал и пел по требнику? Все пришли… Крестились…
– Ну и ну, – вздохнул Ядринцев.
Небо вдруг точно раскрылось. Из глубокого, непроницаемого мрака посыпался белый сверкающий снег и закрутил массой снежинок. Во мгновение ока ставшие белыми дали точно раздвинулись. В белом, крутящемся сумраке на миг определился черный лес и сейчас же все застлало белою пеленою быстро несущейся снежной пурги. Балкон заметало. Снег налипал на вязаный платок, на черные брови и на шубку Ольги.
– Страшно, дедушка, – прошептала Ольга. – Я думаю, в такую вьюгу погибнет человек в лесу…
– Нет, – точно думая о чем-то другом, медленно сказал Ядринцев. – Я бы, пожалуй, по этому лесу в такую вьюгу куда угодно пошел бы. И на Борисов, и на Минск… Тропы-то в лесу приметно…
– У вас, дедушка, глаза волчьи.
– Остались, Ольга Николаевна. Только когти судьба-злодейка повырвала.
Ольга и Ядринцев прошли в комнату.
– Вам, дедушка, баиньки пора.
– А вы, Ольга Николаевна?
– Не знаю, засну ли. Страшно мне как-то… Слышите, как весь дом трясется? А внизу… у машины… так и гудит… Можно подумать, что домовой там ходит.
– А вы, Ольга Николаевна, если страшно, Богу помолитесь… Он вам ангела-хранителя пошлет… И нечисти тогда бояться не будете.
– Спокойной ночи, – улыбнулась Ольга, открывая дверь в свою комнатушку. – Нечисти-то не очень боюсь… А вот если и правда тут большевики…
– Ничего, не бойтесь… В случае чего меня кликните. Я сплю чутко… И от большевиков оборонимся.
11
Комната Ольги под крышей. Три стены прямые, четвертая косая. Каюта не каюта… Скорей гроб. Окошечко маленькое, в два стекла узкие. Розовая ситцевая занавеска на нем. В остром углу, под иконой, мечется пламя лампадки. Узкая койка у стены, платье в углу на гвозде, под окном перевернутый ящик накрыт полотенцем: на нем туалетные принадлежности. В комнатке пахнет смолой и духами. Душится Ольга по вечерам, чтобы убить кухонный, едкий запах: стряпуха рабочей артели.
В этой комнате или спать как убитой в норе, намаявшись за день, или молиться, как в келье.
Только как тут уснешь? От разыгравшейся бури вся дрожит комнатушка. Точно кто шарит руками по доскам, норовит отодрать их снаружи. В лесу гудит, ревет, трещит вьюга. Стоном стонет могучий старый лес. А крыша, забитая снегом, таит тишину, и в общем грохоте бури эта тишина кажется страшнее звериного рева вьюги.
Ольга, не снимая шубки, мягко опустилась на колени, засветила свечу, достала молитвенник и стала читать. Богомольной она никогда не была. Утром и вечером перекрестит лоб. По детской привычке – за папу, за маму… В церковь ходила из любопытства. Знакомых повидать да послушать хорошее пение. Пение, возгласы священника, бормотание диакона ее развлекали. За ними она не слышала и потому не понимала молитв. Поняла только здесь, когда приехал Владимир и вечером в субботу, поставив икону у машины и собрав рабочих, стал читать и петь вечерню. Голос у него мягкий, красивый. Пел он проникновенно, и каждое слово было ясно слышно. В церкви при пении хора Ольгу прежде охватывало иногда чувство, уносило куда-то от земли. Здесь к чувству стало примешиваться понимание того прекрасного, высокого и мудрого, о чем говорилось и пелось в молитвах. Вдруг Ольге раскрылась скрытая тайна этих молитв, коротких и простых, но необъятно глубоких. Ольга взяла у Владимира требник и, когда не могла заснуть, читала и вдумывалась в слова.
Свеча горела ровно и тихо. Она светила на плотные, большие страницы в узорчатой рамке. Под коленями мягко лежал беличий мех шубки, согревая ноги. Платок сбился на затылок и шею. Ольга читала про себя, но читала с чувством, чуть нараспев, как читал Владимир.
– «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь»…
Она перекрестилась. Там, за жидкой стеной из барочного тонкого леса, ревела непогода. Здесь, в кротком свете свечи, было уютно и ясно. Безгрешный шел тихий вечер, благословенный Господом.
– «Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправданием Твоим».
Задумалась.
«Научи… вразуми… просвети… Господи… Владыко… Святый… Молилась ли так когда-нибудь бедная Светлана? И что было с ней на черной мессе?».
Мысль сама собой перешла на Владимира. Казалось, слышала его голос. Он пел увлекательно, уходя от всех в пение, пел не для людей – для Бога.
«От юности моея мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, Спасе мой. Ненавидящий Сиона, пострамитеся от Господа: яко трава бо огнем, будете иссохше».
«Думал ли он тогда, когда пел, о Светлане?.. Почему я еще никого не полюбила… Стась? “Здрув, як рыдзь”[24] Как Ляпочке хотелось, чтобы я откликнулась на его любовь. Но что же делать, если он для меня пень… Ну совсем как пень»…
Опять думала о Владимире. Об его горе. О том, с каким тихим достоинством он несет его, преодолевая горе молитвой и работой.
«Он очень хороший».
Мысленно, его голосом, его распевом допела:
«Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Тройческим единством, священнотайне».
«Он сумел возвысить свою душу чистотою и как он просветлел»…
В молитве и думах проходила ночь, мчалась за стенами в вихрях неистовой пурги.
Ольга взглянула на занавеску. Она лежала спокойно. Примерзла к краю стекла. Ольга прислушалась. Как будто тихо. Ветер не стих, но уже и не дул непрерывно, а налетал порывами, и между ними еще глубже казалась тишина сразу пришедшей зимы. На дворе послышались голоса. Словно сани проскрипели. Ольга с трудом открыла замерзшее окно. Белый морозный сумрак клубом пара вошел в комнату.
Внизу, у сараев, кто-то спросил:
– С удачей?
– И другой хрипло, промерзшим голосом ответил:
– Шестьдесят подвод направили.
– Слава Те, Господи, – сказал первый.
Тот, кто говорил про подводы, спросил опять:
– А ваши как? Готовы?
Ольга не слыхала ответа. Звякнуло стекло. Налетел порывом морозный ветер, зашумел лесом, застонал под крышей и завыл в трубе.
Когда он стих, внизу на лестнице раздались шаги. Три человека поднимались наверх.
Ольга выскочила из своей комнаты и со свечой в руке кинулась ко входной двери. За нею слышно было тяжелое дыхание.
– Дедушка! – крикнула Ольга в дверь, где спали ее брат, Владимир и старый Ядринцев. – Дедушка. Вставайте.
– А, что? Иду… иду… – отозвался спросонья старый Ядринцев. Глеб и Владимир заворочались на скрипучих деревянных топчанах.
В тот же миг постучали.
– Кто там? – дрожащим голосом спросила Ольга.
– Это я, барышня… Феопен.
– Что случилось?
– Ничего не случилось, а дело такое. Два человека в лесу заблукали. Пустите маленько погреться.
Ядринцев, в пальто поверх белья и в высоких сапогах, с зажженной лампой вышел в столовую.
– А что за люди, Феопен Иванович? – спросил он.
– Да што… люди как люди. Божьи люди, – сказал Феопен.
– Помилуй Бог, не сомневайтесь в нас. Мы худого не сделаем, – послышался чужой, бодрый, молодой голос.
Ольга открыла дверь.
– Пожалуйста, входите, – сказала она. – Я вам сейчас чаю согрею.
– Спаси вас Христос. Сейчас снег отряхнем, да шубы скинем, чтобы не наследить вам.
В сумраке лестницы Ольга увидела двух раздевавшихся мужиков. Они сняли серо-белые свитки, повесили их на перила лестницы, отоптали снег с сапог и вошли.
– Простите за беспокойство, – сказал первый вошедший. Другой, молча, прошел в угол у печки. Они не здоровались. Ольга у шкапа разжигала примус. За стеной поднимались Глеб и Владимир.
Было какое-то общее замешательство.
12
Примус гудел и шумел. Из носика большого трактирного чайника шел легкий пар. Старый Ядринцев перетирал стаканы. Приезжие молча и неподвижно сидели в углу. Ольга невольно рассматривала их.
В городе, когда она была еще совсем юной девушкой-гимназисткой, ей где-то один раз показали Савинкова. Первый вошедший, который говорил, показался Ольге странно похожим на Савинкова. Он был среднего роста, хорошо сложен, не худ и не толст. Рыжеватые волосы, смокшие от снега, были аккуратно причесаны на пробор. Лицо бритое, теперь отошедшее от мороза, было ровного розовато-желтого цвета. Черты лица были тонкие, красивые. Серо-синие, отливавшие сталью глаза были полны силы и точно с насмешкой следили за всеми. И так же, как тогда, когда Ольге показали Савинкова и она, не могши определить, сколько ему лет, сказала «тридцать», а оказалось за пятьдесят, так и теперь она могла дать этому человеку и двадцать пять, и пятьдесят. Лицо молодое, тело стройное, гибкое, а глаза смотрят пытливо, серьезно, даже сурово, и в рыжеватых волосах густая седина.
Другой, все время молчавший, был маленький, лысый человек, с комочком черных волос под носом, лицо такое обыкновенное, «интернациональное», пожалуй, даже немного «с прожидью». Кажется, пусти его в городскую толпу, затеряется, как песчинка в море. Лица во всяком случае у обоих «интеллигентные». Однако оба одеты по-мужицки. Рубахи грубого сукна, штаны мужицкие из серой домотканной материи, высокие болотные сапоги выше колен. Пояса белые, крученные из узкого полотенца.
Похожий на Савинкова посмотрел на портрет маршала Пилсудского, висевший в дубовом венке, и спросил, обращаясь к Глебу, стоявшему без дела у двери:
– Поляки?
– Нет, мы русские, – сказал Глеб.
Спросивший усмехнулся на портрет.
– А вы кто? – спросил Глеб. – Поляки?
– Нет… Мы тоже русские… Оттуда, – он показал рукою на окно, где стало видно, как на заголубевшем небе, над лесом горела золотом утренняя заря.
Сразу наступило тяжелое, неловкое молчание. Примус шумел, в чайнике ворчала кипевшая вода. Ольга, неслышно двигаясь у стола, резала большими ломтями белый хлеб. Широкий нож скрипел об оранжевую, мукой осыпанную корку.
– Вот видите, господа, в какое ужасное время мы живем, – с кривой усмешкой медленно сказал гость. – Русский боится русского… А уж, если к русскому эмигранту, счастливо угревшемуся под чужим небом, подойдет русский оттуда… из России… Кончено… Страхам нет конца. Кто он?.. Беспаспортный беженец, без визы, перешедший тайком границу?.. Провокатор?.. Большевик?.. Чекист?.. Шпион?.. И тут и там как травленые волки… Все нас боятся, а русские больше всех…
– Зачем вы так говорите? – вспыхнув, воскликнула Ольга. – Вы не имеете права так говорить нам. Мы вас приняли, не спрашивая, кто вы… Услышав только Христово имя.
Гость молча встал и низко, в пояс, поклонился Ольге. Его лицо стало серьезно. Насмешка сошла с его тонких, красивых губ.
Старый Ядринцев, накладывавший сахар в стаканы, опустил задрожавшую руку и сказал тихим голосом:
– Что же делать, когда и правда русские стали как травимые собаками звери?
Человек, похожий на Савинкова, окинул Ядринцева внимательным, пытливым взглядом. Точно оценивал, что за человек перед ним. Острая насмешка опять заиграла в углах тонкого рта.
– Зверь зверю рознь, – вызывающе кинул он Ядринцеву.
– Что вы этим хотите сказать? – принимая вызов, гордо спросил вместо старика Глеб.
– Бывают, знаете, зайцы… Бегут от собак… Скачут… Петли делают… Из Финляндии в Швецию… В Германию… На Балканы… В Париж… Только возьмет их и там не та, так другая собака… И какая хуже, Бог ее знает.
– Вы говорите какими-то загадками… Они в вашем положении мне кажутся неуместными, – строго заметил Глеб.
– А что? – как-то вдруг сменяя насмешку на простодушный тон, ответил гость. – Разве неправда? Ну, не возьмут его чекисты, не поймают большевики, возьмет его равнодушие к России, обрастет он, как мохом, буржуазным покоем и ленью… Абы меня не трогали. Слыхал я это. «Мы не красные, не белые – мы серые». Как-нибудь прожить бы, а что там на Родине, дела мало. Бог с нею. Все одно ее не спасешь… Стать таким разве не то же, что погибнуть?.. Вот какие, значит, звери бывают. Зайцы… ну а бывают и волки. Не всякая собака его заловит. Как тронет, сама не встанет. Да и, чтоб отыскать, сперва загнать надо. А зверогонов у них не богато… Еще бывают и кабаны… Пока возьмешь его, сколько собак помечет. Той брюхо клыками пропорет, эту ногой потопчет. Да гляди, еще и уйдет.
– Вы, видимо, охотник? – хмуро сказал Глеб. – Приходилось раньше езживать в поле.
– Мы эти загадки уже раз слыхали, – сказал тихим отчетливым голосом Владимир. – Через такие речи мы и здесь оказались. Да толку-то что?
– Толк всецело от вас зависит, – сказал незнакомец.
– А вы кто же сами будете? Заяц? – спросил насмешливо Глеб.
Незнакомец посмотрел на Глеба. Он не обиделся.
– Был и зайцем. Спасения искал у серых. Нашел один мусор. Помилуй Бог, как хорошо! Самоедство! Даже церковь святую раскололи… Куда ни придешь: вы какой партии? Наш или не наш?.. Союзы, объединения, центры… Говорят, пишут… Доклады… Речи… Эрдеки, эсдеки, фашисты… А то еще пакость выдумали: евразийцы. О чтоб им!.. Профессора!.. А Россия?.. Да… конечно… – Он передразнил кого-то и сказал напыщенным тоном: «мы понимаем отлично, что без толчка извне Россию нельзя спасти». Толчка извне?.. Этого недоставало… Черта с два! Дождешься, что по носу вам этот толчок дадут. Так и хочется сказать: Да вы понимаете ли, господа хорошие, что есть на свете мировое еврейство? Оно посадило на горб русскому народу коммунизм, чтобы дотла уничтожить Россию… Америка – евреи, Англия – евреи, Франция – евреи, Германия – евреи… Вы понимаете, что мировой капитал держит над Россией коммунистов, а те орут: «Долой мировой капитал»… Комедия!.. Извне?.. А тоже… иные, кто постарше особенно, скулят о России.
– Россию надо заслужить, – внушительно сказал Ядринцев.
Гость, принимая от Ольги стакан с чаем и большой кусок белого хлеба, густо намазанный маслом, снова внимательно и зорко посмотрел в глаза Ядринцеву.
– Надо ее завоевать, – тихо сказал он. – Завоевать по́том и кровью… Страшными лишениями… Голодом… Наблудили, напакостили, наблевали на Святую Русь… Государя убили… Государыню, девушек невинных, великих княжен, наследника-отрока смертною мукою замучили… На все это промолчали… Аполитичные, мол… А потом даром войти… в экспрессе «Варшава – Москва» приехать хотите… Хотите Россию? – вдруг почти выкрикнул он. – Даешь Россию!..
– Кажется, для этого мы сюда и приехали, – сказал, сумрачно глядя на гостя, Владимир. – Получили приглашение сами не знаем от кого… Не боясь никакой провокации…
– Верите мне, хорошо… Не верите, тогда и не надо… Но знайте одно: заслужить Россию – это значит рисковать… Рисковать каждую минуту, каждый час. Ни одной ночи спокойной… Каждый день ждать, что выдадут или сами проболтаетесь… Если вы сейчас пойдете со мною, вы рискуете, что я предам вас… и я рискую, что вы неосторожным словом или поступком меня выдадите.
– Мы на это и шли, – сказал Глеб. – Мы это отлично понимаем…
Гость еще раз осмотрел всех острым взглядом. Потом он вопросительно взглянул на своего спутника. Тот сидел в углу и, держа обеими руками, как ребенок, стакан с чаем, медленно прихлебывал из него. Заметив взгляд гостя, он молча кивнул утвердительно головою.
– «Коммунизм умрет, Россия не умрет», – твердо и внушительно сказал гость. – Я к вам от Белой Свитки. Если вы готовы идти с нами, Братьями Русской Правды, я вас сегодня же доставлю в Гилевичи… Там вам дадим советские паспорта, «липовые» понятно, и научим, что делать. Если вам страшно, не надо… Тогда не будем говорить высоких слов о России. Значит, вы не красные и не белые… Оставайтесь серыми. Живите себе спокойно… Пилите доски, колите дрова… Благодарите Бога, что сыты и в тепле… И до конца жизни оставайтесь беженцами…
Молчание было ответом на слова незнакомца. В этом молчании он прочитал согласие.
13
Под вечер выехали тремя санями. На первых, на которых приехали незнакомцы, за возницу сел дровосек Бурзила, а в санях были старый Ядринцев и гость, походивший на Савинкова. На вторых были Владимир и молчаливый «с прожидью», лошадью здесь правил дровосек Чабаха. На третьих сидели Глеб и Ольга с Феопеном.
Когда уезжали, первый гость сказал провожавшему их старшему пильщику Андронову:
– Чуть свет, верьхи.
– Ладно… Понимаем, – хмуро ответил, снимая шапку, Андронов.
Сани то шуршали, увязая в мягких сугробах, то стучали по гололедке. Бурзило правил уверенно. Где вез прямиком через прогалины, поросшие мелким кривым лесом по болотным мерзлым кочкам, где сворачивал узкими тропинками в лес, и трудно было за снегом угадать, едет он «на дурняка» или по занесенной лесной дороге.
– Через Ракитницу, думаешь, проедешь? – спросил Ядринцев. – Замерзла, думаешь?
– Я краем… Вепревым лесом и на Селище.
– Ну и ну.
– А вы знаете эти места? – спросил незнакомец.
– Как не знать. Шесть лет здесь ходил.
– И урочище Борисову Гриву знаете? За Гилевичами?
– Еще бы. Там и жил. В Тмутараканских казармах.
– Значит, вы драгоценнейший человек для нас. Белая Свитка не ошибся, выбрав вас.
– Что нас взяли, я понимаю, – сказал Ядринцев. – А вот зачем согласились взять Ольгу Николаевну?
– И ей дело будет, поверьте.
Уже было темно, когда сразу из леса попали на шоссе. Бурзила кинул замерзшие веревочные вожжи в сани, соскочил с облучка и побежал к ближайшему телеграфному столбу. Он засветил спичку и стал разглядывать номер столба.
– Семьсот шестнадцатый! – крикнул он к саням.
– Все одно. Бери влево, – ответил незнакомец.
– А вы думали семьсот одиннадцатый?
– Да, так было бы лучше. У двадцать первого пост.
– Никого теперь нету. Глядите, какая дорога.
Все шоссе, во всю ширину, было растоптано многочисленными людскими следами. Точно речная зыбь легла по снегу и на ней узкой змейкой тянулась колея от колес.
– Видали? – весело крикнул Бурзила. – Все прошли на чугунку. Теперь и посты их там будут. До самых Гилевичей никого не встретим. Абы не опоздать.
– Ничего, времени еще много.
– А разве не ночью?
– Завтракать будет.
– А то нам… в лесу… сказывали: ночью. Видать, значит, ошиблись.
– Завтрак заказан, – сказал незнакомец и потом молчал всю дорогу.
Сани неслись по шоссе. Ольга сидела рядом с братом.
– Феопен, – сказала она, вдруг выпрямляясь и беря лесоруба за плечо. – Ты не знаешь, что это за люди?
– А хто ж их знает, какие они люди.
– А не большевики они, Феопен?
– Может, и большевики… Разве их почем угадаешь. Не тавреные!
– Так ты их совсем не знаешь? Не врешь?
Феопен промолчал.
Сани пробирались по следу. Они оттянули далеко от передних саней. Кругом был лес. С еловых лапчатых ветвей сыпал снег, холодил лицо и засыпал глаза.
– Зачем большевики? – точно проснувшись, пробурчал Феопен. – Настоящие люди… Хорошие люди.
– Да ты их знаешь или нет? – допытывалась Ольга.
– Чего знать?.. Моего интересу тут нисколько… Известно: делай, что велят.
– А велит-то кто, Феопен?
– Велит… – Он подумал и договорил тихо и внушительно: – Великий Князь велит… через Белую Свитку… Вот как большевики-то твои обернулись.
Сани выбрались на шоссе, и лошади пошли спорою рысью. Ольга прижалась к Глебу и шептала ему на ухо:
– Глеб… Или и правда мы с тобою в герои попадем… или просто нас прямо в Чрезвычайку везут… Но мне не страшно… А каков Владимир? Вот тебе и тямтя-лямтя… Твердый какой… Он, я думаю, как его отец будет. Дедушка! Что за прелесть наш милый дедушка. Ты знаешь, Глеб, мне с ним ничего не страшно. А Владимир… За эти дни, что он у нас, я его совсем по-новому узнала. Он мне точно показал Бога. То есть… Я всегда верила… Но всегда это было как-то ужасно, ужасно далеко… А Владимир будто взял меня за руку и показал: – вот Он… Подле… со всеми милостями Его… И тогда ничего не страшно… В Чрезвычайку так в Чрезвычайку. Везде люди… На людях и смерть красна…
Впереди длинной линией засверкало ожерелье станционных огней. Лес расступился, давая место постройкам. Феопен кнутовищем показал на огни.
– Вот и Гилевичи, – сказал он.
Ольга упала лицом на колени Глеба, повернула из-под ковра, накинутого на ноги, лицо к брату и тихо прошептала:
– Глеб… Глебушка.
Брат нагнулся к сестре.
– Нет, ближе… Я тебе на ушко… По секрету… Помнишь, как маленькими были…
– Ну, что такое? – наклоняя ухо к губам Ольги, спросил брат.
– Ты знаешь, Глеб… Я, кажется, теперь уж по-настоящему влюблена.
– В кого?
– Да в Володю, – жалобно прошептала Ольга. – Уж очень мне его жаль. Стараюсь в него совсем влюбиться.
– Ну, и как же твои старания? – улыбаясь, спросил Глеб.
– Да, кажется, ничего, – вздохнула Ольга.
14
Пац возвращался из-за границы в торжественном, приподнятом, великолепном настроении духа. Правда, он ничего не нашел: ни заграничных следов Белой Свитки, ни центра Братства Русской Правды… Но зато какая предупредительность! И в Auswartiges Amt на Wilhelmstrasse в Берлине, и на Quai d’Orsau в Париже, и в Foreign Ofiice в Лондоне – везде его принимали как самого почетного гостя. Особенно нянчились с ним в Варшаве. Залесский за завтраком был так услужливо любезен. Нет, «их» боятся. У Штреземана он обедал. Мальцан, его старый друг, приехавший всего два месяца из Америки, устроил ему чашку чая и пригласил на нее весь цвет советской берлинской колонии во главе с женой Горького, бывшей артисткой Андреевой.
В Париже время проходило между беседами с Эррио и де Монзи, интимными ужинами у Блюма, поездками в какие-то подозрительные кабачки с Вайяном Кутюрье, где были солдаты, матросы и даже настоящие апаши, и веселыми праздниками на Монмартре и на Place Pigalle. Он приторговал кое-кого из эмигрантов быть фиктивными подрядчиками на предмет поставки оружия «для Китая»… Почета было сколько угодно. Он только за границей понял, как сильна и крепка советская власть. В России он в этом сомневался.
Приближаясь к советской границе, Пац почувствовал, как опять стало подниматься в нем это подлое, сосущее чувство сомнения в прочности коммунистического строя.
В Стобыхве польская кондукторская бригада сменилась советской. Прицепляли советским паровоз. Сюда для Паца был доставлен вагон-салон, так называемый министерский. Это был громадный Пульмановский вагон, выкрашенный в темно-синюю блестящую краску. Посередине раньше стоял сделанный серебром вензель «Н И» и над ним Императорская корона. Теперь вензель и корона были грубо закрашены синей краской и поверх выведена красная пятиконечная звезда. На ней серп и молот.
Инженер Вишневский, начальник дистанции, выехал лично в Стобыхву, чтобы проводить Паца по своему участку. Пац ходил с ним вдоль вагона и при свете утреннего солнца видел, как из-под звезды, серпа и молота сквозили Императорские вензель и корона.
«Вот так же, – думал он, – они сквозят и везде. Десять лет мы закрашиваем и замазываем эту проклятую Империю, а она глядит отовсюду. И в инженере Вишневском, в его зеленых кантах, в его потертом черном пальто, все она же. Пальто-то, гляди, Императорских времен. Да и знания Императорские, с тех пор он не обновлял их».
По скрипящему под новыми, английскими, тупорылыми, толстыми башмаками снегу Пац подошел к вагону и вошел на площадку. Пожилой статный проводник в сером кафтане открыл перед ним двери.
– Пожалуйте, ваше сиятельство.
«И проводник, пожалуй, тоже старый, Императорский».
– Послушай, братец, – сказал ему Пац. Он считал особым шиком говорить низшим служащим «ты». – Протри-ка, таки, окна от снега. Когда приезжаешь из Европы, – обернулся он к Вишневскому, – так, знаете ли, приятно видеть родные деревни и эти православные церковки с куполами луковкой… Я с таким удовольствием думаю о завтраке в Гилевичах… Там, говорят, повар очень хороший и буфет отличный.
– Еще царских времен повар, – сказал Вишневский.
«Опять», – мелькнуло в голове Паца.
– Да, знаете, – сказал он, – когда поешь эти разные французские соусы да немецкие габер-супы, тогда начинаешь ценить настоящий русский борщ или там волжскую рыбку. Бедный Бахолдин, он-таки очень любил покушать. А вот не придется ему снова есть русскую кухню…
Поезд плавно тронулся. Все ускоряя ход, он катился по заснеженным полям и вскоре вошел в густой лес. У границы была короткая остановка. Протяжный свисток, и поезд пошел дальше.
Пац и Вишневский стояли у окна. В вагон на границе сели Выжва, Корыто, Смидин и два командира из «ГПУ».
Пац смотрел на лес, на снежные сугробы вчера расчищенного пути, смотрел на красноармейцев, закутанных поверх шлемов-спринцовок разным тряпьем, при приближении поезда вытягивавшихся в сугробах и становившихся смирно с ружьем «у ноги». Они были каждые сто шагов, везде одинаково красные, с ознобленными руками, жалкие и продрогшие. Пац видел их комолые лица, их тупые взгляды. Одни стояли лицом к поезду, другие спиною, глядя в лес, с ружьем на «изготовку» против невидимого врага.
Это зрелище привело Паца в самое лучшее настроение. Он повернулся к почтительно стоявшей за ним в салоне свите, чувствуя, как невольный прилив радости подхватывает и уносит его.
– Это очень мило со стороны военмора выслать для меня охрану. Вот, знаете, стою я и еду так… По-царски… по-императорски… И думаю… Что значит свобода! Что значит торжество революции!.. Победа социализма! Вы же знаете, кто я! Сказать-таки откровенно, я жид… Я просто жид, маленький местечковый еврейчик, университета не кончил… Я бежал от военной повинности. Я дезертир и эмигрант… И вот сбросил рабские цепи русский народ, и вы смотрите же, кто я… Я комиссар!.. Я как царь! Я вам могу сказать прямо… я столечко – бог!..
Пац чувствовал, что хватил через край, но от переполнявшего его сознания своего величия не было сил сбавить тона.
– Вы, – обернулся он к Вишневскому, – вы простите, я все не запомню вашего имени и отчества. Это такой глупый русский обычай обзывать по папеньке…
– Михаил Алексеевич, – сказал инженер.
– Да, Михаил Алексеевич, – Пац закурил дорогую сигару. – У русских, – острил он, улыбаясь и показывая золотые зубы, – у русских, знаете, если хотят вежливенько назвать вас, говорят по папеньке. Ну а если хотят, хэ-хэ, вас обидеть, то называют по маменьке… Большое, хэ-хэ, почитание родителей. А вы скажите, Алексей Михайлович, вам-таки случалось провожать по дистанции бывшего Государя?
– Как же… Случалось.
– Ну и что?.. Как?
– Сидели в салоне. Государь всегда интересовался всем, расспрашивал о службе… о семейном положении… угощал папироской… кофе…
– Вы, хэ-хэ, гляди, папиросочку-то на память хранили?
Инженер промолчал.
– Да, – обернулся Пац к Выжве, – это же, знаете, ужасная вещь воспоминания прошлого… Это же яд… Это опиум. Вам, Алексей Михайлович, сколько лет?
– Мне пятьдесят два.
– Вы в партии?
– Беспартийный…
– Ну вот, хэ-хэ, и я, как ваш прежний Государь, вас расспрашиваю… Хэ-хэ… Тоже потом будете рассказывать… «С самим комиссаром Полозовым разговаривал…»
Поезд остановился на полминуты на полустанке. Инженер сказал, что ему нужно следить за путем с паровоза, и ушел.
«Обиделся, – подумал Пац. – Обиделся, сволочь. Сквозит из них эта проклятая Империя. Никакою краскою, никакими звездами ее не закроешь…»
15
На станции Гилевичи поезда с комиссаром ожидал Медяник. В ярком, морозном, красивом зимнем дне белая станция, на фоне заиндевевшего леса, точно пятнами свежей крови была покрыта реющими по ветру алыми флагами. На платформе, на деревянных досках с примерзшим снегом, усыпанных песком, толпился народ. Распоряжавшийся здесь начальник местной «Чеки» хотел было удалить всех посторонних с платформы, но вмешался Медяник. Он заявил, что комиссар Полозов любит почет. К тому же на платформе были все простые крестьяне, видимо, собравшиеся поглазеть на проезд «большого» начальства. Милиции и конных башкир достаточно. Пусть жители посмотрят. Было решено очистить только буфетную комнату, где всецело распоряжался буфетчик, он же и повар, Петр Петрович Сомов, толстый, старый, почтенный человек. В буфетной, где стояли искусственные пальмы, стол был накрыт чистою, в крахмальных складках скатертью, с салфетками, поставленными стоймя на тарелках, и хрустальной посудой. Портрет Ленина с его калмыцкой усмешкой глядел из рамы со стены. Портрет был небольшой, квадратный и на голубой стене за ним было видно овальное, не выгоревшее от солнца, широкое пятно, обозначавшее место, где прежде висел портрет Государя.
От дверей станции к тому месту, где должен был остановиться комиссарский вагон, была проложена длинная, малиновая, ковровая дорожка, принесенная усердием обывателей из церкви.
Начальник станции и его помощник надели новые красные фуражки, телеграфист не выходил из аппаратной.
Поезд уже миновал пограничную станцию Стобыхву и приближался к станции Великая Глуша. До Гилевичей оставался один перегон.
Милиция отодвинула глазевшую толпу по обе стороны платформы и установила ее полукругом, как при Царе стоял в таких случаях народ.
Начальник ГПУ последний раз окинул народ внимательным, наметанным глазом. Кажется: ничего подозрительного. Много белых свиток, подпоясанных белыми кутасами, но здесь это местный крестьянский наряд. Интеллигенции мало. Стоит какая-то стройная барышня в котиковом саке и кокетливой, котиковой же, старомодной шапке на стриженых волосах. Как будто не местная. Начальник ГПУ поставил подле нее своего молодого помощника. Барышня состроила глазки, помощник покрутил над губой, там где должен быть ус. «Кажется, флирт начинается. Ну, это безопасно. Не машинистка ли новая из здравотдела?»
Начальник ГПУ успокоился. Он одернул на себе амуницию, потер занывшее на морозе левое ухо и пошел поближе к ковру. Поезд мягко подкатывал к станции.
Он остановился, скрипя и визжа колесами по обледенелым рельсам. Вздохнули Вестингаузовские тормоза. Чины милиции бросились к простым вагонам с запретом выходить, и с площадки пульмановского вагона на красную дорожку ковра выскочили Выжва и Смидин. За ними важно вылез сам комиссар. Он был в дорогой заграничной шубе серого обезьяньего меха и в меховой же шляпе, кругло облегавшей череп. Маленький, пузатый, в своих мехах он не походил на человека. Казалось, какой-то странный безобразный зверь выкатил из вагона. Толпа, как один, сняла шапки.
Пац прищурил глаза от яркого солнца и сказал, сверкая золотыми зубами, Смидину:
– Позовите инженера с паровоза. Пусть и он со мною икорки покушает.
Флаги, ковер, народ с обнаженными головами, снявший фуражку седой начальник станции, милиционеры при саблях, конные башкиры, которых он видел на площади, когда поезд подходил к платформе, – все это пьянило его и кружило ему голову. Он не шел, а плыл на волнах самодовольного блаженства, поддерживаемый под локоть с одной стороны начальником ГПУ, с другой – Выжвой.
В буфетной повар и два лакея стояли на вытяжку. Пац потянул носом.
– А, борщок… – довольно сказал он и покрутил пальцем перед носом. – Недурно. – Он прищелкнул жирными пальцами.
– Борщок со сметаной и сосисками, – подскочил к нему, с готовым меню на картоне, старый Сомов. – Гренки из гречневой каши.
– Совсем по-русски, – сказал Пац, принимая меню. – Как приятно чувствовать себя опять в России! Прошу, товарищи, садиться. Отварная стерлядка?.. Мммм, тоже неплохо… Рябчики… Местные?
– Здешние-с. Вчера охотники доставили…
– И персики… Совсем великолепно. Сразу забудешь все эти немецкие габер-супы…
За завтраком больше всех говорил, ел и пил Пац.
Ведь завтрак был ему и для него. Остальные помалкивали. Два раза начальник станции входил и что-то шепотом докладывал Вишневскому.
– О чем это он, товарищ инженер?
– Спрашивает, когда отправлять.
– А… Разве уже время?
– Сорок минут опоздания, товарищ комиссар, – вытягиваясь, просительно доложил начальник станции. – Впрочем, как прикажете.
– Ничего… Еще пару минут. Я думаю, комиссару можно. Хэ-хэ-хэ. Товарищ начальник станции позволит?
– Помилуйте-с… Так прикажете № 39 задержать?
– Да, задержите, – сказал Вишневский. – И почтовый пусть ожидает в Минске.
Начальник станции на носках вышел из буфетной и побежал в телеграфную остановить поезд.
Попыхивая сигарой и все еще ощущая во рту ароматную терпкость бенедиктина, Пац вышел впереди всех и не спеша двинулся к вагону.
Народ опять снял шапки. Пац небрежно козырнул двумя пальцами и приостановился.
Был, должно быть, третий час дня, и от вагонов на платформу легли длинные синие тени. У пассажирских вагонов стояли часовые красноармейцы. Между толпою и поездом оставался проход не больше десяти шагов. По этому проходу, вдоль поезда, навстречу Пацу спокойными, ровными, твердыми шагами шел высокий, красивый человек в белой свитке и в белой смушковой шапке.
Пац взглянул на него и сразу все понял.
Иногда, очень редко, бывали у него минуты черной меланхолии, когда он задумывался о Смерти. В эти минуты ему казалось всегда, что если он умрет, это непременно случится в момент самого полного ощущения жизни, когда во рту приятный вкус хорошего ликера, желудок полон легкой и благородной пищей, в голове сладкий туман власти и почета, а впереди сладострастная, острая радость объятий и издевательства над покорным, молодым, женским телом.
Пац взглянул на высокого человека, без оружия подходившего к нему, и каким-то безошибочным внутренним чувством понял, что это – смерть.
В кармане Паца лежал прекрасный браунинг, всегда поставленный на «Feu»[25], и сознание говорило ему, что он может застрелить этого молодого крестьянина. Сознание говорило ему, что надо крикнуть, – показать рукой и вся эта масса милиционеров, красноармейцев и чинов охраны бросится и схватит этого человека. Но Пац не сделал ни того ни другого. Стальной взгляд узко поставленных блестящих глаз того кто шел ему навстречу, приковал его к месту. Он парализовал его волю, он гипнотизировал его.
Пац хотел двинуться. Всего три шага – один большой прыжок, – отделяли его от вагона, где было спасение. Но Пац, вместо того чтобы сделать этот прыжок, продолжал стоять на месте, борясь с охватившей его неподвижностью.
Все это длилось одну секунду. Никто этой секунды, этой приостановки, этого немого состязания воли между Пацем и незнакомцем не заметил. Но для самого комиссара эта секунда показалась бесконечно долгой. Она была роковой.
Коротким, стремительным и точным движением незнакомец выхватил из кармана свитки тяжелый наган. Быстро щелкнули один за другим три выстрела, и Пац упал ничком на снег, посыпанный песком. На сером обезьяньем меху его шубы показалось черное пятно крови. Алый поток ее проступил на снегу.
На мгновение все кругом замерло. Пассажиры, стоявшие у окон и смотревшие на комиссара, кинулись прочь в глубину вагона. Начальник ГПУ бросился к Пацу. Его помощник рванулся на стрелявшего, но подле него раздалось такое томное и нежное «ах», что у него сами собой раскрылись объятия и он принял в них упавшую в обморок барышню в котиковой шубке. Выжва бегом, согнувшись, проскочил в буфетную и юркнул под стол. Корыто кинулся было к стрелявшему, чтоб его схватить, но кто-то ловко дал ему подножку и он покатился на землю. Когда встал, рядом никого не было. Перрон разом опустел. Крестьяне беспорядочно бежали в разные стороны. Красноармейцы суетливо и бестолково палили вверх. Два стражника ГПУ выносили сомлевшую барышню в котиковой шубке. Корыто побежал на станционный двор и увидал несколько скачущих по шоссе саней и среди них полковые сани, в которых сидел Медяник. Он приказал конным башкирам догнать их и остановить. Башкиры поскакали было за ними, но сейчас же повернули в улицу вправо, где из-за заиндевелых деревьев валил густой, черный дым пожара.
Инженер, начальник станции и начальник ГПУ перенесли истекающего кровью Паца в вагон и положили на диван. Оказавшийся случайно в поезде врач нашел его уже при последнем издыхании. Еще несколько минут, и Пац стал трупом.
Поезд тихо отошел от станции, увозя тело убитого комиссара.
Ни стрелявший, ни его сообщники, – а было очевидно, что он был не один, – схвачены не были.
Красная власть приступила к строжайшему расследованию.
16
Много после – ибо события так быстро назревали, что допрашивать по горячим следам не пришлось, – допрошенные в трибунале показали:
Начальник ГПУ заявил, что, когда он увидал упавшего Паца, первая мысль его была помочь ему и заслонить обожаемого начальника своим телом от дальнейших покушений, почему он и кинулся к нему.
Его помощник показал, что он сразу понял, что барышня в котиковой шубке была сообщница стрелявшего, и потому он ее схватил. На вопрос следователя, куда же она девалась, помощник смущенно ответил, что к нему подбежали два солдата в форме ГПУ и приняли ее от него. Кто были эти солдаты, он указать не мог. В волнении и в суматохе он не заметил их лиц.
Командир полка Выжва объяснил свое нахождение под столом в буфетной тем обстоятельством, что «товарищ комиссар, выйдя из станции, обеспокоились, не обронили ли они золотой портсигар в буфете, и послали меня искать. Я и не слыхал, как стреляли».
Надо полагать, покойный комиссар зря тревожился о портсигаре. Он был найден на его трупе.
Комиссар Медяник показал, что он увидал огромную толпу Белых Свиток, напавших на комиссара Паца: «Их было больше тысячи, и все, знаете, стреляли. Я-таки и решил скакать за батальоном и пулеметами».
Корыто рассказал, как он бросился схватить стрелявшего, но ему помешал какой-то молодой человек, давший ему подножку. А когда он поднялся, никого уже не было. Он приказал начальнику башкирского взвода вернуть беглецов, но тот, вместо того чтобы исполнить его приказание, поскакал на пожар. Горело здание местного Совета, неизвестно кем подожженное.
Начальник башкирского взвода объяснил, что он поскакал заворачивать сани, но тут к нему подъехал конный красноармеец на серой лошади из ГПУ и сказал ему: «Куда скачете? Там Совет горит. Ваше место там».
– Мало-мало понимаешь, – говорил смущенный начальник взвода, растерянно поводя перед следователем косыми глазами. – Там бачка вперед, там бачка направо. Моя не знай ничего. Моя не знай, что комиссара убили.
По поводу этого показания начальник ГПУ пояснил, что никаких конных стражников к станции Гилевичи наряжено не было и что вообще серых лошадей в ГПУ во всем уезде нет. Однако командир башкирского взвода продолжал настаивать на точности и верности своих слов.
Допрошенные милиционеры и красноармейцы тупо повторяли, что они никаких приказаний ни от кого не получали. Они видали, что в товарища комиссара три раза стрелял человек в белой свитке и что к комиссару бросился начальник ГПУ.
– Мы и стали стрелять вверх. Потому не знали, в кого и куда стрелять. Боялись зашибить начальство.
Опрошенные жители местечка показали, что утром все дома обошли двое рослых стражников ГПУ «чужих, нездешних» и приказали после двух часов никому не выходить из дому по случаю проезда комиссара. Потом они видали, как по местечку к станции проехало «саней с десять», а на них какие-то крестьяне, всего человек тридцать или больше.
– Мы им, знаешь, махаем… Нельзя, мол, на станцию, а они либо не слышат, либо не понимают. Может, поляки. Видать, витебские, белые свитки.
Осмотр станции показал, что на станционном дворе стояло одиннадцать саней. Двое распряженных саней остались с брошенной подле сбруей. На сбруе были следы серой шерсти.
Наконец, мальчик десяти лет, пионер, рассказывал, что он видел, как поджигали Совет.
– Один был старенький, бритый, на ксендза похож, а другой молодой. Подъехали они на санях. Молодой из жестянки огромадной плеснул на угол, а старый лучину долго за углом разжигал. А потом и подпалили, значит. Враз занялось. Так и полыхнуло кверху, до самой крыши. А те, значит, сели и поехали. Я думал: наши, коммунисты. Кому же больше?
Башкиры толком ничего не могли показать. Кто-то будто седлал лошадей на площади, но они думали, что это так, просто начальство отбирает лошадей от крестьян.
Арестовали инженера Вишневского, повара, начальника станции с его помощником и телеграфиста.
Им ставилось в вину, что они умышленно задержали поезд с комиссаром на 50 минут. Кроме того, было приказано по тюрьмам в Минске, Москве и Ленинграде отобрать двести заложников. Всем, и самой советской власти, было ясно, что все эти люди никак не виновны в убийстве комиссара Полозова. Но убит был не кто-нибудь, а видный член Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Республик «Цика» и вместе с тем член революционного Военного Совета Союза, да притом еще ехавший с важным докладом из-за границы. Это было крупное «советское светило», и убийство его нельзя было оставить без последствий. Всем арестованным и заложникам грозила высшая мера наказания – смертная казнь. Рабоче-крестьянское правительство умело карать за смерть своих верных слуг.
Между тем всем было ясно, что все это было делом Белой Свитки. Белая Свитка в эти дни ураганом пронеслась по всей Белорусской республике и наделала бед и несчастий больше, чем Крымское землетрясение. И никто не был пойман.
17
N-ский стрелковый полк только поздно вечером, в темноте, вернулся в свои казармы у Борисовой Гривы. Люди были голодны и устали до крайности. Было много ознобленных. Притом все, и начальство, и красноармейцы, находились в тяжелом и подавленном состоянии духа. Тот самый комиссар, ради которого они три дня мерзли и голодали, был убит, можно сказать, на глазах у всех, и убийца не был пойман. Надо было ожидать арестов и жестокой расправы со стороны высшего советского начальства.
Прискакавший в санях Медяник был совершенно растерян. Корыто должен был сделать переход пешком и совсем подбился, размяк и раскис. Кроме всего его окончательно расстроило то, что у себя на квартире он застал Смидина и, когда он входил, тот быстро метнулся от Пульхерии, которую он, видимо, обнимал. Смидин смылся, как только увидал Корыто. Корыто приказал Пулечке растереть ему спину березовым бальзамом, но раздраженная Пулечка отказалась. Пришлось звать санитара.
Было скучно, злобно и досадно на дочь.
Выжва прошел к себе, заперся и даже не принял дежурного по полку. Ординарец таинственно доложил дежурному: «Пьют-с… Очен-но устали… Теперь надо полагать, дня на три… В большом расстройстве».
Распоряжался один Выржиковский. Он приказал сытно и горячо накормить людей, хорошенько растопить печи, уменьшить наряд и ложиться спать. Утро вечера мудренее. Белой Свитки бояться нечего. Она теперь далеко. Празднует свою удачу у Гилевичей. Выржиковский по долгому строевому опыту знал, что в том состоянии, в каком сейчас находились красноармейцы, они все равно никуда не годятся.
Наступила темная зимняя ночь. Была она такая тихая, что, когда в лесу падал пласт снега с еловой лапы, было слышно на казарменном дворе.
Дневальный и часовой у знамени и денежного ящика тоскливо топтались на морозе, борясь со сном. Сзади, в сумраке приспущенных коптящих огней, спали мертвым сном темные флигеля казарм.
Дневальный у ворот, в старом, рваном, еще Императорской армии тулупе, прислонился к стене, истомно, протяжно зевнул раз-другой и на минуту забылся в дреме.
Оглянулся. Подле него двое… в белых свитках… Вяжут ему руки… По шоссе стоит вереница саней. Люди проворным шагом входят во двор казарм…
– Товарищи… православные… да я же с вами… Ослобоните…
Все случилось молниеносно быстро. Распоряжался кто-то, кто отлично знал каждый закоулок, каждый закуток казарм.
Два человека вытащили длинный ковер с лестницы, повесили его на гимнастике и стали бить палками. Ни дать ни взять: частая ружейная пальба поднялась на дворе.
В каждой роте сразу одновременно появилось по два человека. Один со стороны светил сильным электрическим фонарем. Другой держал винтовку наготове.
Гремела команда:
– Стать по койкам!.. Старшина ко мне!
Покорно шел, шатаясь со сна, точно привидение в белом фельдфебель.
– Взводный ко мне!.. Показать коммунистов!
В полутьме у ружейных пирамид возились люди, отбивали замки и уносили ружья.
Начальник налетчиков в белой свитке взял с собой взводного первого взвода и пошел вдоль коек.
Остро и метко колол четырехгранный штык, направляемый опытной, сильною рукою. В окровавленном белье падали на койки члены ротных ячеек, всем ведомые коммунисты. В смертельном испуге дрожали, как осиновые листья, красноармейцы. Кто-то двинулся. Хотел побежать. Меткая пуля пришила его к месту.
– Сказано, ни с места! – прогремел властный командирский голос. Давно не слыхали такого в Красной армии.
По лестницам босые красноармейцы в нижнем белье по указанию Белых Свиток большими охапками сносили ружья и накладывали на сани. У пулеметных сараев запрягали пулеметные тачанки, у обозных нагружали патроны. Седлали ординарческих и командирских лошадей. Все шло как по писаному, руководимое чьею-то сильною, крепкою волею. У командирского, все еще по привычке называемого «офицерским» флигеля дежурили вооруженные люди. Там была еще мертвая тишина. Ни одно окно не светилось. Крепким сном спали в общежитии холостые красные командиры, еще крепче спали, угревшись в теплых объятиях своих жен, женатые. В коридорах и на лестнице была такая тишина, что слышно было, как из всех дверей мерными, плавными вздохами доносилось храпение спящих. Казалось, это дышал сам этот темный, крепко уснувший флигель.
Только, когда последние сани с ружьями и деревянными патронными и гранатными ящиками, сопровождаемые конными людьми и пулеметами, завернули за ворота, в казармах началась тревога.
Первою ее подняла Пулечка Корыто. В рубашке до колен, в белой шали с бахромою, точно длинное тонкое привидение, она стучала в двери командирской квартиры. Наконец, ординарец впустил ее и согласился разбудить командира.
Выжва долго не поддавался на уговоры ординарца. В ответ он только мычал, ругался и даже толкнул солдата в зубы. Наконец, он сообразил, чего от него хотят, вспомнил, что он все-таки командир полка, встал, накинул шинель, вдел ноги в свалянные грязные суконные туфли и, с трудом продирая слипающиеся глаза, сопровождаемый ординарцем с лампой, прошел в приемную.
Вид Пулечки в таком странном и легкомысленном костюме его не удивил.
«Доигралась, сука, – подумал он. – Видно, папенька накрыл».
– Ну, что там? – хмуро, хриплым голосом, зевая, спросил он.
– Михаил Антонович, у нас в полку несчастье.
– Какое там несчастье? Дежурный ничего не докладывал.
– Михаил Антонович… Я только вот сейчас вышла на колидор по своей надобности…
Пулечка, хотя и кончила школу высшей ступени и даже была председательницей женотдела, однако выражалась по простонародному и коридор называла «колидором».
– Ну и что же? – промычал Выжва.
– Вышла и вижу… Фонарь электрический светит и идут трое. Впереди в короткой шубке наш командир.
– Какой наш командир? – удивился Выжва.
– Да старый наш, Тмутараканский… Полковник Ядринцев. Я хоть его и девчонкой махонькой видала, а сразу узнала очень даже отлично. Бороду и усы они теперь обрили, а только брови у них и глаза были острые. Я его сейчас узнала. А за ним двое, у обоих револьверы наготове… Крестьяне… В белых свитках.
Хмель и сон постепенно выскакивали из головы Выжвы.
– Дальше что?
– Я, знаете, спряталась за угол. Я в белом, меня на белой стене и не видать. Стою, не дышу. А они, значит, идут тихо. Подошли к вашей двери, прочитали надпись на дощечке… дальше пошли. К папенькиной двери подошли, прочитали имя, фамилию, полковник Ядринцев головой так покачали и подошли к двери комиссара Сруля Соломоновича. Стали стучать. Вошли… Я все стою… Боюсь, знаете, выйти. Ну, как увидят. Они пробыли так минут с пятнадцать и вышли. Не спеша прошли к лестнице и спустились… Я и кинулась к вам.
– А вам это все не приснилось?
– Помилуйте, Михаил Антонович! Чем хотите поклянусь… Вы только папеньке не говорите, что это я вам сказала… А то папенька еще невесть что про меня подумает, что я ночью из квартиры ушла.
– Ну, ладно.
Выжва оделся и приказал ординарцу разбудить и послать к нему Выржиковского. Пулечка скользнула в свою квартиру. Корыто не просыпался. Когда пришел Выржиковский, Выжва пошел с ним на квартиру Медяника.
В передней на койке лежал привязанный полотенцами за руки и за ноги ординарец Медяника с платком во рту. Его освободили. Он молчал, бессмысленно тараща глаза. В спальне Медяника тускло горела лампа на письменном столе. Сам комиссар, в одном белье, выпучив бесцветные, подернутые пленкой глаза, высунув язык, вытянув тонкую жилистую шею и поджав ноги, висел на большом ламповом крюке, ввернутом в середину потолка. Он был повешен на тонком, намыленном шнурке и был уже весь холодный.
Выржиковский с помощью ординарца вынул Медяника из петли и положил его на кровать.
На столе, под лампой с кривым картонным зеленым абажуром, лежал лист бумаги и на нем было четко и ясно написано:
«Коммунизм умрет – Россия не умрет».
«Смерть врагам Родины. Смерть насильникам и совратителям русского народа! Опомнитесь, русские люди! Опомнитесь, офицеры и солдаты русской, хоть и Красной, армии. Служите Богу, Царю и Родине, а не жидам-комиссарам».
«Белая Свитка».18
В казармах росла тревога. Людские голоса и топот бегущих ног становились громче. Шелест надеваемой одежды, хлопанье дверей, беспокойные оклики сливались в один сплошной беспорядочный гул.
Вскочили заспанные командиры. Ротные побежали по ротам. Загорались огни. Засвечивались по помещениям в долгой зимней ночи лампы.
Подсчитывали убитых и убытки. В полковом штабе собрались Выжва, Выржиковский, Корыто и Смидин. Они получали там от приходящих из рот донесения.
Грозно было их значение.
Во всем стрелковом полку, где в двенадцати ротах с командами было более тысячи человек, не было ни одной винтовки, ни одного пулемета, ни одной лошади, ни одного патрона, ни одной ручной гранаты. Полк был совершенно обезоружен и представлял собою толпу насмерть перепуганных людей.
Все члены коммунистических ячеек, державшие в ротах революционный порядок, были заколоты. Их было восемьдесят два человека.
Телефон не действовал. Провода были перерезаны. Безжизненно, без звона, вертелась ручка у липового ящика, и молчала грязная, заплеванная, черная трубка. Связь с коммунистическим миром была порвана.
Надо было ехать в город, искать связи оттуда. Ехать было не на чем. Идти пешком было страшно. Наконец, взводный командир Ломаченко вызвался дойти пешком до города и на словах передать в ГПУ о том, что случилось. Ему не решились даже дать письменного сообщения о таком страшном разгроме.
Утро осветило изъезженный, истоптанный людьми и лошадьми двор. Начавшиеся в ротах поверки людей установили еще, что сто двадцать красноармейцев были уведены или бежали.
Выжва и Выржиковский притихли, ожидая ареста, следствия и суда, а может быть, и просто казни без всякого следствия и суда. Однако их не арестовали. Слишком необычайные события прокатились в эту ночь по всей советской Белоруссии и застали власть врасплох.
Этим утром в самой столице Белорусской республики, Минске, проснувшиеся и вышедшие на улицу жители сейчас же вернулись назад и спрятались по домам. Долго шептались они по своим закуткам, потом вышли снова и потянулись туда, откуда было видно здание вокзала.
В сером холодном небе тихо реял на высоком флагштоке, над вокзальной башней, громадный бело-сине-красный Российский флаг. Ветер то разворачивал его весь, и он ясно и четко рисовался на серых тучах, то он медленно сворачивался, припадал к мачте, точно смущался, улыбаясь, и снова раскрывался весь, величественно колебля свое широкое полотнище. Он был как живой. Он был – воскресшая Родина, знамение победы над врагом.
Из дома в дом катились слухи. Проникали через запертые двери, продирались сквозь толстые каменные стены.
«Сгинула сатанинская власть. В России снова – Россия. Русский флаг над вокзалом».
Не верили… Боялись верить. Тайно обнимали близких, лили тихие слезы, молились перед святыми иконами. «Только бы сбылось».
Коммунисты притаились и не выходили из домов. Чины ГПУ попрятались и дрожали по своим кровавым застенкам. Начинали жечь позорные архивы.
«Кто повесил?.. По чьему приказу?.. А ну, как там, в столицах, уже появилась новая власть… Вдруг это она приказала. Вдруг она успела приказать».
Только после полудня решились снять этот флаг. Снявши, еще долго ходили с оглядкой, как воры, боящиеся возмездия. Ждали, что скажут оттуда. Из Ленинграда… Из Москвы. Оттуда ничего сомнительного не было. Наконец, пришли в себя.
Вечером красноармейцы и большое количество рабочих и чинов ГПУ, самых верных коммунистов, было собрано в Минском театре. Местный Исполком заседал на сцене. Был организован грандиозный митинг. Все были свои, верные, преданные советской власти люди. Опытный лектор-еврей разрывался на сцене, рассказывая о «противонародных зверствах царизма».
– Вас, товарищи, ваших отцов, ваших братьев, царские опричники-жандармы гноили по тюрьмам, вас засекали насмерть казацкими нагайками. Крестьяне без земли шли к помещику в кабалу, и помещик делал с ними, что хотел. Земли было так мало, что некуда было куренка выгнать. Вас били, издевались над вами!.. – надрываясь, выкрикивал он у самой рампы в притихшем, жадно слушавшем его зале.
Толпа в театре была захвачена, наэлектризована, готова к восприятию каждой подсказанной ей мысли. Вдруг внезапно во всем театре погасло электричество. Визгливый голос оборвался на полуслове. В темноте тускло мерцали свечи в закоптелых фонарях запасных выходов.
Смутный страх охватил толпу. Всем казалось, что сейчас что-то должно случиться. В этот миг в тишину замолкнувшего зала ворвался громкий, смелый голос. Кто-то отчетливо, выговаривая каждое слово, кричал с галерки:
– Цари крестьян освободили и землю им дали! А ваша жидовская власть народ в рабство привела и лучшие земли отдаст жидам!..
Сверху посыпался, разлетаясь по всему театру, бумажный дождь. Это были тетрадки журнала «Русская Правда» и Братские летучки: «Красноармейская памятка» и «Крестьянская памятка». Были и листки с «Русскими частушками». Люди внизу в партере и по ложам давились и толкались, стараясь схватить эти листки. С верхних ярусов бросились вниз. В коридорах шла давка. Побежавшие наверх арестовывать виновника чекисты были оттерты. Им в темноте жестоко мяли бока.
– Извиняюсь, товарищ…
– Вы чего, гражданин?.. Нельзя ли полегче?
– Я за народную власть…
– И я за народную власть… На, получи!
Тяжелые кулаки били по скулам, по ребрам. Нельзя было определить, кто, кого и почему бьет. Внизу мальчишки свистали и громко на весь театр пели:
Разгадай-ка, например, Что такое Триэсср. Пролетарская семья. Три Сруля, да русский я.– Кто поет? – рычал растерянный чекист.
– Комсомол… – отвечали из толпы визгливые голоса.
– Комсомол! – вопили из угла лож басом.
– Ком-со-мол! – в голос отвечало пять-шесть человек, заводя новую частушку.
Наш солдатик просто хват! Что ж не весел ты, солдат? Надоело тебе, знать, Все жидам во фронт стоять?– Ха-ха. Надоело! Надоело! – гудело в разных концах.
Наконец, со сцены, из-за занавеса, выскочили пожарные с горящими факелами. Тревожным, мерцающим светом озарился зрительный зал. Искали виновных. Но виновных найти было невозможно. При трепещущем свете горящих огней были видны обычные, испуганные, покорные лица обывателей, красноармейцев, чекистов и молодежи…
Митинг был сорван. Толпа расходилась из театра. Молчаливая, но взволнованная, настороженная, чего-то ждущая. Точно гарнизону крепости, окруженной врагами, вымирающему с голода, томимому жаждой, готовому сдаться, голубь принес весточку: помощь идет.
Тревожно гудело в эти дни советское радио. Полосою по всей России прошли вспышки кровавой народной мести. Пограничная стража доносила со всех границ о том, что сотни таинственных молодых людей перешли в эту ночь границы советской республики. Их нигде не удалось остановить. Они прошли и исчезли без следа.
В Баку пылали подожженные кем-то нефтяные фонтаны. Под Москвой пустили под откос поезд с хлебом, направлявшийся для заграничного экспорта в Ригу. Вдоль Николаевской (теперь Октябрьской) дороги пылали один за другим подожженные неведомой рукой казенные пакгаузы. В разных концах России горели здания ГПУ. У Верхнеудинска сожгли советские склады. В глухой Донской станице целиком вырезали карательный отряд ГПУ. Повсюду от руки неведомых мстителей падали местные «комиссарчики» и ненавистные народу шпионы, селькоры и рабкоры.
Шли слухи об обновлении церквей и икон. Из уст в уста передавали о явлении святых угодников, о Божией мести, о страшной, таинственной девушке-призраке, бродящей с бомбой в руках в самом Кремле.
Наступил день Св. Великомученика и Победоносца Георгия. Более ста лет в этот день русские воины привыкли праздновать свой воинский праздник. В этот день словно что-то шевельнулось в груди у тех, кто прикрыл свои белые, золотые и серебряные кресты алыми бантами и звездами, и им стало страшно.
В хмурую, морозную, ноябрьскую ночь точно носился по льдистым просторам русской земли Светлый Всадник с копьем на сером коне. Искал поразить в самую пасть огнедышащего дракона, полонившего Святую Русь.
Было страшно в Кремле. Было страшно в казармах Красной армии, в частях ГПУ. Но страшнее всего было в Погранотделах, на постах пограничной охраны. Там матерые атеисты, безбожники, красноармейцы, матерщинники, ничего не боящиеся, стоя на посту, крестились закостенелой рукой и шептали испуганно:
– Господи помилуй… Господи помилуй и спаси меня грешного.
По городам брали заложников. Их мучили, пытали, убивали, отыскивая виновных. Советские дипломаты, опираясь на Ригу и Рапалло, требовали от соседних стран арестов, репрессий и высылок невинных эмигрантов. Искали и там следов Белой Свитки. Боялись «Русской Правды». Правда стала страшнее всякой лжи.
В распоряжении следствия была только одна тоненькая ниточка: показание Пульхерии Корыто о том, что в ту роковую ночь она видела в казармах Борисовой Гривы бывшего командира Тмутараканского полка, полковника Ядринцева.
Ядринцева искали повсюду. От Владивостока до Седлеца и от Белоострова до реки Чорох.
19
– «Рождество Твое, Христе Боже наш!» – мерно поет ликующими голосами крестьянский хор села Борового.
Ольга следит за рукою Владимира, управляющего певчими. Между его загрубелых, потрескавшихся от мороза пальцев торчит камертон.
Одна половина церкви занята крестьянами в белых свитках, другая – людьми в красноармейских шинелях.
– Возсия мирови свет разума, – гудит над самым ухом Ольги густая октава Феопена. В чекистской длинной шинели, со знаками взводного начальника на рукаве, он выглядит новым, суровым и страшным. Борода его шевелится, когда он выговаривает слога, и из широкой пасти идет мощный рык. На лбу блестят капли пота.
В лучах зимнего солнца алыми огоньками вспыхивают пятиконечные звезды на фуражках в руках у красноармейцев.
– В нем бо звездам служащие, – поет Ольга и пророческими ей кажутся эти слова.
– «Звездою учахуся Тебе кланятися солнцу правды»…
У Ольги на глазах слезы… Видит, как кланяются, крестясь, красноармейцы. Гаснут, попадая в тень, алые звезды фуражек.
«Звездам служащие – звездою учахуся».
Эта звезда, их научившая, та таинственная Белая Свитка, чье имя здесь на устах у всех, в этом селе-крепости среди болот, среди четвертой стихии – грязи и топей.
Здесь свой особый мир, управляемый грозным атаманом Беркутом. Он да священник, отец Иоанн Хворостов, правят целым болотным лесным округом, где по деревням и лесным глухим фольваркам, между линиями польской и советской пограничной стражи, сбилось несколько тысяч русских, верных России людей, братьев Русской Правды… Говорят – с орудиями…
Атамана Беркута Ольга видит редко. Сейчас его нет в церкви. Он уехал куда-то с неделю назад вместе со старым Ядринцевым. Говорят, где-то еще устраивает такое же русское, «Божеское», село.
Узнать тут что-нибудь нелегко. Научен народ советской многолетней выучкой скрывать свои мысли, да и приказ есть от атамана – помалкивать. Село живет необычной зимней жизнью деревенского быта при воинском постое. Каждая халупа забита красноармейцами, но красноармейцами особыми. Служившими звездам и научившимися кланяться «солнцу правды». По утрам на площади и на опушке леса идут ученья. Глеб и Владимир стоят в шеренге бок о бок с молодыми крестьянскими парнями, и суровый Феопен сквозь замерзшие в инее усы командует:
– Четырнадцать… Пальба шеренгой…
Щелкают устанавливаемые на колодке прицелы.
В деревенской школе за низкими партами густо насели красноармейцы. С ними – батюшка, отец Иоанн. Идет беседа о забытом Боге. К исповеди и святому Причастию готовятся.
У волостного правления собрались люди идти на заставы, в полевые караулы и секреты. Раздают патроны и ручные гранаты. Все живут особенной военно-партизанской жизнью. Женщины привлечены к службе, посильно помогают мужчинам.
– Ольга, вам сегодня в хлебопекарню, хлебы братчикам печь… Ольга, ваш наряд санями развести пищу по заставам… Поедете с Маврушей, она знает…
По ночам щиплют корпию. Режут холщовые бинты. Медикаментов нет. С застав приводят раненых, перевязанных старыми газетами. Свинцовая типографская краска вместо бинтов, напитанных йодом, – партизанская медицина. У Ольги нет свободного времени. То дежурство в лазарете, где большинство тяжело раненых умирает из-за отсутствия хирурга, лекарств и нужных снадобий, то рыть могилы, то на спевку хора, то в мастерскую, где шьют белье и перешивают красноармейские шинели, то набивать патроны. Прямо дня не хватает.
Женщин в селе около трехсот. Часть – крестьянки, местные, все знающие, все умеющие, часть – такие же, как Ольга, откуда-то пришедшие, кем-то когда-то бывшие. Жены, сестры, вдовы, дочери партизан. Здесь не принято спрашивать о прошлом, здесь не говорят фамилий. Просто: Ольга, Варенька, Мария Петровна. А то прозвища есть – «Ласковая», «Тихоня», «Волчонок»… «Пройдите к Волчонку, у нее швейная машина есть, подрубите рубахи»…
Ольгины руки загрубели от разной работы, и вся она развилась, окрепла на лесном морозе, а душа ее просветлела.
Иногда шепчут за работой: «Наши вчера, говорят, удачно почтовый поезд остановили… Советской казны забрали больше ста тысяч… Теперь за все рассчитаемся с хозяевами»…
…«Наши на прошлой неделе всю Луцкую Чеку разгромили. Шесть комиссаров повесили»…
Здесь эти слова не коробят. Война! Ольга понимает, что это война. Как же иначе? Они нас. Мы их. Иногда шепчут: «Таких сел много, как наше… Не сдающихся… по всей, по великой России».
Приезжает откуда-то Беркут. В крайнюю избу зовут начальников дружин. Ольга гордится: с ними зовут и Глеба с Владимиром. Идет «военный совет». В ночь половина села пустеет. Все куда-то ушли. Через неделю вернулись. Слышно, того убили, того раненым сзади везут… Рассказы идут: «Уездком целиком снят. Три комсомольских клуба сожжены».
Ольга вспоминает все это, пока идет служба и чтец на другом клиросе бойко читает молитвы.
Да, странное… С в я т о е с е л о.
Священник вышел с крестом в руке. Слово говорить будет. Теснее придвинулась толпа.
– Возлюбленные братие и сестры! Наше Братство Русской Правды прислало нам молитву о России. На нее нет благословения местоблюстителя Патриаршего Престола. Мы давно отрезаны от Петербурга и Москвы. Да и Москва сама в плену у дьявола, а дьявол и церкви нашей замыкает уста. Однако же сказал Господь: «Воздвигну церковь мою и врата адовы не одолеют ю». Дух Божий живет, где хочет. Дух Божий везде. Эта молитва так отвечает всем нашим помыслам, устремлениям, чаяниям и воздыханиям, что в сегодняшний великий день, когда воссияло над нами солнце правды рожденного Христа, помолимся ее словами за нашу великую Родину – Россию. Аминь.
Отец Иоанн прошел через толпу на середину церкви и опустился на колени. Вся церковь, стуча и скрипя сапогами, последовала его примеру.
– «Ты, Господи, иже на небесех, склони очи Твои на Русь Твою изнемогающую, на красном кресте распятую, красными цепями закованную, красным гнетом угнетенную, красным насилием терзаемую, русского имени лишенную. Господи! Спаси Россию!» – воскликнул молитвенно отец Иоанн.
Тихо, еще не смело, отозвался хор.
– Господи! Спаси Россию.
– «Склони Очи Твои на Церковь Твою гонимую, на епископов и священнослужителей Твоих убиваемых и заточаемых, на храмы Твои ограбленные и в дома непотребства обращенные, на мощи Угодников Твоих поруганные, на святые иконы Твои, кощунственно лишенные риз. Господи! Спаси Россию».
Уже смелее повторил молитвенно хор:
– Господи! Спаси Россию.
– «Склони Очи Твои на народ Твой русский, православный, на дома наши обветшалые и разрушенные, на поля наши оскуделые, на тяжкий труд наш, непосильными налогами съедаемый, на торжища опустевшие, на полосы испаханные, на детей бродячих беспризорных, на городскую безработицу, на деревенскую бескормицу, на всю нашу жизнь неприкаянную, на горемычную нашу долю. Господи! Спаси Россию».
– Господи! Спаси Россию, – гудел проникновенно хор.
– «Ведаем, Господи, грех наш перед Тобою велик. Поманил нас Дьявол чужим добром, бездельным житьем, легким богатством. Охмелели мы взаимною злобою, потеряли мы любовь к ближнему, стали друг другу волками, забыли про нашу Родину. Законного Государя Нашего, Твоего Помазанника, Императора Николая Второго вместе с Царицею, Наследником-отроком и чистыми девушками-Царевнами допустили мы зверски замучить иудейскими руками. Те вины наши великие, долгими годами оплаканные, тяжкими муками искупаемые, Господи, милостиво прости».
Вся церковь припала головами к земле в долгом поклоне, и горестным покаянным воплем отозвался хор:
– Господи. Спаси Россию.
Слезы душили Ольгу. Не могла она больше петь и тихо стала пробираться через коленопреклоненную толпу к выходу, пока священник продолжал:
– «Ныне, Всемилостивый Господи, пошли нам разум и силы, дабы могли мы низвергнуть Антихристову власть, над нами царящую. Прекрати наши раздоры. Зажги в сердцах наших русское братское единение. Сильных и честных озари и наставь на путь. Слабым дай бодрость. Малодушных укрепи. Всех же нас совокупно объедини, вразуми и направь к русской победе. Господи! Спаси Россию».
– «Вдохни, Господи, во всю громаду народную гнев русский святой за несчетные могилы бескрестные, за всех наших братьев, чекою неповинно замученных, за наших жен и дочерей опозоренных, за весь быт наш дедовский русский, красной нечистью поруганный, за рабство наше бесправное, за суды красные неправедные, за всю нашу жизнь подъяремную. Господи! Спаси Россию».
Вспомнилось Ольге. Вчера привезли с «позиции», преграждавшей дорогу из Гилевичей, восемнадцать трупов… Шесть – в белых крестьянских свитках и двенадцать красноармейцев. Там был вчера ночью жестокий бой. Наши отбили попытку красных прорвать заставу. И восемнадцать трупов теперь лежали в ограде кладбища. Равно, одинаково русских и тех и других, стравленных на смертельный бой жестокою сатанинскою властью. За что погибли они?
– «Прости, Господи, благословляющую руку Твою над всею Твоей землею Российской с городами и селами, со степями и горами, с лесами и водами, со зверями и рыбами, с куполами церковными, с благовестом тихим и со всем православным людом».
– «Пошли нам, Господи, нашими же руками освободить нашу Родину, дабы вновь стала она Русью Святою, Державой христианскою, с русским и Христианским над нею Правительством. Благослови, Господи, всеобщее русское вооруженное восстание».
Священник закончил отпечатанную на белом листке молитву.
Он поднялся с колен, быстро прошел на амвон и, повернувшись к пастве и осеняя ее крестом, вдохновенно провозгласил:
– Господи! Пошли нам Царя православного!.. Укрепи… сохрани… и наставь Верховного Вождя русского, Великого Князя Николая Николаевича!..
Потом широко простер над стоявшим на коленях народом благословляющие руки и тихо, проникновенно закончил:
– Благослови, Господи, и малых сих. Вооружи их мощью и дерзанием Твоим… благослови и укрепи виноград сей, лозу крепкую, ю же насади десници Твоя.
Плавно заколыхались мощные аккорды хора:
– Господи! Спаси Россию… Господи! Спаси Россию.
Ольга не в силах сдержать слез выходила из церкви. Ей вслед, с освещенного солнцем клироса, из-за сияющей ризы св. Николая Чудотворца неслось:
– Господи! Спаси Россию[26].
20
Зимний день был прекрасен. Таял на солнце слезами снег, горел алмазами, ниспадал хрустальными ледяными сосульками с церковной крыши и кладбищенских могильных крестов, блистал радужными огнями.
Кругом был лес. Пышная горностаевая снеговая мантия легла на широкие лапы еловых ветвей. Из-под нее изумрудом сверкала свежая хвоя. На плетневой ограде наперебой чирикали воробьи, радуясь солнцу и теплу. Народ медленно расходился из церкви.
Парни в светлых праздничных свитках и красноармейцы в ветром подбитых шинелях с косыми нашивками стояли у погоста. Вился к голубому небу белый дым «крученок» и «сигарет». Оттуда слышались веселый говор и шутки.
Чей-то тенор залился красивым запевком:
Собирайтесь, братцы, в летучий отряд…Оборвал. Засмеялся беспечным молодым смехом и сказал:
– Не гоже, братцы, спевать до обеда.
Ольга вышла с группою женщин на площадь. Феопен полою своей длинной шинели обмел снег со скамеек, стоявших по скату вдоль церковной площади. Ольга и несколько женщин сели на них. Марья Петровна, заведующая лазаретом, пожилая женщина, севшая рядом с Ольгой, продолжала свой рассказ Варе «Толстой», Мане «Совушке», прозванной так за большие круглые очки в черной роговой оправе, и старой Палаше-стряпухе.
Ольга с волнением слушала рассказ Марьи Петровны. Как далеко сейчас весь тот шумный мир, что был в городе, с его трамваями, автомобилями, электрическим светом и бедными, мятущимися девичьими душами, погибающими без помощи, как погибла Светлана. Казалось, теперь кругом совсем иной, древний, библейский мир, когда Бог ходил среди людей, когда Его голос был слышен то с высокой горы, то из густого горящего и не сгорающего кустарника. От рассказа Марьи Петровны веяло дыханием полной чудес незапамятной старины и, слушая его, Ольга невольно думала о том, что, если уж начали проникать в их мрак такие лучи, должен быть близок общий рассвет и скоро должна кончиться ночь, еще тяготеющая над Россией.
– И их… мать моя, – говорила Марья Петровна, женщина за пятьдесят, полная, спокойная, еще красивая, с круглым ясным лицом и большими черными глазами. – Ясные мои бабочки. Сказано: Россия есть дом Пресвятыя Богородицы, хата пречистой Матери Бога нашего, и в дому Своем Пречистая явит Себя, когда захочет. Было то дело на хуторе на одном… Писать теперь про такие дела заказано… А только и «они» смутились. Жили, значит, на хуторе, в хате старуха слепая и с нею внучка, девчонка лет двенадцати. А в углу, на ставце, стояла икона без кивота. Древняя икона. Кто ее и когда поставил, никто не помнит. И такая-то икона темная, что даже невозможно сказать, что на ней написано. Только бабушка внучке сказывала: то икона Божьей Матери. И молились они обе по вечерам: «Спаси от бед, Пресвятая Богородица… к Тебе прибегаем, яко нерушимой стене и скорой помощнице». Осенью раз, в темную, темную ночь… Помните, когда наши за фуражем налет делали, так вот в такую-то страшную ненастную ночь проснулась девонька от сильного света. Глядит: идет тот свет из угла хаты, где икона. Испугалась девочка, забыла, что бабушка ее слепая, да и давай звать бабушку: «Бабуня! Смотри… смотри… что у нас в красном углу такое…» Проснулась, значит, старуха, повернулась в ту сторону, да и прозрела. Как есть прозрела! Видит неведомый свет… Побежала старуха, взбудила соседей, зовет к себе. Народ сбежался… Весь хутор. Кто, значит, в хату вошел, кто на дворе стоит. Видят: светлый, длинный столб лучом стал над хатой, а в хате, в углу, светом пречистым, прозрачным горит икона. Стали люди на колени, молитвы запели. До утра так стояли, а поутру глядят, стала та икона обновляться. Проступила по краям позолота… И днем обновление продолжалось и еще ночь, и еще… Три ночи так шло… И объявился лик Богородицын красоты неописуемой. Как живая, глядит Заступница сирых и убогих. Глаза прекрасные, ясные у Матушки Царицы небесной. «Они» пришли. Только видят, как народ настроен. Потому больше молчали. Плечьми пожимали. А там подле иконы кто-то глубокую тарелку глиняную поставил и в тарелке сразу стало полно бумажек, червонцев, старых серебряных Императорских рублевик, золотых орленых империалов. Откуда набралось… Сказывают: часовню на том месте народ будет ставить… Вот оно какое чудо явленное нам Господь показал.
– Это, Марья Петровна, верно, – сказала старая Пелагея. – Не оставил Господь земли русской в несчастий. Посылает ей знамения разные. Вот, как я с сыном сюда собралась, чтобы послужить матушке-России, и у нас в Харьковщине чудо объявилось. Пасла, слышь, девушка коров. В самую жару. В степи ни капли воды. Сомлела она от солнечного тяжкого зноя, упала на землю и, как сквозь сон, слышит голос: «Поди и напейся». И отвечает она ровно во сне: «Да где же я напьюсь-то? Нигде воды-то нет. До дома, до криницы, далеко, не дойти мне»… А голос еще настойчивей: «Пойди и напейся». Открыла девушка глаза, сон прогнала и видит… Стоит в степи, у небольшого камушка, сама Царица Небесная, в убрусе белом, в ризе голубой, а из-под камня, что хрусталь, ручей звенит, растекается по степи. Девушка пала в ножки Пречистой. Подняла потом голову, а уж нет никого. Помолилась тогда она, напилась воды и побежала в слободу рассказывать о чуде. Пошли с ней люди… И видят… Точно… В степи, где никогда никакой воды не было, звенит, играет ключ. Вода вкусная такая да сладкая… Вот и стал народ идти на то место и нести с собой да ставить там кресты большие. Идут, по обету, как на подвиг. Многопудовый высокий крест тащит иной многие версты. Лес целый вырос тех крестов, аж страшно смотреть. Каждый хочет жертву свою, усердие свое Владычице показать. Ну, конечно, «они» налетели… С жидами… приказали красноармейцам те кресты выкапывать. Один крест вынут, а народ на его место десять новых поставит. Отколь взялись монахи, навес соорудили. Молебны служат. По усмотрению таких делов, ушли и солдаты и начальство ихнее иудейское от святого того места. Силу взял народ. Подлинно: «Взбранной воеводе победительная»…
Ольга слушала и думала… Как могла прийти и возродиться легенда о Жанне д’Арк, девушке-пастушке из Дом-Реми, в Харьковские черные степи? И почему не дала Святая Дева харьковской пастушке власти стать спасительницей России?.. Как легенда о Лурдском ручье могла воскреснуть на юге далекой России?.. Как, если не чудом Господним, не Его святым произволением? Почему же Господь не довершит своего великого чуда, не спасет дома Матери своего Сына, святой православной Руси?
– Ох, Марья Петровна, – скрипучим голосом заговорила Маня Совушка, – подлы больно люди-то. Ах, как подлы да ко злому угодливы. Много еще христопродавцев на русской земле. С того и нет нам спасения. Вы про отца Гаврилу Проскуровского ничего не слыхали?
– Это который из донских казаков? Советской власти не покорился? Государя-батюшку живым на выносе Святых Даров поминает?
– Уж не поминает больше. Слышно, в Почаев в монастырь подался, грех тяжкий замаливать.
– Что же такое с ним случилось?
– Было так, значит, что по отдалению от власти ихней слободы отец Гаврила десять лет подряд за выносом Даров поминал: «Благочестивейшего, самодержавнейшего Великого Государя Нашего, Императора Николая Александровича и супругу его благоверную Государыню Императрицу Александру Феодоровну»… И так до самого конца все, как надо, по-старинному… И народу это, знаете, очень нравилось. Ровно луч света какого незримого во тьме сатанинской кромешной было то святое поминовение Царя-великомученика. И вот, значит, получает он указ от самого митрополита Сергия молиться за советскую власть. «Ее радости – наши радости, ее печали – наши печали». Так и прописано в указе. Крепко задумался и смутился отец Гаврила… Однако, помолившись, своего не оставил, продолжал поминать по-старому Государя. И вот, через недолгое время после указа выходит он в воскресный день со Св. Дарами и начинает: «Благочестивейшего, самодержавнейшего Великого Государя нашего»… Глянул… А у самого амвона, насупротив него, кожаные куртки стоят… За револьверы хватаются… Отец Гавриил крякнул, да нашелся и продолжает: «Сов-нар-кома и весь блаженнейший, справедливейший Цик, победоносное красное воинство и Наркомов его и всех членов Реввоенсовета Союза Советских Социалистических Республик да помянет Господь Бог во царствии своем»… Значит, по митрополичьему указу всех сатанинских властителей помянул. Повернулся потом посолонь и пошел важно в алтарь. «Что, – думает, – съели?..» Пришло время ему, как иерею, приобщаться. Говорит он молитвы, какие положено, с трепетом благоговейным поднимает воздух, берется за лжицу… Глядь, а чаша пустая. Исчезли Божьим велением Тело и Кровь Христовы, кощунственно оскверненные нечестивым поминовением.
…Как он докончил обедню, уж он и сам не помнил. Сказывают: выходит из церкви, разом белые стали его долгие волосы. Созвал он к себе стариков и людей, кому особенно верил, поклонился им в ноги и говорит: «Простите меня, люди добрые, в согрешении моем. Сатану за Святыми Дарами помянул… Больше я вам не пастырь». Тою же ночью собрался и ушел навсегда из села. Говорят, наложил он на себя обет молчания… «Язык мой согрешил, впредь да умолкнет»… Вот оно какое дело случилось! Ходит Господь между нами…
Ольга молча слушала тихие речи о великом и страшном. Она смотрела в глубины небесные. «Подлинно: ходит Господь между нами… Не в городе… Нет, Город забыл про Бога, потерял веру. Там Сатана забрал силу, владеет теперь людьми. Там додумалась несчастная Светлана до ужасной мысли просить о помощи Сатану. Здесь, только здесь, среди лесов и полей, на песчаных буграх, покрытых снегом, в маленьких халупах, Господь живет с людьми».
Сладкая вера согрела Ольгу жарче солнечного тепла. Она нашла Россию. Стала на верный путь, по которому должна идти… И теперь она не сойдет с него.
21
На другой день после ночных событий в N-ском стрелковом полку, к вечеру, полковой двор казарм у Борисовой Гривы напомнился шумом, людским говором и конским ржанием. Во двор вошел кавалерийский полк и при нем две броневые машины с пулеметами в круглых стальных башнях. У командирского крыльца пыхтел и фырчал легковой автомобиль. Из него вылез закутанный в доху комиссар Хурджиев с двумя помощниками из губернского ГПУ.
Всю ночь шел допрос стрелков-красноармейцев. На рассвете, в порядке чрезвычайной охраны и для острастки полку, двое старшин были расстреляны у кирпичной казарменной стены за неоказание должного сопротивления налетчикам-партизанам. Семьдесят красноармейцев, сыновей зажиточных крестьян – «кулаков», были забраны и под конвоем отправлены на станцию Гилевичи. Их участь еще не была решена. Их ожидали или революционный военный трибунал или ссылка в порядке охраны республики на Мурман или в Нарымский край.
Новый день в казармах настал трепетно тихий.
На грязном, взбудораженном людскими и конскими следами, покрытом навозом дворе, на ржавой соломе лежали тела убитых партизанами. Им готовили торжественные «гражданские» похороны. Тело комиссара Медяника в красном гробу отправляли в Москву для сожжения в крематории.
На дворе стрелки возились целый день с мертвыми. В полковом клубе продолжался допрос командиров.
Вечером Выжва ожидал к себе комиссара Хурджиева и командира кавалерийского полка Максимова. Должны были прийти еще Выржиковский и Корыто.
Смидин с ординарцем Выжвы расставлял на столе, накрытом клееночной скатертью, целую батарею бутылок, хитро составленную им при помощи рабоче-крестьянских «благодетелей», экстрактов «Стар», Ленинградского производства. Снабжало оно более ста райсоюзов и других кооперативных организаций лучшими завоеваниями революции, своими удивительными ассортиментами для домашней выделки настоек из простой сорокапроцентной водки. Бутылки были расставлены так, что первыми буквами своих названий составляли акростих. Акростих, придуманный Смидиным, был революционен, благонадежен и мог свалить с ног самого крепкого пролетария.
В ярком переливе цветов один за другим сплошной линией сверкали: топазовый Спотыкач, алмазная Очищенная, почти черная с внутренним малиновым огнем, точно темный гранат, Вишневка, бледная Настойка, янтарно-желтая Апельсиновая, темный, таинственный сверкающий, густой Ром, что клопом в нос отбивает, горящий золотом Коньяк, точно опять флакончик чистой, как слеза, очищенной и стройная, девушка-креолка, в палевой соломе, бутылочка густого и липкого Мараскина.
Названия своими начальными буквами составляли приятное для коммунистического уха слово «С о в н а р к о м», а девять рюмок этих волшебных напитков, выпитые подряд, могли прочистить мозги и не одним народным комиссарам.
Помятый самовар уютно шумел. Как и в ту страшную ночь, когда «это» началось, на потертых тарелочках, хранивших еще вензеля Тмутараканского полка, были разложены грузди, рыжики, жаренные в сметане белые грибы, икра, копченый рыбец, настоящий донской, балыку не уступит, горячие сосиски в томате, маленькие котлетки «по-казацки» в сметане и почки в белом вине. На отдельном блюде дышал большой пирог с капустой, с поджаристой корочкой в сухарях.
Смидин поднимал вопрос и о песенниках, но…
– На дворе покойники лежат, – сказал Выжва. – Удобно ли?
– А плевать…
– На покойников-то плевать, это я понимаю. Да комиссар и кавалерия не в духах. Поиски в лесу ни к чему не привели. Только своих шестеро убитых и пять раненых… Да двое с лошадьми без вести пропали. Мы-то, впрочем, знаем куда. Тут не до песен.
Смидин согласился. Хурджиев ему самому не понравился. Грузин, Сталинский ставленник, тифлисский кинто. Верно, в царское время вместе сапоги буржуям чистили. Вызубрили теперь наизусть Карла Маркса, правоверный коммунист. Сыплет цитатами из Ленина. В Ленинском уголке, в клубе, опустился даже на колени и пять минут стоял так, склонив голову на груди. Ханжа… А уж подозрителен, дальше некуда. Везде видит контрреволюцию и белогвардейщину.
Максимов, когда-то лихой поручик гусарского полка, наездник и спортсмен, пошедший в Красную армию потому, что не мог жить без конной службы, был еще не старый человек с совершенно седыми волосами, худой, тонкий, с пучком волос под ноздрями на бритом лице, подергиваемом нервным тиком. Он больше пришелся по душе Смидину. Они пришли вместе с Корыто и Выржиковским. Увидав водки и закуски, Максимов потер руки. Выжва и Смидин наливали рюмки. Выржиковский ходил по комнате. Корыто сел в угол, положил ладони на колени и сидел, слушая, что говорят. Он-то, старожил этих мест, знал про многое побольше всех этих людей. Но он также знал, что, когда попадешь в «грязную историю», лучше помалкивать, не соваться, пока не спросят.
– Однако… Какими вы буржуями живете… Немудрено, немудрено, что на вас налетели. Одной водки сколько, – желчно сказал Хурджиев.
– Это Совнарком-с, – кинулся к комиссару Смидин. – Не угодно ли хлопнуть подряд? Всю рабоче-крестьянскую власть угадаете. Извольте сами убедиться. Спотыкач, Очищенная, Вишневка… – начал он разъяснять.
– Погодите, товарищ, с вашими водками. Вы мне все-таки доложите, товарищ командир, – обратился он к Максимову. – Почему ваши разъезды не дошли до границы? Я же сказал… Как сетью, просеять мне все лесное пространство… А между тем, как видно, они больше топтались на месте… Ничего не сделали… Никого не нашли… Только своих потеряли…
– Я вам уже докладывал, товарищ комиссар, – вынимая из-за борта своего кавалерийского френча карту, заговорил, пыхая папиросой, Максимов. – К границе идет всего одна дорога на Перекалье-Боровое. На протяжении четырех верст она проходит возвышенною гатью, как бы дамбою, по болотам, не замерзающим зимою. Здесь четырнадцать мостов над болотными протоками. В них черная вода дымится между снегов.
– Вы мне точно какой-то Дантов ад описываете. Вас послушаешь – природа против нас.
– Мосты разрушены. Разъезд краскома Долгополова сунулся было поправлять. Невидимые пули, – выстрелов не было слышно, – помешали работе.
– Вы говорите глупости, товарищ командир.
– То есть как это, товарищ комиссар?
– Очень просто. У вас неправильный подход к делу. Вы идете с оглядкой… Вы не хотите их поймать.
– Товарищ комиссар, – вмешался Выржиковский, – позвольте доложить.
– Ну? – посмотрел на Выржиковского комиссар, выпивая спотыкач и закусывая груздем.
– Тут без артиллерии нам ничего не поделать. Извольте видеть, какой тут лесной мыс со стороны польской границы. Кругом болота. А там Перекалье и Боровое, самые их гнезда. Их надо вытравить оттуда гранатами. Сжечь деревню.
– Что вы мне говорите, товарищ? Артиллерийский огонь на самой границе! Вся заграничная пресса в барабан забьет. И так то и дело пишут: «Вчера был слышен ружейный и пулеметный огонь на польской границе». Вы хотите, чтобы еще и пушки гремели? Значит, мол, в советской республике не благополучно. Это после десяти-то лет управления. Пушки гремят!
– Можно после объяснить, что была учебная стрельба, – нашелся Выржиковский.
– А вы думаете, беженцы из Борового не расскажут там, за рубежом, какая это учебная стрельба по живым мишеням? Нет, оставьте, товарищ. Будь у нас д р у г а я кавалерия, будь д р у г и е командиры, и без стрельбы сумели бы поймать какую-то ничтожную шайку белобандитов.
– Товарищ комиссар! Вы задеваете честь N-ского кавалерийского полка рабоче-крестьянской Красной армии! Я попрошу вас объяснить ваши слова. Мои командиры и мои красноармейцы горят рвением послужить трудовому народу. Ваши намеки неуместны.
– Не горячитесь, товарищ командир. Я наблюдаю ваш полк давно. Вы заняты спортом. Ваши командиры мечтают о скачках, о пробегах, о конкурах, о призах. У них буржуазный подход к службе. Выпустили челки из-под фуражек, нарядились в красные галифе и говорят только о лошадях.
– Так и должно быть в кавалерии, – сказал Максимов.
– Нет, не так, товарищ командир! – взвизгнул Хурджиев и ударил ножом по тарелке. – Тут не скачки, а политграмота нужна. Они у вас забыли азбуку коммунизма. Они утратили пафос классовой борьбы. Это ищейки без нюха. Вы послушайте, товарищи, – обратился он ко всем, – что я сегодня наблюдал. Поднялся я на чердак, над полковым клубом. Для порядку, поглядеть, что там. Слышу молодые голоса. Приоткрыл я тихонько дверь. Вижу возле слухового окна четыре ваших краскома… Сидят на корточках, выпятили красные ж… и разглядывают книжки. Товарищ Выжва! Я вас спрашиваю. Какие там на чердаке книжки?
– Не… не знаю, товарищ комиссар, – поперхнулся водкой Выжва. – Корыто, какие там могут быть книжки?
– Это, – отозвался из угла Корыто, державший на коленях тарелку с пирогом и рюмкой, – надо полагать, книги полковой библиотеки бывшего Тмутараканского полка. Там на чердаке были свалены и библиотека и мебель из собрания. Мебель-то растащили, ну а книги, надо полагать, никому не понадобились.
– Никому не понадобились? Сжечь их надо было, гражданин! Сжечь эту пакостную литературу! А ваши, – обернулся Хурджиев к командиру кавалерийского полка, – краснозадые «Вестника русской конницы» целую пачку развязали и разглядывают. Один, вижу, показывает картинки и читает: «Ее Императорское Высочество, Великая Княжна Татьяна Николаевна, Шеф Вознесенского уланского полка». Все четыре нагнулись, покраснели, задышали часто и переговариваются: «Вот это так шеф… влюбиться можно… За такого шефа жизнь с радостью отдашь… Да… Это тебе не то что «Красный треугольник» или «Пищевой трест» заместо шефа… Каска-то какая!» А другой поправляет: «Это не каска. Каски были у кирасир и драгун, а у улан и гусар – шапки». Подумаешь, какие глубокие познания! Смотрят дальше. Дрожащими руками листают тетрадки, жадными, блестящими глазами смотрят Вестник Кавалерии. «Да, – говорят, – была тогда кавалерия»… Вы слышите, мать вашу? «Была»!.. А они дальше болтают… «Прыжки-то какие!.. Важно сигают. А одеты как! Лошади! Убор!..» Понимаете-с, товарищ командир, – кричал, задыхаясь, Хурджиев, – какая идеология у ваших краскомов! Все в прошлом. Они живут не настоящим, не будущим, а прошлым. И это на десятый год существования Советского Союза! Да это еще мало. Начали поминать потом Румянцева, Суворова, Гурко, Струкова, Николая Николаевича… Восхищались прошлым. Один напевал идиотскую какую-то песню… Старую, должно быть. Ах, сволочи! Потрудитесь мне, товарищ командир, разыскать этих поклонников былого. Я их самих в прошлое обращу! – вставая из-за стола, крикнул Хурджиев.
22
Выжва с трудом успокоил комиссара. «Вот черт дался, – думал он про него. – И водки почти не пил, а шумит, точно по всему совнаркому прошелся».
– И у вас, товарищ командир, – успокаиваясь и снова садясь за стол, говорил Хурджиев, – и у вас тоже не благополучно. Водку придумали: «совнарком». А не подумали о том, что это в конце концов оскорбительно для правящей партии? Пейте митрополитов, императоров, а с совнаркомом прошу не шутить. Разоружен целый полк… Больше роты бежало… И никто не пойман. Никаких следов. А вы тут «совнарком». Что вы выяснили?
– Я выяснил, товарищ комиссар, – сказал Выжва, – что погромом вверенного мне полка руководил бывший командир стоявшего в этих казармах Тмутараканского пехотного полка, полковник Ядринцев.
– Отлично-с. Выяснили?.. Х-ха… Выяснили? А где же этот п о л к о в н и к, как вы изволите выражаться, Ядринцев?
– Этого я не знаю-с.
– Не могу знать-с? Тоже старорежимная манера. Так и запишем.
– Я предполагаю, что он в Боровом.
– Тогда доставьте мне его оттуда живого или мертвого. Поняли?
Комиссар встал и, ни с кем не прощаясь, вышел из командирской квартиры.
Едва дверь за ним закрылась и провожавшие его Выжва, Выржиковский и Смидин вернулись в столовую, Выжва обратился к Корыту:
– Ну, Корыто, выручай.
– Как же я могу выручать?
– Твоя дочь… – начал было Выжва, но, заметив умоляющий взгляд Смидина, осекся и замолчал. – Дожили, – сказал он. – К девушке за помощью надо обращаться.
– Что моя дочь? – насторожился Корыто.
– Твоя дочь, – сказал Выржиковский, – председательница женотдела полка. Она связана с районным Женотделом, а тот имеет связи со всеми сельскими отделами. Она может легче, чем мы, проникнуть в Боровое. Она, кстати, должна знать в лицо Ядринцева.
– Навряд ли. Уже тринадцать лет прошло, что она последний раз его видала. Была она тогда всего восьми лет. Где же ей упомнить его? Правда, Всеволод Матвеевич всегда ласково обращался с нею, конфетки ей давал, книжки с картинками… А только где ж ей его теперь узнать? Тогда ему было сорок пять, теперь, значит, пятьдесят восемь. Старик стал, не распознает она его.
– Что тут разговаривать? Зови ее самое, Корыто. Мы ее допросим.
– Что еще придумали, Михаил Антоныч… В этакое, можно сказать, кровавое дело барышню, дочь мою, путать, – ворчал Корыто.
– Яков Иванович, – обратился Выжва к Смидину, – пойди, попроси сюда Пульхерию Карповну.
– Нет, уж лучше я сам пойду, – сказал Корыто. – Не легла ли она? Ведь уже скоро двенадцать.
Однако Пулечка еще не ложилась. Она сейчас же пришла, одетая в черное, узкое, модное, варшавское платье до колен. Выжва дипломатично послал ее отца за комиссаром Хурджиевым.
– Вот что, Пулечка, выручайте, – сказал Выржиковский. – Если бы вам показали полковника Ядринцева, вы бы его узнали?
– Ну, конечно, узнала бы.
– Ну а, узнав, что бы вы сделали?
– Передала бы трудовому народу, – не задумываясь, сказала Пулечка.
– Ну так вот что, Пулечка. Полковник Ядринцев, по всем расчетам, находится в Боровом. Надо, чтобы вы туда пробрались и так или иначе выманили его оттуда.
– Хорошо, – сказала она. – Это, пожалуй, возможно… Только надо, чтобы у меня бумаги были хорошие.
– Об этом не беспокойтесь, – сказал Выжва. – Рабоче-крестьянская власть умеет хорошо вознаграждать своих сотрудников.
– Я, Михаил Антонович, не о том… Это я хорошо понимаю. Это своим чередом. А только дело-то деликатное. Так надо, чтобы оправдание было тому, что я в Боровом. Будто бы и я ихняя… То есть значит, белая…
В это время вернулся Хурджиев. Он хмуро выслушал доклад Выжвы, осмотрел с головы до ног Пулечку. Казалось, она внушала ему доверие.
– Бумаги?.. Это можно… ГПУ об этом позаботится… Они вас там, гражданка, научат, что и как.
Когда «начальство», нагрянувшее в казармы, уезжало, с ним уехала и Пулечка. Через две недели, обученная всему, с нужными документами, Пулечка кружным путем, с другой стороны границы, через фольварк Александрию, на широких крестьянских пошевнях прибыла в село Боровое под видом политической эмигрантки, ненавидящей советскую власть и жаждущей отдать себя делу борьбы против красных.
23
Перед отъездом в Боровое Пульхерия Корыто, будучи уже за границей, прошла обстоятельный курс провокации в советском полпредстве и несколько раз видалась с Пинским. Ей было сказано, что, если она не найдет «бывшего» полковника Ядринцева или если ей неудобно будет выманить именно его на условное место, она должна разыскать его сына и совратить его. Тогда сын будет взят заложником и этим путем будет легче вытянуть и старика.
В Боровом Пулечка на первых шагах растерялась. Совсем не такими рисовала она себе «белых» и не такими ей изображали в полпредстве партизан Белой Свитки, братьев Русской Правды.
Однако Пулечка была девушка развитая и неглупая. Она поняла, что расспрашивать и допытываться о чем бы то ни было не очень-то здесь возможно. Все были насторожены и подозрительны еще больше, чем у большевиков. Малейшее подозрение в предательстве влекло за собой скорый и беспощадный суд. Смерть в лесу около выкопанной самим же осужденным могилы. Ничьих фамилий она никогда не слыхала. Все жили с прозвищами. Когда ее привели к Марье Петровне на допрос и испытание, ее спросили, как ее зовут.
– Пульхерия Кировна Корытина, – сказала Пулечка. – Отчество «Карповна» ей вообще не нравилось и она его переделала на «Кировну».
– Тут, милая моя, мы живем не под своими именами. Надо тебе придумать прозвище, – сказала Марья Петровна. Она оглядела ее короткое, выше колен, варшавское платье, ноги в розовых чулках, башмаки на высоких каблуках, заметила вызывающую красоту круглых колен и подумала: «Совдепка. Лучшего прозвища не придумать». Но ей тут же стало жаль молодую девушку. Такое прозвище ее, конечно, обидит. – Хорошо, моя милая, мы это потом придумаем, а пока поступишь в бельевую мастерскую и прачечную. Там посмотрим, что дальше. Да и одеться тебе поприличнее надо бы.
Это последнее Пулечка понимала и сама. Ни для деревни, ни для всей жизни здесь ее костюм не годился. Она оделась крестьянкой. Высокая, стройная, в легкой, схваченной в талию шубке, в валеных котах, в ковровом платке, она была положительно красива.
Прозвища ей потом так и не придумали. В глаза называли Пульхерия Кировна, а за глаза «Совдепкой» – слово это точно прилипло к ней.
В две недели Пулечка изучила всех обитателей Борового. Полковника Ядринцева здесь не было. Оставалось искать его сына. Как ей казалось, это должно было скоро удасться. Среди довольно многочисленной интеллигентной молодежи она быстро наметила Глеба. Он как-то, принимая от нее белье, проговорился ей, что он приехал из того заграничного города, где была и Пулечка.
– Значит, мы с вами вроде как земляки, – обжигая Глеба взглядом, сказала Пулечка. – Вот мне одной теперь и не так скучно будет.
Пулечка решила, что Глеб Сокол и есть Владимир Ядринцев, и стала искать сближения с ним.
При встрече с ним на деревенской улице Пулечка всякий раз стыдливо потупляла глаза и останавливалась, точно не зная, куда деваться, и такое смущенное, томное «ах» срывалось с ее красивых губ, что Глеб густо краснел.
Жизнь в деревне не то что жизнь в городе. Все и всё на виду. Пулечка старалась, где только можно, показать себя Глебу. Она искала его. Ему же в голову не приходило прятаться. Он невольно стал отмечать ее среди других женщин села, стал о ней думать. Земляки…
Боровое было как монастырь. Ухаживанья или того, что называется «флиртом», тут не водилось. Людьми владела слишком сильная, яркая и высокая идея – спасение России. У всех была лишь эта одна несказанно прекрасная «дама сердца» и любовь к ней поглощала все. Жизнь была трудная и напряженная. Опасность грозила отовсюду – на постах и заставах, в дальних налетах, в самом селе. Партизаны, переодетые крестьянами, красноармейцами, чекистами, ездили в глубь советской республики, заводили новые связи, разрушали, где можно, советский аппарат, казнили палачей-чекистов, проникали в самую толщу советского управления. Люди гибли постоянно. Но это не останавливало других. Перед Рождеством Феопен был в Москве, в самом Кремле.
При такой жизни было не до любовных увлечений. Женщины в этой работе соревновались с мужчинами. Они брали на себя ответственные и важные поручения связи с далекими городами внутри России. Они развозили Братские брошюры и листовки повсюду. Это они сшили тот громадный русский флаг, что реял над Минским вокзалом. Бывало, что они попадались. Тогда их мучили и насиловали в Чеках. Их, жестоко натешившись, убивали. Женщины в Боровом были религиозны и легкая любовь здесь была невозможна.
Если здесь любили, то любили крепко, на жизнь и на смерть, с мыслью о том, чтобы потом, после, когда все удастся и будет Россия, сочетаться браком и обзавестись семьею. Этот тон давали пожилые и старые женщины села своим богомольем, рассказывали о прошлом о явленных Богом людям чудесах.
Такою преданной и бесповоротной любовью полюбила Владимира Ядринцева Ольга. Такая безгрешная любовь была и между иными партизанами и девушками, жившими в селе.
Для той легкой любви, какую только и знала Пулечка, в Боровом вовсе не было места. Это Пулечка скоро поняла. Однако она не растерялась. Она слишком верила в силу своей смелой красоты и в мужскую слабость.
«Притворяются. Комедь ломают. Они все такие… Когда доберется, не устоит».
Глеб был юноша чистый. Он был мечтатель. Общение с Подбельским не прошло для него бесследно. Он часто задумывался о потустороннем, о возможности вызывать к жизни и увидать существа иного мира. Были же когда-то валькирии, нимфы, русалки, наяды, их видели древние люди. Не все же фантазия, не все сказка. Наконец, где в жизни кончается сказка и где в сказке начинается подлинная жизнь? Подбельский не раз говорил Глебу: мысль может воплотиться, чувственные мысли людей создают особых лавров, и они могут воплощаться в женщин. Такие ларвические женщины называются «суккубы». Теперь Глеб часто думал об этом.
Глеб был здоров. В нем бушевала кровь. Когда он был с людьми и на людях, он легко справлялся с собой. Но когда долгими зимними ночами он оставался в стоявшей на краю села бане, где он жил со своим звеном, и звено уходило по делам, разъезжалось по поручениям, а Глеб один томился на матрасе, положенном на пол, слушая тихую поступь ночи по лесу, страсти бороли его. Дрожа, оглядывал он маленькую старую баньку. Думал о том, что здесь прежде мылись женщины. Закрывал глаза: казалось, видел женские тела в банном пару.
Тогда мечтал… Мечтал о суккубе… Не боялся нечистой силы. Думал лишь о том, чтобы слиться с какой-нибудь женщиной, испытать счастье победы, радость облегчения, гордость обладания.
С тех пор как появилась в селе Пульхерия, эта борьба с бунтом плоти стала еще труднее для Глеба. При встречах он мысленно спрашивал ее:
«Кто ты?.. Может быть, суккуба?..»
Она улыбалась ему призывно. Обжигала его страстью своих темных, карих глаз.
«Твоя», – точно говорили ему эти глаза.
«Моя?» – робко спрашивал он ее взглядом.
«Разве не видишь?» – был безмолвный ответ. Темные вишни сверкали из-под густого кружева ресниц. Она скользила мимо него, по узкой между сугробов дорожке. Прижималась на миг бедрами к его бедру…
Нарочно… Или это только казалось?..
Глеб оборачивался ей вслед. Она шла, покачиваясь на ходу, точно напевая что-то, танцующей походкой. Белые коты чуть касались снега, шубка веяла над красной в белых горошинах юбкой. Вот остановилась перед полной воды проталиной на дорожке. Подняла юбку, чтобы прыгнуть. На миг мелькнуло над коленом розовое тело. Стыдливо оглянулась. Увидела, что Глеб смотрит. Испуганно опустила юбку. Прыгнула, взвизгнула… Побежала…
«А вдруг суккуба?..»
24
На селе Святки. Хотя много партизан ушло на заставы и разъехалось на разведки, на площади у церкви не смолкают до полуночи песни. То визгливо, высокими голосами поют девушки, то мужской хор заводит одну за другой солдатские либо партизанские песни.
Глеб один в своей бане. При свете одинокой свечи, вставленной в бутылку, он по десятку замаранных, небрежно, наспех написанных, часто с кровавыми пятнами листков составляет для атамана Беркута «сводку» партизанских действий. Их много – давних, вовремя не дошедших до «штаба», и совсем свежих, вчерашних.
Длинное, долгое путешествовавшее летнее донесение. В свое время оно было помещено в хронике Братского журнала глухо, туманно, теперь о нем братья из Минска доносят подробно. Братская «пятерка» казнила члена коллегии ГПУ в Минске Хейфеца. В донесении описывалось, как вошли к нему в дом, в его кабинет, прочитали ему приговор, застрелили его и ушли, оставив труп, а на трупе приговор Братства.
«Чисто сделано», – подумал Глеб.
Через небольшое двухстворчатое окно, толком не закрывающееся, – задвижки сломаны, – и только припертое и заложенное, чтобы не дуло, бумагой и тряпками, доносилась с села лихая песня. Поют партизаны. Глеб различает ведущий весь хор. Чистый, звучный голос Владимира:
Ах, тучки, тучки понависли И в поле пал туман… Скажи, о чем задумал. Скажи, наш Атаман.«Давно сложилась эта песня. Бог весть в какие времена, в каких краях и при каких обстоятельствах. А как теперь пришлась она кстати и к месту».
Скажи, о чем задумал, Скажи, наш Атаман.Атаман Беркут действительно выдумщик. Присланы недавно из Братского Центра, от Верховного Круга прекрасные плакаты «Памяти мучеников». На них наверху изображена вся Императорская семья, снятая перед войной, пониже – место зверского убийства ее в Екатеринбурге, дом Ипатьева и страшный подвал, а еще ниже портреты евреев-убийц Янкеля Свердлова, Юровского и Голощапова. Эти плакаты говорили сами за себя… Свои люди, тайные «братчики», смолой наклеили их на эскадронные значки советского киргизского полка, и киргизы много дней возили эти плакаты по деревням.
Дивились на них крестьяне. Смотрели смущенно, спрашивали киргиз, что это такое.
– Смотри, бачка, – щелкая объяснял смуглый киргиз, – то вчера-царь… От-то царь был – белый… А то сегодня-царь… народный.
Да… «Скажи, о чем задумал, скажи, наш атаман». Ползет Русская Правда, медленно, тихо ползет в самое сердце народное, крестьянское. Богу не поставишь сроков. Не даром сказано: «Бог правду видит, да не скоро скажет». А только придет время, и Он скажет.
На селе затихли песни. Где-то неподалеку еще тренькала гитара и слышался голос Владимира, но разобрать, что он пел, было нельзя. Что-то страстное. Под этот мотив, запавший в душу, Глеб погасил свечу. Мотив продолжал звучать в его уме, когда Глеб разделся, лег на пол, на солому, прикрытую холстом, на подушку, набитую сеном, и накрылся белою свиткой.
Не шел к нему крепкий обычный сон.
Мотив все лез назойливо в голову, жег и томил, лишенный слов. В мыслях всплывали отрывочные страстные слова разных когда-то слышанных романсов, сливаясь в одно мучительное томление.
Глеб стал думать о женщинах. О какой-то женщине, когда-то виденной в городе, на сцене, танцующей, поющей, играющей, полуобнаженной… Образ был неяркий. Стал тогда думать о Пульхерии.
Бывало, в детстве Глеб увидит в зверинце зверя. Ночью закроет глаза, задумается, сделает усилие. В мутном круге зрения мягко потянется какой-нибудь леопард, прищурит желтые глаза, раскроет их, сожмет и разожмет сильную в пятнах лапу. Совсем живой…
Глеб крепко зажмурил глаза и, как в детстве леопард, так сейчас яркая выступила девушка в пестром ковровом платке. Улыбнулась манящей улыбкой. Идет, словно танцует, по снеговой дорожке ему навстречу, колеблет бедрами. Откидываются на ходу полы дубленого полушубка, показывают упругую ногу. Сейчас она встретится с ним, сейчас он ощутит ее близко, совсем близко…
Глеб заскрежетал зубами, потянулся и раскрыл глаза. В маленькой банной халупе казалось светло. От снега проникал в нее через окошко таинственный серебристый свет. За окном снежная опушка, за нею темный лес. На селе тихо. Точно вымерло все вокруг.
Глеб ждал. Вдруг окно заслонилось. Чье-то лицо прижалось к стеклам. Глебу казалось, что лицо это синевато-бледное, с огромными, мечущими зеленый блеск глазами. Оно прижалось, отошло от окна и снова прижалось. Ладони с растопыренными пальцами нажали на створку, и окно бесшумно распахнулось. В него продвинулась голова в растрепанных черных волосах, темным венцом окружавших белое лицо. Глебу показалось, что в окно точно вплыла, подобно призраку, женщина.
«Суккуба…»
С бьющимся сердцем Глеб приподнялся на постели. Он закрыл глаза, чтобы прогнать наваждение, и, когда раскрыл их, над ним склонялась фигура женщины. Платок сбился назад и висел на шее. Растрепавшиеся короткие волосы обрамляли бледное лицо. Баранья шуба распахнулась, под ней была белая до колен рубашка. На ногах валенки. Между валенками и рубашкой были видны прекрасные молодые колени.
Совдепка… суккуба… Кто бы ни была она, живая женщина или страшная ларва, вызванная его воображением, она была желанная. Глеб охватил руками стройные ноги и прижался пылающими щеками к мраморному холоду колен. Он ни о чем не думал. Он привлек ее к себе и повалил на постель… Она поддавалась ему легко и гибко, с беззвучным, странным играющим смешком. Она приблизила к его губам свои свежие, упругие губы, и он ощутил твердую прелесть ровных, крепких зубов. Все позабыв, он овладел ею.
25
Глеб лежал рядом с Совдепкой и не спал. Она спала крепко и под утро тихо всхрапывала.
Да, конечно, это не суккуба. Суккубы вряд ли храпят. Они исчезают под утро. Ее надо будить, скоро день, и будет нехорошо, если ее застанут у Глеба.
В рассветном, тусклом, сером свете лицо Совдепки казалось совсем белым. Темные тени легли под глазами, брови были нахмурены и что-то жесткое, грубое и злобное сквозило в ее чертах. Большой приоткрытый рот казался черным. Она была совсем не так красива, как казалась вчера. Она лежала, накрывшись свиткой и одеялом Глеба. Глеб нагнулся и смущенно поцеловал упругую щеку. Женщина вздрогнула и проснулась.
– Что, пора?.. – прошептала она. – Сейчас… одну минуточку.
Она обхватила Глеба за шею голой горячей рукой, заставила лечь рядом и молча лежала с открытыми большими глазами. Он ждал упреков. Она потянулась, сладко зевнула. Зажмурилась, зевнула еще раз. Шмыгнула носом.
– Дай сигаретку, – сказала она.
Медленно раскурила, пустила дым через ноздри, улыбнулась, посмотрела на Глеба.
– Ну что, Володя?… – сказала она, насмешливо глядя в глаза Глебу. – Забыл, видно, свою Светлану?
Глеб вскочил на ноги.
– Что ты говоришь, Пульхерия?.. Я вовсе не Володя… Какая Светлана?
– Полно, милок. – Пулечка затянулась папироской. – Полно, дружочек… Я все знаю, я знаю теперь, что ты Владимир Ядринцев, и я тебе что-то принесла от твоей Светланы.
– Я – Глеб Сокол…
– Ладно, милок. Я знаю отлично, что тут секрет… и тайна… Я уважаю эту тайну… Но… когда я уезжала из города, мне поручили разыскать Ядринцева и передать ему письмо Светланы.
– Письмо Светланы? – пробормотал Глеб. – Но ее нет на свете…
Он быстро одевался. Дело принимало такой оборот, что ему сразу стало неловко быть неодетым. Пулечка, однако, явно не замечала этого. Она спустила с себя шубку и села на подушку, расставив голые ноги. Она почесала волосы, пригладила их ладонями и стала что-то искать в кармане шубы. Наконец, вынула смятый, давно ношенный конверт и подала его Глебу. На нем рукою Светланы было написано:
«Владимиру Всеволодовичу Ядринцеву. От графини С. Сохоцкой».
Глеб посмотрел на письмо.
– Это письмо не ко мне, – сказал он.
– Тут написано, кому, – лениво сказала Пулечка и почесала одну ногу о другую. Это движение было так вульгарно, что Глебом овладела невольная брезгливость.
– Одевайся, пожалуйста.
– Ладно. Где у тебя тут можно помыться?
Глеб принес ей воды и глиняную чашку.
Она медленно мыла лицо и руки и сквозь плеск воды спросила:
– Ты говоришь, письмо не тебе? А где же Ядринцев?.. Меня просили передать. Сказали, он в Боровом. Очень просили.
– Кто дал тебе это письмо?
– Одна дама. Уже на вокзале… Ты знаешь, когда я бежала от «них», – Пулечка очень искусно сделала брезгливое движение отвращения, – и перешла границу, меня отправили в город. Там я познакомилась с разными нашими эмигрантами… Только там мне не очень понравилось… Ничего они не делают… А у меня папу убили, маму замучали… Я мстить хотела… Меня и направили сюда.
– Кто?
– Этого я не смею сказать… Не знаю… От Белой Свитки.
– А письмо откуда?
– Я уезжала. Пришли меня проводить… Подошла одна дама… в трауре…
– Блондинка или брюнетка?
– Не заметила… Седая… Да, седая… Дала это письмо. Сказала: отыщите кого-нибудь из Ядринцевых. Полковника или его сына, Владимира. Они оба там должны быть. Передайте это письмо. Оно очень важное…
– Светлана Сохоцкая давно умерла… Еще осенью.
– Ничего я не знаю, – сказала Пулечка. – Если это письмо не тебе, так отдай его мне.
– Нет, я его не отдам.
Пулечка натянула на босые ноги валенки, надела шубу и стала повязываться платком. Теперь она не сомневалась, что перед нею Ядринцев. Она ничуть не стремилась вернуть себе письмо. Напротив, ей было надо, чтобы он его прочел.
– Как знаешь… Только имей в виду, мне говорили, что эта девушка, Светлана, в очень тяжелом положении.
– Отчего же ты раньше не отдала письма?
Пулечка рассмеялась.
– Кому же я отдам? Когда тут все живут не под своими именами. Так меня это письмо тяготило… Ужас до чего. Но что ж было делать-то?
– Почему же ты теперь отдала мне?
– Да ведь ты теперь мой муж… Му-уж… – протянула Пулечка. Прижалась к Глебу и поцеловала его долгим поцелуем. – Теперь у меня от тебя никаких секретов нет. Надеюсь… – она погрозила ему пальцем, – и у тебя от меня… Да, котик?
В платке и шубке она опять казалась женственной и красивой.
– До свидания, миленок… До ночи… Али, может, товарищи придут?.. Придумаем тогда… где…
Она скользнула за дверь. Ушла не как суккуба, ушла живая, оставив запах мыльной воды и холодного, противного, папиросного дыма… Глеб вспоминал ее манеру говорить: «Миленок»… «Дай сигарету»… «Товарищи»… «Совдепка»!..
26
Письмо Светланы жгло руки Глеба… Если только это письмо от Светланы? Он посмотрел на почерк… «Владимиру Всеволодовичу Ядринцеву». Кто же мог так сюда писать?.. Откуда могла знать Светлана, если она жива, что мы в Боровом? Кто-нибудь проговорился на лесопильном заводе?
Первая мысль была отдать письмо самому Владимиру. Но потом Глеб раздумал. Владимир и без того так болезненно перенес всю эту тяжелую историю. Когда он узнал о гибели Светланы, он не покончил с собой лишь потому, что этому помешали отец и тот незнакомец… из Парагвая… Теперь эта рана затянулась, благодаря, конечно, Ольге. Между ними возникло настоящее чувство. Хоть они и молчат, но ясно, что они жених и невеста. Ольга по праву завоевала свое счастье… Глеб посмотрел на конверт.
Что, однако, может быть в этом письме, так странно попавшем к нему? Адрес явно написан стило. Светлана никогда не писала вечным пером… Но это, конечно, мелочи… Надо знать, откуда и что она пишет, и тогда рассудить, как поступить. Будь здесь Всеволод Матвеевич, он пошел бы к нему. Разве поговорить с Ольгой?.. Нет, не надо… Не надо смущать ее покой. Вскрыть письмо?.. В сущности, никогда между ним и Владимиром не было тайн. Письмо, полученное после того рокового письма, уже не частное письмо и не будет греха узнать его содержание для блага самого же Владимира.
Несколько секунд Глеб колебался. «Где в этом случае мой долг? Что честно и что нечестно? Вскрыть и прочитать чужое письмо нечестно?.. А дать письмо Владимиру и этим, быть может, совершенно напрасно разрушить счастье Владимира и Ольги честно? Где теперь Светлана? Откуда она может писать? Какая она?.. Невеста Сатаны… Быть может, все это тогда была шутка, и Светлана тогда просто влюбилась и с кем-нибудь бежала, а теперь пишет об этом? А вдруг этот «кто-то» Владек Подбельский?.. Вся его роль в этой истории была все-таки довольно странной… Да, все возможно… Ну, что ж? Тогда можно будет передать письмо Владимиру, честно объяснить причину, почему письмо вскрыто, попросить прощения. Владимир поймет и не осудит. Да и Ольга заступится… Итак…»
Глеб осторожно подрезал конверт ножом.
На тонком листе дорогой английской бумаги было написано. «Владимир! Спаси… Освободи меня… Ты можешь… Я нахожусь в советском полпредстве. Приезжай скорее. Все объясню. Вышла нелепая история. Необходимо твое показание. Меня сейчас же освободят. Светлана».
Руки с листком опустились. Лицо Глеба потемнело.
«В советском полпредстве…»
Кровавая тень Трайкевича встала перед ним.
«Вот оно что! Как она туда попала?.. Конечно… Очень просто. Ведь она – Бахолдина, дочь советского спеца, умершего прошлой весною. Ее могли вызвать по каким-нибудь отцовским делам и задержать. Может быть, он даже оставил завещание. Да, понятно… Так могло быть… Странно немного, что записка написана на “ты”. Они не были как будто на ты. Но это ее рука и подпись ее… Надо вручить».
Он снова задумался, прижавшись грязным лбом к холодному косяку.
«Дать это письмо Владимиру? Это значит, что начавшаяся любовь между ним и Ольгой будет резко разорвана. А еще неизвестно, что со Светланой. Какая она там в советском полпредстве?.. Владимир, конечно, поедет. Но что он там сделает? Русский беженец, с паспортом Лиги Наций… Если Трайкевича хоть и русского по вере и крови, но все-таки польского подданного, так просто убили, заманив в полпредство, то Владимира… Нет, тут надо действовать смело. Явиться “гоноровым поляком”, пригрозить вмешательством. “Аж до президента” дойти! Что может сделать Владимир? Просить Русский комитет?.. Нет, надо ехать мне, бесспорному поляку Глебу Вонсовичу, безупречно говорящему по польски, с польским паспортом, с чисто польской фамилией. Со мной они будут как никак считаться. Раз сошло с рук, в другой раз остерегутся».
Кровавая тень Трайкевича снова мелькнула перед глазами. Глеб поднял голову.
«Наше правило партизанское – все за одного, один за всех. Пойду один за них, за Владимира, за Ольгу, и все узнаю про Светлану… где ложь и где правда?.. Меня не тронут… Польская республика все же не привислинские губернии Советского Союза. В ней у красных руки коротки. Узнаю… освобожу Светлану… Мы, партизаны, боремся за Россию… Каждый русский, которого мы освобождаем из советского плена, есть шаг к спасению России, как всякий враг России, которого мы убиваем, тоже шаг к спасению России, выполнение нашей задачи. Спасая Светлану, я исполняю свой партизанский долг. Не все ли равно, спасу ли я русского узника из Минской чрезвычайки или из чрезвычайки советского полпредства?»
Глеб гордо оглянулся кругом. Он не видел своей смятой постели, мыльной воды в лоханке, не чувствовал противного запаха холодного папиросного дыма. Ночной «грех» остался далеко позади. Решение ехать вместо Владимира спасать Светлану точно смывало этот грех.
«Если сейчас же поеду, я вечером буду в городе, завтра утром в полпредстве, а послезавтра обратно здесь… Беркуту я теперь же расскажу всю историю Светланы и покажу письмо…»
Мысль перескочила на Ольгу и Владимира. «Ни Владимиру, ни Ольге до возвращения ни слова. Пусть думают, что меня просто послали в поиск. Только как сказать, Беркуту, откуда получил письмо? – Не хотелось говорить о Пульхерии, чьи ночные ласки еще не остыли на теле. – Скажу, что нашел это письмо в груде бумаг, присланных из штаба, которую я разбирал вчера ночью»…
Глеб надел свитку и шапку. Пошел к дверям, покосился на смятую постель, на окурки на полу, на лохань с водою.
Было стыдно за то, что случилось. «Ей, конечно, тоже ни слова… Лучше ее и не видеть до возвращения».
27
Атаман Беркут молча и хмуро выслушал Глеба. Он ничего не сказал и послал за Феопеном.
– Вот, Феопен, – сказал он вошедшему дровосеку-партизану, – дело есть Соколу в городе за границей. Как полагаешь, провезешь?
Феопен исподлобья посмотрел на Глеба.
– А што ж? – Он покосился в окно. – Еще на свету привезем.
– Надо еще в фольварк заехать за бумагами. И переодеться.
– Ладно. Серых запрягать надо. Шагах в десяти от польского часового провезу, не увидит.
– А что?
– Поземка… Пуржит… К ночи заметет.
– Так запрягай.
Феопен вышел.
– Ну, вот что, Сокол… – сказал Беркут, обращаясь к Глебу. – Я вам верю и вас не расспрашиваю. Нужно, так нужно… Главное, чтобы не выдали… А вам я верю: не выдадите. Это даже, пожалуй, хорошо, что вы там в красном гнезде побываете. Постарайтесь всех тамошних на всякий случай запомнить. Кто знает, может пригодится.
– Все исполню, атаман.
– Только спешите, Сокол, обратно. Тут наворачиваются у нас большие дела.
К халупе, весь в белом, Феопен подал розвальни, запряженные сильным белым конем.
В снежных вихрях, весь занесенный пургою, переодевшийся на фольварке Александрия в свое городское платье, в пятом часу подъехал Глеб к станции Стобыхва.
Странное ощущение охватило его, когда он вошел в освещенный электричеством вагон скорого поезда. Эти два месяца жизни в Боровом вдруг показались сном. Халупа-баня, постель на соломе на полу, бессонные на заставах ночи, учения под команду Феопена, тишина лесов и муравейник Борового, где кипела какая-то особая, полная тайны русская жизнь, вчерашняя ночь с «суккубой» – все это точно отошло куда-то в далекое прошлое… Такое далекое, что казалось где-то читанным вымыслом, игрою воображения. Нет, это было… Только каким давним и странным кажется все это! Сейчас он опять гражданин Польской республики. Спокойно и уверенно подает он свои документы. Ну да, инженер Вонсович, едет со своего лесопильного завода. Кому какое дело? Он под охраной сильного закона великого европейского государства. Кто его смеет тронуть? Все дело теперь стало казаться ему таким простым и нестрашным. Белый одноглавый орел простер над ним свои крылья и прикрыл его ими от серпа, рвущего головы, и от молота, дробящего черепа. Что могут они против Польского белого орла?
Когда Глеб шел с вокзала по городу, как приятны были городские удобства. Не вязли и не тонули в снегу ноги. Панели были посыпаны песком. Резво, мелодично позванивая, проходили горящие огнями, веселые, чистые трамваи. Улицы были освещены. В кафе и рестораны входили люди.
Глеб сел в трамвай. Почему не сесть? Он инженер Вонсович, а не партизан Сокол. На нем Варшавского покроя пальто, сюртук и мягкая шляпа. Мягкий шарф облегает шею и висит за плечом. В гостинице его ждали новые радости, новые очарования города. Так было приятно повернуть черный включатель и смотреть, как вспыхивали лампочки на трехрогой люстре под потолком. Одна… другая… все три… Погасли… опять одна… Он играл ими, как ребенок. От калорифера у окна тянуло теплом. Вода текла из крана… Еще утром для Пулечки он бегал за водой к колодцу… «Суккуба!» Глеб усмехнулся.
Он взял ванну… Теплая вода нежила усталое тело. Подошел к постели с пружинным матрацем…
– Культура…
Потрогал холодное, свежее белье. Мягкие подушки. Целых две…
– Европа…
Нет… Конечно, бояться было глупо. Крепло решение: завтра, часов около одиннадцати, пойти в полпредство и спокойно, на польском языке потребовать объяснения относительно графини Сохоцкой… Потом, все разузнав, он пойдет к Тамаре Дмитриевне и с нею, если нужно, к Владеку. Только навряд ли это понадобится. Недоразумение, верно, сейчас же разъяснится. Он поручится за Светлану… Они вместе выйдут и поедут к Тамаре Дмитриевне. Все это казалось пустяками. Самым трудным был вопрос будущих отношений между Владимиром и Светланой. Между ними встала его сестра, Ольга. Глеб понимал, как Ольга полюбила Владимира. Он понимал, что и Владимир все крепче привязывался к Ольге. Ольга для него будет прочная пристань семейного счастья…
А Светлана?.. Все, что случилось с нею… Черная месса… Это нахождение в советском полпредстве… Но почему все-таки она оказалась там?.. По завещанию, по требованию отца-большевика, или поступила туда на службу? Странно…
Ну, до завтра. Утро вечера мудренее.
Пружинная постель манила чистою мягкостью белья. Глеб закутался в шерстяное палевого цвета одеяло. Погасил лампочку… Зажег снова. Как хорошо… Это не отсырелые спички и оплывший огарок в бутылке… Снова погасил… До завтра. Завтра – что Бог даст.
28
Большой дом полпредства с флигелями походил на гостиницу. Только не было вывесок, не висели на окнах занавески в сборках и двери были не стеклянные, но тяжелые, плотные, крепкие.
День был радостный и солнечный. Небо, покрытое розовыми барашками маленьких облачков, улыбалось земле. Вчерашняя пурга прикрыла старую грязь, побелила мостовые и панели. В ярком, блистающем свете дом щурил презрительно и недоверчиво сон своих неопрятных окон.
У тяжелых ворот на деревянной скамье в русском овчинном тулупе сидел дворник. Заспанная, бритая, толстая рожа под свалянной собачьей шапкой покосилась на подходившего Глеба. К ее щекам подушками и толстым, коричнево-серым губам так шли короткий куст усов под носом и бритый подбородок. Стриженые усы казались грязной понюшкой табаку, застрявшей под ноздрями. Дворник смотрел на Глеба недружелюбно. Как на врага. Для него, должно быть, все посторонние посетители были врагами. Глеб спросил его, как пройти в канцелярию полпредства.
Дворник чесался под тулупом и, не отвечая, смотрел на Глеба. Глеб повторил вопрос.
– Вам на что? – спросил дворник.
– Дело есть.
– Которые без дела к нам не жалуют, – вразумительно сказал дворник. – За воротами первый подъезд.
Высокая дверь подъезда подалась перед Глебом легко и раскрылась бесшумно, но, едва он вошел, она закрылась и щелкнула. Глеб невольно отступил и нажал на нее: она не отворялась. Ему стало жутко. Он находился в полутемном проходе. Вправо и влево были тяжелые, крепкие двери. Из одной появились два рослых молодца в черных кожаных куртках, в рабочих картузах на затылке. Они с усмешкой смотрели на Глеба. Глеб резко спросил по-польски:
– Как пройти в канцелярию? У меня дело… Я получил письмо.
– Вы говорите по-русски? – спросил один из молодцов.
Глеб повторил свой вопрос по-русски, но с сильным польским акцентом.
– Пожалуйте… Проще пана.
Глеба провели по коридору и ввели в небольшую комнату. Он успокоился. Тут не было ничего ни подозрительного, ни страшного.
Обыкновенная «канцелярская» приемная. Как везде. Узкая в три окна комната была разделена деревянной решеткой по длине на две неравные части. В углу, за проволочной решеткой – касса.
В узкой и более темной части помещения на деревянных широких скамьях-диванах сидели, должно быть, просители. Русские… Человек в рабочей одежде, женщина в платке с ребенком, старик в поношенном драповом пальто. На трех просителей по ту сторону решетки работал целый штат служащих. Шесть столов с пишущими машинками, картонками для бумаг, ворохами бланков, анкет, клеем и чернильницами стояли боком к тусклым окнам, выходившим во двор. Барышни в коротких юбках, с толстыми икрами ног, поджатых под стулья, щелкали на машинках, щеголяя быстротою работы.
Мелодично позванивали серебристые колокольчики тут и там, сливались в какую-то трескуче-волнующую мелодию, отсчитывали строчки. Точно надо было кому-то наглядно показать, как напряжена жизнь в великой социалистической республике, чьим маленьким клочком было полпредство. Папки, зеленые, розовые, синие, путешествовали со стола на стол, передавались таинственно, молча, с какими-то непонятными жестами или односложными словами.
Ближе к решетке сидели два человека. Один – совсем молодой еврей, другой, постарше – неопрятный мужчина в черной суконной рубахе «толстовке», лысый, одутловатый, желтый, с толстыми губами, плохо бритый и точно не мытый и не выспавшийся. К нему по-польски смело и властно обратился Глеб.
– Не розуме, проше пана, – закачал головою жирный человек, подражая польскому языку. – Говорите, что вам надо.
– Вы в польском городе и должны говорить и понимать по-польски, – повысив голос, сказал Глеб.
Толстая морда прищурилась, покосилась на Глеба. По жирным вискам появились складки, складки прорезали щеки. Это, вероятно, обозначало улыбку презрения.
– Откровенно сказать, гражданин, этим собачьим языком не владею.
Глеб сжал руки в кулаки. Но тут же вспомнил Трайкевича и быстро отошел от стола. Ему хотелось уйти. Однако он овладел собою, подошел к молодому еврею и сказал ему по-французски, что ему надо.
– Ah… bien, bien… – заговорил еврей, отвратительно выговаривая по-французски. – L’affaire de la citouenne Sokhotzku[27]. Товарищ Полотнов, – обернулся он к жирному и зашептал ему что-то очень быстро.
Тот сощурился и посмотрел на Глеба.
– Вы по письму бывшей графини Сохоцкой? – сказал он, как мог вежливее.
– Да… По ее письму.
– Отлично… Будьте любезны обождать, гражданин. Вас сейчас проводят.
Он надавил два раза кнопку звонка. В дверях появились кожаные куртки.
– Проводите, товарищи, гражданина в камеру номер четырнадцать.
– Понимаем, – мрачно сказал один из молодцов и знаком предложил следовать за собой.
Один пошел спереди, показывая дорогу, другой сзади.
Они прошли длинным коридором вдоль всего главного флигеля, свернули налево, спустились на шесть ступеней ниже и пошли подвальным этажом.
В уровень плеча Глеба были узкие окна наравне с землей. Они были на половину завалены снегом. Шедший впереди остановился у темной двери и открыл ее. Могильной сыростью земли пахнуло в лицо Глебу.
– Пожалуйте, гражданин.
Глеб замялся, остановившись в удивлении. В тот же миг он ощутил сильный удар по затылку. Блестящие искры, зеленые и красные, заметались в глазах, ноги заскользили по крутым ступеням, что-то ударило в бок, еще раз в голову. Глеб потерял сознание.
29
Глеб очнулся от холода. Кругом был полный мрак. Он протянул руку – мокрая, каменная стена. Ощупал – кирпичи. Тронул пол – скользкая, ледяная земля. Встал, выпрямился, вытянул руку – не достал потолка. Осторожно, ощупывая стены, обошел помещение. Квадратная яма, в одном месте узкие, круглые, каменные ступени. Пополз по ним: – тяжелая дверь. Стучать, кричать бесполезно.
В камере не было тихо. Нарочно или случайно, как это часто бывает в новых железобетонных домах, тут была такая акустика, что, казалось, все, что делалось в громадном, многоэтажном доме, неясными, глухими шорохами, шумами и тресками доносилось через высокий потолок в эту яму, и это было хуже могильной тишины. Эта жизнь, невидимая, непонятная, но напряженная, это ощущение присутствия тут, точно где-то совсем близко, множества людей, гул их движения, шагов, казалось даже, разговоров, усугубляли и подчеркивали страшное одиночество могилы и сознание полного бессилия. Кругом люди, но никто не поможет. Им все равно.
Наверху по коридорам ходили. Глеб различал твердые шаги мужчин и частое постукивание женских каблучков. Он слышал стрекотание и звонки колокольчиков пишущих машинок, точно их были многие тысячи во всех этажах. Он измерял в своей темной могиле время по тому, что делалось кругом. Толпою прошли по коридору люди, в разнобой стучали сотни ног, раздавались голоса, смех – должно быть, кончилось «присутствие» в полпредстве и все пошли завтракать или обедать… Глеб не мог сообразить, был полдень или вечер. Должно быть, пошли обедать – слишком сильно ощущал Глеб голод.
Потом откуда-то издали стали доноситься звуки оркестра. Играл джаз-банд, и звуки его, смягченные отдалением, казались мелодичными. Может быть, там танцевали чарлстон или блэк-боттом, может быть, показывали советскую фильму. Потом наступила ночь. Шаги раздавались редко, и были они мерные, размеренные, неторопливые – шаги часовых ночного дозора.
Глеб забылся от голода и усталости. Когда он очнулся, дом оживал. Нарастали звуки шагов, становились чаще, многочисленнее, торопливее. Последние люди бежали по коридорам, боялись, должно быть, опоздать… Опять стрекотали машинки и точно совсем рядом звенели колокольчики, отсчитывая строчки.
Глеба, умирающего от голода и стужи, заживо погребенного, дом, казалось, втягивал в свою жизнь, дразнил и мучил. Он как будто говорил: «Смотри, здесь работают, что-то пишут, кому-то шлют послания, а ты лежишь в холодной камерной могиле и никому нет дела до твоих страданий. Никто тебя не найдет, никто не узнает, что в свободном государстве Польше погибает ужасною голодною смертью заживо погребенный. Вот тебе и городская культура! В лесу ты не погиб бы. В лесу Господь пропитал бы тебя ягодами, грибами, мохом. Господь по звездам своим вывел бы тебя из леса. Город каменными стенами отгородился от Бога. Нет больше в городе Господа Сил, не зайдет в город Пресвятая Богородица, не долетит к Ним молитва из каменного смрадного мешка».
Второй и третий день прошли, не принеся ничего. Голод и стужа делали свое дело. Жизнь отлетала от молодого тела.
Наверху между тем продолжали суетиться люди. Вспоминая все, что он слышал о полпредствах, Глеб стал смутно доходить умом, что дом полпредства есть особенный дом. Люди, что там работают, тоже несвободны. И для тех, что трещали на машинках, и для тех, что сидели за столами, бегали по коридорам, смотрели вечером спектакли и кинематограф, танцевали развратно-медлительные танцы, этот дом был тоже тюрьмою. Их не пускали из него в город на волю. Боялись, что они проболтаются, что они скажут другим, свободным людям о том, что делается в этих стенах. Непосвященным расскажут про то, что так тщательно выстукивают они на машинках, какие доклады и о чем торопливо носят они из комнаты в комнату. Их кормят здесь, их развлекают представлениями, но им никогда не дают свободы…
Не такова ли и вся Россия? Глухо замкнутый дом сумасшедших, где днем все что-то суетливо делают, по вечерам развлекаются, ночью развратничают, но не смеют никуда выехать, не смеют никому рассказать о том, что вся их великая страна стала тюремным застенком.
Что же лучше? Такая жизнь или такое, как его, голодное умирание в сырой могиле?..
Дверь приоткрылась. Золотой луч карманного электрического фонаря скользнул по мокрым, бурым кирпичам и ослепил Глеба. Он зажмурился, зашевелил руками. Так засыпающий на суше рак в дремотном сне шевелит тихо клешнями.
Грубый голос раздался сверху.
– Шамать хошь?
Человек положил фонарик на верхнюю ступеньку лестницы и стал спускаться. Попав в луч света, он казался огромным и страшным, в высоких сапогах бутылками и распахнутом тяжелом тулупе. В руках у него были краюха хлеба и глиняный кувшин с водой. Человек поставил кувшин и положил хлеб перед Глебом, как тыкают в нос умирающей собаке куском мяса, и сказал грубо:
– На, поешь вот мандры. А завтра суп тебе будет. Горячее… На допрос тебя поведут. Подкрепись, товарищ.
30
Глеба накормили. Дали ему помыться, почиститься и вывели из ямы. Судя по тому, что в доме была полная тишина и по коридорам горели редкие лампы, была уже глухая ночь. Его провели в небольшой кабинет. Над письменным столом была низко спущена электрическая груша под зеленым плоским стеклом с шелковой занавеской по краю. Эта лампа ярко освещала стол с бумагами. Другая лампа, у стены, так же ярко освещала лицо Глеба. Человек, сидевший за столом, остался в полусвете. Было видно, что это седой, немолодой человек, с очень худым лицом и горящими, воспаленными, большими глазами.
– Оставьте нас одних, – сказал он молодцам в кожаных куртках, приведшим Глеба. Его голос был глухой, надтреснутый и усталый, как ни странно, скорее приятный голос. – Курите? – спросил он Глеба.
– Нет.
– Принесите гражданину чаю… Крепкого! – крикнул он уходящим. Пока не был принесен чай, он молчал, внимательно разглядывая Глеба. – Наша беседа будет долгая, – сказал он. – Подкрепляйтесь чаем… Глеб Николаевич Вонсович?
– Да.
– Гражданин Польской Республики?
– Да… И я удивляюсь… – начал было Глеб, но допрашивавший знаком большой белой руки остановил его.
– Погодите удивляться… Вы думали, гражданин, что наша власть простирается только на русских? Вы ошибаетесь. Мы – Третий Интернационал. Наша власть всемирная. И мы достаем наших врагов, где бы они ни были…
– Вы вызвали меня для допроса. По какому поводу и по какому праву?
– О праве поговорим потом. Повод тот, что вы, очевидно, знали Светлану Сохоцкую.
– Что же из этого?
– Светлана Сохоцкая месяца два тому назад, после участия в черной мессе, покончила жизнь самоубийством. Во всяком случае она пропала и тело ее не разыскано.
– Но мне передали от нее записку… Ее рукою…
– Эта записка написана здесь… Ее передала вам в Боровом Пульхерия Кировна Корытина, наш агент-провокатор. Я говорю вам это для того, чтобы вы поняли, что и ваше Боровое вовсе не такая твердыня белогвардейщины. Мы знаем все… Мы можем все… Я вас спрашиваю: знаете ли вы, где находится бывший полковник Ядринцев, Всеволод Матвеевич, руководивший разгромом казарм N-ского стрелкового полка?
– Я не знаю Ядринцева… Вообще я ничего не знаю.
– Это как вам угодно-с. Мы знаем, что вы его знаете… Но… это ваше дело… Итак, вы утверждаете, что вы не знаете Ядринцева?
– Я вам все равно ничего не скажу.
– Посмотрим. А кто такой Белая Свитка?
Глеб молчал.
– Слушайте, – тихо и ласково заговорил допрашивающий. – Я вам гожусь в отцы… Вы мне очень симпатичны. Такие волевые, сильные люди нам особенно по душе… Ваша судьба зависит от вас самих. Так вы ничего не знаете о Белой Свитке? Хорошо… Расскажите тогда, что вы знаете о Братстве Русской Правды.
Глеб не ответил ничего. С минуту длилось молчание.
– Кушайте ваш чай. Вы совершенно напрасно не желаете мне отвечать. Нам и без того все известно. Имейте в виду, что правительства всех государств с нами и за нас. По нашему слову они выдадут кого нам угодно, и мы с ним сделаем все, что нам угодно.
– Это ложь! Вы делаете все потому, что никто не знает, что вы делаете.
– А Трайкевич?
Следователь поглаживал линейкой по белому листу бумаги, смущенный Глеб медленно отхлебывал чай. Он хотел отказаться от него, но не было сил. Начав, он со вкусом допил до конца.
– Вам дадут еще, – сказал следователь, и, когда на его звонок появился чекист, он сказал: – Подайте гражданину еще чаю.
Опять пока приносили чай следователь молча разглядывал Глеба. Лицо у следователя было худое, бритое и подергивалось частым нервным тиком. Большой нос резко делил его. Лицо было умное и принадлежало, во всяком случае, интеллигентному человеку. Это показывали и тонкие холеные руки с длинными пальцами.
– Глеб Николаевич, – тихо и как бы доверительно сказал следователь, – я предлагаю вам сделаться сексотом.
Заметив недоумение на лице Глеба, следователь добавил:
– Вам, видимо, неясно? Я вам это объясню. Немножко издалека будет мое объяснение. Но надо же, чтобы вы поняли все, что происходит, и оставили ваше совершенно напрасное упорство.
31
Следователь вынул объемистый кожаный портсигар и протянул его Глебу. Глеб отказался. Следователь медленно, со вкусом раскурил папиросу, пустил дым кверху, посмотрел, как он стал ложиться сизыми четкими полосами над головою Глеба, задумался, потом начал говорить ровным голосом, точно читая какую-то давно затверженную лекцию.
– Вся беда русской эмиграции в том, что эмиграция упорно не желает ни понять, ни оценить по достоинству советской власти.
– Она давно поняла и оценила ее так, как того большевики заслуживают, – прервал Глеб.
Кустистые седые брови следователя поднялись кверху, но он, ничего не возражая, продолжал:
– Эмиграция мечтает о какой-то интервенции. Кто-то ей поможет. Европа возьмется за русский коммунизм и сотрет его в порошок.
– Как стер его Китай, – вставил Глеб.
Следователь невозмутимо продолжал:
– Русского коммунизма нет. Коммунизм всемирен, он интернационален. Тот Коминтерн, который находится в Москве, распространяет и распространит свою власть на весь мир. Народы Европы трепещут перед нашим Союзом Социалистических Республик, и они исполнят все, что мы ни потребуем. Мы отлично знаем, что они боятся не нашей Красной армии, не наших военачальников, даже не нашей агитации и смелой пропаганды борьбы и насилия над капиталом. Впрочем, отчасти они боятся и всего этого. Боятся и красной армии, потому что, как ни плоха она, – вы видите, мы не заблуждаемся, не строим иллюзий и признаем свои недостатки, – но она единственная в Европе армия, могущая воевать. Они боятся и наших красных маршалов, боятся и пропаганды… Как не боятся ее? Она всюду. В любом дансинге она идет за танцами. Она кривляется в любом фильме. На нас и ради нас работают, сами часто того не замечая, лучшие артисты экрана, его «звезды». Ломается ли американский жид Чарли Чаплин, вращает ли глазами прекрасная украинка Пола Негри, играет ли благородного великого князя Мозжухин – за их спиною, даже незаметно для них, сквозит наша пропаганда. Мы показываем толпе то, чего она не знает и знать не должна. Мы в толпу на экране пустили королей и императоров, мы в «Бен-Гуре» и в «Царе Царей» пустили в толпу самого Бога. Мы все это демократизировали, опошлили и показали, что ничего нет в мире высокого и святого. Как тут не бояться?.. Но не это все главное и основное. Это все-таки прямо и непосредственно по черепу их не бьет. Они боятся нас по другой причине. В нашем союзе социалистических республик мы довели гений человеческий и изобретательность его до высочайших степеней… Но только гений разрушения. Наши академики и профессора, те самые, что при ином режиме сидели бы всю жизнь над пробирками в своих лабораториях, изобретая какие-нибудь новые прививки для облегчения страждущего человечества, теперь изобретают и изобрели для нас самые смертельные, убийственные газы, и мы их – эти орудия истребления людей – демократизировали. Как же нас не бояться? Возьмите в руки этот инструмент. – Следователь достал из угла комнаты какой-то довольно сложный прибор, оканчивающийся как бы стальным сверлом, дюйма полтора в поперечнике, и подал его Глебу. – Не бойтесь. Он вас не убьет. Вы инженер, вы сразу поймете, что это за штука. Он называется «совбур». Остряки у нас придумали это словечко для «советского буржуя», но это просто «советский бур». Бур для бурения канала. На нем клеймо и штемпель Гомзы, государственных объединенных машиностроительных заводов. Вы видите на нем совсем такой конец, как у бура, употребляемого для бурения артезианских колодцев, только острее и мощнее: если нужно, и сталь и железо просверлит. Его особенность – подвижная головка, могущая изменять направление канала – вверх, вниз, направо, налево, куда угодно. Как видите, здесь есть два приспособления вроде счетчика или манометра. Одно показывает в метрах, как далеко прошел бур, другое указывает по компасу его направление. Вы можете его поставить в землю и пустить в ход. Когда он углубится, скажем, метров на десять, вот этим рычажком я дам ему направление вдоль земной поверхности и он пойдет сверлить каналец, куда я ему укажу по компасу и карте. От тянет за собою вот такую трубку вулканизированного каучука. Вы спросите меня, к чему мне этот инструмент? По вашему лицу я вижу, что вы заинтересованы. Вы – инженер. Ну, вот представьте: Лондон, советский дом, Париж – rue de Grenelle – советское полпредство, Берлин – Unter den Linden – советское полпредство, где хотите… Жизненные центры страны рукою подать: Парламент, War-Office, казначейство, банки… Quai d’Orsay, палата депутатов, военное министерство – рядом Wilhelmstrasse с его учреждениями, здание Рейхстага под боком. Для «совбура» работа нескольких часов, чтобы подойти и просверлить маленькую дырочку в полу любого учреждения иностранного государства, признавшего советскую республику и пустившего наше полпредство в свою столицу. Вы меня поняли? Туда потянется вот такая каучуковая трубочка. А здесь баллон удушливого газа, какого хотите – удушающего, заживо сжигающего, сводящего с ума, веселящего, дурманящего… И в час объявления войны с Советами мы все жизненные центры страны накачаем, чем хотим. Убьем, задушим, сожжем, заставим хохотать, сведем с ума… Вы меня теперь поняли?.. Нет сильнее и могущественнее страны, чем наш Советский Союз, потому что мы развязали и направили на зло гений человеческий, и против нас не устоит никто. Что нам их аэропланы, авиация, танки, пушки, пулеметы? Ерунда в молоке!
Следователь взглянул Глебу прямо в глаза.
– Идите к нам в сексоты, то есть попросту в секретные сотрудники. Не прогадаете… И вы приобщитесь к такому же гению. Вы станете подобным богу. Вы удивляетесь, почему я предлагаю это вам?.. Почему не Иванову, Петрову, Семенову, не всем эмигрантам? Нам нужны не всякие, но лишь сильные люди. Те, кто гнет спину, кто сам идет к нам в образе «возвращенцев», те нам никак не нужны. Эта слабая моль нами допускается лишь затем, чтобы или истребить ее нафталином ссылки и всяческого утеснения, или прямо раздавить, поставить к стенке. Нам нужны настоящие люди, смелые, гордые, волевые… В вас мы видим одного из таких.
Следователь замолчал. Его тонкое, породистое, прорытое глубокими складками морщин лицо было спокойно. Что-то Мефистофельское было в его длинном, крючковатом носе, в широком рте с узкими губами и в остром сером подбородке.
В комнате было тихо. Весь советский дом спал. Вероятно, было часа три ночи.
32
– Вы боитесь срама, позора, презрения, если бы вас открыли, – тихо начал следователь. – Напрасно… Во-первых, не откроют. Во-вторых, если б и открыли, все это останется позади… В эмиграции… Да и там… поговорят, попишут и позабудут… Мы можем, наконец, написать, что мы вас расстреляли… Вас еще там и канонизируют. Не забывайте вообще, что, если бы вы чудом очутились на свободе и шли бы против нас, мы все равно в любой миг можем любым способом очернить ваше имя в глазах эмиграции. Перед вами отличный пример. Разве не ведем мы «белыми» же руками, и притом самыми первосортными, в ваших эмигрантских газетах травлю против того же Братства Русской Правды, заставляя все эти белые руки бессознательно служить красным целям? – Следователь взял из вороха газет одну и подал ее Глебу. – Читайте. Это описание десятилетия существования ГПУ. Прочтите, как в «Бедноте», – это наш левый орган, – некто Фраерман, конечно, еврей, описывает здание и работу чекистов.
Глеб читал: «Внутри, в коридорах здания, в невысоких, тесноватых комнатах, где работают люди, стоит негромкий деловой шумок. Желтые конторские бюро, обыкновенные канцелярские столы, кипы серых папок, лампы с зелеными абажурами. Темно поблескивают, коротко позванивают телефоны. Кажется, все как в простом советском учреждении. Но приходят и уходят, и работают за столами люди в красноармейских гимнастерках и френчах с малиновыми полосами на воротниках. На вешалках висят их шинели и синие шлемы с красными звездами. И тогда понимаешь, что это – боевой штаб боевого органа пролетарской диктатуры, который партия назвала своею вооруженною частью, ГПУ…»
Глеб дочитал до конца заметку и передал газету следователю. На его лице был вопрос.
– Вам не приходит в голову никакого сопоставления? Впрочем, вы вряд ли помните… Да, пожалуй, и не можете ни помнить, ни знать… Вы слишком молоды… В Петербурге, на Кирочной, против Таврического сада было громадное белое здание Жандармского управления. Там тоже сидели люди в военных синих мундирах с серебряными пуговицами и с алым аксельбантом. Там на вешалках тоже висели синие фуражки и шинели, но разве пришло бы в голову какой-нибудь газете, скажем «Речи», «Новостям» или «Биржевым ведомостям», так их расписывать? В те времена это почли бы просто не приличным. Вы, наверно, читали недавно письмо писателя Горького по поводу смерти главы нашего ГПУ Феликса Дзержинского. Можете ли вы представить себе, чтобы на смерть генерала Мезенцева или усмирителя Москвы полковника Мина, убитых, а не просто умерших, написали бы такие растроганно-сочувственные письма Лев Толстой или Короленко? А ведь тогдашнее Жандармское управление было агнец по сравнению с ГПУ. И что такое были по количеству ими казненных Мезенцев или Мин по сравнению с Феликсом Дзержинским? Вы понимаете, как силен наш строй, если мы так воспитали и прессу и свободных, вполне свободных писателей? Соглашайтесь же. Вы пойдете служить к нам в сексоты. Какая это завлекательная, какая глубоко волнующая служба!.. Вас прославят. Я не соблазняю вас материальными благами. Я знаю – они вас не интересуют… Но служить такому могущественному делу есть великая честь. Вы будете одним из рычагов машины, делающей действительно планетарное дело…
– Дело разрушения, – сказал Глеб.
– Пускай так, разрушения. Но разве сама жизнь не есть разрушение? Разве все, что мы видим кругом, не разрушается на наших глазах? Мы только ускоряем жизненный процесс.
– Оставьте меня! – задыхаясь, сказал Глеб. – Я необдуманно попался в ловушку. Ну и расстреливайте меня, а не рассказывайте мне ваших лживых и скучных сказок. Они только наводят на меня тоску. Я видел правду, Божию, русскую правду, и вам никогда не запугать и не соблазнить меня вашей ложью… Я не боюсь ни смерти, ни пыток. Я умру за Родину… Это только счастье…
– Браво! Прекрасно сказано. Я вижу, что не ошибся, когда, вместо того чтобы допрашивать вас, прямо предложил вам поступить в сексоты. Нам именно и нужны такие бесстрашные люди… Ибо служба сексотов полна опасностей.
– Нам не о чем больше разговаривать! Пытайте меня!.. Жгите меня живым!.. Все равно не скажу ничего. Я не пойду служить Сатане.
Опять на лбу следователя глубже стали складки и лицо его изобразило скорбную Мефистофельскую усмешку.
– Мы знаем, кого и какими пытками заставить нам служить. К нам, так же как вы, однажды попался англичанин Райли… Тоже сначала упорствовал, кричал, что он английский гражданин и потому неприкосновенен. Но разве для Третьего Интернационала существуют государства? Что такое для нас Англия, Франция, Польша? Мы выше их. После некоторых пыток мы предложили ему стать сексотом. Вы понимаете – англичанин, спортсмен, гуманист, проникший на советскую территорию, чтобы служить страждущему русскому народу, становится секретным сотрудником Чрезвычайки и предает тех, кто ему, как иностранцу, как всемогущему англичанину, открывает свою душу. Разве это не гениально? Он, конечно, отказался. И вот тогда, каждую ночь, его стали водить на расстрел. Чекисты в кожаных куртках и среди них он в мундире английского офицера. У стенки, в грязи, в вони, стоят жертвы в одном белье. Наши русские дураки ведь и сейчас продолжают верить во всемогущество Европы. Перед Райли они падали на колени, целовали ему руки… Эти-то morituri…[28] А потом команда: смирно! И на глазах у Райли – хлоп-хлоп. И валятся жалкие трупы вместо живых, верящих в него людей… И так много ночей. Мне рассказывали, что Райли стал неузнаваем… Наконец, он подписал согласие… Стал сексотом… Но… не смог ли он работать, как следует, или не выдержал роли, только по приказу ГПУ чекист Ибрагим застрелил его во время прогулки на Воробьевых горах… Видите, как мы можем заставить служить себе? Не доводите же нас до крутых мер…
– Меня не заставите, – гордо сказал Глеб.
По мере рассказов следователя в нем точно нарастала, поднимаясь из самого сердца, какая-то упорная, могучая сила сопротивления.
– Вы очень молоды. Повторяю вам, вы мне очень нравитесь. Люди такого характера – золотые люди для нас. Имейте в виду, что в выборе мер психологического принуждения мы тоже многое изучали и все научно обставили. Лучшие психологи русской науки работают для нас. Я знаю, что если пытать вас обыкновенными пытками, это не поможет. Это только вас еще больше ожесточит.
– Не запугаете! – сказал Глеб. Стальным блеском горели его глаза. В голосе звенел металл. В это мгновение он понял, что настал час его мученичества и венец святых страстотерпцев спускается на его голову. Он мысленно укрепил себя молитвой.
Следователь усмехнулся. В исказившихся морщинами смеха чертах лица ярче стало сходство с Мефистофелем, какого привык видеть на картинах Глеб.
– Вы мне положительно нравитесь, мой молодой друг. Вы мне напоминаете еще одного, такого же гордого и непреклонного, как вы. Он тоже так упрямился и кончил плохо, очень плохо. Он не рассчитал своих сил и нашего могущества. Он и лицом походил на вас. Впрочем, нет… Не совсем… У него лицо было круглее вашего. И он был старше вас. Ему было за тридцать, а вы едва за двадцать перешагнули. Я говорю о капитане Эльвенгрене. По отцу финляндец, по матери русский, он соединил в себе благородную пылкость славянина с упорством и волею финна. Сделать его сексотом, заставить выдать его сообщников была нелегкая задача. Никакие пытки его не брали. Мы скоро поняли, что его не возьмешь так, как мы взяли Райли. Он не боялся ни своей, ни чужой смерти. И вот в ГПУ стали его изучать. Мы подвергли его внимательному надзору специалистов, и мы нашли его слабое место. Он, не боявшийся живых людей, не боявшийся ни смерти, ни убийства, он, переступивший через кровь, безумно боялся покойников. Может быть… брезговал ими…
Следователь замолчал. На его лице играла улыбка удовольствия, точно он вспоминал что-то очень приятное. Он опять закурил папиросу и дымил ею, пока не затлела вата. Потом он притушил ее о край стола, бросил окурок на пол и продолжал, понизив голос почти до шепота:
– Его приковали к трупу и бросили в одиночную светлую камеру. Установили за ним наблюдение. Сначала он рвался и метался по комнате. Обнаженный труп тащился за ним. Потом он сел и смотрел на труп. Проходили дни. Ему подавали пищу. Он не притрагивался к ней. Труп разлагался. Скоро смрад стал так силен, что чекисты отказывались входить в камеру. Он забился в угол – и труп лежал у его ног. Мясо чернело… Обнажались кости. Тогда он стал выть… Он сошел с ума. Ничего не поделаешь, пришлось, к сожалению, пристрелить его… Вот, дорогой друг, вы теперь видите, как мы умеем поступать с теми, кому открыли тайну Чрезвычайки и кто не согласился служить нам… Я вам добавлю еще: я умышленно рассказал вам про двух иностранцев, граждан гордых и великих держав. Никто за них не заступился. Никто не посмел даже заявить протест. Вот каково наше могущество! Говорю вам это затем, чтобы вы не думали, что вас спасет и как-то выручит ваше польское происхождение…
Следователь снова закурил и, повысив голос, сказал раздельно, по слогам, веско и внушительно:
– Если бы в наши руки попались английский король или диктатор Италии Муссолини и по ходу вещей нам нужно было их замучить и казнить, мы бы это сделали, никого не боясь, потому что никто не посмел бы стать на защиту. Понимаете теперь, какая мы страшная, великая сила и какая честь, какое наслаждение служить нам, властителям мира, некоронованным его царям?.. Я вас в последний раз спрашиваю. Угодно вам стать сексотом нашего всесильного ГПУ?
Глеб встал. Он с ненавистью и отвращением смотрел на следователя.
– Нет! – воскликнул он голосом, охрипшим от волнения, сдавившего ему горло. – Никакими пытками, никакими ужасами вы не заставите меня стать таким подлецом и мерзавцем, каковы вы все, коммунисты. Вы слуги дьявола, архинегодяи, лжецы!..
– Не истощайте понапрасну вашего словаря белогвардейских ругательств, – останавливая жестом Глеба, сказал следователь. – Вы меня ими не оскорбите и не смутите. Мы поднялись на такие высоты, где все эти словесные оскорбления только бумажные стрелы, пускаемые учениками к солнцу… А вас мне просто жаль. Впрочем, нечего делать.
Он надавил на кнопку. Два рослых человека в кожаных куртках, точно ожидавшие за дверью, тотчас появились в комнате.
– Отведите гражданина, – сказал следователь. – Навсегда.
Чекисты крепко схватили Глеба под руки и повели по коридору.
У тяжелой, распахнутой, узкой двери он получил удар по затылку и без сознания скатился в сырую смрадную яму.
Когда очнулся, было тихо. Утро еще не наступило. Было холодно, сыро и тесно… Начинал мучить голод… «Шамать»-то дадут «мандру»?.. – подумал он с бессильной горечью. Знал, что не дадут. Голод, холод, темнота, склизкие стены, шум советского дома, по мере убыли сил слышимый все слабее, – вот что осталось ему теперь.
А потом – смерть.
– Господи! Пошли мне скорее смерть!
33
В Боровом тревога. Ее не трубят на золотых трубах расшитые по плечам басоном трубачи, ее не играют на певучих пехотных горнах горнисты, не бьют барабанщики…
Дежурный партизан прибежал с телефона к школе, где вповалку спали дети, мальчики десяти-пятнадцати лет, освещенные кротким светом лампады, и крикнул:
– По отряду тревога!
Зашевелились, закопошились детские фигуры, как раки в корзине с мокрым мхом. Стали выскакивать, протирать глаза, вздевать полушубки и пальтишки, обувать сапожки и валенки.
Кто-то засветил лампу. Еще минута неясного говора, и захлопала дверь, пропуская одного за другим на спящую в снегах улицу Борового.
Они бежали по избам. Каждый знал свои, куда он должен сказать, кому сказать и что сказать.
Мальчик стучал в двери и, когда ему отзывались, кричал:
– По Боровому – тревога!
С полминуты слушал: поняли ли его. Проснулись, зашевелились… Одеваются… Он бежал дальше.
В лесу, верстах в четырех от Борового, двоили частые выстрелы. Раз пять протакал пулемет и опять: – та-пу… та-пу… – «его», и наши: – бах, бах… бах… бах… Резкие, страшные ночью в лесу были эти звуки, точно совсем близко, рядом…
По халупам бежали мальчики. Стучали… слушали, пока не отзовутся.
– По Боровому – тревога!
Серым народом наполнялись улицы.
Ольга в шубке и платочке выбежала на крыльцо. Напротив высокий, костистый, с косматой бородой, стоял Феопен. В белой свитке, с патронташом, с винтовкою в руках. Зевал во всю пасть.
– Феопен Иванович! Не знаете, что случилось?
– А кто ж их знает-то… Поглядеть надо… Што там таково.
Конный партизан с заводною лошадью проскакал к избе Беркута. Ротные звенья сходились во взводы. Собирались дружины.
Командиры торопливо шли от Беркута к своим ротам.
Раздавались команды. Где по-военному: «Шагом! Марш!..» Где просто: «Айда, ребята!..» Где прямо: «Пошли, что ль? Готовы?..»
Феопенова рота собиралась при нем. Феопен, не без солдатской грации опершись на ружье, смотрел на ясное небо, на звезды, слушал и говорил медленно не то Ольге, не то сам с собою.
– За Зарецким пошло озером. Хто ж ему ходы туда показал?.. Ишь ты, как на Млынокской заставе заскворчало… Во… во… На самых Целковичах… В Бышняке… Вот оно как нынче… Разыгрались товаришы… Готовы, братки?.. Ступай за мной…
Серой змейкой в темноту леса потянулась Феопенова рота. Последняя. Рысью, краем села проехал атаман Беркут догонять отряд.
В селе стало тихо.
Лес гремел выстрелами. Они уже сливались в непрерывное клокотанье, точно вода закипала в каком-то громадном котле, большие, как никогда раньше, силы наступали на Боровое.
Яркий январский рассвет розовым заревом наливал лесные глубины. Золотом покрылся снеговой холм у церкви. Там стал резерв Беркута – сорок человек. Батюшка отец Иоанн с Владимиром поднялись к церкви.
34
На улицах села Борового стало безлюдно и тихо. В широко, настежь раскрытые двери храма видно мерцание засвеченных лампад. У образов Спасителя и Богоматери прибавляется свечей. Их ставит Владимир по заказу женщин. Тех, что хотят помолиться и не могут: заняты.
В золотых огневых венцах круглые железные паникадила. Царские врата раскрыты. У престола Господня стоит отец Иоанн.
По лучшим и более опрятным избам идет, шуршит, льет водою, блестит пламенем разжигаемых печей женская партизанская работа. Моют избы, готовят соломенные постели для раненых, кипятят воду, заваривают чай. Перематывают бинты. Марья Петровна готовит, что можно, для тех, кого некому ампутировать, некому вынимать пули, некому определить, что надо делать. Их скоро привезут.
Привезут наверно.
Она это знает, слушая музыку боя, по опыту военной сестры милосердия.
Кругом Борового стрельба. Красный враг где-нибудь опрокинул заставу или кто-нибудь показал ему особые лазы, и он прошел ночью в леса и теперь окружает партизанское гнездо.
Лицо Марьи Петровны в алых пятнах, высший признак тревоги и волнения.
– Вы, Варенька, вот что… Соберите стаканы да чашки… Приготовьте сахар… белый хлеб нарежьте. У них завсегда жажда большая.
У них – это у раненых.
– Совушка, вы хлебы-то поставили?.. Ладно, ладно… Наши вернутся голодные… Палагее скажите, чтобы борщ беспременно сготовила с бураками на них, на одних. Мы уж сегодня и так переможемся… на водице. Их, страстотерпцев, напитать надобно… А где Пульхерия?
– Какая такая Пульхерия? – блеснула искрами круглых очков от огневой печки Маня Совушка.
– Фу! Да Совдепка – то наша. Ей же белье надо готовить. Раненые придут, переодеть их надо по крайности.
– А я не видала.
– Вам, Ольга, Совдепка не попадалась?
– Нет… не заметила.
– Да что же вы так стоите? – рассердилась Марья Петровна. Алые пятна пошли к ушам и шее. – Надо же ее искать… Она же новенькая, не знает… Надо все сносить в эти избы, что нашито да настирано. Пошукайте ее в прачешной… в бельевой… или в школе… Тревога. По тревоге все сбегаются на наш двор… А где же она?.. Уж и впрямь какая-то Совдепка несообразная. Ей же и воду надо носить, на случай какого пожара. Бегите же, Ольга.
Ольга выбежала на улицу… Какой ад был кругом! По лесу точно великаны били палками. Так и трещал глухой красный бор. Солнце слепило глаза. Легкий мороз захватывал дыхание. Ольга остановилась. Задохнулась сладким лесным морозом.
Ей навстречу по небу над лесом что-то быстро неслось и гудело, сверля воздух. Никогда ничего подобного не слыхала Ольга.
Аэроплан!
И сразу за церковью, выше розовых сосен, в прозрачной небесной синеве вспыхнуло четыре белых, пушистых, точно облачные барашки, дымка и резко ударило:
Бомм-пау… бомм… бомм… бомм…
Что же это такое?
Марья Петровна, Варенька, Маня Совушка – все выбежали на крыльцо.
– Артиллерией палит… Вот оно что! – услышала Ольга голос Марьи Петровны. – Спаси, Господи, наших мучеников-партизан. Дай им устоять от супостата.
Новый залп над краем деревни.
– По нас кроет, – тоном ниже добавила, крестясь, Марья Петровна. Красные пятна исчезли со щек. Точно кто кистью с белою краской провел по ее лицу. Землисто-белым, как меловая осыпь, стало лицо. Отразили тоску глубокие черные глаза. – Спаси, Господи. Исусе Христе! Иоанн Воин, моли о нас Господа.
Шибко сверля воздух, казалось, прямо на них, летели еще снаряды. Все присели. Маня Совушка бросилась в снег. Черные столбы дыма, как внезапно выросшие длинные кудрявые деревья, вдруг встали по холму у церкви. На опушке упала как подрезанная высокая сосна. Засвистали, шелестя в воздухе, осколки и ш-шлеп, ш-шлеп, шлеп посыпались по улицам.
– Гра-на-та-ми… – прошептала Марья Петровна. – По деревне… – Вдруг сорвавшимся, визжащим голосом она закричала: – Нечего глазеть-то, бабочки! Чего не видали? Становись, родные, по своим рукомеслам, кому что делать указано. Не наше это, не женское дело его снаряды считать. Нас это не касаемо.
Ольга было кинулась искать Пульхерию, но услышала окрик Марьи Петровны:
– Оля… Олюшка… Назад… Кудай-то вы?
– Совдепку искать, Марья Петровна.
– А не надо. Не надо же. Где ее теперь сыщешь? Нигде не найдете… Поди, сомлела совсем. В погребе где, гляди, схоронилась… Теперь всем вместе надо быть… Не так и страшно… Да и раненых пора принимать… Идут страстотерпцы…
35
– Как думаешь, Феопен, устоят наши?.. Не подадутся? – шепчет Ольга.
У Феопена рука перебита тремя пулями. Марья Петровна и Ольга приладили ему вместо гипса дощечки. Мальчишки их тут же обстругали ножами и продолбили дорожку для кости. Кругом накрутили бинтами. Феопен левой рукою из чашки без ручки, деревенской чашки, темно-лиловой, с розовым розаном в белом овале, пьет жадно чай.
– Наших тоже положено не мало… Наши как, бывало, в окопы ерманские ворвались, штыками работали. Отбили. Всех их, как есть, передушили… – отрывисто, между чашками, рассказывает Феопен. В лохматой бороде не то комья грязи, не то сгустки крови… и мозга.
– Феопен, тебе-то не больно? Я бы тебе бороду промыла, – говорит Ольга, приготовившая в небольшой шайке теплую воду. – Лицо бы обтереть хорошо.
– Промой, сестрица… Не больно… И то закровянился весь… Прикладами дрались…
Стиснув зубы, полузакрыв глаза, подавив отвращение, ужас и страх, Ольга мочалкой и полотенцем отмывает залитое кровью лицо Феопена.
– Не больно?
– Не мое это… Не моя это кровь… Вот с рукой как будет, не знаю… Хорошо, коли не загниет… Тогда Бог даст, срастется. Дохтуров-то у нас нет правильных… Не то што госпиталей каких… Ты говоришь, устоим ли? Нам, партизанам, нельзя не устоять. Не устоим, так куда подадимся? Некуда. Через границу поляки не пустят… Расходиться?.. Переловят… Замучают, хуже смерти… Ишь как бьют.
– Две халупы загорелись было. Ничего. Мальчишки да мы снегом закидали.
– А не страшно?
Ольга не сразу отозвалась.
«Страшно? Да, – подумала она. – Не за себя страшно… За Владимира… За всех… А где-то теперь Глеб?!
– Крепимся, Феопенушка.
– Крепись, сестрица… Бог-то посильнее красных будет, со всею ихней артиллерией…
День шел, и не знала и не соображала Ольга, быстро или тихо идет время. Ползет или мчится, неостановимое? Рано или поздно? Раненые прибывали сначала по одиночке, пешком, потом их стали привозить на санках ручных, по двое, по трое. Во всех халупах кипела работа. Все женщины, все мальчишки были при деле.
Уже попадали снаряды в дома. Начались пожары, их гасили общими усилиями. Один мальчик был убит, два ушиблены осколками, Варя Толстая была прострелена шрапнелью. Корпии не хватало. Тех, кто был ранен полегче, у кого кровь не так сильно шла, перевязывали газетными листами. Жутко выглядели руки и ноги в кровенящих газетах – точно куски мяса в бумажной обертке.
Шел тихий шепот. Собственно, никто ничего не говорил и не шептал. Шепот мысленный: не устоять партизанам. Красных навалилась целая бригада, два полка, с артиллерией. У наших из четырех пулеметов два подбиты, а у красных бьет шестнадцать пулеметов. Нельзя носа показать из окопов. Если еще раз атакуют, ворвутся в окопы, не хватит рук колоть неприятеля.
А потом?.. Потом ворвутся в село.
С женщинами расправа известная. Помощи ждать неоткуда. Откуда же помощь? Партизаны здесь одни.
В страшной тоске, что вдруг точно крепкою, жесткою ладонью сжала Ольгино сердце, она вышла из халупы подышать свежим воздухом.
В халупе, переполненной ранеными, стоял душный, терпкий запах крови, нечистого белья и табачного дыма от крученок. Нельзя было отказать раненым умирающим в удовольствии затянуться табаком.
Далекий ружейный треск, прерываемый частою стукотнею пулеметов, покрывался грохотом пушечной пальбы и треском ломаемых, падавших деревьев. Сейчас артиллерия не обстреливала деревню. Весь бой был там, где, знала Ольга, в расчищенных старых германских окопах находились партизаны. Там их оставалось немного. Вот где все они. На холме, напротив, где все так же широко раскрыты церковные двери, видно сквозь них, как в храме на полу, словно кули, накрытые белыми свитками и серыми шинелями, лежат убитые партизаны. В головах их теплятся свечи.
«…Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя…» Не устоять партизанам.
Последние раненые говорили: нету патронов. Ожидают атаки, чтобы бросить ручные гранаты, а потом схватиться на штык и драться до смерти. Да и штыков осталось немного… Конец приходит «Боровому».
«…Погуби крестом Твоим борющие нас…»
Бездумно прошла Ольга к краю села. Там, спускаясь в овраг, шла занесенная снегом, узкая дорожка… «На Перекалье… Туда, говорят, будем спасаться».
«…Господи, воздвигни силу Твою и прииди во еже спасти ны…»
Ольга остановилась. За халупами не так слышна была перестрелка. Лес стонал и шумел сзади. Впереди была тишина. Густым снеговым покровом были одеты ели. Темным, непроницаемым и надежным казался густой черный лес. Ольга смотрела в его синеватый сумрак.
– «Воздвигни Силу Твою… – прошептала Ольга. – Прииди во еже спасти ны».
Глаза напряглись. В лесу, где никого не могло быть, где никого не должно было быть, что-то мелькнуло. Черное, высокое, быстрое… Какая-то тень скользнула между деревьями. Промчалась, обходя Боровое. Другая, третья… Редкая цепь. «Они»… Красные!
Стало ясно видно человека. Высокий, ловкий, с военной осанкой… Черная кожаная куртка. Такие же штаны. Сапоги выше колен. На поясе и через плечо патроны. На плече винтовка на ремне. Он бесшумно, как черная тень, скользит на лыжах, легко опираясь на тонкие палки. Ловкий ходок! Он свободно лавировал между деревьями. Скрывался на миг за широкою елью… Появился – близкий, с румяным лицом под кожаной фуражкой.
Острые, колючие иглы поползли по ногам Ольги, поднялись по спине, сдавили шею. Заморозило сердце. В глазах потемнело. В полусознании мелькнула мысль: «В кармане заклеенный воском орешек. Марья Петровна дала… В последнюю минуту… Чтобы живою не даться».
Ольга хотела нащупать орешек. Не слушались руки. Висели неподвижные, тяжелые, холодные. Не ее, чужие руки.
Она не упала. Сомлев, продолжала стоять. Прислонилась только к темной, обгорелой халупе. Ничего не видела. Не понимала, сколько мгновений так прошло. Когда стало светлеть перед глазами, холодный пот выступил на лбу, в висках стучала жестокая боль. Ольга была так слаба, что не могла тронуться с места. Из леса длинной змеей, заполняя овраг, скрываясь в его глубине, двигалась узкая колонна людей в черной одежде. Они несли ружья на ремне, по-военному строго, по-охотничьи свободно и сноровисто. И шли они легко, взметывая ногами глубокий снег, привычные ходить по сугробам. Впереди – осанистый старик. Никаких внешних отличий на нем не было. Так же, как у всех, у него были патронташи, так же висела на плече винтовка со штыком, но во всей его осанке было что-то начальственное.
Ольга смотрела на него, обеими руками держась за грудь. Ей казалось, что выскочит ее сердце, вдруг бурно забившееся. У нее перехватило дыхание. Оно прерывалось. Потом дышала часто, жадно глотая морозный воздух.
Впереди людей, однообразно, солдатски-щеголевато одетых в кожаные куртки, по-стариковски небрежно шел Всеволод Матвеевич Ядринцев.
Воздвиг Господь силу Свою!
Всеволод Матвеевич крикнул мимо Ольги, в деревню:
– Эге! Эге-го!.. Где Беркут?
Ему ответили издалека, от церкви.
– Здесь… Раненого принесли… У школы.
Всеволод Матвеевич повернулся к своим и крикнул по-военному строго:
– Строй взводы!.. а-арш! – И уже подле самой Ольги сказал кому-то в ряды: – Петрунчик… Резервную колонну на площади.
Сам он ускорил шаг, направляясь к школе.
Тот, кого он назвал Петрунчиком, отделился от колонны, заливавшей всю ширину деревенской улицы. Это был высокий человек, очень белокурый, – Ольга сказала бы про него: чухна, – в блестящем на солнце пенсне, без усов и бороды, но, видно, не молодой. Прямой, как жердь, вытянутый, точно аршин проглотивший, он, повернулся к колонне и по-офицерски отчетливо скомандовал:
– Первая рота! Сомкни колонну!
Сложил руки рупором и крикнул в лес:
– Матвеич… прика-зал!.. Резервную колонну!.. По первому батальону!
Село наполнялось черными кожаными людьми, сапожным мерным по снегу скрипом, манерочным позвякиванием на поясах, запахом кожи, махорки и пота, терпким, бодрящим запахом смело идущей пехотной колонны.
Ольга побежала, обгоняя солдат, к школе, где лежал раненый Беркут.
36
Атамана Беркута по его приказу вынесли на школьное крыльцо.
– Все одно… умру… Знаю… На воздухе хочу… Бога видеть, – сказал он. – Положите к лесу лицом… Хочу на лес смотреть.
Легко раненые партизаны, мальчики толпились подле. От церкви прибежал Владимир. Пришел Феопен с перевязанною рукою.
– А… Владимир… Вот что, дружок… Пошли-ка за батюшкой… А сам… собери, кто петь может… Умирать… так с музыкой… Эх! Жалко, музыки нет… «И громче музыка… играй победу…» – слабо пропел раненый через силу.
Вдруг весь скривившись от боли, – он был ранен двумя пулями и осколком в живот, – Беркут приподнялся на локте. На его сером лице с обострившимся носом заиграла счастливая улыбка. Он глазами смотрел, ухом ловил военные звуки выстраивавшихся на селе батальонов. Там не по-партизански вольно, а по-солдатски точно звучали команды.
– Р-ро-тта… ой… Р-ра-вняйсь…
Чей-то высокий голос над всеми голосами, точно плывя поверху, пропел:
– Первый батальон! Поротно в две линии стройся!..
И сейчас же раздались короткие выкрики команд:
– Рота, правое плечо вперед…
– Рота, равнение направо…
Эти команды, казалось, заглушали все продолжавшийся треск винтовок, пулеметные трели, грохот орудий, треск ломающегося леса. Они точно отодвинули шум боя дальше.
Беркут снова уже не пропел, а скорее простонал:
«И громче музыка… Играй победу». Видать Тмутараканскую выучку.
Через расступившуюся толпу к нему подошел Ядринцев.
Беркут протянул большую, уже полумертвую, белую руку. Он лежал на спине.
– Поспел… Сева… На выстрелы. По-нашему, по-офицерски… Спасибо… Бери проводников… Прямо… змейками в лес… Поспеешь… Сколько привел?
– Три батальона, полных.
– Людей сколько?
– Две тысячи сто… Старые солдаты… Кавалеры.
– Тебе сдаю команду… И Боровое тебе…
– Поживешь еще, Беркут.
– Нет… Знаю уж… Конец… Ну, с Богом… Батарею возьмешь… Она уйти не может. За Кабанью гать забралась… А наши… а наши Кабанью гать подорвали… С Богом… Дай я тебя перекрещу… милый…
Несколько мгновений после ухода Ядринцева Беркут лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Он, видимо, сильно страдал. Смерть приближалась.
– Владимир… – тихо прошептал он. – Песенники собрались?
– Атаман…
– Ничего… Немного… Умирать… с музыкой… Пойте мою… любимую.
Кто-то из песенников с перевязанной окровавленной тряпкой головою испуганно прошептал:
– Хорошо ли оно петь-то? Помирает атаман.
Беркут открыл глаза и повел головой.
– Не сомневайся, братец… Пой… – прошептал он. Он увидал Феопена. – Пусти октаву… Феопен…
– Начинай, Владимир Всеволодович, – подтолкнул Владимира Феопен.
Шесть голосов не слишком стройно запели любимую атаманскую песню.
Пей, друзья, покуда пьется. Горе жизни забывай. В партизанах так ведется: Пей, ума ни пропивай…Песенники перестали петь. Отец Иоанн в черной епитрахили поверх шубы и со Св. Дарами в руках подошел к Беркуту и наклонился над ним.
– Сейчас, батюшка… – слабым, но ясным голосом сказал Беркут. – На Кавказе в моей роте эту песню пели. Давно это было… Была тогда Россия… Царь был… Солнце было… Счастье… Был я тогда молодым подпоручиком… В тот год дали нам на наши гладкие пуговицы орлы Российские… Портупеи золотые взамен кожаных дали… Радовались мы тогда всякой малости. Были как дети… Хорошо быть, батюшка, как дети… Пили мы, батюшка, вино кахетинское… Крепко любили свой старый трехвековой полк… Лейб-Эриванский Его Величества… Солдат учили… Как, батюшка, стреляли… Выше отличного… Дайте порадовать душу. Позвольте им еще спеть мне.
Отец Иоанн молча кивнул головой. Он отошел несколько в сторону.
Может, завтра по эту пору Нас на ружьях понесут, И солдатскую рубаху Кровью алою зальют.Люди не могли дальше петь. Слезы душили партизан.
– И солдатскую рубаху, – прошептал Беркут, – кровью алою зальют… Вот уже и залили… навсегда… Только не солдатскую, а генеральскую… Генерала, Царю и России никак не изменившего… И вы, друзья… братья… Не изменяйте России. Богу молитесь, чтобы Царя нам послал… православного… Ну, пойте… Что же вы стали?.. Феопен… октаву…
Пей, друзья, покуда пьется. Горе жизни забывай…Оборвались… Замолчали. Песенники плакали.
– Полно, братья… Стыдитесь… – Беркут напряг свои силы и громко сказал: – Будущему, – а он будет, это вам говорит ваш умирающий атаман, – Российскому Императору ура.
– Ура… – сорвалось с уст партизан. Оно звучало недружно и хрипло.
– Теперь оставьте нас вдвоем с батюшкой… – в изнеможении прошептал Беркут.
Отец Иоанн опустился на колени над Беркутом. Партизаны отошли к церкви.
Ольга видела издали, как приобщался атаман, и крестилась, молясь за него.
Священник поставил чашу в сторону, нагнулся над Беркутом. Поцеловал его в лоб. Стал складывать на груди руки.
Все было кончено. Атаман Беркут умер.
37
К двум часам батарея противника смолкла. Приходили известия. Наши взяли батарею и много пленных. Их уже гнали серыми, хмурыми стадами к Боровому. Однако бой не прекращался. Он было затих, но сейчас же загорелся снова, как будто даже ближе и еще более упорный.
Раза два Ольге показалось, что по деревне высоко просвистали пули. Может быть, только показалось. Она никогда раньше не слыхала, как свистят пули.
Потом опять, – это было уже около трех часов дня, – по лесу, гулко раскатываясь трепещущим эхом, стали раздаваться громовые удары взрывов. В небе стрекотали пропеллеры. С тоскою, снова залившею сердце, Ольга увидала низко над лесом четыре аэроплана.
Один, распластав желтоватые крылья, несся к селу. Четко были видны алые знаки на крыльях. Красная звезда, серп и молот.
У кладбища взвился дыбом черный дым. Призраком дерева стал за церковью. Грохнул тяжелый взрыв разорвавшейся бомбы.
Не отдавая себе отчета в своих действиях и чувствуя одно, что она больше не может ни работать, ни думать, Ольга пошла к церкви.
Она остановилась в дверях. Вся церковь, молчаливая, таинственная, была полна покойниками. Они лежали на полу повсюду. Над ними горели свечи. Поверх шинелей и свиток были сложены казавшиеся странно большими белые руки. Никого живого не было внутри. Священник с Владимиром ушли напутствовать умирающих. В немом молчании мертвого храма чуть колебались языки пламени на лампадах и свечах.
Грозным казался на малых вратах ангел с пламенным мечом, и жалок, робок и скромен был другой, в белых одеждах, с белой лилией в руке. Казалось, вот-вот сойдут с полотен, вступят в храм, раскроют мертвецов, позовут их на новый бой.
Аэропланы кружили над селом. Треск пропеллеров был неумолимо нудный и противный. С них били пулеметы. Их пули летали, пели, свистали, чмокали и рыли снег по селу… Все попрятались по халупам. Нелепо раскинулась убитая женщина у школы да еще подальше дергал ногою подстреленный мальчик.
Тогда поняла Ольга, что все пропало. Ничто не спасет их от аэропланов. Не смея войти в церковь, она мысленно обратилась к Богу с жестокими, страшными словами упрека:
«Если Ты Всемогущ, как же Ты допускаешь торжество зла? Если Ты милосерд, как же Ты смотришь равнодушно на гибель невинных людей? На избиение женщин и детей?» Ей вспомнилось, как однажды Владек Подбельский рассказывал при ней Светлане: «Идет вечная борьба Зла и Добра. Эта борьба началась еще тогда, когда восстал против Бога сын Бездны, Люцифер. В этой борьбе вся наша жизнь. Мы живем для того. Мы все – солдаты армий либо Добра либо Зла. Если бы не было этой вечной борьбы, все было бы погружено в мертвую тишину, в покой, в сон Нирваны, как то было до раскола. Тогда не было времени, не было света, не было земли, не было ничего. Был хаос…» «Хорошо, – думала Ольга, – но Бог Всемогущ. Почему же Зло постоянно побеждает Добро на Земле?» Она изучала вместе со Светланой теософию и Штейнера. Она читала, что солнечные силы всегда боролись с Люциферическими и что воплощением солнечных сил явился на земле Христос. «Бог вдохнул в нас сознательную душу, чтобы мы помогли Ему в этой борьбе с темными силами. Мы, слабые, – Ему, Всемогущему».
– Господи, – с мольбой протягивая руки к широкому иконостасу деревенской церкви и быстрым взглядом окидывая тесные ряды покойников, лежавших на полу под шинелями и свитками, прошептала Ольга. – Ты видишь. Зачем же даешь тем побеждать?.. Яви милосердие на рабов Твоих, все Тебе, Твоему делу добра отдавших…
Ее глаза наполнились слезами. «Все ни к чему. И этот недавний, так во время и кстати приход Ядринцева с большою и смелою дружиною, и взятие батареи. Все ни к чему, когда у них аэропланы. Что мы можем против них?.. Точно охотник с дробовым ружьем над стаей цыплят, носятся они и истребляют пулеметами всех, на выбор. Окопы не спасут от бомб… Трещит лес от взрывов. Пахнет гарью… Страшными газами несет от бомб… Задушат они нас…»
Ольга повернулась от церкви и подняла глаза к высокому, бледно-синему, зимнему небу. Яркая точка стояла в небе, точно несся оттуда серебряный ангел.
Нет, это так показалось. От слез. Сквозь эти слезы снег, освещенный низким над лесом солнцем, заиграл, отразившись в небе серебряной точкой.
Ольга вытерла слезы. Совсем низко реют, кружат красные аэропланы… Дерзки они. Ничего не боятся. Трещит по ним снизу неумолкая ружейная пальба. Что она им? В них не попасть. Даром свистят в воздухе пули.
Один пролетал над лесом, направляясь к церкви. Ольга ясно различала его тупое рыло. Мелькал перед ним, немолчно жужжа, светлый пропеллер, и с пожухлых, полупрозрачных, как у мотылька, крыльев зловещие и грозные глядели красные звезды и гербы сатанинской республики, точно знаки таинственной еврейской Каббалы. Ольге казалось, что она видит даже головы летчиков. Часто трещал пулемет. Пули рыли кругом по снегу, точно крупный и редкий дождь сыпал по поляне.
Вдруг яркое пламя, желтое, громадное, с длинным черным языком дыма, сверкнуло на месте аэроплана. Глухой раздался взрыв. Из пламени один за другим вылетели два черных комочка, точно черви, и полетели на землю. За ними, как камень, оставляя полосу огня и дыма, низринулся в лес аэроплан, затрещал по деревьям, скрылся за ними.
Ольга стояла на паперти. В небе уже не казалась, но была ясно видна светлая, белая точка. Ангел Господен спускался на землю. Тот ли, что стоял на малых алтарных вратах в серебряной кольчуге и огненной рубашке с мечом, или тот, что нес ветку белых лилий мира?
Белый, в лучах солнца казавшийся серебристо-розовым аэроплан, без всяких опознавательных знаков, без букв и номеров, реял, как сокол, делая круги над красными аэропланами.
Теперь и второй из них, тот, что был подальше над лесом, так же как первый, вспыхнул пламенем и исчез в темном лесу. Два остальных заметались, взяли вышину, понеслись в синеющий хрусталь востока.
В лесу затихла стрельба. Грозное раздалось «ура»…
Наше – ура!
Потом залпы… Наши – залпы.
И все смолкло.
Белый аэроплан, делая круги, колеблясь, как лист в тихую погоду, опускался. Ольга угадывала, куда. В полуверсте в лесу была ровная и широкая поляна.
Из халуп валил народ. С криками радости, с ликованием победы на лицах, стремились навстречу белому аэроплану, ангелу с неба, посланному Богом.
Крестьянские свитки, красноармейские шинели, женские шубки, пестрые платки и полушалки – все смешалось в толпе, идущей к поляне. Ольга далеко опередила толпу. Она бежала, не чуя под собою ног, не чувствуя снега, не скользя. Бежала навстречу чуду.
Много теперь чудес на земле. Обновляются иконы, Божия Матерь легкою поступью ходит по Святой русской земле, рассыпает чудеса. Что удивительного, если из белого аэроплана, прилетевшего с неба, выйдет Ангел Господен?
Тихая в снегу поляна. Маленькие зеленые елки выбежали на нее, приодетые снегом. Аэроплан парил с застопоренной машиной. Серебристо-белая птица, мощный моноплан с широкими, как у цикады, крыльями. Он и походил на белую цикаду. Он опускался, кружа. Весь фюзиляж, хрупкий, как стекло, был на виду. Колеса, точно птичьи лапки, протянутые вперед, были четки. Еще один взмах, колебание, и он коснулся колесами снега на противоположной от Ольги стороне поляны. Подпрыгнул и побежал, зарываясь в снегу, навстречу Ольге. Остановился, клюнув носом, подняв кверху хвост. Дрогнул. Хрупко упал хвост на землю. Замер.
С аэроплана соскочили два человека в шлемах, как в масках. Один быстро снял шлем и авиаторскую курточку, другой почтительно подал ему белую свитку и папаху серого, серебристого курпея. Он надел свитку и папаху и пошел навстречу толпе. Сто шагов отделяло его от Ольги. Она уже догадалась, кто был это. Высокий и стройный, как серебряный тополь, на этой белой поляне, в белой, в талию шубке, отороченной седым соболем, в мягкой, кабардинской, высокой, чуть сдавленной спереди папахе, с Георгиевским белым крестом на груди, в ловко сидящих сапогах, он был прекрасен своею молодостью.
Ольгу встретил ясный, спокойный взгляд сине-серых, холодно приветливых глаз. Она видела розоватое лицо, тонкие брови, не большие, по-старому, в стрелку, русые усы, гладкий красивый подбородок.
Таким и должен быть тот, кого все так почитали. Несказанно красивым, как королевич из сказки, неизъяснимо влекущим, как светлая сила, таким близким душе и вместе таким далеким, точно житель другого, нездешнего мира:
– Б е л а я С в и т к а.
Сзади гремело восторженное народное ура. Толпа настигала Ольгу.
Она торопливо шла, приложив руку к груди, готовая упасть на колени, целовать полы чуть распахивающейся на ходу длинной, белой, тонкого сукна шубы.
Когда была в пяти шагах, она смело спросила:
– Откуда вы?
Она ожидала ответа: с неба… от Бога… Она не удивилась бы этому ответу больше, чем тому, который она услыхала.
Он осветил ее радостной лаской сияния вдруг потеплевших глаз. Легкая улыбка чуть наметилась в острых углах губ. Он четко, ясно громко и радостно ответил:
– И з М о с к в ы.
Часть четвертая СЕГОДНЯ НОЧЬЮ
Председатель президиума Ленинградского губернского исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Николай Павлович Бархотов пригласил к себе на квартиру, в дом № 26 на Каменноостровском, ныне проспект Красных Зорь, начальника подотдела милиции Гашульского и председателя объединенного Государственного Политического Управления в Ленинградском военном округе Воровича на чашку чая.
Нужно было переговорить по важному делу. Он не мог, вернее, боялся сделать это официально и избрал «буржуазную» чашку чая как средство облегчить свою душу, избавиться от забот и, в случае чего, переложить ответственность на других лиц с высоким положением.
Он сам, обязанный в период между губернскими съездами руководить всей общеполитической, хозяйственной и социально-правовой работой во всей губернии, на ком лежала вся тяжесть охраны революционного порядка, был сейчас в большом смущении. Собирать исполнительный комитет он боялся. Много шума. Можно испортить все дело, передав в толпу те деликатнейшие ощущения, что тяготили его второй уже месяц.
Может быть, впрочем, это ему только казалось. Возможно, что и нет ничего. Все это только призрак контрреволюции. Рассказывать в комитете о своих наблюдениях значило подвергнуться насмешкам оппозиции. Бархатов решил раньше по-семейному, тихо и осторожно, обсудить все дело с людьми, ближе всего к нему стоящими, начальником милиции и начальником ГПУ.
Ведь, случись что, с ними вместе и пришлось бы работать и им же придется всю эту кашу расхлебывать.
На Масляницу, с разрешения комитета, в Ленинград прибыло для извозного промысла очень много крестьян-чухон. Они наполнили оснеженные улицы города веселым звоном бубенцов, резвым скоком лошадей и своими маленькими, покрытыми коврами и пестрым тряпьем санками. Однако они мало были похожи на чухон. Это были по виду русские крестьяне, рослые молодцы, и лошади у них были не мелкие, заморенные, но бойкие, сытые, хорошие, почти ремонтные лошади. Населению они очень понравились.
Особенно бедноте, рабочим и мелким служащим. Что может понимать в таком деле городская «братва»?.. Любой конец, хоть с «Красного Электрика» у Обводного канала на Васильевский остров в Гавань, все одно: «рицать копеек». Им и нравилось.
Чухны бывали и прежде, в старые годы, на Масляницу. Бархатов отлично их помнил – «вейками» звали. Однако те «вейки» его Петербургского детства мало походили на этих Ленинградских новых «веек». Впрочем, и старый, державный Санкт-Петербург, где проходило детство Бархатова, тоже мало походил на теперешний, новый, красный Ленинград. Здания, улицы, сады, памятники остались те же – люди стали другие. Но все-таки… Те «вейки» тоже всюду и везде возили за «рицать копеек». Но тридцать копеек тогда и тридцать копеек теперь… У тех «веек» были маленькие, пузатые, с сенным брюхом, забавные лошадки, бежавшие каким-то смешным и веселым масляничным скоком, а сами «вейки» были разные. Были желторотые мальчонки пятнадцати лет с красными щекастыми лицами и были старики с седою щетиной небритой бороды и с трубкой в зубах. Те, что наехали теперь, были рослые молодцы все точно одного возраста между двадцатью пятью и сорока, и это, как и нарядная породность их лошадей, точно украденных из красной кавалерии, бросалось в глаза. Однако все это было бы ничего, если бы они приехали на Масляницу, а уехали в Чистый понедельник, как было в старину, когда на тихих Кабинетских, Ивановских, Николаевских, на линиях Васильевского острова и в Коломенской части пахло из булочных немецкими блинами, круглыми пухлыми булочками на молоке и во всем городе стояла великопостная тишина. Так всегда делали «вейки». В понедельник Великого поста, после звона венечных колокольцев и бубенцов, после уличной пьяной суеты и криков казалось в те времена торжественно и молитвенно тихо на улицах Петербурга.
Эти не уехали. Они переменили сбрую и сани, надели старомодные извозчичьи кафтаны, собачьи шапки под бобра и продолжали ездить по улицам все за те же тридцать копеек.
Еще заметил Бархатов одно весьма неприятное обстоятельство. Он ездил каждый день от себя, с проспекта Красных Зорь, в Смольный. Не всегда на машине. По снегу машина, особенно по бывшей Шпалерной улице, теперь улице Воинова, и по площади зодчего Растрелли, бывшей Лафонской, не выгребала, и Бархатов нередко брал извозчика. Его за последнее время поджидал всегда один и тот же парень, с круглым красным от мороза лицом, не то молодой, не то бритый.
– Пожалуйте, ваше сиятельство, – подкатывал он к Бархатову, – вот на беспартийной прокачу до Смольного.
– Вы почему же, гражданин, знаете, что мне надо в Смольный? – сухо, выдерживая коммунистический тон, спрашивал Бархатов.
– Как не знать, ваше сиятельство, начальство-то наше? Вас да господина Зиновьева весь Ленинград знают-с.
Было приятно это «ваше сиятельство». Льстило, что его знают извозчики… А почему-то все-таки было жутко.
– Извозчик, ваше сиятельство, – оборачиваясь, чтобы застегнуть полость саней, болтал парень, – должен все знать, все понимать и обо всем молчать. Он, ваше сиятельство, что твоя стенгазета, полон известиев и, как добрый чекист, молчалив. Утром, к примеру, товарища Заболотного, Семена Петровича, инспектора красной конницы, с Октябрьского вокзала на улицу Лассаля в Европейскую предоставил. Червонец пожаловали… Узнали… Я с ними под Замостьем на поляка ходил. Вызвали их теперь сюда. С англичанами. что ли, опять неприятности. Заворошился мировой капитал. Не дает покоя рабоче-крестьянской власти.
– Ты, брат, лучше помалкивай, – проворчал, запахиваясь в шубу, Бархатов. – Чего язык-то развязал?.. Глупости все говоришь. Что ты понимаешь?
– И то, ваше сиятельство… Помалкивать лучше… Эх, ты! Беспартийная! Пошевеливай.
Он налаживал своего вороного коня на широкую рысь и мчал по мосту Равенства и дальше по набережной Жореса и проспекту Володарского на улицу Воинова. На набережной, пустынной в эти часы, лошадь бежала неслышно, изредка доставая подковой обледенелый торец. В морозных, блеклых туманах спала под белым ледяным покровом Нева, и Литейный мост казался легким и воздушным. Наладив лошадь и постукивая кнутовищем по передку саней, извозчик опять оборачивался к Бархатову и говорил, улыбаясь хорошей, мужицкой улыбкой:
– Вот, ваше сиятельство, не пойму никак, как перекрестился весь Петербург… Сразу и не упомнишь. Бывало, знал: Троицкий мост – ясное дело, Троицкий собор тут – теперя мост Равенства. Или, скажем, набережная… То была Французская, посольство на ей французское было, а нонче набережная Жореса… Чудно… По мне бы… И Неву бы, что ли, как по-хорошему, по-нашему, по-коммунистическому прозвать… Клара Цеткина, что ли. Славное имя. Я и ее, Божию старушку, важивал, как в Ленинград приезжала. Ничего себе, славная старушка. На старую дьяволицу сходна…
– Ты, брат, помалкивай, – говорил Бархатов.
Не нравились ему эти разговоры, а сам извозчик нравился. Был он веселый и бравый со своей лихаческой, ямшицкой ухваткой.
– И то помалкивать лучше. Эх, ты! Беспартийная! Поддавай пару… Наяривай…
Мчались сани в холодные туманы пустынной Шпалерной.
2
Бархатов подождал, пока полногрудая девка (он по штатам проводил ее секретаршей, была ж она просто горничной) подала на большом серебряном подносе стаканы с чаем, бутылки с ромом и коньяком, печенья и булочки изделия «Красного пекаря» и удалилась. Он послушал немного и, убедившись, что она по коридору прошла на кухню, рассказал гостям свои сомнения относительно этих подозрительных дешевых и странно разговорчивых извозчиков.
– Я нарочно пригласил вас, товарищи, чтобы поделиться с вами своими наблюдениями. Меня тут что смущает? Совпадение! Помните, в «Известиях» писали, немного глухо, как всегда пишут о бандитах, о целом сражении в Белорусской республике, у села Борового? После этого писали, что ввиду недостатка муки и продуктов в городах, по настоянию населения, был организован гужевой подвоз из деревень, и описывалось, как, словно в далекую старину, обозы по сотне саней потянулись к столицам. А потом… Эти чухны… И извозчики… Слишком много что-то извозчиков. И уж больно дешево возят. От меня в Смольный – тридцать копеек. Ведь это себе в убыток.
– Это и меня удивляло, – сказал Гашульский. – И я, знаете, спрашивал. Мне извозчик вполне резонно ответил, что ему выгоднее возить без перерыва за тридцать копеек конец, чем часами стоять на морозе.
– А вы не думаете, Михаил Данилович, что это могут быть те же… Белые Свитки, которых наша Красная армия разбила под Боровым?
Ворович закутался табачным дымом, поперхнулся и шмыгнул носом. Он пожал плечами. Гашульский потер ладони и ответил:
– Мои начальники отделений районов осматривали их квартиры и на Чубаровом, и на Предтеченской, и по Обводному каналу, и на Васильевском, везде, где есть извощичьи дворы. У меня ведь нюх-с… Как будто бы ничего такого. А сомнение какое-то и у меня было. Не английские ли шпионы, думалось иной раз. Ведь теперь, подите, и не оглянешься, как у тебя за спиной английская контрразведка. Капитал напрягает последние усилия, капитал борется. А тут еще с оппозицией приходится ухо держать востро. Осторожность, само собой, никогда не мешает.
– Пресекать надо, Михаил Данилович, – сказал хриплым голосом Ворович.
– Да пресекать-то нечего, Казимир Станиславович. Все, как есть, благополучно. Почти все партийцы, с правильным билетом, запасные красноармейцы, многие с отличиями Гражданской войны, удостоверения в порядке. Помещения содержат чисто. В каждом, где бюст Ленина или его портрет, где портреты Карла Маркса, а то товарища председателя Совнаркома, красных командиров. Я и сундучки осматривать приказывал. Находят серию «Ленинской библиотеки», «Ленинский комсомол», «Рабочий факультет на дому», «Правду» – все полезные, хорошие вещи. Чтобы там Евангелие или какие другие подобные глупости, этого ничего нет. Я и в бане за ними следить приказывал. Крестов не носят. А между прочим, живут опрятно. Уж на что Чубаров переулок по всему свету прогремел, а они и там ничего, женщин не обижают… Я уж даже думал, не из сектантов ли они. Этакого коммунистического нового толка.
– Вот это, Михаил Данилович, – сказал Бархатов, – мне и не нравится. Ох, сильно не нравится. Живут чисто, не безобразят, без скандала, без разврата, без пьянства… Не матюгаются непрерывно. Какие же это, скажите по-совести, коммунисты?
– Я, Николай Павлович, своих даже внедрил к ним, – сказал Ворович. – Чины ГПУ теперь у них есть в каждой артели. Тоже ничего такого не доносят. И на расспросах народ этот не попадается. Пытались заговаривать с ними о монархии. Мужицкие ответы. Больше о выручке думают. А ребята хорошие. Они и тройки держат. У Аничкова моста, на Фонтанке у Музея, троек по тридцать вечером стоит. Красные командиры катаются на них, кутят по-гусарски с дамочками. И тоже никогда ничего худого не слышно. В кредит возят охотно. Я опять своих подсылал. Про старое заговаривать приказывал. «Нам, – говорят, – старое не известно, мы люди молодые, а новое нам очень даже нравится».
– А все-таки не думаете ли вы, что это могут быть скрытые контрреволюционеры, враги трудового народа?
– Помилуйте, Николай Павлович. Разве могут быть у белых такая выдержка и организация?.. Белый – больше интеллигент. Белый сейчас же все проболтает. А это все крестьяне. Дворянчиков не видать переодетых. Настоящие труженики. Опять же если это организация, то кто ее содержит? Иностранцы? Иностранцы норовят человека на смерть послать и фунт стерлингов ему заплатить, а тут восемь тысяч человек содержать… Где им!
– Восемь тысяч? Однако! – воскликнул Бархатов.
– Восемь тысяч девятьсот семьдесят два, – щегольнул своими познаниями Ворович.
– Это уже девять тысяч.
– Без двадцати восьми человек.
– Но это ужасно…
– Но кто же их содержит, если допустить, что они агенты?
– Эмиграция… – сказал нерешительно Бархатов.
Ворович расхохотался.
– Нет, уже простите. Только не эмиграция. Эмиграция на освобождение России гроша ломаного не даст. Ей не до России. Самоедством занимается. Беднота еще тащит в разные патриотические сборы свои франчики да динары, а богачи дома и виллы покупают. Им такого дела никогда не поднять. Им самое живое дело попади только в руки, мигом утопят.
– Платить могут только крестьяне, – сказал Гашульский. – Содержали же крестьяне партизан.
– Это другое дело. Это на местах может делаться, чтобы не платить налогов. Это плата за анархию, – говорил, пыхая папиросой, Ворович, – но никогда не за монархию. На анархию, на беспорядок, на грабеж, на неповиновение властям мужик всегда даст. И мужик, и купец, и рабочий… Но на порядок, на законность, на какую бы то ни было дисциплину он вам ничего не даст. Вилы в живот – вот его порядок. И опять, если поверить, что все эти извозчики, троечники, шоферы…
– А разве есть и шоферы? – насторожился Бархатов.
– Есть и шоферы, и притом с отличными заграничными машинами. Райселькредсоюз и завод «Большевик» выписали.
– Но, позвольте, я ничего не слыхал о такой выписке! – воскликнул Бархатов. Его даже ударило в жар. Он в волнении встал и начал ходить по комнате.
– Что же вы думаете, что и там «белые свитки»? – насмешливо сказал задетый за живое Ворович.
– Послушайте, Казимир Станиславович. Вы отлично знаете, что нет никакого союза, общества, кооператива, треста, даже просто нет никакого дома, квартиры, семьи, где бы не было коммунистической ячейки, сексота, наблюдения, надзора, сыска и доноса.
– Так я же об этом и говорю, товарищ.
– Но представьте себе, что во все эти ячейки, среди всех этих сексотов, незаметно пролезли под видом коммунистов самые отъявленные контрреволюционеры.
– Ну и махнули, Николай Павлович. Э т о г о я не могу себе представить.
Бархатов не слушал его и продолжал.
– А вдруг пролезли!.. Вот все эти извозчики, шоферы, маляры и полотеры… Ведь, белые в эмиграции все рабочими сделались. Им это ничего не стоит… Взяли и пролезли.
– Тогда бы мы их сейчас же обнаружили… И донесли… Бывали такие случаи. Все переловлены и расстреляны.
Однако Бархатов все не унимался.
– Пролезли и шепнули нашим сексотам: «донесешь – смерть»… Разве не больше стали находить трупов чекистов и милиционеров за последние месяцы?
– Весною всегда больше, – пробурчал Гашульский. – Меня вот пятый день в Смольный и обратно возит один и тот же извозчик.
– Хотите, товарищ, мы его арестуем и допросим под пытками?
– Погодите… Дайте я кончу. Вы сами говорите, краскомы и ваши начальники отделений ГПУ кутят с дамочками… по-гусарски… Гм! Мать их в раз – этак по-гусарски… Кутят в кредит. «Ваше сиятельство, прикажите, прокачу на беспартийной»… Мне, Казимир Станиславович, простите, этот юмор определенно не нравится… Совсем не нравится. Я старый партийный работник. Ленинского набора, и меня это коробит. Извозщичья политика. Извозщичья юмористика… «Крокодилину» не уступит.
– Что же, по-вашему, лучше было бы, если бы хлестали по коммунисту? Нет, уж лучше пусть катают на беспартийных.
– Неостроумно… И не соответствует моменту. Мне комиссар Хурджиев рассказывал, что в N-ском стрелковом полку водочный набор придумали. Назвали его «совнарком»… Довольно уж того, что общественные уборные зовут «мавзолеями Ильича»… А Владимир Дуров? А клоуны Бим и Бом?.. Довольно, знаете! От таких шуточек царский режим полетел, а он был покрепче нашего… «Сатириконом» начали, а кончили…
– А вы, кстати, слыхали, – вмешался Гашульский, – что Дуров в Госцирке прошлое воскресенье выкинул?
Бархатов кисло посмотрел на Гашульского и остановился, прислонившись спиной к высокой, белой, кафельной печке.
– Вывел он на арену, знаете, всех своих зверей. Вся арена полна. Лошади, ослы, свиньи, собаки, кошки, даже штук двадцать крыс… И сам Дуров перед ними, в белом колпаке с красной звездой. «Объявляю, – говорит, – наше собрание открытым!? Рассмотрению подлежат самые важные государственные дела… Прошу беспартийных удалиться»… И вот, знаете, все звери поворачиваются и уходят. На арене остаются только осел до козел. «Теперь, – говорит Дуров, – мы можем делать наши постановления единогласно»… Какова бестия?
– Давно его к стенке пора, – пробурчал Бархатов.
– Никак его не ухватишь. Весь народ за него.
– Что вы мне говорите про народ? – повысил голос Бархатов. – Народ – сволочь. С ним нашей власти считаться нечего. Народ и за патриарха стоял, и за попов. Справились же мы с этим народом… И патриарха уморили, и полторы тысячи попов расстреляли… И ничего.
– Не забывайте, Николай Павлович, что ради этого «ничего» пришлось за время нашей власти расстрелять почти двести тысяч рабочих, двести пятьдесят тысяч солдат и матросов и восемьсот девяносто тысяч крестьян.
– Глупости! – крикнул Бархатов. – Вдвое, втрое расстреляв, но уймите эту белогвардейщину!
– Теперь, Николай Павлович, – тихо сказал Гашульский, – времена не те.
– То есть как не те? – точно растерявшись, сказал Бархатов. – Чека не надежна?.. Красная армия изменить может?..
– Нет, не то… А только роли переменились…
– Я вас, Михаил Данилович, не понимаю.
– Извольте, я вам объясню…
– Пожалуйста, – холодно сказал Бархатов. Он подошел к столу, налил стакан коньяку и выпил залпом. Потом сел в кресло и, переводя дух, сказал: – Я вас слушаю.
3
– У меня на руках были, – начал Гашульский, – наисекретнейшие донесения товарища Полозова. Знаете, того, что был командирован за границу и на обратном пути, на станции Гилевичи, был убит… У б и й ц а, к с т а т и с к а з а т ь, н е р а з ы с к а н, – подчеркнул он.
– Белая Свитка, – сказал Ворович.
– Ну… Что же… донесения? – сказал Бархатов. Коньяк разбирал его, и его лицо стало красным.
– Полозов доносит, что, как он должен к сожалению констатировать (Гашульский сказал «константировать»), за границей налицо очень показательный факт. Образование белого пролетариата.
– Ничего не понимаю, – пробормотал Бархатов.
– Сейчас объясню… Вся белая армия, все ее князья, гвардейцы, генералы, офицеры, выкинутые за границу, лишившиеся возможности заниматься своим военным делом, потерявшие кормившее их «двадцатое число», остались без куска хлеба… Были выброшены на улицу… В итоге они стали в полном и роковом смысле этого слова «пролетариями»…
– Это Полозов пишет?
– В наисекретнейшем донесении… Они пошли поденщиками. Они не гнушались самой тяжелой работы. Гардемарины Императорского флота…
– Императорского?.. Кажется, Добровольческая армия никогда не была Императорской.
– Я говорю про дух. Дух у нее был Императорский… Гардемарины красили с опасностью жизни верхушку Эйфелевой башни… Генералы и полковники грузили вагоны и разгружали корабли… Они батраками работали на фермах… Они стали к рулю такси в городах, и это еще считалось благосостоянием. Они испытали голод, холод и нищету… «В столкновениях с вечными полицейскими притеснениями, – пишет буквально товарищ Полозов, – в суровой, трудовой, голодной жизни, среди городских соблазнов, в унижении нищеты, в парижских мансардах, в крошечных “кучах” на окраине Белграда, в шалашах Болгарских огородов, на “минах” Македонии они выработали жесткое и суровое сердце настоящего пролетария. Они вырастили и воспитали новое поколение своих “дворянских детей”, в которых крепки традиции контрреволюции, но которые по жизни и быту стали настоящими пролетариями…» Понимаете, Николай Павлович? Когда мы боролись и побеждали, мы противопоставляли красный пролетариат, закаленный в нужде, ничего не боящийся, смелый и умелый, разным дворянским белоручкам, гоняющимся за Белой Идеей, искателям «Синей Птицы», никчемным интеллигентным болтунам, общественным деятелям… И мы победили… Теперь положение грозно изменилось. Наш пролетариат утратил пафос революции. Он обмещанился… Более сильные стали опасными для нас Чубаровцами и хулиганами. Слабейшие стали рыцарями «субсидки», «пайка», чиновниками, слабыми, не могущими самостоятельно работать. Наш пролетариат идейно погиб. И если на минуту поверить, что белый пролетариат явился к нам под видом извозчиков, шоферов, чернорабочих, то я готов допустить, что ваши страхи имеют известное основание.
– Я этого не допускаю, – твердо сказал Ворович. – Никак не могу допустить. Как они могли появиться?.. Через какие границы?.. Кто переходил, те все пойманы и расстреляны.
– Белая Свитка… – сказал Бархатов… – Братья Русской Правды…
– Это все не так страшно. Не надо преувеличивать… Сама эмигрантская печать свидетельствует, что это больше выдумки, «миф». Самые видные эмигрантские политики, привычные «властители дум», кричат об этом.
– Эмигрантская печать партийна. А «властители дум» выдохлись и боятся, что их окончательно бросит их паства. Мы сами, конечно, за границей делаем все, чтобы раздуть эту кампанию и подорвать врагам тыл. Но нам-то этот «миф» вот где сидит. А кто кидает бомбы в наши собрания? Кто настойчиво и повсеместно избивает коммунистов, селькоров, комсомольцев? Кто с бесконечной изобретательностью сует палки в наш советский аппарат? Кто объединяет провинциальную повстанщину под общими лозунгами? Дошло ведь до открытых сражений, где нас побеждают… И везде – в Белорусской республике, на Украине, на Дону, в Туркестане, в Сибири, на Дальнем Востоке. Везде раскачка, везде какая-то скрытая червоточина, везде гуляет ядовитая литература. А вы сами, товарищ, знаете, что значит для нас только пошатнуться. Так толкнут свои же, что и костей не соберешь.
Товарищ Ворошилов мне доверительно говорил, что красная армия терроризована. Ей везде снятся партизаны и тайные ячейки «братьев». Дезертирство усилилось. На глухих постах бьют часовых и везде, как на подбор, коммунистов. Значит, кто-то внушает им, кого выбирать… Кто-то им говорит, кто коммунист, а кто нет. Красноармейцы стали носить нательные крестики. Думают, что этим оборонятся от смерти… В армии растет паническое настроение. А тут еще идет чехарда высших начальников… Ворошилов не верит Тухачевскому. Над самим Ворошиловым стоит призрак Троцкого… Знаете, положение таково, что шутить тут не приходится. Шутки могут выйти нам боком.
– Да, – вздохнул Гашульский, – повсеместно… Это самое скверное, что повсеместно… И в Москве тоже. Что там делают со священною могилой Ильича! Страшно сказать… Не успевают прибирать для иностранцев…
– Да и у нас не лучше, – сказал Бархатов. – Вчера опять памятник гениальному вождю рабочего класса Владимиру Ильичу, на площади у Финляндского вокзала, весь загажен нечистотами. Видимо, работало много и со вкусом. Даже в кепку, что торчит у него из кармана, наворочено… И как туда забрались!
– Я уже распорядился, – сказал Гашульский, – поставить доску с надписью: «Здесь останавливаться воспрещается». Знаете, как это всегда в подходящих углах делается.
– Выдумали тоже! – вскинулся бархатов. – Не скандальте хоть вы-то. Над доской хохотать будут. Часового надо поставить.
– Убьют, – хмуро сказал Гашульский.
– Кто убьет? У страха глаза велики, – вступился Ворович.
– Кто? А «братчики» эти самые, черт их раздери? А Белая Свитка? Вы знаете, товарищи, что в Ленинграде в 1920 году было семьсот сорок пять тысяч жителей, в 1926 году миллион пятьсот двадцать восемь тысяч, а теперь миллион семьсот. Кто же эти с лишком сто тысяч, что явились в Ленинград за прошлый год?.. И сколько среди них «братчиков»?
Бархатов пододвинул граненый стакан с темным, цвета мадеры, остывшим холодным чаем и из фарфоровой корзиночки взял розовое буше. Оно было аккуратно завернуто в гофрированную бумажную чашечку. Красная печатная ленточка вилась по краю. Под нею четко было написано «Красный пекарь», изображены звезда, серп и молот и стояла надпись «Ленинград». Все обыкновенное, привычное, ласкающее глаз красным цветом и революционными эмблемами. Он снял чашечку и вынул буше. Он уже готовился положить буше в рот и взялся за стакан, как вдруг бросил буше на пол и стал топтать его ногами. Глаза его были выпучены, лицо налилось кровью. Он хрипел, не в силах выговорить ни слова. Он протянул бумажный кружок Воровичу. Тот взял, медленно надел на нос очки и стал смотреть.
На внутренней стороне кондитерского кружка был наведен голубой ободок и под ним четко и ясно, такою же краской, напечатано:
«Коммунизм умрет – Россия не умрет».
Бархатов дико визжал:
– К стенке!.. Мать их туда!.. Без суда! В порядке защиты революции! Хоть полтора миллиона жителей к стенке… Невинных… виновных, все равно… К памятнику Ильича на всю ночь броневые машины ставить… В «Красном пекаре» обыск… Тут, может быть, отрава!
Он схватился за голову и упал в кресло.
4
Но ни ставить полтора миллиона жителей Ленинграда к стенке, ни устанавливать ночное дежурство броневых машин у памятника Ильича, у Финляндского вокзала, ни громить «Красный пекарь», ни даже сделать анализ страшного пирожного не пришлось. События назревали с такою быстротою и решительностью, что всякая власть была парализована.
В тот самый день, когда Бархатов устроил у себя так неожиданно окончившуюся «чашку чая», все старшие командиры частей Ленинградского гарнизона, до командиров полков включительно, начальник штаба воздушных сил, командир Балтийского флотского экипажа, начальник военно-технической академии имени товарища Дзержинского, начальники военных школ и курсов и случайно находившийся в Ленинграде инспектор красной конницы Семен Петрович Заболотный были вызваны особыми повестками к шести часам вечера в штаб округа.
Ни тон повесток, ни печать, ни бумага не вызывали сомнений.
Розовое кубическое здание штаба тонуло в мартовских туманных сумерках, когда краскомы на извозчиках и на автомобилях подъезжали к нему через площадь Урицкого. Швейцар, старичок, видавший на своем веку другие лица, и приданные ему в помощь два молодых рослых красноармейца принимали шинели красных командиров. Они поднимались во второй этаж, в зал заседаний и сообщений.
Присутствие кончилось. Чинов штаба не было. Дежурный переписчик смотрел как-то недоуменно на входивших, да неутомимая машинистка, знамение времени, судорожно выбивала буквенную дробь на машинке.
Странно было, что никто в штабе не встретил прибывших и что не сновали между командирами, как всегда, политические комиссары и чины ГПУ. На это сначала как-то никто не обратил внимания. Кажется, в первый раз за время существования Советского Союза красные командиры собирались одни, без бдительного надзора коммунистов.
Длинный зал был перегорожен тяжелой занавесью солдатского сукна на медных кольцах и от этого казался узким. Окна были плотно занавешены. Большая электрическая люстра ярко горела над столом, накрытым красным сукном.
Можно было по старой памяти подумать, что собрались генералы и офицеры старой Императорской Армии на военное сообщение. Сейчас придет офицер генерального штаба в длинном черном сюртуке с серебряным аксельбантом и станет пришпиливать кнопками и булавками к занавеси карты и пестро разрисованные схемы. Да… переменилась форма… Но и эти однобортные не то немецкого, не то английского образца мундиры серо-зеленого сукна с закрытыми отложными воротниками, с пятью светлыми пуговицами, с большими по бокам карманами, с нашивками и звездами по рукавам и вороту, без погон, подтянутые у кого широким ремнем, у кого кавказским ремешком, эти широкие рейтузы, высокие сапоги, шашки – все это, если близко не вглядываться, как-то напоминало прежнее. Может быть, только слишком много было красного. Впрочем, этот зал видал разные формы. Видал он и разные прически, – видал и бритые лица, и бакенбарды, и бороды, и усы… Выправка и выражение глаз, однако, всегда были те же. Те же были и теперь… «Что прикажите? – Исполним».
Старые военспецы из «бывших» офицеров здесь смешались с фельдфебелями и унтер-офицерами, выдвинутыми гражданской войной, и разбавились молодежью из рабочих, кончившей военные школы. Однако на все лица успел уже лечь отпечаток военной дисциплины и службы. Командуют ли: «господа офицеры» или «товарищи командиры», тянутся все-таки приходится одинаково, будь то перед Троцким и Уншлихтом или перед Императором Николаем II. Там в случае неисправности грозил выговор, тут расстрел без суда. Вот и вся разница.
Разговоры?..
Обыкновенные, офицерские. Кто постарше – о назначениях, переменах, смещениях и, шепотком, о наказаниях и арестах.
Красные командиры – о смотрах и трудности обломать красноармейца. Кто помоложе – шутки и анекдоты, быть может, погрубее и покруче, без тонкой соли, но зато с солдатским перцем.
Задымили советские «сигареты». Сизые полосы дыма легли под потолком.
В углу два молодых начальника, улыбаясь и оглядывая собрание, запели негромко:
Вихри враждебные веют над нами. Темные силы нас злобно гнетут.– Будет вам… Еще напророчите, – цыкнул на них старый военспец из унтер-офицеров.
За дверью раздался солидный, сытый, барский баритон, и в зал вошел старший из приглашенных, Семен Петрович Заболотный. Он еще не снял лихо, по-гусарски, примятой в тулье фуражки с цветным околышем и алой звездой вместо кокарды. Загорелое лицо с темными, пушистыми «под Ренненкампфа» усами было гладко побрито, и щеки блестели. Он был генеральски полон и широк. Вокруг талии лежал тонкий, сыромятный, наборный ремешок, подарок осетин Владикавказа, память об освобождении города от добровольцев. Дорогая, тоже дареная, снятая с какого-то «белого», кавказская шапка висела на кожаной, черной в серебре портупее. В свою немецко-русскую форму Заболотный, бывший взводный вахмистр Кавказского драгунского полка, внес особый кавказский, горский и кавалерийский шик. Мундир его был по-старому на белой шелковой подкладке – кавалерийская традиция.
– Товарищи командиры! – скомандовал начальник Борисоглебского Кавалерийского училища, маленький «спец», на лице которого была написана полная готовность угодить.
Разговоры смолкли. Краскомы стали на вытяжку. Кое-кто бросил папиросы на пол.
– Пожалуйста, товарищи, – сказал Заболотный, снимая фуражку…
Он сказал это точно таким голосом и тоном, каким, бывало, говорил: «пожалуйста, господа» их начальник дивизии, князь Б. Он чувствовал себя совсем генералом. Едва не князем…
Сзади него шел начальник штаба Говоровский. Заболотный стал здороваться с командирами.
– Не знаете, товарищи, по какому поводу собрание?
Два-три голоса несмело ответили:
– Не знаем.
– Мы думали, товарищ, вы нам разъясните, – почтительно сгибаясь, сказал начальник Кавалерийской школы. – Я что же, товарищи. Я человек приезжий…
– Не думаете, Семен Петрович, что война? – тихо сказал Федотьев, старый красный военспец из бывших генералов, большой специалист стрелкового дела. – Ворошилов своего добился… А?.. Возможно?
– А что ж, – наигранно весело и громко сказал Заболотный… – Война так война. Енукидзе в Москве мою кавалерию смотрел. Как орали! «Даешь Варшаву?.. Кишинев даешь?.. Париж, Лондон даешь?..» С таким духом набьем кому угодно морды в два счета. Опять поляк к Варшаве драпать будет.
Стрелки на старых бронзовых часах, стоявших на мраморном камине, приближались к шести. Малая, с овальным вырезом, уже уперлась вниз, над черною дырочкой завода. Большая, вся в завитой резьбе рококо, поднялась к двенадцати. Сейчас будут бить.
– Товарищи, – сказал Заболотный, – будем занимать места… Придется нам просто выбрать председателя и обсудить… гм… обсудить… ну… да – он посмотрел на Говоровского.
– Обсудить создавшееся положение, – подсказал Говоровский.
– Вот именно… – обрадованно подтвердил Заболотный. – Обсудить его в общем и целом… Кто чего, значит, имеет заявить…
5
Чуть слышно чикнув, большая стрелка острым концом коснулась черной черточки над цифрой двенадцать. Мелодично и размеренно серебристым звоном стали бить часы.
Когда они ударили в третий раз, двери широко на обе половины распахнулись, и резкая и уверенная раздалась команда:
– Господа офицеры!
Эта давно не слышанная, запрещенная в Советском Союзе контрреволюционная команда произвела впечатление разорвавшейся бомбы.
Все застыли, кого где застала команда. В зале наступила мертвая тишина. Все головы повернулись к дверям. Лица стали бледны. Заболотный большою волосатой рукою растерянно мял лежавшую на столе фуражку.
Говоровский смотрел так напряженно, что, казалось, глаза его выскочат из орбит. Красные командиры затаили дыхание.
Как желанна была для многих из них эта команда!
За командой раздался серебряный звон «Савельевских» шпор и в зал широкими, быстрыми шагами вошел человек.
Когда потом собравшиеся, а их было тридцать душ, обменивались впечатлениями, то странным показалось, что он всем показался по-разному.
Он вошел один. Тот, кто так уверенно и громко скомандовал «господа офицеры» и кто, вероятно, открыл, а потом закрыл двери, остался вне зала.
Заболотный покраснел так, что бурой стала кожа на голове, покрытой густыми, бобриком подстриженными, седеющими волосами.
При входе незнакомца он ощутил то же самое поднимающее душу чувство, которое испытывал тогда, когда Великий Князь приезжал к ним в Малую Азию под Эрзсрум и смотрел их полки. Свое «я» вдруг куда-то испарилось. Вошедший показался ему очень высоким и красивым. У него были русые, на пробор причесанные волосы и маленькие усы стрелками. Открытое, очень русское лицо, несмотря на бритые щеки и подбородок. Заболотный сразу заметил Георгиевский крест, висевший на груди. Крест приковал его внимание. Крест заворожил его. Правой рукой он продолжал мять на столе фуражку, а левой осторожно скользнул по груди к висевшему на ней старшему ордену Красного Знамени, незаметно захватил его весь своей могучею, широкою ладонью и, сорвав его, опустил в карман. Все это мягкими, так несвойственными ему, кошачьими движениями… Заболотный потом утверждал, что незнакомец был огромного роста и что на его белом кафтане, на плечах были вышиты серебряные погоны – генеральские.
Говоровский, внимательно и спокойно глядевший на незнакомца, отрицал наличие погон на плечах. Ему не запомнился незнакомец таким большим. Скорее среднего роста, может быть, даже ниже среднего. Он тоже заметил Георгиевский крест и Георгиевский темляк на очень богатой кавказской шашке. Говоровский уже прикидывал в уме, сойдется ли он с этим человеком в работе. Решил, что сойдется. У незнакомца были умные, сине-зеленые, цвета разыгравшейся морской волны глаза. С умным всегда можно сговориться. Усачев, начальник школы, запомнил только белый кафтан крестьянского покроя и узкую, перетянутую белым шарфом талию. Он после уверял, что у незнакомца в руках была серебристого курпея папаха. Никто другой папахи на видал. Командир башкирского полка нашел незнакомца седым.
Все сходились в одном. Лицо было без морщин, красивое и покрытое тем прозрачным, солнечным загаром, какой бывает у летчиков, на кого солнце смотрит в высотах с разреженным воздухом. У него были «необычайные» глаза. В зале было тридцать человек, стоявших вокруг длинного стола, и каждому казалось, что именно ему прямо в глаза смотрел вошедший. Во всяком случае, по всем отзывам, глаза были такие, каким не повиноваться было нельзя.
Тоже и голос. Спокойный, ровный, негромкий, очень приятный, но все в повелительном наклонении и таким тоном, что невольно склонялись головы. В голосе были бархатистые, «барские» ноты, от чего так отвыкли в советской республике, и говорил он красиво, без хамских вывертов и идиотских сокращений, к чему привыкли уже краскомы. Старый военспец Федотьев, знаток стрелкового дела, потом уверял, что незнакомец так говорил, что слышно было, где «ять» и где «е», – то, что совсем было забыто даже актерами и чтецами советской республики.
Во всяком случае, общий вывод был такой: такому человеку не повиноваться было нельзя.
Незнакомец остановился в голове стола, спиною к двери, подвинул легкое, буковое, «председательское» кресло, слегка поклонился, одной головой, и, опускаясь в кресло, сказал:
– Садитесь, господа.
Это слово «господа», как ни странно, не возмутило, но, напротив, точно обласкало присутствующих. Заболотный выпрямился и закрутил свой ус. Он перестал мять фуражку и сложил на столе свои большие руки: толстыми, украшенными кольцами пальцы. Говоровский изобразил на своем лице почтительное внимание. Федотьев мягко кашлянул. Он так покашливал, когда давно еще, много лет назад, читал Великому Князю теорию стрельбы.
За столом наступила такая тишина, что слышно было, как мерно и четко тикали старинные часы на мраморном камине… Свет люстры казался как-то особенно ярким. Сидевшие только сейчас заметили, что на столе не были, как всегда, разложены листы чистой бумаги и карандаши.
Незнакомец выдержал несколько мгновений, внимательно оглядывая присутствующих ясным взором, потом начал.
6
– Господа, – сказал незнакомец, – я потребовал вас сюда для того, чтобы передать вам свой приказ. Мне, господа, отлично известны ваше усердие и ревность к службе и ваши старания возможно лучше обучить вверенные вам части. Я знаю также и то, чего вам удалось достигнуть ценою невероятных трудов и усилий.
Под столом звякнули шпоры. Лица стали спокойнее. Говоровский приятно улыбался.
– Я знаю, господа, – продолжал незнакомец, – что все ваши желания, ваши помыслы и заботы направлены к тому, чтобы создать из Красной армии боеспособную, сильную армию, грозу для дерзкого неприятеля и опору для своего народа.
– Точно, так, – прошептал Заболотный. Слеза заиграла в его большом сером глазу.
– Вам, господа, желательно создать такую армию, какою была в годы Великой войны Российская Императорская Армия. Я знаю, – незнакомец посмотрел в сторону красного командира Батурского, автора многих трудов по новой тактике и исследований войны, – что вами создано и написано. К сожалению, господа, все ваши труды и работы напрасны. Бессмертный, непобедимый, великий полководец и военный философ, Александр Васильевич Суворов говорил: «Безверное войско учить, что железо перегорелое точить». Вы учите армию без веры в Бога, без любви к Отечеству и без сознания своего долга. Это бесполезная и бесплодная работа. Пока Россией будет править шайка международных м о ш е н н и к о в…
Он говорил эти слова отчетливо и смело, даже чуть подчеркнув их легким ударением в своей спокойной речи. Все потупились, растерялись и промолчали.
– И пока задачами этой шайки будут не русские дела, не русские интересы и не русские выгоды, ваша работа есть работа каторжников, толкаюших камень, который падает обратно. Слава Богу, настал русский день. Час Божьего гнева пришел. Инородческая чуждая власть будет устранена. Я приказываю вам: что бы ни случилось, кто бы ни требовал, не выводить из казарм ваших частей иначе как по моему личному приказанию. Я знаю, что бескровных переворотов не бывает. Я на это и не рассчитываю… Но я хочу, чтобы была пролита кровь только виновных, а не гибли обманутые и одураченные солдаты-красноармейцы… Я повторяю вам: ваши труды и заслуги по обучению частей мне известны. Я пришел сюда, – я мог бы и не приходить, – для того, чтобы сказать вам: – вы останетесь на своих местах. Это от вас зависит. Кто хочет и может учить солдат и кто научится сам вновь воспитывать старого русского солдата, Суворовского чудо-богатыря, тот останется при своем.
– Белая армия… Эмиграция… – выдавил кто-то хриплым голосом на дальнем конце стола и спрятался за спину соседа.
– Нет отныне ни белой, ни Красной армии, – строго сказал незнакомец, – есть Р у с с к а я армия. В ней найдется место всем достойным, честным и знающим людям. Вы поможете эмиграции вашим знанием обстановки, а эмиграция поможет вам усвоить забытые вами, а многим и вовсе неизвестные, христианские навыки воспитания. В эмиграции – ваши братья, ваши товарищи, с кем вы в Великую войну честно, плечо к плечу, стремя к стремени сражались на полях Пруссии, Польши, Галиции, Румынии и Турции и с кем вы имели бы общую радость победы, если бы не вмешался в дела России чужой и враждебный ей Третий Интернационал… При Русской власти, повторяю, всякому честному русскому офицеру найдется работа в Русской армии, будь он до сего времени белый или красный…
Незнакомец встал. Поднялись и все красные командиры.
– Господа! – сказал он. – Я пришел сюда не читать вам лекции. Это, если нужно, сделают в свое время специалисты. Я пришел также не торговаться и не уславливаться с вами или уговаривать вас… Я пришел отдать вам приказ. Я приказываю: – что бы и где бы не случилось, кто бы вам ни приказывал куда бы то ни было идти, не выводите войска из казарм впредь до моего личного о том распоряжения.
– Да кто вы такой?.. – вдруг выкрикнул командир башкирского полка. – Ваши речи контрреволюция. Как вы смеете это говорить?
Незнакомец медленно скрестил на груди руки и окинул все собрание острым взглядом блестящих сталью глаз.
– Я, – сказал он спокойно и гордо, – атаман Белая Свитка… Имя вам достаточно известно.
– Товарищи!.. – заверещал командир башкирского полка. – Да что мы бараны, что ли? Чего мы уши развесили?.. Это провокация!.. Хватайте его!
Белая Свитка продолжал стоять неподвижно. Еле заметная, насмешливая улыбка появилась в углах его тонкого, красивого рта.
Некоторые вскочили с кресел и стульев, но сейчас же остановились, точно какая-то незримая сила приковала их к месту.
7
Тяжелая занавесь беззвучно, – видно, хорошо были просалены медные кольца, – широко и быстро раздалась на две стороны. За нею, в другой половине зала, стоял караул такой правильности, какой Заболотный не видал с самых дней своей службы в Императорских драгунах.
Двадцать четыре молодца в белых суконных кафтанах и темно-зеленых шароварах с кантом, в серебристо-серых папахах с белыми тумаками, с темно-малиновыми юфтовыми патронташами, в прекрасных сапогах вытянулись в две стройные шеренги. Офицер, молодой красавец, сзади него караульный унтер-офицер, справа горнист с горящим золотом горном с чеканным двуглавым орлом, – все было как на картине. Люди громадного роста, все с Георгиевскими крестами на груди, стояли не шевелясь. Казалось – не дышали.
Офицер ступил левой ногой на шаг вперед, сделал правой полшага вправо, приставил щегольски левую ногу и громко скомандовал:
– Шай… на кра-ул!
Сверкнула в отблеске люстры стальная полоса шашки у офицера, мягко поднялись ружья и встали стеною перед караулом. Ни один штык не дрогнул. В этом простом, условном движении была магическая мощь.
– Здорово, молодцы партизаны! – сказал Белая Свитка.
Дружно, набрав воздух, караул ответил:
– Здравия желаем, господин атаман!
Весь зал наполнился гулом богатырского ответа, и еще некоторое время потом звенели хрустальные подвески на люстре.
– К ноге, – сказал Белая Свитка.
Офицер, державший шашку опущенной, взял ее подвысь, вложил в плечо, вышел отчетливо перед строй и залился командой.
– Караул к но-о-о-ге!
Мягко, не тронув затылками прикладов пола, опустились ружья. Караул не дышал.
Белая Свитка поклонился начальникам красноармейских частей и вышел в распахнутые перед ним невидимой рукою двери.
Занавесь медленно и беззвучно задвинулась.
8
В мертвой тишине, среди точно застывших на своих местах людей, прошло несколько долгих мгновений. Было слышно, как металлически четко, с легким шелестом тикали бронзовые часы.
У Заболотного апоплексически густо покраснели шея и лицо, начальник Военно-технической академии трясся мелкой дрожью и дряблая кожа прыгала на его небритой с утра щеке. Первым опомнился начальник Борисоглебского Ленинградского училища. Маленький, ловкий, как кошка, он подкрался в два неслышных шага к занавесе и заглянул, чуть приоткрыв ее.
– Товарищи, – дрожащим шепотом сказал он. – Там… темно. – Он смелее заглянул за занавесь. – Кажется, никого нет.
Заболотный решительно шагнул к занавеси и раздернул ее. Свет люстры, висевшей над столом, вошел в темную половину и осветил ее. Там не было никого.
Все двинулись туда. Нерешительно, точно чего-то опасаясь. Зала была пуста, но в ней еще стоял крепкий дегтярный запах хорошей смазки солдатских сапог, и Заболотный первый это заметил.
Он потянул носом, но не сказал ничего.
– Что же это такое, товарищи? – жалобно сказал начальник Военно-технической академии. – Прямо наваждение какое-то.
– Это обман-с, – внушительно проговорил командир башкирского полка. – Это знаете, как в цирке фокусники публику морочат. Просто ловкость рук.
– Что же, по-вашему, и атаман Белая Свитка ловкость рук? – сердито сказал Заболотный.
– А знаете, товарищи, забыл я, как это по-ученому называется, – начал опять командир башкирского полка, – телепатия, что ли… Ну, одним словом, массовая галлюцинация…
– Вот тоже Константину Великому перед битвой у Диррахиума явился крест с надписью «сим победиши», и все тот крест видели. А, конечно, никакого креста не было, – сказал Говоровский.
– Оставьте в покое историю, – сказал Батурский.
– Что же мы будем делать, товарищи? – заговорил моргая начальник академии. – Повестки были… У меня даже, – он стал шарить по карманам, – она и сейчас с собою, на случай какого недоразумения… Вот она… Мы собрались… Говорили, курили… Белая Свитка был… Отдан приказ… Что же мы должны делать?.. Был караул… Какой караул!.. Вы заметили?.. Прием-то какой!.. Что же теперь делать?
Заболотный дал знак Говоровскому. Они пошли к выходу.
– Семен Петрович, – кинулся за ним начальник академии, – присоветуйте, голубчик. Что делать?
– Ну? – приостановился у лестницы Заболотный.
– Вы мне тогда посоветовали, помните… Служить Советам… Я вас послушался… Что теперь присоветуете?
Заболотный стал спускаться по лестнице. Не останавливаясь, он повернул к начальнику академии свое усатое, генеральское лицо в чуть набок надетой цветной фуражке и пробормотал в усы:
– Это дело совести каждого, в а ш е п р е в о с х о д и т е л ь с т в о.
Все расходились молча. В швейцарской был один швейцар. Он хмуро глядел на командиров и подавал не спеша шинели. Как ни были эти красные начальники взволнованы всем тем, что сейчас произошло, они молчали. Чекисты могли быть кругом. И красные, и белые чекисты. Не знаешь, кого бояться. Кругом опасность, кругом сыск… Сталинцы… Троцкисты… Правоверный коммунизм и оппозиция… Теперь еще прибавилась Белая Свитка, от которой откровенно веет самой настоящей монархией.
В таких случаях – всего лучше молчать.
Первыми вышли Заболотный с Говоровским. Они хлопнули тяжелой дверью и остановились в недоумении на тускло освещенной фонарями площади.
Если бы они не увидали там высокой гранитной колонны с темным ангелом с крестом наверху, они не изумились бы. В таком состоянии духа они были. Но колонна по-прежнему намечалась в сумраке мартовского позднего вечера, стройная и вместе грузная. Огромная и точно печальная. Вправо темной громадой высился Зимний дворец. Одна сторона его была в лесах. Он точно ждал чего-то. Насторожился и вот-вот сверкнет всеми огнями ярко освещенных окон, опояшется гирляндою парадных часовых, заиграет музыкой вечерней зари и наполнится… белыми свитками.
Белые свитки мерещились кругом, потому что на площади не было никого.
Исчезли все те извозчики, лихачи, автомобили и такси, на которых приехало в штаб округа красное начальство. Заболотный помнил: они в два ряда стояли вдоль широкой панели. Они должны были ожидать.
– Вы как рядились? Обратно? – спросил Заболотный Говоровского.
– Обратно. Я и денег не платил.
– Ловко.
– Я спрошу мильтона.
– Спросите, хотя это ни к чему.
За ними на площадь выходили другие начальники частей.
Говоровский привел милицейского.
– Вот он говорит… Что говорит? – строго спросил Федотьев. – Ты, гражданин, меня знаешь?
– Так точно, товарищ начальник, – ответил пожилой, бравый милицейский.
– Ну так, братец, говори правду. По коммунистической совести. Ты коммунист?
– Так точно.
– Смотри же, не ври.
– Помилуйте. Как перед Истинным. Хоть на иконе поклянусь. На Кресте Животворящем.
– Ладно… Куда девались отсюда все автомобили и извозчики?
– Минут с пяток тому назад…
Он замялся.
– Ну?
Все начальники окружили его.
– Гляжу… Со двора, с ворот из-за угла выбегло человек двадцать… Я думал, чекисты… И с ружьями… Живо порасселись по саням, по машинам и помчали.
– Куда помчали?
– За Миллионную… то бишь за Халтурину улицу завернули. Только их и видно было… Я думал, вы куда наряд послали… Время-то неспокойное.
– А что?
– Да так, ничего.
– Нет… Ты сказал: – время неспокойное… Что же случилось?
– Да ничего такого не случилось.
– Так чего же неспокойное?
– Да так… Белые Свитки-то эти, что ли…
– Какие Белые Свитки?
– Да вишь-ты, как обернулось. Часов около пяти, значит, караул сюда пришел… От ГПУ, что ли. Допреж никогда такого не посылали. Я полюбопытствовал узнать, почему. Сказали: насчет Белых Свиток… Искать, стало быть, контру… Троцкий, что ли, послал… Али Сталин. Теперь разве разберешь?
– Вы видите, – вдруг злобно накинулся на командира башкирского полка начальник академии. – А вы: «Ничего не было… Телепатия!» Сами вы телепатия… Что теперь делать будем?
– Идем, – решительно сказал Заболотный Говоровскому и быстро зашагал по тающему рыхлому снегу прямо через площадь к арке Главного штаба. Они далеко опередили остальных.
– На Невском мы, наверное, найдем извозца или сядем в трам, – сказал Говоровский.
– Не стоит, – буркнул угрюмо Заболотный. – Тут недалеко. Дойдем пешком.
На проспекте 25 Октября была обычная толчея бедно и грязно одетых жителей. Витрины Государственных магазинов сияли огнями. Мимо проносились веселые трамваи. Извозчики и автомобили сновали туда и сюда. Все было, как всегда. Все было, как в тот сторожкий март, когда решались судьбы России. Не решаются ли они и теперь? Кто угадает подводное течение жизни? Кто знает судьбы истории? Судьбы своего личного завтра?
На Михайловской улице взгляд старого кавалериста-разведчика Заболотного заметил, что вдоль панели у Европейской гостиницы, где всегда длинной вереницей стояли тройки, лихачи и наемные автомобили, дежурил один замухрыжистый старичок Ванька, извозчик с плохой клячей.
– Гм-гм, – крякнул Заболотный и приосанился. – Что же? – сказал он Говоровскому. – Куда поедем?
– Я думаю, никуда не поедешь. Везде, наверное, одно и то же. Не у нас одних – организация и решительность.
Заболотный промолчал. Когда они шли по коридору гостиницы, покрытому мягким ковром, Заболотный вдруг остановился и повернулся к Говоровскому. Он пронизал его острым взглядом горящих золотистым огнем из-под насупленных бровей глаз и сказал, открыто улыбаясь своему начальнику штаба радостной улыбкой:
– Что же, ваше превосходительство, будем привыкать к новому режиму?
– Будем, ваше высокопревосходительство, – почтительно склоняясь, ответил Говоровский.
9
Бархатов утром, в восемь часов, как всегда, вышел на Каменноостровский проспект, чтобы ехать в Совет, в Смольный институт. Всегдашний извозчик ожидал его. Бархатов было хотел пройти мимо, искать другого и ехать, в случае чего, на трамвае. Однако он уже привык к своему извозчику за эти две недели и менять его вдруг показалось как-то глупым. Да и вчерашние впечатления за ночь поблекли. Он сел в сани.
Извозчик всегда возил его на Троицкий мост, теперь он вдруг свернул на Малую Посадскую.
– Куда же ты? – с непонятной самому себе тревогой спросил Бархатов.
– Там, ваше сиятельство, дорога ноне плохая. Известно: ростепель… Гляди, завтра на колеса надо становиться… Мы по переезду лучше проедем от Спасителя.
Ответ был правильный, извозчичий. Бархатов успокоился.
На углу Посадской и Монетной какой-то человек просто, но прилично, по-советски, одетый переходил улицу. Внезапно извозчик остановился. Человек вскочил в сани к Бархатову и крепко схватил его за руки.
Страх охватил Бархатова. «Вот оно… начинается», – подумал он, беспомощно оглядывая пустынную улицу.
– Если вы сделаете хоть одно движение или крикните, я вас заколю кинжалом. Молчите. Никакая опасность вам не угрожает, – сказал незнакомец.
Извозчик, вместо того чтобы ехать на спуск, свернул влево от Невы и пустил лошадь вскачь по Монетной. Они загнули вправо вдоль Лицейского сада. Пошли пустыри, снесенные еще в 1920 году, заборы и дома. Стало глухо и тихо.
Крюками, завитками, пустырями Петербургской стороны извозчик вывез Бархатова за Карповку. У Ботанического сада стояла тройка. В санях сидели двое. Около саней стояли, будто настороже, еще три рослых молодца.
Извозчик подкатил к тройке. К своему удивлению, Бархатов узнал в сидящих в санях Гашульского и Воровича. Их руки были стянуты ремнями. Бывшие подле тройки люди подскочили к Бархатову, связали ему белыми сыромятными ремнями руки и ноги и усадили между Гашульским и Воровичем на заднее сиденье. На переднее сели молодцы. Извозчик им помогал. Он застегнул полость. Ехавший с Бархатовым человек сел на облучек к ямщику. Все делалось быстро и молча. Кругом не было никого. С одной стороны темнел сквозным кружевом голых деревьев Ботанический сад, с другой, за Карповкой, виднелись развалины полковых сараев Лейб-Гвардии Гренадерского полка. Тут и в прежнее время никто не мог помешать делать, что угодно. А теперь…
Бархатов понял: пришел день давать отчет за все… Когда-то, в такие же мягкие, зимние, мартовские дни, когда от тающего снега пахнет весною и в порывах ветра есть какая-то напористая радость, они, издеваясь и крича, возили сановников Петрограда в Таврической дворец, таскали их на гремящих грузовиках в живом кольце бунтующих солдат и матросов, держащих ружья «на изготовку». Арестовывали, кидали в камеры Крестов, в казематы Петропавловской крепости, судили и кое-кого под шумок прикончили.
Тогда это делалось при буйных криках одобрения толпы, среди празднующего революцию вооруженного народа, в самый разгар войны. Тогда рябило в глазах от красных флагов, звенело в ушах от грубой марсельезы, спирало в горле от керосиновой вони бесчисленных машин, от запаха пороха, пожарного дыма сжигаемых участков и крови. Везде стреляли. Убивали офицеров и городовых. Улица кипела народом, и точно пьяный был Петроград.
Теперь их, а может быть, и даже наверно, и кого-нибудь еще, тихо и спокойно арестовали на улице. Арестовал неизвестно кто и вез неизвестно куда. Никто не видит. Но, если бы кто и увидел, если бы это сделали всенародно, и тогда никто бы не возмутился и никто бы им не помог. Разве долгими годами неистовства ГПУ, руководимого сумасшедшим Дзержинским, а после ненавидящим Россию Менжинским, двумя поляками, не приучено население, что можно когда угодно, где угодно и кого угодно не только арестовывать, но и расстреливать за милую душу? Разве не хватали вот так же высших военных начальников, советских служащих, «нэпманов», купцов, не сажали их в тюрьмы, не предъявляли им самых нелепых обвинений и не расстреливали целыми «пачками»? В советском государстве все возможно.
Кто, наконец, знает, кто эти властные, сильные люди. Таинственные, полумифические «братчики», «белые свитки» или сверхтайные агенты того же ГПУ, уничтожающие крамолу, заговоры, борящиеся с интригами иностранного капитала? И в чьи лапы лучше попасть, «белых свиток» или чинов охраны, Бархатов не знал.
Тройка без бубенчиков и колокольцев мчала по белым, малоизъезженным снегам набережной Карповки.
Улицей Литераторов, мимо заборов и пустынных осиротелых домов, мимо новых, пятиэтажных, скучных громад, грязных, точно недостроенных с уже облупившейся штукатуркой, промчали на Каменноостровский и свернули на Острова. На углу Песочной стоял милицейский у деревянной панели. Он узнал Гашульского, вытянулся и по-военному приветствовал своего начальника. Что думал он? Куда едет на тройке в этот час высшее Ленинградское начальство? Кутить по загородным злачным местам? Но тогда рядом с ним сидели бы не эти рослые молодцы, точно переодетые чекисты, а визжали бы советские барышни, секретарши, дактило, курсистки или артистки государственных театров.
Бархатов зажмурился. Как много у них стало этого женского добра и какое оно стало доступное! Не в этом ли секрет сокращения, почти уничтожения проституции, чем так гордился комиссар народного здравия Семашко?
«О чем я думаю? – прошло у него в голове. Но такие же неуместные мысли продолжали лезть в голову. – А что думает мильтон при виде нашей теплой компании? Едут на охоту? Но охота давно кончена. Какая в марте охота? Впрочем… Для нас?.. Для комиссаров?.. Коммунистов?.. Может быть и охота… Думает небось, что мы едем руководить какой-нибудь ответственной выемкой, арестом или экспедицией для выжимания с крестьян налога. Ему нет ничего удивительного в том, что мы с молодцами-чекистами катим куда-то в девятом часу утра на тройке, ибо Союз Республик – страна всяческих возможностей. Если даже эти молодцы поставят нас сейчас к забору у Громовской богодельни и начнут расстреливать из наганов, милицейский и пальцем не шевельнет. Его дело сторона. По приказу Чрезвычайки… Да, вот оно, как обернулся весь наш порядок, которым мы так недавно гордились перед всем светом. Как это было хорошо, когда это касалось бедных юношей с явным офицерским прошлым! И как это скверно теперь, когда коснулось нас, старых коммунистов!» Он посмотрел на лица сопровождавших их людей. Простые крестьянские лица. Верно, запасные солдаты, не красноармейцы, а солдаты. Им лет по сорока. Значит, всего повидали – и войну, и царскую муштру, и гражданские драки, испытали и старое и новое. Такие люди хуже всего. У них есть с чем сравнивать. Они знают степени сравнения – лучше, хуже. Было – при царях – отлично. Стало – при коммунистах – хуже плохого. Он, Бархатов, слыхал это и от рабочих… Лица хорошие, русские. Загорелые… Стрижены по-солдатски. Одеты в теплые полупальто… И шапки неплохие.
Стал думать, кто дал деньги на всю эту организацию. «Англичане?.. Немцы?.. Французы?.. Нет, не дадут ни те, ни другие, ни третьи. Для них для всех мы лучше. Им слабая советская республика важнее сильной России. Сильная Россия опять в ширь потянется… Версальский и Рижский миры, все эти Рапалло и Локарно для сильной русской России как бы не оказались клочками бумаги… Нет, иностранцы на это гроша ломаного не дадут. Если кто дал, то дала темная мирская сила… Та, что от Бога не отказалась, что молится тайком за своего “Миколая Миколаевича” и верит по глухим хатам, что еще жив Государь… Она способна по копеечке, по алтынчику, по рублику собрать ту казну, на которую все можно сделать. Это она по своим деревням, по жалким здешним киштам, по новгородским избам, по белорусским халупам, по казачьим и малороссийским хатам принимает этих людей, братьев Русской Правды, всяких партизан Зеленого Дуба да Белых Свиток, ссужает их пирогами и самогоном, дарит медною, мужицкою казною и не выдает, проклятая, никому».
Было противно думать, противно понимать, но мысли бежали сами собою.
«Темная… Святая Русь… Никак ее не повалишь на обе лопатки. Никак, никаким жидом, никаким пьяным безработным коммунизмом не задушишь. Вот и пришла она в города сама пушить “врагов русского народа”, друзей-товарищей Третьего Интернационала».
О смерти Бархатов не думал… Он знал, что везут на смерть, но мысль о смерти как-то отходила в сторону. Опять спрашивал себя, откуда все это идет. «Оппозиция? Тогда сговоримся. А может, и просто недоразумение? Ошибка, каких много бывает у ГПУ? Опросят, посмеются и доставят домой. А может, впрочем, по ошибке и расстреляют. Бывает и это».
Как-то не вязалась мысль о смерти с дуновением весны, чуть слышным в пасмурном дне мартовской оттепели. С залива тянуло теплою свежестью, и с радостным гамом перелетали вороны в темных ветвях, пугая весело-звонкие стайки серых воробушков.
10
Тройка мчалась. По-прежнему молчали неведомые спутники. Миновали Каменный остров. Сани заерзали полозом по обнажившимся от снега доскам Строганова моста. Вдоль Большой Невки проехали Новую и Старую деревни. Слева, серым облаком в тумане, – туман стал подниматься с моря, – грозило дождем или снегом. Чуть наметилась над самым морем темною паутиною голая Комендантская роща. Вправо, над замерзшим озером залива, дымили низкие избы Новой Лахты. Как-то сразу въехали в березовую аллею Лахтинской улицы, повернули направо и пошли шагом по узкой колее малонаезженного проселка.
Сильные гнедые пристяжки выше колена проваливались в рыхлый, ноздреватый, хрустящий, точно губка, пропитанный водою снег и шли, громко отфыркиваясь. Лошади парили. Густая зимняя шерсть слиплась кольцами и гладко облепила блестящие, точно водою облитые, сытые крупы.
Коренник, мерно ступая по дороге, в раскачку задними ногами, бил по крупу коротко, по-ямщицки завязанным хвостом. Звонко щелкала мокрая репица по ударяющим в синь окорокам. Терпко пахло конским потом. Ямщик закурил трубку, и запах махорки, снежной сырости и конского пота слился в тот особенный запах, что напоминал деревню, охоту, Святки… И зиму и весну вместе. Зиму потому, что пахло с полей и недальних лесов снегом и свежим холодом. Весну потому, что не так потеют зимой лошади и не такой нежный запах махорки в зимнюю стужу, как в весеннюю оттепель.
Бархатов знал эти места. Тройка входила в ту лесную глушь, что тянется без дорог громадной полосой от Выборгского тракта до Финского залива. Где по суше, у Шувалова и Коломяг, это красивый, ровный, мачтовый, сосновый лес. За речкой Черной Каменкой он спускался в моховые болота, густо поросшие мелким корявым сосняком и кривыми, полярными, мелколиственными березами, растущими по кочкам. Лес этот изобилует провалами, окнами темными лесными озерами, с берегами, усеянными круглыми гранитными валунами и целыми скалами превосходного розового гранита и серого гнейса. В самой глуши этих лесов притаилась единственная маленькая деревушка Конная Лахта, та самая, где был некогда найден громадный каменный монолит, камень «Гром», послуживший основанием для конной статуи Петра I, поставленной на Сенатской площади Екатериной II. С тех пор как из маленького лесного чухонского выселка повезли камень «Гром» под конную статую, выселок назвали Конною Лахтою.
Место глухое. Вряд ли ленинградская милиция, когда спохватится о пропаже высших советских сановников, поедет искать их сюда. Будут шарить больше у Сестрорецка и Белоострова, ближе к Финляндской границе.
Тройка въехала в лес. Тихо шуршали полозья, и широкие отводы саней раздвигали снежные пласты. Голые кусты голубики серыми метелками торчали по кочкам. Тонкие, частые стволы стеною закрывали даль.
Никто не догадается искать их здесь.
Бархатов вспомнил, как весною семнадцатого года, в такой же лесной глуши, в шалаше у Сестрорецкого разлива, скрывался их обожаемый учитель, Владимир Ильич Ленин… «Из лесного шалаша шагнул прямо в покои Кремлевских палат, к престолу Государей Московских, к Императорскому Трону… Говорят, глумясь, садился на него… Но не правил ли он Россией как наихудший самодур самодержец? Не вел ли ее к гибели, развалу, позору и разврату бестрепетною рукою? Кто смел что-нибудь сказать или возразить Ленину?.. А вот тоже прятался весною в лесном шалаше, ожидая, когда очистит ему место русская интеллигенция, когда развалится в междоусобной брани Временное правительство, князь Львов перегрызет горло Родзянке, а Керенский слопает Львова. Кто же тот неведомый, что ждет теперь в лесной глуши, когда Троцкий задушит Сталина, чтобы самому наступить Троцкому на его трусливое еврейское горло? Тогда опоздали арестовать Ленина, теперь опоздали прощупать всех этих “Белых Свиток”»…
Из глубоких дум о том далеком прошлом, когда по приказу матушки Екатерины везли на сотне лошадей, по особым каткам (целая механика тогда для сотого была придумана) камень «Гром», чтобы подвести его под изображение славой прогремевшего Петра Великого, из дум о недавнем прошлом, когда ехал из этих же лесов развинченный, желчный маньяк-сифилитик, чтобы, по-своему, страшным погромом русского народа прогреметь на весь мир, и из дум о настоящем, когда какой-то новый гром готов прокатиться по русской земле, раздавшись из этих лесных и болотных Лахтинских тундр, – из всех этих дум вывел Бархатова легкий толчок в локоть.
Толкнул его Гушильский. Бархатов поднял голову.
Два всадника красноармейца ехали навстречу. Они свернули с дороги, в глубокий снег, на кочку, и пропустили тройку.
В фуражке, молодцовато одетой на правое ухо, с алою звездою на околыше, в серых шинелях, в ладно пригнанной аммуниции – это были по виду красные кавалеристы.
Однако Бархатов заметил их немолодые лица. Таких в красной кавалерии быть не могло.
Они сидели на конях прочно, уверенно и свободно, как красная конница, несмотря на все старания Заболотного, сидеть не умела, за краткостью времени обучения. Бархатову показалось, что встречные обменялись взглядами с ямщиком и людьми, сидевшими в санях. Знакомые… Свои… Они никого не опросили. Значит, встреча не была неожиданной. Значит, те, кто их забрал, и эти кавалеристы были из одной шайки?
Дальше, как бывает во сне, появилась в густевших туманах прогалина. На ней, на выбитой конскими ногами черной, болотной земле, коновязь, где было лошадей восемьдесят, часть под седлом, часть расседланных… Около лошадей были люди. Красноармейская форма, но не красноармейское поведение. Не было слышно ни девичьих визгов, ни стона гармоники, ни скверной ругани, этих принадлежностей товарищеского бивака. На биваке была тишина, и, когда ехали мимо, люди и лошади плыли как сонное видение. Опять сомкнулся густой, безлюдный лес. Бархатов настороженно смотрел по сторонам. Природа спала в чуткой, весенней тишине. Вдруг в стороне, в чаще показались дымы костров. Большое, серое людское стадо расположилось в поредевшем лесу. Ружья составлены в козлы, стоят распряженные повозки, сани… Бархатову показалось – пушки.
«Маневры Красной армии… Авантюра Троцкого… Этого надо было ожидать. Развязка близка».
Бархатов стал вспоминать, чем и когда он погрешил против оппозиции… Троцкий?.. Отчего бы не служить Троцкому, как он служил Сталину?
11
Деревушка Конная Лахта, полтора десятка почерневших от времени маленьких приземистых изб, как-то сразу открылись на поляне за лесом. Вся улица и огороды за деревней были заставлены роечными и парными санями и извощичьими одиночками. Не то многолюдный зимний пикник, не то великосветская охота облавой. Нa выгоне, за избами, был сколочен из жидкого барочного леса большой барак, похожий на те балаганы, какие ставят для народных представлений на Маслянице. Свежие стружки розовым венком лежали на снегу. Позади барака, приподнятый домкратами, стучал машиною автомобиль. От колес шли к небольшой постройке приводные ремни. От постройки к балагану тянулись проволоки. Барак освещался электричеством. У входа в него, над широкою дверью, обитой войлоком, горела лампочка. Часовые в белых крестьянских дубленых полушубках, с винтовками у ноги, с ручными гранатами на поясе, неподвижно, по-старому, навытяжку, стояли по сторонам дверей.
Тройка с Бархатовым, Гашульским и Воровичем подъехала к бараку. Сопровождавшие их люди, соскочив, развязали ремни. Двери распахнулись на обе створки.
– Пожалуйте, господа.
Бархатова ослепил яркий свет электрических лампочек. В сарае от множества людей и от железных печей, стоявших вдоль стен, было жарко. Белый пар клубом вкатился снаружи в распахнутые двери.
Табачный дым сизой пеленой повис под потолком… Ошеломленный светом после туманных сумерек, оглушенный людским говором после лесной тишины, еще нетвердо стоявший от долгого неудобного сиденья со связанными руками и ногами, Бархатов сделал несколько неуверенных шагов и остановился. Его сразу окружили. Он знал всех этих людей. Все ленинградцы, представители управления, науки, школы, трестов, кооперации, искусства…
Старый эстет и атеист Лучезарский, тот самый, кто над телом своего любимого сына, умершего от чахотки, театрально декламировал вместо Псалтыря стихи Блока и кто всегда считал, что все позволено, воскликнул, обращаясь к Бархатову:
– А, товарищ! И вы здесь?.. Вас только и не доставало. – Он засмеялся нервическим смехом. – Недурно. Всю администрацию забрали… Но скажите же, наконец, хоть вы нам. В чем тут дело? Ужели Троцкий?.. Никогда не поверю… Как он мог ухитриться?
Сзади него блеющим голосом верещал видный советский сановник:
– Товарищ комиссар! Укажите же нам, кем теперь быть. Сталинцами или троцкистами? Правоверными или аппаратчиками?.. Дело-то об собственной шкуре идет.
Сзади из толпы ворвался чей-то визжащий, перепуганный голос:
– Чем все это грозит?.. В Нарымский край?.. В концентрационный лагерь?.. К стенке?.. С братвой здешней не разговоришь… Ни бум-бум не понимают.
Бархатов молча развел руками.
– Дайте хоть отойти человеку, – сказал Гашульский. – А я вот вам что скажу. Мне думается, граждане, что нам надо просто стать господами… Ни сталинцами, ни троцкистами, а просто русскими… чиновниками… От слова «чин».
– Как?.. Что?.. Позвольте!.. Что он говорит? С ума спятил… Начальник милиции… Ясное дело, помешался… Впрочем, тут немудрено ума лишиться, – раздалось с разных сторон в толпе, плотнее окружившей вновь приехавших.
– Вы сейчас слыхали? – продолжал своим полицейским баритоном Гашульский. – Нам сказали, когда открыли двери в это узилище: «пожалуйте, господа»… Ну, и будем господами…
– Черт знает, что такое!.. Это какая-то провокация.
– Не слушайте его, товарищ.
– А может быть, переворот?.. Наш Термидор?
– Какой Термидор! Просто какая-нибудь чекистская насмешка.
Из толпы выдвинулись большие блестящие круглые очки и показалась растрепанная ассирийская борода на худом изможденном лице академика Бранденбурга. В выпуклых стеклах очков огнями играли отражения ламп.
– Позвольте-с! – картаво кричал он. – Он прав… Господа, он прав… Я, в сущности, всегда говорил, я всегда указывал, что наука аполитична. Ученому нет дела до власти. Ему все равно, коммунисты или кто хотите… Ученые служат науке. Академия создана для науки. Вне науки нет академии… А когда мы выходим из своих ученых кабинетов, мы становимся обычными людьми, мы идем, так сказать, за жизнью и нам все равно, кого славословить и величать. Разные Третьяковские и Ломоносовы воспевали какую-нибудь императрицу Екатерину, – запутался он в словах и забрызгал кругом слюнями… – Нам, советским академикам, досталось воспевать Владимира Ильича Ленина, а потом Сталина. Если надо, будем и Троцкого. Если прикажут, будем слагать дифирамбы и Государю, кто бы он ни был. Вопросы администрации не касаются науки… Наука прежде всего, повторяю, аполитична… А люди должны быть тактичны и своим тактом…
– И гибкой спиной, – подсказал кто-то сзади.
– И гибкой спиной, – машинально, не думая, повторил Бранденбург, – отстаивать право науки… право науки…
– На паек.
– Позвольте, товарищ, вы меня перебиваете… Право науки быть наукой, как мне кажется…
Старушка Пучинкина, член Уисполкома, старая революционерка, в сбитой старомодной шляпчонке на редких стриженых волосах, добралась через толпу до Бархатова, схватила его за пуговицу пальто и визжала, брызгая ему в лицо:
– Товарищ Бархатов!.. Николай Павлович!.. Что же это? Потрудитесь дать объяснение… Кто это, по-вашему?.. Кто?
Вдруг в памяти Бархатова прошло вчерашнее совещание у него за чашкой чая на проспекте Красных Зорь. Внезапно свет озарил туман его мыслей, и он ответил сиплым, срывающимся, простуженным голосом:
– Белая Свитка.
12
Ольга Вонсович, по паспорту Варвара Коваль, вторую неделю жила в маленькой квартире, на втором дворе, на Разъезжей улице, в Петербурге.
Все было сделано как по писаному. Ольга была поражена организацией дела и знаниями того, кто так неожиданно прилетел в Боровое из Москвы.
С луга, где приземлился, он прошел в школу и там всю ночь отдавал приказания старшим партизанам Борового. Была в школу позвана и Марья Петровна. Потом потребовали список всех женщин Борового.
На рассвете Белая Свитка улетел на аэроплане. Ольга видала – на белых крыльях серебряной цикады ночью кто-то поставил красные пятиконечные звезды и нарисовал серпы и молоты. На аэроплане были поставлены буквы и номера… Он был, как всякий советский аэроплан, и все-таки казался Ольге особенным.
– Ну, Олюшка, – сказала Марья Петровна. – Конец Боровому.
– Как конец?..
– Новая дана всем задача.
– Какая?
– Каждый про то сам знает. Тебе, Олюшка, ехать со мной в Минск к одному человеку, а там дальше увидим.
Тою же ночью санями пробрались в Минск. Везший их партизан, одетый крестьянином, остановился на базарной площади. Там к ним подошел человек в черном старом пальто и молча вынул из кармана газету. Газета была английская: «Times». Марья Петровна доверчиво подошла к этому человеку. Он повел Марью Петровну и Ольгу в город и на одной улице ввел в небольшой деревянный дом.
Марья Петровна первой прошла в комнату. Ольга осталась дожидаться в прихожей на деревянной кленовой скамье. Прошло около часа, пока Марья Петровна вышла.
– Теперь тебе, Олюшка. Ну и дела. Прямо сказать, непостижимо… – прошептала она Ольге.
– Пожалуйте, – раздался из-за двери голос.
– Ступай, ступай Олюшка.
Марья Петровна мелким торопливым крестом перекрестила Ольгу.
Ольга вошла. Обыкновенный деловой кабинет провинциального, Ольга сказала бы, адвоката. Большой письменный стол, боком к окну. Вдоль стен шкапы с зелеными картонами и папками. Видимо, мелкое советское учреждение, каких много насажено рабоче-крестьянскою властью. Над шкапами ярлыки – «Губстатотдел», «Демография», «Стат. народ. образ»… «Эконом. стат.», «Стат. коммун. хоз», «Стат. труда»… и с обратной стороны двери плакат – «Устатбюро».
Гипсовый Ленин змеил свою отвратительную ухмылку с невысокого постамента. Под ним железный поднос, стакан и графин со ржавой водой. Толстая книга в синем переплете, на ней белым написано: «Весь Ленинград. 1928».
Ольге стало жутко.
За столом сидел человек в пенсне. Он был одет в черную суконную рубашку «толстовку». Лицо круглое, бритые усы, черные брови, лысина, седеющая чернь волос по вискам. Типичный советский статистик. Он внимательно, точно щупая глазами, разглядывал Ольгу.
– Садитесь пожалуйста… Жаль, что у вас не еврейский тип… А впрочем… Может быть, даже и лучше… Так вот заметьте… Вы украинка… Щирая… Варвара Коваль, из Конотопа.
Статист строго глядел через пенсне на Ольгу.
– Позвольте, – начала Ольга. – Я Ольга…
– Знаю… знаю… Ольга Вонсович… Родились в Никольске Уссурийском… Не учите… Я вас буду учить… А вы запоминайте… Итак: вы украинка…
– Но… я не знаю украинского языка.
Сидевший за столом прищурился. Он снял пенсне и стал его протирать. За пенсне оказались милые, добрые, добродушные, серые, немолодые глаза.
– А кто же его, милая барышня, знает? Вы думаете, украинка, так уже и балакает на мове? На мове-то никто не говорит. По малороссийски-то еще балакает там-сям «интэлыгэнция»… Ну, да это не важно.
Он встал, порылся в зеленых картонках, достал бумаги и подал Ольге.
– Вот вам паспорт. Профессиональная карточка… Партийный билет. Вы же ведь коммунистка… Имейте в виду, однако, им-то очень билетом не тычьте. Не везде это любят. Так, для большого случая держите. У вас какой голос? Контральто?
– Меццо-сопрано.
– Все равно… Так вот, запомните… Твердо… Так, чтобы и ночью во сне не проговориться: вы товарищ Варвара Коваль… Вы едете в Ленинград в Общегородской рабочий хор, – он находится, – запомните, записывать ничего нельзя, все на память, – он находится в ведении Культотдела Губпрофсовета, то есть культурного отдела губернского профессионального совета. Вы имеете приглашение, – вот оно, – поступить в хоровой кружок вузов, – высших учебных заведений. За этим вы и едете в Ленинград… Ваш отец, Алексей Коваль, был народным учителем… в 1905 году был сослан царским правительством в Тобольскую губернию, – запомните… в 1914 году попал на войну по мобилизации… Ну, сдался, конечно, в плен… Антимилитарист, войны не признавал. В плену он и умер. Ваша мать, народная учительница, умерла от тифа в Конотопе в 19 году. Не бойтесь, это так и было у Ковалей. А вообще молчите. Впрочем, у нас это и принято. Много разговаривать теперь все отучены. Итак, вы сегодня едете в Ленинград, в жестком вагоне. Одна… По приезде берете извозчика, едете на Разъезжую улицу… Дом № 14… Там должны быть завтра между двенадцатью и часом. Войдете во двор… увидите такса.
– Такса? – переспросила Ольга. Ей казалось, что она ослышалась.
– Ну да, собаку такса. Длинный, узкий, на маленьких кривых лапах. Хвост тонкий, прямой. Понимаете?
– Понимаю… Только я удивляюсь…
– Не надо ничему удивляться. Позовите его… Его зовут «Кнурри». Приласкайте. Дайте кусок сахара… Куда он поведет, туда за ним и идите. К кому он в доме приласкается и сядет на колени, тот и будет ваш начальник… Ему верьте. Теперь получите деньги и… да хранит вас Бог… Коммунизм умрет – и скоро. Россия не умрет – никогда.
Ольга приняла небольшую сумму денег.
– Позвольте, я распишусь, – сказала она.
– Никаких расписок. Не украдете. Мы вас знаем… Итак, Варвара Коваль… из Конотопа… Отец учитель… Сдался в плен и там умер… Он идейный был, ненавидел царизм, презирал братоубийственную бойню… Да, еще… Кого бы вы в Ленинграде из наших, вам известных, ни встретили, не узнавайте. К вам будет захаживать только Владимир Ядринцев… Он теперь не Ядринцев и не Владимир, он Павел Скосырев, состоит при митрополите… Усвоили?
– Да, кажется… Варвара Коваль… Отец Алексей… из Конотопа… Сдался в плен… Ненавидел царизм… Искать такса… Зовут – Кнурри…
– Отлично. Счастливой дороги, гражданка Варвара Алексеевна… Кто там еще? Пожалуйте.
Ольга вышла и в прихожей увидела Маню Совушку.
Маня встала, заторопилась и пошла в кабинет «Устатбюро».
Без приключений Ольга доехала до Ленинграда и между двенадцатью и часом вошла во двор дома № 14 на Разъезжей улице. Темный, блестящий такс с длинными ушами озабоченно рылся в снеговой куче. Он залез туда по грудь, выскакивал, фыркал, – вся морда в снегу, – и снова всеми четырьмя лапами наскакивал на снег и погружался в разрытую им нору. На дворе, кроме собаки, не было никого. Час обеденный. Кругом тишина.
– Кнурри, Кнурри, – позвала Ольга.
Собака оглянулась. Посмотрела недоверчиво на Ольгу. Точно оценивала ее. Кто она, враг или друг… Потом подошла.
Ольга нагнулась. Дала ей сахару. Приласкала. Собака обнюхала ее руки, потом побежала во вторые ворота. Ольга пошла за нею. Иногда собака оглядывалась, точно поджидая Ольгу. Под воротами темная, не очень чистая лестница. По ней наверх. На третий, последний этаж. Собака остановилась у двери, обитой рваной клеенкой, и стала повизгивать и царапать двери лапами. Помятая кнопка звонка. Ольга позвонила. Сердце билось. Куда она попала? А вдруг в засаду?.. Собака как-то внушала доверие… «Авось не обманет, – подумала Ольга. – Собака не человек».
Полная, пожилая женщина открыла дверь. Такс кинулся к ней, виляя хвостом.
– Варюшка! Племянница! Ну наконец-то! – женщина заключила Ольгу в объятия. Потом обратилась к какому-то вышедшему в прихожую человеку неопределенных лет, неопределенной наружности и костюма.
– Вот вы, Алексей Савостьяныч, сомневались… Уплотнять меня хотели. Куда же теперь уплотнять? Вот она, Варюшка. Вы поглядите, какая она у меня красавица. Я вам документы ее в прописку вечером принесу… Ну, вот и добралась, моя желанная. Чай голодна?
Дальше опять все шло как по писаному. Ольга вторую неделю живет у полной дамы. Ее зовут Леокадия Яковлевна. По вечерам, закрыв все двери, в полной тишине, они шьют русские флаги. Синий, белый, красный… Шьют и прячут потом в матрацы. Черный такс лежит на коленях у Леокадии Яковлевны. В квартире тепло. В печке потрескивают дрова. Проворно ходят руки, готовя флаги к какому-то великому, радостному дню.
13
Этот день придет. Леокадия Яковлевна в это твердо верит. Их флаги будут нужны, и Ольга начинала догадываться. Проходя по Фонтанке, видела она рыжую тройку. Голубые в серебряной жести махры красивыми кистями свешивались с конских спин. Ковровые с пестрыми отводами сани были накрыты темно-синею полостью, обшитой медвежьим мехом. Седой ямщик в бороде и усах похаживал подле тройки. Другой, высокий как жердь, молодец оправлял лошадей, обмахивал их конским хвостом, обтирал тряпкой ремни. Зорко блеснули знакомые острые глаза из-под седых нависших бровей на Ольгу.
– Петрунчик, – сказал старик, – обтирай лучше наборы… может, нас барышня и наймет. Раскошелится…
Еще как-то увидала Ольга извозчика. Лошадь показалась ей знакомой. С облучка над извозщичьим кафтаном улыбнулось ей доброе мужицкое лицо Бурзилы… И Феопена видала она раз на паперти церкви. Окруженный толпой беспризорных, он просил милостыню.
– Подайте, товарищи, жертве капитализма…
Да, кто-то умный, сильный и властный, какой-то блестящий организатор разместил их всех, партизан Борового, по Петербургу, готовя какую-то сложную задачу.
Было утро. Ольга одна. Леокадия Яковлевна еще до рассвета в тюке грязного белья повезла куда-то сшитые флаги.
Задребезжал не звенящий, но глухо трещащий звонок. Кнурри с лаем кинулся к дверям. Звонил «свой». Коротко, длинно, коротко.
Ольга пошла открывать. Это был Владимир.
В толстовке, с отпущенной бородкой и длинными, прямыми, падающими на уши волосами, он походил на семинариста.
– Никого?
– Никого.
– И Леокадии нет?
– Уехала до света.
– Слушайте, Ольга… Я сейчас только видел «его»…
Владимир был сильно взволнован.
– Ну?
Ольга вся вспыхнула. «Он» на их языке был «Белая Свитка».
Тот человек, что прилетел, как ангел с неба, на аэроплане и что оставил неизгладимый след в душе Ольги.
– Какой же он?.. Как одет?.. Кто он?..
– Какой?.. Все такой же… Необычайный… Святой… Всезнающий… Руководимый Божьей силой… Меч Суда Господня… Как одет? Я бы сказал – молодой нэпман… Да… Безусловно, одет хорошо… Но по-здешнему. В толпе его увидишь, но не заподозришь. Подумаешь, преуспевающий кооператор… Счастливый частник.
Эти названия коробили Ольгу. «Счастливый частник»… «Преуспевающий кооператор»… Это он так о Белой Свитке. Белая Свитка – Ангел Господень.
– Где же это было?
– У Владыки… Он приехал в шесть часов утра. Владыка был на молитве. Я доложил.
– Как доложил?
Владимир одними губами сказал:
– Атаман Белая Свитка.
– Да ну?
– Он такой… Так сам приказал.
Глаза Ольги сверкали.
– Да… он такой.
– Владыка сейчас же его принял. Он подошел под благословение. Потом начался разговор… Он приказал мне остаться. Ах, Ольга! Какой это знаменательный разговор!.. Я потому и приехал. Он нас с вами касается.
– Нас с вами?.. Не может быть… Почему нас с вами?
– Он говорил, как выражаются по-советскому, «в общем и целом». Нас же это касается в частном. Он уговаривал Владыку куда-то ехать… Сегодня же, после завтрака… Добром… И я понял… Это уже – конец. Я еду с ним… Конец, Ольга… И начало…
– Какой же разговор?
– В «общем и целом», – улыбнулся Владимир.
– Да, сначала «в общем и целом», а потом и в частном.
– Разговор о будущем России. Он говорил Владыке, что Россию надо строить снизу… Ошибка прошлого была в том, что строили сверху – утверждали правительства, ставили диктаторов, даже провозглашали императоров, ничего не имея под ними внизу. Он сказал: нужны кирпичи. Кирпичи это – семья. Семья – муж и жена. Жена во всем помощница мужу, она его друг, его товарищ, верный до гроба спутник. Потом дети: родители о б я з а н ы воспитать детей, дети о б я з а н ы, беречь родителей в старости – долг одних перед другими. Семья охватывает всех: дядей и теток, двоюродных и троюродных, дедов и бабок. Образуется: род, фамилия. Это кирпичи. Это начало… Цемент: церковь. Церковный брак, церковное воспитание. Церковь внедряется в семью и ее укрепляет. Церковь сливает семью в одно: приход… Православное государство… Владыка качал головой и соглашался… Потом он говорил, что вся помощь должна идти крестьянину, на землю, а уж он поможет рабочему. Дальше говорил: деревня, село, город, от села зависящий, столица и – Государь.
– Государь? – задумчиво сказала Ольга.
– Да… Но не сейчас… Он сказал… Я запомнил его слова. «О Царе нужно не вопить, ломая стулья на митингах, а честно готовить для него дух народный и кадр. Ни на крови, ни без кадра Царя сажать нельзя. Это – его уронить и предать снова на растерзание»… Еще он сказал: «Владыка! Вы, церковь, должны учить народ иметь Царя, восстанавливая священный уклад и ритм православной монархической души». Владыка долго молчал. Потом сказал, медленно и тихо: «А как же свобода церкви?» И тот ответил: «Задохнетесь в этой свободе». Владыка подошел к божнице, опустился на колени и долго молился… Атаман стоял неподвижно. Думаю, тоже молился, только мысленно. Он был какой-то необыкновенный. Если бы он исчез как дух, или вдруг преобразился в ангела, я бы не удивился… Наконец, Владыка встал и сказал громко: «Хорошо, я поеду. Я с вами согласен. Пусть, если нужно, будет смерть». А атаман ответил: «Смерти не будет… Будет воскресение»… Потом, подойдя под благословение Владыки, он быстро вышел… Вот и все. В «общем и целом»… Теперь, Ольга, позвольте о частном.
– Пожалуйста.
– Ольга, вы меня давно знаете… Ольга… Последуем тому, что он сказал… Ольга… Составим эту христианскую семью… Будьте моею женою.
Золотистые глаза Ольги подернулись счастливыми слезами. Она положила обе руки на плечи Владимира.
– Владимир, – сказала она просто и твердо. – Я вас давно люблю. Вы еще и не догадывались, когда я вас любила… Я согласна. Кончим порученное… и тогда… станем кирпичами великого здания России. – Как думаете вы?… Удастся?
– Я не сомневаюсь.
– А если опять сорвется?.. Тогда смерть?
– Умрем, Ольга, вместе… Умрем, как умер старый Беркут.
– С музыкой? – улыбнулась Ольга.
Ее лицо сияло кротким светом счастья. Владимир обнял ее за плечи и прижал к себе.
– Любимая! Надо верить. Будет не смерть, а воскресение.
14
В шестом часу вечера к балагану на Конной Лахте, в санях, солидно запряженных парою прекрасных, некрупных, «Павловских» вороных рысаков, привезли митрополита С. Петербургского и Ладожского. С ним ехал молодой человек в русой вьющейся бородке, с волосами, закинутыми за уши, и с такими сияющими счастьем глазами, что это было заметно всякому: – Владимир.
Сейчас же за митрополитом в барак вошел пожилой человек в белом крестьянском кафтане, при револьвере и шашке. «Штаб-офицерский тип», – заметил про него тихонько Гашульский Бархатову. Он попросил освободить середину барака. Красноармейцы принесли длинные, простые, из досок сколоченные столы, накрыли их чистыми, еще в накрахмаленных складках скатертями, расставили белые, фаянсовые, хорошего фаянса приборы, и «штаб-офицерский тип» громко объявил:
– Господа! Прошу откушать. Ваше высокопреосвященство, благословите трапезу.
Все эти люди давно, – добровольно или прислуживаясь к новой власти, – стали атеистами. Они не знали, как стоять и что делать, когда смущенный Владыка в голове стола читал «Отче наш» и благословлял «яства и пития сии»…
Яства состояли из прекрасных «ленивых щей» с кусками мяса и великолепной гречневой кашей, из отбивных телячьих котлет с макаронами и густого яблочного киселя с малиновым сиропом. По части питии был только домашний хлебный квас.
Ворович, сидевший рядом с Гашульским, шепнул ему:
– Как вы думаете, Михаил Данилович, не отравят они нас гуртом? Чего бы проще.
Гашульский пробурчал в ответ раздраженно:
– Не беспокойтесь, не отравят. Не коммунисты.
Несмотря на то что в бараке за столами сидело около трехсот человек «высшего» Ленинградского общества, головка управления городом и губернией, кругом было тихо. Звенели тарелки, ложки, ножи и вилки, иногда тут или там чуть вспыхнет негромкий разговор и смолкнет. Только слышны отдельные короткие замечания:
– Товарищ, передайте хлеб.
– Гражданка, угодно квасу?.. Хороший квас.
Бархатов разглядывал всех сидевших за столами. Он обратил внимание на то, что красных командиров здесь не было совсем. Была администрация. Была еще милиция, ее начальство: – Андреев, начальник резерва, Соколов, начальник караульной команды, Трей, командир эскадрона, все начальники районов. Были начальники исправительных домов, уполномоченный комиссара финансов, фининспекторы, заведующие кассами… Был скромный, подавленный всем происходящим Алексеев от управления городских железных дорог…
Еще заметил, оглядывая собравшихся за столом, Бархатов, что евреев здесь тоже не было совсем. Не было, например, ни Зондовича, ни Зильберталя, а был их помощник, Замешаев.
Против Бархатова сидели ректор университета и профессора. При блеске ярких электрических лампочек, не прикрытых абажурами, как-то особенно резко бросались в глаза бедность их платья и изнуренная вялость старых лиц. Старик Мушкетов, ректор Горного института, был повязан рваным шерстяным шарфом, и старое пальто его носило следы ожогов о раскаленную буржуйку. Академик Карпинский, сидевший рядом с Бранденбургом, ел жадно. Видимо, он давно не видал ни мяса, ни каши. Бородин, Вернадский, Карпинский, Костычев, Платонов – весь цвет русской науки сидел за этим столом и, казалось, чувствовал себя неловко, точно смущался своих ветхих, изорванных костюмов. Все порой беспокойно озирались и, видимо, боялись говорить между собою.
Бархатов видел на другом конце стола представителей почты, телеграфа, транспорта. Он узнал Клааса, редактора «Красной Газеты», Волоцкого, редактора «Красной Звезды», Флаума, редактора «Ленинградской Правды»… Даже «Молодая Гвардия» имела здесь своего представителя.
Еще дальше видел Бархатов Царькова и Подпалова от управления Госоперы. Он видел, как смущенно озиралась артистка Ведерникова, а Кузнецова, держа в руках косточку котлеты, жадно обсасывала ее. Накрашенные балетные, Даранович и Глюком, улыбались привычно деланными улыбками. Но ни улыбки, ни подмазанные глаза не могли скрасить обшарпанную ветхость их старомодных шубок.
Это была вся «знать» Ленинграда, его головка, его мозг и периферическая нервная система. Невольно Бархатов задумался над бедным, неопрятным и загнанным видом этого мозга города.
«Это, пожалуй, ничего, что из-под расстегнутого пальто Бранденбурга видны засаленная толстовка и давно немытая фуфайка… Ничего, что Кузнецова ест руками, а Глюком имеет вид потрепанной богаделки. Это все внешность. Ужасно то, что Бранденбург сквозь круглые очки осматривает мутными серыми выпуклыми глазами всех и в этих глазах животный страх ошибиться и прислужиться не тому, кому нужно… Ужасно то, что Кузнецова, и Глюком, и все, все они готовы улыбаться кому угодно. Любому палачу, вору, мерзавцу»…
Может быть, в первый раз с тех пор, как это совершилось, Бархатов, оглядывая эту ленинградскую знать, понял, в какой ужасный тупик моральной нищеты загнал их всех коммунизм.
Он взял чистую, накрахмаленную салфетку и вытер ею рот. Потрогал задумчиво скатерть, подержал хорошую, тяжелую вилку. Потом шепнул соседу, Гашульскому:
– Вас, Михаил Данилович, не поражает эта организация? Устроить в лесу барак, провести электричество, привезти все это… Откуда они достали? Триста, я думаю, приборов… Устроить походный в лесу обед… Это, Михаил Данилович, Наполеоновский гений… Помните наши времена?.. Митинги по двое суток и пустой чай из облепленной грязной железной кружки, что одолжит красногвардеец. Вот это организация. Что вы думаете?
– Я думаю, Николай Павлович, что нам придется покориться этой организации… Для блага России.
Бархатов долго, с недоумением смотрел на Гашульского. Потом прошептал сам себе, точно не поняв и желая усвоить, эти три слова, так странно и неожиданно звучащие среди них:
– Для блага России.
15
После обеда красноармейцы убрали столы и поставили скамьи рядами, как бы готовя барак для спектаклей или для лекции.
«Штаб-офицерский тип» попросил занять места.
Расселись по скамьям. Дело привычное… А дальше выбирать председателя, президиум, секретаря, писать бумажки, считать голоса… Выкликать кандидатов. А потом речи, споры в порядке дискуссии.
Однако вместо этого в барак вошел скромно, но чисто, по-заграничному, одетый человек. Он был высок и худощав. На голове мягкая шляпа бронзового плюша. Длинное узкое пальто. Очень бледное, с бледностью монаха, аскета, пожалуй – йога лицо. Светлые, цвета соломы, волосы, небольшие усы, бородка клинушком. Очки, смягчающие огонь глаз. Ведерникова шепнула Кузнецовой:
– Помните, в Александрийском театре так играли либеральных земцев…
– Скорей, дядя Ваня… – сказала Кузнецова.
– Нет, вы посмотрите. Глаза… В них сила. Это не дядя Ваня.
Академик Бранденбург поспешно и растерянно говорил на ухо Воровичу:
– Что же это, гражданин? Я его знаю… Он эмигрант… Он в двадцать втором году бежал от расстрела. Это московский профессор… Иван Александрович. – Бранденбург, нагнувшись к Воровичу, шепнул ему фамилию. – Я же его, как себя, знаю… Вы должны его арестовать. Эти годы он за границей… в Берлине… настойчиво работал против советской власти… Как он сюда попал?.. Эмигрант…
Между тем тот, в ком академик Бранденбург признал профессора Ивана Александровича, стоял, ожидая, когда смолкнет гул толпы.
– Господа!
Опять прозвучало это забытое слово. Оно заставило подтянуться. Старый Мушкетов взглянул на свои рваные сапоги, из дыр которых торчала газетная бумага, и грустно улыбнулся.
«“Господа”, – подумал он. – Этому слову века… Слову “товарищи” немного больше десяти лет. А как одно вытравило другое».
– Господа! Сейчас вы получите приказание от русской Национальной власти. Приказание – не разъяснение. Тот, кто приказывает, не всегда имеет возможность, да и надобность… но всегда может и хочет разъяснять цель приказания… У нас есть несколько минут до этого приказа. Я вижу недоумение на ваших лицах… Даже страх… Схватили… Привезли в глухой лес… Зачем?.. Почему?.. Что ожидает?.. Господа! Пробил час спасения нашей Родины России. Ей понадобятся все ее верные сыны, где бы они ни были и под каким бы бременем они ни изнывали. Все, кто огнем своей любви скажут: «я Русский»… Всем будет место и дело в ее обновленной жизни. Она всех спаяет новым примирением и новым братством…
Слова били, как молот по раскаленному железу. После заезженных, избитых фраз коммунистических речей, эти слова казались необычайными и странными. Люди прислушивались… Точно на каком-то новом языке звучали эти слова. Странно было сознавать, что эти слова произносятся на чистом русском языке, на таком, какого давно не слыхали в Советском Союзе.
Иван Александрович продолжал:
– Прежде всего Россия нуждается в религиозной и патриотической, национальной и государственной идее… Мы должны увидеть и д е а л ь н у ю Россию, нашу Родину, в ее возможном и грядущем с о в е р ш е н с т в е. Увидеть священною мечтою нашего сердца и огнем нашей живой воли. И увидев ее так, и увидев ее такою, создать те силы, которые осуществят ее, – Россию природных и национальных дарований. Россию великих залогов и заветов… Россию святителей, гениев и поэтов… Россию перед лицом Божим…
Он сделал паузу. Ведерникова одними губами беззвучно повторила его слова, точно запоминая их навсегда.
– Суворов говорил, – продолжал Иван Александрович: «Избери себе образец между героев истории. Стремись за ним. Догони его… Обгони, если можешь – и будешь совершен». Слава Богу, наше великое прошлое дает нам образцы в каждом роде деятельности. Есть кого догонять. Каждому русскому, кто бы он ни был, необходима эта священная идея его Родины как руководящая цель, как земной источник его мировоззрения, как предмет, о котором он молится всегда и прежде всего и за который он способен умереть.
«…Молится… Россия… Родина… священная идея… святители».
Слова достигали до ушей, уши боялись их принимать. Они отвыкли от них. Слова были страшны для советского слуха. За ними и за них – стенка… расстрел.
– Эта священная идея Родины указывает нам цель всей нашей борьбы и всего нашего служения. И не только на ближайшие сроки, а на целые века вперед. Она охватывает все силы России и все ее достижения: от веры до быта… от песни до труда… от духа до природы… от языка до территории… от подвига до учреждений… В этой идее мы видим все русское сбереженным и взлелеянным, обогащенным и расцветшим… И тысячами голосов самобытно хвалящим Творца.
Бархатов невольно оглянулся. Что же это такое? Кто слушает эти слова? Начальник ГПУ?.. Милиция?.. Он, председатель Ленинградского Губернского Комитета Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов, Председатель самого Губисполкома. Кругом красные академики, красные профессора, красные торговцы, красная пресса, красный театр. Все коммунисты, атеисты, все верные слуги Третьего Интернационала. Их триста – перед ними один. Безоружный… Что же случилось с нами?.. Где же наша стальная пролетарская воля к победе?.. Ужели мы так устали?
В притихшем сарае, взволнованно слушавшем профессора, грозным призывом звучал его голос. Извне было слышно, как нарастала в лесу буря. Должно быть, налетела с залива мартовская снежная вьюга. Гул леса отвечал словами говорившего. Самая речь соответствовала месту. Отсюда везли камень «Гром» под статую Великого Петра… Здесь раздастся вновь пламенный гром призыва к служению Родине. Отсюда повезут новый камень веры под здание восстановленной России.
Среди всех этих людей, что забыли даже самое имя Бога, служа уже давно Сатане, звучали смелые слова о Боге. И, казалось, Сатана устрашился, спрятался и исчез из сердец этих людей. Никто не осмелился прервать говорившего. Не раздалось привычных митинговых выкриков: «Ложь!», «Буржуазное лакейство!» «Долой религиозный опиум!» «Да здравствуют Марксизм и Ленинизм!»
Люди молчали… Всем своим существом они ощутили и поняли, что это не большевистский митинг, не болтовня, но большое, ответственное дело, к которому сейчас придется приступить. Профессор продолжал, и голос его все крепчал, побеждая гул и вой доходившей снаружи снежной вьюги.
– Это есть идея великодержавной России, воздвигнутой на основах подлинно христианской, волевой и б л а г о р о д н о й государственности.
Он подчеркнул слово: – «благородной», и все почувствовали: не красной – х а м с к о й.
– Это есть идея: Богу служащей и потому священной Родины.
Владыка широко перекрестился. Сидевший рядом с ним услышал, как владыка прошептал:
– Святые, забытые слова.
Профессор продолжал:
– В этой идее, христианской и милосердной и в то же время государственной и грозной, высказаны наша цель, наше будущее, наше величие. Она отвергает раба и хама и утверждает брата и рыцаря. Она учит чтить божественное в человеке и потому требует для него духовного воспитания. Она дает человеку свободу для духа, для любви и для творчества, но не дает ему свободы для лжи, для ненависти и для злодейства. Она учит принимать право, закон и дисциплину доброю волею и требует, чтобы мы заслужили себе свободу духовным самообладанием. Она зовет к братству, но выражает братство не в равенстве, а в справедливости и в справедливом ранге. Она зовет к творческому труду, ограждая собственность, но самую собственность освещает как ответственную обязанность и как призыв к щедрости. Она утверждает брак как таинство и семью как школу любви, верности и повиновения. Она учит строить государство не на выгоде и произволении, а на уважении и доверии; не на честолюбии и заговоре, а на дисциплине и преданности Вождю за совесть. И потому она зовет нас воспитывать в себе м о н а р х и ч е с к и е устои правосознания…
16
Когда профессор кончил речь и, поклонившись собранию, вышел из барака, в бараке настала жуткая, напряженная тишина. Дверь с минуту оставалась открытой. В морозной ночи видны были костры военного бивака на поляне. Все было бело кругом и ветер гнул сосны в лесу. Как под белой тюлевой занавесью в снегах была деревня.
Академик Карпинский подошел к Бархатову.
– Слышали?.. А?.. Какое знание психологии толпы! Как жаль, что академик Бехтерев скончался. Ведь все по Ардан-дю-Пику построено и слажено. Согнали, оглушили неожиданностью, поразили организацией полевого обеда, электричества, всего устройства… А вы поглядели бы сзади… Места устроены… надписи: «для дам», «для мужчин»… Какова предупредительность!.. В глаза бьет после наших-то массовок, где люди, как скот, толкутся. Покоряет… И вот этой-то покорной толпе, готовой воспринять какую угодно идею, в блестящей лекции преподносится идея – монархическая… И заметьте: ни слова о прошлом, никакой критики советского строя…
– Если не считать намек на «хамов».
– Это уж к слову пришлось. Уж очень это слово к нам прилипло. Ведь после этого, умело появись вождь, и будут готовы служить… безоговорочно…
Он хотел продолжать, но остановился, прислушиваясь. В звуки бури влилась томящая, зовущая, родная мелодия. Малиновым «Валдайским» звоном звенели, приближаясь, троечные звонки. У дверей, наружи, раздалась команда равняемого караула.
«Да, – подумал Бархатов, – именно так должен появиться вождь. Не в рычании и гудках капиталистически-демократического автомобиля, последнего слова рабочей индустрии, а в заливистом звоне русской тройки, этого Гоголевского образа крестьянской, земледельческой России. Как все это “у них” продумано!»
В отверстие дверей стала видна серая, занесенная снегом тройка. Из саней вышел человек. Раздался ответ на его приветствия караулу.
«Однако как рубят, по-старому, по-русскому», – подумал Бархатов и стал смотреть на входившего.
«Так вот он какой – Белая Свитка!»
Вошедший был высокого роста, в белой шубе, стянутой тонким ремнем. По воротнику и борту шуба была обшита соболем. На голове была серая папаха. Снег с него наскоро смахнули в дверях и он весь еще сверкал множеством мелких капелек, горевших алмазами. Казалось – радужное сияние шло от него. Разрумянившееся на морозе и ветру лицо горело.
– Какой он восхитный, – прошептала сзади Бархатова балерина Глюком. Она не говорила «отвратительный», но по-модному «отвратный», а вместо «восхитительный» сама придумала «восхитный». Она считала, что это умно и оригинально.
Бархатов задумался… Молнией пронеслись в его голове мысли. Быстрой кинематографической лентой развернулись образы виденных им за все эти годы последних народных кумиров.
Он вспомнил грязного Ленина, с небритой щетиной бороды и с вислыми монгольскими усами, дышащего смрадною вонью давно немытого и страдающего несварением желудка человека, – такого, каким появился он на площади у Финляндского вокзала, еще при Керенском, несомый на плечах рабочими. Грязновато одетый, в ватном пальто, в шарфе, с большими калошами на грязных ногах. Засунув кепку в карман… Да, его назвать «восхитительным» было трудно… Мразь… Слизь из отхожего места…
Он вспомнил Троцкого – в английском помятом френче и галифе, с обмотками на кривых жидовских ногах, с типичным горбоносым лицом, в пенсне… Непрезентабелен был и этот. Сходил своим криком за начальника. Гипнотизировал толпу злобною силою. Встало в его памяти и хорошо знакомое лицо Зиновьева, лохматого, ожиревшего актера из плохого местечкового театра.
То были вожаки… Вожаки шаек, способных громить и разрушать.
Сейчас перед ним стоял вождь… Своею чистою, опрятною, красивою одеждой, своею смелою поступью, осанкой он уже поразил толпу, а поразив ее, он ее победил заранее.
Вот он какой – «Белая Свитка», – призрак, висевший около года над всем Советским Союзом и воплотившийся теперь перед их собранием. Брат Русской Правды, вождь и быть может наместник еще иного, Верховного Вождя.
В этот миг Бархатов с необычайной ясностью почувствовал, что сопротивление бесполезно. Он осмотрел столпившихся вокруг него правителей Ленинграда и понял: сопротивляться не будут. Исполнят все, что будет приказано.
Белая Свитка снял папаху и подошел к владыке под благословение.
Потом отошел, стал перед серединой толпы, окинул ее смелым взглядом блестящих глаз, – на ресницах сверкали растаявшие снежинки, – и… приказал.
– Господа! Приказываю вам… как только вас отвезут в Санкт-Петербург…
Он назвал город точно, его старым, полным именем, четко выговаривая его. Каждым слогом, как гвоздем, он будто вколачивал в сердца слушателей большие, медные, Петровского стиля буквы этого священного имени. «Санкт-Петербург»… В этом коротком и тяжко упавшем в тишину слове, казалось, звучало: был и будет… Другому имени не быть… Санкт-Петербург – город Святого Петра. Камень Российской Империи.
– Приступить с полным усердием к исполнению ваших обязанностей… Нарушать устоявшегося быта я не буду. Я буду его выправлять по той линии, которая вам была только что перед моим прибытием указана. Каждый из вас останется на своем месте до тех пор, пока не будет признано, что он не может… не хочет… не умеет… понять требования Русской Национальной власти… Вам помогут… Вас, где надо, научат… В частности вас поддержит эмиграция, которая явится сюда не для того, чтобы вас гнать или вами командовать, но для того, чтобы вернуть вам русские навыки, вытравленные из вас годами владычества чуждой России власти…
Он сделал паузу. Он казался огромным великаном перед толпою маленьких ничтожных людей… Господином среди рабов.
– Надо остановить разрушения… Приступить к созиданию. Надо уничтожить то, что разрушало, разъедало, растлевало Россию.
Он отыскал в толпе Бархатова и направил на него волевой луч своих ясных глаз.
– Вы снимете позорные памятники преступникам и безумцам… Восстановите старые монументы великому прошлому России и его творцам со всеми старыми надписями.
Он перевел глаза на Воровича. Было ясно, что он знал, кто чем заведует.
– Вы вернете исторические имена улицам и площадям. Разнузданную молодежь приведете к повиновению родителям и вере в Бога. Родителей заставите признавать своих детей и воспитывать их.
Он посмотрел на митрополита.
– На вас, владыко, мое упование. Вы восстановите монастыри, и они станут школами воспитания христианского духа, местами изгнания бесов из ими одержимых. Вы дадите пастырей добрых в школы всех ступеней, во все воинские части, учреждения, приюты, тюрьмы и больницы, во все приходы. Вы восстановите везде проповедь и Богослужение во всем его благолепии. Возрастите мне виноград добрый в державе Российской. – Он отыскал глазами группу академиков и профессоров. – Вы, господа академики и профессора, выметете мне сор из легкомысленно, в угоду толпе, испорченного русского языка. Восстановите мне грамоту и слог Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова и Толстого. Изгоните нечленораздельные звуки советского телеграфного кода из речи, печати и стихов, не допустите впредь в печать ничего, что оскверняет и засоряет живой русский язык. Довольно покровительства пролетарской мерзости! Установите цензуру нравственной чистоты и художественной красоты. Надеюсь, господа, вы меня поняли? Потрудитесь же точно исполнить все мои приказания. Коммунизм умер – Россия жива. И будет жить, и шириться, и расти тысячи лет. Да поможет вам Бог!
Белая Свитка чуть поклонился, надел папаху и вышел в двери, где в снежных вихрях нетерпеливо била копытами ожидавшая его тройка.
Брякнул колокол под дугой, пристали к нему маленькие колокольчики, зазвенели бубенцы на ожерелках у пристяжных, и все покрыл вой бури. Лихая тройка умчалась в мутную, снежную, лесную даль.
Собранные в бараке люди пребывали в молчании. Боялись говорить… А вдруг обман?.. Провокация… Душа звала кинуться друг другу в объятия, обниматься, целоваться, как на Пасху, запеть «Христос воскрес».
Они боялись и не смели.
Кто он? Белая Свитка… Братство Русской Правды… Да есть ли все это на деле? Реально ли это? Быть может, все это дым? Новый, хитро задуманный искус Чрезвычайной комиссии?.. А потом тех, кто обнимался, радовался и приветствовал, кто посмел дать зажечься в своих глазах огню радости, потянут в суд, в тюрьму, в ссылку, к стенке на расстрел.
Стояли безмолвные… Но в головах, помимо воли, уже роились мысли, как надо перестроить все на новый лад, о котором здесь говорилось.
«Надо будет “Жизнь за Царя” ставить, возобновлять “Старый закал” и “Смерть Иоанна Грозного”… Интересно, целы ли декорации… Костюмы…» – думал Царьков.
«Милиции, пожалуй, придется на шапки кресты восьмиконечные нацепить… Оранжевые жгуты на шинели нашить… Город убрать трехцветными русскими флагами… – мелькало в голове Гашульского. – С памятниками-то просто будет… К чертовой матери в одну минуту… Любителями справимся, всякий поможет… А вот с беспризорными беда… Наваландаешься с ними. Поди-ка, найди их родителей в нашем собачьем браке…»
Люди молчали, прислушиваясь к гулу бури в лесу, к вою грозно разыгравшейся вьюги.
В мертвой тишине умер коммунизм в Санкт-Петербурге. В тяжелых, мучительных думах рождалась в нем – Россия.
17
В лесу вьюга была не так заметна. Внизу снег падал большими, красивыми звездами, вверху глухо шумел лес вершинами сосен. Тройка шла, мерно побрякивая колокольцами, узким проселком. Проселок вился между деревьев. Сосны становились реже, выше, стволы были толще. Все чуть намечалось сквозь белую кисею густо падавшего снега.
– Не ошибешься, Рожнов? – спросил адъютант Белой Свитки, молодцеватый юноша, в такой же, как у его начальника, белой шубе, отороченной соболем.
– Помилуйте, Павел Николаевич. Тридцать годов лесником у графа Шувалова состоял. Да я здесь каждую былинку знаю.
– Былинок-то не видать… Ишь, как замело, – проворчал адъютант.
– Мне каждая сосна, что брат родной, – в тон ему ворчал ямщик. – Да вот и Каменка. Вон огни видать.
Однако ни Белая Свитка, ни его адъютант не видели ничего. Кругом был хаос. Верно, такой хаос был в первые дни мироздания. Снег… Снег… Бело под ногами, где точно лодка по воде шуршат полозьями и отводами сани. Бело кругом и бело в небе. Навалило белым пуховиком на голубую полость. Впереди ямщик – что снежный богатырь. Фыркают пристяжки, по брюхо увязая в снегу. Гул леса подобен гулу моря, а внизу тихо, безжизненно и мертво.
– Самая настоящая погода, – сказал ямщик.
Белая Свитка вздрогнул и поднял опущенную на грудь голову.
Впереди сразу возник овраг в красном зареве многих костров. Шатры и шалаши в снеговых покровах. Лошади, сани, люди. Тонкая, высокая мачта искрового телеграфа.
Сани съехали в овраг и остановились. Между костров выстраивалась шеренга людей, засыпанных снегом. Раздалась команда:
– Господа офицеры!
Белая Свитка пошел к радиостанции. От нее отделился человек в шинели и фуражке, укрученный башлыком.
– Что в Петербурге? – спросил Белая Свитка.
– Тишина полная. Почти все милицейские посты сняты. Трамваи из-за вьюги не ходят. В театрах съехалось мало народа. Жители сидят по домам. На «Красном электрике» все готово остановить подачу света. На телефоне и телеграфе – наши.
– А Москва?
– Второй час не отвечает.
– Как только получите ответ из Москвы, скажите.
– Слушаю, господин атаман.
Белая Свитка подошел к шеренге начальников.
Всеволод Матвеевич Ядринцев, весь в снегу, точно рождественский дед, отделился от правого фланга. На запорошенной снегом папахе блистал в отсвете костров металлический крест, заменивший пятиконечную звезду.
– Господин атаман, – рапортовал он, – общий резерв: 17-я, 18-я, 19-я и 20-я пешие дружины с батареей и 9-я конная дружина с двумя конно-горными орудиями, четыре тысячи штыков, тысяча сабель и шесть орудий сосредоточены в лесу за Сосновкой, за Ананьевской улицей…
– Хорошо, – сказал Белая Свитка.
Ядринцев повернулся направо и его место занял тот красивый, высокий, белокурый человек, что когда-то, в день гибели Светланы, был у Владека Подбельского. Он был в шинели, осыпанной снежными хлопьями, в папахе с крестом и при оружии.
– Ротмистр Игорь Кусков, – рапортовал он, – начальник 6-й конной дружины, тысяча сабель… Дружина расквартирована в деревне Ручьи.
– Прекрасно-с – сказал Белая Свитка.
Игоря Кускова, отошедшего к Ядринцеву, сменил среднего роста коренастый человек, с открытым красивым лицом.
– Капитан Николай Полежаев, – рапортовал он, – с 7-й пешей и 5-й конными дружинами. Отряд сосредоточен в лесу за больницею имени Мечникова.
– Отлично… Ваша супруга Татьяна Александровна где сейчас?
– Осталась в Париже.
– У вас есть дети?
– Так точно, двое… Сын Александр и дочь Вера…
– Даст Бог, скоро свидитесь… Следующий!
Длинный, костлявый, солдатского вида человек вытянулся с рапортом:
– Унтер-офицер Железкин с 1-й пешей дружиной.
Один за одним проходили перед атаманом его прежние лесные сподвижники, партизаны. Они оставили теперь свои прозвища – Лебедя, Стрепета, Кречета и шли под старыми «царскими» именами и чинами. Тут были и те, кто пришел сюда после долгих скитаний за границей, и те, кто все эти годы жил в сатанинском союзе и грешил с коммунистами, ожидая великого дня расплаты. Сыновья загубленных, замученных большевиками офицеров Императорской и Добровольческой армии шли на смену своим отцам.
Полежаев, Осетров, Железкин, братья Кусковы – все те, кто вчера был извозчиком, шофером, дворником, милицейским, красноармейцем, чекистом, фонарщиком, рабочим, стрелочником, вагоновожатым трамвая, безработным, – стали к своим начальникам и заняли места по диспозиции, указанной Белой Свиткой, а их начальники явились в глухой лес за Коломяги у Черной Каменки доложить своему атаману, что все готово.
Последним стал перед атаманом длинный и тонкий Олег Кусков. Его и годы не брали. Ему было уже под тридцать, а он все казался юношей лет восемнадцати, все таким же, каким был, когда умирал в Берлине его отец – не от мира сего. Он доложил, что его пешая дружина сосредоточена на Канонерском острову.
– Все на лыжах?
– Так точно, господин атаман.
– Реку смотрели?
– Так точно… Пройдем везде. Полыни ни одной не заметно.
– Так вот, господа… – начал медленно Белая Свитка. Казалось, он как будто еще чего-то или кого-то ожидал и на миг смолк в такой несвойственной ему нерешительности. Он посмотрел на небо. Все было черно. Вьюга не унималась. Лес шумел. «Самая настоящая погода, – подумал Белая Свитка. – Прав был Рожнов». – Когда прикажу действовать… запомните – отряд ротмистра Кускова Игоря: выдвинуться на Выборгскую сторону. На западе ваша граница Самсониевский проспект включительно… На востоке – Безбородкинский, на юге – Большая Нева исключительно… Наблюдение и пресечение беспорядков патрулями и разъездами. Занять Михайловское артиллерийское училище, Военно-фельдшерскую и Пиротехническую школы и тюрьму… Отряд капитана Полежаева… – Белая Свитка без плана, на память, указал его границы и задачу.
Он диктовал дальше, отлично, видимо, зная Петербург. Банки, Монетный двор, Арсенал, Пороховой завод. Патронный завод, Литейный гильзовый отдел, почта и телеграф, телефонная станция, гараж Михайловского манежа, казармы, электрическая станция, городская скотобойня, рынки, пекарня – все в каждом районе получало свою охрану, свою власть и наблюдение.
– Отряд Олега Кускова – на лыжах, Невою до Адмиралтейства. Там оставить лыжи и Александровским садом на Гороховую… Ваша задача вами усвоена?
– Так точно, господин атаман… Покорнейше благодарю, что вы именно на меня возложили святую месть за моего несчастного отца и замученную большевиками мать.
Белая Свитка внимательно посмотрел в глаза Олегу, потом обратился ко всем:
– Господа! Списки палачей русского народа вам известны… Я отлично понимаю те чувства, которые владеют многими из вас… Но я напоминаю вам слова Второзакония… Слова Господни: «У Меня отмщение и воздаяния, когда поколеблется нога их; ибо близок день гибели их, скоро наступит уготованное для них… Но Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне…»[29]
Час гнева Божия, час мести Господней настал! Вам предстоит неминуемо кровь… Не отягчите же себя излишнею кровью тех, чья рука ослабела и кто просит пощады…
Молчание было в глубоком овраге. Только глухо шумела вверху вьюга над вершинами сосен.
– Когда прикажете начинать, господин атаман? – спросил генерал Ядринцев.
Белая Свитка не ответил ничего. Он смотрел в сторону радиостанции.
Ядринцев в ожидании стоял подле. Буря пролетала высоко вверху и в овраге казалось тихо. Трещали дрова в кострах, фыркали лошади да слабо побрякивал колокол на дуге у атаманской тройки, когда коренник переступал ногами.
18
От занесенной снегом палатки радиостанции отделился офицер. Он спешил к Белой Свитке, увязая по колени в снегу и спотыкаясь. Вытянувшись перед атаманом, он подал ему листок бумаги.
– Сейчас передали из Москвы… – задыхаясь, сказал он.
Адъютант Белой Свитки осветил листок ручным электрическим фонариком.
На желтой, мокрой бумаге, – снег все падал, – карандашом быстро и крупно было написано:
Двуглавый орел над царским Кремлем.
Фор-Эвер[30]Белая Свитка опустил руку с листком. На его красном от мороза лице сияли стальные глаза. Он молчал. Ядринцев повторил вопрос.
– Господин атаман, когда прикажете начинать?
Белая Свитка посмотрел на Ядринцева.
Никогда таким не видал еще атамана старый генерал. В его глазах сияли восторг и воля. Казалось, из них лучилась безмолвная молитва к Господу Сил, к Великому Богу Милосердия и Справедливости. Лицо атамана было сурово решимостью и волей и вместе нежно от озарявшего его изнутри, исполненного любви света.
– Итак, господа! – громко сказал Белая Свитка. – То, чего я ждал, пришло. Вот что мне передали из Москвы: «Двуглавый орел над царским Кремлем». Господа! По местам! С е г о д н я н о ч ь ю!
Апрель 1927 – январь 1928 Дер. Сантени, ФранцияРассказы
СТЕПЬ
Посвящается
Иосифу Всеволодовичу Кульгавову
Степь… Какое короткое слово, а какое широкое понятие изображает! Она раскинулась, плоская и далекая, на многие версты ровная, без балок и возвышений, без кустарника и леса. Синее небо и черно-коричневая земля – куда ни глянь. Торчат там и там сухие колючки, да широкая степная дорога глянцевыми колеями вьется и крутится по степи, без столбов и телеграфа.
Всюду равнина, всюду и везде все одинаково. Синее небо бледнеет к краям горизонта, розовеет, буреет и незаметно сливается с землею, без резкой полосы. Утопает в прозрачной дымке затуманившейся дали.
Блеснула полоска льду. На нее набегают мутно-желтые волны какого-то озерка, речка в глубоком овраге, незамерзшая, но и тихая, покойно течет откуда-то и вливается в озеро. Показались корявые ветлы, обступили дорогу и вошли на грязную плотину, сложенную из земли и навоза. Мостик с грубыми и прочными перилами. Вправо сонная степная речушка, влево озерко.
Насыщенный озоном, пахнущий девственной землею и сухими травами воздух степи, холодный и свежий, обжигающий лицо, стал будто теплее. Пахнуло кизечным едким дымком, навозом, жильем. Тишина степи, нарушавшаяся только коротким щебетанием серых хохлатых жаворонков, наполнилась гоготанием гусей и криками кур и петухов. Кудлатая, с острою мордою, похожая на волка, собака с лаем набросилась на лошадей и проводила коляску через греблю. В порыве собачьего усердия она обрывалась в грязи, чуть не упала в воду и снова неслась, звонко и весело лая. Здесь так редки посетители! Так редко можно вдоволь насладиться и лаем и скачкой за тройкой добрых лошадей!!
За плотиной тополя. Они росли прямоугольником вдоль жердевой ограды и скрывали белый низенький домик, стоявший в глубине сада, и ряды корявых и кривых яблонь, посаженных в стройном порядке за тыном.
Левее сада просторный двор, образованный длинными глинобитными коричневыми сараями, крытыми где соломою, где железом, службы, навес, под которым выстроились в дружном порядке коляски, телеги, плуги, сеялки, сенокосилки и веялки, за двором, на грязной земле, истоптанной копытами, вязкой и черной, неподвижные, как изваяния, стоят большие краснорыжие быки, обросшие длинною зимнею шерстью.
Это зимовник Тополькова, Семена Данилыча. Проезжайте верст двадцать на север по пустынной степи и вы увидите такие же ветлы, и греблю из соломы и грязи, и тополя вокруг сада, так же вдруг пахнет соломенным дымком, загогочут белые гуси, и мохнатая собака проводит с лаем ваш экипаж, и такие же красные волы, как изваяния, дремлют подле двора в черной и липкой густо натоптанной ногами грязи. Это будет тоже зимовник Тополькова, но уже Ивана Даниловича.
Проезжайте двадцать верст к югу и опять та же картина. Только дом побольше, крыльцо со стеклянным балконом, службы просторнее и тополя гуще и выше – это зимовник Полякова Петра Ивановича, а потом и еще в двадцати верстах зимовник и опять Полякова, но уже Николая Ивановича… и так вся степь, такая пустынная, безотрадно глухая и скучная зимою, степь словно море, но море тихое и темное, покрыта маленькими гнездами-зимовниками коннозаводчиков-помещиков.
Ранее погожее утро. Еще и зимы не было и снега не видали, а уже на весну потянуло и в солнечном пригреве как стальные заблестели колеи широко наезженной дороги. Приподнялся было в воздух жаворонок, начал петь любовную песню, да, видно, холодно стало в голубой небесной выси, быстро опустился к серой птичьей стайке хохлаток и побежал с ними вдоль дороги… А потом все вспорхнули, как по команде, и полетели, весело перекликаясь, прямо на север…
На мосту стоит высокий и худой старик с темным обветренным степною непогодою лицом, с седыми густыми усами. Это Топольков Семен Данилыч, хозяин зимовника. Он в черной бараньей шапке с алым когда-то, утратившим теперь цвет, верхом и черной бараньей шубе с высоким воротником, откинутым на плечи. На нем смазные мужицкие сапоги, а в руках у него тяжелая палка. Серые глаза из-под густых нависших седых бровей пытливо смотрят в степную даль. Топольков ждет пригона лошадей на водопой из степи.
Вот на горизонте показалась густая колонна. Она вытянулась, развернулась – точно полк кавалерии учился в степи, замаячили конные фигуры калмыков-табунщиков, и быстро надвинулся большой, еще смешанный по-зимнему табун и обступил озеро рыжею массою лошадиных тел, обросших густою и длинною шерстью.
Ожила степь с приходом своих хозяев. Раздалось фырканье, гоготанье жеребцов, ласковые вздохи кобыл, завизжали жеребята, норовя поиграть и ударить друг друга копытом.
К Тополькову подошел его управляющий, такой же высокий, в такой же шапке и шубе, в таких же сапогах с ремешком под коленом; у него лицо без усов и бороды, широкое и красное с узкими косыми глазами, выдающими его монгольское происхождение.
– Истинно лошадиное царство, Семен Данилович, – проговорил он, здороваясь с хозяином.
– Да, с незапамятных времен лошадь здесь водится, – сказал Топольков. – Я сороковой год живу, да до меня на зимовнике сидел Затураев, а до него князь Трубецкой, а там шли зимовники Великого Князя, а до них были графские…
– А еще раньше наши татарские, да сказывают, Семен Данилович, лет двести, а то и триста тому назад здесь дикая лошадь, неприрученная, водилась.
– Эка сказал тоже, – возразил Семен Данилович, – триста лет! Да мой отец сказывал, что в его времена приходили дикие жеребцы в табуны и отбивали кобыл… Это как железная дорога прошла, да коннозаводчиков много понасело, да пахать машинами стали, да баран и бык пошли – ну вот лошадь-то и посократилась. Не стало ей, значит, свободы и приволья…
Управляющий промолчал. За тридцать лет службы у Тополькова и жизни с ним бок о бок он привык думать с ним одними мыслями и соглашаться с ним во всем. Да и степь не приучает к болтливости. Сама молчаливая она и людей делает молчаливыми. Промолчать часа три, сидя рядом на крылечке, для Тополькова и его управляющего Ахмета Ивановича Курманаева было делом обыкновенным.
Лошадь молчит, да мысли свои соседке передает, так и Топольков с Курманаевым умели как-то обмениваться мыслями молча, по-лошадиному.
И только, когда начинали они говорить о достоинствах одной лошади перед другой, или вспоминали успехи на выставках, или при сдаче ремонта в кавалерию, они оживлялись и речь лилась, переходя даже в спор, иногда часами. Загорались тогда острым огнем глаза Семена Данилыча, и беспокойные огоньки метались в узких раскосых глазках Ахмета Ивановича.
В лошадях была вся их долгая жизнь, в них были их мысли, их думы, они были продуктом их сознательного творчества!
– А смотри, Ахмет Иваныч, Комиковичи-то и посейчас все вместе держатся. Не смешиваются с другими. Точно чуют, что братья и сестры, хотя и разных матерей, – сказал Семен Данилович.
– Да, и кто бы мог подумать, что от Комика дети такие ладные пойдут. Помнишь, Семен Данилович, как привели его со скачек. Да худой же был, жилы опухшие, да вялый!
– Устанешь, дорогой мой. По два раза в неделю на скачку пускали. Хозяин хотел выжать из него более, чем можно.
– Азарт, Семен Данилыч.
– И то – страсть! Ну, да за то и дешево он нам достался.
– А что, Семен Данилыч, знакомый твой командир полка не писал тебе, каково служат наши лошади на войне?
– Гм, – самодовольно улыбаясь, крякнул Топольков. – Как не писать! Я когда в Черкасском был, письмо получил, вот и забыл сказать. Память то у меня, Ахмет Иванович, прости, стариковская стала.
Писал… Все писал. Ведь к нему премированные попали. Помнишь – две от Калиостро, три конька и одна кобылка от Хваворита, четыре кобылки от Хомера, конек и две кобылки от Калихулы, еще от кого, не упомню, кобылка, светленькая… белогривка…
– От Абеяна, – подсказал Ахмет Иванович.
– Ну вот от Абеяна!.. Да нешто так? Да ведь от Абеяна-то конек был, нет не от Абеяна, а от Абрека, ну, помнишь, ее еще Купавой назвали, на «К» ремонт тогда шел.
– Ах, да красива была.
– Да, на редкость. Такая рубашка была, что думали в Ахтырский[31] попадет. Нет, попала со всеми, в драгуны.
– И вы их всех видали уже в полку?
– Да всех же! На втором году. Поверишь ли, Ахмет Иванович, еще больше вершка дали. Выше отцов стали.
– Что уход делает, – проговорил Ахмет Иванович.
– Да, гладкие да блестящие стали, какие лошади. «Коневатые» лошади.
– Ну а на войне как?
– Да, пишут, ни австриец, ни немец уйти от них не могут.
– Что значит в степной шири родились да выросли.
– И не поедят иной раз, да работают.
– Ну это-то – голодать им не привыкать стать. Помнишь, Семен Данилович, немец к нам приезжал, вот уж в каком году не упомню. Сказывали, самый дошлый их немец по коннозаводческой части, такой немец, что ну ты и только! Вот уж восхищался лошадьми. Ах как его! Граф Лен… Лем… Мен… Мендорф, что ли?
– Граф Лендорф, – напомнил Топольков. – А на выставке, Иваныч, в Москве! Что было на выставке, как вывели нашу ставку на паддок – двадцать кобылок ремонтного возраста и все, как одна, – рыжие, светлые, червонцами горят, шеи, головки, глаза, ни тебе проточины, ни отметины, сестры родные так одинаковы не будут. Тут англичане, американцы, немцы, французы как обступили, да говорят мне: «Да, что вы их из глины, что ли, по лекалу лепите, что они такие у вас одинаковые». А я, знаешь, и говорю – лепим, говорю, господа немцы, только не из глины, а из земли, из степной земли нашей, целины непаханной, да солнцем могучим приправляю, да ветром, хозяином степ и продуваю, да прокаливаю, чтобы крепче да суше были.
– Да, истинно так.
– Пошли потом в обмер. И подпругу тебе мерили, и охват под коленом – как одна!
– Да, что ж, Семен Данилович, ведь и правда – лепим по лекалу. Помнишь – лет двенадцать, а то может быть, и пятнадцать тому назад, вышел приказ, чтобы, значит, не менее трех вершков ремонт был, ну и дали. Дали и четыре и пять – сколько хочешь!
– А все, Ахмет Иванович, заметь, самая ладная лошадь, которая от двух до трех вершков, а что выше – непременно тебе с изьяном каким-нибудь будет лошадь. Уже что-нибудь в ней да не так будет.
– Тоже, Семен Данилыч, помнишь, как кровь потребовали. Ваша, мол, лошадь простая, грубая, подайте кровь, ну и подали…
– Да, Иваныч, не в одну копейку нам кровь-то эта стала! Господи, что кобыл перепортили!! То цыбастые, то тонконогие пошли жеребята, совсем в упадок духа впадать стали, пока направились. Медленное наше дело, Иваныч! Ошибешься часом – годами поправку делать приходится. Одни из наших погнались за аттестатом, да за резвостью. В Англии, мол, так делается – который, мол, жеребчик резвее всех на скачке, тот и производитель отличный, ну а степь-то по своему повернула. Резвость, мол, резвостью, а ты мне и фигуру дай.
– Понимали мы это дело, Семен Данилыч, да скупость мешала. Ведь за жеребца-то раньше мы четыреста да пятьсот рублей плачивали, а тут на те, выньте-ка шесть-семь тысячев, поневоле задумаешься.
– Ну и пораззорился тогда кое-кто.
Табун напился и, весело играя, пошел в степь. За ним замаячили калмыки в малахаях, прикрывавших их красные, обветренные на степном морозном ветру лица лоскутками бараньей кожи.
И снова степь стала черная, безлюдная, пустынная, без единого предмета, без единого живого существа на всем пространстве до самого горизонта…
2
Жизнь в степи, на зимовнике – особая жизнь. Только жизнь на корабле может сравниться с этой жизнью. Там бури, когда жестокие волны бьют со страшною силою в борты корабля, когда стонет дерево бортов, скрипят мачты и гудят ванты, когда жизнь человека в опасности и человек ближе к смерти и ближе к Богу. Там – человек за бортом – значит погиб, утонул, и море не выдаст костей его для погребения. И здесь – заревет зимою степной буран, начнет трясти дом, стучать железною крышею, гнуть тополя сада, рвать соломенные навесы. Собьется в тесную кучу весь табун лошадей, станет хвостами к ветру, а напротив на особых «укрючных» лошадях стоят верховые калмыки. Им ветер дует прямо в лицо. Дует часами, сутками… Обмерзают привычные щеки, и кожа и мясо лоскутками падают с них. А они стоят и не смеют сойти. Они знают, что если сойдут, то табун сорвется и понесется по ветру, гонимый ужасом, который охватывает иногда лошадей. Подавят, покалечат жеребят, запалятся лучшие кони. Бывало, что табун добегал в этом ужасе до Черного моря и с крутого обрыва падал вниз, разбивался и тонул весь до последнего. Если заблудит в эту снежную бурю в степи одинокий путник, или собьется с пути тройка, окажется, как в море за бортом, и погибнет, как гибнет лодка в море. Степь не выдаст костей их. Занесет снегом, весною волки да вороны растащут труп, если тело не откроют раньше в степи зоркие глаза калмыка.
В море корабль заходит в порты. Шумит веселая портовая жизнь, гремит музыка в приморских трактирах и притонах. День, два, иногда неделя проходит в шумных удовольствиях, пирушках и попойках, и снова корабль, переборки кают, тусклое окно иллюминатора и мерный бег корабля по однообразному морю. Опять узкие интересы корабельной жизни и сегодня те же лица, что были вчера, что будут завтра.
В степи тоже спокойная жизнь зимовников нарушается событиями. Приезжает ремонтная комиссия. Это все равно, что смотр адмирала на корабле. Все загодя чистится и скребется на зимовнике. Отбивают ремонт, ставят его на овес, оповаживают, оглаживают, чистят. Шумной компанией наезжают ремонтеры. Идет торжественная выводка красавцев жеребцов, потом выводка и осмотр молодежи, идущей в запасные полки. Отобранным лошадям ставят масляной краской номера на шерсти, их забирают и уводят на железную дорогу. А на зимовнике шумит веселый обед, подано вино, заколоты лучшие индюки, гуси и утки и идет разговор, все о том же: о лошадях.
И, когда кончат, – сядет комиссия в коляски, запряженные лихими тройками и четвериками, раздадутся последние пожелания счастливого пути и вот уже загремели колеса по мосту на гребле.
Улеглась черная пыль между ивами плотины, и опять тишина в усадьбе, прерываемая гоготанием гусей да клохтанием кур. И еще более одиноко станет на зимовнике. С ремонтными лошадьми уйдет частица души и сердца коннозаводчика. Он их задумал еще тогда, когда отбирал кобыл в косяк для жеребца, он видел их слабыми, маленькими сосунками при матерях в холодной весною степи, он следил за их ростом и регулировал его кормом. Он любил их, как художник любит свою картину и автор свое произведение, но он почти никогда не увидит их в полном расцвете сил и красоты, выкормленными и выхоленными военными лошадьми. Иногда дойдет до него слух, большею частью скажут ему при приезде следующей ремонтной комиссии: «А вы знаете, Семен Данилович, та буренькая-то, что в позапрошлом годе у вас взята, от Калиостро, под командиром полка ходит. Такая нарядная вышла лошадь!..»
Сердце Семена Даниловича и еще того более простое, но честолюбивое для «наших» лошадей, сердце Ахмета Ивановича наполнится каким-то родительским восторгом. «Буренькую» начинают вспоминать. «Да, она еще и жеребенком себя показывала. В два года была такая правильная, такая правильная – ну прямо статую с нее лепить можно».
– Да, – вздыхая скажет Семен Данилович, – дети Калиостро оправдали себя. Ведь вот поди ж ты и не чистокровный он, у графини Марии Евстафьевны Браницкой куплен, а дети его лучшие.
И пойдут вспоминать.
– Хоть бы портрет этой буренькой достать, – скажет Ахмет Иванович.
Ремонтеры пообещают добыть портрет, но потом за делами и разъездами позабудут обещание и образ «буренькой» исчезнет, как и воспоминание о многих сотнях лошадей, которые верою и правдою служат в Российской кавалерии.
Осенью на зимовнике много забот и хлопот, как на корабле в порту. Продают хлеб, быков, шерсть, баранов, ликвидируют урожай полей, приезжают маклера и скупщики, часто и сам хозяин ездит в станицу на элеватор и в банки получать, платить, выкупать, вкладывать, вынимать, и лишь глубокою осенью, когда степь развезет от дождей, затихнет зимовник и уснет до самой весны.
Иногда летом предпримет коннозаводчик поездку на скачку в поисках за чистокровными жеребцами. Кровь в табунах освежить и приподнять. Со «многими тысячами» в кармане, в старомодном, небрежно сшитом портным из станицы костюме, широкоплечий и рослый, кряжистый, с лицом обветренным и обожженным степным воздухом, появляется Семен Данилович в компании с другими хозяевами зимовников на паддоке столичных скачек. И все знают, что «коннозаводчики из степей приехали». Их как не узнать! Своей компанией судят и рядят они предлагаемых им скакунов и все говорят – «нам ты не одне секунды подай, а чтобы сам-то он из себя был “коневатый”, фигура чтобы в ем была видна».
Кряхтя и охая, платят они «многие тысячи» за жеребца и везут его к себе в степь, в особое помещение для очень дорогих производителей. В столице они не засиживаются. В театрах и кафе их почти не видно. Сделали кое-какие хозяйственные закупки, посмотрели, нет ли чего нового для имения, и по домам… Там ждет медленное кропотливое дело.
Лишь через три-четыре года, лишь при сдаче ремонта станет видно, оправдала себя покупка или нет. А если не оправдала, то кто виноват – жеребец ли или коннозаводчик, который не сумел подобрать кобыл. Нужны новые и новые опыты, иные скрещивания, а годы идут и идут и уходит жизнь.
Иногда, как буря, ломающая мачты и рвущая ванты корабля, налетят на зимовник несчастия. Повальный сап уничтожит табуны, целые десятки кобыл, от которых так много ждал коннозаводчик, дадут выкидыши, вместо визгливого ржания лошадиной молодежи в цветущей весною степи печальные и одинокие ходят кобылы… Там погорел хлеб на корню, побило градом весь урожай. Наступают черные дни. Из банков достаются сбереженья, накопленное годами уходит в один год. Не до покупки новых жеребцов, не до освежения кобыл чистокровными экземплярами и на целые годы из-за одной такой бури зимовник падает и теряет свою репутацию. Восстановить ее нужны годы кропотливой работы.
В маленькой, полутемной от занавесок и растений – фикусов, олеандров и араукарий, поставленных в кадках у окна, гостиной по стенам висят старые и новые фотографии. Иные давно выцвели, впали в печально рыжий тон и лишь контуры остались от некогда яркого изображения. Сняты лошади. Одни под седлами, на которых сидит офицер в белом кителе, или жокей, другие на выводке с калмыком, картинно расставившим руки, иных держит сам Семен Данилович, но Семен Данилович молодой, с черными усами и лихо надетой на черные кудри фуражке, иных держит Ахмет Иванович в парадном шелковом халате и маленькой шапочке черного шелка на голове.
Под фотографиями выцветшие, порыжелые от времени, каллиграфически выведенные подписи. Тут и Комик, и Калиостро, и Гомер, и Абрек – все нынешние жеребцы завода. С выцветшей фотографии под офицером в белом кепи смотрит на вас весь белый, маленький, большеглазый Малек-Адель, с датой 1879 года, есть и еще более старый портрет 1864 года, но он весь сгорел от времени и только хозяин знает, что это знаменитый Рустам, поколения которого на заводе не осталось, но сын которого ходил под Императором Александром II. Это гордость завода. О его виде, резвости и уме на заводе остались только легенды.
– Таких лошадей больше нет и не будет, – всегда говорит, рассказывая про него, Семен Данилович.
Тут же висят и снимки с косяков, некоторых любимых кобыл с сосунками и молодежи, получившей премии ремонтной комиссии или медали на выставках. Под их фотографиями в маленьких рамочках в плюшевом фоне вделаны и их медали.
В гостиной стоит софа с кавказскими вышивками, круглый стол со старомодной керосиновой лампой, другой стол с книгами и журналами и несколько кресел. Журналы специальные – «Журнал Коннозаводства и Коневодства», «Русский Спорт», «Сельскохозяйственный Вестник», аккуратно за многие годы получается «Нива» и «Русское Слово», пожелтевшие, покрытые пылью, положенные высокою стопкою. Читать и следить за жизнью и политикой некогда. То оторвет поездка в станицу за несколько дней, то работы в степи, то весь день прошел в табуне, а когда не читаешь газеты изо дня в день – она и не тянет. Да и почта приходит неправильно. Больше с «оказией». То неделю нет ничего, то сразу завалит газетами.
Живут слухами. Живут тем, что «говорят», и как ни нема и безлюдна на первый взгляд черная степь, в ней так много «говорят»…
3
Семен Данилович с Ахметом Ивановичем медленно прошли через грязный двор к высокой и светлой, недавно построенной конюшне для заводских жеребцов. Когда они открыли большие ворота, на них пахнуло теплом, запахом полыни и тем особым запахом степной травы, соломы, навоза и лошади, который только и бывает в степных конюшнях. Запахом приятным, свежим и бодрящим.
Со всех денников раздалось ржание. Первым отозвался старик Абрек, за ним Калиостро и Гомер, и пошло по всем восьми денникам радостное гоготание.
Красивые конские головы с большими темными, как сливы, блестящими глазами уставились в железные решетки денников, ожидая ласки человеческой руки и подачки.
К хозяевам со двора пришел старый калмык нарядчик.
– Ну, что же – Ашаки, выводку, – сказал Семен Данилович.
Это любимое развлечение Тополькова. Смотреть дорогих, выхоленных, раскормленных на овсе жеребцов, вспоминать их победы на скачках, любоваться их формами, еще и еще раз запечатлевать эти формы в своем мозгу, чтобы потом легче было весною под каждого подобрать соответствующих кобыл. Кричать властным голосом: «А ну проведи! поставь, возьми на длинный повод, не давай играть», бранить конюхов и хозяйским взглядом примечать каждую пылинку на шерсти, незамытое копыто, какую-нибудь царапину или помятость.
Там сотни лошадей ходили в степи, грязные с длинной шерстью, облипшей черноземом и глиною, тощие и худые, питаясь старою травой, которую копытом приходилось выбивать из-под ледяной коры, здесь эти восемь красавцев, отборных жеребцов, холились и береглись, как картинки.
– Нельзя выводку, – печально сказал калмык.
– Почему нельзя? – спросил Семен Данилович.
– Там, бачка, такое дело, такое дело! Лошадей и не чистили сегодня совсем, я напоил, корма задал, вот и все.
– Почему же не чистили? Что они, пьяны, что ли?
– Хуже чем пьяны. У нас, бачка, бунт будет.
– А вот оно что! Позови Парамоныча.
Давно ходили по степи слухи, что коннозаводчикам конец. «Довольно землей владели казачьей, наша теперь земля», – говорили казаки и крестьяне и жадно приглядывались к необьятному степному простору… Но это были давнишние разговоры. Коннозаводчики и военное министерство аккуратно платили войску арендную плату и «справедливое вознаграждение», приезжали и уезжали ремонтные комиссии, брали лошадей «на войну», и степь жила прежнею, медленною, размеренною жизнью. Мало ли что говорили, на все есть закон и право.
Парамоныч пришел не один. С ним была старуха Савельевна, экономка и домоправительница. Она плакала, и старик Парамоныч был не весел.
– Что случилось? Почему ребята не были на чистке? Где они? – спросил Семен Данилович.
– У себя в избе. Заперлись еще с вечера, не выходят. Не хотим, говорят, буржуям служить. Сами все возьмем.
– Ой, батюшки, – заголосила Савельевна, – да что замышляют-то! Бить, говорят, будем буржуев да коннозаводчиков. А мы, родный, как же будем-то! Нас-то ведь с цалмыками, почитай, сорок душ возле завода кормится, мы-то куда денемся. Старые мы люди, куда мы пойдем?
– Ну, успокойся, Савельевна, – сказал Семен Данилович, – все это вздор.
– Какой же это, батюшка, вздор, когда ко мне приходили… Три дня, говорят, тебе, старуха, сроку жить в твоей хате, а потом, чтоб и духу твоего здесь не было, комитет какой-то здесь станет, – голосила Савельевна.
– Комитет? Что за комитет, – спросил у Парамоныча Топольков.
– Да, видите, Семен Данилович, дела какие. Пришли вчера ночью с хутора двое. Казак да солдат и всех замутили. Вышел, мол, приказ делить землю и все от коннозаводчиков забирать. И лошадей, и скот, и овец – все поделить.
– У Полякова, бачка, – вмешался калмык, – вчера казаки лошадей разобрали.
– Каких лошадей, кто говорил?
– Калмык их нашему калмыку говорил. Большевики какие-то с фронта пришли, первое жеребцов забрали и ремонтную молодежь угнали, Поляков поехал в Черкасск жаловаться.
– Но по какому праву! – вырвалось у Тополькова.
– Права, Семен Данилович, они никакого не признают, – заговорил Парамоныч. – Довольно, говорят они нашим ребятам, буржуи кровушку нашу пили. Пошабашим с ними и все ихнее нам достанется.
– Что за слово такое – буржуи? Никогда у нас такого и слова в степи не было, – сказал Семен Данилович.
– Да и не было, истинная правда, батюшка, – воскликнула Савельевна. – Все это от него, от антихриста этого самого.
– Ну вот что. Неча пустое брехать, не собаки. Пойдем, Иванович, сдурел, видать, народ.
– Ох, не ходили бы, Семен Данилович, – посоветовал Парамоныч, – волками большевики смотрят.
Но Топольков пошел по натоптанной в грязи тропинке к большой избе, где помещались конюха, казаки и пленные австрийцы рабочие.
Когда он властным хозяйским движением распахнул дверь, австрийцы выскочили один за одним через заднюю комнату, трое наемных парней, живших с малых лет при экономии, встали и взявшись за шапки попятились к дверям, а на лавке за столом остались сидеть два молодых человека, незнакомых Тополькову. Они оба были в солдатских шинелях без погон и петлиц, смахивавших на арестантские халаты.
Один с круглым тупым лицом, с узким лбом, на который выпущена была длинная челка тщательно расчесанных и подвитых, как у девушки, волос сидел, опершись обоими локтями на стол и, положив голову на ладони, улыбаясь смотрел на Тополькова. Другой, такой же безусый и безбородый, с черными дугообразными бровями над длинным и тонким носом, как у хищной птицы, сидел, откинувшись спиною к стене хаты. Какая-то тупая мысль копошилась в его мозгу и отражалась на лице, носившем печать совсем не идущей к нему важности.
– Что вы за люди? – строго спросил Топольков. Сидевший, опершись на локти, поднял глаза на Тополькова, улыбнулся циничной улыбкой, скосил глаза на конюхов и сказал.
– Этот, что ль, и есть буржуй-то самый?
– Этот, – ответил Прошка Минаев, самый молодой из Топольковских людей, любимец Семена Даниловича, не раз ездивший с ним в Москву за жеребцами.
Наглый ответ взорвал Семена Даниловича и ободрил конюхов, которые придвинулись ближе к сидевшим, а Прошка, будто играя, взял лежавшее на лавке ружье с примкнутым штыком.
– Ну вот что, товарищ, – заговорил примирительно черный, с глазами хищной птицы и с таким же хохлом, пущенным на лоб, как у первого, но Топольков прервал его.
– Я вам не товарищ, – резко сказал Семен Данилович, – и я вас спрашиваю, на каком основании… – но сидевший за столом человек перебил его:
– И вы нам не начальник, чтобы кричать на нас. Потому как теперь все равны, всеобщая революция провозгласила равенство демократии всего мира и социалистические проблемы решены властью советов, выявленных народом, земля и капитал стали всеобщим достоянием, не вы правомочны спрашивать у нас, на каком основании, а это мы, трудовое казачество и крестьянство, явились спросить, и не спросить даже, а указать вам ваше место и отобрать от вас те земли, которыми вы не по праву владеете, и тот капитал, который вы нажили кровью крестьян и казаков. – Голос его звучал резко и звонко. Речь лилась длинными периодами, чаруя конюхов и вызывая какую-то мучительную сосущую боль в сердце Тополькова. Если бы перед ним остановился баран и, не давая ему дороги, стал бы упорно блеять ему в лицо, вероятно, так же заныло бы у него сердце от сознания невозможности и бесполезности возражений, диспута, от бессилия человеческой речи и человеческого разума перед этим упорным бараньим блеянием.
– Гы, – восторженно гмыкнул Прошка, – довольно кровушки нашей попили!
Топольков оглянулся. Он был один в комнате конюхов. Ахмет Иванович, Прохорыч, Савельевна как-то незаметно исчезли и на всем дворе, видном в открытую дверь, не было ни души. Мертвая тишина была на нем, в саду и у его дома. Даже гуси притихли и курица перестала кудахтать.
Это безлюдье и тишина на дворе ударили в самое сердце Семена Даниловича. Он понял, что он один здесь… Один, культурный работник, сорок лет просидевший на зимовнике, отказавшийся от семейных радостей, от светлой и веселой жизни городов, от театров, от почестей и мишуры государственной службы и отдавший себя всего этой великой, таинственной степи, рождающей лошадей и скот и теперь молчаливо предающей его этим новым людям, пришедшим разрушить все то, что лепилось камень за камнем десятками лет труда, мышления, бессонных ночей и кропотливого изучения тайн природы.
– Это земля не моя, а войсковая, и лошади на ней – достояние государства, – сдерживая себя и стараясь быть спокойным, сказал он.
– Товарищ, – сказал ему опять сидевший за столом. – Когда сознательный пролетариат сбросил с себя цепи капиталистов и провозгласил всеобщий мир, он отказался от войска. Порабощенному военной службою казачеству, затянутому офицерами и дисциплиной, он противопоставил новое трудовое казачество, которое пошло рука об руку с крестьянами и рабочими, и теперь, когда уничтожена армия, опора капиталистов и буржуев, теперь не нужно ни самого войска с его землями, не нужно казачество и не нужно и самых ваших лошадей.
– Гы, – снова гмыкнул Прошка и, как попугай, повторил, – не нужно казачество, потому все равны, все товарищи. Довольно кровушки нашей попили!
Семен Данилович безнадежно махнул рукою и вышел из комнаты…
4
Вся степь загорелась мятежом, как пожаром. Тихая и безлюдная наружно, она пылала внутри, раздираемая страстями, жаждою грабежа и наживы, и никакие комитеты уже не могли остановить, утешить эту жажду, не дав ей утоления.
На сотнях подвод вдруг наезжали к зимовникам хуторяне и выбирали все, что можно – плуги и бороны, запасы овса и хлеба, увозили мебель из дома коннозаводчика, уводили лошадей, разгоняли табуны. Потом являлись комитетские, ездили по хуторам, отыскивали забранное и возвращали на зимовник. Но возвращалась только часть. Лучшие жеребцы, лучшая часть молодежи пропадали бесследно, исчезали из степи за сотни верст, и хозяйство зимовника падало. Жаловаться было некуда, Гражданская война разлилась по Дону и нигде не было авторитетного начальства, приказания которого всеми исполнялись бы.
Однажды в зимнюю туманную пору Ахмет Иванович, выйдя на крыльцо Топольковского дома, увидал своими зоркими степными глазами маленькую кучку людей, шедших прямо степью на зимовник. На белом снегу их темные фигуры резко выделялись пятнами. Они маячили, то сбиваясь в одну кучу, то расходясь по одиночке, и Ахмет Иваныч видел, что они шли налегке, без вещей, с одними ружьями, которые несли не по-солдатски, а неумело, как носят палку, или какой-либо дрючек. Они шли, размахивая руками, должно быть разговаривая и споря между собою. Уже стало видно, что их шестеро и что одеты они в солдатские шинели. Наконец стали слышны их громкие и грубые голоса. Говорили четверо, двое молчали, и издали их говор доносился, как непрерывное гоготанье «грр, грр, грр»…
Они скрылись в балочке, вынырнули из нее и появились у самого сада. Все незнакомые пришлые молодые люди, с тупыми, озабоченными лицами и с властными, наигранно властными голосами. Они остановились, увидав Ахмета Ивановича, и, не снимая шапок, спросили:
– Вы, что ль, хозяин будете?
– Я управляющий, – сказал Ахмет Иванович.
– Нам управляющего не надо. Подавай нам хозяина.
– Хозяин отдыхает. Его беспокоить нельзя.
Это сообщение развеселило пришельцев.
– Наотдыхался и довольно. Буди его, товарищ. Всех буржуев на работу поставим.
– Да вы что за начальство? Кто вас прислал?
– Мы то, – подбоченясь и расставляя ноги, сказал самый молодой из них, солдат с бледным, испитым лицом, безусый и безбородый, совсем еще мальчик, но мальчик, видно, бывалый в городах.
– Да, вы, – сказал Ахмет Иванович.
– Мы, комитет, – важно сказал чернявый, по лицу похожий на казака. – Комитет от хутора Разгульного, присланный, значит, от населения хутора для охраны зимовников.
– От кого же вы будете охранять?
– А чтобы допреж времени не растащили.
На шум разговора вышел Семен Данилович, в старой шапке и нагольной шубе, одетой на рубаху.
– А когда время придет, значит, и растащить можно, – сказал он пришедшим.
– Это нам неизвестно, – уклончиво бегая глазами по сторонам, сказал чернобровый. – Это уже как народ порешит.
– Та-ак, – задумчиво проговорил Семен Данилович, – как народ порешит. А вас кто избрал, какие у вас полномочия?
– Это мандаты-то, что ль, вам нужны? – сказал самый солидный из них с петлицами артиллериста на шинели. – Извольте, получите, это мы понимаем. Только будьте без сумления, потому дело чистое, безобманное. Постановление трудового казачества, крестьянства и военнопленных германцев хутора Разгульного.
– Военнопленные-то тут причем? – с удивлением спросил Семен Данилович.
– По принципу всеобщего равенства, провозглашенному трудовой демократией на основах интернационала и самоопределения народностей, – быстрой скороговоркой произнес молодой солдат.
Артиллерист подал бумагу, в которой безграмотно и нескладно было изложено, что по постановлению общего собрания граждан хутора Разгульного исполнительный комитет этого хутора выделяет из своей среды шестерых товарищей – двух от крестьянского населения, двух от казачьего и двух от военнопленных германцев для наблюдения за сохранностью Топольковского зимовника и за целостью всего его инвентаря.
– Дело чистое, – повторил артиллерист, принимая бумагу обратно от Семена Даниловича. – Потому сами понимать изволите, как земля трудовому народу, то народ и озабочен этим самым законом.
– Проведением в жизнь этого, самого драгоценного завоевания народной революции, – выпалил горожанин.
– Хорошо-то оно хорошо, – серьезно проговорил Семен Данилович, – но ведь вы, вероятно, знаете, что это земля войсковая и арендована мною для нужд государства, что, значит, и земля не моя, и лошади не мои, а государственные.
Тупое, равнодушное выражение разлилось по лицам комитетских, и Семен Данилович почувствовал, что его слова не дошли до них, что им хотя кол на голове теши, а что они постановили, так и будет, а постановили они, конечно, и землю и имущество поделить.
– Это нам неизвестно, товарищ, – сказал чернобровый. – Какие такие государственные земли и лошади государственные, нам непонятно. Теперича все народное и народ – владелец всему.
– Но ведь народ как коллективное целое, а не как граждане хутора Разгульного или Забалочного, ведь это же понимать надо, – начал было говорить Семен Данилович, но городской перебил его:
– Товарищ, вы нас не учите. Мы сами отлично понимаем, что надо делать. Довольно мы вами учены-то были.
Вы лучше вот что, покажите, где нам поместиться, мы стеснять вас не желаем.
– А помещайтесь, где хотите, – раздражительно сказал Семен Данилович и ушел с крыльца в комнаты.
Точно широкая и высокая, толстая непроницаемая каменная стена стала между ним и населением ближайших хуторов. Он многих там знал, в особенности стариков, и его знали. И никто из этих знакомых степенных казаков или крестьян не приехал к нему. Сколько раз выручал он их! То лошадь даст для сына, идущего на службу, то семенами ссудит, то сена весною уступит. Куда они попрятались, эти всеми уважаемые седобородые старики, домовитые, богатые и разумные, с которыми так приятно было поговорить о делах? Приехала зеленая молодежь. «Хронтовики», как называли в степи казаков, прибывших из действующей армии. Говорить о таком важном хозяйском деле приехали люди, не знающие хозяйства. Тот, молодой и самый дерзкий, конечно, никогда не пахал. Вершить судьбы искони казачьей степи, казаками завоеванной и кровью казачьей политой, прибыли солдаты и немцы. Особенно эти немцы возмутили Семена Даниловича. Им-то что до казачьей степи и до русской кавалерии и ее ремонтов!
Старик сидел на мягком кресле под портретами лошадей, былой и настоящей славы зимовника и чувствовал, что его значение, его влияние, тот почет, которым он всегда был окружен в степи, исчезли. Что из нужного и уважаемого в степи человека, из гордого хозяина степи он вдруг стал никто. Лишний, вредный человек… Буржуй…
Горькая усмешка скривила его губы. В голове проносились картины прошлого. Вставанье с солнцем летом и поездки в степь на работы. Он молодой, тридцатилетний хозяин, босой, в рубахе, с косою, становится последним в линии наемных косарей. И уж косил он лучше всех, по-хозяйски. И косит и косит он, от зари до зари, не зная усталости… Буржуй!..
Сгущались сумерки. Невидными стали изображенные на фотографиях лошади, темнота вползла в углы и тянулась с потолка. По соседству, в столовой, гремела чашками Савельевна, собирая пятичасовой чай, а Семен Данилович все сидел в мягком кресле и кривая усмешка бороздила его щеки…
Вся жизнь в этом доме, своими руками построенном. Тополя, что стеною окружают загородку сада, он сам выписывал, сам садил, роя для них лунки. И яблони, и груши, и жасмин, и бисерное дерево – все им посажено. Тут раньше была степь, голая, безлюдная, с пересыхающим ручьем, тихо текущем по солонцоватому дну. Сколько раз он разорялся и закладывал зимовник, искал ссуды и возрождался снова при урожае, после удачной поставки лошадей. Сорок лет в степи и степь назвала его презрительно грубой и непонятной кличкой «буржуй»…
Эта кличка, как ком грязи, пущенный сильной и меткой рукою, пристала к нему и обмазала и загрязнила его. Старуха Савельевна и та его этим незаслуженным именем окрестила. Он слышал, как она плакала и причитала за обедом: «И куда-то мы денемся все, старые да убогие, коли они всех “буржуев” переведут. Кто нас сирых и убогих прокормит, кто пожалеет нас!..»
Народ!
Нет, тот народ, который поднялся войною в степи, не пожалеет этих старых беспомощных людей. Он жесток, как стихия.
– Батюшка, барин, Семен Данилович, да где же ты, родненький, притаился. Чай-то уже заварен. Иди, родимый, пить, – ласково проговорила старуха, заглядывая в гостиную.
Семен Данилович стряхнул свои думы и пошел тяжелою поступью к чайному столу.
Комитетчики недаром пришли на зимовник налегке. Они расположились в нем, как хозяева. Все им подай да положь. Потребовали от Савельевны кровати и постели, потребовали белье и одеяла, и кормить себя приказали, как господ.
– Да как же это так, Семен Данилович, – возмущалась Савельевна, – да как же давать-то им, оголтелым. Да по какому такому праву, что они господа, что ли!
– Да дай им, Савельевна, черт с ними, – вяло говорил Семен Данилович, – теперь они господа над нами.
Он осунулся и опустился за эти дни.
Комитетчикам до всего было дело. С раннего утра и до поздней ночи рыскали они то по двору, то по дому, заглядывали в самые глухие уголки экономии, на конюшни, ездили то в табун, то на пахотные участки, считали быков и овец, записывали машины.
Седлал ли калмык лошадь, чтобы ехать куда-либо, – они тут как тут. Зачем седлают, для чего седлают, кто и куда поедет, по какому делу?.. Собирался ли сам Семен Данилович выезжать – опять они здесь. Почему запрягают коляску, а не тарантас или телегу? Кто поедет, куда?.. Пленному австрийцу запретили прислуживать Семену Даниловичу, чистить ему сапоги и платье. «Сам может. Нынче господ и слуг нет…»
Стала чистить ему платье и сапоги старая, дряхлая Савельевна.
Особенно издевался над «буржуем» коннозаводчиком самый молодой, безбородый и безусый «товарищ Сережа», как его нежно называли комитетчики. Он никогда не был «на фронте», а служил при каком-то тыловом госпитале в большом городе, где и набрался премудрости. До службы судился два раза за кражи и сидел в тюрьме, о чем гордо рассказывал, не упоминая, за что он сидел. «Пострадал за народ», – говорил он, скромно потупляя глаза.
Дни шли за днями. Медленные, противные, тягучие, под вечным надзором этих людей, как в тюрьме под стражей. Они ограничили Савельевну в расходовании припасов, запрещали заколоть курицу или гуся, выдавали яйца счетом, забрали ключи от кладовых и отбирали выдоенное у коров молоко.
– Это все теперь народное, – говорил товарищ Сережа, – и нам надо снестись с комитетом, чтобы он установил, сколько чего давать буржую.
Семен Данилович и этого не замечал. У него пропал аппетит, и равнодушный ко всему, он то сидел в своем кабинете, перелистывая старые журналы, то бродил взад и вперед по занесенной снегом прямой тополевой аллее. Дойдет до тына, остановится, оглянет мутными глазами широкий простор блестящей под снегом степи и идет назад мрачный, сгорбленный, придавленный тяжкими думами, скорбными мыслями.
Из степи шли слухи. Говорила степь.
Страшный и кровавый был ее рассказ.
Коннозаводчика Барабаева арестовали и отвезли в Царицын, имение Меринова разграбили дочиста, а экономию сожгли, всех лошадей на трех зимовниках братьев Поляковых забрали «хронтовики» казачьего полка.
В степи находили истерзанные собаками и воронами трупы людей, видимо интеллигентных. Это уничтожали «буржуев», «кадетов» и «капиталистов». Капиталисты эти были очень бедно одеты, были очень молоды и походили на переодетых офицеров, которые разбежались по степи, спасаясь от своих казаков и солдат, с которыми они три года провели в окопах в суровой обстановке мировой войны.
Кровавый пожар охватил тихую степь и страшным вихрем безумия носился по ней от зимовника к зимовнику.
6
– Бачка, ты спишь?
Калмык Ашака стоит над постелью Семена Даниловича. В комнате тихо. Ставни закрыты вплотную. Темная непогожая ночь на дворе.
Семен Данилович проснулся. Он теперь спал чутким, сумеречным сном, без сновидений. Сквозь сон слышал он, как выл и стонал ветер в степи, как шумели сухими сучьями тополя и дребезжали вьюшки в печной трубе. Но приход Ашаки прослушал.
– Что случилось? – садясь на постель, спросил он.
– Худо есть, бачка. Очень худо есть. Тебя арестовать, тебя убить хотят. Утром придут из Разгульного люди. Сейчас в комитете много народа есть. Ночью приехали с подводами, все вооруженные. С утра тебя брать, тебя убить, а имение все поделить. Сережа ими всеми руководит…
– Что же делать, – в каком-то отчаянии своего бессилия произнес Семен Данилович.
– Ничего, бачка, велик Бог. Я поседлал тебе Комика, а себе Крылатого, уйдем в степь. Степь спасет. К Уланову уйдем… к Сархаладыку Костиновичу Камрадову уйдем. К нему придут – дальше уйдем. Степь не выдаст. Много знакомых есть, хороших калмык есть. Бери деньги, бери хорошая одежда, бери немного чего хочешь в сумки, давай мне.
И увидав, что Семен Данилович хочет зажигать свечу, сказал.
– Огонь не надо. Увидят. Нехорошо есть. Смотрят, галдят, по двору ходят. Нас не увидят. Дождь, ветер, я знаю как пройти. Спокоен будь…
Ах, это бегство из своего дома! Из дома, своими руками построенного, где прожито сорок лет жизни и так много передумано.
Бегство от своих! Бегство шестидесятипятилетнего старика от смерти!
Да уже не проще ли умереть? Все одно недолго жить.
Но старая бодрость степного волка проснулась в Семене Даниловиче и быстро, уверенными движениями, несмотря на темноту оделся он, натянул дорожные сапоги, положил револьвер в карман, запрятал на грудь деньги и сказал Ашаке: «Ну, идем!..»
Холодный ветер и дождь охватили их за стенами дома. В сумраке ночи, сквозь полосы дождя желтыми квадратами светились окна хаты для приезжающих, где помещался комитет, и избы, где жили рабочие. При свете этих окон были видны силуэты повозок и лошадей, стоявших на дворе. И сквозь ветер и бурю слышно было горготание толпы у домов – грр… грр… грр…
– Иди, бачка, за мною, – сказал Ашака и пошел впереди Тополькова.
Как вор крался старый хозяин вдоль сада, укрываясь тыном, потом спустился к пруду и шел за калмыком под ветлами вдоль гребли, над самой водой.
– Осторожно, бачка, не оборвись, – шепнул ему калмык. – На мосту у них сторож был.
Они прошли мимо моста, взобрались на плотину по топкому и скользкому чернозему и уже смело зашагали по степи к двум темным силуэтам поседланных лошадей.
Их держала молодая калмычка, дочь Ашаки.
Тихо, ловким, привычным движением степного наездника поднялся Семен Данилович на стремя и мягко опустился в подушку седла.
– Готово? – раздался тихий голос Ашаки.
– Готово, – ответил Семен Данилович.
– Ну, айда за мной…
Темная степь поглотила их в своих холодных и мокрых обьятиях и окутала порывами злобного ветра…
7
Эти дни скитаний Семен Данилович провел в каком-то отупении. Это не была та свободная жизнь, которую он так ценил и так любил. Оторванный от родного гнезда, он, привыкший иметь все «свое», жил чужим и по чужим людям. И это еще было бы полбеды, его отлично принимали калмыки, как дорогого гостя, холили, угощали, но только он оживется день-два, как ему приходилось уезжать и искать нового пристанища, другого гостеприимного хозяина. За то, что он помогал лошадьми и хлебом выборному войском атаману, его обьявили «вне закона». Хуторяне знали, что он увез с собою деньги, и за ним охотились, как за богатой добычей, забрать которую можно совершенно безнаказанно. По степи бродили шайки советских дружин и вольных охотников за черепами, избивавших отставших «кадетов», «капиталистов», «помещиков» и просто «буржуев», и тихая задонская степь уподобилась прериям Америки, времен ее завоевания.
Но – тянуло и, ах, как тянуло к себе, на зимовник, где осталось с лишком сорок лет упорного труда и где любовью билось к лошадям все эти сорок лет его, не знавшее другой любви сердце. Посмотреть – уцелели ли жеребцы, узнать, пощадили ли жеребых маток и годовиков, осталось ли хотя что-либо от бившей жизнью, как горный ключ, его экономии, где каждый гвоздь, каждая машина, каждый амбар годами обдумался и создавался при непосредственном его участии.
Первые два дня он провел у Сархаладыка Камрадова. Богатый калмык расставил для него свою лучшую кибитку, с печкой и широкою кроватью с пружинным матрацом, поил его чудным кумысом и давал удивительное кислое молоко. Он зарезал для него самого жирного барашка и часами сидел в пестром, на беличьем меху халате у Семена Даниловича, смотрел на него косыми глазами и говорил короткими, продуманными фразами, которые резали истерзанное сердце Тополькова.
Обед окончен. Выполосканы в медном тазу жирные руки – ели руками, обтерты чистым полотенцем, и гость и хозяин сидят на пестром ковре на маленьких скамеечках перед невысоким столом, накрытым чистою, пестрою в узорах скатертью. В круглых, толстого фарфора чашках подан чай, из уважения к гостю не калмыцкий, сваренный с бараньим салом, а русский, и к нему старые леденцы и изюм.
– Ах, что делается, что делается на белом свете, – вздыхая говорит Сархаладык Костинович.
Семен Данилович смотрит на его большое круглое, как луна в полнолуние, лицо, на котором узкие блестят глазки, под черными бровями и большой рот кривится в презрительную усмешку и ему больно, что калмык смеет презирать русский народ и казаков. Смеет их, владык и завоевателей степи, осуждать.
– Сын у меня, еще племянник, еще жены брат, еще второй жены племянник и два, так себе, работника, не родня, – загибая толстые пальцы, украшенные перстнями, говорит Камрадов, – шесть человек в калмыцкий полк пошли на защиту Атамана и круга. Как не пойти! Ведь сами выбирали, свой атаман ведь. По закону! Так я говорю или нет?
Но молчит Семен Данилович.
– Теперь говорят – они изменники. Атаман, говорят, узурпатор, – и слова такого не слыхал, а они, те новые, настоящая власть. Скажи пожалуйста, где правда? Почему тот, кого все войско избрало, – изменник и у-зур-патор, а те, что сами пришли названные и непрошенные, не изменники? Кто же это пойдет?
Но нет ответа у Семена Даниловича, и он тихо, как бы в раздумьи, произносит:
– Сдурел народ.
– Сдурел народ, – повторяет Камрадов, и презрение еще ярче видно на его лице, – сдурел… Нет! Трус, подлец народ стал, оттого и вся эта история. Намедни приезжают ко мне два казака с хутора. Спрашиваю их, ну, как порешили, за кого идете? А они мне отвечают – да мы-де пойдем за того, кто силу возьмет. Большевики, так большевики, а не они, так монарх, пускай хоть сам Вильгельм приходит, нам это все единственно. Вот какой народ стал… Без Бога!
– Да, Бога забыли. Теперь молодой-то казак иной – и креста не носит и в церковь заглянуть стыдится…
– Ага, вот. Вы над нашей верой смеялись. Хурул, мол, – пустяки, наши гелюны и манжики вам как на театре казались, а мы своего бога не забыли. И теперь, скажи, где правда? Куда моим-то шести идти? За кого? Тоже искать, кто сильнее будет? Ах, как в степи живу, никогда того в степи не было, и не перенесет этого степь![32]
– Как не перенесет степь? – спросил Семен Данилович.
– Ты не знаешь степи, – важно сказал Камрадов, – ты сорок лет жил в степи, ты сто лет жил в степи – мало. Ты ее не знаешь. Калмыки тысячу лет, больше тысячи лет живут в степи – они ее знают. Степь живая, как море. У ней свои законы, своя честность, своя любовь. Степь гостеприимна и степь честная. Твоя лошадь пропала, в мой табун зашла – моя не берет. Жеребец гонит долой, табунщик смотрит тавро – это лошадь Семена Даниловича – отдать ее Семену Даниловичу. Степь грабежа не любит. Ты едешь, я еду – добрый человек едет, далеко видно, не страшно. Теперь что такое? Этот жить может, тому жить нельзя. На детей, на усталых мальчиков нападают вшестером, вдесятером на одного, травят, как зайцев, догонят, убьют. Что же хорошо? При татарах того не было. Степь погибнет от этого.
– Да, погибнет, – сурово молвил Топольков, – запашут степь. Поделят и запашут.
– И она высохнет и не даст урожая, – в тон ему сказал Камрадов. – Степь не простит обмана.
Тяжело это слушать Семену Даниловичу, но как гость он должен слушать.
Погода теплая, солнечная. Весною пахнет, небо полно темной голубизны, снег стаял, и грязная темно-бурая степь дымится парами воды. Жаворонки взлетают наверх и поют короткую песню, приглашая строить гнезда в расщелинах почвы. Короткой зимы как не бывало. Полы кибитки отвернуты, и горизонт виден из-за чайного стола.
И далеко, далеко, еще Семен Данилович и не видит, первый узкими своими глазками заметил Камрадов, показалась группа всадников. Что за люди? Свои или чужие? Враги или друзья? И кто теперь свои и кто чужие? И кто враг и кто друг? Но человек пятнадцать при оружии – это сила, это угроза, это опасность.
– Я поседлаю тебе, Семен Данилович, лошадей, и ты с Ашакой езжай в балку и там жди, а я узнаю, что за люди, и пришлю сказать.
Опять бегство, днем, на виду у каких-то людей, чьи намерения неизвестны.
В балке сыро и грязно. Грузнет кровный Комик, и беспокойно стоит Крылатый. Ашака залег на краю в старом бурьяне и смотрит на становище Камрадова. Отделился от него всадник, и рысью побежал к балке гонец.
Гонец – мальчик киргиз, внук Камрадова.
– Ну что?
– Это они… Враги. Вас ищут, кадете ищут. Только вы уйдете свободно. У них лошади – никуда! Устали. Теперь обыск у отца делают. Пулеметы ищут, а сахар и чай отбирают…
Бегство. Куда? Куда глаза глядят. Степь так велика и обширна. Но тянуло, тянуло к родному зимовнику…
8
Однажды тихою, морозною, звездною ночью, когда земля под копытами лошадей стучала, как чугун, и трещали тонкие льдинки на лужах и на замерзших мокрых глубоких колеях, Семен Данилович подьехал к хутору Разгульному и выехал в улицы. Хутор спал. Все ставни были прикрыты, и была тишина. Ни одна собака не лаяла.
Он проехал к дому хорошего знакомого, старого, шестидесятилетнего, казака Зимовейскова и постучал в ставню у его окна.
Старик сейчас же проснулся и испуганным голосом спросил:
– Кто там?
– Это я, Топольков.
– Семен Данилович, что ль?
– Я.
– Чего ты ночью-то? Аль заблукал?
– Пусти заночевать.
– До утра пущу, а утром провожу, а то худо бы не было.
– Спасибо и на том. Покалякаем.
– Эх, калякать-то о хорошем не приходится.
– Одно слово срам! Так иди же! Ты как, лошадьми или верхи?
– Верхи.
– Один?
– Нет, с калмыком.
– Ну, заводи в ворота.
Загремел засов, распахнулись ворота, и Зимовейсков встретил Семена Даниловича.
Семен Данилович поднялся на крыльцо и прошел за Зимовейсковым в его комнату.
– Ну, скажи мне, Лукьяныч, что у меня на зимовнике, – спросил он, садясь на лавку у стола, на котором Зимовейсков зажигал керосиновую лампу.
– Э-эх! – с досадою взмахивая рукою, вздохнул Зимовейсков и не стал говорить. – Садись, чайку согрею. Молока, что ль, достать, или сала, – суетился он, не отвечая на вопрос.
– Что, плохо, что ль? – упавшим голосом продолжал допытывать Семен Данилович.
– Хуже некуда.
– А что, сожгли?
– Нет.
– Да ты рассказывай. Я ко всему готов.
– Как уехал ты, все разобрали и по хуторам увезли.
– Жеребцы где?
– Наши взяли.
– И что же?
– Запрягли, стали гонять. Пьяные скакали по хутору, запалили, испортили. Потом пришли хохлы с Забалочного, с Воронков, стали себе лошадей требовать. Драка была. Стреляли… Ну и жеребцов порешили.
– Как порешили? – еле слышно проговорил Семен Данилович.
– Да убили ж! Чтобы, значит, ни казакам, ни хохлам. По справедливости.
– А матки?
– Поделили. Да уже многие повыкидали. Запрягать стали, бить чем попало. Сдурел народ. И машины делили, тоже драка была. Хотели деревья фруктовые выкапывать, да не знаю, выкопали аль нет.
– Ну а комитет что?
– Что комитет?! «Хронтовики» ничьей власти не признают… Что старуха, скоро, что ль, чай? – крикнул он за перегородку.
– Сейчас, родимый, – отозвалась жена Зимовейскова.
– Чаем, Семен Данилович, напою, накормлю, чем Бог пошлет, да и езжай с Богом. Прости, Христа ради, нельзя. – И старик, понизив голос, продолжал: – У меня, внизу, писарья полковые. Проснутся, дознают, что ты у меня… беда. И тебе и мне несдобровать. Тут один другому… такой сыск! все чего-то боятся, никто никому не верит.
– Да, вчера у Сархаладыка Камрадова в кибитке пулемет искали.
– Боятся.
– Да чего же они-то боятся?
– А всего. Все им снится опасность. Тут сколько мальчиков кадетов да офицерьев, сказывают, убили.
– За что?
– Против народа идут.
– Истинное наваждение.
– Да вот поди ж ты!
Старик и рад был дорогому гостю, и боялся, чтобы не раскрыли его у него. Он все покрикивал на жену: «Потише, Матреша, да не греми ты, ради бога, посудой».
– На ледник сходить, что ль, за молоком-то, или в кладовку?
– Нет, не ходи лучше, старая, – услышат.
– Да как же так без молока-то? – слезливо моргая старыми глазами, говорила старуха.
– Семен Данилович простит. Экое время, время-то какое, и гостя принять как следует нельзя. Подай, Матреша, хотя варенья к чаю. Там, кубыт, ежевика у нас осталась.
Чувствовал Семен Данилович, что не в пору он гость, и рад и не рад ему старый Зимовейсков.
Боится!! И горько ему стало. Что он? Преступник, что ли? Прокаженный какой?!
Он пил бледный чай из тонкого стеклянного стакана. Ему здесь каждый кусок поперек горла становился, но пил из вежливости, чтобы не обидеть хлопотавших для него ночью хозяев. Он вяло слушал рассказы Зимовейскова.
– Сын у меня в полку. Так, что говорит: землю делить поровну надо. И хохлам, и казакам одинаково. Потому и хохлы, говорит, такие же граждане. Что же, говорю я ему, от казаков, значит, землю отбирать будете? – Да, говорит, придется… Вот оно дела-то какие!..
– Ну а старики как? – спросил Семен Данилович.
– Молчат. Что же поделаешь. Их сила. Все они оружейные, да злые такие. На отцов кричат! Им что? Они и отцов побьют.
– Значит, боитесь?
– Боимся, – тихо сказал Зимовейсков.
– Пропал, значит, Дон.
– Значит, пропал, – тупо повторил старый казак.
И было опять ощущение, что какая-то высокая каменная непроницаемая стена встала между ним, коннозаводчиком Топольковым, и хуторянами.
Семен Данилович допил чай, встал, поблагодарил хозяев и стал прощаться. Его не удерживали.
– Прости, Христа ради, – говорил Зимовейсков. – Рассвет скоро. Не увидали б.
Распахнулись ворота, неохотно вышли из них нуждавшиеся в отдыхе кони и пошли по уличке из хутора.
Выехав в степь, Семен Данилович свернул целиною на свой зимовник.
В бледном туманном рассвете весеннего дня замаячили вершины тополей, показались черные раскидистые ветви яблонь и груш фруктового сада и темно-коричневая железная крыша дома. Потянулись соломенные крыши сараев и служб, тын и за ним корявые ветлы над греблей. Все как было.
Комик прибавил шага, почувствовав близость дома, и коротко заржал.
– Домой, бачка, поехал, – сказал калмык.
– Домой, куда же больше.
Стало светло. Поднявшееся солнце было не видно за туманом, но чувствовалось, что скоро ярко заблестит оно с высокого голубого неба и настанет теплый весенний день.
Тихо на зимовнике. Не идут с гоготаньем гуси к воде, не поют петухи и не видно на грязном базу застывших, как изваяния, буро-красных волов.
Топольков въехал в усадьбу. Пусто. Там и там валяется гусиный пух, головки и крылья кур. Мертвый полуоглоданный собаками рыжий жеребенок лежит в углу. Все ворота сараев и конюшен открыты и всюду пусто. Виден только сор. Валяются клочья соломы, сена, у кладовой просыпана мука, лежат разбитые бочонки и кадки.
На конюшне жеребцов остались только солома и навоз.
Семен Данилович слез с лошади и приказал калмыку завести ее в денник и расседлать, а сам пошел к дому.
Там тот же беспорядок. В гостиной на полу лежат разбитые рамки от фотографий, разорваны портреты.
Книги и журналы растрепаны и разбросаны по полу. В кабинете железная касса разбита и лежит в куче мусора. Платье, белье, двухствольное охотничье ружье исчезли.
Вдруг раздались по комнатам быстрые шаркающие шаги, костлявые пальцы впились в локоть Семена Даниловича и горячие слезы оросили его руку вместе с сухими поцелуями.
Савельевна…
Простоволосая, с растрепанными прядями седых косм, с раскрытой шеей, худая, с воспаленными горящими голодными глазами… Безумная.
– Барин мой, миленький барин, одни мы на белом свете остались и степь не прокормит нас двух стариков. Ничего, ничегошеньки нам не осталось! – причитала, заливаясь слезами, Савельевна. – Ох, голодна я старая.
– Постой, Савельевна… У Ашаки есть чай, и сахар, и сухари, и сало, прокормимся покамест, а там, что Бог даст.
– А ты-то, родный, не уйдешь?
– Останусь. Ступай! Хлопочи с Ашакою и себе и мне закусить, а потом надумаем…
«Надумаем!..»
Сорок лет кропотливой работы, и нет ничего. Сорок лет борьбы со степью, победа над нею и побежденная степь благословила труды его…
Лежит фотография с ставки в 20 кобыл, снятая в Москве на выставке семь лет тому назад. Большая золотая медаль и премия коннозаводства! Восторги и рукоплескания публики и гордость Семена Даниловича. «Что вы их, из глины, что ли, лепили по одному лекалу…» Где он? Где эти лошади. А там росли еще лучшие!.. Где Калиостро, за которого семь тысяч заплачено, внук знаменитого Рулера?.. Где подобранные масть в масть, статья в статью кобылы? Где все это неисчислимое богатство лошадиного царства, равного которому нет ни в Америке, ни в Азии, ни в Австралии, да и нигде в мире. Разрушено и пало это царство и нет возможности поднять его! Что пропали быки и овцы, что не осталось ни одной курицы, что вывезены до последнего зерна запасы хлеба, что голод надвигается на богатого хозяина – это пустое. Степь прокормит. Он это знает по долгому опыту жизни в степи. Степь не покинет его. Но восстановить расхищенное и уничтоженное лошадиное царство, вернуть этих гордых лошадей, которые на войне догоняли и германца и австрийца… Сотни лет работы… А где эти сотни лет, когда уже немного осталось жить.
И кто разрушил?
Свои…
Они разрушили всю великую Россию, они уничтожили ее Армию и вместо славы победы дали несмываемый позор поражения. Свои… Сами… Своими руками…
Он не может сказать: «Отче, отпусти им, не ведают, что творят…» Сил нет.
Они знали… Им говорили… Они не верили…
Что же дальше? Голодная смерть среди богатой степи на пустом разоренном зимовнике, или вечные скитания по чужим людям без своего угла. Жизнь, как птицы без гнезда, жизнь на ветке, под листом.
В шестьдесят пять лет!
Семен Данилович вышел на крыльцо.
Степь широко открылась перед его взором. Под блеском солнечных лучей она рыжела, краснела и млела под голубизною сверкающего неба. Песни жаворонков лились. Могучая и смелая лежала она перед ним, обширная, как море и как море таинственная. Величественное дыхание ее вливалось бодростью в старое сердце. Очарованный ее простором и тишиною, умиленный ее простою красотою он сел на скамью и застыл в молчаливом созерцании вечной природы, отразившей в себе величие и премудрость Господа Бога.
Бог поможет! Господь не оставит! Степь выручит.
Станица Константиновская, февраль 1918 годаВОСЬМИДЕСЯТЫЙ
Его поймали с поличным. Окровавленный нож, кривой и острый, был у него в руке, и он его бросил, когда его схватили цепкие руки солдат, толпа нависла над ним и выволокла на широкую площадь, освещенную электрическим фонарем.
Убийца солдата, метким и ловким ударом большого кривого ножа распоровший ему живот, оказался невысоким, коренастым человеком, сильным, – трое рослых солдат едва могли его удержать, когда он вырывался, – мускулистым и ловким. Темное, загорелое и грязное лицо имело небольшие черные усы и черную бородку, волосы были коротко острижены, и глаза, чуть косые, горели недобрым огнем. Он одет был в старую солдатскую шинель и папаху искусственного барашка.
На шум драки, на крики толпы прибежал с вокзала наряд красной гвардии и матросов и плотною черною стеною окружил пойманного.
Пойманный знал, что его сейчас разорвут на части, или, в лучшем случае, расстреляют, но он был совершенно спокоен. Только дыхание после борьбы было неровное.
И бывалые, видавшие виды матросы, и столичная красная гвардия, опытные в расстрелах и казнях, и видавшие не раз казнимых были удивлены, что ни лицо этого солдата не побледнело, ни глаза не потухли, ни сам он не обмяк, хотя приговор над ним уже был произнесен солдатскою толпою и он знал этот приговор: – «расстрелять!»
Да иначе и быть не могло. Он убил ночью сонного товарища. Зачем? Конечно для того, чтобы ограбить. Убитый был ценный партийный работник, неутомимо ведший агитацию среди солдат по поводу демократизации армии, введения выборного начала, человек с тупою непреклонностью крестьянина проповедовавший ненависть к офицерам и необходимость их истребить на «Еремеевской» ночи. У такого человека должны были быть деньги, полученные от партии. И этого опытного агитатора кривым и острым ножом во сне поразил этот маленький крепкий солдат.
Дело ясное, не требующее суда – расстрелять!
Но уж слишком был спокоен и не бессознательно тупо, а разумно спокоен, обреченный на казнь, чтобы не обратить на себя внимания опытных палачей.
Маленькими, умными, проницательными глазами осматривал он матросов и красную гвардию, теснившуюся вокруг него с винтовками в руках, и как будто хотел что-то сказать.
– Товарищ, – обратился к нему худой, безбородый и безусый матрос с испитым лицом уличного хулигана, – как же это вы своего товарища солдата?.. А??. Зачем же это… Грабить!
– Нет, не грабить, – спокойно ответил пойманный. – Я никого никогда не ограбил.
– Ладно. Так зачем же убили?
– Это месть.
– Вы его знали?
– Нет, я его не знал. Сегодня первый раз увидал.
– Ишь ты, – раздались голоса в толпе. – Ты, брат, зубы-то не заговаривай, не болят. Стройся к рассчету. Расстрелять!.. Чего попусту возиться – убил своего товарища – расстрелять и только.
Глухо волновалась толпа. Метались в сумраке ночи худые косматые руки, пальцы, сжатые в кулаки, мрачные тупые глаза бросали недобрые косые взгляды, надеяться на помилование было невозможно, смерть уже нацелилась в него и готова была схватить его когтистыми руками, а он стоял все так же величаво спокойный. Даже руки сложил на груди.
– Я мщу не ему одному. Я его не знаю, я мщу всем солдатам. И этот не первый, – сказал он, когда на минуту стихли крики.
Дело принимало особый оборот. Вина усугублялась, казнь грозила стать не простым расстрелом; возмущенная толпа могла начать избивать его, медленно приближая смерть, увеличивая мучения, а он шел на это. Шел, и все-таки был спокоен.
Коренастый матрос, в фуражке с козырьком на затылке и в хорошо сшитом черном бушлате, с большим лицом, бледным, измученным, на котором умно смотрели глаза, не то офицер, не то боцман вышел из толпы и медленно спросил:
– Так это не первый, кого вы убиваете? А который?
– Восьмидесятый, – невозмутимым тоном ответил пойманный.
Ахнула толпа и, теснее сгрудившись, придвинулась почти вплотную к этому солдату. Цифра поразила и ее, привычную ко всяким зверствам.
– Тут не место для шуток, – строго сказал человек в боцманской шапке. – Если вы говорите о тех, кого вы убили на войне, это нам не интересно.
– Нет, – все так же спокойно, с чуть заметной усмешкой на тонком выразительном лице, проговорил пойманный, – это восьмидесятый русский солдат, которого я убиваю ночью во время сна все одним и тем же метким ударом ножа, открывая ему весь живот.
– Он сумасшедший, – пробормотал матрос в фуражке боцмана.
– Все равно, и сумасшедшего расстрелять. Ишь какой выискался сумасшедший! Слышьте, товарищи, восьмидесятого солдата зарезал… Его не то что расстрелять, замучить надо.
Примолкшая было толпа опять загалдела. Кто-то сзади, стараясь протискаться ближе, прокричал:
– Это что же, товарищ, вчера ночью на северном вокзале солдатику живот, значит, распорот, на месте уложен – ваша работа?
– Моя, – отвечал смело пойманный.
– Постойте, товарищи, сказывали в трактире Севастьянова позапрошлою ночью тоже солдатик убит. Правда, что ль?
– Это я убил. Я говорю вам, что этот – восьмидесятый.
Жадная до крови, привычная к убийству толпа матросов и солдат смотрела с любопытством и уважением на человека, отправившего, по его словам, восемьдесят солдат на тот свет ударом ножа. Даже и по их понятиям, даже и в их мозгу, тупом и грубом, эта цифра совершенных злодеяний производила впечатление и интересовала их.
– Антиресно выходит. Товарищи, ну пущай он перед смертью покается, как это он, значит, восемьдесят бедных страдальцев солдатиков уложил. А там мы обсудим, как его за это замучим.
Хмурая теплая ночь стояла над городом. Весь город спал, и только эта черная толпа глухо волновалась и, тяжело дыша, наваливаясь друг на друга, стараясь рассмотреть поближе этого замечательного человека, тискала друг друга и жила сладострастным ожиданием страшной пытки и казни.
– Прежде всего скажите мне, кто вы такой? – спросил боцман.
Пойманный ответил не сразу. Он задумался, опустив на минуту на грудь свою сухую породистую голову, потом поднял ее и, гордо оглянув толпу, сказал:
– Я мог бы соврать. Назвать любое имя. Документ у меня чужой, солдатский. Того, первого, которого я зарезал, под чьим именем я живу, но я не хочу этого. Пусть перед смертью солдатчина знает правду.
Он сделал паузу. Напряженно пожирая его глазами, тяжело дыша прямо ему в лицо, теснились вокруг матросы и рабочие-красногвардейцы.
Властным огоньком, привыкшим повелевать и покорять своей воле людей, оглянул пойманный толпу и спокойно и раздельно, громко и отчетливо, выговаривая каждое слово, произнес:
– Я штабс-капитан Константин Петрович Кусков, офицер…
Взрыв негодования не дал ему договорить. Опять заметались в воздухе руки, то сжатые в кулаки, то потрясающие оружием, и опять раздались жесткие выкрики:
– Офицер!.. Ах ты… Это, товарищи, расстрелять его мало!.. Надо-ть убить так, чтобы памятно было… своего брата солдата туда-сюда, еще и помиловать можно, потому мало ли ежели затмение разума, или темнота наша, а то офицер!.. Образованный!..
– Нет, товарищи, пусть он раньше докажет, за что он так притеснял… Этакое убийство.
Голоса снова стихли. Жажда услышать что-то страшное, выходящее из ряда вон, заставила людей умолкнуть и слушать этого спокойного человека.
– Рассказывайте, что же заставило вас уничтожить такую массу солдат? – спросил боцман.
– Извольте… Три месяца тому назад наш полк сошел самовольно с позиции и был отведен в резерв в город Энск, мой родной город, где у меня жила семья: старуха мать, молодая жена и трое детей. Семью я с начала войны три с лишним года не видал. Мучительно было стыдно возвращаться домой без победы, самовольно, как дезертиры. Мы, офицеры, пробовали уломать солдат, отговорить их делать это, но полком уже правил самозванный комитет и сделать что-либо было невозможно. Офицеров не слушали – их оскорбляли…
– Известно, у них завсегда солдаты виноваты. Их послушать, так и в том, что войну проиграли, солдат виноват один, – раздалось из толпы.
– Постойте, товарищи, дайте слушать.
– А вы, товарищ, будьте короче.
– Хорошо. Я вас не задержу. В Энске произошли беспорядки. Убили командира полка, почти всех офицеров. Ворвались в мою квартиру. Искали пулемета. На моих глазах убили мою мать. Потом меня схватили и держали за руки, а над моей женой надругались до тех пор, пока она не умерла в обьятиях злодеев. То же сделали с моею двенадцатилетнею дочерью, а сына восьми лет и дочь четырех убили, разрубили на куски. После этого меня отпустили. Сказали: смотри и помни солдатскую школу… И я запомнил. Наш полк разошелся, и найти злодеев я не мог. И я поклялся отомстить всем тем солдатам, которые смущают душу солдатскую. Я переоделся в солдатскую шинель, купил острый кинжал и пошел странствовать по рынкам, где продавали солдаты казенное обмундирование, по вокзалам, где шатались дезертиры, по притонам. Я толпился с солдатами на митингах и всюду и везде слушал агитаторов. И когда я слышал призывы к бунту, к братанию на фронте, к убийству начальников, я не отставал от этого человека. И в эту ли, в другую ночь, на вокзале среди множества спящих людей, в ночлежном доме, на этапе, в притоне я настигал его спящим и неизменно ловким ударом творил свою кровавую месть. Я научился делать это так быстро, так ловко, что иногда проделывал это в большом, плохо освещенном зале железнодорожного вокзала тогда, когда по вокзалу ходили люди. Я ждал только, чтобы ближайшие заснули. Я постановил уничтожить восемьдесят человек, потому что восемьдесят было тех, которые взволновали наш полк, творили убийства и насилия. Я не боялся быть схваченным, потому что, что для меня смерть? Ничто. Что для меня мучения, когда я вспомню муки моей жены и дочери, свои муки? Я жажду мучений тела. Они дадут мне блаженство и искупление… Я хотел только одного, выполнить цифру. Убить восемьдесят. И до сегодняшнего дня я берегся и был осторожен. Сегодня этот был восьмидесятый и я мог позволить себе маленькую роскошь – подойти и убить спящего на глазах у его бодрствующих товарищей… И я мог бы уйти… Меня боялись. Но я бросил нож. И теперь я жду смерти… Жду мучений… Я жажду смерти… Я мечтаю о спасительной боли мучений…
Тяжелое молчание и прерывистое сопение многих ртов и носов встретило его рассказ. И была в этом молчании тупая неповоротливая дума. Была зависть профессионала палача к палачу любителю, перещеголявшему его. Темная мысль говорила, что жизнь для этого человека тяжелее смерти и что если наказать, то наказать оставлением жить будет наиболее мучительною казнью…
На многих лицах сквозило уважение к этому человеку, пренебрегшему смертью и убийством. Артисты смотрели на артиста.
Сырой сумрак висел над грязною площадью. Тускло мигали огоньки улиц предместья, убегавших в черную даль, к площадям и большим улицам спящего теперь города, полного громадных зданий, дворцов, храмов, полного спящих людей.
Штабс-капитан Кусков опустил голову и ждал, что его схватят, ударят, начнут пытать.
Страшен и мучителен только первый удар, думал он, потом наступает отупение, полусознание, боль теряет свою силу.
И он ждал этого первого удара.
Но его не было.
Он поднял голову. Против того места, куда он смотрел, было пусто. Толпа матросов и красногвардейцев молча, понурившись расходилась по площади.
Он понял. Безмолвный народный суд приговорил его к самой жестокой пытке – жить.
Кусков снова опустил голову на грудь и тихо пошел с площади. Вот он вошел в узкую тесную улицу. Тревожно замаячила по грязи его тень, отброшенная фонарем, протянулась до стены дома, заколебалась на ней и исчезла. И не стало видно и самого штабс-капитана.
Ночные сумерки поглотили его.
Станица Константиновская, март 1918 годаПримечания
1
Запрещается бить.
(обратно)2
Листок для прописки.
(обратно)3
Красавец Бахолдин.
(обратно)4
После обеда в 4 часа, в Кургаузе. Концерт курортного оркестра. Дирижер оркестра Вилли Науе.
(обратно)5
Божьим соизволением из глубины родился, чтобы живущим облегчать страдания.
(обратно)6
Холостячка.
(обратно)7
Допотопная.
(обратно)8
Говорите за себя.
(обратно)9
Второзаконие. Гл. 32, ст. 35.
(обратно)10
Это уже слишком.
(обратно)11
Защитный цвет.
(обратно)12
Непромокаемое пальто.
(обратно)13
И панталоны тоже?..
(обратно)14
Владыка бесславия, сеятель благодеяний преступления, раздатчик великолепных грехов и пороков. Сатана. Тебя обожаем, бог разумный, бог справедливый.
(обратно)15
Слава в безднах Сатане. В безднах Сатане слава.
(обратно)16
Восхожу к алтарю бога нашего, Сатаны.
(обратно)17
Чего хочешь?
(обратно)18
В жертву принести мое тело.
(обратно)19
Приими, святой отец, это причастие.
(обратно)20
Приими также кровь нашу.
(обратно)21
В глубинах! Слава в глубинах Сатане.
(обратно)22
Леф – левый фланг советских поэтов.
(обратно)23
Защитный цвет.
(обратно)24
Здоров (крепок) как рыжик (польская поговорка).
(обратно)25
Огонь.
(обратно)26
«Молитва за Россию» – напечатана в одной из летучек Братства Русской Прав‑ды, весьма распространенной в России.
(обратно)27
А, хорошо, хорошо. Дело гражданки Сохоцкой…
(обратно)28
Обреченные на смерть.
(обратно)29
Второзаконие. Глава 32, ст. 35 и 36.
(обратно)30
Эта подпись по-английски значит: навсегда.
(обратно)31
Лошади в регулярную кавалерию комплектуются по мастям. В драгунские полки – гнедые и караковые, в нечетные гусарские – вороные, в четные – серые, 12 Гусарский Ахтырский полк получал лошадей буланых и соловых.
(обратно)32
Хурул – калмыцкий буддийский храм. Манжик – священнослужитель, соответствующий православному дьякону, гелюн – буддийский священник.
(обратно)




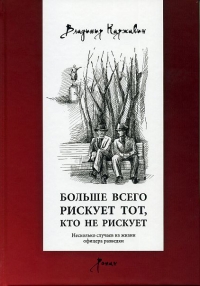

Комментарии к книге «Белая свитка», Петр Николаевич Краснов
Всего 0 комментариев