Валентин Костылев Кузьма Минин
©Костылёв В.И., 2012
©ООО «Издательство «Вече», 2012
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Светлой памяти народного героя Валерия Павловича Чкалова.
АвторЧасть первая
I
Подожженная вражескими гусарами деревня Тихие Сосны догорала. Вопли женщин, детский плач, треск и грохот рассыпавшихся в огне изб раздавались кругом. Королевские всадники беззаботно поглядывали на полураздетых, босоногих людей, убегавших по мерзлой земле в лес.
Гаврилка Ортемьев, как и другие его односельчане, в эту ночь бежал из дому.
В этой суматохе Гаврилка потерял отца, мать, братьев. За ним потехи ради рванулся в погоню один из гусаров, отогнал его далеко, в сторону, к Днепру. Гаврилка переправился через реку, чтобы укрыться в единственном убежище – в крепости Смоленск. Объятая душною мглою пожарищ, она чернела на горе – большая, грозно насторожившаяся. Ползком перебрался Гаврилка через крепостной вал.
Соседство с польскими войсками, не раз осаждавшими Смоленск, приучило жителей Тихих Сосен к опасностям. И то, что теперь произошло, не было неожиданностью. К этому были готовы.
В семье Гаврилки старики часто молились о смерти, но ему хотелось жить! Храбрость и стойкость смолян, полтора года отражавших приступы поляков, научили его быть выносливым и твердым в самые тяжелые, тоскливые дни.
Давно он лелеял мысль самому сразиться с врагами, испробовать в бою свою силу. А он ее чувствовал в себе: коренастый, немного сутулый, широкоплечий, он побивал в кулачных боях самых завзятых бойцов. Можно ли ему так легко, как советовали старики, покориться судьбе?
Бесплодные штурмы Смоленска подняли дух не только у Гаврилки. Многие крестьяне, видя неудачи панов, ушли в лесные дебри и оттуда совершали смелые набеги на Московскую дорогу. Они ловили королевских гонцов, нападали на польские обозы и патрули. Поляки прозвали их шишами, то есть бродягами, сбродом, разбойниками.
Гаврилку не тянуло в лес. Куда лучше казалось бить поляков из крепости огненным боем. Ведь недаром же его учил стрельбе смоленский пушкарь Данила Сомов.
Это было до нашествия поляков на Московское государство, до лета 1610-го. В праздники взбирался он на четырехугольную башню близ Копытинских ворот и подолгу слушал чудесные рассказы старого смоленского пушкаря о войне. У Гаврилки появилось уважение к бронзовым махинам, глядевшим своими жерлами из бойничных окон. Парень с особым усердием протирал куделью таинственную пасть орудия.
Светило солнце. Сквозь прорези башенных зубцов снизу, среди зелени синел Днепр. Над остроконечной вершиной Копытинской башни в небе кружили ястреба. Гаврилке вспомнились эти дни, и его неудержимо потянуло опять туда, к большой пушке, которую старик Данила почему-то звал «хозяйкой» («моя хозяйка»).
Седой привратник занес бердыш над головою парня, опросил его и после этого впустил внутрь.
– Сожгли? – кинул он в сторону зарева.
– Да… – грустно вздохнул Гаврилка.
– Лютуют… Чего там! Горе. Вчера тоже вот Овчинникову гать… Каждый день жгут…
Гаврилка перебрался через второй высокий внутренний вал. Здесь его окружили караульные стрельцы и повели в Воеводскую избу «для сыску», Разузнав, кто он и зачем явился в крепость, стрелецкий десятник для достоверности отвел его к пушкарю Даниле Сомову. Тот признал парня и согласился взять к себе. Данила предупредил: не следует верить затишью. Надо быть настороже.
– Того и жди, опять пойдут, – вздохнул он. – Тайком, проклятые, роют норы, тщатся пролезть под землею. Приказывают московским послам явиться к королю говорить о мире… а сами роют и роют. Хорош мир! Не мира хотят они, а нашей гибели… Не будь простоволосым, парень, гляди зорко.
Гаврилка и без того знал, что такое сладкие речи панов… Давно ли в Тихие Сосны приезжал их региментарь[1], клянясь, будто король жалеет русских тяглецов-крестьян, будто идет он против боярской смуты, хочет образумить алчных вотчинников и дать волю крестьянам…
И о московских послах, прибывших от Боярской думы в королевскую ставку под Смоленск, известно было крестьянам. Просят послы отпустить в Москву на царский престол королевича Владислава да увести польские войска из Московского государства. Король – ни «да», ни «нет», – томит послов. Ожидается новая беседа послов с панами.
В деревнях рассудили так: умыслил он присоединить Русь к Польше, чтобы вогнать крестьянство в еще большую кабалу, нежели то было прежде, при московских царях. Тогда крестьяне были рабами только русских бояр и дворян, а теперь их хотят сделать еще и рабами польской шляхты. Тогда давил один тиран, а при королевском иге будут два тирана. Четыре года назад народу под началом Болотникова не удалось свергнуть дворянское иго, а при двойном иге и вовсе никогда не вылезешь из кабалы! Об этом много разговоров было в Тихих Соснах. Народ истомился в крепостной неволе, но и мысли не допускал, что иноземные завоеватели могут быть полезны ему. Не верил ни в какую помощь со стороны русский народ, верил только в свои силы.
Гаврилка, дрожа от горечи и гнева, глядел между зубцов башни на догорающие остатки Тихих Сосен. А пушкарь Данила утешал:
– Не горюй, парень! Все одно умирать. Так мы тут и решили на земском сходе: всем полечь, а не сдаваться… Две трети нас осталось… Одна треть уже полегла в боях и от цинги… И мы будем биться до последнего.
II
Великий канцлер Лев Сапега принял вызванных в королевскую ставку московских послов. Возглавлял посольство на этот раз князь Василий Васильевич Голицын. Другой великий посол, Филарет Никитич Романов, сославшись на болезнь, в ставку не пошел.
– Итак, – заявил Сапега, – нам с вами настало время решить судьбу Московии! Пора и Смоленску образумиться, а вам, послам, убедить боярина Шеина склонить свои знамена перед Речью Посполитой[2]. Он должен сдать крепость без замедления.
Сапега прочитал грамоту, полученную им из Москвы от семи бояр, управлявших государством после свержения царя Василия Шуйского. В этой грамоте послам приказывалось поступать во всем согласно королевской воле.
– За известие о боярской грамоте низко кланяемся, – сказал Голицын, – но Смоленска отдать не можем. Посланы мы не от одних бояр, а и от патриарха, и всего священного собора, и от всех чинов, и от всей земли и отвечать должны перед ними. Нынешняя же грамота прислана одними боярами, и то не всеми. А от всего народа никакой грамоты к нам нет. Можем ли мы отдавать свою родную мать-землю без всенародного земского схода?
– Rola – mac kto jej moze rade de[3] – усмехнулся Сапега.
– Истинно, вельможный пан!.. Но мы пока того не видим, чтобы вы хорошо нами управляли. Мы видим убийства, пожоги, грабежи…
Сапега побагровел:
– Вы мудрите! Опасайтесь!.. Как бы мы вас не перемудрили.
Тогда вперед выступил, мягко, на носках, приземистый дьяк Томило Луговской. Тряхнул своими пышными кудрями, добродушно улыбнулся:
– Просим прощенья, господа паны! У нас говорят: корми, как земля кормит; учи, как земля учит; люби, как земля любит. Так-то, милостивые паны! Можете ли вы огнем и мечом удовольствовать нас?! Подумайте!
Сапега, прищурив глаза, высокомерно осмотрел Луговского.
– Хитрить изволите, – процедил он сквозь зубы.
Шумно поднялся со своего места начальник осады Ян Потоцкий, сказал что-то Сапеге по-латыни. Все паны вместе с Потоцким и канцлером удалились в соседнюю комнату.
Томило Луговской в отсутствие их начал осуждать митрополита Филарета Никитича Романова за то, что он не пошел на сегодняшнее свидание с панами. Голицын, слушая Луговского, улыбнулся, промолчал. Не время раздорам. Пускай люди доказывают, что он, Голицын, имеет больше Романовых прав на престол, – сам он теперь об этом не скажет ни слова. Василий Васильевич старался в посольских делах ставить Филарета на первое место, но митрополит сам избегает встреч с панами и споров с ними… Вот и теперь… явно схитрил…
Послы особенно ревниво следили за тем, чтобы никто не уклонялся от встреч с панами. Положение день ото дня ухудшалось. Настойчивость Голицына и других послов начинала приводить панов в бешенство. Каждый день могла разразиться королевская гроза над посольским лагерем. Это многие поняли. И, тайно приняв сторону Сигизмунда, под тем или иным предлогом уехали в Москву. Так поступил и келарь Авраамий Палицын, прославленный монахами Сергиевской лавры как герой. Он получил от Сигизмунда, вместе с новоспасским архимандритом Евфимием, отпускную грамоту к патриарху. В ней говорилось, что они приходили к королю от всего Московского государства с послами бить челом о королевиче, что король их челобитье слушал и отпустил их в Москву.
Из сверхтысячного посольства осталось всего человек тридцать, твердых, неуступчивых.
Дверь сенаторских покоев отворилась. В комнату опять вошли Сапега, Потоцкий и другие паны-сенаторы. Лица их были надменны; у некоторых на губах играла насмешливая улыбка.
Сапега в первый раз позволил себе вести беседу с послами, развалившись в кресле, подчеркнув тем самым перемену в обращении с ними. Паны, подражая ему, каждый по-своему, старались показать, что у ясновельможной шляхты нет никакого уважения к послам, что они не признают их за настоящих послов, считают их ниже себя. Сапега заявил, польские власти, мол, оказывают им, послам, большую честь, терпеливо поддерживая эти нескончаемые переговоры.
– В прошедшие дни вы ссылались на то, – сказал Сапега, – что у вас нет приказа от своего правительства.
Но теперь приказ, подписанный главою правительства князем Мстиславским, получен, а вы упрямитесь и не желаете подчиниться королевской воле.
Голицын, на этот раз тоже сидя в кресле, ответил:
– Но не ты ли, пан гетман, уверял нас, что его королевское величество позволил крест целовать одному токмо королевичу? И к тому же не ты ли обещал увести войска свои из России? Чего же ради отпираешься ныне от своих обещаний?!
– Может ли его величество отпустить сына без сопровождения войска?.. Подумайте! Кто из вас поручится за безопасность жизни королевича в Москве? И какие же вы послы, если не слушаете своего правительства?
Положение Голицына и послов становилось затруднительным. Они, действительно, отказывались исполнить приказ своего боярского правительства. Голицын с достоинством спокойно ответил:
– Семь кремлевских бояр-правителей меньше знают, нежели мы. Нас отпускали от всей земли. От одних бояр мы бы и не поехали.
Сапега полунасмешливо произнес:
– Дух святой вложил прояснение вашим семи боярам… Они теми же словами вам указывают, какими и мы от вас того же требовали. Кто, как не бог, открыл им все это? Вам тем паче надлежит повиноваться воле его крулевского величества. Патриарх – духовная особа, ему не до земского дела… А народ? Стоит ли о нем говорить?..
– Земские люди – великая сила в нашей стране… – заметил ему Голицын. – Это народ!
Кое-кому из высокородных русских дворян, находившихся в посольстве, не нравилось, что Голицын постоянно ссылается на земских людей, то есть на посадских и крестьян.
Канцлер знал о таких настроениях среди бояр.
– Давно ли русские князья стали холопами своих холопьев? – язвительно спросил он.
Голицын горько усмехнулся.
– С тех пор, – ответил он, – как паны захотели сделать русских князей своими холопьями…
Сапега, не удостоив его ответом, строго сказал:
– Смоляне в упорстве своем закоснели… Они хотят с вами, послами, увидеться и говорить. «Что наши послы прикажут, то мы и учиним», – заявили они.
– Такой ответ достойно слушать, – с радостью произнес Голицын.
Послы не скрывали того, что они довольны стойкостью смолян. Сидевшее в Московском Кремле Семибоярщина, по-видимому, стало уступать панским требованиям. Смоленский воевода не желал идти на поводу у Семибоярщина. Московские послы также решили действовать самостоятельно.
Пребывание в польско-немецком стане многое уяснило им. А вчера они убедились и в том, что порабощенная Польшей Литва отнюдь не вся на стороне Сигизмунда. Многие литовские люди тайно приходили в шатры к послам, высказывая свое сочувствие и желание отложиться от Польши. Они доказывали, что Литва ближе, роднее москвитянам, нежели панам. Жаловались и на иезуитов, стремящихся расторгнуть союз Западной Руси с Восточною, искоренить в Литовском княжестве все русское.
Москва, находившаяся за спиною послов, выросла в глазах послов и представлялась им уже не такою беспомощною. Сами паны это, конечно, чувствуют и потому торопятся скорее покончить со Смоленском.
– Ну, о чем же вы задумались? – ледяным тоном спросил Сапега. – Чего молчите? Вы хотите, чтобы лилась христианская кровь? Бог за нее с вас взыщет.
Голицын сказал:
– У гетмана Жолкевского было пять тысяч войска, когда он подошел к Москве, а у нас тридцать. Мы могли бы драться с гетманом и победили бы, но бояре пустили вас в Кремль, поверив, что вы явились к нам как союзники против бунтующих крестьян и тушинского вора… Но можно ли теперь назвать польский гарнизон в Москве союзниками? Не пан ли Гонсевский удалил в уезды стрельцов и проливает в Москве невинную кровь? Вы обманули нас.
– Пан Гонсевский карает заговорщиков и бунтовщиков. Если вы не хотите попасть в их число, то должны приказать Шеину сдать Смоленск.
– Такого приказа мы не дадим! – категорически ответил Голицын.
Нарушив порядок посольского обмена мнениями, Потоцкий, красный, возбужденный, вскочил со своего места и, перебив канцлера, громко закричал:
– Потом пожалеете!.. Вы принудите нас разговаривать по-другому!
Палата огласилась негодующими криками шляхты. Некоторые из панов размахивали кулаками, грозя «камня на камне не оставить от Смоленска».
Уходя вместе с послами, Голицын сказал Сапеге, указывая на его окружение:
– Паны слишком откровенно изъявляют свое «доброжелательство» к Московии; не привыкли мы к таким разговорам и угроз не убоимся!..
* * *
Сапега долго стоял в раздумье около дверей королевских покоев, а потом вошел к королю сильно смущенный, ожидая гневных нападок и упреков с его стороны.
Сигизмунд сидел перед зеркалом, охорашивая свои пышные усы, закрученные вверх. Взглянув на отражение Сапеги в зеркале, он, плохо выговаривая польские слова, спросил:
– Что нового, канцлер?
– Голицын упрям по-прежнему, ваше величество.
Сапега с трепетом смотрел искоса на освещенную в зеркале остроконечную королевскую бороду. Ему удалось увидеть слегка накрашенные королевские губы, на них играла благодушная усмешка. У канцлера отлегло от сердца.
– Послушайте, Сапега… Пошлите от меня гонца к Шеину. Внушите ему, что Москва присягнула мне, королю… Обманите упрямца. Гоните скорее, а послов окружите стражей… будто бы для охраны их от солдатского гнева, а на самом деле, чтобы они не снеслись с Шеиным. – Король вздохнул. – Удивительное п-л-э-мя!
– Но поверит ли он? – робко спросил канцлер.
– А не поверит – на приступ пойдем… Завтра же на приступ!
Канцлер поклонился и, быстро написав тут же, в королевских покоях, письмо, подал Сигизмунду. Тот, прочитав, махнул рукой.
– Обещайте награду!
Король был в игривом настроении. (Приехал старый друг из его родной Швеции – Себергрен. В честь его готовился бал.)
На буйном коне в крепость помчался, держа высоко на копье белый флаг, гонец канцлера, самый красивый из шляхтичей. Шлем его украшали развевающиеся перья, за плечами серебристые крылья, лошадь в пурпурной с золотом попоне, а на ее голове медный шлем с пышным страусовым султаном.
Шеин велел открыть башенные ворота. Он принял гонца ласково, с лукавой улыбкой оглядел его, а потом усадил за стол, угостил вином в Воеводской избе. Прочитал грамоту не торопясь. Покачал головой и молча написал:
«Хотя Москва королю крест и целовала – и то сделалось на Москве от изменников. Изменники-бояре осилили. А мне Смоленска королю не сдавать и ему креста не целовать, и будем биться с королем до тех мест, как сила будет…».
Шляхтич низко поклонился Шеину и стремительно понесся с его ответом в королевскую ставку.
III
Приуныл посольский лагерь. Боярская грамота явилась доказательством того, что партия «королевских советников» (Салтыков, Андронов, Масальский и другие) перетянула московское боярское правительство на сторону короля.
Вчера, после свидания с послами, Сапега послал Голицыну грамоту: «Секира лежит при корени дерева. Если вы не сделаете по воле королевской и не впустите в Смоленск наших людей, то увидите, что завтра будет со Смоленском».
Голицын ответил: «Мы требуем полного увода, всех до единого, польских солдат из русской земли… Ни одного вашего воина не должно оставаться на нашей земле!»
Пришла еще записка. Канцлер пытался запугать послов шведами, забиравшими города на северо-западе, пугал тушинским самозванцем, к которому ушло из Москвы триста дворян. Послы остались при своем: добровольно не сдавать Смоленска.
И вот эта ночь!.. Свою угрозу паны приводят в исполнение: воевода Потоцкий разрушает Смоленск. Разгневался король, ожесточились шляхтичи, озверели утомленные долгой, безуспешной осадой солдаты и полчища немецких наемников – все пришло в движение: люди, кони, пушки.
В последние дни жолнеры[4] и загнанные плетьми в канавы пленники, словно кроты, изрыли землю вокруг крепости. Немецкий инженер Апельман провел подступной ров к четвероугольной башне влево от Копытинских ворот. Прошлою осенью осажденные взорвали часть этого рва, но Апельман, не щадя людей, под огнем смоленских бойцов, снова исправил повреждение. Довел ров до самого основания башни. Здесь землекопы наткнулись на глубокий фундамент из крепкого тесаного камня. Пришлось остановиться. Потоцкий бил огнем именно по этому месту.
В отсветах начавшегося орудийного боя по земле ползали тени башен… Жутко рявкали польские орудия, долбя крепостную стену. Им отвечали пушки смолян. Облака красноватого дыма медленно расплывались в тихом воздухе.
Большое, покрытое первым снегом поле казалось пустынным, но ни для кого не было тайной, что панская пехота где-то тут поблизости, во тьме, хоронится за высокими насыпями-турами, готовая каждую минуту пойти на приступ.
Но вот королевский стан огласился барабанным боем, уханьем литавр и стоном рожков… Послышался топот и рев бегущих солдат. Закашляли самопалы, с новой яростью ударили по крепости пушки… Сигизмундово войско, снабженное кулями, набитыми мхом, лестницами, выбивными ступами, зажигательными приборами, двинулось на приступ.
Земля дрогнула от взрывов мин, подложенных под стену… Всюду вспыхивали огоньки ружейных выстрелов.
Голицын снял шлем, перекрестился.
– Буянов! – дотронулся он дрожащей рукой до своего телохранителя-стрельца. – Слышишь?! Буянов! Нам бы в крепость! О господи!
Филарет встал на колени, произнося вразумительно, неторопливо вслух молитву.
Стрелец пытался успокоить своего начальника:
– Мужественная твердость на Руси издавна. Застращаешь ли стенобитием Михаила Борисыча?!
Хотел еще что-то сказать, но гром нового взрыва заглушил его. Ядро польского орудия попало в один из пороховых погребов. Заплясали огненные вихри по стенам, туча искр полетела в поднебесье.
– Гляди, гляди!.. – крикнул Филарет. – Стены градские усыпаны народом!..
При ярком желтом свете пожара, действительно, показались суетливые маленькие фигурки оборонявшихся смолян. Отчетливо видны были знамена с колеблющимися от огненной бури длинными концами. Замелькали огни во всех тридцати восьми крепостных башнях. Крепость вступила в бой.
– Держись! Сто-о-ой! – кинулся вперед Голицын, как будто его могли отсюда услышать.
Буянов испуганно последовал за ним:
– Князь! Опасно! Обожди!
Филарет рассердился:
– Что с тобой?! – грубо дернул он Голицына за рукав. – Вчера сам же дал тайный приказ не сдаваться?! Небось не сдадутся.
Голицын притих, вглядываясь в ту сторону, где шел бой.
Когда масса врагов повалила в пролом стены, загремел тревожный набат всех смоленских колоколен. Пушечный огонь потоком хлынул с крепостных башен, разметав толпы осаждавших. Смоляне с флангов неутомимо громили панскую пехоту.
Голицын опять пришел в беспокойство. Казалось, он сошел с ума: рвался вперед, кричал что-то, с силой отталкивал от себя митрополита и Буянова.
– Василь Васильич!.. Васильич! Опомнись! Бог с тобой! – уговаривал его Филарет. – Великие дела решаются в спокойствии… с умом! Ты посол, а не воин! Спаси бог, услышат! Остепенись!..
Стрельцу не нравились причитания митрополита. Не раз он, Буянов, бывал с Голицыным в боях, не раз он вместе с другими воинами заражался боевой отвагой, которая всегда кипела в душе Василия Васильевича. Ну, разве понять монаху, бывшему боярину Романову, что творится в душе истинного воина!
* * *
Ворвавшийся неожиданно в пролом стены свежий наемный полк немецкой пехоты наткнулся на высокий вал – внутреннюю защиту Смоленска. Немцев встретили огонь и туча стрел. Полуразрушенная стена около Копытинских ворот рухнула. Под ее обломками погибло много врагов, а успевшие проскочить оказались в западне. Женщины и подростки, столпившись на валу, опрокидывали вниз ушаты с кипятком, закидывали немцев камнями, ослепляющим песком. С факелами, саблями и длинными копьями в руках немецкие наемники упрямо карабкались на вал. Они гнусно ругались, проклиная смолян, и снова скатывались вниз. Смоленский воевода Шеин появлялся то здесь, то там, ласково подбадривая народ. В одном месте немцам удалось вскочить на хребет вала, но Шеин бросился туда, вступил с ними в отчаянную борьбу. На помощь прибежала толпа горожан. Общими усилиями сбросили немцев вниз.
Теперь пушечный грохот перешел в унылый, однообразный гул. Полякам удалось пробить стену и со стороны Днепра, – туда направились в пешем строю стоявшие в резерве пять гусарских рот. Стройными рядами, держа перед собой громадные с вытисненными крестами железные щиты, подошли они под предводительством боевого старосты Струся к замерзшему широкому рву. Несколько человек, ступивших на тонкий лед, провалилось и утонуло. Положив на головы тяжелые щиты, раздосадованное гусарское войско, похожее на полчище большущих черепах, позвякивая железом, круто повернуло обратно в свои земляные норы.
Орудийная пальба прекратилась.
Казалось, наступило затишье. Можно было бы отдохнуть. Но только что смоляне оправились после боя, как увидели при свете фитилей своего воеводу между зубцов угловой башни. Он спешно навел орудия на отступавших немцев. Радостно вскрикнули все бывшие на валу при виде того смятения, которое произошло в беспорядочно бежавшей толпе врагов.
Смоленский архиепископ Сергий с крестом в руках поднялся на башню и плачущим голосом стал умолять Шеина прекратить стрельбу, не озлоблять короля, сдать ему город… Черный, косматый, он уцепился левой рукой за кольчугу Шеина, произнося свои заклинания, лез лобызаться, мешал военным распоряжениям.
– Уйди! – оттолкнул его Михаил Борисыч. – Не склоняй к бесславию. Уйди!
Узенькие глазки архиепископа стали злыми. Он спустился с башни на вал, всенародно осуждая воеводу.
– Вот бы кого к Жигимонду[5]! Въяве помогает врагу, – проворчал Шеин и, как бы назло трусливому иерарху, с еще большим усердием развил огонь по неприятелю.
Раздосадованный неудачей, гетман Потоцкий снова повел свои войска на приступ. На глазах смолян под огнем польских орудий распалась на три части красавица Грановитая башня, а с нею рухнула и прилегающая к ней часть стены.
Воевода с немногими ратниками поспешил к этой новой пробоине. Лучшие части запасной неприятельской пехоты пошли в атаку.
Опять завязался бой. Жители Смоленска и съехавшиеся в город крестьяне, все от мала до велика, вступили в схватку с врагом; били его кто и чем попало: кто из пращи, кто бердышами, кто рогатиной, кто вилами.
И этот штурм потерпел неудачу. Потеряв много воинов убитыми и ранеными, Потоцкий отступил ни с чем.
Следом за неприятелем жители города спустились с вала заделывать пробоину в стене. Работали дружно, не страшась неприятельских пуль и ядер. Вчерашняя угроза короля осталась пустой похвальбой: защитники Смоленска отстояли свой город.
Гордо застыла во мраке Днепровская пятнадцатисаженная башня, ощетинясь в сторону врага многими пушками с пятиярусных бойниц. И как бы соперничая с нею, тяжелой глыбой нависала над крепостными валами Молоховская башня. Пробившийся сквозь облака лунный свет посеребрил тесовый шатер ее верхушки и выпуклые каменные пояса ее бойниц.
Недаром бывшие в войске Сигизмунда иностранные гости называли смоленскую крепость «неприступной». Подъемные мосты, двойные брусяные ворота, спускные решетки, а за стенами восьмисаженный ров с высокой бревенчатой оградой – и все это, по выражению самих смолян, делало их крепость «непобедимым укреплением».
На Днепре выла подстреленная шальной пулей собака. Мирно светили звезды.
* * *
Шеин обошел смоленские стены. Осмотрел поле, берег Днепра. На снегу лежали убитые и раненые.
Шеина сопровождало несколько стрельцов. Везде, в башнях и на стене, ходили «караульные мужики» и посадские. При появлении Михаила Борисыча они низко ему кланялись.
На четвероугольной башне, близ Копытинских ворот, Шеин увидел того самого парня, который на днях открыл ему заговор нескольких боярских детей[6] против него и который помог ему сбить пехоту в пробоине близ рухнувшей Грановитой башни.
– Как звать тебя? – спросил воевода, повернув парня лицом к лунному свету. – Молодой… смелый… честный… Давно я присматриваюсь к тебе.
– Гаврилкой Ортемьевым. Крепостной я Зарецкого князя… разоренец… из Тихих Сосен.
Шеин в раздумье взял его за руку и отвел в бойничную келью. Здесь с глазу на глаз воевода тихо сказал парню:
– Как видится, не ошибусь я. Слушай меня. Вот грамоты. Скинься вниз, беги в посольский табор, отнеси к князю Василию Голицыну, а другую – воеводе Ляпунову в Рязань. Да скажи: будем стоять до смерти. Берегись, не попадайся ляхам!..
Гаврилка взял грамоты, спрятал за пазуху, поклонился Шеину. Тот обнял его, перекрестил.
Мало кому воевода доверил бы это дело, но раскрытие Гаврилкой заговора расположило Шеина к нему. Случайно услыхал Гаврилка, как вязьмичи – боярские дети – в башне говорили: «Завтра и позавтрее кровь христианская прольется, и город надо отпереть. Мы, вязьмичи, станем в прикрытии по башням со смолянами, которые тоже с нами будут, и учнем мужиков и посадских людей сечь. Шеин нас губит со своими посадскими людьми, королю и королевичу крест не целует. И мы Шеина, сгребя, выдадим за стену, будет и он с Шуйским в Польше пленником… Не хотим мы сидеть насмерть с Шеиным и посадскими…» За эти речи смоляне умертвили боярских детей.
Гаврилка низко поклонился:
– Добро, воевода. Прощай!..
Шеин продолжал:
– Крест целую народу: мы не сдадимся… А ты беги, куда прикажут послы… Беги по городам и посадам. Говори о нас. Сойди осторожно. Ногу не сломи, берегись!..
В темном углу, у выступа башни, спустил Гаврилку на мочальном канате сам Михаил Борисыч.
У подножия башни парень осмотрелся, перебрался через валы, пригнулся и пополз по полю в сторону посольского лагеря. Шеин с тревогой следил за ним.
IV
По всем дорогам от Москвы разбрелись шайки сапежинцев[7], Лисовского и других панов атаманов, а также тушинские князьки, разбитые под Москвою. Многие из них пытались захватить Нижний Новгород. Богатый, расположенный на выгодном месте при слиянии рек Оки и Волги, не тронутый всеобщим разорением, он был лакомой приманкой для польских и тушинских атаманов[8]. Еще при Василии Шуйском они пытались овладеть им, но всякий раз под натиском нижегородцев отступали.
После налетов этих шаек от деревень и посадов оставались лишь угли и обгорелые трупы.
Однажды под вечер на муромских путях к Нижнему, в селе Погост, произошел великий переполох. Прибежали две женщины к старосте, закричали в голос. Оказалось, они видели в лесу многих польских всадников, пробиравшихся к Погосту.
Жители села стали молиться, приготовившись к неминуемой гибели. Некоторые из них, укутав в овчины детей, убежали в лес. Остальные решили: что в лесу умереть от голодной смерти, что от руки разбойников – все одно. Но случилось не так, как думали погостовцы.
Едва паны вошли в село, на них стремительно накинулась толпа неизвестных всадников, выскочивших из леса. Замелькали мечи, сабли, копья. С гневными выкриками врубились в гущу поляков разъяренные витязи. Один за другим посыпались с коней польские гусары. Погостовская улица огласилась криками людей, лязганьем железа.
На снегу валялись уже убитые; тут же корчились в судорогах раненые.
Лужи крови темнели около дороги.
Вражеский отряд, привыкший без труда занимать мелкие селенья, не выдержал удара неведомых ратников, хорошо вооруженных, одетых в непроницаемую броню, плотно сидевших на своих громадных сытых конях…
Куда девалась спесь панов и немецких латников! Каждый из них стремился поскорее ускакать прочь. Из-за деревьев на них неожиданно нападали погостовские жители. Страшными вилами и дубинами они валили беглецов с коней. Мужчины, женщины и дети толпами бегали по опушке леса, не пропуская ни одного всадника.
Во время этой неожиданной сечи своею храбростью среди напавших особенно выделялся великан-бронник, немолодой широкоплечий боец, удивительно ловкий и подвижный, несмотря на свою громоздкость. Одет он был в дорогую мелкотканую кольчугу поверх обыкновенного охабня[9], какие носили средние посадские обыватели. Голову его прикрывала круглая железная стрелецкая шапка с наушниками; вместо сапог он был обут в новенькие крестьянские лапти. Теперь, после боя, он был похож скорее на мирного крестьянина, нежели на воина, – так добродушно, с лукавой улыбкой, смотрели его черные глаза на обступивших его погостовских жителей.
Спокойно и с наивным довольством, поглаживая бороду, оглядел он землю, усеянную убитыми и ранеными, вздохнул, покачал головой, как будто говоря: «Э-эх, люди! Сами на рожон полезли…» Снял шапку, обтер с лица пот и перекрестился:
– Возблагодарим, братцы, господа бога, что помог нам… Помолимся о душах убиенных…
Стоявшие вблизи его ратники тоже сняли шлемы и в глубоком молчанье осенили себя крестом.
Повылезли из своих нор старики и старухи, собрались и те, что гонялись за врагами по околицам. Молча вздыхали, молились, говорить не хотелось.
– Коней ловите! – сдвинув брови, строго крикнул великан толпе. – Пригодятся! Одежонку со шляхты, прости господи, тоже поснимайте, а убиенных наших и ляхов с молитвою предайте земле… Хотя и не православные, однако и они подобие божие, люди. Бог им судья!
Погостовские поняли, что этот человек среди ратников старший; его все слушают, а особенно два молодых воина, которые все время держались около него. И ночевать он устроился с ними в одной избе, у старосты. Здесь он долго беседовал с теми двумя приближенными к нему воинами. Семья старосты слышала, как он говорил им:
– Ты, Родион Мосеев, и ты, Роман Пахомов, не торопитесь из Москвы. Выполните по совести приказ нижегородцев. Разузнайте все… И у Гермогена, патриарха, побывайте и земляка нашего, Буянова, навестите. Насчет Смоленска узнайте. Держится ли? Чует мое сердце, продают бояре нашу землю и всех нас продают проклятому королю. К весне и я вернусь в Нижний. Там сойдемся. А вы уж побудьте в Москве, обживитесь, разведайте обо всем.
Мосеев и Пахомов дали клятву исполнить наказ Нижнего Новеграда в точности, называя своего собеседника Кузьмой Миничем.
– Давно бы уж надо мне домой, – со вздохом сказал он, оглядывая сидевших за столом, – да вот, вишь, не приходится. Лезут, демоны!.. И у меня ведь есть сынок, уж велик… воевать может… Хотелось бы повидать его… Да как уйдешь-то? Вона сегодня што было! Из Мурома выбили супостатов, а они по деревням промышлять начали. Никак не угонишься за ними.
Он рассказал хозяевам дома, что нижегородские люди под начальством воеводы Алябьева давно уже обороняют свой город.
Немало хищников зарилось на Нижний.
Как ни трудно приходилось нижегородцам, всё же отстояли, – никому не удалось овладеть Нижним. Алябьев окончательно очистил окрестности города от врагов, но борьба не прекратилась. В соседних уездах нет-нет да появятся новые шайки. Нужно и с ними покончить.
– Однако, добрые люди… – задумчиво барабаня пальцами по столу, произнес Кузьма. – Нижний Новеград – еще не Русь. Пока не выгоним ляхов изо всех углов нашей земли, до тех пор нам не будет жизни. Не прискорбно ли: первопрестольная в руках злодеев!.. Можно ли успокоиться на благоденствии Нижнего, коли полземли русской в кабале у панов?!
Кузьма Минич назвал Родиона Мосеева и Романа Пахомова «очами и ушами нижегородцев».
Он сказал, что в Нижнем будут ждать с нетерпением их возвращения из Москвы.
Расстались на заре.
Всё население Погоста высыпало на волю при звуках трубы и громкого голоса Кузьмы.
Оба молодца сняли с себя кольчуги, шлемы и сабли и отдали стрельцу, провожавшему их.
Они остались в одежде странников: через плечо сумки, посохи в руках, а на груди медные кресты.
На прощанье Кузьма сказал:
– О Ляпунове узнайте. Что затевает он? С кем идет?! Истинные ли защитники с ним? Правду хотим знать, всю правду. Да берегитесь! Хороните свою тайну пуще глаза.
V
В один из притонов на окраине Москвы набились ночлежники.
Сюда же в эту ночь забрел и бывший при Лжедимитрии I патриархом, ныне – инок, Игнатий. Находясь в заточении в Чудовом монастыре, он часто отлучался из Кремля с позволения польских властей. Теперь он обнищал, мало чем отличаясь от обыкновенных монахов, бродивших повсеместно в поисках милостыни. Всеми отвергнутый, он старался скрывать свое имя и свое прежнее положение в государстве.
Примостившись на полатях, он громко и тяжело вздохнул:
– Что есть жизнь? Господи! Превратность!.. И чего люди пришлые ищут в нашем граде? Текут и текут изо всех уездов… И откуда и зачем – господь ведает!
– Буде! Не тоскуй! – оборвал его парень в волчьем треухе. – Тебе одному, што ль, в Москве жить? Ишь ты!
Из-за спины Игнатия выглянул пришедший с ним вместе кремлёвский приживальщик – скоморох Халдей. Лицо его, вымазанное красками, не смутило парня:
– Ты чего?!
– Бог в помощь, дерзай! – улыбнулся скоморох. – Люблю таких, непонятных.
– Умой харю!.. Зачем намазал?
– Больно уж ты гневен. Откуда? С каких мест такой кусака?
– Отсель не видать, дальний человек, а зовусь Гаврилкой… Слыхал ли? Воеводе не брат и тебе не сват.
В углу захихикали. Плошка с маслом на столе чадила, угасая. Колебал пламя сквозь щели декабрьский ветер. Обледенелое строение содрогалось от его порывов. Недели две назад польское начальство запретило подвозить к Москве дрова. Холодом пыталось оно вытеснить жителей, но люди стали настойчивы, не сдвинулись с места.
Игнатий хотел что-то сказать, но раздумал. Черные глаза его смотрели умно, смущали людей.
– Эх, братцы! – усмехнулся Гаврилка. – Легше железо варить, нежели с дворянами да с попами жить!
– Молод судить. Молод! – тихо, сказал Игнатий. – Горя ты еще не видел настоящего… Несогласие твое от молодости. Жалко мне тебя. Темен ты. В попах – вся сила, у них – согласие и свет разума…
– Врешь, батька! Откуда же у черных людей единомыслие?! А?! – вступился в разговор молодой странник, лежавший на полу.
– От нужды! – ответили разом несколько человек.
– Одних смоленских разоренцев тыщи… Чем будут жить?! Куда денутся? Где найдут пристанище?
– Бегут?!
– Кто на Волгу, кто на Дон… а больше на Рязань… да туда, к Нижнему. На своей земле – везде дом.
Скоморох слез с печки. Игнатий задумался.
В углу на скамью рядышком втиснулись Гаврилка, странник и скоморох.
– Старче Игнатий, друг! В высоких чинах ты находился… бывал и в Турции и в Литве, а познавать горя человеческого не можешь… – сказал скоморох.
– Я што! – вспылил Игнатий. – Смиренный инок, выпущенный на сутки из заточения, страдалец! Сам знаешь, господь простит меня, несчастного! Зря лезешь!
– Полно! Чего притворяешься? Меня нечего бояться, – не унимался скоморох. – Кабы не такое дело у тебя вышло, ты плюнуть бы на нас и то счел бы недостойным для себя. Хороши вы, когда в беду попадаете, вежливые, а то и нос кверху… Глядеть на нас не хотите… Знаем мы ваше смирение!
– Не болтай, Халдей, – на всяк час не спасешься, разные люди тут есть, – вздохнул инок, свесившись с полатей и пристально разглядывая присутствующих. И заметил, что парень в треухе с кем-то перемигивается.
– А ты не таись, парень! Кто ты и откуда? – пытливо спросил он Гаврилку. – Нас не бойся… Одинакие все, убогие.
Парень усмехнулся:
– Кто я?! Селуян Селуянов, не трезвый, не пьяный, тебе не товарищ, по имени Черт Иваныч. Кислая шерсть, такая же, как и все прочие зимолеты.
– Издалеча ли? – вытянувшись на полатях, еще вкрадчивее спросил Игнатий.
– Говорю, отсюда не видать… Лесом загорожено.
– Ну, а ты? – кивнул инок другому парню, высокому, красивому страннику с медным крестом на груди.
– Волгарь я… Рабов не имею… Ветра в поле ищу… Вот и все тут. Сам на себя дивуюсь – чем жив?! Ей-богу!
Из-под тряпья, из углов, с любопытством потянулись глазастые ночлежники. Голос волгаря звучал смело:
– Да оно так-то и лучше! Сколь рабов, столь и врагов. Многие бояре посему в королевский стан и переметнулись. Боятся своих же. Земля под ними шевелится. Болотников везде чудится! Вот человек-то был! Всех богатеев запугал.
– Нас прикрепили, а сами с нее бегут? – отозвался на его слова кто-то с усмешкой.
– Не плачь! Король Жигимонд новых наделает! Без бар не будем. А бегать все одно будем, – усмехнулся Гаврилка.
– Чего уж тут! Нашего брата хоть маслом мажь, все одно будет дегтем пахнуть, – добавил волгарь и, хлопнув кулаком по столу, загорячился: – Ужо им! Поревут еще! По всей земле обида и злоба. Даром-то не пройдет! Теперь бы батюшку царя Ивана Васильевича – он бы живо измену вывел… Правильный был, царство ему небесное.
– Гляди, братцы! Сразу видать нездешнего! Храбрые речи давно не слыхивали. От лютой насильственной смерти люди ошалели, оставляют дома свои, со страха скрываются в чащах древних. Страх везде! Молитесь, чада мои, молитесь!
Игнатий широко перекрестился.
За ним и другие, кроме Халдея.
– А боярам что? – продолжал он. – Ведут они сидячую жизнь, тучнеют от нее жестоко и приобретают тем себе уважение… (Инок явно стал подлаживаться под общий разговор.)
Лицо волгаря было молодое, румяное. Сам – сложения плотного, высок ростом, под стать Гаврилке.
– Не пора ли, братцы, и соснуть? – сказал он, громко зевая. – Утро вечера мудреней… Право! Всего не переговоришь! Да и не всё то говорится, что думается.
– Отвыкли мы, молодец, спать-то… Опасаемся… Яко пагубные волки, вкрались враги в ограду Москвы. Житья от них нет. Мне бы теперь патриархом быть, а я в заточении сижу… Вырвался сегодня, погулял, а наутро опять в Чудов монастырь, в застень… – еще смелее заговорил Игнатий.
– Не бойсь! Москва землю переживет! – укладываясь на скамью, бойко откликнулся волгарь, а через несколько минут захрапел на всю избу. Его примеру последовали и другие, в том числе и скоморох с Гаврилкой.
Когда хозяин притона, худой, высокий, одноглазый человек, убедился, что все спят, подошел к иноку. Вытянулся к полатям, прошептал:
– Чудной какой-то! Люди с Москвы текут кто куда, а он в Москву… Да еще с Волги! Там ли им не раздолье?! А тут и схорониться-то негде.
Игнатий в великом оживлении свесил голову:
– Хитрит дядя! Я их сразу понял. Их двое. Давеча видел я обоих на Яузе. Нас не обманешь. Оба пришлые. А зачем? Неизвестно.
– Куда же тот?
– Господь ведает… На глазах исчез.
– Донесешь? – спросил шепотом хозяин притона. Инок задумался.
– Н-ну!
– Не знаю. О господи! Помилуй нас, грешных! Да что ты ко мне лезешь? Что я, доносчик, что ли?! Не обижай меня!
Одноглазый немного погодя прошептал:
– Вторую ночь этот ночует… волгарь-то!
– Врешь! – всполошился инок. – Что ж ты молчал?
– Докащику первая чарка и первая палка! Боюсь.
– Малодушный.
Далее разговор не вязался.
Плошка угасла. Во всех углах храпели люди, кашляли, сморкались, а на дворе ревел ледяной вихрь, пронизывая дырявую ночлежку.
Напрасно думали инок и хозяин притона, что волгарь уснул. Ради того раньше всех и улегся он, чтобы подслушивать.
И вот, убедившись, что все спят, он разбудил Гаврилку:
– Утекай, дружище!.. Беда! Иуды здесь!
Волгарь назвал себя Родионом Мосеевым.
– Слушай меня… Пойдем!.. Поп и харчевник – доносчики.
Оба тихо поднялись, затянулись кушаками и неслышно вылезли из лачуги.
Чуть с ног не свалила вьюга. Куда идти? Кругом тьма и глушь. Липнет снег, застилает глаза. Ничего не видать. Словно бы и не Москва, а какой-нибудь поселок в дремучем бору. Ни одного огонька, а дороги все занесены снегом.
Охнула сторожевая пушка. Видимо, на кремлевском гребне. Паны хотя и овладели Москвою и засели в ее сердце как правители, а все же по ночам не спится им. Не легко в чужой клети молебен служить.
Мосеев и Гаврилка решили ночевать в часовне на ближнем монастырском погосте… «Мертвецы не опасны, – горько усмехнулся Родион, – предавать не будут. Не первый раз мне приходится быть в Москве! Не первый раз хорониться от лихих людей. Путь с Нижнего Новеграда на Москву пять сотен верст, но как мне, Родиону Мосееву, так и моему товарищу, Роману Пахомову, то не в тягость. Безотказно ходим во все времена, повинуясь воле земского схода».
– Стало быть, с Нижнего?
– Да.
– Я из Смоленска…
Мосеев стал расспрашивать об осаде Смоленска. Не сразу они поведали друг другу о себе всю правду, без утайки, но, уверившись один в другом, наговориться вдоволь не могли. Гаврилка узнал, что Мосеев – нижегородский гонец, наподобие его, Гаврилки, и то, что он не один, а есть у него товарищ, который этой же ночью должен побывать у патриарха Гермогена, в Кремле. Народ в Нижнем хотя и не в осаде, а волнуется, хочет знать всю истину: что происходит в матушке-Москве и окрест ее? Родион рассказал о воеводе нижегородском Репнине, о его помощнике Алябьеве, а больше всего о своем близком друге – Кузьме Минине. Человек отважный и умный, добровольно забросил свою мясную лавку и воюет ныне под началом Алябьева с ворами на Верхней Волге.
Гаврилка, с великим вниманием прослушав Родиона, сказал:
– Там, под Смоленском, в лагере послов тоже есть один ваш, нижегородец… стрелец Буянов. Ночевал я в его шатре.
Мосеев крепко схватил парня за руку:
– Как? Он под Смоленском?!
– Там, там. Виделся я с ним и калякал… Жалеет он, что из Нижнего уехал в Москву… Все из-за князя Голицына Василия Васильевича… Нигде не покидает он его… И под Смоленск ушел с ним добровольно.
Мосеев был очень обрадован, когда узнал, что стрелецкий сотник Буянов в скором времени опять будет в Москве, хочет взять свою дочь Наталью и снова вернуться к себе в Балахну, под Нижний.
– Поминал он и князя Пожарского.
– Да как же ему и не поминать князя, коль скоро он из его вотчины родом! Мугреевский. С малых лет знает князя. Вместе выросли… земляки.
– А о Кузьме Минине так-таки и не поминал? Дружки ведь они с Буяновым старинные.
– Не припомню. Может, и поминал. Да вот скоро сам увидишься с ним, приедет. Князь его посылает к брату, что ль, не знаю… К Андрею Васильевичу…
– Стало быть, Наталья одна?
– В монастыре пока. Поселил ее отец у какой-то игуменьи. Не ходи! И дом у них заколочен. Знаешь ли, где живет-то?
– Ну, вот еще… Всякий нижегородец знает. Да я и не о себе… Мой товарищ, Пахомов, тоскует о ней… о Наталье. Уж и не знаю, как мне тебя благодарить-то… А мы было хотели к нему… Прошлись бы зря.
Родион дал слово Гаврилке всё, без утайки, доложить в Нижнем о бедствиях Смоленска и о послах, о том, как король мучает их холодом и голодом и как бесчестит их, достойных московских людей.
Гаврилка держался деловито:
– Сам я скоро уйду в Рязань… Москва теперь знает, что смоленские сидельцы живыми не сдадутся и что надо скорее ополчаться. От Шеина послание у меня к Ляпунову.
На погосте в каменной полуразрушенной усыпальнице каких-то бояр Гаврилка и Родион расположились на ночлег.
* * *
Утром Игнатий по дороге в Кремль уныло бубнил:
– Проспали мы! Упустили воров! Взять бы нам их под пристава. Спасибо сказали бы нам паны. Гляди, и мне помогли бы уйти из заточенья…
– С панами как себя ни поведешь, а ото лжи не уйдешь. Не первый раз. Молчи – да и только!
– Но им будет доподлинно известно… да и одноглазый может набрехать: прикрывают, мол, воров!
– Подавись молитвой! Не стращай. Твое ли это дело? Испортило тебя бесславие. Нешто таким ты был раньше?..
Скоморох строго посмотрел на Игнатия:
– Из колокольных дворян да в подворотню лезешь! Стыдись! Будь патриархом. Я и один обойдусь… Чего ты за мной, за скоморохом, бродишь? Испили водицы голубицы – и в разные стороны! Чего тут?!
– А ты не лай! Без тебя собак много.
– А ты не выслуживайся, и без того в люди выйдешь! При Шуйском не пропал, а при панах и вовсе… Предсказываю: быть тебе опять патриархом!
Игнатий повеселел, смягчился:
– Подай, господи! Озолочу! Не забуду. Тяжко сидеть мне в Чудовом! Еще того тяжелее – унижаться. Буду патриархом, попомню тебя. Мне все одно – кому ни служить.
Халдей усмехнулся:
– Поп да петух не евши поют.
– Истинный бог! Не забуду. Верь!
– Там что будет, а о волгаре и смоленском парне ни гу-гу! Не видали – да и только. Нешто уследишь за всеми? Сарынь[10] всякая по ночам шляется. Чернь хлопотлива, что муравьи, ежели кучу их вспорешь.
– Хулу бы нам с тобою не нажить, вот что! Языки[11] Гонсевского тоже ведь бегают! Не проследили бы. В нерадивости могут обвинить…
– Ты опять?!
– Молчу.
VI
С трех сторон: через Фроловские (Спасские), Константино-Еленские и Троицкие ворота, ночью в Кремль въезжали нагруженные продовольствием сани.
Польский гарнизон давно поджидал этот обоз. Туговато становилось с продовольствием. Крестьяне прятали хлеб и скот от польских разъездов. Нередко, спасая свои запасы, они умышленно заводили заблудившихся гусаров в дремучие леса, в сторону от деревень, и погибали там под ударами польских сабель. Пошел слух, что мужики, прознав о неудачах короля под Смоленском, надеются на скорое падение королевской власти в Москве.
В деревнях наотрез отказались признать королевича Владислава царем. Проклинали его, отплевывались…
Появление обоза было ознаменовано пушечным выстрелом с Царской (Набатной) башни над площадью, прозванной в народе за случавшиеся здесь частые зажигания – Пожар[12].
Тихо поскрипывали полозьями набитые хлебом, мясными тушами и иною провизией розвальни, окруженные сабельным конвоем.
Возчики в вывернутых мехом наружу полушубках робко поглядывали кругом из-под нахлобученных на лоб малахаев, вздыхали.
Грозным чудовищем выдвинулась из мрака пушка-великан Дробовик[13]. Кони шарахались в сторону. Где-то в темноте играла музыка. Желтели огоньки в домах.
Обоз пересек Ивановскую соборную площадь и въехал во внутренний двор Кормового приказа. На площади исстари составлялись подьячими челобитные, купчие и оброчные памяти, подряды и служилые кабалы. Свидетельствовались они тут же, этими же подьячими-послухами.
К обозу с факелами прискакали интенданты, перекликаясь возбужденно. Высыпали с фонарями в руках приемщики. Они срывали рогожи, прощупывали мешки, боясь скрытых соглядатаев-москвитян.
Но недосмотрели! В одном из возов притаился нижегородский гонец Роман Пахомов. Выждав, когда паны отправились к амбарам, Пахомов незаметно вылез из своего убежища, затерялся в толпе возчиков.
После ухода панов мужики почувствовали себя свободнее.
– Ну, брат, жив ли? – тихо спросил Пахомова возчик-ярославец.
– Жив-то жив, да помяло малость и обморозился… – трясясь от стужи, ответил Роман.
Возчик забарабанил по его спине:
– В кабачок бы теперь!
– Земское дело у меня… Боже упаси! Чуешь?
– Эй, тише, вы, лебеди! – метнулся испуганный голос. – Коршун летит!
Звеня саблей, пробежал польский офицер.
Но легко ли молчать съехавшимся из разных мест людям в такое время, когда все деревни и села разъединены бродячими шайками?! Слухи разные ходили по деревням. А что и как – тайна. Трудно понять, какая власть, кто управляет? Одно каждому ясно: Москва попала в королевскую кабалу. Разбитной молодой парень шептал товарищам:
– Монах тут подвернулся… Сами бояре, – говорит, – Мстиславский да Федька Шереметев, да Михайла Салтыков – ворота в Кремль их войску открывали. Собралась толпа, стала перечить, а бояре приказали ее разогнать… «Срамите, мол, нас перед иноземцами!» Что ты будешь делать?! Пан Гонсевский правит. Семь правителей-бояр в дураках остались! Вон, глядите на хоромы, кои в огнях… Слышите, – дудки! Ликуют! Справляют победу!
Из темноты вынырнул чернец, подкрался к возчикам:
– Погибаем! – Тут он помянул о патриархе Гермогене. – Теснят и его.
Пахомов встрепенулся:
– Мне к нему и надо, под благословенье бы!
Чернец дернул его за руку, изогнулся:
– Следуй!.. Провожу!
– Так ли? Не предашь?
Монах поклялся:
– Голову отсеки!.. Тайный слуга я патриарха… Не диво, коли и самого на кол посадят… Всё возможно.
– Веди!
Монах и нижегородский человек исчезли во мраке.
К патриаршему дому крались по сугробам меж тынов и каменных оград боярских усадеб и подворий, к Чудову монастырю…
Услыхав чьи-то голоса, монах и Пахомов притаились: люди с фонарями! Звяканье ключей. Около больших тесовых ворот караульные.
– Сытенный двор… Ключари-приказчики по отпускным записям принимали хлеб и коровье масло, мясо и иную снедь. Запасаются впрок…
Пахомов слушал с любопытством. Обо всем этом надо рассказать в Нижнем. Вот-вот сейчас увидит он «царствующего града Москвы и великого русского царства патриарха Гермогена», о котором столько чудесных рассказов ходит по земле.
– Из патриаршего дворца преподобного удалили… Живет просто.
Монах вспоминал о тех почестях, какими окружал патриарха царь Шуйский, и, сравнивая те времена с нынешними, вздыхал, плакался:
– Теперь уж не то. Римские ехидны нами правят… Патриарх не нужен. Римский папа – хозяин…
Умолк он, когда подошли к длинному бревенчатому дому с подслеповатыми слюдяными оконцами. Широкое с кубоватыми столбами-опорами трехмаршевое крыльцо. Еле-еле брезжит в оконницах свет.
– Молви молитву!.. Очистись! – приказал монах.
Шмыгнули во двор. Отбивались от собак – Пахомов ногами, а монах, ругаясь, посохом.
– Эй, кто там?! Стой! – грубо окликнули с крыльца.
– Свои, отец Самуил, свои… Милентий!..
На лестницу черного хода, держа фонарь в одной руке, вышел здоровенного роста монах. В другой руке у него сверкнула алебарда. Он быстро шагнул к Пахомову и поднес фонарь к самому его лицу.
– Нижегородский гонец. Земским сходом послан! – сказал Пахомов.
– Сполна ли правда?!
– Тако, батюшка, сполна… При мне из воза вылез… Прятался от стражи.
Монах шепнул Пахомову:
– То дьяк Самуил Облезлов. Ближний служка святителю.
Допрос тянулся долго. Наконец Облезлов сказал:
– Так, оправься!.. Пойду доложу.
Дьяк исчез.
Через некоторое время медленно открылась дверь, и в горнице появился среднего роста, тощий, древний старичок в белой рясе.
Роман пал ниц.
– Святейший господин наш отпускает ныне убо прегрешения… – пробасил дьяк.
– Господь бог, вседержитель… – еле слышно начал Гермоген читать длинную непонятную молитву.
Пахомов подошел к патриаршей руке, принял благословение. Его примеру последовал и монах.
Гермоген положил сухие, пахнущие маслом руки на голову Пахомову. Едва слышно произнес:
– Скажи там… Бояре пали духом и многие изменили. Срамною стала жизнь. Разврат, ложь, убийства и корысть кругом… На кого будем взирать? Кому служить? Кто направит силы наши? Господу богу угодно всю власть возложить на меня. Московское государство искони сильно верою и послушанием. Соотечественники связаны единою церковью. Несть наибольшего греха, нежели уклонение от священнопочитания… Крепки ли верою нижегородцы? Не поддались ли вы соблазну?
Патриарх насторожился. Оперся рукой о стену. К нему подскочил дьяк-великан и поддержал его.
– Крепки ли? Отвечай, добрый человек! – глухо повторил Гермоген, тяжело дыша.
– Крепки! – бодро ответил Пахомов.
– Много ль возможет дать нижегородский воевода?
– Правды ради – все пойдем.
– А много ль оружия и зелья у вас? Надежно ль будет войско?
– Пять кузниц новых… куем лезвия немало.
– Копием могуч не будешь. Огненная защита сильней. Взгляни на зловерных. Меж зубьев пасти чугунные на стенах. Наберитесь и вы силы! Чую! Поднимутся православные и изгонят поганых прочь.
Холодные дрожащие руки Гермогена ощупали голову Романа.
– Восстаньте и вы на злохищных! Поднявшие меч – от меча и погибнут! Вещественное вещественным же и погашается… Благословляю и вас на ратное дело. Иссякло озеро нашего христианского смирения!.. Меч и брань – защита правды. Прольем кровь неверных! Прочь польских царей! Изберем своего, россиянина, на царский престол… Имеем и честных бояр и князей, им православные христиане и вручат власть над собою! Передай в Нижнем: разрешаю всех от присяги королевичу!.. Ныне вы ему не рабы!
Голос Гермогена, по мере того как он говорил, становился громче и громче.
Закончил он, крепко уцепившись за ворот полушубка Пахомова:
– Иди! Опасайся соглядатаев!
Патриарх рывком благословил Пахомова, охая и кряхтя, повернулся и, опираясь на посох, ушел к себе в келью.
Патриарший дьяк провел Романа через разрушенный сарай на одну из кремлевских улиц.
Патриарх у себя в келье объявил скрывавшимся у него двум рязанским посланцам, чтобы вписали в ополчение и нижегородцев.
Один из рязанских гостей перечислил Гермогену градские полки с начальниками.
Патриарх, приложив ладонь к уху, с довольной улыбкой слушал.
– Города рязанские и сиверские пойдут с Ляпуновым. Муром – с князем Масальским, Владимир и Суздаль – с Просовецким. У них волжские казаки и черкасы[14], отложившиеся от Пскова.
– А Вологда под кем? – с нетерпением перебил патриарх.
– Вологда?! С Федором Нащокиным…
– Ярославль?!
– Ярославцы никогда не расстанутся с Иваном Ивановичем! Водой их не разольешь…
– Волынский – достойный человек… Да будет благословение господне над ним.
– На той неделе к нему пристал стрелецкий голова Иван Толстой… Пятьсот всадников.
Гермоген весело улыбнулся:
– В ямах Андроньева монастыря по моему приказу зелье зарыли… У панов в погребе вчерашней ночью монахи тайно стяжали. Побывай там. Разведай.
– Добро! Благодарствуем!..
– Монахов несть числа забирайте… Благословляю! Тунеядствуют по монастырям… Наказываю: брать их в ополчение!..
– Кострома… – продолжал рязанец, – пойдет с князем Волконским.
– Надежен ли? – нахмурившись, спросил Гермоген. – Не лучше ль возвести другого знатного дворянина, который в шатости не был замечен… Волконский не мил мне. Он холопьям поблажку дает… бунту пособляет…
– Стрелецкий голова наш… будет следить за князем…
Всю ночь Гермоген и двое посланцев рязанского воеводы Прокопия Ляпунова проговорили о дворянских ополченческих делах. Всю ночь обдумывали они с патриархом, как бы покрепче ударить по врагам.
* * *
На следующий день в малые сени патриаршего дома с посохом в руке, весь черный, костлявый, вошел гробовой старец[15] Чудова монастыря Гедеон. В последние месяцы и он потерял покой. Бывало, целые дни лежит в гробу и только за нуждой поднимается, а ныне постоянно в патриарших покоях. Патриарх полюбил старца Гедеона. Ежедневно за трапезой оба они выпивали по кубку церковного вина и по одному кубку меда вишневого, съедали блюдо карасей, пирог «с телесами щучьими» и блюдо ягодников. За едой вели беседу о панах, об иезуитах, о монастырях, а больше о том, кто после Смуты сядет на престол: Голицын или Романов? Гедеон уверял, что ему ночью явилось видение вроде ангела и начертало на стене: «Василий», а это – знамение. Престол обязательно получит Голицын. Патриарху понравилось Гедеоново видение. Ему вообще были по душе все, кто против проныры Филарета Романова и кто был на стороне Голицыных. Но никогда он не высказывал этого вслух, боясь сильной романовской партии и властолюбивой, вздорной матери Михаила Романова, инокини Марфы, жившей с сыном тут же, в Кремле, и пользовавшейся вниманием панов…
Вот и Ляпунов! Он пришелся по душе патриарху.
Ляпунов стоит за Голицына. Выгонит он проклятых панов, и тогда… Гермоген знал, что будет тогда! Желал этого. Впрочем, на людях он не прочь был называть в числе будущих царей и Романова, но втайне лелеял мысль: выгнать панов из русской земли, а там… вся церковь поднимется за Голицына. Патриарх понемногу уже подготавливал дальних епископов. Всеми чтимый гробовой старец, святой отшельник Гедеон, помогал ему, насколько хватало сил.
Кроме Гедеона, в келье находилась еще монахиня, бывшая в миру княгиней Куракиной. С юных лет Гермоген был ее другом. Прошли года. Оба состарились, дружба стала чище, яснее.
– Гневного пламени во мне никому не угасить! – говорил патриарх сердито.
Старица набожно крестилась:
– Настанет час, и возвеселятся праведницы!..
– Да будет так! – шлепнул сухой ладонью по столу Гермоген. – Король всполошился не зря.
– У, ненасытный, кровожелатель! Так бы я его и растерзала! – вспылила старица.
– Железом… огнем… силою воинской единственно можно поразить его… Донской казак и сам я… Знаю… Отец еще тому учил. Симонов монастырь с моего благословения всю казну отдал на огненный бой.
Разговор о войне и о пушках заинтересовал и гробового старца.
– Сею ночь мне преставилось видение: якобы на Пожар-площади некий юноша сотворил пушку, и огнем своим она в единую нощь сожгла всё вражеское царство со всеми людьми и с самим Жигимондом… и со всеми конями…
Гермоген и старица оглянулись на Гедеона удивленно.
– Может ли человек сим даром божиим обладать?
Не есть ли подобное величие – принадлежность единого господа бога?.. В пламени огней гибли города и царства, но единственно токмо по воле господней. Так сказано и в писании. Видение твое ложно. Греховно. Покайся!
Гробовой старец усердно почесал под бородой, вздохнув:
– Прощения прошу, коли соврал!
Наивность Гедеона всегда покоряла патриарха. Он улыбнулся:
– И ложь бывает во спасение. Бог простит.
Патриарх рассказал своим друзьям о рязанском ополчении, собирающемся против поляков, о том, что у него были дворяне, посланные из Рязани от Прокопия Петровича, а также были знатные люди из Ярославля и Вологды, а сегодня посетил его и нижегородский ходок.
Слушая патриарха, непрерывно крестился Гедеон, крестилась и инокиня Куракина.
Все трое сползли со скамьи на колена, молясь об уничтожении врагов и о восхождении на престол Василия Голицына. Затем гробовой старец шепотом рассказал Гермогену, что лишенный при Шуйском патриаршего сана Игнатий нередко по ночам уходит из своего заточения, с ведома самого начальника тайных дел пана Пекарского. Гермоген нахмурился: «Корыстолюбец! – тихо произнес он. – Такой будет люб и в разбойничьем вертепе!»
VII
Халдей принес на спине мешок муки. Вчера по приказу Гонсевского веселил он польско-литовских людей на Ивановской площади в Кремле, за это и наградили.
– Окаянного потешаю, – сердито сказал скоморох, смывая с лица краску.
После того как он сбросил с себя шутовской балахон, на жилистой шее его и на сухой спине стали видны синие рубцы и кровоподтеки.
Нижегородцы, которых он сегодня встретил на улице и привел с собой, в страхе переглянулись.
– Вот глядите, дары за верную службу… Когда паны довольны мной, они стегают меня кнутом и сабельными ножнами. Когда не угождаю – тоже.
Он горько рассмеялся.
– Чего же ты? Нешто весело?!
Халдей ответил:
– Чудится мне, что кони – и те ржут, глядя на скоморохов. Пан Доморацкий хлестнул меня плетью, а я запел петухом и стал скакать на одной ноге… Лошади оскалили зубы. Вы небось тоже… А?! Ну-ка!
Скоморох вскинул правую ногу до самого плеча, запел петухом и на левой ноге ловко обскакал всю горницу.
Мосеев и Пахомов фыркнули.
Халдей некоторое время с грустью смотрел на них.
– Вот видите!..
Он гневно нахмурился:
– И все так! Поймите хоть вы, что пирую я, не участвуя в пирушке… Не смейтесь надо мной…
Мосеев и Пахомов покраснели от стыда.
Халдей надел синюю рубаху и серые полотняные штаны и снова стал простым и приветливым. Он развел очаг и напек блинов для гостей.
Во время еды Халдей поведал о том, что происходит в стенах Кремля. У панов тоже не всё благополучно. Жолнеры стали роптать: надоело сидеть в Кремле. Были драки между ними и драгунами. Кое-кто сбежал из Кремля, унеся с собой оружие. Гонсевский не дает отдыха скоморохам. Пытается пляской, кривлянием и разными «бесовскими ухищрениями» развеселить своих воинов. Не раз собирал он войско, укорял его в слабости, уговаривал не падать духом, угрожал отсекать руки дезертирам. Из-под Смоленска, говорил Гонсевский, прибудет сам король со всем своим войском. Москва-де дорого заплатит за свое упрямство и неуважение к панам. Пожива будет немалая.
Жолнерам больше всего хотелось этого.
Жалованье в польском лагере не особенно ценилось: привлекала воровская добыча! Ради нее-то и в Москву забрели.
Родион и Роман сказали, что им хотелось бы знать о силе польского гарнизона, о вооружении пехоты, конников, командиров. Халдей шепнул, в какой башне и сколько пушек. За это нижегородцы низко ему поклонились.
Халдей обещал Родиону и Роману и впредь рассказывать о том, что делается в Кремле. В свою очередь нижегородцы сообщили Халдею, что смоленский гонец Гаврилка Ортемьев пошел в Рязань с посланием боярина Шеина к Ляпунову, что везде готовятся к походу на Москву.
Перед вечером нижегородцы по-братски распрощались с Халдеем и отправились в Стрелецкую слободу. От него же узнали они, что из-под Смоленска прискакал в Москву их земляк, сотник Буянов.
Идти приходилось с опаской. Вдоль каменных стен Белого города[16] от башни до башни медленно разгуливали польские часовые, зорко вглядываясь в каждого путника. Надо было воровски прокрадываться, хоронясь за домами и амбарами, чтобы случайно не попасть в руки пана Пекарского.
Дом стрельца Буянова нашли. Убедившись, что никого из соглядатаев кругом нет, вошли во двор.
– Добро, добро, жалуйте, друзья! – приветливо крикнул Буянов с крыльца.
Нижегородцы рассказали ему, зачем пришли. Стрелец спросил, благополучно ли в Нижнем? Что делает Кузьма Минин?
Роман Пахомов подмигнул Буянову:
– Кузьма Минин теперь у нас чуть ли не воевода… У Алябьева первый человек… Нижний охраняет. Воюет с ворами.
– А Татьяна Семеновна?.. Она ведь с норовом. Как она его отпустила?
– Ушел – и всё! И торговлю бросил. На всё махнул рукой.
Расположились в просторной, хорошо убранной горнице.
Посреди – дубовый стол, покрытый узорчатой скатертью; по стенам длинные, тоже дубовые, скамьи. Горница освещена двумя сальными свечами в железных подсвечниках.
Буянов рассказал про Смоленск.
– А тут что нашел я?! – продолжал стрелец. – Пан Гонсевский в бояре попал и стрелецким головою назначен, заставляют самозваному боярину служить!
Но есть и защитник у нас… – робко заметил Пахомов.
– Кто?
– Патриарх Гермоген. Был я у него, беседовал с ним.
Буянов насупился. Седые пучки бровей сдвинулись.
– Гермоген!.. – повторил он. Потом вдруг усмехнулся: – И у дедушки Власия борода в масле.
Пахомов рассказал о своем посещении Гермогена.
Буянов терпеливо выслушал и, заложив руки за спину, принялся шагать из угла в угол. Наступило тягостное молчание. Нижегородцы окончательно смутились.
– Да! – вдруг остановившись против них, угрюмо проговорил он. – Гермоген проклинает Гонсевского, но не он ли в августе привел к присяге королевичу всю Москву? Не он ли велел попам богу о нем молиться?! А до этого не он ли кривил душой и перед Лжедимитрием? Пора, пора ему опомниться!.. Немало нагрешил дед!
Усевшись опять за стол, Буянов махнул рукой:
– Бог ему судья! Не он один. Борьба за престол многим помутила ум. Спасибо, что хоть он Василия Васильевича поддерживает!
Буянов вздохнул. На лице у него было такое выражение, как будто ему давно уже надоели все эти разговоры.
Пахомов не стерпел; подергивая свою жиденькую бороденку, вкрадчиво спросил:
– Против кого же патриарх?
Без колебания ответил стрелец:
– Против панов! Они и его обманули, как и бояр. Нам, братцы, всё известно, кто о чем хлопочет. Много найдется охотников до престола. Кое-кто головы бреет наподобие панов, бороды режет, усы растит, яко у котов, надеясь бесчестною саблею добыть себе власть… Стыдиться стали бороды, склонны походить на панов… А одежда? Не поймешь: воротник ли пришит к кафтану, кафтан ли к воротнику… Фордыгалы напяливают на себя гишпанские… Срамота!.. И всё из-за выгоды. С кого же нам брать пример?! Ужели с них?
Вдруг Буянов спохватился:
– Ах, да что же это я! Эй! Наталья! Поди-ка сюда!
Пахомов сначала побледнел, потом зарумянился.
Из соседней горницы вышла статная девушка, одетая в летник с золочеными каемками и пуговками. Низко поклонилась гостям и вся вспыхнула, с любопытством осмотрев их украдкой исподлобья.
Гордою походкой, открытым добрым взглядом и какою-то суровою печалью в глазах она походила на отца.
– Ну-ка, потчуй земляков! А вы уж, друзья, не обессудьте! Времечко таково… Из щеп похлебки не сваришь.
Пахомов не сводил глаз с Натальи. Она – его друг детства. Вместе бегали по нижегородским горам и на Волгу, вместе гуляли в полях, собирали цветы…
– Лучше жить бедняцки, чем поляцки… – вдруг сказал он каким-то охрипшим голосом.
Мосеев покраснел за товарища, неодобрительно покосился в его сторону: «Помолчал бы!» На тонких розовых губах Натальи скользнула чуть заметная улыбка.
Буянов продолжал:
– Стрельцам жалованья не платят. Хлеба не дают. Около монастырей питаемся. Игуменья Параскева из Ивановского монастыря, что в Белом городе, – спасибо ей – меня спасает. Придется, видать, и Наталью туда же спровадить. Всё сыта будет. Стар я. Вдов. На кого ее оставить? А там всё на людях. Помогут.
Девушка накрыла стол расшитою красными узорами скатертью, подала гречневую кашу, каравай хлеба, рыжики холодные и гретые и опять ушла к себе.
– Брагой не угощаю… Паны пьют за наше здоровье. Винные погреба знатно пообчистили. А там винцо-то было. Господи! Сам Иван Васильевич[17] берег, не пил.
Пахомов облизнулся (с удовольствием бы выпил за Натальино здоровье!), Мосеев толкнул его коленкой под столом, нахмурился.
– И чего только господь бог такое беззаконие терпит? – Роман внезапно почувствовал потребность поболтать.
Буянов пожал плечами:
– У Гермогена бы надо спросить! А вы… вот что… Живите-ка у меня, – ласково произнес он, следя за тем, с какою жадностью нижегородцы принялись за еду. – Места всем хватит… У меня дом просторный.
После ужина легли спать. Буянов и дочь ушли в другую половину дома.
Пахомову не спалось. Он толкнул Родиона в бок и спросил:
– Видел?
– Видел.
– Что мыслишь?
– Удобрена и глазаста… и волосы черны.
– Эх, и зачем только люди воюют? – в голосе Пахомова слышалась грусть. – Чего им не хватает?
– Ладно. Спи.
Пахомов, успокоившись, быстро уснул. Мосеев перекрестил его, прошептав:
– Охрани тя господь от приобщения к делам неплодным тьмы… Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, боже!
Боялся он за товарища. Слаб был Роман сердцем, скучлив о женщинах. Мосеев опасался – не помешала бы какая-нибудь из них делу. Где ему разобраться в московских женках и девушках! Многие из них подражают Маринке Мнишек и ничего не желают, лишь бы добиться власти и богатства. «Прости его, господи! Еще молод, образумится! Помоги ему, боже, одолеть дьявола!»
* * *
На другой день Буянов с Мосеевым ушли в Китай-город[18] к Андрею Васильевичу Голицыну, брату великого посла. Пахомов нарочно остался дома. Наталья села за пяльцы. Окна были заморожены, да и малы, и не так уж много солнца могло проникнуть в горницу, но достаточно было и маленького луча, чтобы увидеть эту тонкую шею и милое, родное такое ее лицо. О, как была хороша Наташа в это утро! Трудно было на нее не глядеть, трудно было и подобрать подходящее слово, чтобы начать разговор, но еще труднее было сидеть около нее молча, не дать знать о своих чувствах. Вспомнились далекие-далекие дни, Волга, золотистые отмели. Пустынно, небо синее, приветливое, чайки – он с Наташей. Только они понимают шепот волн, бодрый, зовущий к счастью.
– Что же ты молчишь?
Он вздрогнул. Это ее голос! Но нет ни Волги, ни песков, ни чаек… – полутемная горница боевого стрельца. На стенах оружие, в углу копье.
– Я не умею говорить.
– Ты много видел…
– Ну, конечно, много.
И, подвинувшись поближе, он погладил ее руку. Волга, Волга, зачем ты так далека?
– Слушай, – тихо начал он:
Близ зеленыя дубравушки Протекала река быстрая, Урывая круты бережки. Подмывая пески желтые, Пески желтые, сыпучие, Унося с собой кустарники; На одном кусту соловушко Заунывно поет песенку: «Негде, негде мне гнезда свивать, Выводити малых детушек…»Песня кончена (но кто же этому поверит?). На щеках Наташи выступил густой румянец. Это только начало. И страшно, и приятно думать о том, что будет дальше. Девушка так деловито, так некстати хватается опять за пяльцы. Роман теперь знает, что ему говорить. Да, и он такой же, как этот злосчастный соловушко!.. Один остался он с малых лет… круглый сирота. Некому было малютку приголубить, вырос в чужих людях. Видел чужое счастье. Слышал чужой смех. Прятал свою печаль, свои слезы. Он не знает, что такое ласка, он не испытал ничьей заботы о себе. Если он умрет, никому никакого дела не будет до него… Ему и хочется умереть… Ему и надо умереть… Зачем жить такому одинокому и несчастному?! Кто его пожалеет?
У Наташи в глазах слезинки.
– Я тоже сирота, – говорит она тихо и скорбно. – Ты знаешь, что и у меня рано умерла мать… Росла только с отцом, а его никогда не видишь. Постоянно в походах… Некому обо мне заботиться.
Пытка продолжается:
– И я несчастна!.. Злой человек был… (Роман насторожился.) Мне думалось… Как тяжело, когда люди обманывают…
Ты никого не обманывал?
Это совсем неожиданно!
– Обманывал?.. Да.
– Кого? – побелевшими губами спрашивает Наташа. Черные расширившиеся зрачки пытают его.
– Кого? – хладнокровно отвечает Пахомов. – Пана Гонсевского, пана Доморацкого, кремлевскую стражу, своего нижегородского воеводу Репнина – всех обманывал… Каюсь!
Наташа облегченно вздохнула, улыбнулась, – отлегло от сердца. «Она испугалась! Она не хочет, чтобы, я…» – молниеносно мелькает в уме.
– Ах, Наташа, Наташа, почему мы раньше не встретились? Ведь скоро мне нужно опять уходить в Нижний!
Не может быть! Она не желает этого слышать.
– Отец, отец!.. Постой! Что ты? – прошептала Наташа, очутившись в объятиях Романа.
– У твоего отца большая беседа с князем Голицыным… Он не скоро придет. Князь собирает казну Ляпунову… и оружие… и…
Вот она, Волга!.. Вот она, горячая песчаная отмель!.. Солнце! Чайки!.. Песни волн! Пойте! Пойте!..
– Наташа!
– Роман!.. Милый!..
VIII
В Грановитой палате, там, где Грозный торжественно праздновал покорение Казани и где Борис Годунов в золотых креслах принимал жениха своей дочери Ксении – Гегама, брата датского короля, – пан Гонсевский приказал устроить богатое пиршество для польского командования.
Высокая и просторная, с яркою стенописью, красавица Грановитая палата слыла именитейшей палатою в Московском Кремле. Здесь цари принимали иностранных послов, здесь происходили важные государственные совещания. Теперь в ней суетились панские гайдуки, готовясь к вечернему празднеству. Они прикрепили к стенам и четырехгранной колонне посреди палаты два десятка польско-литовских хоругвей. Кремлевский правитель, пан Доморацкий, принес большой фамильный герб Гонсевского. Велел приставить лестницу к вершине бархатного балдахина, обшитого золотою бахромою и такими же кистями. Гайдуки укрепили герб Гонсевского над царским троном. Пан Доморацкий внимательно осмотрел бахрому и кисти на балдахине и шепнул сопровождавшему его офицеру, чтобы после бала, завтра утром, срезали всё это и принесли к нему в дом.
Боярские холопы, носившие бочки вина из кремлевских погребов, с усмешкой глядели на музыкантов, которые волокли на себе барабаны и трубы в особое приготовленное для них место.
– Польский бог обращает и плач в радость! – прошептали они.
До самого позднего вечера возились паны и их гайдуки в Грановитой палате.
Вечером на Красном крыльце появились воины, одетые герольдами, в высоких сапогах с ботфортами и в шляпах с перьями, и затрубили в фанфары, созывая гостей.
Столы были убраны всевозможными яствами. Большие серебряные кувшины с вином длинною чередою тянулись среди блюд с мясом, рыбою и икрою.
Началось тостами за здоровье «его крулевского величества, господаря Сигизмунда Третьего, божиею милостию короля польского, великого князя литовского, воеводы Киевского, царя Московского и проч., и проч.». Пили много. Ели жадно всё, без разбора. Глаза панов постепенно загораются пьяным торжеством. Присутствовавшие тут же кремлевские бояре усердно пили за короля, за королевича, за королеву, за панов, не отставая от поляков. Они игриво перемигивались с панами, осушая кубок за кубком. И не пьянели.
Сам Гонсевский в серебряном парчовом кафтане сидел на царском кресле, вынесенном из-под балдахина, сухой и желтый, и пристально вглядывался в присутствующих своими маленькими узенькими глазками.
Вдруг он поднялся и, сдвинув брови, резким голосом провозгласил тост «за московское государство и господ верных слуг короля – московских бояр».
Шляхта весело зашумела. Особенно неистовствовали немецкие командиры. Взметнулись бокалы.
Мстиславский смущенно покачал кудрявой седой головой, поднялся с места.
– Бьем челом! – сказал он и низко поклонился.
То же сделали и стоявшие с ним рядом Федор Иванович Шереметев, Михайла Салтыков, князь Василий Масальский, Федор Андронов, Иван Грамотин и другие бояре и дьяки.
Паны с улыбками наблюдали за тем, как ловко кланялись широкие, грузные бородачи, чуть ли не до самого пола. Один сильно подвыпивший пан хотел было скопировать, но не сумел, вызвав только общий смех. Улыбнулся и Гонсевский, вновь опускаясь в кресло.
В короткое время слуги сменили на столе до двадцати блюд.
После застольного сидения бегавший без устали по Грановитой палате пан Доморацкий ударил в ладоши. Грянула музыка. Начались танцы. Литовские дудки, барабаны и цыганские бубны горячили кровь пестрой полупьяной шляхты, скакавшей вокруг столов.
На скамьях, вдоль стен, чинно расположились московские бояре, дворяне и дьяки. Среди дворян – получившие от короля новые вотчины: Вельяминов, Безобразов, Плещеев и многие дьяки, заменившие недавно изгнанных из приказов старых дьяков. Новые дьяки чувствовали себя робко, с подобострастием посматривали на панов. Зато бодро держали себя торговые люди, из которых Степанка Соловецкий даже увязался в хвосте у панов плясать мазурку. Расплываясь в нетрезвых улыбках, поглаживали они свои животы. Мимо проносились нарядные шляхтичи и воздушные в своих легких платьях с пышными белоснежными жабо на шее их дамы. Федор Андронов вскакивал и начинал, приседая, прищелкивать пальцами в такт музыке. На него глядя, защелкали и люди, чинами помладше. Смеялся он, смеялись и они. И так во всем. Еще бы! Он стал теперь королевским казначеем.
В первой паре танцующих шел сам пан Гонсевский со своей женой, высокой, стройной блондинкой, томно наклонявшей голову набок и дарившей улыбки смущенно потуплявшим взор «москвитянам».
Здесь же была и прославившаяся своей веселостью Ирина, дочь боярина Салтыкова. Она шла в паре с юным красивым шляхтичем. Он нашептывал ей что-то, а она улыбалась.
Но в это время она думала о своем возлюбленном – пане Пекарском, который в этот вечер допрашивал пойманных им рязанских гонцов.
Не всем кремлевским вельможам было одинаково весело на этом балу. Хмельной князь Мстиславский приуныл, с грустью бормоча соседу – Федору Шереметеву:
– Пропали мы с тобой, братец, пропали! Глянь-ка на Федьку Андронова! Эк-ка сволочь! Прельстился королевскими милостями.
Шереметев со слезами на глазах пьяно отвечал:
– Простись, друг, с правдою! Хозяева наши теперь они, «королевские советники».
Теперь уже было ясно, что Сигизмунд больше не желает считаться с боярским правительством. Он окружает себя новыми, преданными ему «своими» людьми. Перебежчики из тушинского лагеря у всех на глазах явно забирали власть. Большой знатью в этом круге стали Михаил Салтыков с сыном Иваном, князь Юрий Хворостинин и другие. «Пан Михаил» получил приказ Стрелецкий, «пан Хворостинин» – Пушкарский, «печатник Грамотин» – приказ Посольский, «пан князь Мещерский» – Большой приход, «пан Иван Зубарев» – Земский двор, «пан Чичерин» – думное дьячество в Поместном приказе, «пан Грязной» – Монастырский приказ, «пан князь Масальский» – Дворянский приказ, паны «Иван Иванов, сын Юрьев да Кирилл Сазонов, сын Коробейников», – дьячество в Казенном дворе, и многие другие «паны-москвитяне» получили от польских властей те или иные государственные должности в Москве и других городах.
«Седмочисленные бояре» на этом пиру в Грановитой палате чувствовали себя лишними, ибо «королевские советники» держались от них обособленно, глядели на них, родовитых бояр, свысока, с пренебрежением.
Один только Салтыков еще старался поддерживать старую дружбу.
Сигизмунд послушал купца Федора Андронова, который писал еще в августе канцлеру, что «в приказы бы потреба иных приказных людей посажать, которые бы его королевскому величеству прямили (служили верно), а не Шуйского похлебцы». Канцлер Лев Сапега прислал распоряжение Гонсевскому поступить так, как указывает Андронов, сделав его первым «королевским советником».
Мстиславский и Шереметев готовы были горько плакать.
Когда они радушно впускали Жолкевского с его войском в Москву, они мечтали спастись «от мужиков», от крестьянских бунтов, а попали вместо одной беды в другую.
«Что лучше?» – над этим вопросом теперь дни и ночи ломали голову родовитые бояре, оставшиеся не у дел. Хотя и были они окружены в Кремле прежним почетом, все же чувствовали себя теперь «пленниками Литвы», не свободными распоряжаться собой.
– Эй, князь, чего задумался?! – крикнул кто-то из танцующей толпы Мстиславскому.
У князя появилось на лице веселое выражение.
Высокородные бояре переглянулись. Мимо них проходила танцующая пара Гонсевских. На кивки жены Гонсевского бояре приподнялись со скамьи и ответили низкими поклонами. Несмотря на хмель робость проглядывала во всех их движениях.
На пиршество, сам не зная почему, был позван и стрелецкий сотник Буянов. Он стоял в толпе ратных московских людей, в дальнем углу палаты, с грустью наблюдая за происходившим.
Накануне Буянов тайно помог Андрею Васильевичу Голицыну послать с несколькими преданными ему стрельцами в Ярославль, Кострому, Вологду и иные города призывные к восстанию грамоты.
Наказ князя Василия Голицына выполнялся им в точности: он стал деятельным помощником князя Андрея в заговоре против панов. Какой-то странник уже принес на днях весть от Прокопия Ляпунова, что в марте должен выступить первый отряд рязанского ополчения под началом зарайского воеводы Дмитрия Михайловича Пожарского.
У себя дома в подвале Буянов хранил добываемые друзьями самопалы, пики и сабли.
Буянов вдруг увидел около себя пана Доморацкого, этого страшного воеводу тайных дел при Гонсевском, смотревшего теперь на Буянова веселыми, смеющимися глазами.
– О чем стрелецкий сотник задумался?
Буянов постарался быть приветливым:
– О грехе думаю, – смиренно ответил он. – Боюсь, не сатана ли нас искушает?!
И он кивнул в сторону веселящихся панов.
Доморацкий весело рассмеялся.
– Послушай-ка, – сказал он, как бы невзначай, – не сатана ли поднял Ляпунова на нас? Как думаешь?
Буянов насторожился.
– Не знаю я ничего о Ляпунове… – отрицательно покачал он головой.
Доморацкий пытливо посмотрел ему в лицо.
– Сатана и святых искушает, – ласково улыбнулся он.
Покрутил ус и отошел в сторону, любуясь танцующими парами. Мазурка кончилась. Громко разговаривая и смеясь, пары расселись по скамьям вдоль стен.
Заиграла музыка и в палату одна за другой вбежали пары танцоров, одетых в русские костюмы. Среди палаты стоял кривоногий человек в расшитом золотом кафтане, с жезлом в руке, которым он махал в такт музыке.
Пан Доморацкий приблизился к сотнику и указал на танцующих.
– Дивись! Бывшие чернички и чернецы услаждают нас изящною грацией. Московия не замечает красоту… Панская власть обратит вашу страну в цветущее государство… сделает вас просвещенными, веселыми и богатыми…
Сидевшие на скамьях паны и их дамы, показывая пальцами на переодетых черничек, покатывались от хохота.
Музыка становилась все быстрее и быстрее. Человек с жезлом, приседая, покрикивал на своих танцоров зычным солдатским голосом. Жезл в его руках ходил ходуном – иногда казалось, что он подстегивает им танцующих.
Буянов тут только обратил внимание на группу католических клириков у входной двери. В серых шелковых сутанах, веселые, самодовольные, они перешептывались между собою, поглядывая на переодетых черничек. К ним подошел Гонсевский, успевший в царских покоях облачиться в голубой венгерский мундир. Клирики заговорили с ним, притворно скромничая.
В самый разгар танцев вдруг поднялась суматоха. Буянов увидел караульного польского ротмистра. Высокая меховая шапка его была в снегу, лицо красное, возбужденное. Музыка умолкла. Танцы мигом прекратились. Выслушав ротмистра, паны подняли крик, угрозы, ругань.
До слуха стрельца донеслось:
– Ляпуновцы напали на наш обоз под Малоярославцем.
Буянов остолбенел.
Кто же это так некстати поторопился? Вчера только Андрей Васильевич Голицын предупреждал, что надо всячески ладить с панами. До марта не следует затевать никаких ссор, пока не придут первые отряды Ляпунова. Мыслимое ли дело – москвичам одним бороться с польским гарнизоном?!
– Не сами ли они на себя напали?! Я слышал тайный разговор иезуитов вчера в трапезной… Пробуют они… испытывают… Како мыслишь? – тихо шепнул Буянову один из его друзей-дьяков.
– Как они могут сами на себя напасть?! Чудно! – удивился стрелец.
– Дабы иметь повод к нападению на нас.
Разговору помешал Доморацкий.
Он подошел к Буянову и спросил:
– Сколько у тебя стрельцов?
– Двести сабель.
– Утром – в стремя! Бить бунтовщиков. На тебя надеемся.
И, немного подумав, добавил:
– Я слышал, что ты не пускаешь дочь в Кремль? Строгость губит женщин более, нежели любовь. Внуши ей, чтобы она не сторонилась своей подруги, Ирины Салтыковой.
Буянов очень удивился этой неожиданной заботливости Доморацкого.
На дворе снежная ночь. В зеленом полумраке около одинокого фонаря медленно крутятся снежинки.
В глубине Кремля раздается лязганье оружия, слышны голоса жолнеров, фырканье коней. Иван Великий, кремлевские стены, башни и дворцы – всё прикрыто живым прозрачным флером снегопада. Буянов, выйдя из Грановитой палаты, сразу почувствовал облегчение. В мягком зимнем воздухе, чистом и таком родном, к Буянову вернулись его обычная бодрость и вера в успех.
В темноте послышались плачущий голос, окрики солдат. Через Тайницкие ворота вели какого-то человека караульные.
– Прочь! Пагубные волки! Почто терзаете! Увы, горе, горе нам! – кричал он.
Буянов остановился, прислушался. Нащупал за пазухой пистолет, но… возможно ли? Нет! Нет! Не время!
И он быстро зашагал по набережной к себе в слободу. Там его дожидались охваченные тревогою Мосеев и Пахомов. Наталья бросилась навстречу отцу, обрадованная его благополучным возвращением из Кремля. В последние дни ее мучило предчувствие чего-то страшного; казалось, какое-то несчастье должно случиться с ними. Недавно нижегородцы случайно поймали в сенях буяновского дома неведомого бродягу, притворившегося немым. Он вырвался и убежал.
Буянов рассказал обо всем, что видел и слышал в Грановитой палате. Поведение Доморацкого, его вопросы и шутки показались нижегородским гостям очень подозрительными.
Пахомов посоветовал Буянову бежать в Нижний, но Буянов с негодованием отверг мысль о побеге.
IX
Под шумок из Грановитой палаты ушли Мстиславский и Салтыков.
Мстиславский хотел кое о чем поговорить с «королевским советником». Накопилось на душе у старого боярина немало горечи. Он отказался ехать к себе домой в возке и предложил Салтыкову пройтись пешком.
В высокой собольей горлатной шапке[19] и в пышной, крытой «золотым бархатом» шубе с громадным стоячим воротником, медленно шагал он по кремлевскому двору, надменно выпятив бороду. Громко, со злом стучал он по обледеневшей земле чеканным индийским посохом. Рядом с ним, ниже его ростом, подвижной и разговорчивый, в польской шубе, без петлиц, поперечных шнуров и пуговиц, в маленькой, остроконечной бархатной шапчонке шел Михаил Глебыч.
Мстиславский умышленно оттягивал разговор, лениво ворча:
– Доплясались!.. Ляпунов небось не спит. И что за охота прыгать по избе, искать, ничего не потеряв, притворяться сумасшедшим и скакать скоморохом? Человек честный должен сидеть на своем месте и только забавляться кривлянием шута, а не сам быть шутом… Нам забавлять других – не рука. И неужели ты это одобряешь?
Старику хотелось высказаться порезче, поязвительнее, но он все-таки опасался Салтыкова, зная его как защитника польских нововведений.
Со стороны Москвы-реки налетал резкий пронзительный ветер – зима истощала свои последние силы. Вчера таяло, настоящая весна, – сегодня холод и вьюга. Гололедица мешала идти. Мстиславский, то и дело поскальзываясь, ругался вполголоса. Михаил Салтыков втихомолку фыркал. Так они добрели до палаты Мстиславского. Разделись. Положив поклоны перед божницей, сели за стол. Потрескивал трехсвечник.
– Так-то, мой сватушка, – медленно начал Мстиславский, снимая пальцами нагар со свечи. – Отступил ты от нас! Да. Отступил. Мотри, худа бы от того не вышло! Больно ты уж смел да ловок.
Салтыков молчал, не торопясь оправдываться. Мстиславский, наоборот, напряженно ждал, что вот-вот он всполошится, станет ретиво обелять себя. О, как этого хотелось Мстиславскому! Это значило бы, что Салтыков боится его.
И вдруг он услыхал совсем иное:
– Отступил я от тебя, Федор Иванович, да и не напрасно. На Запад зрю! Вижу дальше вашего. Подумай сам: силен ли наш народ вылезти из ямы, не ухватясь за чужую руку? Блажен, кто оную нам протянет! Пускай будет то и не польский король, а свейский[20] либо немецкий, либо гишпанский. Лучше камень бросать напрасно, нежели надеяться на наш народ. Не упрекай, что отступил! Отступил с умом и не сожалею о том.
Мстиславский с удивлением слушал Салтыкова, стараясь угадать: какие еще милости обещал ему король? Народ считает его предателем, а он старается доказать, что изменил на пользу России. В Москве в нем видят Иуду, а он клянется перед иконою в том, что, кроме добра, ничего не желает народу. По его словам, он хочет спасти народ, отдав его во власть иноземцев. Только от них он будто бы ждет умиротворения государства, ссылается на варягов, вздыхает, клянется, что Россия сама собой не управится!.. Но не то же ли самое говорит и польский король, и немцы, и иезуиты? Появилось у него немало сторонников среди служилого дворянства. О них тоже никто не может сказать ничего хорошего. Бегают тайком на иезуитский двор в Кремле, всюду нос суют, прислуживаются к шляхте. Какие тайны могут быть у русских людей с польскими панами?
– Хитро судишь! – с растерянной улыбкой покачал головой Мстиславский. – Только не в пользу. Не отрекутся ли от нас дети наши и не посмеются ли над нами горьким смехом за этакую мудрость? Вот твой сын Иван[21] тово уж… пошел против тебя. Не без причины! Слава о тебе неважная.
Салтыков спокойно ответил:
– Свежий цветок поутру может быть погублен засухой в полдень. Многих чистых юношей испортило с ростом наше время. Бог судья моему Ивану! А слава?! Человечьей брехни и на свинье не объедешь.
И, приблизив свое лицо к лицу Мстиславского, тихо сказал:
– Тебя тоже изменником прославили! Будь прост!
Не бойся правды! Не ты ли в совете с Гонсевским послал гонцов к черкасам? Не ты ли вошел в сговор с вором-изменником, воеводой Исайкой Сунбуловым?! Вот осадили они Пронск, помешали Ляпунову идти на Москву. Дело сделано. Ты оттянул от поляков и от нас ляпуновское и земское ополчение… Это ли не измена?! Како мыслишь?!
Мстиславский, тяжело дыша, откачнулся от Салтыкова:
– Михайла!.. Страшно! Ужель ты и впрямь Иуда?
– Ты чего?! Федор Иваныч?! – тихо, каким-то чужим голосом спросил он. – Ведь это я так, без обиды.
Мстиславский ударил кулаком по столу, крикнув:
– Ну-ну, верти! Верти! Заливай душу ядом!
Всё, что у него накопилось против Салтыкова, теперь рвалось наружу. Салтыков поднялся с места:
– Федор Иваныч, не шуми! Не то уйду!
– Прости ты меня, господи боже, грешного! – со злом стукая себя по лбу перстами, сложенными в крест, поднялся с кресла и Мстиславский. – Прости меня, батюшка, что я связался с сукиным сыном, с Мишкой Салтыковым!
– Да что ты! Милый! Спаси бог! Приди в себя, Иваныч! Помочи голову водицей.
Салтыков хотел обнять Мстиславского. Тот с негодованием оттолкнул его:
– Прочь! Креста на тебе нет, Мишка! Не сам ли ты подстрекал меня поднять черкасов?! И не ты ли свел меня с Сунбуловым? Не сам ли напугал всех нас Ляпуновым?! А в этот час равняешь меня с изменниками?! А-а??!
– Слушай! Слушай!.. Да не горячись! – протянул к нему руки Салтыков.
– Прочь, несытая душа! Прочь!.. – затопал ногами Мстиславский. – Вон!
Салтыков снисходительно покачал головою и неторопливо повернулся к двери.
– Гляди, не ошибись, боярин! – донеслось из сеней.
* * *
Выйдя на кремлевский двор, Салтыков перекрестился на все стороны и с самодовольной улыбкой, подбоченясь, огляделся кругом.
А все-таки его взяла! Семибоярщина развалилась. Паны верховенствуют, и он у них первый человек. Все притихли в Кремле, – только он чувствует себя бодро и весело, только он теперь никого не боится…
А с Ляпуновым легко справиться, посеяв раздор в его лагере. «Совсем не трудно развалить дворянскую орду честолюбцев!»
Темно и пусто на кремлевском дворе. Кое-где у церквей тусклые фонари. Голосят псы. Перекликнулись часовые. Стрельнула пушка в Китай-городе. В последнее время польские лазутчики часто ловят иногородних ходоков-разведчиков. Вести о восстании по замосковным местам становятся всё настойчивее. И очень хорошо, что он, Салтыков, да Федька Андронов, да Ивашка Безобразов, и Трубецкой Юрий надоумили Мстиславского напустить на Ляпунова черкасов. Теперь не так-то легко будет Ляпунову двигаться к Москве. Тем временем падет Смоленск. Не век же ему обороняться?! Сигизмунд выписал из немецких земель осадные пушки; теперь недолго ждать; король сможет привести свое войско и в Москву. Судьба Московского государства будет решена. На плаху тогда всех врагов его, Салтыкова! Для него не тайна, что Мстиславский, Шереметев и другие именитые бояре не признают его «своим», считают его поднявшимся выше «отечества»[22]. Ссылаются на то, что ни отца его, ни деда они не знавали, даже и в окольничьих. «Подождите, – думает Салтыков, – я вам дам знать, кто я такой!» Некоторые вельможи склонили уже голову перед ним. Князь Тюфякин из Оболенских, Хворостинин из Ярославских, Масальский, Плещеев и целое полчище дьяков, разбросанных повсеместно, а дьяки, приказные люди, – это его сила! «И панов я обману… – посмеивался про себя Салтыков. – Пускай помогут мне взять власть в руки, а там я поверну всё по-своему!..» Король сделает его, Салтыкова, первым вельможею. Он не забудет своего верного советника! Тогда-то он посчитается со всеми, кто ему мешал. И возведет в чин высокий всякого, кто был его единомышленником. Сейчас они таятся, отрекаются от него, от Салтыкова. Глазами плачут – сердцем смеются. Скрываются. В разных городах, однако, воеводы только и ждут падения Смоленска. А этот город чего-нибудь да стоит. Когда пробьет час, они сразу перейдут на сторону короля. Кому-кому, а ему, Салтыкову, многое известно. Немало польского золота разметал он по карманам замосковных воевод. Удача нахрап любит, упустишь время – не воротишь. А Мстиславский тем знаменит, что храбрый воин на поле и беспомощен в делах государственных. Может ли он понять его, Салтыкова, дружбы которого искали даже иноземные владыки?[23]
С такими мыслями Михаил Глебович, не торопясь, добрел до своего дома. У входа остановился, помолившись на соборы.
* * *
Мстиславский, старейший из всех бояр, глава боярского правительства, храбрейший из российских воевод, запил.
Он, не отступавший в боях перед самыми страшными опасностями, вдруг почувствовал себя бессильным разорвать сети, которыми опутали его Гонсевский, Салтыков и Андронов.
Но самое страшное, что повергло его в глубокую тоску, это то, что во всем он винил теперь только самого себя. Только себя!
Зачем отворил кремлевские ворота польским всадникам? Испугался крестьянского бунта? Себя не обманешь! Смалодушествовал. В панах увидел спасителей?! От кого?
От своего же народа?!
Разве не он, Мстиславский, в Боярской думе поддерживал тех, кто, испугавшись холопьев и городской черни, требовали признания царем всея Руси польского королевича Владислава? Не он ли испугался и тушинского царька, поднимавшего чернь на бояр и богачей?! Но ведь и это не всё! Королевича Владислава он звал еще и потому, что не хотел, чтобы на престол влезли одинаково родовитые с ним, Мстиславским, люди: князь Василий Голицын или который-нибудь из Никитичей[24] … Он, Мстиславский, не искал престола, но не хотел, чтобы и другие бояре хватались за скипетр…
И теперь, потягивая из чаши вино, Мстиславский бормотал:
– Никому! Не пущу! Прочь, собаки! Убью!
Словно в бреду, он проклинал покойного царя Ивана Васильевича… Зачем он, царь, стер с лица земли уделы?.. Теперь мужики на всей Руси стали одной ордой… Их сила выросла непомерно… Уделы их разъединяли, держали в границах удела, а теперь и ярославские, и муромские, и все другие слились в одно… Сила!
Швырнув на пол серебряный кубок, он вскочил с кресла и, потрясая в воздухе кулаками, как бы набрасываясь на кого-то, ринулся к двери. Седые кольца волос слиплись на потном лбу.
Тяжело дыша, он опустился в кресло и, утомленный, впал в полузабытье, – к тому располагала и близость жарко натопленной печи.
В палате было просторно и чисто. Пол покрывали домотканые ковры. Обширную божницу освещали желтые и зеленые лампады.
В последнее время старик стал бесстыдным ругателем Это заметили и его домашние, и друзья. И то, что вокруг была покорная тишина и никто не отвечал на его брань, заставляло его иногда открывать в недоумении глаза. Глодала тоска. Никто его не боится – это самое постыдное. Делая над собой усилие, чтобы вновь воспламениться гневом, он ударял кулаком по столу и, обычно тихий, скрытный, нелепо рычал себе в бороду:
– На кол! В землю закопаю! Василиски!
В дверные щели со страхом следили за ним его Ваньки, Гришки, Петьки – заброшенные, некормленые холопы.
Однажды на рассвете, очнувшись, Федор Иванович, кряхтя, поднялся, подошел к решетчатому окну, заглянул наружу и увидел на площади скачущих к его дому всадников… «Кто такие?! Мурзы? Чего им?!»
Поторопился, сел в кресло, важно надувшись.
В сенях послышался шум, говор. Вошли князь Черкасский, Безобразов и татарский наездник. Вошли, как были, в шубах, сняли шапки, низко поклонились. Татарский наездник пал ниц.
Хмельными глазами удивленно взглянул на них Мстиславский.
– Чего еще?!
Вперед вышел князь Черкасский.
– Зарайский воевода князь Дмитрий Пожарский вышел из города не с великими людьми, но разбил наголову наших черкас у Пронска, из острога[25] выбил он их, побил многих. Исаак же Сунбулов, видя крепкое стоятельство Пожарского, побежал к Москве, а черкасы утекли на Украину…
Мстиславский, отдуваясь и переваливаясь в туфлях на босую ногу, отошел от стола. Прижался спиной к зеленой муравленой печи, словно пытаясь унять холодную дрожь.
Он не сводил вопросительного взгляда с князя Черкасского.
– Ну?! Что ты?! – трезво спросил он и, увидав рассматривавшее его с любопытством женообразное лицо мурзы, все еще продолжавшего лежать на полу, кивнул в его сторону: – А он чего?!
– Перебежчики, ляпуновские… Утекли из Рязани…
Мстиславский провел ладонью по лбу, как бы вспоминая что-то:
– Ляпунов?! Идет?!
– Идет.
– На нас?!
– Да. Уж близко!
Безобразов, усатый увалень, пихнул ногой мурзу:
– Н-ну!
Мурза быстро вскочил и заговорил, приблизившись к Мстиславскому.
– Велик князь! Ляпунов обижает бедных мурза. Обижает и казаков, и атаманов, и полковников. Моя приходил к нему на поклонение и стоял у него, у избы, многая время. Моя не пускал он, лаял, плетью бил. И все люди Аллаха, и вотяк, и мордва разбегался.
Мстиславский налил вино в чашу и поднес мурзе:
– Пей, нехристь!
Мурза быстро опорожнил чашу и, обтирая губы, отошел в сторону.
– Велика ли рать у Ляпунова?.. – деловито спросил мурзу князь Черкасский.
– Ой, многа! Ой, многа! Сколь птиц там, – мурза показал пальцем вверх, – у Аллаха, столь многа человек…
– Стало быть, вор Салтыков и тут обманул меня?! – покачал головою Мстиславский. – Он умалял рязанскую орду.
Некоторое время все молчали. Потом Мстиславский, усевшись в кресло, в раздумье тихо произнес:
– Стало быть, так бог решил. Великие земли и грады наши, и горы, и холмы паки и паки[26] кровью обольются. Богоотступник – Прокопий! Совесть потерял! Гонсевский знает о том?
– Нет.
– Поднимай ляхов!.. Иди! – мрачно махнул рукой Мстиславский. – Иди! Все одно! Честь потеряна!..
Бессмысленно повторял Мстиславский:
– Всё одно… всё одно… идите!..
И когда Черкасский, Безобразов и мурза вышли из его палаты, он торопливо выпил одну за другой две чаши вина…
– Укроти, господи, в нас сущая междоусобные брани и церковные раздоры и нам полезная устрой, да в мире и тишине пребудет наш пресветлый град! – Опустившись на колени, со слезами на глазах, принялся он усердно молиться о своих грехах.
X
В церкви Покрова условились встретиться Ирина Салтыкова и Наташа Буянова. Совсем недавно Ирина была дочерью незнатного окольничего, а Наталья – дочерью лучшего стрелецкого сотника. Теперь же Михайла Салтыков стал «королевским советником», вельможей и поселился наряду с панами в великокняжеских хоромах в Кремле. Дороги у Ирины и Натальи разошлись. На паперти храма по-старинному обнялись. Месяца три ведь не встречались.
Ой, как изменилась Ирина! Не узнаешь. Настоящая шляхетка. От нее пахло немецкими травами. Многие боярышни теперь варили их у себя в терему (польские дворянки научили). Душились крепко, так, что московские обыватели, оказавшись в соседстве с боярышнями, испуганно крестились, зажимали нос и отплевывались. Ирина, как и все боярышни, густо белилась, румянила себе щеки и чернила брови углем. Вся она была какою-то неживой, похожей на куклу. Не та уж, что прежде, – простушка и забавница.
– Ой, Ирина, милая, что с тобою?! Околдовали тебя паны? – всплеснула руками Наталья.
Глаза Салтыковой затуманились. В ее голосе почувствовалась усталость.
– Живем, Наташенька, поколе бог грехам терпит! И тебе с твоей красотой не худо бы подумать о жизни.
Девушек обступили нищие и юродивые.
– Боярышни, красавицы, во темном лесу заплутались мы, потерялись в этом неправедном свете. Одно нам осталось – могилушка! – причитали они, протягивая сухие костлявые руки для подаяния.
Ирина раздавала серебро направо и налево, пробираясь к своему, убранному турскими[27] коврами возку. Гайдуки распахнули перед ней полог, она позвала с собою и Наталью. Возок тянули две пары рослых коней цугом; на каждом коне – верховой конюх! Цуговая шлея, постромки, узды и поводья были красные, бархатные. Около возка шло несколько слуг.
Два дюжих гайдука стояли на запятках. Наташу охватило любопытство и какое-то новое волнующее чувство. Может быть, это зависть?! Да, пожалуй, и она, Наталья, не отказалась бы от такой узорчатой, отороченной соболем шубки, от шапочки с красным бархатным, красиво спущенным набок донышком, золоченая кисточка которого прилегала к бобровому околышу шапки. А какое ожерелье! Жемчуг, настоящий жемчуг!
– Милая Иринушка! – робко молвила Наталья. – Не боишься ли ты этакой жизни? Не споткнуться бы тебе и не упасть.
Ирина ответила беспечно:
– Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. Мы не святые, можем и согрешить.
– Не оскверняешься ли, Иринушка, получая богатство из рук нечестивых?
– Всяк свою веру хвалит, Наташенька. Их попы говорят не хуже наших. Приходи, послушай. Не боюсь я теперь ничего! Богатство хорошо, пока оно есть.
– Но власть твоего батюшки, Михайлы Глебыча, недолговечна, – покуда паны господствуют… А побьют их… плохо будет.
Ирина вспыхнула, глянула гневно:
– Побьют?! – вскинув брови, повторила она. – От кого ты слышала?! Отец не говорил ли чего? Не скрывай. Я твоя подруженька. Не слыхал ли чего он в посольском лагере?!
Наташа насторожилась. Не понравилось, что Ирина помянула отца и выпытывает у нее, что он творил. Она вспомнила его наказ, чтобы «из избы сора не выносить». Она страшилась несчастья, которое может произойти, если паны узнают о замыслах отца, о том, что он сам готовится уйти к Ляпунову и ее обучает стрельбе из лука и верховой езде. Наташа раскаивалась – зачем она распустила язык и сболтнула чего не след.
– Не пытай!.. Не мое дело то. Ничего не понимаю я. Глупая, как и все.
Увидав из возка бабу с коромыслом, Ирина приказала остановить лошадей. Выскочила, побежала к бабе. Дернула ее за рукав, заглянула в ведра – и убежала обратно.
– Пустые! – печально сказала она, усаживаясь в возок. – Не к добру. Удачи не будет.
Наталья вздохнула:
– Ирина, Иринушка, как видится, и богатым покоя нет! И они думают, и они кручинятся…
– Пустое, – обиженно надувшись, проговорила Ирина. – Нечего нам бояться. Мой батюшка при всех царях будет именит. Он мудрый.
Наталья и не заметила, как салтыковский возок вкатил по мосту через ров во Фроловские ворота и остановился у кремлевского жилища Салтыкова. Свой дом в Китай-городе он оставил заколоченным.
– Кремль! Ах, ах, какая я растрепа!.. – всполошилась она.
– Ну и что же? – успокоила ее Ирина. – Побывай у нас. Такие же мы православные, как и вы. Не гнушайся нами.
Что уж это ты стала нас избегать?
Наталья подумала: «В самом деле, чего я боюсь, глупая?! Ужель я хуже других? Пойду да посмотрю, как новые бояре живут!»
И пошла.
Высокое крыльцо, а за ним – просторные сени. Девушек шумно встретил худенький, малого роста, с наивным бескровным лицом отрок лет тринадцати. Он раскинул худые руки: «Не пущу». Ирина оттолкнула его. Он вцепился в нее, засмеялся.
– Мишка! Миха! Вор! Прочь! Матери скажу!..
Отрок притих, испуганно отошел прочь.
– Кто это! – спросила Наталья.
– Мишка Романов!.. Живет тут… Мать хлещет его каждодневно, а все не унимается. Только матери и боится. Сын Филарета Никитича.
Ирина провела ее наверх, в свою светелку. Наталья сначала отказывалась, вспомнив запрещение отца дружить с Ириной, но любопытство взяло верх. Ирина по секрету рассказала Наталье о том, что скоро выходит замуж за помощника кремлевского коменданта, пана Пекарского.
Из серебряного ларца осторожно вынула богатое монисто и надела его на шею Наталье. Подвела ее к зеркалу.
– Видишь? Ты еще красивее стала, – произнесла она, любуясь Натальей. – Это мне подарил он.
Монисто было собрано из драгоценных камней и из золотых бляшек, похожих на монеты; на груди оно заканчивалось крупным сердечком из ярко-красных сверкающих рубинов.
Глаза Натальи разгорелись: монисто было так прекрасно!
Ирина, видя восторг Натальи, накинула ей на голову золотую диадему с двенадцатью гранеными изумрудами и множеством жемчужных зерен, нашитых на голубом атласе. Словно звезды на весеннем небе!
– Гляди сама! Найдется ли в Москве такая красавица, как ты!
Наталья любовалась собою в зеркало, изумленная, одурманенная. Голова кружилась. Будто сквозь сон, услышала она голос подруги:
– Чего ради хоронишь себя в Стрелецкой слободе?.. Чего ради губишь дивную красоту свою в отцовском застенье?! Живем мы один раз! Затворничество – старухам и уродам! Господь с ними! Золото хорошо, когда его тратят, так и красота девичья. Оставайся у меня. Я тебе еще много всего покажу и подарю.
Ирина развернула перед Натальей на столе атласы веницейские, турские, немецкие; бархаты флоренские, калмыцкие и литовские, расшитые травами золотыми и листьями серебряными. В ее маленьких розовых пальцах мягко, словно ручеек, струился нежный китайский шелк.
– Будет! – прошептала Наталья, опускаясь в парчовое кресло и закрыв руками лицо. – Слаба я!
– Господи, что с тобой, дорогая! – всполошилась Ирина. – Ах, как тебя испортила бедность! Твой отец не жалеет тебя. Он не понимает… Он губит себя, погубит и тебя с твоей красотой. Уйди от него.
– Нет, нет, Ирина! Не то говоришь! – почти простонала Наташа. – Пусти меня! Я вернусь домой. Ты хочешь измены?!
– Какой измены? Кому ты можешь изменить? – пристала к ней Салтыкова. – Какой? Ну, ну, говори!.. Какая измена?!
Наталья поняла, что опять проговорилась, и ничего не ответила подруге.
Та надулась, ушла из светелки.
Оставшись одна, Наталья опустилась на колени и стала молиться, обратив взгляд к окну, через которое был виден Успенский собор.
Она молилась о том, чтобы не было худа ее отцу и чтобы отогнал бог от нее мысли о роскоши и тунеядстве. В эту минуту ее охватило неприязненное чувство к Ирине.
Вдруг дверь тихо скрипнула, и на пороге выросла фигура кремлевского коменданта и воеводы тайных дел пана Доморацкого. В зеленом бархатном кафтане с черной обшивкой, в зеленых сафьяновых сапогах – весь зеленый, – с саблей через плечо, сухой, бледный и неуклюжий, непомерно высокого роста, он испугал Наташу.
Заметив это, он сказал:
– Ничто не может столь опечалить меня, как женщина, пугающаяся моего присутствия… Я страх навожу на мужиков, бунтующих против короля, но не на красоток, подобных тебе…
Близко подошел к Наталье, ласково взял ее за руку, заглядывая ей в лицо, засмеялся. Серые проницательные глаза его оставались серьезными, в то время как на губах играла улыбка.
– Может быть, у страха повод есть? – тихо спросил он.
– Ирина! – что было мочи крикнула Наталья, в ужасе попятившись от Доморацкого.
– Не кричите! Ее уже тут нет… – холодно произнес поляк.
– Отпусти меня! – набравшись смелости, громко сказала девушка.
Не сводя пытливого взгляда с Натальи, он спросил:
– Куда ходит по вечерам твой отец?
Наталья вспыхнула, лицо ее стало сердитым. Какое ей дело? Она ничего не знает! Всё это она и высказала Доморацкому просто, без возмущения.
Пан-воевода загадочно погрозил пальцем:
– Ну, ну, ну! Не будь скупа! Признавайся! Передо мной ли хочешь таиться?! Я всё насквозь вижу.
– Я ничего не знаю…
– Князя Андрея Голицына знаешь? Да? – с язвительной улыбкой спросил Доморацкий. – Не так ли? Его-то ты, наверное, знаешь?! Он – друг твоего отца… Отвечай: слыхала ли ты про такого князя?!
Наталья почувствовала себя пойманной. Встретившись глазами с настойчивым испытующим взглядом Доморацкого, она, обессиленная, подавленная, села в стоявшее рядом кресло.
– Ну! – торопил ее пан. – Знаешь ли ты князя Андрея Голицына? И о князе Пожарском не слыхала ли чего?
– Тоже не слыхала…
– Что делается в Нижнем, на твоей родине, тоже не знаешь?
– Нет.
– А не были ли у вас гонцы из Нижнего, два парня?
– Нет! – твердо и решительно отвечала Наталья, собравшись с последними силами.
Доморацкий хлопнул в ладоши.
Вошел Игнатий, приближенный панами к себе. Он вошел с епитрахилью на груди, держа крест и евангелие.
– Ну-ка, проповедник! К присяге ее!
– Исповедай пастырю похотение твое!.. – размахнулся крестом Игнатий. – От сердца бо исходят прелюбодеяния, любодеяния… Дщерь Иродиады, плясавши и угождавши Иродови и возлежаще с ним…
Пан Доморацкий положил свою тяжелую руку на плечо Игнатия.
– Не то!.. Пускай присягнет: истинно ли она не знает, что делает ее отец и куда он ходит? Истинно ли она не знает ничего о князе Андрее Васильевиче Голицыне и о нижегородцах, о Ляпунове, о Пожарском? Кто нижегородские гонцы, где они, с какой нуждой явились в Москву к ее отцу в Стрелецкую слободу?! Ну, живее!
Наталья громко поклялась под присягой, что она и в глаза не видала нижегородцев и не знает ничего о князе Голицыне и о других.
Игнатий дал поцеловать ей крест – она приложилась безо всякого колебания, ибо считала наихудшим из грехов предать отца и его друзей.
Доморацкий властно указал Игнатию рукой на дверь.
Низко кланяясь, тот удалился. Вошел Михайла Салтыков.
Как бы забыв о Наталье, они повели между собой беседу.
– Утром, – сказал Салтыков, – еще привели пять соглядатаев да много негодяев, порывавшихся к бунту.
Доморацкий улыбнулся:
– Kiedy chrabaszcze sa, to urodzaj jest[28].
– Вельможный пан! Горе нам, коли Прокопий подступит к столице. Об этом у нас меньше думают, чем следует, – строго сказал Салтыков, недовольный рассеянным видом Доморацкого.
– Ясновельможный пан советник, – возразил Доморацкий, – я послал по всему пути от Рязани и до Москвы своих людей. Хитростью и умышлением врагу не подойти к нам.
Спохватившись, он покосился на Наталью и мрачно сказал Салтыкову:
– Пускай погостит она у вас в доме, – и ушел.
Салтыков запер Наталью в Ирининой светелке, а сам вышел в темный коридор, чтобы спуститься вниз.
Неожиданно он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Из темного угла вылез Игнатий.
– Ты чего?! – удивился Салтыков.
Осмотревшись кругом и не видя никого, Игнатий взволнованно напомнил Салтыкову о том, чтобы тот замолвил о нем слово Гонсевскому. Он, Игнатий, еще не потерял надежду вернуть себе прежнюю почесть, занять достойное положение: «Неправедно страдаю!»
Салтыков рассмеялся:
– Не торопись! Всё будет. Для начала хорошо и то, что есть.
Игнатий подобострастно поклонился Салтыкову.
* * *
Ирина, вышедшая в кладовую, чтобы угостить подругу брагой, хотела вернуться снова к себе, но отец загородил ей дорогу, велел идти в покои матери. Ирина видела, как в ее горницу вошел пан Доморацкий, видела вертевшегося в дверях Игнатия, но не поняла ничего. Отец на все ее вопросы отмалчивался. «Не твое дело! – ворчал он. – А за то, что привела буяновскую девку, спасибо! Хорошо! Давно ее ждем!»
Ирина растерялась. В последнее время вообще в их доме творилось много непонятного и много толкалось разных неизвестных людей. Вернувшийся из розысков в Кремль несколько дней назад Пекарский, прежде чем заходить к ней, подолгу просиживал у отца. Словно отчитывался перед ним. О ней, об Ирине, он как бы забыл теперь. Но что такое любовь, что такое женщины и дети здесь?! Все поглощены тем, что говорится, что делается в палатах Гонсевского, на иезуитском дворе. Долго ли будут упорствовать защитники Смоленска, не провозят ли тайно москвитяне оружия, не готовятся ли к восстанию?
В панских палатах много пили. Происходили драки. Скука и подозрительность были написаны на всех лицах. Какое кому дело до ее любви, до ее страданий!.. Даже тому, кому она поверила и отдалась, пану Пекарскому, было не до нее. Да и самой ей стало жутко. Всё кругом казалось таким непрочным.
Поляки готовятся к чему-то. Призадумался и Пекарский. Теперь он, вздыхая, уверял, что воевать с русскими куда труднее, нежели с турками, румынами, литовцами. О мужиках говорил уже без усмешки, а со страхом… Он много всего наслушался и насмотрелся в замосковных местах и еще более жестоко стал обращаться с попадавшими ему в руки простолюдинами. Целые дни проводил он теперь в застенке: пытал, мучил, убивал…
Что же они хотят сделать с Натальей?! Конечно, и ее задержали не зря – выпытывают что-нибудь. Отец часто говорит с озлоблением о Буянове и называет при этом имя князя Андрея Васильевича Голицына. Однажды в разговоре с паном Пекарским Михаил Глебыч сказал, что Буянова надо взять под стражу… Он – опасный человек.
Ирина научилась многое понимать и многое угадывать.
От страха перед россиянами мысли и действия польских панов стали однообразными… Застенок… шпионство… ожидание короля – вот что тяготело над кремлевским гарнизоном.
Скоро ли Доморацкий выйдет из ее горницы? Хотелось бы поговорить с Наташей начистоту. Тянуло сознаться ненавидевшей панов подруге в том, что и ее, Ирину, обманули они, что она была легковерна и глупа.
Но нет! Лучше умереть, нежели признаться подруге в своей ошибке! Мешают гордость, самолюбие.
* * *
Поздно ночью вернулся Буянов домой. Он обошел Китай-город и Белый город, отыскивая свою дочь. На душе было тяжело. Не знал он, что и подумать. Пугала мысль: «Жива ли?» Словно сквозь землю провалилась! Время тревожное! В последние дни, слыша об угрозе Москве со стороны Рязани, гусары нередко хватали девушек среди белого дня, прямо на улице. Жители вступали с ними в рукопашную, защищая своих жен и дочерей. И падали, изрубленные саблями.
Буянов, подавленный горем и охваченный гневом, не мог спать.
Он твердо решил завтра поутру идти в Кремль к пану Доморацкому и просить его помочь ему найти Наташу. Пускай поставит на ноги своих сыщиков – их у него много, – должна же она где-нибудь находиться?!
В дверь кто-то постучал.
– Она! – обрадовался Буянов.
Дрожащими руками отпер дверь.
В горницу юркнул часто бывавший у Буяновых скоморох Халдей. В какой-то повязке на голове, с окрашенным в синий цвет носом и ярко-красными щеками, держа кочергу под мышкой, прошел он по горнице крадучись, опасливо оглядываясь по сторонам.
– Ты чего, Халдей? Почто бродишь ночью, кого веселишь? – спросил печально Буянов.
– Михаил Андреич, несчастье! – простонал скоморох.
– Что такое?! Какое несчастье?! – вздрогнул Буянов.
– В ночлежке у одноглазого… что близ Девичьего монастыря… подслушал я… Игнатий сказывал, что брал он присягу у дочери твоей. Сам Доморацкий велел его напоить за то. А дочку твою в Чудов монастырь якобы заточили. Сидит там. Спасайся! И за тобой придут!.. Беги!.. Проговорился мне пьяный инок, беги!
Слезы навернулись на глазах у старого стрельца, но он мужественно смахнул их. Обнял Халдея и сказал:
– Прощай!.. Когда-нибудь отблагодарю.
Быстро собрался. Взял оружие. Наказал Халдею, чтобы он передал стрельцам в слободе только одно слово – «вербное». – Больше ничего.
– А народ продолжай веселить и врагов смеши, потешай. Будь всем мил. Смеясь, помогай нам. Прощай.
Тихо вышли они на улицу…
XI
Гаврилка решил из Рязани бежать. Наказ смоленского воеводы он выполнил – передал Ляпунову грамоту Шеина. Дальше оставаться в Рязани было опасно.
Не так давно Ляпунов рассылал по деревням грамоты:
«…и которые боярские люди, и крепостные, и старинные, и те бы шли безо всякого сумнения и боязни: всем им воля и жалованье будет, как и иным казакам, и грамоты им от бояр и воевод, и от всей земли приговору своего дадут».
А получилось совсем иное.
Ляпунов говорит одно, а его воеводы делают другое: ловят крепостных, заковывают их в цепи и отсылают к прежним владельцам. Норовят еще крепче закабалить, никуда не выпускают из вотчин. Ляпуновские воеводы пренебрегают ратной помощью своих крепостных; считают зазорным идти заодно с ними, да и побаиваются, как бы вооруженные крестьяне не подняли бунт. Рискованно раздавать оружие крестьянам.
– Бог с ней, с Рязанью, – сказал Гаврилка своим двум товарищам. Осипу и Олешке, когда город остался позади. – Не хотят нас – и не надо! Мы и сами с усами. Пойдем в Москву. Куда же иначе-то? В Тулу? Там и вовсе сидит тушинский атаман, вор и разбойник Заруцкий… В Калуге – не поймешь что. А в Москве дело найдется… Велика она.
Парни с недоверием поглядели на него…
– В Москву? – робко переспросил Осип.
– Да. Чего же ты испугался? – укоризненно покачал головою Гаврилка.
– Ничего. Мы только так…
Прибавили шагу.
От сосен шел приятный запах, радовала взор почерневшая дорога, убегавшая в чащу. Солнце давало себя знать. На дворе уж март – начало весны.
Лапти на всех троих новые; под онучи поддеты кожаные бахилы; армяки из толстого серого верблюжьего сукна (у татар заработали) и шапки войлочные, сбитые набекрень, чтобы кудрям было просторнее.
У Гаврилки под армяком оказалось широкое лезвие бердыша: срубить в лесу древко да насадить – вот и всё. С подобною секирой мог ли испугаться врага силач Гаврилка? Осип, коренастый парень, грудь колесом, усмехнулся, увидя важность на лице приятеля.
– Гляди! – грозно нахмурившись, он вытащил из-под армяка сверкнувший зубьями кистень. – Стукнешь – трое суток в голове трезвон будет.
Олешка – худой, рыжий молодчик, не мог ничем похвастаться.
– Я простой… У меня вот как!.. – засмеялся он, сжав кулак, словно готовясь кого-то ударить. – Пойду нараспашку да и побью вразмашку!
Оба товарища над ним посмеялись.
– Кто легко верит, тот легко и пропадает… Поостерегись бахвалиться…
На сучьях молодых сосен качались красногрудые снегири. Гаврилка, шутя, манил их рукою к себе:
– Эй, вы! Чего нахохлились! Айда с нами!..
Олешка вспугнул птиц, побежал за ними.
Гаврилка догнал его, ухватил за рукав.
– Уймись! Не пугай! Птица – божья.
Лицо его было сердитым.
Осип тоже заворчал на Олешку. Парень смутился.
– Пускай хоть птица вольно живет, без страха.
Потом забыли и про птиц, и про все на свете, запели песню. Эхо поскакало в чаще. И было приятно им слышать беспечный отзвук своих голосов. Вообще, чем дальше уходили от Рязани, тем веселее становилось им.
Освободившиеся кое-где из-под снега бугорки тоже напоминали о весне, так же как и воздух, легкий, душистый. Довольно поморозились, помучились со степными буранами и сугробами. Весною меньше опасностей и препятствий в дороге. И труднее станет боярам и полякам преследовать беглецов. Солнце, тепло и дорожная сушь – верные союзники всех беглецов. А там видно будет. Ловит волк, да ведь и волка ловят. Всяко бывает. Одним словом, всё впереди!
Олешка заявил:
– Жаль только мать да отца! Кабы их еще взять с собой.
После этого на всех напала задумчивость. Шли молча.
Нарушил молчанье Гаврилка:
– Боярин черту брат. Боярин черту душу заложил. А мы и без черта обойдемся. Сколь деревень – столь и нас! Устроимся.
Рать невеликая, оружие: кистень да бердыш без древка, зато бодрости и терпения на целый полк хватит. Были бы глаза острые да руки сильные, да ноги быстрые – раздобыть оружие можно. Военная стать впереди, а теперь – калики перехожие, убогие богомольцы. Где притворством, где силою, где ловкостью, а до Москвы так и эдак надо добраться. Хорошо бы где-нибудь на монастырскую братию натолкнуться да в рясы чернецкие обрядиться. К монахам поляки не столь придирчивы. За врагов их не считают. Смеются над ними – и только.
Лес кончился. Снова равнина. Никто не встретился на дороге. Однажды только пришлось спрятаться в чаще от двух латников. Наверное, это и есть гонцы польского воеводы Яна Сапеги. Давно поджидают их в Рязани. Посадские ворчат на Ляпунова, что он хочет вести переговоры о союзе с главным польским грабителем, разорившим многие русские села и деревни. Может ли быть союзником явный враг?
– Э-эх, люди, люди! – вздохнул Гаврилка.
В полночь добрели до маленькой бедной деревушки, прилепившейся к склону лесистого холма. Подошли к ней осторожно, прислушиваясь ко всякому шороху.
В крайний домик постучали. Никто не отозвался.
Над темно-синим облачком появилась луна. Зеленоватый отсвет лег на причудливые очертания окрестностей.
– Не хотят нас… – прошептал Олешка, потирая уши.
К вечеру стало прохладно, пробирала дрожь.
– Не в овраге же ночевать, – сердито пожал плечами Гаврилка и снова стукнул в дверь.
– Эй, легше! Кто там? Дверь собьешь, – раздался недовольный мужской голос.
– Пусти, христа ради! Застудились мы! – жалобно произнес Гаврилка.
Дверь отворилась.
– Эк, вас тут! Куда я вас дену!..
– Укрой горемышных, батюшка, спасибо скажем! – низко кланяясь, все тем же жалобным голосом продолжал Гаврилка.
– «Спасибо» за пазуху не положишь.
– Добрым человеком бог правит! Господь бог не забудет.
– Слыхали мы… Каждую ночь слышим… И чего народ бегает с Москвы на Рязань да с Рязани в Москву? Дивуюсь! Чьи вы сами-то?
– Смоленские будем, погорельцы, батюшка, бесприютные!
– Как это вас сюда-то занесло?
– Скитаемся! Хлеба ищем!.. Нутро ноет.
– Вона што! Из каких будете?
– Князей Зарецких тяглые… Да уж и князей-то наших, кормильцев, почитай в живых не осталось… Сгибли, батюшка, под Смоленском… И лошадушки-то их все погибли… И пожитки-то все разграблены…
Парни заревели, как малые дети (дорогою уговорились в трудную минуту слезу пускать).
– Эй, ребята, поперхнетесь! Не люблю! Москва ныне слезам-то перестала верить… Жалобой ничего не возьмешь… Камень в людях. Скажите-ка лучше: против кого вы?!
Гаврилка задумался: сказать «против панов» опасно. А вдруг здесь-то и есть их сторонники?! Сказать «против Ляпунова» тоже опасно. Может, хозяин этого дома единомышленник его. А там Заруцкий, Сапега, Маринка со своим сыном и шведский еще какой-то королевич… Вот и угадай – кого помянуть?
– Супротив сатанинского наваждения мы, супротив злохищного диавола и учеников его! – проговорил, заливаясь слезами, Гаврилка.
– А кто диавол: Жигимонд или Ляпунов! – допытывался хозяин избенки.
«Будь, что будет! Не стану кривить душой!» – подумал Гаврилка и ответил тихо и робко:
– Жигимонд.
Хозяин дома весело хлопнул парня по плечу:
– Добро, душа! В горестях совести не растерял. Идите! Заночуйте! Милости просим!
Ребята дружно ввалились в избу. После чистого приятного воздуха полей и лесов показалось душновато, защекотало в глотке.
Да еще хозяин постарался, вздул огонь в очаге: черный, густой дым закрыл потолок.
Хозяин, средних лет, обросший волосами мужик, сел у каменки, заговорил с тоской:
– М-да, братцы!.. Ветры потянули с Рязани. Пан Гонсевский, говорят, и сон потерял. Круглые сутки, словно сыч, сидит. Никого из домов ляхи на улицы не пускают. Как только вы, злосчастные мытари, в Москву-то проберетесь? Опасно! Безбожные ляхи бродят по всем дорогам и проселкам. Мужика совсем загнали в угоду боярам и дворянам.
Гаврилка, укладываясь на полу, усмехнулся:
– Мужик – деревня, голова тетерья, ноги утячьи, зоб курячий, палкой подпоясался, мешком утирается… За простоту страдает… Как говорится, шуба-то овечья, а душа – человечья… Прошу прощенья, коли лишнего наболтал!
Все рассмеялись.
– Ого, да ты бойкий! – довольный шуткой парня, промычал хозяин.
– Радость во мне, что до хороших людей добрел. Сам знаешь, обуют Филю в чертовы лапти – и ходи! Можешь на такого нарваться: он тебя продаст и выдаст, чтобы выслужиться.
– Спасибо на добром слове, спите. Не лишнее бы покалякать с вами о делах, да уж ладно… завтра.
Хозяин плюнул в лучину. Зашипела, погасла. Гаврилка проворчал: «Осип, потеснись, чай, не дьяконица!»
Вскоре опять послышался его голос:
– В Рязани-то! Шумят!..
– Ну, и слава тебе, господи! Давно пора.
Хозяин прошептал молитвы, почесался.
– А ты сам-то кто? – продолжал Гаврилка. – С вида черносошник, а языком на слобожанина смахиваешь?!
Наступила тишина.
Хозяин обдумывал ответ.
– Ладно. Завтра скажу, – неохотно откликнулся он.
Поворочались, повздыхали парни, а затем уснули крепким здоровым сном.
* * *
Утром Гаврилка услышал разговор. Было темно. Свет в избу не проникал, так как волоковые, вырубленные в полбревна в двух венцах, оконца были закрыты плотно подогнанными досками-заставнями.
Раздался голос хозяина:
– Поднялись, стало быть?
– Точно, Харитонушко, куда там! Все как один.
– Кто же с ними?
– Зарайский… Митрей Пожарский… Сам вызвался первым идти к Москве.
– Смелой, стало быть?
– Как сказать! Резвый!
Голоса умолкли, но ненадолго.
– Вот я и думаю… Столкнется ли стрелец-то с ними, Буянов?
– Должны бы столкнуться.
Гаврилка привстал на своем ложе.
– Буянов? – воскликнул он с удивлением. – Не стрелецкий ли то сотник?!
– Ты што?! Разве не спишь?! – озадаченно спросил хозяин.
– Да нет, вроде не сплю.
– Буянова-то знавал, нешто?
– Как не знать!.. Под Смоленском сдружились.
– Так вот. Ночевал он тут. На заре укатил.
– Истинный бог?!
– Что же я тебе, врать буду?
– А я и не знал!..
– Вот те и на! Рядом с тобою спал человек, а ты не знал?
Гаврилка вскочил, бросился к двери.
– Сядь! Лапоть коня не обгонит! Молви-ка лучше: куда бредете?
– Куда, куда! – с досадой в голосе ответил Гаврилка, – в Москву. Что же ты мне раньше-то не сказал?!
Он лег навзничь расстроенный, опечаленный.
– Ой, и не легко же, братцы, войти в Москву! У всех застав стража. Намедни нашли в санях у мужиков пищали и самопалы под зерном, поотбирали, а возчиков в прорубь спрятали… Я сам-то еле ноги унес. И меня хотели заодно.
– А Буянов вон ускакал и дочку свою, Наталью, оставил. Плакал вчера дядя… «Пытают, говорит, мою девчонку. Тело ее белое жгут».
Этого Гаврилка никак не ожидал.
– Жгут! Да как же это так?! Наталью?! Кто жгет?!
В голосе его послышались слезы.
– Ныне просто. Чему дивиться?! Огня хватит.
– Да где же она, голубка, там? Не знаешь?
– Где? В Кремле у тайного начальника, под Чудовым будто монастырем… Отец сам не знает. Скоморох ему поведал.
Разбуженные этим разговором, поднялись и другие ночлежники. Чья-то рука выдернула из стены втулку. Хлынул утренний воздух. В полусвете видны стали два мужика, сидевшие у стены в унынии.
– Вербами запахло… – сказал один из них и вздохнул.
– Время. Вход в Ерусалим семнадцатого. Скворцы вернулись. Будет ли патриарх-то токмо на Пожар-площади?
– Какая там Пожар-площадь! Больно нужна она им, супостатам!
Какой-то человек в кафтане нагнулся, оглядел Гаврилку.
– Волосы-то пригладь! В Москве лохматых не любят.
– А ты московский?
– То-то и дело. Ты в Москву, а я из Москвы… Бобыль я – не все ли равно, где мне помирать.
– Вот бы и помер в Москве. Чего же лучше!
– Да нет уж, я так!
Все рассмеялись.
– На дорогах-то скорей ухлопают, – усмехнулся Гаврилка. – От волка убежишь, а на медведя попадешь!
Хозяин явно сочувствовал словам Гаврилки.
– Шпыняй! Шпыняй! Так ему и надо! Видать, ты парень дельный.
– Гляди сам – не зря небо коптим. Мыслю имеем!
Хозяин, указав человеку в кафтане на Гаврилку, шепнул:
– Поведай. Ему можно. Парень наш.
Тот перекрестился.
– Сохрани нас, господи! – вздохнул он. – Слухарей много развелось. Опасаюсь.
– Ничего, здесь свои люди.
– Тогда слушай… В Москве бунт готовится… Князь Андрей Голицын заводчиком… будешь там – найди старика Илью Гнутова в Земляном городе у вала… Воро́тник[29] он… Шепни ему одно слово «сокол», и он всё вам укажет… Сам я боюсь бунтов… Не хочу… Меня тоже звали, да нет, бог с ними! Хворый я.
Гаврилка жадно слушал незнакомца. У его товарищей тоже глаза разгорелись.
– Крепостных-то принимают? – спросил Олешка.
– Не слыхал, – ответил тот.
– Беда! Помереть за родину и то не дают нашему брату.
– Не верят нам… Опасаются.
Ребята вздохнули, поднялись, чтобы снова идти.
– Помоги, господи, мне хотя бы двоих положить, а третий уж пускай и меня порешит… А может, и трех сподобишь, господи, ухлопать! – перекрестился Гаврилка.
– Ничего. Парень ты здоровый и с пятком справишься.
– Ну прощайте! Помолитесь о нас!
* * *
Следующую ночь парни под видом погорельцев спали в монастыре Святого Саввы.
Монахи встретили беглецов без особой радости, но не показывали и недовольства. Наружно они держали себя, как и всякие монахи, – кротко, смиренно, вздыхали и крестились. Видно было, что они порядком-таки запуганы.
Один чернец рассказал:
– Немного времени назад мы грабили, обижали, предавали христиан, братий наших, и бичом их истязали без милости, но бог наказал нас. Пришли вольные люди болотниковские и побили игумена, казначея и иных начальников, а монастырских тяглецов распустили, волю им дали… Ныне живем со смирением, бояся смут.
Гаврилка, выслушав чернеца, показал ему лезвие – «болотниковские и мы» (нарочно сказал, чтобы запугать монаха еще более), а Осип на виду у него повертел кистенем.
– Чуешь?!
– Чую…
– Перебили и мы порядочно вашего брата. За нами большая орда идет. Слухи неважные про вашу обитель. Добывай, где хочешь, три рясы, не то побьем и вас всех до единого.
Монах с великим усердием бросился исполнять приказание Гаврилки.
Парни обрадованно переглянулись.
В скором времени из дверей в коридоре высунулись косматые головы. Гаврилка погрозился пальцем. Головы исчезли.
– Да молчит всякая плоть человека! – провозгласил он строго.
Осип толкнул его.
– Слышь ты! Олешка пропал.
Оглянулись. Действительно, Олешки нет. Куда делся?!
Крикнули что было мочи: «Олешка!» Тишина. Что такое? Не наваждение ли?! Наконец откликнулся. Прислушались. Голос повторился. Заглянули в приоткрытую железную дверь. Погреб. А в нем бочонки. Олешка цедит из крана вино, торопливо пьет, облизывается, губы обтирает рукавом, косясь недоброжелательно на товарищей.
– Эй, боярин, вылезай! Не время бражничать!.
Олешка с норовом дернул плечами: «Не хочу!»
– Смотри, Олешка! Худо будет, – стал уговаривать его Гаврилка.
Нагнулись над погребом. За спиной поднялся шум. Вдруг оба они полетели вниз. Сзади послышались возмущенные выкрики и злобная ругань. Гаврилка почувствовал сильную боль в ноге: ушибся о бочонок.
– Олешка, дурень, что ты наделал? Попали мы, как зайцы, из-за тебя.
Гаврилка приставил лестницу к стене, поднялся.
Дверь снаружи была заперта.
– Эй, братья, отворите! За нами идет толпа таких же, как и мы… Не сдобровать вам, коли не отпустите! Рассекут вас по кусочкам.
Молчание. Гаврилка закричал:
– Проповедники, не губите христианских душ! Латин идем бить, святую веру оборонять!
За дверью послышался смех… и только.
Гаврилка заявил деловито:
– Вот вы нас тут держите взаперти, а мы выпустим у вас все вино, и не вам не достанется, и не нам. Разобьем все бочонки, и вино ваше все уйдет в землю. Вино старое, держаное, очень хорошее, а пропадет даром…
За дверью наступила загадочная тишина. Донесся тревожный шепот: «Отпустим их. Не трогайте. Как бы и взаправду не сотворили беды!» Дверь со скрипом медленно отворилась. Монахи тихо разошлись по своим кельям.
– Пейте за наше здоровье! Бог вам судья! – громко крикнул Гаврилка. Большого труда стоило ему вывести из подвала своих приятелей. Олешка, покачиваясь, бранился. Осип вел его под руку, говоря: «Не гневи бога! Не гневи бога!»
Заплетающимся языком напевал про себя Олешка:
У воробушка головушка болела, Как болела, как болела, как болела… Как болела, как болела…Гаврилка шепнул Осипу:
– Унести бы ноги поскорее, – доколе не побили нас.
Гаврилка и Осип быстро напялили положенные монахом на скамье рясы. Труднее оказалось одеть Олешку. Он бранился, отталкивал товарищей, лез опять к погребу.
Но где ему было бороться с такими силачами, как Гаврилка и Осип! И его облекли в рясу. Опять появился знакомый уже парням чернец. Он стал упрашивать их поскорее покинуть монастырь: «А то как бы беды какой не вышло!»
Гаврилка, озабоченно поглядывавший на Олешку, еле державшегося на ногах, ответил чернецу:
– Исполни, опричь того, мою просьбу.
– Слушаю, добрый человек, всё сделаю для тебя…
– Кони есть?!
– Как не быть, есть!
– Отвези нас до ближнего села…
– Изволь, братец, изволь, отвезу.
Чернец с большим усердием стал запрягать пару лошадей, а когда запряг, быстро вскочил в сани и натянул вожжи.
Гаврилка обнял Олешку, усадил его позади чернеца. Подгулявший товарищ смирился. Когда сани тронулись, Олешка запел:
Младые пахари, взгляните С слезой сердечной на меня…– Помолись на монастырь-то, ишь распелся! Распрощайся со святыми угодниками!.. – сказал ему Гаврилка сердито, когда поехали. – Батюшка Предтеча, уезжаем далече! А вы, иноки, помолитесь богу за нас, грешных, – вино все вам осталось! Есаулы, держись крепче!
Лошади бойко понеслись по Московской дороге.
* * *
Под самой Москвой, в деревушке из пяти черных дымных изб, к парням пристал беглый, украинец Зиновий.
– Великие вероломства на Украине от панов, – сказал он, разводя руками свои длинные, спущенные книзу усы, – Казацство не знае, як быть… Паны кровь нашу пьють… Ты – вильный чоловик… Казак есть тож вильный чоловик… Мы не крови людской – хозяев казацству ищем…
– Чего ж тут! Побратаемся, да и только, – сказал Гаврилка и обнял украинца.
Осип и Олешка сделали то же.
– От, молодець! От, воевода! – похлопал Гаврилку по плечу Зиновий. Осмотрел его с ног до головы. – Слухай, братику! Я з тобою пийду. Прибиг спасаться до русских.
Як король польский на Украину приходив, так житие наше, як маков цвит, скоро отцвитае…
Зиновий рассказал, что польский король подчинил казацкое войско польскому коронному гетману. Начальников назначили из поляков и немцев. Без старшин казаки никуда не могут отлучиться. Управители панских вотчин ссылают крестьян на днепровские острова, сажают под стражу… Запретили продавать казакам порох, селитру, оружие и даже съестные припасы. Крестьянам не велено отлучаться из своих селений. Кроме налога с десятины, с конских и прочих стад и с ульев, введены оклады звериными шкурами. А где без оружия их добудешь? Введены разорительные пошлины с рыболовства и другие тягостные обложения. Паны помещики что хотят, то и делают с украинским народом.
Зиновий жаловался, что Жигимонд не только стеснил до последней крайности народ и войска украинские, но и обратил их в безвыходное рабство. Словно хочет совсем истребить украинцев. У всех одно: бежать в Московию… к своим единоверцам…
Зиновий сжал кулак и потряс угрожающе:
– Казак тай годи! У нас пан не задирай голови, або от так!.. – И он сделал движение рукой, будто рубит саблей кого-то.
Обтер рукавом вспотевшее лицо и добродушно улыбнулся. Взял за руки Гаврилку:
– Ты рубаться мастак?
– Коли придется, рубну… – смущенно покачал головою Гаврилка. – Пушкарь я.
От Зиновия немало новостей узнали ребята. Всю дорогу он рассказывал про Украину, про запорожцев. Многие из них просятся в ополчение к Ляпунову, хотят идти против ляхов. Затем он рассказал, что на Украине, под Киевом, оставил свою невесту. По его словам, красивее этой дивчины нет никого на свете. Он даже песенку спел:
Ой, вы, черные бровеньки, горе ж мини з вами. Не хочите ночеваты ни ноченьки сами. Хочь хочите, не хочите, треба ж привыкати. Милый милу покидае – сам вин отъезжае, Ой, в туге[30] свою серденьку саму оставляв…– Ничего, – утешил его Гаврилка. – Вернешься к своим черным бровенькам, а коли не вернешься, не беда, другой казак найдется… Не один ты на белом свете!
Черкас, хмуро сдвинув брови, решительно заявил:
– Такой, як Зиновий, один!
– С тобой не соскучишься… Не заметишь, как и в Москву придешь!.. – сказал обрадованный новым спутником Гаврилка.
XII
По базарам ходили духовные люди, объявляя: «Ясновельможный пан Гонсевский, во имя уважения к древним обычаям русского народа, изволил разрешить патриарху Гермогену соблюсти обряд торжественного выезда на осляти в Вербное воскресенье из Кремля на Пожар-площадь».
В Китай-городе, в Рыбном ряду, скоморох Халдей встретился с Игнатием.
Одет был Халдей в зеленый мешок с оплечьями[31] из желтой выбойки, на голове, как всегда, – деревянная шляпа.
– Шавочка, душечка, какому ноне царю служишь? – засмеялся он, подойдя к Игнатию.
– Мотри! Оставь глумы[32]! Не такие дни, Константин.
Халдей отвел инока в сторону, чтобы никто не слышал:
– За Гришку Отрепьева молился?!
Игнатий побледнел.
– Молился. Что ж из того?! – тихо проговорил он.
– Бориса проклинал?
– Проклинал… Так ему и надо!
– Василия Шуйского…
– Прочь от меня, скоморось проклятый!..
– И я в цари попал!.. – расхохотался Халдей. – И меня проклинаешь?!
Игнатий притворился игривым.
– Съем! – бросился он на скомороха.
– Брешешь, боров, подавишься! Глотай своих богомольцев, а меня погоди… Не довелось бы мне тебя слопать!
Инок подозрительно осмотрелся по сторонам. «Идем!
Да возвеселимся, яко Давид!» – постарался он обратить пререкания в шутку. То, что прощается скомороху, то не простится ему.
Пошли. Игнатий поминутно оглядывался.
– Нет ли ярыги? Следят и за нами, – вздохнул он, – гнетут и нас за кабаче непотребный…
Под часовней Ивана Крестителя в глубоком подземелье бушевал кабак. Пламя свечи на каменном выступе стены колебалось.
Игнатий и Халдей примостились к углу за печью. Игнатий грустно вздохнул:
– Зачем я приехал в Москву? Ошибся. Всю жизнь вот так. Ищу и ищу чего-то…
– Всуе вздыхаешь. Паны тебя балуют. Из заточения выпустили… Того и гляди, митрополитом станешь.
Игнатий махнул рукой.
– Не чаю! Тому, что было, не бывать.
В минуту пьяной скорби Игнатий не скупился на слова. Про Наталью Буянову так же вот, под хмельком, рассказал.
– Сроду так: панская ласка только до порога? – посочувствовал Халдей.
– Глупый ты, веретено!.. – обиделся инок. – Да разве я о том?! Сан мой остался при мне, хотя я и опозорен, и унижен. И ум при мне. И желания тоже. Не о том думаю я.
– О чем же?
– Принеси-ка еще вина… вот о чем!
Скоморох сбегал, принес два жбана: «Ну, говори!» Инок обтер рукавом усы и бороду, нагнулся:
– На Вербное сзывают народ для пагубы… Истребить хотят. Мне жаль тебя, хоть ты и шут, а справедливый человек. Не ходи! Убьют!
– На кой же ты сзывал?
– Стало быть, надо, – огрызнулся инок.
Гусляр тянул в темноте:
Жи-ил бы-ыл старец один наедине. По-остроил ста-арец келью со-оломенную; По-ошел ста-арец к реке за водой, Навстре-ечу ста-арцу де-евок хоровод: Поча-ал ста-арец скакать и плясать, Ска-акать и пляса-ать…Игнатию стало скучно со скоморохом, он задремал, а потом и уснул.
– Купался, бобер, не купался, тока вымазался… – со злой усмешкой, глядя на Игнатия, произнес скоморох и быстро вылез из погреба. В епанечном ряду поймал за платок какую-то торговку, сказал ей на ухо: «Говори по всем посадам, чтобы на Пожар-площадь в воскресенье не ходили, ляхи губить православных будут… Мечами рубить… Дура! Чего рот разинула? Беги!» Торговка, подхватив одной рукой подол, другой корзину, побежала. Халдей внимательно проследил за ней. Она заметалась от одного ларя к другому, сообщая страшную весть. Поймал скоморох какого-то парня и ему шепнул. Тот стрелою понесся по базару. Напуганные и без того в последнее время и торговцы и покупатели переполошились.
Из епанечного ряда Халдей побежал в Гончарную слободу. Там произошло то же.
Пожар-площадь и Вербное воскресенье вскоре были у всех на устах.
К вечеру Халдей побывал в Деревянном и Белом городах, Везде говорил; «Сидите в Вербное по домам, патриарха не встречайте! Попам, зовущим вас на площадь, не верьте! Заманивают они на погибель!»
* * *
Все московские «сорок-сороков»[33] тяжело гудели в утро Цветного (вербного) воскресенья. Солнце золотило купола кремлевских соборов, пригревало Москву-реку, оживило пестрые посады, сверкавшие кусками таявшего снега. Кружили голубиные стаи.
В Успенском соборе совершалось патриаршее служение.
Дряхлый, худой Гермоген, одетый в пышное парчовое облачение, с громадной, осыпанной жемчугом и драгоценными камнями митрой на голове, еле-еле держался от старости на ногах, опираясь костлявой рукой на свой высокий серебряный посох. Едва слышно, старческим голосом, произносил он молитвы. Мутный взгляд его был обращен вверх, туда, где ворковали набившиеся в разбитое окно голуби. После выходов садился он в алтаре на красную бархатную скамеечку, опускал трясущуюся голову на грудь и нашептывал про себя молитву. В соборе присутствовала вся кремлевская знать: бояре, окольничие, городовое дворянство. Так пожелал Гонсевский. Все должны были почтить, этот день, провожая из Кремля патриаршее шествие на «осляти» к Лобному месту. Паны скромно заявляли, что они не позволят себе чинить каких-либо стеснений в исполнении православными их исконных, древних обычаев. В это утро католическое духовенство на улицах Кремля не показывалось.
Бояре молились и думали: «Проклятые латыняне! Не сможете вы провести нас! Пушкой гоните, и тогда не пойдем на площадь!»
Один патриарх не ведал, что творится. Ему казалось, что сегодня он растрогает всех жестокосердых и своекорыстных, поднимет мужество в народе своим обрядом отождествления себя с Иисусом Христом, шествующим на осляти во град Иерусалимский. Ему казалось: вот он появится на плащади, и несметные толпы народа падут к его ногам и будут оплакивать вместе с ним горькую судьбину государства. А он произнесет такое слово, которое вызовет в народе еще большую привязанность к православию, заставит братски объединиться и ополчиться князей и их рабов на панов и иезуитов.
Патриарх служил с большим усердием и, волнуясь, думал только об одном: чтобы хватило у него сил доехать на коне на площадь и стать лицом к лицу с народом.
Патриаршая жизнь и прежде, до этого, мало чем отличалась от жизни заключенного. Только три-четыре раза в год ему полагалось показываться народу. В дни польского владычества народ и вовсе его не видел.
Служба кончилась.
Подвели к паперти Успенского собора породистого коня в парчовой попоне. Боярские дети стояли тут же, держа большие свитки разноцветных суконных дорожек. Толпились в ожидании патриаршего выезда и суетливые кремлевские обыватели, с кафтанами под мышкой, которые «для счастья» намеревались сунуть под ноги патриаршему коню.
В толпе был и одетый крестьянином Халдей. Он всячески старался уклониться от встречи с Игнатием, который юлил около бояр. Халдей делал всё, чтобы его не узнали. С замиранием сердца он ждал выезда патриарха из Фроловских ворот на Пожар-площадь.
Ни одного поляка не было вблизи собора. Зато (об этом хорошо знал Халдей) немало вооруженных солдат находилось на кремлевской стене и в башнях. Ночью их разводили региментари и ротмистры[34] по местам засады. Халдей слышал в темноте распоряжение Пекарского, чтобы жолнеры дружно стреляли со стен и из башен в богомольцев, когда те сойдутся на площади. От Игнатия Халдей узнал, что к этому подбивали поляков не кто иные, как Михаила Салтыков и Федор Андронов, юркий, ненасытный прасол, облеченный большой властью в Кремле.
В последние дни облагодетельствованные королем бояре не отходили от панов. Двинувшееся на Москву ляпуновское ополчение пугало их. Михайла Салтыков и Федор Андронов окружили свои дома крепкою стражею из польских жолнеров. Стрельцам они уже не доверяли. Русский народ стал им подозрительным и чужим. Он мешал их благополучию. А оно росло не по дням, а по часам: обзавелись, по милости короля, новыми вотчинками, деньжонками из кремлевской казны, обрядили богато своих жен и детей… Выезды роскошные завели: прекрасных скакунов, ковровые возки с гайдуками на запятках; пиры с мазуркой и пр. Вино варили у себя в домах наподобие заморского (польские винокуры научили). Все сулило наступление «счастливого времени». Но вот… поди ж ты! Народ все чем-то недоволен, все ему чего-то нужно!
В этот день Вербного воскресенья, семнадцатого марта, московские жители еще нагляднее показали свое единомыслие.
Халдей торжествовал. На Пожар-площади, кроме духовенства, кремлевских дворян, польских и немецких латников, не было ни души.
Выехав на площадь на своем «осляти», которого вели поочередно бояре, патриарх Гермоген сразу увидел, как он одинок. Около него были попы, служилые люди и поляки. Народ, к которому он хотел обратиться с призывной речью, отсутствовал.
Потом, когда шествие кончилось и патриарх, вернувшись в Кремль, снова был отведен польской охраной в место своего заточения, Халдей увидел сошедшего с башни пана Гонсевского в сопровождении своих помощников, панов Борковского, Доморацкого и Пекарского. Он подозвал к себе Салтыкова, Андронова и других окольничих и бояр, стал их бранить. Лицо его от злости побелело. Бояре низко кланялись, будто они и в самом деле провинились в том, что панам не удалось перебить на площади московских людей.
* * *
Михайла Салтыков поднимался по лестнице в терем дочери, сухо покашливая; это означало, что он не в духе.
На пороге остановился.
– Почто пожаловал, батюшка, господин мой? – низко поклонилась ему Ирина.
Молча, пытливыми глазами глядел на нее Салтыков.
– Ты что, батюшка? – испугалась она.
– Видать, мы и состаримся, а уму не научимся, – нахмурившись, произнес Михайла Глебович. Сел на лавку.
Ирина стояла перед ним, виновато опустив голову.
Она знала, зачем он пришел и почему он в последнее время так строг с ней. Ведь ее родители были так уверены, что пан Пекарский женится на ней. Михайла Глебович решил, если королю не удастся утвердиться в Москве, то переехать в Польшу и дожить остаток лет в замке Пекарского, своего зятя. Этот шляхтич слыл очень богатым и знатным человеком в Польше.
Ляпуновское ополчение напугало Салтыкова. Мысль о бегстве в Польшу сменила мечту о первенстве на Руси. Даже во сне он теперь бредил Польшей, королевскими милостями, проклинал бояр и мужиков. Мудрым и правым казался ему только король Сигизмунд.
По ночам он пугал свою престарелую жену дикими, нечеловеческими криками во сне. Она поднималась при свете лампад, кропила его святой водой, а утром рассказывала об этом Ирине. И добавляла: «Все из-за тебя, Иринушка, не сумела ты привадить пана… Не ходит он больше к нам…»
– Ну, чего же молчишь?! – крикнул дочери Салтыков. – Иль с отцом и говорить не о чем?..
На глазах у Ирины выступили слезы.
– Не могу понять, что со мной!.. – тихо молвила она. – Ахти, горе мое великое!.. Нигде душенька моя покоя не находит… Тоска гложет меня смертельная и печаль несносная… И зачем он явился на нашей православной земле, враг он лютый, нехристь окаянный?.. И не лучше ль мне рученьки на себя наложить?..
Мрачно сгорбившись, сидел на лавке Михайла Глебович. Ему жаль было дочь, но еще более того было жаль, что не удастся ему породниться с польским шляхтичем, что ускользает у него из рук помощник Гонсевского, ясновельможный пан.
– Трудно ль человека приворожить? Строга, видать, ты была, норовиста? Михайла Глебыч вдруг хмуро улыбнулся и со значением сказал: – Не видела ты в нем будущего домовладыку, не верила в него, стало быть. Не была смелою. Вот в чем вся суть… Я тебя не нудил, как иные бояре. Не держал, яко медведицу, на цепи. Иные, посмотрю, есть польские девки: змию василиску подобны. Привлекают. В очи черности напустят, в одеяния багряные облачатся, перстни на руки возложат и на лукавые дела тщатся… Заманивают! И все составы свои в прелести человеческой ухищряют и многие панские души огнепальными стрелами устреляют… Како расслабленные, паны около них бывают… Ты, видать, у нас не такая. Вот он и ушел от тебя. Э-эх, матушка Русь! Где тебе гнаться за Польшей!
Ирина молчала. Она смотрела на отца испуганными глазами. Вот кто во всем виноват! Он, ее отец! Сам он свел свою дочь с этим лютым зверем, с гадом, навеки опозорившим ее, сделавшим ее несчастной. О, если бы отец знал, как она привлекала пана, как была послушна ему и что из того вышло! Стыд и страх мешали ей открыть всё. Разве можно отцу рассказать об этом?!
Михайла Глебыч посидел еще некоторое время около дочери молча, повздыхал, в раздумье покачивая головой, помолился на икону и ушел.
Ирина бросилась на постель, уткнулась в подушки, стараясь заглушить рыдания…
XIII
В ожидании военной бури притихла Москва. На окраинах пристава, толстые, широкие, но проворные и цепкие, хватали каждого, кто попадался им на глаза. Конные патрули медленно объезжали пустынные улицы. Они хорошо вооружены и горды тем, что все их боятся, все попрятались от них в свои дома.
С одним из таких патрулей и повстречались у Калужских ворот Гаврилка, Осип, Олешка и Зиновий. Не успели рта разинуть, как их, невзирая на их иноческий вид, забрали на работы в Кремль.
Там происходили воинские упражнения польско-литовских солдат и немецких и прочих ландскнехтов. Таких рослых горячих коней, как у королевских гусаров, никогда не приходилось видеть парням. («Вот бы нам!») Поляки на скаку прокалывали чучело: а на чучеле была красная мужицкая рубаха да холщовые порты и даже лапти, привешенные на бечеве. С торжествующими выкриками гусары всаживали в него копья и, ловко вытащив обратно, мчались дальше. Пехота занималась фехтованьем. Лязгало железо. Со всех сторон доносились голоса команды. Немецкие наемники в пешем строю внимали бойкому кривоногому пану, который весело объяснял им что-то. помахивая рапирой в сторону Китай-города. Медные доспехи немцев, тщательно начищенные, ярко блестели на солнце. От лошадей шла испарина.
Знаменосцы подняли знамена, как будто готовясь к походу.
Дьяк-вербовщик погрозился на Гаврилку:
– Эй, не засматривайся!.. Зри на небо!
Гаврилка так и подумал: ляхи идут воевать. Но против кого?! Мурашки пробежали по телу. Ему вспомнились бои под Смоленском.
Парней привели на работу в костел. Шла проповедь. Вербовщик приказал обнажить головы.
Закатив глаза к небу, прелат вдохновенно восклицал:
– Скоро, скоро увидим ожидаемый нами день, когда свет, дотоле помраченный, засияет над всей Московией, и если это совершится, будет благо для всех просвещенных государств. Ныне мы, по смирению нашему, молчим о будущих делах. Мы опасаемся дерзких москвитян. Доколе наш государь не утвердится на московском престоле и не убедит верных королю вельможных бояр в спасительности унии, дотоле не будет и порядка на Руси.
Проповедник напомнил полякам о письме римского папы Павла V, в котором папа писал Лжедимитрию: «…Мы не сомневаемся, что ты хочешь привести в лоно римской церкви народ московский, потому что народы необходимо должны подражать своим государям и вождям. Верь, что ты предназначен от бога к совершению этого спасительного дела. Воспользуйся удобностью места и, как Константин Первый, утверди здесь римскую церковь. Так как ты можешь делать на земле своей всё, что захочешь, то повелевай…»
Прелат, грозя кому-то пальцем, как бы с упреком, заявил:
– Надо помнить, что убитый москвитянами «добрый и природный царь Дмитрий Первый дал папе в том клятву».
По словам прелата, после смерти «Дмитрия Первого» эту клятву должны выполнить верные королю бояре.
Заметив в костеле русских мужиков, какой-то шляхтич подошел к вербовщику и шепнул ему, чтобы тот увел их из костела. «Здесь будет говориться такое, чего не должны слушать русские уши».
– Сучий сын!.. – покраснев от злости, прошептал Зиновий, хорошо знавший польский язык.
Вербовщик повел их, как пленников, со стражей, к Никольской башне.
Там тоже предстояла работа – уравнять каменное основание под пушками.
* * *
«Потворенная баба» Оксинья, которая «молодые жены с чужи мужи сваживала», старалась утешить плакавшую Ирину.
– Женщине соблудить с иноземцем простительно, – говорила она в утешение, лукаво улыбаясь. – Дите от иноземца родится – крещеное будет… А вот как мужчина с иноверкою согрешит, так дите будет некрещеное… Мужику грешнее: некрещеная вера множится…
– Ах, да ты не о том говоришь, убогая!.. – недовольно оттолкнула от себя Ирина «потворенную бабу».
– О чем же мне, матушка, и говорить тогда? – обиделась та. – У меня одно дело.
– Грешно, Оксинья, о том теперь… Грешно!
– А чтобы грешно не было, снимай, голубушка, в те поры крест с себя, занавешивай образа, – непристойно блуд видеть иконам. После того грешное дело богом завсегда простится. Иконы надо завешивать… – нравоучительно повторила Оксинья… – Испокон века так ведется… Боярыни и боярышни этим лишь и спасаются. Непристойно иконе видеть наши грехи.
– Уйди от меня!.. Ты! Ты во всем виновата!.. Ты сбила меня своими речами пустошными и блудными. Ты в наши терема соблазны приносила! Ты! Ты!.. Не хочу я дите!..
Ирина вскочила с кресла, замахала руками на Оксинью. На ней была длинная рубаха красного цвета, поверх которой она накинула серебротканый летник. Лицо ее позеленело.
Оксинья в страхе попятилась. Прошептала:
– Стой! Стой! Обойдется! Пришлю знахарку… Она знает наговор!
Девушка закрыла лицо руками.
– Спаси меня, спаси! – тихо всхлипнула она.
«Потворенная баба», получив горсть серебра, поклонилась и вышла.
* * *
В желтом колпаке, с вымазанным в синюю краску носом, в зеленом кафтане, на котором были нашиты разноцветные лоскутья, изображавшие мечи, бердыши, луки, в комнату Ирины вошел Халдей.
– Увы нам! – взволнованно произнес он. – В Китай-городе начался мятеж…
Уже?! Не зря в последние дни Ирину мучили бессонница и какое-то неприятное предчувствие. Вот почему отец забыл и мать, и ее!.. Дни и ночи он проводит у Гонсевского.
Ирина слышала задыхающийся голос Халдея:
– …Твой отец… в Цветное сказал ляхам… Он учил их… Ирина насторожилась:
– Что он сказал? Кого учил?!
Глаза скомороха сверкнули гневом:
– Твой отец… Иуда он!
Халдей видел перед собой исхудавшую, глубоко несчастную Ирину, ее растерянно жалкий взгляд из-под золотых ресниц, но его сердце, полное ненависти к Салтыкову, не могло смягчиться.
– Беги к отцу! Удержи его!.. Они готовят с Гонсевским смерть… гибель… народу! Помешай пролитию крови, и муки твои уменьшатся. Отврати беду от нас!
Девушка поднялась, подчиняясь горячим словам Халдея.
Ирина торопливо надевала на себя опашень, путаясь в длинных, спускавшихся до земли рукавах… Скоморох помог ей.
– Где отец?
– В старом Борисовом дворце. Беги туда! Там все собрались…
Но только Ирина хотела выйти, как на кремлевском дворе прогрохотал орудийный выстрел. Послышались гудки, бой барабанов и литавр, крики, шум…
Ирина и Халдей в тревоге побежали вниз на улицу.
К Фроловским воротам по площади в стройном порядке спешно шагал отряд немецкой пехоты. Региментари и ротмистры с саблями наголо бегали среди раскинувшегося вдоль кремлевской стены гусарского табора.
Из-за деревянных хором, из-за заборов выходили все новые и новые роты жолнеров.
Халдей хмуро сказал:
– Поздно!
Ирина, испугавшись шума и множества людей, скрылась у себя в крыльце.
Халдей увидел толпу жолнеров, которая насильно гнала по Пожар-площади извозчиков в Кремль втаскивать пушки на стены. Извозчики крестились, божились, ругались, но ехать в Кремль не хотели. Собралась толпа. Стала на сторону извозчиков. Оттеснила поляков. Те обозлились. Приготовились стрелять. Но… толпа росла, делалась смелее.
На помощь жолнерам подъехали дотоле безучастно сидевшие на своих громадных конях около церкви Покрова. (Василия Блаженного) немецкие латники. Они принялись разгонять народ нагайками. Жирные лица их с закрученными кверху усами были насмешливы. Немцы врезались в толпу, давя народ, нанося удары направо и налево. Немало людей с изуродованными лицами, сбитых нагайками и конями, уже барахталось на земле. Были слышны стоны. В немцев полетели камни.
На крик толпы из Китай-города прибежали крестьяне, приехавшие из деревень, торговцы, посадские обыватели, случившиеся на торгу. Они вступили в драку с немцами.
Халдей поднял с земли несколько увесистых камней, прицелился и пустил их в одного немецкого латника. Немец, намеревавшийся ударить кого-то, взмахнул руками и свалился наземь.
Смыв краску с лица, сбросив с себя шутовской плащ, Халдей снова втиснулся в толпу. Теперь он дрался с немцами саблей. Но теснота мешала ему. Он влез на крышу одного из ларей. Окинул взглядом площадь: толпы все идут и идут из прилегающих улиц, не ведая о том, что творится около Кремля. А там мелькали обнаженные сабли; пики то поднимались, то снова погружались в толпу; взлетали доски, брусья, камни…
Народ рубили уже не только немцы, но и прискакавшие к ним на помощь под командой пана Пекарского королевские драгуны.
Мимо Халдея проносили раненых женщин и детей…
Он соскочил наземь, побежал в прилегающие к площади улицы и стал уговаривать народ отступить, не лезть, не обрекать впереди стоящих на гибель.
Слова его были услышаны, подхвачены другими – толпа отступила.
Избиваемые драгунами москвичи побежали по Никольской и Ильинской улицам. Многие из них, цепляясь за камни и доски, падали и умирали под ударами сабель. Те, которым удалось добежать до Китай-города, тоже не спаслись.
В Китай-городе, застроенном боярскими и обывательскими домами и сотнями лавок, было удобнее скрыться от преследования конницы, чем на площади. Пан Пекарский понял это и послал пехоту, которая врывалась в дома, обшаривала дворы и вытаскивала спрятавшихся горожан на улицу.
С пехотой пришел и Салтыков. Он привел жолнеров к дому Андрея Васильевича Голицына. Жолнеры выломали дверь, ворвались во внутренние покои. Андрей Васильевич встретил их с саблей в руке. Ранил двоих.
Через некоторое время из дома вышло несколько плечистых жолнеров.
Они волокли на себе громадные узлы. Выглядывали из узлов женские и детские сапожки, сарафаны…
– Вечный покой рабу божьему болярину Андрею и болярыне Варваре с чадами, – произнес Салтыков, усмехаясь. – Не будут думать теперь о царском троне.
Возвращаясь в Кремль, поляки и немцы разбивали бочки с вином, хранившимся в боярских и купеческих погребах, захватывали женщин и девушек и насиловали их. Меньше всего заботились они сейчас о съестном. Все хлебные и зерновые склады горели беспрепятственно. Кремль остался с небольшими запасами.
* * *
Перепуганные бунтом на Пожаре, кремлевские обитатели решили отслужить молебен о прекращении мятежа. Службу совершал в Успенском соборе снова возведенный в сан патриарха Игнатий. (Гермогена бросили в темницу.)
В золотой митре, осыпанной изумрудами, и в белоснежном парчовом облачении стоял Игнатий на амвоне, осматривая с какой-то растерянностью окружающих богомольцев, словно сам не верил в неожиданное свое превращение из бродячего чернеца в патриарха.
С крестом в руке, покраснев от натуги, он хрипло сказал:
– Князю людей своих да не речеши зла!.. И в совести своей не кляни вельмож! Покорися воле господней, человек!.. Сломи гордыню помыслов своих… – А заканчивал он грозным восклицанием: – И простер ангел божий руку свою на Иерусалим, дабы опустошить его!
Плакали бояре, боярыни, боярышни, дьяки и подьячие, плакали монахи и монашенки. Упорство простого народа смутило всех.
Во дворце Гонсевским наскоро созван был совет из польских и немецких командиров и бояр – королевских советников.
Михайла Салтыков, размахивая руками, взволнованный, задыхаясь, кричал:
– Сжечь! Истребить всех!.. Доколе домы их целы, они будут опасны нам. Разорим мятежные гнезда, и обороняться нам станет поваднее в единой крепости… на просторном поле…
Паны согласились выжечь Белый город и деревянный Скородом в Москве.
XIV
По Никольской на коне мчался боярин Михайла Салтыков. Поперек дороги стал высокий человек в черном обшитом серебром кафтане.
– Глебыч! Куда?
Салтыков взглянул на него и, перекинувшись через луку седла, крикнул:
– Дом жечь!.. И ты жги! Либо мы – либо ничего! Всё пускай гибнет! Всё!
И понесся дальше. Около своего дома в Китай-городе Салтыков соскочил с коня. Помолился. Набрал во дворе несколько охапок соломы. Побросал ее в сени и зажег. Гаврилка спрятался в огороде соседнего дома: следил за боярином.
Из Кремля скакали с факелами в руках немецкие и польские латники. Отделившись один от другого, они с гиканьем и свистом рассыпались по улицам и переулкам, поджигая дома. Салтыков обошел свой дом, поднимаясь на носках и заглядывая в окна. Оттуда потянулись черные клубы дыма. Как бы прощаясь со своим родовым гнездом, он снял шапку, помолился. Огонь, подхваченный ветром, перебросился на соседнюю хижину. Оттуда выбежала худая женщина с ребенком на руках, за подол ее держались еще двое.
– Что делаешь?! – прижав ребенка к груди, закричала она.
Салтыков вскочил на коня и, не удостоив ее даже взглядом, помчался в Кремль.
После этого Гаврилка выскочил из-за ограды и побежал в Белый город. На Лубянке остановился, – его привел в недоумение шум, доносившийся со стороны Сретенских ворот. Вглядевшись, можно было отчетливо увидеть какой-то военный лагерь. Чей?! Гаврилка подкрался к шатрам поближе, наткнулся на бородатых бронников, в которых сразу узнал своих, русских, воинов. Кто-то схватил его за руку. Окликнуло сразу несколько голосов: «Откуда?» Перед ним стоял стройный, высокий, с небольшой черной бородкой, богато одетый воевода. На голове шелом-шишак с высоким навершьем, украшенным пышными перьями. В серебряных ножнах широкий меч.
– Что видел там?! – спросил воевода парня, лаская его своими черными печальными глазами.
– Чего видел? Губят нас проклятые!.. – со слезами в голосе ответил Гаврилка.
– Буянов! – крикнул воевода. – Расспроси!
Гаврилка насторожился: «Знакомое имя! Уж не Михаил ли Андреич? Так и есть: он самый!»
Буянов тоже сразу узнал смоленского парня. Он повел его к церкви, тут же у Сретенских ворот. Достал из саней, наполненных доспехами, кольчугу, железную шапку стрелецкую, сапоги и саблю. Приказал ему одеться. К Гаврилке подошли нижегородцы Мосеев и Пахомов. Обняли его. На них была броня, в руках копья.
Все четверо невольно подняли головы: по небу быстро неслись черные облака дыма.
Москва загоралась.
– Кто он, тот начальник? – спросил Гаврилка.
– Князь Пожарский… зарайский воевода. Пришли мы первые из ляпуновского ополчения… – с гордостью ответил Буянов.
Началась пальба. По высокой стене Белого города у Сретенской проезжей башни забегали люди. Буянов прислушался.
– Пищальник я и пушкарь… Меня бы на стену, – попросился Гаврилка.
– Обожди… Спрошу!.. – Буянов побежал к воеводе.
Тот верхом на коне отдавал распоряжения окружившим его стрелецким военачальникам. Стрелец, кивнув в сторону Гаврилки, крикнул что-то Пожарскому. Воевода указал саблей на стену около самой башни над воротами.
– На стену!.. Вон туда!.. – вернувшись, озабоченно произнес Буянов. – Конники!.. Тьма-тьмущая!.. Проворнее!..
На стене около пушки неумело суетились двое стрельцов. Гаврилка объяснил им, что послан воеводой, что он смоленский пушкарь. К Сретенским воротам густою массой двинулись конные немцы и поляки.
Гаврилка увидел со стены, как навстречу им из Белого города ровно и стройно пошли ратники Пожарского. Шли они грудью вперед, по десять человек в ряд, с копьями и самопалами наготове. Шли смело, быстрым шагом. Немецкие и польские всадники пустились вскачь, чтобы на лету сбить ополченцев.
Тут Гаврилка навел пушку, прицелился.
Ядро врезалось в толпу врагов. Пехота ополченцев неожиданно раздалась надвое, и скрытые за спинами пехотинцев пушки в упор обдали огнем польскую конницу. Ополченцы бросились врукопашную. Загудел набат колоколов Сретенского и Рождественского, что на Трубе, монастырей. Начался бой. Сам воевода примчался к месту сражения. Подняв высоко саблю, он появлялся в опасных местах, воодушевляя ополченцев. Гаврилке трудно было стрелять: свои и чужие смешались в общей свалке. Дрожа от нетерпения, он ждал удобной минуты, чтобы снова бить врага, но враги уже ускакали обратно, не выдержав рукопашного боя с пехотой Пожарского.
* * *
Вечером, вернувшись в кремлевскую казарму, поручик королевского гусарского полка Маскевич записал в дневник: «…Сего дня, во вторник 19 марта 1611 г., поутру в Китай-городе наши поссорились с русскими. По совести, не умею сказать, кто начал ссору, – мы ли, они ли. Кажется, однако, наши подали первый повод к волнению, поспешая очистить московские дома до прихода других: верно, кто-нибудь был увлечен оскорблением – и пошла потеха! Завязалась битва, сперва в Китай-городе, где вскоре наши перерезали людей торговых (там одних лавок было до 40 000), потом в Белом городе. Тут нам управиться было труднее: здесь посад обширнее и народ воинственнее. Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив их по улицам, обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями, а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами. Мы отступили, чтобы выманить их из-за ограды, они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и, лишь только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитою своих загородок стреляют по нас из ружей, а другие с кровель, с заборов, из окон бьют нас самопалами, камнями, дрекольем. Жестоко поражали нас из пушек со всех сторон, ибо по тесноте улиц мы разделились на четыре или на шесть отрядов. Каждому из нас было жарко. Мы не могли и не умели придумывать, чем пособить себе в такой беде…»
Внеся эти строки в свой дневник, поручик Маскевич вышел во двор наведаться, что творится на воле.
Над Москвою колыхалось огромное зарево, слышался треск горящих строений; едкий дым наполнил кремлевские улицы. Трудно стало дышать. От огня в Кремле сделалось светло, как днем. Главы соборов то вспыхивали, то угасали в отсветах пожара; Иван Великий порозовел, окутанный серебристыми облаками дыма…
Слышались вопли, редкие выстрелы.
По двору пробежал пан Пекарский, рядом с ним – Игнатий. Увидев Маскевича, пан указал рукой на зарево:
– Гляди!.. Бояре не могут на нас обижаться! Действуем по их доброжелательному совету…
Маскевич улыбнулся:
– Подобный дым, вероятно, бывает только в аду…
* * *
Ночью морозило.
Халдей в темноте незаметно прокрался кривыми улочками в сторону Боровицкого холма. Над одетым в камень кремлевским рвом, ближе к Москве-реке, стояли баньки, пристани и рубленые амбары, а за пустырем в лощине домик, в котором была заперта Наталья. Строение окружал высокий плетень. Во дворе лаяли собаки. Брошенные куски мяса угомонили их.
Увязая в грязи, добрался Халдей до избы. С вершины Боровицкого холма бежали ручьи.
В заречной части города, по ту сторону Москвы-реки, за Кремлем, изредка слышались выстрелы.
Халдей достал из кармана железный крюк. Но, прежде чем взяться за замок, он осмотрелся кругом, прислушался. Убедившись, что за ним никто не следит, открыл дверь и вошел внутрь избы, в которой была заключена Наталья.
* * *
Черные от копоти, забрызганные кровью, задыхающиеся от дыма, усталости и злобы, с факелами в руках всю ночь поляки и немцы бродили по московским улицам: жгли дома, церкви, заборы, сараи… (На конях не проберешься: кучи мертвых превыше человеческого роста.) От пожара в Белом городе сделалось так светло, что, казалось, не трудно было рассмотреть и иголку. Москвичи выбивались из сил, борясь с огнем. Но мрачные латники с криком набрасывались на них и убивали.
Осип, Олешка и Зиновий перекинулись через кремлевскую стену у Тайницкой башни, чтобы перейти на другую сторону Москвы-реки.
Бояре заявили полякам: «Хоть весь Белый город выжгите, не пустят вас стены, а надобно зажечь заречный город: там деревянные укрепления; тогда будете иметь свободный выход, и помощь может прийти от короля с той стороны».
Замоскворечье неведомыми путями узнало про это.
Убежавшие сюда Осип, Олешка и Зиновий нашли улицы, церкви и дома пустыми. Жители скрылись в окрестных деревнях.
Зиновий посоветовал товарищам укрыться в колокольне первой попавшейся церкви, там и переночевать. Он сказал, что ему на Украине нередко приходилось спасаться от панской погони на колокольнях.
Послушались его. И нашли в верхнем ярусе груду самопалов, мечей и много оружия. Ребята почувствовали себя на колокольне, как в бойнице. Стали бодрее.
Разговор, однако, не вязался. Беседе мешало полыхавшее над Москвой зарево. Вздыхали о Гаврилке. Парень бедовый и знающий. Куда делся! Уж не убит ли?! Но в это не верилось. Постепенно ими овладел сон, и, сжимая в руках самопалы, они уснули.
Осип проснулся от непонятного шума. Выглянул – обмер. На льду Москвы-реки длинная вереница пеших людей с факелами. Осип разбудил товарищей.
– Ой, маты! – схватился за голову Зиновий. – Гули-гули дый в лапци обули! Ой, собаци! Ой, якие злодеи!
Олешка насилу поднялся. Тоже заглянул за бревенчатую подоконницу колокольни и, не поняв, в чем дело, опять свернулся спать.
Оказалось – немцы. Они остановились в начале Пятницкой улицы. Начальники их о чем-то между собой поговорили и повели свое войско дальше. Шли тихо, крадучись, только слышалось легкое побрякивание оружия. На берегу от них отделилось с факелами пять человек, которые тотчас же и принялись поджигать покосившуюся тесовую хибарку против церкви. Остальные двинулись дальше. С большим трудом немцы все же своего добились: хибарка запылала.
– Ой, маты! Велики ж грехи стались меж людьми…
Шо их занесло?! Осип, братику ридный, хватим на ляхов, як на собаци! А?!
– Сиди смирно! Чем будем бить?! Лаптями?! – огрызнулся Осип. – Немцы! Не видишь?!
– От, халепа! – усмехнулся Зиновий. – Не убьют нас ни на поли, ни на мори… Казаки мы – ни бабы!.. У нас будь ти хочь дворянин, хочь пан, хочь син боярский, хочь собачий син – усим одинакова честь… Иды!.. Убьем!..
– Чего ты «убьем» «да убьем»… Легко ли человечью душу загубить?! Подумай.
Не успел Осип прочитать ему наставление, как поджигатели направились к колокольне.
Зиновий, не долго думая, – за саблю. Потрогал пальцем острие, остался доволен.
– Паны перед нами в довгу, як в шовку! – ворчал он с озорной улыбкой.
Немцы взошли с факелами на церковную паперть. Парни слышали, как они открыли храм и проскользнули внутрь. Зиновий быстро сбежал по лестнице на паперть, навалился на дверь. Осип и Олешка последовали его примеру. Слышно было, как немцы хозяйничают в церкви. Они весело кричали что-то друг другу и сбивали на пол церковную утварь. Парней это рассердило окончательно.
Осип шепотом признался Зиновию, что ему хочется убить богохульников, но страшно загубить душу человечью, хотя бы и вражескую.
Олешка спросил насмешливым шепотом:
– На кой же ты целый месяц кистень таскал?
Осип промолчал.
Церковь загорелась под торжествующий крик немцев, бросившихся к двери, чтобы выскочить на волю. Но дверь не отворялась.
Парни с великим напряжением сдерживали ее.
Вдруг сквозь приоткрытую щель просунулись две руки. Лязгнула сабля Зиновия. Дверь захлопнулась, послышался неистовый вопль, кровь полилась по ступенькам паперти. Нажим немцев ослабел. Из окон повалил густой дым. Глаза украинского казака горели отвагой. «Держись!» – шипел он, надувая скулы.
Немцы, видя безуспешность своего натиска, сломали деревянную решетку в окне и выбросились один за другим на улицу. Двое раненых побежали к лужам, чтобы обмыть раны, оставляя за собой след, но трое остальных храбро повернули к паперти. Этого совсем не ожидали ребята. Один Зиновий не растерялся. Положение его было выгоднее, чем у нападавших: он стоял на пять ступеней выше их. Зазвенели сабли. Придя в себя, Олешка тоже пустил оружие в ход. Зиновий перешел в наступление. Олешка от него не отставал. Уловчился, хватил рыжего немца по плечу, ранил его. Враги побежали. Тут присоединился к товарищам и Осип. Тоже поскакал вдогонку за немцами. Вдруг неожиданно для себя он увидел повернувшегося к нему немца, которого только что ранил Олешка. Человек этот был рослый, отважный.
Он замахнулся на Осипа громадным палашом. Осип пригнулся. Удар прошел мимо. С великою злобою Осип прыгнул на врага и вышиб у него саблю. Безоружный немец упал на колени, прося пощады, но Осип без всякого сожаления начал бить его кулаками.
Олешка и Зиновий оттащили его: «Не суйся в волки с телячьим хвостом!». Они уже управились со своими противниками, обезоружили их. Теперь звали Осипа помочь раненым немцам – перевязывать раны.
Зиновий насколько яростен был в драке, настолько добрым оказался к побежденным.
Немцы держали себя не как пленники. Смотрели надменно на своих сердобольных победителей. Один из них с презрением отказался от помощи Зиновия, хотевшего перевязать ему руку.
Осип, перекрестившись, указал ему на охваченную огнем церковь:
– Сволочи, что вы наделали?!
Зиновий запер пленников в одном из домов и пригрозил: «если, мол, осмелитесь идти в Кремль, убьем». Немцы хмуро подчинились.
После этого парни быстро пошли по берегу Москвы-реки в Стрелецкую слободу, к Крымскому съезду.
По дороге они неожиданно встретились с Натальей и Халдеем. Скоморох с девушкой вместе с польским табором ночью вышли через Тайницкие ворота из Кремля. Привратники имели распоряжение от пана Гонсевского не задерживать уходящих из Кремля, но с большим разбором и только с ведома пана Пекарского пускать людей в Кремль.
Халдей, теперь Константин, выглядел рослым, добродушным деревенским парнем, подстриженным «под горшок».
Он сбросил с себя скомороший наряд.
В поселке беглецам посоветовали пробраться к Сретенским воротам в Белый город, туда, где Пожарский отстаивал от огня часть Москвы. Там свои. Приютят.
Имя Пожарского поселковые жители произносили с опаской, тихо и с уважением. Они рассказывали, что Пожарский вчера угнал немцев и поляков до самого Кремля, а сам укрепился у Введения на Лубянке. К Яузским воротам уже подошел воевода Бутурлин, а в Замоскворечье ожидается Колтовский. Пожарский держится крепко.
Наслушавшись вдоволь всяких рассказов о московских происшествиях, беглецы переправились из Замоскворечья в город.
* * *
У Введенского острожка на Лубянке шли бои. Гремели пушки, невидимые в густом дыму пожарищ. Вестовые колокола били тревогу. Перекликались рожки. Укрепление Дмитрия Пожарского стояло несокрушимо на пути у поляков. Лагерь ополченцев был окружен частоколом. Около ограды, кроме того, тянулись глубокие рвы. Ратники Пожарского и крестьяне ближних деревень построили укрепление в одну ночь.
Когда Осип, Олешка и Зиновий подошли к Лубянскому острожку, Гонсевский бросил все силы со стороны Кремля против Пожарского. Ему надо было во что бы то ни стало разрушить возведенный в соседстве с Кремлем острожек. Панов все более и более начинали пугать быстрота и ловкость москвитян.
Впервые здесь, на Лубянке, враги почувствовали, какую серьезную силу представляет собой их неприятель.
Вдвинутые в боевые окна лубянского частокола пушечные дула готовы были разорваться от непрерывной стрельбы. Над частоколом острожка ополченцы поднимали чучела в польских шапках. Пули мгновенно сбивали их. Время от времени из ворот укрепления по мосту через ров с пиками наперевес вылетали всадники Пожарского, отбивая атаки поляков и немцев, бесстрашно подступавших к самым стенам острожка.
Пожарский острым взглядом, немного сутулясь, следил за боем из бойничного оконца. Разгорелось его боевое сердце; он приказал подать коня.
Ударили в колокола, затрубили в трубы, бухнули палками с набалдашниками в растянутые пузыри из бычьей кожи – ворота распахнулись, и Пожарский на своем вороном коне поскакал впереди конных ратников прямо на ощетинившихся копьями у Никольских ворот поляков. Столкнулись. Началась ожесточенная сеча. Падали с коней враги, падали ополченцы… Окровавленные кони без всадников в страхе носились по площади. Пожарский врубался в самую гущу врагов, воодушевляя своих товарищей, но силы оказались неравными… Поляки, получив подкрепление, наседали. Вдруг Буянов, находившийся все время около Пожарского, увидел на его лице кровь. Князь зашатался, приник головой к шее коня. Буянов бросился к нему, вывел воеводу из боя. Ратники, узнав, что их начальник ранен, дрогнули, стали, отбиваясь, отступать к острожку. Гусары, ободренные неожиданным успехом, с остервенением набросились на ратников, многих изрубили, многих сбили с коней и забрали в плен. С большим уроном воины Пожарского вернулись обратно в острожек.
Буянов, Пахомов и Мосеев бережно сняли сильно раненного Пожарского с коня. Бился воевода, будучи уже порубленным, бился до тех пор, пока силы не покинули его. Когда его положили в сани, он приподнялся, обвел окружающих печальным взглядом, и слезы потекли по его щекам.
– Лучше бы мне умереть, – тихо сказал он, – только бы не видеть толикия скорби народа!..
Буянов и другие стрелецкие сотники и ратники окружили его. Подойдя близко к саням, Гаврилка робко поклонился князю. В эту же минуту его взгляд неожиданно встретился со взглядом Осипа. А рядом с Осипом увидел он и Олешку и Зиновия.
Сани тронулись, чтобы отвезти раненого в Троице-Сергиев монастырь; Буянов, Мосеев и Пахомов отправились верхами провожать его.
Осиротел острожек. Долго с грустью смотрели вслед удалявшимся саням ратные люди.
Осип подошел к Гаврилке:
– Жив?
Парень тяжело вздохнул:
– Теперь пропали. Не выдержим.
Всем было тяжело. Осип сообщил Гаврилке о Наталье и Халдее. Ушли они из Москвы, кажется, в Нижний.
Было не до разговоров. Бой разрастался с новой силой. Поляки возводили свое укрепление у самых стен острожка… Бросали зажженные факелы в ополченский лагерь.
Снова удары набата, крики, суматоха: в острожке от польских факелов начался пожар… Воды не хватило. Огонь, раздуваемый ветром, наваливался на ополченцев, стало трудно дышать. Победа клонилась на сторону поляков.
* * *
Острожек на Лубянке пал. Ратники, отбиваясь от врага, отступили по Троицкой дороге, по той самой дороге, по которой увезли раненого Пожарского.
Дышало смрадом пожарище. Полуразрушенный Китай-город и почерневший от копоти Кремль одиноко высились среди черного поля.
Под дуновением весенних ветров краснели среди пепелища остатки неугасших углей; обнажались из-под черной пыли опаленные огнем трупы.
Таков был канун пасхи 1611 года, когда к Москве подходили главные силы ляпуновского ополчения.
Часть вторая
I
По дороге из Балахны в Нижний Новеград неторопливо пробирается всадник. Первые дни апреля 1611 года. В хвойных перелесках та особенная тишина, которая бывает в прохладные весенние утра перед полдневным таяньем. Обветрелая земля кое-где в снегу; еще есть обледенелые бугры, мерзлые пески. Местами дорогу перехватывают затянувшиеся ледком широкие лужи, которые конь разбивает с особым старанием. В лесу слышно бодрое чириканье птиц. Почти из-под самых ног выскочил заяц-беляк, помчался в поле.
На всаднике серый крестьянский охабень, железная стрелецкая шапка, у пояса – длинный увесистый палаш с широкою елманью на конце. Такими тяжелыми палашами не всяк может драться. В облике верхового – природная мощь, воинское дородство, хотя одет он и просто. На ногах лапти. На онучах, затянутых крепко бечевой, следы крови. Бутырлык, из трех выгнутых железных пластин, лишь на одном колене. С другого железная защита утеряна. Побывал, видать, всадник не в одном бою.
Иногда всадник снимает с правой руки кожаную рукавицу и в задумчивости разглаживает крупный широкий лоб, тяжело вздыхает. Человек уже немолодой; в темной бороде, подтянутой ремнями от шапки, едва заметно серебрятся нити седых волос.
Свернув на высокий берег Волги, он окинул внимательным взглядом речную ширь. Лицо его просветлело.
Из оврага вылез на лыжах зверолов, весь в меху, сам похожий на зверя. Поклонился.
– Далеко ли путь держишь?.. – стал поперек дороги, поднимая малахай, чтобы лучше видеть. – А-яй, яй! Пресвятая Владычица! – вдруг воскликнул он. – Да неужто это ты, Кузьма Минич!.. Да не померещилось ли мне?! Господи!
– Фома Демьянов?! Здорово, брат! Я и есть. Я самый.
– Да откуда же ты, родимый мой?! Господи! Будто и не верится! Из каких краев?
– Скажи, брат, спасибо, что увиделись… Отстал я от алябьевской рати… Один почитай справляюсь из Мурома. Да в сторону отклонился. Набрел на Мугреево, вотчину Пожарского… Ранен он, князь-то… Привез его Буянов, знаешь Михайлу-то из Ландеха?.. За правду стояли. Сам я тоже едва-едва…
Не знаю, как и жив остался! Воры замаяли. Уцелел, однако. Много мужей храбрых, скажу я тебе, полегло на дорогах от измены и братоубийства… Ой, как много!
– Э-эх, Минич, да тебя и не узнаешь!.. И не подумаешь, что сей воин – говядарь посадский…
Минин рассмеялся.
– Пять лет не слезаю с коня… Немудрено! Поди, на Нижнем посаде и забыли уж про меня…
– Да нет… как же так!.. Я-то тебя часто поминаю… Можно ли тебя забыть? Небось Кузьму все знают…
– Спасибо, Фома Демьяныч!.. Красен бой мужеством, а приятель дружеством… Спасибо! Кому ныне зверя-то сбываешь?
– Охлопкову Семке… твоему соседу…
– Не обижает?
– Ровно бы и нет… не бранимся… Не жилит… Грех бога гневить. Человек хороший.
– Отвык я от своего дела, Фома; чудно как-то и думать… Ну, прощай!
– Ну, езжай, езжай! Добрый час! Держись берега. Вон там, полевее, тропка есть. Постой-ка, постой!
Фома остановил Минина за палаш.
– Не спросил я тебя. Что слышно об ополчении-то, о Ляпунове? – спросил он, понизив голос. – Выгнали поляков из Москвы или нет?
Минин с досадой отмахнулся рукой:
– Не знаю. Послал я туда двоих: Мосеева да Пахомова. Бог знает, что привезут, какие вести.
И круто направил коня берегом.
За его спиной в раздумье остался Фома Демьянов. Долго с любопытством глядел он вслед Минину, пока тот не скрылся за поворотом реки.
Прибежал Фома в свою деревню – и прямо к попу, рассказал ему о том, что видел нижегородского говядаря Куземку, вернувшегося с войны. Зазнался человек – ни о чем говорить не желает, торопится к своей бабе на печку. При упоминании о Семке Охлопкове побелел весь. Жаден и завистлив Куземка, как и встарь. Ему до Москвы, стало быть, никакого и дела нет, лишь бы опять к лотку добраться… деньгу зашибать. И Татьяна его – жадоба такая же, и Нефед, сын, с базарной душой… обкатает хоть кого, не гляди, что молод, – не уступит отцу. Обовьют – не заметишь. Охлопков Семка куда проще и за зверя больше платит… не столь ужимист.
Фома Демьянов и впрямь был в обиде на Минина. В давние времена когда-то не поладили они; век он, Фома, не забудет, до самой смерти тех двух оленей, которых «вымозжил у него за бесценок говядарь Куземка». Фома злопамятен. Повсюду он осрамил его, пока тот ходил с Алябьевым против беспокоивших Нижний воровских шаек. За пять лет мало ли можно насолить человеку, коли он находится в отсутствии?
В Нижнем до сих пор немало недругов у Кузьмы среди торговых и служилых людей… Не нравился многим он своим языком, резок был.
– Пускай-ка теперь попробует поторгует!.. – ехидно подсмеивался Фома в разговоре с попом. – Ни одного гуртовщика, ни одного зверолова не втянет… Убогою куплею питался – так будет и ныне. Помню, всё помню. Чтоб подавился он моими оленями!
Поп был старый, отупел совсем оттого, что не знал, о каком царе молиться, а без этого и служба не в службу. Слушал рассеянно. Его мало трогала история с оленями.
Кузьма, расставшись с Фомой, тоже невольно вспомнил о том, как поссорился он со звероловом перед самым походом на осадивших город тушинцев. Фома был назойлив и мелочен и крепко дорожился своею дичью. А он. Минин, не любил зря швырять деньгами Был стоек в торговле, расчетлив. Расстались они врагами, а вот теперь он. Фома, делает вид, что радуется возвращению его, Кузьмы, в Нижний. Но кто же ему поверит?
«Как и в прежние времена, на глазах гладок, а на зуб несладок, – думает Кузьма, углубляясь в воспоминания. – Неспроста, знать, юлит. Назлобил, стало быть, в чем-нибудь… Эх-эх. люди!»
О торговле своей Кузьма вспомнил с раздражением. Но чем иным было жить?! Плотничать вздумал, да при царе Федоре судостроение на Волге остановилось, а там и судоходство нарушилось. Плотники оказались не у дел. Воры и на воде одолели. На нет сбились все дела в Нижнем. Ах, да в одном ли Нижнем?! Порядок нарушился не только на Волге, а и по всей земле. Без особого сожаления и без труда расстался тогда он, Кузьма, со своей торговлей. Вступил ратником в войско нижегородского воеводы Алябьева. Воевать с врагами пришлось как раз по душе и теперь не хотелось возвращаться к мясному лотку. Немало тушинцев и поляков сразил он своим мечом. Разве не достоин он, Кузьма, и впредь ходить на врагов! Нижний отстояли. А Москва?!
Вот и Копосово, где два года назад в это же время произошла жаркая битва с балахнинским воеводой Степаном Голенищевым и атаманом Тоскаевым – слугами самозванца! Долго бились тогда нижегородцы с польской конницей и с изменниками и разбили их наголову. Кузьма своими руками отнял пушку и знамя у врагов. Воевода Голенищев пал в бою. Нижегородцы казнили атамана Тоскаева и бывших с ним боярских детей. Поляки все до единого полегли костьми на копосовских полях. Этого боя под стенами Нижнего никогда нельзя забыть. Кузьма зарубил врага – балахнинца, хотевшего унести одну из отбитых у неприятеля хоругвей. Под его, Минина, присмотром военная добыча была свезена в Нижегородский кремль.
Посадские товарищи диву давались: откуда взялась такая прыть у говядаря, Кузьмы Минича? Человек-то ведь самый обыкновенный! И вдруг такой боец!
Минин подхлестнул коня и помчался по берегу Волги к Нижнему. Слезы выступили у него при виде речной шири, застывшей в ожидании ледохода. Вспомнилась вся тяжелая, полная унижений, борьбы за кусок хлеба жизнь. Волга, Волга! Одна ты все видела, одна ты все знаешь, одна ты утешала и поддерживала в тяжелые минуты! Уже доносятся звуки колокольного звона издали, с Дятловых гор, на которых широко раскинулся преименитый Нижний Новеград. Уже видна в ясном воздухе Кунавинская сосновая гривка. А вот и устье Оки, а на горе над Благовещенской слободой – родной бревенчатый домик.
Блеснули согретые солнечным светом склоны посадских оврагов. На них бревенчатые домишки, а на самом высоком холме – белее снега – кровля Нижегородского кремля.
Минин остановил коня, снял шапку, перекрестился, растроганный видом родного города, долго смотрел он на него, стоя с непокрытой головой. После этого быстрой рысью направил коня по извилистому Монастырскому оврагу. Не заметил, как въехал на гору. Колокольня Благовещенского монастыря внизу ударила к повечерию.
За рубленой стеной была видна толпа чернецов. Голубиные стаи вспорхнули над обителью.
Около своего дома Минин соскочил с коня, постучал в окно:
– Татьяна!
Вся в черном, бледная, сухая, выбежала из ворот женщина и бросилась на шею богатырю Кузьме. Обнял ее, дрожащим голосом спросил:
– Не ждала?
Слезы были ему ответом. По-хозяйски распахнул Минин ворота. Ввел во двор коня. Осмотрел двор. Поморщился.
– А где Нефед? Чего ради вилы валяются в грязи?!
– На базаре он, батюшка. Рыбу понес Нефедушко продавать…
Поднял вилы, поставил к стене. В горнице на коленях помолились. А после молитвы Татьяна Семеновна со слезами принялась жаловаться.
– Жить нечем, родимый! Бьемся уж мы тут с Нефедом и не знаю как… Заклевал нас без тебя Охлопков Семка. Обирушка!.. Лавочничает не по-нашему… И чего ты запропал?! Два дома ведь Семка проклятый без тебя-то нажил, а мы…
Минин, усевшись за стол, махнул рукой:
– Остановись, ладно!.. Грибы есть?.. Потом покалякаем.
– Есть, батюшка, есть… А коли не грибы, пропали бы мы с Нефедушкой тут без тебя… О, владычица!.. Какая радость!.. Сжалился, знать, Всевышний над нами… Куземушка, родной!
Татьяна Семеновна, приговаривая, слазила в погреб, принесла грибов. Нарезала хлеба.
– Воевода в Нижнем? – спросил Минин и, словно бы не замечая причитаний жены, с жадностью принялся за еду.
– Алябьев один… Воевода наш, князь Репнин, ушел с войском…
– К Ляпунову?
– Не знаю я. Под Москву, что ли? Где уж нам знать!
– Как же это – где? Нешто Нефед тебе не сказывал?
– До того ли ему, батюшка!
Разжевывая грибы, Минин хмуро покачал головой.
Он слыхал уже от Пожарского да от московских беглецов о ляпуновском ополчении и о том, что нижегородцы по призыву Ляпунова тоже выслали свои полки ему навстречу. Слыхал и то, что тушинские атаманы – князь Трубецкой и Заруцкий – целовали Ляпунову крест быть в тесном союзе с ним. Многое он узнал в Мугрееве от князя, но не верил он, как и Пожарский, в надежность союза враждовавших долгие годы между собой воевод. Не верил в истинную дружбу Ляпунова с холопом тушинского вора – атаманом Иваном Заруцким.
Двое суток гостил Минин по дороге домой в Мугрееве. Пожарский обошелся с ним, как с равным. Расстались друзьями.
Утолив голод, Кузьма залез на печь.
– Не болтай там!.. – крикнул он жене. – Надобно мне отдохнуть да умом пораскинуть… Забот и без того много… А сама к вечерне иди, после расскажу о себе, помолись там о нас… Да монахам не говори. Не полезли бы! Завтра и сам я приду к ним богу молиться.
* * *
Служба в монастыре кончилась. Одна за другой гаснут глиняные плошки в храме. Тихо, в раздумье, выходит на паперть народ, спускается по тропе в нижнюю часть города.
Холодно. Туманный утренник. Предрассветная муть жжет щеки, уши, ест глаза. В небе мерцает одна-разъединственная звезда. Ока, Волга, Кунавинская сторона и горы затянуты молочной мглой. Под ногами хруст подмерзших луж.
Минин и Нефед тоже стали спускаться вниз. Татьяна Семеновна отделилась от них, пошла домой.
– Не поскользнись… Держи правее, – хмуро сказал Минин обогнавшему его сыну.
Нефед, высокий, плечистый детина, остановился, поровнялся с отцом.
– Топор там? Не забыл?
– Не забыл, батюшка…
Некоторое время молчали. Минин в косматой шапке с наушниками, в поддевке из овчины, громадный, суровый. Внизу на площади, около Гостиного двора, где лавка Минина, пустынно.
В сумраке виднеются неуклюжие, медведеобразные фигуры сторожей. С набережной доносится скрип саней, голоса приехавших на базар крестьян.
Минин остановился перед своей лавкой – небольшой тесовый сарай с лотком у широкого раствора. Достал из кармана громадный железный крюк, отпер им дверь. Перекрестился на все стороны. Помолился и Нефед.
Оба вошли внутрь. Было тесно. Опрокинутая на спину лежала на полу мясная туша.
– Добро, – молвил Кузьма, толкнув ее сапогом. – Неси на волю.
Нефед взвалил на себя тушу и вынес на улицу, положив около лавки. Кузьма взял топор. Вышел, огляделся, засмеялся:
– Эк, мы с тобой какую рань!.. Пойди-ка сбегай, погляди, что у Охлопкова. Пришел ли?
Минин скинул поддевку, оставшись в стеганой телогрейке, перекрестился и, взмахнув топором, ударил по туше. С любопытством заглянул в разруб.
– Гоже, – сказал он про себя.
Накануне было много разговоров у него с женой. Дела, действительно, невеселые. Лавка пришла в полный упадок. Денежные сбережения все прожиты. Грозила нищета. Даже самый последний замухрышка, мясник Куприянка Юрьев, и тот взял верх над Мининым. Ивашка Толоконцев – и говорить нечего! А уж об Охлопкове лучше и не думать. В мясном ряду он – царь и бог.
Вернулся Нефед.
– Ну, что?
– Нет, не пришел.
Минин самодовольно погладил бороду.
– Та-ак. Ну, помогай! Пускай богатые люди спят, а нам с тобой работать надо.
Туша была разрублена на мелкие, ровные куски.
– Подбирай.
Нефед принялся подбирать и раскладывать куски на лотке.
– Торговать не будем – посадский чин потеряем, плохо торговать – еще того хуже… Гляди, чего там мужик везет?..
Нефед побежал через дорогу, догнал воз, остановил.
– Бобер! – крикнул он издали.
– Давай сюда! – обрадовался Кузьма.
Воз подъехал к лавке. Оказалось, лысковский крестьянин… Дрожит, перепугался. Минин похлопал его по плечу.
– Не пугайся. – сказал он, – продавай-ка скорее. А то в съезжую попадешь… В клеть запрут… Ноне строго стало.
– Милостивец, Кузьма Минич!.. Да неужто это ты?!
– Как видишь! Я, самый я.
– Да милый! Давно ль приехал?
– На той неделе почитай.
– Дай мне на тебя посмотреть-то.
– Нечего смотреть. Ты давай скорее товар-то, а то таможенную пошлину сдерут. Не мешкай.
– Аль строго?
– Знаешь, какое время: нечем платить долгу – ступай в Волгу. Да и бобры-то, гляди, государевы… За татьбу[35] почтут… Страшись!
– Кузьма Минич, тебе покаюсь… С государевых Ватомских гонов они… Прости ты меня, господи! Каюсь тебе, Минич, каюсь.
– Ну-ка тащи. Войдем в лавку. Нефед, постереги на воле.
Мужик вытащил мешок из-под рогожи и стремглав нырнул в лавку. Минин, не торопясь, развязал мешок, вынул несколько шкур. Лицо его просияло.
– Бобер черен… пушист… Гладок. А этот – карий, и он подходящ… Алтын восемь налогу пришлось бы тебе отвалить. Да под розыск угодил бы… Вот ликеевские бортники сидят за бобров-то… Хотели разбогатеть да в клеть попали.
– Кузьма Минич… вспомни старую нашу дружбу… будь благодетелем… не прижимай…
– Полно, Митя! Нешто обижал я тебя когда? И тебе было хорошо, и мне ладно, и покупателю не плохо. Всем угождал.
– То-то, век за тебя буду богу молиться.
– Смотри, токмо к Охлопкову не ходи… Опасайся его. В старосты лезет, выслуживается… С воеводою заодно.
– Да нет же, Кузьма Минич, кроме тебя, ни к кому не пойду… Да, старосту, говорят, выбирать будут – непременно теперь тебя выберут…
– Ну?! Разве что слыхал?
– Не слыхал, а знаю. Народ тебя помнит, смелый ты, да и за землю стоишь. Панов, говорят, ты бил здорово. По деревням слух ходит. Сколько за бобров-то дашь?
– Не обижу. Ну-ка, Нефед, проводи Митю к нам… Угости его брагой… Бобры свезите тоже… Рогожей покрой. В сундук дома убери… А ты, Митя, погостишь у нас… Я скоро тоже приду. Товар продам и приду к вам на беседки.
Митя, рыжебородый, приземистый человек, сел верхом на лошаденку, а Нефед – в дровни. Тихо поплелись в слободу, а Минин заботливо подобрал на снегу крошки и положил их на лоток. Поправил куски мяса, чтобы товар был виден лицом.
Стало быстро светать. Оживали лавки и лари на Нижнем посаде. Появились сбитенщики, пирожники, блинники, башмачники – расселись рядом вдоль улицы… С верхней части города стали спускаться посадские на торжище. Расползлись по Мясному, Хлебному, Солодовенному, Железному и другим рядам. Лавок было на Нижнем базаре до четырехсот, и товаром богато.
В воздухе потянуло запахом харчевных изб, гарью из кузниц, свежеиспеченным хлебом из монастырских пекарен, построенных недавно на торгу печерским архимандритом Феодосием. Открылись две богатые лавки в пять растворов, принадлежащие соборному протопопу Савве. Оба его сына, Игнатий и Василий, подошли к Минину, поздоровались, купили два куска мяса.
– Вчера после утрени отец о тебе богомольцам поминал. Воевода Алябьев достохвальною назвал твою службу в его войске. Спасли вы нас от разорения… Все купцы о вас, наших защитниках, богу молятся…
Поклонились Игнатий и Василий Минину с особым уважением и отошли.
Лавки протопопа Саввы были на самом бойком торговом месте, недалеко от бечевника, у Гостиного двора, около церкви Николая Чудотворца. Тут же находилась и Земская изба – сердце всех торговых дел на посаде, а рядом с ней – Таможенная изба для сбора пошлин.
А совсем рядом… Волга…
Направо от Гостиного двора и до самых Ивановских ворот раскинулась главная городская площадь – здесь читались царские указы, вершились суд и расправа: пытка, правеж, торговая казнь…
Здесь теперь собралась кучка торговых мужиков. Вполголоса, с оглядкой, шел разговор – кого выбрать старостой. Скоро сход. Судовой кормщик Данилка да кузнец Яичное Ухо рассказали, что всеми уважаемый протопоп Савва в Спасо-Преображенском соборе ныне указал на Минина как на честного защитника родины, ныне такие именно люди в старосты и нужны. Охлопков, правда, хороший, степенный человек и очень богатый, да только он до народа не любопытен и земские дела его к себе не влекут. Кузьма – иное. Хитер и любит деньгу, конечно, и он, как и весь торговый люд, но больше всего заботится все же о государстве и добровольно, без понуждения, ратником вступил в алябьевское войско, был храбрым в походах, своей жизни не щадил… Это – знак!
Кое-кто возразил против Минина: обеднял, мол, нечем ему, кроме храбрости, красоваться перед людьми. Федор Марков и Охлопков куда богаче, и уважение к ним за их самостоятельность на посаде громадное. Проедут в своих ковровых возках по улице, так им народ до самой земли кланяется, а с Мининым – все запанибрата, в один ряд с собою ставят его даже боярские холопы… И он не гнушается дружить с самыми последними подневольными людьми. Марков и Охлопков знают себе цену, держатся с достоинством и многие у них в долгу, даже воеводы и дворяне. Куда же Кузьме с ними равняться?!
Поднялся спор. Дошло чуть не до драки. Сбежались бурлаки, плотники, ямщики – мининская сторона сразу перевесила.
– Нам правды надо! – ревели бурлаки. – Без хлеба и правды – не жизнь, а вытье. Проклятые паны испортили всех… всю жизнь! Чистоты нет… Смерть ляхам! Кузьма бил их, – за то любим его мы! Любим!
Глаза их были гневные, страшные. Сторонники Маркова и Охлопкова разбежались: с бурлаками шутки плохи.
А Минин в это время распродавал последние куски мяса.
От покупателей отбоя не было. Около его лавки толпился народ. Каждый покупавший мясо стремился услышать от него хоть одно словечко о войне с ляхами, о битвах с ними, о Москве… Кузьма охотно рассказывал всем, как дрался он с поляками под Балахной, на муромских путях.
Его слушали, затаив дыхание.
Распродав все мясо, Минин попрощался с толпившимися около его лавки посадскими и пошел к себе домой.
Нефед и дядя Митя бражничали. Татьяна Семеновна разложила на печке бобровые шкурки, румяная, веселая: «Наконец-то Минич взялся за ум!»
Дядя Митя, сильно захмелевший, поднялся со скамьи и облобызал Минина:
– Кузьма Минич, друг, благодарствую… Угостил меня твой отрок на славу. Век не забуду.
– Сколько тебе за бобров-то?..
– Что дашь – на том и спасибо!..
Минин дал пять рублей. Митя пришел в восторг. Больше этого ему бы никто и не дал.
– Скажи и другим монастырским тяглецам, пускай несут ко мне, когда что будет… Да передай народу: с врагами придется, видимо, всем побороться… Москва в их руках. Можно ли то терпеть?!
– Батюшка, Кузьма Минич! Сзывал уж нас тут без тебя воевода… Денег требовал. Биркин какой-то из-под Москвы от Ляпунова приехал… Собирает казну. А воевода Репнин уж и к Москве будто ушел, увел ратников в помощь Ляпунову…
Минин нахмурился.
– Знаю. Слыхал ли ты поговорку: «Баран бараном – и денежки даром!» Так и тут. Деньги с великим трудом даются. Зря сорить их не след. Ушел Репнин – и слава богу. А нам надо подумать о себе, о своей защите против поляков… Вон продал я мясо, а что осталось мне? Три рубля! Три рубля осталось, а тебе пять дал… Понял?! Как же так – бросать деньги неведомо на что?! Запас да замок – лучшие други. Боярские походы – яма, все одно ее никогда не переполнишь. От них добра не жди!
Беседа становилась интересною. Браги не хватило. Кузьма сам был охоч до нее. Послали Нефеда к соседу, дьяку Севастьяну. Появились еще два кувшина.
Пришел протопоп Савва – давнишний приятель Минина, сосед по лавке. Собрались еще кое-кто из посадских. Снова начался разговор о захватчиках, о бедственном положении Москвы.
В этот день Мите так и не удалось уехать из Нижнего. Ночевал он в доме Минина.
II
В синих сумерках уныло гудят колокола. К вечеру слышнее говор ручьев, к вечеру чувствительнее теплые ветры, особенно на взгорье над устьем Оки. Тихо покачиваются березы с вороньими гнездами, пестрят рябью лужи у широких монастырских ворот.
После повечерия избранный земским старостой Кузьма Минин с паперти объявил богомольцам воеводскую благодарность за помощь Ляпунову. Получена весть, что войско, снаряженное нижегородцами под началом князя Репнина в помощь Ляпунову, дошло уже до Владимира и соединилось с казаками атамана Просовецкого. Но – увы! – навстречу Репнину идут изменники: князья Куракин и Борис Черкасский. Не позорно ли? Одни князья – за Москву, другие – против.
– Видать, природным русским вельможам выгоднее быть холопами польского короля, нежели защищать государство, – усмехнулся Минин и добавил: – Неладное творится у нас с князьями!
Среди посадских поднялся ропот. Давно ли в Нижегородском крае бушевали воровские шайки князей Шугуровых, Киреевых, Вяземского и других, грабя и разоряя села, деревни и монастыри? Много бед причинили князья-разбойники мирному тяглому населению Поволжья. Разными лживыми обещаниями вводили в обман мордву, чувашей, черемисов и татар, подымали их на русские города и селения, а потом бросали на произвол судьбы, творили сумятицу.
Деловитым голосом Минин объявил, что ляпуновский посланец Биркин, находящийся в Нижнем, требует еще новых денег на поход, помимо того, что уже дано князю Репнину.
Эти слова старосты были выслушаны в угрюмом молчании. Посадские с горечью в голосе начали осуждать князей, междоусобицею помогавших полякам. Задели кое-кого и из местных дворян. Раздались голоса сомневающихся в успехе похода нижегородского князя Репнина. Можно ли быть уверенным, что, поссорившись с кем-нибудь из ляпуновских военачальников, и он не перейдет на сторону врагов? Бывали ведь такие случаи. В самый разгар битвы обиженный местническими несогласиями князь уводил своих воинов с поля брани, что было на руку только врагу.
Кузьма внимательно слушал говоривших. Черные глаза его были серьезны. Иногда он тяжело вздыхал, вбирая в себя всей грудью воздух, словно ему нечем было дышать. Тер пальцами широкий, с едва заметными морщинами, лоб, что-то обдумывал, а затем, заложив руки за спину, стал тихо прохаживаться по паперти. Услыхав имя князя Вяземского, остановился, с лукавой улыбкой обвел взглядом окружающих.
И он ведь требовал казни Вяземскому. Холоп тушинского вора князь Вяземский осадил Нижний, послав жителям письмо, в котором требовал сдачи города. Он сулил великие милости самозванца. В случае же непослушания грозил истребить город. Нижегородцы дружно напали на него, разбили княжеское войско и взяли самого князя в плен. Приговорили к смерти. Он не признавал суда посадских; утверждал, что нижегородцы, не имея на то указа свыше, не могут казнить его, воеводу, человека княжеского рода. Минин доказал народу, что могут. Без дальних рассуждений нижегородцы повесили князя. Потом погнались за другими изменниками, взяли Муром, села Яковцево и Клин, разорили притоны изменников и до того рассвирепели, что «церкви божии зажигали и образа кололи»[36], узнав, что попы заодно с тушинцами.
– Земские люди! – сказал Минин. – Никто из нас не будет порочить князя Репнина… Нам и незачем его порочить. Мы, последние люди, можем ли судить своего воеводу?.. Александра Андреича Репнина мы знаем. Человек так себе, набожный… Подумать надо о другом… Можем ли мы собрать новую казну или нет? Конечно, доброе дело задумано Ляпуновым, слов нет. Но не обидел бы он нашего воеводу. И об этом надо подумать. Много там людей, да мало друзей… Ивашка Заруцкий один чего стоит. Про него народ говорит: «Не найдешь такого бога, которому бы он не молился, не найдешь такого кошеля, перед которым устояла бы его совесть!» А князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой – не того же разве поля ягода? Подумайте, братья, дело великое! Вестимо, у нас не пощадят ни жизни, ни денег, коли к тому явная польза будет. Трижды находились мы в осаде. Но отстояли город. Разбили тушинцев; даже лживого попа Иону, Тихвинской пустыни игумена, разбили с его челядью и повесили[37]. (Минин рассмеялся, рассмеялись и его слушатели.) Побили мы и тушинского боярина Плещеева… И теперь не уроним земскую честь! Лжеименных царей и властителей, и всех змиев, вползающих к нам и сипящих на нас, раздавим без остатка, но будем делать то с умом, достойно и согласно. Вот и подумайте: можем ли мы обещать победу нашим согражданам, взяв новую дань с них?!
Как и всегда, слова Кузьмы заставили крепко призадуматься посадских людей. Дело и впрямь непростое. Обложить новым налогом посад и отослать собранную казну в ляпуновский лагерь – значит принять на себя ответ перед нижегородскими людьми, что-де князь Репнин вернется с победой, откроет новые пути нижегородцам, сделает дороги к Нижнему свободными для хлебных караванов, оградит Нижний от новых нападений поляков и тушинцев. Нижегородские люди не привыкли зря бросаться деньгами. Скупы и расчетливы. Но можно ли надеяться на князя Репнина? Да и что значит один этот князь, когда в ляпуновском ополчении десятки родовитых военачальников, уже теперь между собою враждующих?! Нет настоящего вождя в рязанском ополчении, которого бы все воины слушали, который бы явился перед народом в ответе. Да и кому дать деньги? Биркину? А кто его в Нижнем знает? Что за человек?
Кузьма спросил посадских, слыхал ли кто из них раньше о Биркине.
Вопрос Минина навел посадских на еще большее раздумье.
– Ну, что? Говорите, – деловито кивнул им Кузьма. – Решайте по разуму, просто. Нам не надо красных слов. Мы уже видели, что творившие постыдные дела употребляли слова и речи превосходнейшие. Обложить народ не долго, но следует так гнуть, чтобы гнулось, а не треснуло.
Седой, как лунь, бывший в молодости бурлаком, а ныне ямской староста, Никола Семин тряхнул бородой, как будто она мешала ему, и медленно, с расстановкой заговорил:
– Что к чему обычно, а между прочим, и коня правят в одну сторону, и ямщик один. Третьего дня ехал со мной хмельной дворянин. Хватил меня за вожжу: «Хочу править!» Не успел я ему и ответить, как оба мы в канаву и свалились. Так оно может получиться и у ляпуновских воевод. Толку мало, коли трое дергают за одну вожжу – один в одну сторону, другой в другую…
Все рассмеялись, Кузьма погрозился на него пальцем.
– Не сворачивай сам с дороги, Трифоныч. Что ты нам тут про дворянина рассказываешь!.. На Руси дворянин – кто за всех один. Говори прямо: сбирать деньги с народа или нет?!
Старик снова потряс бородой, почесал за ухом:
– Вишь, какое дело-то: не сберешь! Не дадут.
– Не дадут?
– Да ведь кто пошел с Репниным-то? Немецкие да литовские наемные ратники, прости господи, не настоящие какие-то казаки, стрельцы, дворяне-буяны. Слава богу, что и ушли…
Да боярские дети… А-сподь с ними! Помолиться, правда, можно, а денег?.. Кабы своим, а то кто их знает!.. Сегодня – у нас, завтра – у вора, послезавтра – у Жигимонда… За наши денежки-то. Бог спасет! Посадский да крестьянин живут трудом, а эти наподобие птиц поднебесных… Не знаю! Пускай вон они скажут! Я не знаю… Умом слаб стал. Прости, господи!
Трифоныч перекрестился, кивнул в сторону посадских. Те, переминаясь с ноги на ногу, опустили глаза, пуще прежнего призадумавшись.
К паперти с мешком за плечами и с посохом в руках подошел чувашин Пуртас, вместе с которым Минин совершал походы на Муром.
Кузьма радостно поторопился ему навстречу, обнял его, шепнул на ухо: «Смелее!» Затем спросил его громко:
– Ты откуда?
– Из-под Москвы.
Тогда Минин, обратившись к посадским, сказал:
– Вот и спросим его. Он вчера из Москвы пришел. Слушай, Пуртас! Нужно ли нам облагать нижегородцев, а собранную казну отослать к Ляпунову, или подождать, что будет дальше?.. Ляпуновский человек Биркин обещает эти деньги сам-де отвезти в Москву. Скажи-ка, надежные ли воеводы собираются там? Не прахом ли пойдет наша дань?
Пуртас почесал затылок. Лицо его было озабочено. Недолго думая, он сказал:
– Ой, не надо, братчики! Ой, обождите! Ненадежно войско «троеначальников». Князей под Москву много разных идет, дворян тоже и казаков. Рекою льются по всем путям к Москве, а силы нет. Кто был заодно с поляками, ныне промышляет как «защитник». Ян Сапега, проклятый лях, и тот кричит, что он идет спасать Москву от поляков. Много налезло к Ляпунову всяких людей, и даже из шведского стана, и из немецких полков, есть и французы, и римские латники.
Минин, бледный, с горящими от негодования глазами, громко сказал:
– Э-эх, дорогие братья! Издавна у нас на Руси: слово давать – дело дворянское, а исполнять его – дело крестьянское. Не верю и я, чтобы ляпуновские друзья по совести объединились с ним. Не может того быть! Обождем. Трещина в горшке скажется. Не полезем же мы в эту алчную орду мнимых защитников.
Так и порешили: обождать.
Разошлись хмурые, задумчивые.
Чувашина Пуртаса Минин повел к себе домой.
III
В Съезжую избу Нижегородского кремля, стоявшую на площади против Спасо-Преображенского собора, вошел ляпуновский посланник Иван Иванович. Биркин. Он снял шапку, перекрестил на красный угол лоб и, низко поклонившись воеводе Алябьеву, разбиравшему жалобы крестьян князя Воротынского, застыл на месте. Приземистый, рыжий, с косыми глазами, зубастый, он похож был на рассерженную лису. В глазах его сверкала злоба.
Алябьев кивнул на мужиков, стоявших посредине горницы на коленях:
– Сядь! Обожди!
Сам продолжал, покачивая головой, рассматривать бывшие у него в руке скованные железом ремни. Их принесли мужики. (Пускай полюбуется воевода, чем их бьет хозяин!) Алябьев поднял плети с железными набалдашниками.
– Смотри! Сергей Гаврилыч наш что придумал, – и указал пальцем на стену, где висела другая плеть. – А эта безделица – левашовская!..
Взглянул исподлобья на мужиков:
– Пошли! Обождите во дворе.
После их ухода встал, сердито отшвырнул ногой скамью:
– Этак и до бунтов недалече!.. Ума лишились землевладыки. Воевода воеводой, а и самим не лишне поостеречься… Время-то какое! Все небо в тучах…
Биркин надулся – ни слова!
Присмотревшись к нему, Алябьев спросил:
– Ну, а ты чего?! Твое лицо горит. В глазах тревога.
– Да что, брат! Как тут остерегаться? – вздохнул Биркин. – Бунт уже есть! Бунт и измена! Староста на посаде у вас объявился, Куземка-мясник. На днях при всем честном собранье давай князей хулить. Мало того, отговаривать начал торгашей: не давайте, мол, ничего Биркину, он-де ненадежный. И выходит: бог дал путь, а черт крюк!.. Мы видим спасенье в ляпуновском походе, а он: не верю, мол, я в него, ничего не выйдет! Стало быть, мне распрощаться с вами надо, что ли? Значит, Прокопий Петрович зря меня послал. Понапрасну бил он вам челом?! Где же тут власть воеводы? У нас, в Рязани, может это быть?! Прокопий Петрович голову бы срубил за это!
Биркин сел на лавку, облокотившись локтем на колено. Глаза его сузились.
– Хотим бороться с Польшей, а сами помогать отказываемся… своим же?!
Алябьев, высокий, сутулый, стал ходить по горнице.
Из предосторожности заглянул в сени. Наступило продолжительное молчание. Воеводе была не по душе речь ляпуновского посла.
Не первый раз Биркин высказывает свое недовольство нижегородскими порядками. Не первый раз он тычет в глаза Рязанью.
Вообще Биркин вел себя в Нижнем так, как будто он прислан Ляпуновым, следить за ним, за воеводой, наставлять его, учить. Получалось же: воевода несет всю тяжесть управления, а Биркин, ничего не делая, постоянно выступает судьей, ценителем его работы.
Алябьев, зная, в каком тяжелом положении находится государство, сдерживал себя, хотя ему и очень хотелось отчитать Биркина.
Сам Биркин почувствовал, что хватил через край, что Алябьеву не по душе его речи.
– Андрей Семеныч… – нарушил он неловкое молчание более спокойным голосом.
Алябьев вздохнул, молча сел за стол, снова стал разглядывать плети.
– Ну, что? – не отрывая от них глаз, спросил он.
– Как же теперь быть-то? Не зря мой дьяк смеется: прежде, мол, Кузьма огороды копал, а ныне в воеводы попал! Откуда у него такая прыть? Чей он такой?
– Вот что, Иван Иваныч: плохо терять спокойствие, буде есть причина, но того хуже – терять его без причины. Не поверю я, будто Кузьма мешал. Да и сам ты слыхал ли? Не поклеп ли?
– Верные люди передавали, из посадских же.
– Кто?
– Охлопков, Фома Демьянов, Федор Марков и прочие.
– У него много недругов, а Охлопков – первый из них. Подметные письма не раз мы получали от него. Знаю.
– Плохо будет, коли вы тем письмам не поверите.
Хитрая улыбка появилась на лице Алябьева:
– Ну, а как бы правил ты? Посоветуй.
Биркин задумался.
– Бросил бы его в темницу? Повесил бы? Заточил в монастырь? – подойдя вплотную к Биркину, спросил воевода.
– Выгнал бы его из старост… – проворчал Биркин.
– Не в нашей то воле. Старостой выбрал его посадский земский сход, он же и нарушить то может. Воевода в том не волен!
Слова Алябьева еще более обозлили Биркина.
– Что есть посад? Куда ловкий заводчик поведет его, туда он и пойдет. За Болотниковым не народ ли шел? А что было бы с нами, коли не божья воля? Всевышний не допустил того, что допустили воеводы. Не будь похож на тех бояр, Андрей Семеныч! Остерегись! Мятежная в нем душа! Не мною одним замечено. Болотникова не попусту я припомнил. Не защита ему родной земли нужна, а бунт против нас! Знаю я их!
Алябьев улыбнулся с оскорбительным для Биркина спокойствием:
– Ты нудишь меня, Иван Иванович, походить на твоего начальника, на Прокопия Петровича… Увы, брат, не кто иной, как Прокопий, и был союзником Болотникова.
Не смутился Биркин. Ответ у него уже давно готов, – часто ему приходилось обелять Ляпунова от союзничества с Болотниковым.
– Молод был Прокопий в те поры, да и знал ли он, что Болотников станет вором! Он же, Ляпунов, и погубил его.
Алябьев встал, зевнул, взял со стола плеть и ушел к себе в дом, находившийся тут же в кремле, возле Михайло-Архангельского собора. С черного крыльца вошел в избу площадной подьячий Василий Семенов, низкорослый угреватый пьяница. Глаза его были опухшие, нос красный. Около сорока лет он уже на приказной работе.
– Чего на дворе мужики ждут? Воеводы нет, а они стоят? – хрипловатым голосом спросил он.
– Гони их палкой! Жалуются на вотчинника.
Подьячий сердито сплюнул, засучил рукава и, переваливаясь, пошел на крыльцо.
– Эй вы, Фомушки! – крикнул он подбоченясь. – От горя бежали, на беду попали. Лезьте в воеводский чулан! Ну, живо! Что?! Не хотите! Вавилов! Айда сюда!
Из сада выскочило несколько стрельцов, подхватили мужиков, поволокли в глубину двора, втолкнули в сарай с решетчатым окном и заперли на засов.
Когда подьячий снова вернулся в избу, Биркин шепнул ему:
– Вася, пойдем ко мне! Воевода уплыл спать. А у меня дело есть…
– Питие?
– Обрящешь и то.
– Разве уж пойти?
– Идем.
Дом, где поселился Биркин, стоял на Никольской улице, меж острожными насыпями. Принадлежал он хлебнику Елизарке, ушедшему под Москву с войском Репнина. Здесь-то и открыл свой стан Биркин. Сюда ходили к нему его «языки», жалобщики, целовальники, гулящие девки и всякие иные возмечтавшие поживиться около рязанского посла люди. А деньги у Биркина были, чьи и откуда – неизвестно.
Дорогой Биркин ворчал:
– Не ладится у меня дружба с Алябьевым… не пойму: за кого он?
Подьячий молчал.
– Какова мзда? Сытно ли?
– Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит. Живем! – оглянувшись кругом, сказал подьячий. – Дышим.
– Приношения есть?
– Служим правдою… – неуверенно произнес подьячий.
– Э-эх, Василий! Правдою служи – кость гложи! Бывает ли теперь так? Не верю. Земля любит навоз, лошадь – овес, а наш брат – принос. Известно.
– Прости, господи, нас, грешных! – вздохнул подьячий.
До самого дома рассуждал Биркин о службе, доказывая, что не велика доблесть – служить правдою. «Что за честь, когда нечего есть?» – гудел он в самое ухо подьячему Семенову и добился того, что тот совсем размяк, нарушил свое угрюмое молчание:
– А где взять? Похудал народ, оскудели дома на посаде. Взыскать не с чего.
– Деньги найдутся. О том не тужи. Дома поведаю, человек ты прямой, открытый, полюбился ты мне – не скрою. Тебя ли я не одарю!
– Подарки любят отдарки. А чем я тебя отдарю?
– Пустое! Что о том говорить? Сосчитаемся.
* * *
Алябьева жена, Матрена Федоровна, разбушевалась не на шутку. С утра у нее был подьячий Василий и негодовал на посадских и крепостных: одолели жалобами и просьбами, окаянные! И, как видится, подстрекатель – не кто иной, как Кузьма Минин. И будто бы он, Василий, пытал Воротынских челобитчиков; они повинились под плетью: посланы будто с жалобой на своего хозяина старостой Мининым; левашовские позавчера и сами, без понуждения, сказывали: их тоже надоумил идти к воеводе Минин.
– Этак они замучают твоего хозяина… Шляются изо дня в день… беда!
Матрене Федоровне только того и надо было.
– Ага, вот почему он бывает мало со мной!
Когда Алябьев появился дома, Матрена Федоровна стала ругать Минина.
– Не от честных трудов меха-то у его Татьяны бобровые и шаль-то персидская, – обиженно ворчала Матрена Федоровна. – Небось Кузьма не упустит. Краденые меха скупает. Не зря жалуются на него меховщики. Судить начал с пристрастием… Мздоимец! Пустили козла в огород!
– Кто те набрехал о том? – не выдержал наконец жениного ворчанья собиравшийся прилечь отдохнуть Алябьев.
– Допроси купца Охлопкова. Подьячий твой тоже знает.
Алябьев грустно покачал головою:
– Может ли быть? Ужели и Кузьма!..
Воевода так был взволнован, что и отдыхать не лег.
Долго просидел он за столом, опершись подбородком на руки.
* * *
Воевода приказал земскому старосте явиться в Съезжую избу.
Он был угрюм и едва ответил на поклон Кузьмы.
– Давно ли ты к нам приехал, а на тебя уж жалобы! Воевода рассказал ему все слышанное от Биркина и от жены.
Кузьма спокойно выслушал Алябьева, а когда тот кончил, сказал:
– Честный гражданин, быв обесчещен, не гневается; будучи хвалим – не превозносится. Дозволь и мне поступить так же.
– Но ты помешал посылке под Москву денег? Это похоже на измену.
– Что миром положено, так тому и быть. Ты – правитель, лучше меня то знаешь.
– А ты староста. Уговори их!
– Сход – не осиновый кол: его не сломишь. Уволь, воевода! Не в моих то силах.
– Гляди, Кузьма, не было бы худа. Тебя обвиняют в измене.
– В измене? – грустно улыбнулся Минин, поглаживая бороду. – Враги мои могут сократить одним днем мою жизнь, опозорить мое имя, но против народа не принудят меня пойти.
Алябьев слушал Минина с удивлением. Хотел он высказать очень многое, хотел припугнуть Минина, но вот теперь не находит слов, чтобы продолжить нарекания. В чем вина Кузьмы? Алябьев старался припомнить всё, что ставили ему в вину Биркин, Охлопков и подьячий Семенов. Увы, теперь это казалось мелким. Язык не ворочался повторять их нудные жалобы. Так мужествен, прост и самоуверен был стоявший перед ним земский староста. Больше всего боялся Алябьев вызвать на его лице насмешливую улыбку.
Рассеянно глядя в окно мимо Кузьмы, он тихо повторял:
– Ты можешь… Ты можешь… Надо бы уговорить. Но что же ты молчишь, Минич?
– Допрашивай… буду отвечать. Нам ли казать свой ум перед воеводами!
– Вот что, Кузьма Минич! Вместе с тобой ходили мы на воров и на панов, вместе страдали… А вот чую я, что ты от меня таишь многое, чую, что на посаде неспокойно… готовится смута, а ты знаешь и не доносишь.
Алябьев запустил пятерню в свои курчавые серебристые волосы, поморщился, точно от боли, и добавил, усмехнувшись:
– Сотоварищи по беде ведь мы с тобой! Забыл?!
Укоризненным взглядом уставился на Минина.
– Сотоварищ я тебе, Андрей Семенович, но не докащик!
Тут только заметил Алябьев, что Минин все время стоит перед ним, словно был и впрямь допрашиваемый.
– Садись, Кузьма Минич… садись. Прости, не приметил. Вот скамья.
Минин не шелохнулся:
– Чинить обмана не могу. Угождать тоже. На посаде я недавно. И думаю я не о том. Когда топь засасывает тебя, разумно ли сбирать морошку под ногами? Разумно ли заниматься посадскими пересудами, коли государство гибнет? Горьки мне твои речи, воевода. Не узнаю я тебя. Размяк ты, не туда пошел.
Алябьев надулся, покраснел.
– Кто про то не ведает, что об отечестве я думаю день и ночь?
Минин посмотрел на него, строго сдвинув брови.
– А Биркин и дворяне неволят тебя думать только о них. Не поддавайся! Не верь им! Спроси: почто твой подьячий выпорол воротынских тяглецов и запер их в подклеть? Почто! Кому в угоду? А ропщут на воеводу. На тебя. На твою неправду. Помощники твои готовят смуту.
Алябьев снова сел за стол и, немного подумав, сказал со вздохом:
– Иди!.. Не обижайся на меня!
Минин поклонился и вышел из избы.
Когда Кузьма проходил по заросшему бурьяном воеводскому двору, из окон подклети услыхал плачущие голоса:.
– Кузьма!.. Кузьма!.. Почто томят?
Минин обернулся и громко крикнул:
– Обождите! Бить челом за вас будем!
* * *
Вернувшись домой, Минин увидел Нефеда, сидящего рядом с Татьяной Семеновной и перебирающего, как и она, с унылым видом четки.
Кузьма развел руками:
– Опять справляете пятницу? Кто же будет рыбницу[38] конопатить?
Татьяна огрызнулась:
– Креста на тебе нет, Минич! Сам грешишь и дите наше в грех вводишь. Иные мужья на посаде сами заповедают женам в среду и пятницу ручного не делать, не прясти, платья не мыти, горнов и очагов не разжигати, богомерзкие дела не творити, а ты? Матушка Параскева Пятница накажет тебя… Соришь ты ей пылью глаза… Пятница гневается на не празднующих ее дня… Минич, опомнись!..
Минин сел на лавку, тяжело вздохнул:
– Портишь ты мне сына… Лентяя растишь… Ох, эти мне причетницы!.. Более всего они молятся, менее всего творят добрые дела.
Татьяна притворилась, будто не слышит, и, нашептывая про себя молитву, продолжала перебирать четки…
Нефед смущенно опустил глаза, чтобы не видеть отца.
– Ой вы, матери-келейницы, сухопарые сидидомицы, много же вы горя можете причинить нам! – продолжал ворчать Минин, с усмешкой посматривая на жену. – Знаю я наших праведников… Иной по две обедни слушает, да по две души кушает…
Татьяна, обратившись к божнице, стала вслух читать молитву о «сидении», чтобы заглушить мужа:
– Сидение господа Иисуса Христа предвозвестил пророк Давид: «Рече господь господеви моему: сиде одесную мене, дондеже положу враги твоя подножие ног моих…» (Татьяна метнула сердитый взгляд в сторону мужа.) «Он же спасти может приходящих через него к богу, всегда жив сый, еже ходатайствовати о них…»
– Нефед! – мягко обратился к сыну Минин. – Иди конопатить судно! Завтра за рыбой.
Тишина. Нефед – словно мертвый. Татьяна Семеновна исподтишка под столом щиплет его за ногу. Нефед знает, что, не послушайся он ее, – целый месяц ему не будет житья в доме.
– Татьяна, паклю приготовила?.. – попробовал Кузьма вывести ее из молитвенного оцепенения.
Пожелтела от злости.
– Вот кабы на войне мы сидели так-то, – примирительно улыбнулся Кузьма, – да перебирали бы четки… что бы в те поры с вами было? Съели бы вас враги живьем!
– «…Поющие знамения и чудеса, еже творящи живущи в тебе благодатию божию…» – опять нарочно громко, желая заглушить слова мужа, принялась читать молитву Татьяна Семеновна.
Кузьма поднялся, вздохнул и вышел во двор. Прислушался к бойкому щелканию скворца, распевавшего на березе, глянул через забор на синюю ширь половодья, вдохнул полной грудью весенний воздух и вслух сказал:
– Ну, что поделаешь!
Пятницу в деревнях и посадах считают покровительницей урожая и плодородия скота. Здоровье тоже во многом зависит от пятницы. Нижегородские богомольцы на груди под рубахой носят списки молитв пятнице. Икону Параскевы Пятницы во время церковных обрядов выносят впереди всех других икон. «Хлеб, скот и здоровье» – вот о чем молятся богомольцы. Цветами и травами с любовью усыпают они путь перед иконой, а потом подбирают с земли эти травы, варят их и дают недужным как лекарство.
Кузьма стал паклевать челн. Не такого бы сына хотелось иметь! Видел он в походах молодцов веселых, ловких, а главное, мужественных. Всегда его тянуло к молодежи. Вот почему он так сильно полюбил Мосеева и Пахомова. И тут жена наперекор: «Чужих любишь больше своих». А в чем родство? Кузьма по-своему судил. Настойчивость этих двух парней роднила его с ним больше, чем кровная связь. Они, не смущаясь ни пятницей, ни средой и никакими праздниками, беспрекословно исполняли свой долг. Бесстрашие их пленило Кузьму; оно укрепляло веру в успех задуманного им. Должно произойти то, чего не думают ни бояре, ни дворяне и никакие государственные мужи.
– Увидим, кто у нас изменник… – ворчал про себя Кузьма, сидя верхом на опрокинутом челне.
Окончив работу, он влез на бревенчатую вышку над своим домом и, приложив руку ко лбу наподобие козырька, по-хозяйски окинул взглядом набережную…
И, как всегда, перед его глазами открылись родные волжские просторы.
Еще беспокойнее забилось сердце: скоро ли вернутся из Москвы Мосеев и Пахомов, скоро ли он узнает от них всю правду о Москве и о Ляпунове?..
* * *
Освобожденные из клети воротынские побежали в слободу к Минину. Не впервые бегут сюда с воеводского двора освобожденные узники. Кузьма встретил их радушно, угостил брагой. Приказал Татьяне Семеновне обойтись с ними, как с самыми дорогими гостями. Она сделала над собой усилие, чтобы выглядеть ласковой. Только боязнь разгневать Кузьму заставила ее притворяться, не то выгнала бы она непрошеных гостей вон из своего дома и дверь бы заперла на крючок. Другое дело – монахи и монашенки. Но их недолюбливал «сам». По этой причине нередко бывали с ним споры.
– Ничего, братцы, потерпите, – ласково утешал Минин своих гостей. – Близко время – оживем и мы. Все пойдем воевать. Война, она равняет. Чует мое сердце – не обойдется без нас.
Воротынские слушали со вниманием.
– Оно будто бы и так… В народе слух есть… – сказал старший из них, дед Ипат. Лица остальных оживились. Дед, добродушно обращаясь к Татьяне, продолжал: – Терпеть-то трудно… Тяжко! Поместье наше Неупокоевское по воровской даче переходит из рук в руки… И не знаем, кого признавать хозяином… Спорили дворянин Нормицкий с дворянином Чуркиным… Нормицкий, завладев землею по грамоте царя Шуйского, порол нас, что мы-де считаем хозяином Чуркина, а Чуркин, взяв опять именье по указу воровского царя Дмитрия, порол нас сильнее, что мы-де прилепились к Нормицкому, а бояре московские дали арзамасскому воеводе грамоту, – де поместье отказано князю Семену Звенигородскому… Иван Петрович Чуркин-то, не желая уйти из поместья, не признал хозяином князя Семена, а князь Семен, став владетелем, порол нас: зачем слушали. Ныне пришел приказ от «троеначальников»[39] признать владетелем поместья и всей пашни пахотной и непахотной князя Воротынского… Князь Семен стоял на своем, а Воротынский, быв хозяином, лютому сыску подверг мужиков… Забудьте, мол, князя Семена теперь я владыко! Пришли с челобитием к воеводе Андрею Семенычу… И плети принесли ему. Думали, не заступится ли? А нас заперли в подклети и поносили всяко. Как тут вот быть-то?
Минин задумался.
Недовольство крестьян росло с каждым днем. В последнее время дарственные грамоты на поместья сыпались одна за другой. Менялись власти в Москве – менялись и хозяева у помещичьих крестьян. Никогда крепостные крестьяне не были такими обездоленными и униженными, как в эти годы. Немало было «спорин» у крестьян с помещиками. И никогда до той поры так не тянуло бежать с помещичьей земли, как теперь.
– Кому ныне угождать?! – уныло и робко вторили деду Ипату его товарищи. – Да и голодно так-то… Порядка нет.
Кузьма ободрил крестьян. Настанет порядок, когда враги и бояре-изменники будут изгнаны из Москвы.
Какая будет потом власть, Кузьма и сам того не знал, но то, что враги должны быть изгнаны из Москвы и что государство должно управляться своими, московскими людьми, это он твердо себе усвоил и это же внушал крестьянам.
Воротынские ушли от Минина обласканные, приободрившиеся.
«Как услышите о том великом деле, идите в Нижний без страха, не боясь наказания, – шепнул им на прощанье Кузьма, – токмо до поры молчите о том, чтобы воровские люди не прознали и помеху какую не учинили».
Через сад, задней калиткой, проводил их Минин к погосту Похвалинской церкви, хоронясь в гуще деревьев и кустарников, чтобы никто не видел.
– Молвите о том же и шабрам своим, – вдогонку напутствовал их Кузьма.
– Ладно, Минич! Молвим. Нешто можно такое среди своих таить?
Расстались.
Татьяна Семеновна не могла смолчать. Надумала испугать мужа дворянами. Вот, мол, узнают они, что «ты мутишь мужиков, тогда житья тебе не будет, убить могут где-нибудь из-за угла». Дворяне – народ опасный, особенно теперь. И поляки всегда примут сторону дворян, если дело коснется бунта.
– Дороги твои сорок соболей, а на правду и цены нет… Она сильнее всяких дворян… Хоть на огне сожги меня, не отступлюсь! Чего мне бояться? От всякой смерти не набережешься… На том свете страшнее будет – и то не робею… А убьют, ты обо мне помолишься. Не так ли?
Татьяна Семеновна испуганно всплеснула руками:
– Господь с тобой! Чур-чур меня! Проси у бога прощенья скорей!.. Ну, ну!
Кузьма перекрестился.
Взял топор. Рассмеялся.
– Спасибо. Напомнила мне. Надо дров пойти поколоть… Мало уж их там.
И ушел.
IV
Третьего июня 1611 года пал Смоленск.
По всем государствам пронеслась громкая весть «о победе польского короля Сигизмунда над Московией». В Варшаве и Кракове на площадях гремели литавры и барабаны. В шляхетских замках провозглашались тосты за короля, за раду, за коронного гетмана Потоцкого, за канцлера Льва Сапегу, за шляхту и за всех «доблестных польских воевод». Вотчинники Речи Посполитой торжествовали: теперь легче будет расправиться с беспокойными, то и дело бунтовавшими крестьянами. Польскому народу война с Москвой не нужна была. Народ понимал, что своими военными успехами шляхта еще более усилится и возгордится. От этого польским крестьянам еще хуже станет.
Римский папа прослезился при известии о падении Смоленска; объявил безвозмездное отпущение грехов богомольцам в церкви Святого Станислава, «покровителя Польши». В Риме на площади, у подножия Капитолийского холма, иезуиты зажгли перед своим домом небывалых размеров фейерверк: белый орел Польши превращает одним своим прикосновением в пепел черного орла Московии.
В то время когда король и папа ликовали по случаю победы польского оружия, а пан Жолкевский, сидя у себя в киевском замке, предавался размышлениям о «мирном завоевании» россиян, положение польского гарнизона в Москве все ухудшалось. Ляпуновское ополчение наседало на него со всех сторон.
Польский поручик Самуил Маскевич, вступивший в польскую армию в погоне за военными лаврами, ночью после уличных боев у себя в казарме дрожащею рукою писал: «Очень уж страшен и силен становится наш неприятель. Мы должны держать бдительную стражу на стенах, а вылазки совершать больше пешком, нежели верхом. Но хуже всего, что у нас людей становится все меньше, а у Москвы все больше».
Посланцы нижегородского старосты Кузьмы Минина, «глаза и уши нижегородцев» – Мосеев и Пахомов – усердно выполняли данный им наказ. Они не только разведывали, что творится в ляпуновском лагере, но и сами сражались с поляками.
* * *
В эту ночь сильно парило. Небо заволокло тучами. Было темнее обыкновенного. В таборах бесшумно готовились к штурму. Ляпунов решил во что бы то ни стало взять Белый город. Без устали объезжая лагерь, он ободрял ратников. Горе тому, кто осмеливался нарушить тишину. Пахомов видел, как Ляпунов в темноте отстегал нагайкой двух пьяных казаков. Трезвые товарищи их стали перешептываться, а когда он отъехал, ему вслед понеслись угрозы.
Ночью начался штурм.
В глубоком безмолвии, пригнувшись к земле, с лестницами и самопалами в руках, ополченцы пошли к Белому городу.
Находившийся в карауле поручик Маскевич вскоре заметил в крепости какие-то фигуры, сновавшие около шатров.
– По-моему, это собаки, – сказал он одному из караульных, вглядываясь в темноту.
– Не знаю… – нерешительно ответил тот. – Чудится мне, что люди…
Караульный подкрался к шатрам поближе и вдруг в испуге побежал обратно:
– Москва!.. Москва!.. – закричал он, увидев ляпуновских воинов.
Поручик поднял тревогу. Его конники бросились на ополченцев. Те отступили.
Вместе со всеми спустились со стены и оба нижегородца. Под градом пуль они побежали прочь.
Эта неудача не смутила Ляпунова. Он перенес бой в другое место.
Строго-настрого приказал он своим ратникам взять угловую башню Китай-города, господствовавшую над Москвой-рекой и Замоскворечьем. Она причиняла большой вред ляпуновскому лагерю. Необходимо было ею овладеть.
Казаки, подстрекаемые атаманом Заруцким, отказались идти вместе с ополченцами на приступ. Ляпунов повел в бой боярских детей и земских ратников. Мосеев и Пахомов одни из первых ворвались в укрепление. Башня была взята. Но подкравшиеся меж зубцов по стене поляки храбро бросились на ополченцев, стали выбивать их из башни.
Пахомов, по приказу Ляпунова, поскакал в казачий табор Заруцкого просить помощи. Казаки только посмеялись над ним. Когда он вернулся, то увидел бегущих однополчан. Многие из них были окровавленные, изувеченные.
Ляпунов, с которого саблей сбили шлем, взъерошенный, бледный, но прямой и мужественный, тотчас же повел на штурм своих земляков-рязанцев, а к ним присоединились многие из казаков.
Ополченцы бросились к другой башне, тоже находившейся на изгибе стены над Москвой-рекой. Поляки отбивались отчаянно.
Но вот Пахомов приметил, что из нижнего башенного окна вылез человек. Скоро и все осаждавшие увидели его. Он оказался литвином-барабанщиком. Называя по-русски ополченцев «братьями», он рассказал, что в нижней части башни – склад гранат.
Ляпунов созвал самых метких стрелков лучного боя. Вызвались татарские наездники. Нужно было попасть в башенное окошко зажженными стрелами.
Присели татарские стрелки на одно колено, сдвинули свои малахаи на затылок, натянули тетивы и – как раз в черное окошечко!
Земля дрогнула от страшного взрыва. Начался пожар. Полякам пришлось спускаться на веревках со стен вниз. Но никому из них, кроме одного поручика, не удалось уцелеть: кто сгорел внутри башни, кто, спустившись на землю, погиб в схватке с ополченцами.
Ляпунов легко овладел всей стеной. Эта победа расшевелила и других воевод ополчения: князя Трубецкого и Заруцкого. Общими силами они укрепили каждые ворота, каждую башню в Белой стене и, расширяя свой стан, овладели Девичьим монастырем. С юго-запада над Москвой-рекой поставили два городка (укрепления) и вырыли глубокий ров около стен Кремля и Китай-города.
С этого дня пан Гонсевский оказался со всех сторон окруженным крепким кольцом ляпуновских укреплений.
Пахомов и Мосеев на радостях собирались уже уйти из-под Москвы в Нижний. Дух ополченцев сильно поднялся. Воеводы, управлявшие ополчением и всей землей, князь Трубецкой, Прокопий Ляпунов и Иван Заруцкий, как будто бы снова соединились в крепкую дружную троицу.
Но не прошло и недели, как в подмосковном лагере начались междоусобия.
Гордый и самовластный Ляпунов издал строжайший приказ против воров и буянов, во имя «бережения чести и спокойствия ополчения». Провинились, как и следовало ожидать, казаки, плохо обеспеченные кормом, фуражом и одеждой. Вотчинники, идя в поход со своими людьми, снабжали их всем. О казаках же никто не заботился. Положение их стало бесвыходным. Однажды воевода Плещеев схватил двадцать восемь человек донцов, ограбивших какую-то деревню, выпорол их и затем утопил в реке. Казаки выловили трупы убитых, принесли их в лагерь и, собрав воинов, стали взывать о мщении.
Они обвиняли Ляпунова в нарушении приговора «всей земли», где было сказано, «чтобы смертною казнью без земского и всей земли приговора боярам никого не казнити…».
Пахомов и Мосеев плакали, глядя на утопленников. Они не прочь были присоединиться к бунтующим казакам.
Ляпунов, выйдя к донцам, обвинил их в непостоянстве, в «шатости», упрекал в том, что, бунтуя, нарушают они свою присягу и тем помогают врагу.
Казаки припомнили Ляпунову, как он изменил Болотникову, предав простой народ, выдав славного атамана царю. «А теперь и нас предаешь! Дворян своих спасаешь… Держишь их руку… Предаешь простой народ!»
Бояре шипели:
– Из думных бояр да в цари полез. Экий честолюбец и гордец!.. Носом не вышел.
Беглые холопы и крестьяне тоже были не на стороне Ляпунова:
– С вотчин сманил, обещал волю дать и хлеб, а в приговоре о том не помянул, будто бы мы и не люди!.. Будто бы нас и на свете нет… токмо в боярах да дворянах вся слава! Доступа нам к тебе, Прокопий, нет! Запутался сам, и нас путаешь!
Прокопий оставался глух и холоден к этим упрекам.
Простым людям доступа к нему действительно не было. Даже дворяне и служилые люди подолгу простаивали у его шатра, ожидая приема. Нарастал не только казачий, но и боярский гнев против Ляпунова.
Пахомов и Мосеев, видя все это, решили не торопиться с уходом в Нижний.
* * *
В этот вечер у Михайлы Салтыкова в кремлевской хоромине было сказано негромко:
– Ляпунов должен умереть.
Хозяин дома развалился в широком бархатном кресле.
На столе стоял глиняный кувшин с брагой, к которому то и дело тянулась жилистая, волосатая, с отрубленным пальцем рука гостя Салтыкова – казачьего атамана Сергея Карамышева. Ночью с помощью поляков он пробрался в Кремль.
Жесткие рыжие усы, как у кота; на бритой голове, словно огненный, чуб; лицо серое, с коричневыми пятнами от ожогов.
Карамышев, соглашаясь с Салтыковым, глухо сказал:
– Истинно: умереть! Опозорил, изобидел он моих казаков.
В соседней комнате Ирина подслушивала разговор отца с казачьим атаманом.
Какие еще злодеяния и кому готовит ее отец? Она озлобилась на отца. Он совсем забросил ее.
«Ах, Халдей, Халдей, где ты?»
Она видела в дверную щель отцовское лицо, надутое, обросшее курчавой бородой. И теперь ей казались чужими эти серые, нарочито приветливые глаза, этот покатый морщинистый лоб, вьющиеся, черные с проседью волосы, этот острый птичий нос, оттопыренные толстые губы. Неприятно раздражал льстиво заискивающий голос: если закрыть глаза, можно подумать, что это не ее отец, а два разных человека – один старается обмануть другого.
Первый говорит:
– Все мы христиане, православные люди, все мы должны думать токмо о спасении души своей и о совести.
Второй:
– Могут ли казаки перенести столь великие обиды?
Не настал ли час расплаты? Подумай, атамане, что же вас ожидает дальше? Коли не убьете коварного Прокопия, погибнете сами!.. Может ли казак жить без добычи?!
Первый:
– Грешно губить православную душу! И без того немало пролито невинной крови… Премилостивый господь бог наш человеколюбия ради своего пощадил нас, нам бы грешно подымать руку на брата своего…
Второй:
– Однако не злобою ли и ухищрением будут попраны злоба и ухищрение?! А?! Како мыслишь?
Сергей Карамышев ответил вопросом:
– Як же так, Михайла Глебович?.. Его любят. Многий народ за него?
– Вот то-то и есть! Растет его слава, и оттого худо нам. Дворянский и земский он радетель. Ищет опоры у средних дворян, у стрельцов да у боярских холопьев, а их на Руси немало. Не станет его, бояре все вам до земли поклонятся… Да и вас ворами не будут величать. Человек он непонятный, скрытный…
Атаман вздохнул:
– Сколько у моря песку, то у нас грехов…
– Выберете себе другого воеводу… хоша бы Заруцкого.
– Абы люде, поп буде!
– Идем к пану воеводе Гонсевскому… Напишем письмо, якобы от него, от Прокопия… Будто бы он разослал такие письма по всем крепостям… В каких местах-де ни встретится донской казак, убивать его тут же и топить!
– Кто? – не понял Карамышев.
– Ляпунов будто так писал… А напишем мы сами!
– Кто же те брехать буде?..
– Идем. У Гонсевского есть такие наши люди… Руку Прокопия не отличишь от их руки.
Салтыков погладил казака по спине.
– Идем. Ишь какой богатырь! Страсть одна! Ну, хлебни еще на дорогу.
Да! Это он, ее отец! Все повадки его. Много вина изводит он, сбивая людей. И всех похваливает, кого за ум, кого за доброту, кого за силу. Если он захочет, то убьет и Ляпунова, но, конечно, не своими руками. Он останется в стороне и будет чист. Скажет, что ничего не знает, что он ни при чем. Будет осуждать убийство, ведь он считает великим грехом пролитие крови православного человека. Много молится.
– Будь проклят! – шепчут побелевшие губы Ирины.
И Пекарский заодно с отцом… этот сатана!
«Ах, Халдей! Не поняла я тебя тогда! Прости меня!»
Ирине захотелось предупредить Прокопия Ляпунова. Но где он, кто он, как его предупредить?! Ничего этого не знала она, пленница своего отца… опозоренная, всеми забытая «блудница»! Так ее в минуты гнева называл отец… «блудница»!
Ирина стала на колени перед иконами.
* * *
Полночное небо озарялось яркими молниями. Грома не было. Дождя тоже.
По шатрам в страхе гадали: чему предзнаменованием сухая молния?
В боярском шатре набившиеся туда именитые воеводы: нижегородский князь Репнин, костромской князь Федор Волконский, романовский князь Пронский и другие – предрекали всеконечную гибель Московскому государству. Сухая молния – не к добру. Смута оттеснила от власти высокородных бояр, это не пройдет даром. А во всем виноват покойный царь Грозный. (При упоминании о нем никто не перекрестился, как того требовал обычай.) Принизил он боярство, дал повод простому, худородному люду лезть на верха. Молодец Курбский, что убежал в Литву! Дело прошлое, но… кто же из бояр теперь скажет доброе слово о царе Грозном?
«Всех удельных мужиков: и ярославских, и тверских, и всех других – в одну орду свел, а мне теперь расплачиваться», – ворчали князья.
Нижегородский воевода поведал о том, как «зело извольничались» его нижегородцы, все эти посадские старосты, ремесленники и крестьяне. Возымели голос! Просил денег – отказали. Биркин пишет, будто верховодит ими некий мужик, посадский говядарь Кузьма.
– Не хлебнули они того горя, что иные города, – обиженно жаловался он. – Гордыню их бог не подверг испытанию. Всех зорили, а их нет. Не вернусь я больше в Нижний. Уеду к себе в вотчину.
В голосе князя Репнина слышалась обида. Казалось, он жалеет о том, что Нижний Новеград остался неразоренным и не сожженным поляками и ворами, как то было с другими городами.
Костромской воевода Шереметев свирепо стукнул кулаком по столу. И у него посадский народ начал своевольничать. Грамотами какими-то, помимо воеводы, с другими посадами перекидываются. Бояр и дворян «опасаются токмо наружно», а в душе ни в грош их не ставят. Эх, когда только руки доберутся до них! Поскорее бы вернуться в Кострому!
– Помог бы я тогда и тебе, князь, с твоим Кузьмой расправиться.
Ахали, вздыхали присутствующие. Князь Репнин сообщил потихоньку, что даже тут, в московском стане, есть нижегородские соглядатаи.
Вспыхнула яркая молния, загремел неслыханной силы гром.
Бояре в страхе перекрестились.
Из угла выполз шепот: «Неужели и за нами следят?!»
Всем стало страшно. О, эти невидимые глаза непонятного, загадочного, как казалось боярам, чудовища, которое зовется «подлым людом», глаза замуравленных в избах и землянках крепостных крестьян, глаза посадских тяглых людей, глаза мелкого служилого люда и ремесленников!
Что-то будет?
И вдруг в шатер вместе с пыльным вихрем ворвался какой-то монах, закричал, задыхаясь: «Ляпунова убивают!» Князья схватились за сабли. Монах продолжал: «В измене обвинен! Грамоту рассылал… С панами заодно!» И скрылся.
Бояре выскочили из шатров. Где-то поблизости дико галдела толпа.
* * *
Свершилось.
Мосеев и Пахомов собственными глазами видели прикрытые рогожами куски тела Ляпунова, изрубленного казаками.
В лагере утром после грозовой ночи наступило сумрачное безмолвие. Ополченцы попрятались в шатры.
Первый поднявший саблю на Ляпунова атаман Сергей Карамышев, сидя на скамье в казацком шатре, плакал. Его поили вином, чтобы «утихло сердце», но ничего не помогало.
Мосеев, обходя таборы и подслушивая, заглянул в эту палатку. Многих тянуло посмотреть на «убивцу-атамана».
Но рта людям не завяжешь: истинным виновником убийства людская молва называла второго воеводу, Ивана Мартыныча Заруцкого.
Мосеев видел этого кривоногого, головастого, с огромными не по росту черными усами человека. Слышал его грубый, сиплый голос. Удивлялся его нарядным (немецкого мастерства) доспехам и его беспечному виду.
Один старик-гудошник, уведя Мосеева в монастырский сад, рассказал:
– В те поры, когда Заруцкий был ребенком, татары захватили его в плен. В Орде он вырос, стал лихим наездником и ускакал к донцам, к казакам. Был самозванец – он имел большой доступ к нему. Ежели нужно было кого взять, убить или утопить, исполнял всё он с великим старанием… После того передался он поляцкому королю… Потом откололся и от поляков… Ныне прилепился к Прокопию, объявил себя его товарищем, – и вот…
Старик остановился. В глазах у него выступили слезы.
– Невинно человек пострадал… А князь Трубецкой слаб, поддается Ивашке Заруцкому. Гляди, ныне властителем будет он, Ивашка… Горе нам! Маринкиного сына[40] провозгласит царем…
Когда гудошник и нижегородец вышли из пустынного монастырского сада, они увидели около воеводского шатра на коне Заруцкого, окруженного атаманами и дьяками. Лицо у него веселое, красное, лоснящееся. Вместо шлема – нарядная шапка из бобра с зеленым донышком, касавшимся золоченой кистью щеки. В ушах большие серпообразные серьги.
Он громко смеялся, разговаривая с атаманами.
Заруцкий не заботился о том, чтобы скрыть свою радость по случаю смерти Ляпунова.
А на следующий день по лагерю разнеслась новость. Заруцкий на казацком кругу объявил: царем должен быть сын Марины Мнишек – Иван Пятый. Ему и нужно целовать крест.
Но ведь не было тайной, что Маринка давно уже супруга Заруцкого. А значит, и короны он добивался для себя, а не для ее сына.
Другой правитель ополчения – князь Дмитрий Трубецкой – со своими приверженцами не желал и слушать о «маринкином сыне». Он думал: «Не пригласить ли на престол шведского королевича Карла-Филиппа?»
Но вот из Пскова пришли казаки с грамотой. А в ней говорилось, что Димитрий Второй, тушинский, не убит. Он жив, взял своею силою Псков и скоро придет в Москву.
Бояре пробовали разуверить казаков, доказывая, что во Пскове не царь, а новый вор, новый самозванец. Они называли его бродягой Сидоркой, но казаки пригрозили пиками…
Пришлось молчать.
Пахомову и Мосееву стало ясно: начавшийся в подмосковном лагере разлад ополчению добра не принесет. Дух польского гарнизона, наоборот, поднялся.
Кремлевские бояре, воспользовавшись смертью Ляпунова, решили послать к королю Сигизмунду новое посольство.
На этом настояли Гонсевский и Михайла Салтыков.
В грамоте бояр к королю говорилось: «Беспрестанно ездя по городам из подмосковных таборов, казаки грабят, разбивают и невинную кровь христианскую проливают, боярынь и простых женщин и девиц насилуют, церкви божии разоряют, святые иконы обдирают, ругаются над ними так, что и писать страшно».
Грамота кончалась призывом на престол королевича Владислава.
Во главе посольства к королю отправились по указанию Гонсевского Михайла Салтыков и думный дьяк Василий Янов.
Все вышло так, как того желали паны и преданные королю бояре.
V
С бревенчатой колокольни Ильи-пророка озабоченно смотрели вдаль на арзамасскую дорогу Минин и звонарь Аким. Вокруг толпы, шедшей в беспорядке к городским воротам, клубилась пыль.
– Ой, как много! Где нам приютить их?!
– Соляные амбары возьмем. Просторно там и тепло. Бей в колокол! Встретим с почетом! Коли обласкаем первых, придут и вторые, и третьи…
Минин спустился по скрипучей лестнице вниз. Аким поплевал в ладони, навертел на руки веревки и, пригнувшись, сразу ударил в четыре колокола!
В сермягах, лаптях, кто в бараньих шапках, кто с открытой головой, а кто и в шлеме, пыльные, бородатые, с секирами, копьями и вилами, еле-еле волоча ноги от усталости, шли арзамасские мужики.
По указу «троеначальников» бежавшим из-под Смоленска дворянам отвели в Арзамасском воеводстве угодья, а местные крестьяне и холопы пошли против. Указу подмосковных воевод не подчинились. После вооруженной схватки с дворянами многие из них ушли в Нижний.
Тут же были и воротынские мужики, и несколько десятков смоленских крепостных. Обласканные некогда Мининым воротынские крестьяне и указали путь в Нижний, в Земскую избу, к Кузьме Минину. Об этом от верных людей узнал Минин. Алябьев не мешал Земской избе. Своих нижегородских дворян он и то не мог защитить от бунтующих крестьян, а уж что там говорить об арзамасских… Сами же арзамасские дворяне смотрят на смоленских дворян, как на чужих. Никому в Нижнем не пришлось по душе хозяйничанье подмосковных воевод. Подумаешь, какие цари! Кто их выбирал? И очень хорошо, что арзамасские мужики поколотили непрошеных гостей, смоленских дворян! И то, что смоленские крепостные откололись от своих господ и ушли вместе с арзамасскими мятежниками в Нижний, тоже хорошо! Так и надо!
Вот они! Минин с любовью вглядывается в суровые загорелые лица.
Не так уж теперь страшен воевода! На свою силу воеводе уже не приходится надеяться. Остается ему одно: положиться на волю божию. Против мужицкой силы один не пойдешь, а на городовых стрельцов тоже надежда слаба. Алябьев сам выбился из низов. Знает, как стать народу поперек!
Вот уж не только Илья Пророк, но и Казанская, и Предтеченская, и другие окрестные церкви забили в колокола.
Рослый парень нес подобие знамени. Шел он важно, без шапки, с гордостью посматривая по сторонам. Настоящий боец! Кузьма поравнялся с ним, спросил, чей он.
– Смоленский… Бежал из крепости, а звать Гаврилкой, – не поворачивая головы, скороговоркой ответил парень.
– Стрелять умеешь?
– Могу. Из пушки, пищали и из лука.
– Добро пожаловать! – обрадовался Минин. – Таких нам и надо.
Похвала не смутила парня. Его лицо оставалось деловито-серьезным.
Посадские, заслышав колокола, опрометью выбежали из своих домишек. Не пожар ли? Тут были и степенные лутчие (купцы), усердно крестившиеся, не считавшие достойным для себя без особой надобности отходить более чем на три шага от ворот. Тут были босоногие бабы и девки в одних сарафанах на голом теле, беспричинно смеявшиеся, и мальчишки, с особым азартом под колокольный звон гонявшиеся за гусями и курами по пыльной дороге… Кто мог, все вышли на улицу, с любопытством и робостью рассматривая великое скопище вооруженных мужиков, впереди которых шел сам староста Кузьма Минин. Всех охватило радостное возбуждение в ожидании чего-то важного, большого, близкого и нужного народу.
* * *
Весь следующий день Ока оглашалась стуком топоров и молотков. В пустых соляных сараях на берегу шла работа. Дружно разносились песни арзамасских беглецов.
Собирался король на святую Русь Со всеми панами, со всеми пановичами, Со любезным своим шурином с Вороновичем, Поутру спать ложился, К полуночи пробудился. Кровушкой умылся…Кузьма бегал из одного барака в другой, воодушевляя плотников, готовивших нары. С острова напротив соляных рядов в завознях переправлялось сено. Кузнец Яичное Ухо с товарищами набивал тюфяки. Да и не один это кузнец, – многие посадские помогали пришельцам устраивать их жилище. По Ямскому взвозу непрерывно спускались телеги на берег Оки с мешками хлеба, пожертвованного именитыми нижегородскими хлеботорговцами. Кузьму начали слушать. Он напугал: народ, мол, голодный, обозленный, не ровен час, взбунтуется, тогда хуже будет! Лучше сами по доброй воле давайте! Нижегородские лутчие тем только и спасались в эти тревожные годы, что умели вовремя раскошеливаться. Так и тут. Бездомовные люди потянулись в Нижний. Шли и с низов, и с верхов, и поодиночке, и партиями. Пока в Нижнем хлеба хватает. Запасено изрядно. Чего же ради скупиться?! «Демон с ними, пускай едят!»
Помолившись о своем здоровье, ходили купцы в сараи к мужикам, давали свои советы, вели душеспасительные беседы с пришельцами, имея тайную мысль смягчить их.
Кузьме удалось добиться снисхождения к беглым и у воеводы.
С давних пор Алябьев жаловался земскому сходу на то, что за оврагом у Печер, близ Шебинихинского куста, развалился острог[41], дождями смыло насыпь, бревна подгнили. С востока Нижний от врагов не защищен. Просил воевода посадских ради общей безопасности поправить это укрепление. Посадские палец о палец не ударили. Да и Минин как староста не понуждал к тому посадских. Теперь он прямо заявил Алябьеву, что невозможно дальше оставлять город незащищенным с восточной стороны. Опасность большая от этого. Арзамасские и смоленские беглецы пригодятся. Нижегородцы заняты своими промыслами и торговлею. Им не до того. Никогда не дождешься, чтобы они поехали в лес, напилили и натесали бревен. Ведь нужно навозить и землю и поднять насыпи. Кто, как не арзамасские беглецы, все это сделают? «Сам бог послал их нам в Нижний, дабы они поработали для спасения города».
Алябьев повеселел:
– Уж и не знаю, как тебя и благодарить, Минич! Умная голова ты у нас. Ежели бы не ты, пропали бы посадские без тебя! Спасибо, что поддержал меня. Давно и я думаю о том.
– Полно, Андрей Семеныч!.. – покраснел Кузьма, смутившись.
Алябьев подумал: «Какой кроткий!»
А вечером оба ездили к печерским рубленым воротам, осматривали развалившийся острог, высчитывали, сколько пойдет леса, сколько земли. Вести работу взял на себя он же, Минин. Окончательно растрогавшись, Алябьев позвал его в свой дом: угощал вином, а Кузьма, захмелев, пел ему песни про храбрых воевод, громивших татар… говорил, что и он, Алябьев, тоже храбрый воевода, что таких воевод ему, Кузьме, не приходилось никогда видеть. Алябьев, раскиснув от похвал, стал жаловаться на Биркина: «Надоел он мне, что с ним делать?»
Утром в Земскую избу был вызван ямской староста Николай Трифоныч Семин.
Минин спросил:
– Сколько может дать Ямская слобода коней?
Семин удивился:
– На кой тебе?!
– Дело есть. У Печер вал насыпать да бревна возить.
– Много ли туда надо!.. Четыре пятка за глаза хватит.
– Нет, скажи: что дадут ямщики, коли понадобится?.. – настаивал земский староста.
– Когда так, считай, – нехотя ответил старик. – Всего у нас двадцать три ямщицких двора… Есть и по три, и по четыре коня… Да на што тебе?
Кузьма нахмурился, не ответил.
– Да у посадских – сот восемь… – продолжал ямской староста. – А может, и поболе… Ты уж их не тронь и ямщиков не обижай. Главное, не скупись на обывательские, деревенские подводы… Гоняй их! – хитро заиграл глазами Семин. – У дворян…
Лицо Кузьмы повеселело.
– Эко диво! Да на кой тебе?! – разводил руками Семин.
– Надо! – ответил Кузьма, прощаясь с ним.
Все свободное время Минин проводил в бараках на Оке. У арзамасцев старшим выбрали Ганьку Коновалова, грамотного, разбитного плотника. Он же устроил нары и полати в сараях. Гаврилку Ортемьева выбрали старшим у смолян. Ведь они из самой Москвы шли с ним: много храбрости и находчивости показал он дорогой. Гаврилка кивнул Кузьме на угрюмого Осипа, на бедового Олешку и словоохотливого, с хитрецой, Зиновия. Минин велел всем четверым зайти к нему, на дом. Особенно обрадовался он, узнав, что среди смолян есть казак-украинец.
– Ждать буду… Приходите… Медом угощу…
* * *
Лучшим грамотеем в Нижнем считался тихий, худощавый и почтительный дьяк Юдин.
В последнее время он часто навещал Минина. Всегда приносил с собой пачку грамот и челобитен. Кузьма скрывал даже от Татьяны, зачем дьяк ходит к нему в дом. А он тайно ото всех по просьбе Минина составлял опись служилым людям, «кто что имеет» и «к чему поваден». Сам Кузьма Минин был плохим грамотеем, однако посадские достатки мог сосчитать лучше любого дьяка. Знал он о каждом купце и ремесленнике: что делает, в чем нужду терпит и что имеет дохода. Но вот о служилых людях, о дворянах, о стрельцах, о попах и иных, не подчиненных Земской избе, он знал очень мало. Здесь не обойдешься без помощи воеводского дьяка.
Вышло на посаде: более тысячи тяглых дворов; поповских – восемьдесят; казенных – восемнадцать; помещичьих и иноземческих – сто пятьдесят; ямских – двадцать три; трудников и бобылей на монастырской земле – сто пятьдесят изб и кельишек. Всего в Нижнем было без малого три с половиной тысячи дворов.
Дьяк тихо читал:
– Да еще на Нижнем же посаде тринадцать изб харчевных. Оброку наперед сего платили рубль двадцать два алтына и три деньги… Ныне изоброчены вновь и со старым оброком – два рубля осмнадцать алтын…
Минин перебил:
– Как же это так? Да с одного Петрушки Ивлиева надо бы взять по двадцать алтын… Мошенник Петрушка!.. Знаю я его. А с тринадцати харчевен и вовсе, по-божьему-то, рублев десять! Не грех бы! Право!
Юдин, не отрывая глаз от списка, продолжал:
– Да на Верхнем посаде за Дмитровскими воротами и на Ильинской горе одиннадцать кузниц… Оброку с тех кузниц платили в Государеву Съезжую избу одиннадцать рублев двадцать пять алтын с деньгою… А вперед изоброчены и со старым оброком – пятнадцать рублев тридцать алтын две деньги…
– Мало! Ну, да ладно. Кузницы нам годятся. Здесь мы свое возьмем.
– Да на церковной, на Никольской, земле шесть лавок да семь шалашей, да место лавочное тут, а с них платят оброку никольскому попу на церковное строение двадцать четыре рубля шестнадцать алтын четыре деньги.
– Попу? – удивленно переспросил Минин. – Двадцать четыре рубля попу на церковное строение! Да погляди ты, Василий, сам на его церковь. Развалилась. На чем колокола держатся! Ненасытные души! С меня и то дерут в монастырь пять алтын! За то, что изба стоит на их пустыре, на лысом собачьем месте. С попом предвидится крепкий спор.
– Что скажут богомольцы? Их дело. Не наше!
Минин нахмурился.
– Много думал уж я об этом! Веришь ли, ночи не сплю, ломая голову: как нам поднять богомольцев, чтобы они свои приходы не жалели, попов посмягчили, да и свое сердце к делу общему повернули… От имени преподобного Сергия надо попросить их…
– Помогай бог, Минич! У монастырей да церквей доход большущий.
– К попам и богачам государева казна не строга. Неча грех таить! Вон возьми: Первушки Карпова лавка на два замка, мерою две сажени и шесть вершков. Сам я мерял. А оброку платит, сукин сын, рубль четыре алтына. А Иванов Ондрюшка, сердяга, за пол-лавки отваливает пять алтын три деньги. Кто у вас там мудрая такая голова?!
Юдин махнул рукой.
– Горе гореванное! Кто, кто? Да все он же… дьяк Семенов!.. Друзья они с Карповым-то. Совести нет у людей.
– Тот-то вот! И Ондрюшка выдерживает и при таком окладе может торговать!
– Видимо, так.
– А когда так, стало быть, Карпов и впятеро выдержит.
Оба улыбнулись.
– А для народного святого дела и вдесятеро. Много у вас здесь наплутано… Ой, много! Хоша и переоброчили вы, а справедливости от сего не умножилось.
Положив свою большую ладонь на бумаги, Минин строго сказал:
– Наивысшая мудрость правителя – в разумном и нелицеприятном оброке. А у нас бедняков теснят, немочных хозяев обирают, а богатых балуют. Узду им развязывают. Терпеливо переносящие бедность – не украшение воеводской власти. Терпение до времени. Когда бог благословит нас на то святое дело, мы с тобой оклады переиначим. По справедливости, из неразумного рождается неразумное.
Юдин долго еще читал оброчную роспись, а Минин про себя обдумывал, что могут дать нижегородские дворы, кузницы и лавки при обычном окладе.
Получалось скудно. А понадобятся великие жертвы. Пускай очнутся торговые люди и приумножат походную казну. С ремесленников тоже можно кое-что еще взять. Необходимо составить новую платежинцу!
Кузьма попросил Юдина присмотреть среди служилых людей честных, годных для сбора окладов.
– Денег и так и этак не хватит. Не миновать одолжения на стороне.
Надо было подумать и о приумножении войска. И тут – скудость! Взрослых мужчин – едва четыре тысячи. Само собою, придется широко распахнуть ворота иногородним людям. Более того, придется кликнуть сбор по всей земле, чтобы под нижегородские знамена шли всякие люди. И чем больше, тем лучше.
В уезде только шестьсот селений – вместе русских и мордовских Помещики в уезде тоже небогатые. Все эти Доможировы, Болтины, Скрипеевы, Злобины, Кокоревы и другие сами в долгу, как в шелку. На них надежда плохая. Ратников они могут выставить едва ли сотен пять.
Минин озабоченно взглянул на Юдина.
– Жилища для будущих воинов? Надо подумать и о том. В монастырях и пригородах надо бы. Сараи новые построим…
Василий Юдин успокоил: жилища найдутся. В деревнях, близ посада, можно расселить. Да и в городе по дворам уберется немало народа. Разместить по два человека на дом – вот тебе и семь тысяч!
Перед тем как отпустить Юдина, Кузьма заговорил о сене.
– Чуешь?! Наши ямщики без дела ходят… Вино пьют… А в ямских полях, что поперек московской дороги, да в ихней же Макарьинской пустоши трава не скошена… А где и скошена – не слава богу! Лежит без призора. Мокнет. Муромский остров, что против самого города, хоша на самом виду на Волге, а захирел. Для того ли царь Грозный отдал его Духовскому монастырю?! Раньше были там и капуста, и огурцы, и пашни, и сенные покосы, а ныне?! Умер Порфирий, воевода-инок, и обленились монахи… пьют вино и девок портят… вот и всё. Как бы нам образумить монахов?! Хоть бы ты посоветовал им. Позвал бы в Съезжую да навел на мысль. И ямщиков тоже. Им-то уж сам господь бог велел. Конем живут, а о коне не думают. Езды нет, стало быть, и конь подыхай.
На авось надеются. Натрави на них воеводу… Пускай попугает! Право! Слышь?
Юдин сказал:
– Ранее приказчика ставили воеводы. Он царскую деньгу и выбивал на Ямской слободе. Ныне там один староста, свой же выборный, из богатеев. Ему что?! Чем товарищи будут беднее, тем он богаче.
– Знаю я Николая Трифонова! Ненадежный… Поставим в те поры и мы своего приказчика. Царю служили, послужат и нам.
Расстались, как всегда, выпив по жбану пива, которое искусно варил сам Кузьма Минич. Обтерли усы, помолились, облобызались. Минин проводил гостя до самой Похвалинской горы.
Было темно и тихо. Откуда-то издалека доносились обрывки песен. Вероятно, рыбачья ватага гуляет на острове в устье Оки.
VI
Прекрасен Нижний Новеград в летнюю пору! Сами нижегородцы, плавая на своих челнах по Волге, любуются им.
Высокое место, все в зелени яблоневых и вишневых садов, изрезанное глубокими оврагами. С левой, менее доступной, части прибрежного взгорья, до самой вершины – кирпичный кремль. И кажется, не зубцы кровель завершают его стену, а кружево, прикрепленное нижегородцами, нежно влюбленными в свою родную землю. Под кремлем – широкая привольная матушка Волга. А по склонам гор – в зеленях толпы маленьких домишек. Они взбираются снизу вверх от самого берега и исчезают на макушке горы в верхней части города.
Поодаль от кремля, ближе к устью Оки, среди других строений выделялся большой бревенчатый, с расписным теремом дом.
В нем жила боярская вдова Марфа Борисовна Янгалычева, а с нею две престарелые мамки.
Сама она была происхождения незнатного: дочь простого служилого человека, подьячего Аникеева, убитого под Балахной польским разъездом. После него осталась семья, которую и приютил у себя аникеевский богатый вотчинник, князь Янгалычев. Увлекшись красотой Марфы, престарелый боярин женился на ней. Но недолго продолжалось его супружество: через полгода после свадьбы Марфа Борисовна овдовела. Ей досталось богатое наследство.
Живой, веселый нрав красавицы вдовы никак не мог примириться с суровыми посадскими порядками. Она не ушла в монастырь, как того требовал обычай, чтобы посвятить себя иноческой жизни. Не захотела она и на миру жить в затворничестве. Двери ее были открыты и для богатых, и для бедных, и для знатных людей, и для людей простого звания, среди которых она выросла.
Посадские сплетницы объявили вдове настоящую войну. Да и не только сплетницы; подозрительно посматривала в ее сторону и вся нижегородская знать.
Один только человек не страшился выступать на защиту вдовы: это был земский староста Кузьма Минин.
Когда арзамасские и смоленские разоренцы прибыли в Нижний, Марфа Борисовна первая тайком помогла им деньгами.
Однажды она пожаловалась Минину на то, что ее беспокоят по ночам воры, похищая разную хозяйственную утварь.
Кузьма махнул рукой:
– Не кручинься. Я дам тебе надежного караульщика.
Он крикнул Гаврилку Ортемьева. Марфа Борисовна залюбовалась парнем, но не решилась сразу взять его в работники.
– А что скажут у нас на посаде, коли узнают, что у меня в доме живет такой парень?
– Пустое. Сухую грязь к стене не прилепишь. Пускай болтают.
Гаврилка поступил сторожем ко вдове в дом.
* * *
В этот день с утра он с большим усердием топил баню. Вчера еще навозил полный сарай дров. Марфа Борисовна укоряла: не надо, мол, тебе такими делами заниматься, у нас то делают бурлаки, братья Яшины. А он: «Я – бобыль, ты – вдова, кому же мне и порадеть!» Настойчив оказался, упрям. Из-за него в это утро и в собор не пошла. Осталась следить за ним, как бы не сжег баню. Не грешно ли? Он смеется: «На добре спасибо, а за грехи я уж сам расплачусь!» Глядя на его высокий рост, голубые, немного усмешливые глаза и шелковые русые кудри, Марфа Борисовна от всей души готова была принять часть греха и на себя. Одинокий он, бедный, круглый сирота. Розовую рубашку с вышитым воротом, которую он по праздникам надевал, – она ему подарила. Потом тайком из окна любовалась на него в новой рубашке.
Во время топки бани Марфа вышла в сад. Она остановила Гаврилку, несшего охапку дров, шепнув:
– Кузьма Минич пришел… Подожди топить.
Гаврилка смиренно положил дрова у своих ног, вздохнул, почесал затылок:
– Вот те и на!
И, недолго думая, вдруг обнял маленькую, теплую вдову.
– Что ты! Что ты! Опомнись!
– Прости, боярыня…
Вырвалась и, поминутно оглядываясь, побежала в дом. Гаврилка решил повременить, не подкладывать дров. «Э-эх-ма!» Пошел за ограду, сел на берегу. Сквозь листву устремил взгляд на Волгу. Одинокий челн: рыбак возвращался в Благовещенскую слободу. «Чудак! До рыбы ли теперь? Ах, господи, господи!» Трудно бороться рыбаку против течения. Относит назад. Навернулось сравнение: он, Гаврилка, старается побороть в себе любовь к вдове, но и его относит назад. Любовь берет верх. Улыбнулся: «Такая маленькая и такая сильная!»
* * *
Минин имел вид унылый, утомленный. Медленно потягивая брагу, он тихо рассказывал о том, что печерский архимандрит Феодосий тайно благословил его, Минина, на свершение задуманного; надеется, что царем вновь поставят Василия Шуйского. Никто ведь так не одаривал Печерского монастыря, как Шуйский. Хорошо жилось инокам в его царствование. Пришлось пообещать Феодосию выкуп Шуйского из плена. Минин рассмеялся. Кому нужно выкупать царя Василия из польского плена? Однако архимандрит поверил.
Марфа Борисовна сообщила Минину, что Болтин, человек обиженный царями и боярами, незнатный мелкий дворянин, уговорил таких же, как и сам, бедных дворян – Злобина, Доскина и других, придерживаться Земской избы: мол, толк выйдет.
Марфа Борисовна говорила, сбиваясь и путаясь. Она еще никак не могла прийти в себя после неожиданного объятия Гаврилки: «Вот так сторожа дал мне Кузьма Минич!» Разрумянилась. Улыбнулась своим мыслям.
– Ты сегодня не тот, что всегда, Кузьма Минич, – не глядя на своего гостя, сказала она.
– Устал я, замаялся совсем, – вздохнул Кузьма и налил себе браги. – Дело задумано великое, а что выйдет, господь ведает.
Немного помолчав, добавил:
– И сложа руки сидеть нельзя. Никак нельзя. Государство гибнет.
– Кузьма Минич! А что будет с народом, когда изгоним ляхов?.. Неужели опять заберут его в кабалу? (Марфа Борисовна в эту минуту думала о судьбе Гаврилки.)
Минин задумчиво покачал головой.
– Не знаю. Защищая государство, должно думать прежде всего о побитии врагов. А там будет видно. Протопоп Савва подобен малому дитяти, думая, что люди пойдут на Жигимонда токмо ради царства небесного. Забыл он, что рождены мы для земного царства. Да не одни наши пойдут против него, пойдут и иной веры люди. Их нашим богом не уговоришь! Мир, справедливость и хлеб им нужны… Измучился народ в подневолье… – тяжело вздохнув, закончил свою речь Минин.
Гаврилка, насидевшись на берегу, прокрался снова в баню. Огонь в печи погас. Пришлось разжигать снова. «Ах, Минич, Минич! Не ко времени пришел!» – осматривая чисто вымытые скамьи и полок, стал досадовать парень. Прокрался опять к дому. Прислушался.
Минин жаловался, с каждым днем ему становится все труднее. Со всех концов стекаются ратные люди в Нижний да холопы, да крестьяне, ушедшие от своих господ. Вновь назначенный «троеначальниками» воеводою уезда князь Звенигородский велит их угнать обратно; им-де нечего тут делать, и незаконно-де они ушли из вотчин. Работу, действительно, стало трудно для них находить.
А кормить без работы – денег нет. Самое же главное – нет верных вестей из Москвы. Каждый врет по-своему. Новый воевода князь Звенигородский уверяет – под Москвою дела идут как нельзя лучше и никакой помощи, кроме денежной, будто бы там не надо. Деньги советуют посылать Трубецкому.
– Вся надежда теперь, – говорил Минин, – на наших ходоков Родиона Мосеева и Романа Пахомова. Лишь от них можно узнать всю правду. А они, как на грех, не идут и не идут. Надо бы объявить сбор ополчения в церквах и на площадях, но как объявить, не зная правды? И посадские начинают роптать на пришлых.
«Дармоедами» уже кое-кто их обзывал. Особенно стараются купец Охлопков, Марков и Фома Демьянов из Балахны. Свою братию подобрали, действуют заодно с князем Звенигородским. «Устали мы, – говорят, – от междоусобий. Какая власть будет – нам все одно. Лишь бы сызнова наладилась торговля». В торговых рядах на Нижнем посаде стали посмеиваться и над ним самим, над Кузьмой.
Когда Минин об этом говорил, его взгляд стал жестоким, в голосе послышался гнев.
– Но нет! – ударил он кулаком по столу, – Пускай меня самого убьют, а ни одного пришельца я из Нижнего не упущу. В дворянские полки под Москвой мужиков не принимают, атаманы тоже чуждаются их – с кем же им защищать государство?! А они-то наши защитники и есть. Один будет стоить десятерых ляпуновских воинов.
И добавил:
– Нам бы теперь небольшие деньги. Только бы обернуться в эти дни… А там придут ходоки из Москвы, господь нам поможет, деньги соберем. Одолжи, коли можешь, хоть сколько-нибудь.
Марфа с большой охотой достала из ларца горсть золота и отдала Минину.
Она сказала:
– Никогда не забуду я, что проклятые паны убили моего отца… И никогда не откажу я в помощи и впредь на то святое дело…
Кузьма оживился. Стал перечислять преданных ему людей. Между прочим, назвал и Гаврилку Ортемьева.
Марфа Борисовна со вниманием слушала Минина, а у самой не выходил из головы Гаврилка. «Надо завтра снести Любимке-сапожнику кожу, пускай сделает ему сапоги. Бахилы и лапти надо убрать для похода».
Прощаясь, Кузьма сказал, что его не тянет домой: Татьяна Семеновна в последнее время только ворчит и молится. Испугалась войны. Нефед до убогости смирен и податлив. Боится матери пуще огня.
Марфа Борисовна привыкла к тому, что многие женатые люди приходят к ней, ко вдове, порицая свой родной дом, жалуясь на несчастливо сложившуюся семейную жизнь. Они говорят, что она, Марфа, не похожа на других женщин, что она проще, добрее Сплетницы наговаривали на нее, зло подсмеиваясь, намекали на то, что, мол, люди ходят не ради чего-нибудь, а ради ее денег и блудодейства, и прибавляли в виде угрозы, что «и через золото слезы льются»… И верно: не раз она плакала через свое богатство. Кто только ни подсылал к ней сватов! И дворяне, и купцы, и служилые люди, – всяк, говоря ей о любви, норовил справиться, как она богата.
Один только этот бедовый смоленский парень ни разу не упомянул о богатстве; он беззаботно смеется, думая только об одном, как бы ему поскорее сразиться с поляками. Горячий он, самоуверенный, а вместе с тем и нежный, как дитя.
Когда Минин ушел, она полюбовалась на себя в зеркальце, накинула платочек, помолилась на икону: «Прости меня, грешную», закрыла ее шелковой занавесочкой, сняла с себя крест и выбежала в сад.
* * *
Марфа Борисовна ничего не скрывала от Гаврилки.
– А протопоп Савва уговаривает меня в монастырь идти, – говорила она, сидя на скамье рядом с Гаврилкой, раскрасневшаяся, лукаво улыбающаяся.
– Бог его простит! – выдернув из веника прутик, с притворным смиреньем вздохнул парень.
– А мое богатство просит отдать ему в собор… на украшение прихода.
– У бога всего много и на приход хватит, а ты не давай. Тебе самой нужны.
– Федосий из Печер тоже просит… на монастырь.
– И ему не давай.
Гаврилка заботливо согнал прутиком муху с босых ног вдовы.
Марфа Борисовна, сравнивая мысленно покойного мужа с Гаврилкой, шептала: «Не в звании и не в деньгах счастье! Правильно говорил покойный боярин. Царство ему небесное! Умный был человек! Понимал. Да и сама я тоже не из знатного рода. И не жалею теперь о том!.. А грехи мои отец Савва замолит…»
Гаврилка бросил прутик в сторону. Поднялся со скамьи, потянулся.
– Надо идти, – зевнув, сказал он, – ребята ждут. Рыбу ловить. Есть нечего стало нашим смолянам.
– Посиди еще… – прижалась к нему Марфа. От нее пахло паром. Лицо ее было красным, прикрыто платом с очельем, как у монашенки, закрыто чуть не до бровей. Глаза, казалось, стали еще крупнее и чернее.
– Некогда… – деловито сказал он. – А деньги отдай, не скупись, коли на то пошло. Не в Печерский монастырь, не в собор, а в земское дело отдай… Минину! Вот и всё!
Гаврилка строго сдвинул брови. Марфа исподлобья с улыбкой посмотрела на него.
– У, какой ты сердитый!
– У попа, как у глухаря, зоб полон, а глаза голодны. Попа никогда не насытишь.
– Скоро ли вернешься? Лучше вот что скажи.
– К вечеру вернусь.
Марфа провела его садом до тропинки, сбегавшей вниз на берег. И долго смотрела ему вслед.
* * *
Только что Кузьма вышел из дома Марфы, как, словно из-под земли, появился протопоп Савва.
– Гуляешь? – будто не видел, откуда вышел Кузьма, спросил он. Не получив ответа, принялся рассказывать.
Из Костромы забрел в собор монах. Донес, что-де во Пскове объявился новый вор. В сыновья к Грозному набивается, Сидорка какой-то. Многие князья крест целовали ему и поместья уже получили.
Кузьма упрямо молчал. На язык Савва был не скуп, и нередко Минин от него узнавал очень полезное для себя.
Но теперь, рассказав о Сидорке, протопоп только вздыхал: «Боже, боже, почто ты оставил нас еси!» В то же время он сгорал от любопытства: зачем Кузьма повадился ходить ко вдовушке? Уж не вымазживает ли у нее деньги? Не перебивает ли дорогу ему, Савве!
– Гляжу я на все, что вижу, и диву даюсь, – сказал Кузьма. – Жигимонд хотя и король, а глуп. Самозванцы хитрее его, отчего и растут, как грибы.
Протопоп удивленно взглянул на Минина.
– Самозванцы родом холопья, – продолжал Кузьма, – и лучше знают высокородных господ, нежели сами короли. Важному боярину самозванцы дают и кусок важный, зная – большой боярин ненасытнее младшего. А король осыпает милостями худородных людей вроде Андронова, уповая сделать из них верных себе панов. Он оттолкнул знатных бояр и князей, которые и прилепились ныне к Ляпунову против короля. Кто предан королю? Мишка Салтыков, купчишка Андронов, Масальский. А из-за них Жигимонд лишился союза с высокородным русским боярством. А ведь оно само к нему льстилось. Ошибся Жигимонд! Не туда целится. Ну, и слава богу!
Немного помолчав, он совсем повеселел:
– Спасибо ему!.. Своею королевскою глупостью он укрепит нас. Вельможи, оставшиеся ни туда, ни сюда, не погнушаются быть заодно и с земскими людьми. Ошибся лях.
Протопоп Савва, глубоко почитавший в душе всяких вельмож, сдержанно выслушал слова Кузьмы. Ему прискорбно было слышать от простого звания человека «о толиком унижении боярского чина». Однако, помня обещания Кузьмы в случае удачи земского дела ходатайствовать от всего посада об учреждении в Нижнем епископии с ним, Саввой, во главе, не осмелился противоречить ему. Наоборот, он с лукавой улыбкой поспешил сугодничать:
– Истинно речение евангельское: первые будут последними, последние первыми…
Кузьму трудно было провести. Он понимал лицемерие протопопа.
– Люблю я тебя, отец Савва, за твою справедливость… Не забудет тебя народ. Возвеличит он тебя, – приветливо улыбнулся он протопопу.
Тот смущенно погладил свою рыжую бороденку, стыдливо опустил глаза.
Дома Кузьма нашел жену в слезах. Тут же сидел и Нефед.
В чем дело?
– Вот ты бродишь там! Ко вдове повадился. А люди-то на посаде смерть на тебя накликают… Биркин будто бы бурлаков нанял, водкой поил. Берегись, Минич, погибнешь!
Нефед встал, поклонился отцу:
– Микитка юродивый сказывал – убьют тебя в первый Спас… когда из собора пойдешь… Слыхал он о том от бурлаков… Их подкупали – они отказались…
– Полно, Нефед, бабьи сказки слушать… Зачем искать беду, – сама отыщется. Скажи-ка лучше, брат: у пушкарей был?
– Был.
– Сумеешь ли теперь каленым ядром палить?
– Не знаю.
– То-то вот и есть, глуп ты у нас. Пойдем в сад. Покажу я тебе сабельный бой. Может, пригодится.
Нефед встал. Татьяна уцепилась за него:
– Не пущу, хоть убей, не пущу!
Минин нахмурился, поспешно оделся и ушел из дома.
Проходя быстрым шагом по Козьмодемьянской улице около соляных амбаров, Кузьма увидел спускавшегося с горы человека, который тихо напевал: «Уж как я ли, молода, одинока была…» Минин, присмотревшись к нему, узнал Гаврилку.
– Эй, кречет! Ты чего такой веселый?
Минин рад был этой встрече. Ему хотелось забыться от домашней ссоры, да и спросить кое о чем парня.
Гаврилка остановился на полгоре озадаченный. Избегая людей, спускался он тайком на берег к бурлакам, чтобы поиграть в зернь (в последнее время и у него завелись деньги), и вот… сам Минин тут как тут!
– Куда?
– Туда! – машинально махнул рукой Гаврилка, не глядя в глаза Кузьме. – На берег.
– Ну, хорошу ли хозяйку я тебе дал?
– Лучше не надо.
– Чего это ты распелся? Да какой красный!
– Сам себя не пойму, Минич, ей-богу, – весело мне. В бане сейчас мылся.
– Как служба-то у вдовы?
– Гоже. Работа нетрудная.
– Кто к ней ходит-то?
– Келарь из Печерского монастыря да протопоп Савва. Воевода дважды поклон присылал ей – не пошла. Человека какого-то я позавчера в саду поймал. Назвался слугой дьяка Семенова.
– Ну и что?
– Попомнит меня… Гляди, до самой смерти не забудет.
Подойдя к ватаге бурлаков, Минин присоединился к их пению: «Не шумите вы, буйные ветры, не качайте вы грушицу зелену!..» Голос у Кузьмы был сильный – лучшего запевалы и не найти. Бурлаки тесным кольцом окружили его. Дружное пенье понеслось над просторами Волги.
VII
Медовый Спас. Зеленый полумрак раннего августовского утра.
Стиснув под мышками завернутые в салфетки иконы, идут степенные нижегородские богомольцы к утренней службе в собор Преображения. Чинно, не спеша пробираются они около деревянных хибарок Большой Покровской улицы мимо пустых ларей и покосившихся часовен. Скользкими от росы капустными огородами, придерживаясь за ограды, проходят они к Дмитровским воротам.
Как всегда, бедный дворянин Ждан Болтин отвешивает низкий поклон посадским богатеям. Дом его мал, жалок, но зато под крылышком у кремля. Выждав, когда Болтин скроется за оградою, осторожно вылезают из своего жилища и его соседи, боярские дети Городецкие. Они в стародавней распре с Болтиным. Дики и подозрительны они, на людей косятся. Их предки, по слухам, занимали большое место при Василии Темном. Теперь они захудали и озлобились на весь мир. А вот и круглый, как шар, с длинной бородой знаменитый посадский шубник Митрофанка Алексеев – человек себе на уме, одет убого, а у самого денег – куры не клюют!
Да разве один он? – таких на посаде немало. За ним ковыляет ямской староста Семин. Они дали себе зарок – казаться бедняками. Вчера только на гостином дворе разговор шел: опять переоброчивать будут. Дьяк Юдин уж и списки готовит. Ползет и нищий – горбач Осташко Гурьев – погляди на него! Не успел вылезти из своей конуры, как уж и заскулил. Ему все можно, что с него взять? Ишь, каким христосиком притворился, а злее его никто не ругается на посаде. Вот подошел к избенке стрельца Гришки Тимофеева, постучал, будто к ровне, – друзьями стали. (Оба бегают к Кузьме Миничу в слободу.) «Ах, господи, господи!» Хмурые, задумчивые, идут почтенные посадские тузы под каменными сводами Дмитровской башни, вздыхают.
Подлинные, кондовые богомольцы – купцы и промышленники: судовщики, солоденники, меховщики, рыбники, башмачники, холщовники, красильники, мучники и прочие посадские воротилы.
Их уважают церковный причт, попы и протопопы, им первым подают просфору, кланяются им даже в облачении чуть ли не до самой земли; всем причтом ходят с поклонами по праздникам к ним в дом. Великая честь – быть накормленным и напоенным за одним столом с ними!
Придя в собор и поставив перед собой на полочку свою икону, почтенный богомолец зажигал свою свечу перед ней. Никто другой уже не смеет молиться на эту икону. Милосердие божие должно изливаться только на ее владельца. Да никто из именитых посадских людей и не захочет этого – на кой нужно! Своя есть!
На подобное беззаконие способны только нищие, бобыли да мирские захребетники. («И зачем только их в церковь пускают!»)
В этот Спас богомольцы усердно били лбами в каменный пол собора. Простого народа набилось в храм тоже видимо-невидимо… Даже из соляных амбаров внизу, с берега Оки, припожаловали арзамасские.
Давно ли то было? Так ли праздновали нижегородцы свои августовские Спасы?
Из рязанского края и иных приокских и украинских мест на подводах и судах в те поры подвозили хлеб и крупы, а из Москвы и Ярославля всякие железные изделия и немало даже иноземных.
Из Казани, и особенно из Астрахани, везли бухарские, персидские и индийские шелковые, златотканые и мухояровые ткани. Из Вятки, Перми и Сибири – дорогую пушнину, соболя, куницу. День и ночь кипела работа на волжской и окской набережных. День и ночь оглашалась Волга лязганьем цепей, криками, песнями. Словно громадные сытые лебеди, подходили к берегу нагруженные всякими сокровищами купецкие суда.
Ныне притих, опустел, затосковал преименитый Нижний Новеград. За одно это нижегородские торговые люди посылают каждодневно проклятие польскому королю и панам.
Трудно было сыскать на свете человека подвижнее нижегородца. Его суда проникали всюду по всем водам. А где плыть нельзя, там перетаскивали от одной реки до другой волоком. Не было преград нижегородцу в его торговых делах. Не его ли кони протоптали дороги через непроходимые муромские, ветлужские, керженские и вятские леса?
Богат и обилен был Нижегородский край. Пушнины, лесных изделий, рыбы, меда, воска, смолы на целое государство хватило бы.
Из четырехсот купецких лавок теперь половина на замке. Уж не увидишь в Нижнем ни аглицкого, ни персидского, ни индийского купца.
Не мало народа питалось на судоходстве плотничьими и кузнечными работами. Сколько было кожевенных и сапожных мастеров! Теперь все эти люди бродили без дела, ворчали, буянили на воеводском дворе, требуя хлеба. Черемисы и чуваши привозили свои товары: шкуру, лубье, битую птицу, мед – и опять увозили все это не проданным, ругая неизвестно кого. Страдала и церковная казна: не так-то охотно расставались с деньгой нижегородские богомольцы…
«Господи, господи! – молились со слезами большие и малые люди. – Скоро ли вернется к нам опять то времечко?»
В этот именно спасов день и пришли из Москвы нижегородские ходоки Родион Мосеев и Роман Пахомов.
Они устали так, что и рассказывать ничего не могли; только одно вылетело у них из уст:
– Москва погибает!
Савва прочитал с амвона воззвание патриарха Гермогена, принесенное гонцами из-под Москвы.
Плач и негодующие крики наполнили собор.
* * *
Бурная, тревожная ночь.
Обильная осенней водой Волга высоко вздымает бушующие волны.
Караульные пушкари в беспокойстве протирают глаза: чудится, кто-то барабанит в кремлевские стены. Заглядывают вниз. Ничего не видать! Гудит река.
В буйном шторме, в грозном рокоте волжских волн, в бледном сиянии соборных куполов и сизом блеске начищенных пушечных дул – во всем чувствуется преддверие важных, великих событий Воротники льнут к алебардам и бердышам, отгоняют от себя сон, зорко осматривают стены, напряженно прислушиваются ко всякому шуму, сжимая рукоятки сабель («дружиться дружись, а за саблю держись!») В Нижнем только и разговоров, что о страшных делах под Москвой и о будущем.
Кузьма всю эту ночь не сомкнул глаз. Ему представлялись бои, звон мечей, конский топот… Теперь уже не было никаких сомнений: надо подымать народ! Долгожданные гонцы из Москвы вернулись. Надеяться не на кого.
Гонцы всё рассказали о Москве. Впрочем, Минин и сам заранее догадывался о том. На столе у него лежали послание патриарха Гермогена, призывавшее к походу на поляков, и грамота о том же Троице-Сергиева монастыря.
Протопоп Савва – хотя и духовное лицо, но на одном из последних земских сходов прямо заявил: «Мне не токмо как слуге Христа, священнослужителю, но и как рабу земному грозит разорение, ибо враги могут отнять у меня два моих дома и две мои: лавки в Нижнем посаде, и мои пожни, и новочисти – луга и всякое иное. И останусь я наг!»
Торговые люди поняли эти слова протопопа и глубоко задумались над судьбой государства.
«По мнози дни» совещались в Земской избе нижегородцы, «како имуть творити», как вывести Русскую землю из тяжкого положения. Правда, не все одинаково пошли и теперь навстречу Минину: «юнии» готовы были на всякие жертвы, а «старейшие» нередко колебались. Оказались и такие, кои из собраний «ругающие отходяще». К таким принадлежали: Охлопков, Марков, ямской староста Семин и их единомышленники. Они все еще настойчиво упирались, жадничали, не хотели идти на жертвы.
Протопоп Савва и архимандрит Печерского монастыря Феодосий, по уговору с Мининым, после каждой службы в храме твердили богомольцам о гибели, грозящей Москве, вдалбливая в тугие головы скряг «повеление преподобного Сергия» (будто бы явившегося во сне Минину) не жалеть денег на освобождение Москвы.
Никаких увещеваний не нужно было разоренцам, крестьянам, беглым мужикам, бобылям, казакам, мелким посадским и безземельным дворянам. Они сами шли к Минину, прося его ускорить поход.
Князь Звенигородский понял, что мешать нижегородцам опасно.
Он сделал вид, что ничего не замечает.
В Воеводской избе было очень много разговоров о ненадежности казаков. К этим разговорам Минин относился недоверчиво.
Он при воеводе спросил Мосеева и Пахомова: принимали ли в трехдневном посту под Москвой участие казаки?
Пахомов ответил:
– Некоторые из них даже вовсе не брали пищи все три дня…
– Спасибо тебе! – обрадовался Минин, – Сам того не знаешь, какую тайну нам открыл. По вся дни мы слышим, что стоящие под стенами Москвы казаки холодны и нерадивы к земскому делу. Их зовут ворами. Но чего же ради молятся они и постятся, коли о воровстве одном помышляют?! Как же это так, Василий Андреич?! – обратился Минин к воеводе. – Нет ли в этой хуле на казачество какого-либо воровского промысла?! Не для того ли хула, дабы разъединить нас?
Воевода смутился. Тогда сказал свое слово и Мосеев, как всегда увесисто, грубовато:
– О чем спорить?! Встречали мы не мало казаков – и украинских, и донских, и запорожцев. Не о воровстве их дума, а о достойной жизни. Кто разбойничает, то ради куска хлеба. Казакам жалованья не платят. Доставай себе кошт сам. Отнимай у других и тем живи! Земские люди и казаки в междоусобице – по боярскому и панскому наущению. Сам я видел, как казаки плакали о Ляпунове и молились о прощении им тяжких их преступлений…
Звенигородский промолчал.
VIII
В это утро на Нижнем посаде не открывали, как всегда, амбаров, лубяных шалашей и ларей. Небывалая в торговых местах тишина охватила ближние к Ивановской башне торговые ряды и Гостиный двор. Спозаранку начал собираться народ, располагаясь на бревнах, на опрокинутых челнах, на лотках и каменных плитах: кто у Земской избы, кто у церкви Николая, кто у таможни. На зеленом бугре под кремлевской стеной и то оказались люди. Примостившись на крутом склоне, они весело поглядывали сверху на площадь, куда приходили все новые и новые кучки людей.
Погода теплая, ясная, хотя и конец сентября.
По Ивановскому крепостному мосту через ров подошли смоленские стрелки с Гаврилкой Ортемьевым во главе. Остановились у острога, близ его новенькой башни, рубленной из свежего леса. Башня с верхним и нижним огненным боем. Гаврилка весело кивнул пушкарю Антипке, выглядывавшему из бойничных оконниц: «Видишь?» – «Вижу, давно бы так!» Здесь же стали люди с мыльных варниц, ямщики, рыбачьи ватаги. На широком дубу, что у подошвы кремлевского бугра, примостились мальчишки. Перекликаются, кидая друг в друга желудями.
Пахнет яблоками из ларей, сеном из ямских сараев, свежесрезанной капустой, наваленной целыми горами на набережной, а то дунет ветерок, и вдруг потянет запахом рыбы с берега, где на рогатинах растянуты нескончаемые сети.
Гаврилка увидел в толпе многих нижегородских друзей. Тут был и безусый хлебник Матюшка, и толстяк, площадной подьячий Тимофеев, и стрелец, он же калачник расторопный Ивашко Петров, и угрюмый Захар-кожевник со своим другом Любимкой-сапожником. С крыши Таможенной избы манили его к себе весельчак кузнец Яичное Ухо, судовой кормщик Давыдка, только вчера приплывший из Казани. Толпа быстро увеличивалась. Тут были и плотники, и солоденники, и масленники, и серебряники, и коновалы, и чулошники, и пирожники, и всякие иные тяглые люди.
Немало было и посадских торговых тузов и служилого люда из городовых дворян. Позднее робко присоединились к сходу многие монахи и попы.
Накануне посланные Мининым люди обежали посадские тяглые, служилые, поповские, помещичьи и монастырские дворы, извещая о приходе из Москвы гонцов Мосеева и Пахомова и о предстоящем великом собрании у Земской избы, на котором речь держать будет «сам Кузьма Минич».
Нижегородцы с большим оживлением встретили это известие.
В последние дни город только и жил, что мыслями о Москве.
Первыми с помоста держали речь гонцы, отдохнувшие после дороги: Родион Мосеев и Роман Пахомов. Они рассказали обо всем, что видели и слышали в Москве: и о гибели Ляпунова, и о попытках вора Заруцкого провозгласить царем «маринкиного щенка».
– Паны ликуют… – сказал Пахомов. – Король лжет, будто мыслит он не о завоевании и разорении Московского государства, но единственно, как добрый и сострадательный сосед, о подавлении у нас внутренних смут, будто воюет он ради защиты православия и порядка… Но мы видели своими очами, как «защитники православия» разоряют и жгут наши храмы, а в иконы стреляют из мушкетов. Мы видели, как перед очами родителей жгли детей, носили головы их на саблях и копьях, грудных младенцев вырывали из рук матерей и разбивали о камни. Земля наша стала пустынею… Никогда так плохо не было у нас. Жители городов и сел кроются в дремучих лесах, оставляя дома свои… Враги со стаями собак охотятся за ними, будто за зверем… Всякие работы остановились… Женщины, избегая насильничества, предают себя и детей своих смерти… Вот, братья, какой порядок в нашей земле установили злодеи-паны!
При глубоком молчании народа на помост поднялся протопоп Савва. Он долго крестился на церковь Николая.
– Православные христиане! – начал он плачущим голосом, воздев руки вверх. – Горе нам! Пришли дни нашей конечной гибели. Королевские люди в нечестивом совете своем умыслили обратить истинную веру христову в латинскую многопрелестную ересь… Ради грехов наших господь позволил врагам так возноситься…
Протопоп с укоризной в голосе говорил о каких-то великих прегрешениях русского народа, о том, что бог наказал русский народ за малое усердие в богомолье. Савва призывал всех стать на защиту православной веры, во всем слушая священнослужителей.
В это время верхом из Ивановских ворот выехали воеводы – князь Звенигородский, Алябьев, Биркин и дьяк Семенов, окруженные стрельцами.
Толпа пропустила их к помосту.
Но вот на площади началось движение. Раздались голоса: «Минин! Минин!»
Гаврилка увидел над толпой дородного, широкоплечего Кузьму в железной стрелецкой шапке. Он спешно взбирался по лестнице на помост.
С улыбкой, погладив бороду, оглядев собравшихся, выпрямился. Солнечный луч осветил его высокую, крепкую фигуру. В темно-зеленом кафтане, подпоясанный красным кушаком, он властным жестом прекратил шум. Снял шапку и поклонился на все четыре стороны.
В наступившей тишине прозвучал его мощный голос:
– Граждане нижегородские! Слушал и я тут гонцов и скажу: настало время нам, последним людям – посадским, крестьянам, сиротам и богомольцам, – поднять знамя яростной брани! Нам после людей родовитых суждено помериться силой с кичливыми иноземными меченосцами… И вы, нижегородские люди великого и среднего рода, не будьте глухи! Слушайте! Не всегда силен нападающий. Зверь, предвидя гибель, с диким бесстрашием скачет на сильнейшего… и ускоряет свою гибель. Жигимонд, поглотивший враждебную ему Литву и набежавший на нас, подобен испуганному зверю… Лишились рассудка паны, посчитав матушку Русь безответной… Нам ли вздыхать над могилами? Не быть по-ихнему!
Толпа взволновалась, послышались крики: «Не быть! Не быть!»
Минин, подавшись вперед, продолжал:
– Вот я перед вами… такой же мужик, тяглец я, как и вы!.. Но не сробел бы я не токмо перед Жигимондом, но и перед самим царем Соломоном. Сказал бы просто: «Жигимонд, уймись! Пожалей своих подданных, не губи! Земля наша сильна пахотой и бороньбой, но также сильна она и обороной. Многие лета бывало у нас на Руси, что меняли мы соху на меч и от того сила народная возрастала!» Так ли говорю я?!
Сочувственные отклики со всех сторон были ему ответом. Несколько голосов на всю площадь закричало: «Справедливо!»
– Увы, братья! – продолжал Минин. – Нашлись на Руси из первых людей, знатные, родовитые, кои, властию прельстившись, продались королю. Стали под его хоругви! Великую мать Россию они хотят подложить под королевские пятки. По их наущению паны огнем истребили Москву. Но, братья, Москву спалили они от слабости!.. Бессердечие их страху подобно. Русь будет Русью, а изменники-бояре – шаткою основой для вражеской державы! Предатели охрабрили врага, но явится час, познает король, что напрасно понадеялся он на измену. Никто не может открыть панам нашей силы. Она у нас здесь!.. – Минин распахнул кафтан, взволнованно ударив себя рукой по груди: – Вот тут у нас… вот тут! Никто не знает нашей силы… Никто! Да и сами мы ее еще плохо знаем… Ошибутся враги!
Заклокотала площадь. Послышались рыдания, негодующие возгласы.
Строгим взглядом обвел Кузьма толпу. Его голос зазвучал с нарастающим гневом:
– Не он ли, злоехидный Жигимонд, тщился покорить Смоленск в один месяц?! Изменники выдали тайну крепости, обнадежив короля. Смоленск простоял вместо одного – двадцать два месяца… Король не мог взять крепости. И взял, когда уже некому стало защищать ее. Не так ли случилось?! А наша матушка Русь сильнее тысячи таких крепостей! Крест целую вселюдскому нашему собору, всем вам, братья крови: стоит нам похотеть, и мы прибывших в Москву ворогов-иноземцев дружно выметем из нашего дома. Пойдем стеной на врага!.. Забвению предадим междоусобные распри! Царствующий град Москву мы никогда не видели, но он наш… Мы крепко храним его в сердце своем! Москва – всему голова!.. За нее хоть в огонь!
Рыдания становились все громче и громче, блеснули в воздухе сабли, секиры.
– Враги пытаются поссорить нас с Украиной, – продолжал Минин. – Они мутили казачество против нас. Они стращали украйные города москвитянами… Но к нам в Нижний прибыли казачьи сотни с братским поклоном. Они поведали нам, что под Москвою в казачьих таборах идут великие расстрои. Паны натравливают их на московских земских людей, но, как ни велики междоусобия, на сторону панов переходов нет. Нам обещают помощь и другие города… Сойдемся же все мы в единую рать, великую, многонародную, посрамим силою зазнавшихся панов!
– Что же нам делать? – послышались голоса.
– Захотим помочь Московскому государству, так не пожалеть нам имения своего! Не жалеть ничего! Дворы продавать, всё отдать! А денег не станет, – воскликнул на всю площадь Минин, – заложим жен своих и детей[42], а ратным людям будем давать, чтобы ратным людям скудости ни в чем не было! В поход двинемся весной. Воспрянем же духом, братья! Благословенна наша твердыня! Чинить расправу будем безо всякого милосердия! Жизнь свою положим, но оправдаем высокий сан защитников родины! Никаких врагов не убоимся! Измены яд уничтожим! В мире – добрые, в войне – мужественные! Меч опустим, когда ни одного врага не останется на нашей земле. Лучше смерть, нежели иноземное иго!
Словно скала рушилась, раздались крики одобрения. Все, кто был на площади, все до единого стремились сказать Минину, что они готовы идти на врага. Тысячи рук простерлись к Кузьме. Народ повалил к помосту, оттеснив к церковной ограде воеводу с его охраной. На помост вскочил судовой кормщик Давыдка и обнял Кузьму.
– Пусти, – сказал Минин. – Дело не сделано… – и снова обратился к народу. – Вот мое богатство!.. Всё, что имею, всё отдаю в походную казну… Давайте и вы!
Минин бросил на стол сверток с деньгами и драгоценностями. Нефед влез на помост с большим узлом на спине. Положил его на стол, развязал. В узле оказались бобровые меха.
В это время старый житничный ключник Федор Ресницын, став рядом с Мининым, воскликнул;
– Видели, братья?! Что нам в нашем богатстве?! Что нам в довольстве?! Поганым зависть! И если придут в наш город и возьмут его, не так ли сотворят и с нами, как и с прочими городами?! И нашему городу устоять ли? Кузьма! Народ с тобой!.. Кузьма!.. Кузьма!..
Старик снял с себя крест и отдал его Минину. «Возьми!» Минин обнял деда. Седая голова Ресницына легла ему на плечо. Он плакал.
На помосте появилась в темно-малиновой ферязи и в парчовой кике Марфа Борисовна. Она сняла с себя богатое ожерелье и шитую серебром сумку и сказала:
– Кто из нас не обливается слезами?! Кто не подавлен великою скорбию?! Кто холодно внемлет Кузьме Миничу?! Осталась я после мужа бездетна. Есть у меня двенадцать тысяч рублей. Десять тысяч придите и возьмите у меня в сбор, две оставлю себе.
Она спокойно положила на стол ожерелье, поклонилась народу и сошла с помоста.
Минин, увидев в толпе Гаврилку, поманил его. Он приказал принести ящик и позвать дьяка Юдина да двух стрельцов с бердышами.
Пожертвования обильной чередой посыпались со всех сторон На кремлевском бугре загудели соборные колокола. Минин поставил стражу около стола. Велел зорко следить за целостью казны, а Мосеева и Пахомова назначил счетчиками собранного.
После этого старик Ресницын обратился к народу с вопросом, кому быть хранителем пожертвований. «Кузьме! Кузьме!» – загудела толпа. Минин поклонился:
– Возьмем счастье своими руками. Пускай кликуши воют на паперти и предрекают скорую кончину мира. Во всякой суете разум укажет путь. Мы должны найти храброго вождя, честного воеводу.
Князь Звенигородский, Алябьев и его сосед Биркин привстали на стременах, вытянули лица, вслушиваясь в слова Минина.
Он спокойно смотрел в их сторону и сказал медленно, как бы вспоминая:
– Есть такой человек. Я его знаю. Ратное дело ему заобычно и в измене он не явился. Крепкий, стойкий воин! А нам надобны прямые воеводы. Изменившему воеводе не быть честным человеком.
Народ зашумел. Послышались крики: «Назови! Назови!»
– Я говорю о бывшем зарайском воеводе, князе Дмитрии Михайловиче Пожарском. Народ его любит. Тираном он никогда не бывал. Кровь свою проливал, отстаивая Москву, и не ради награды. Безо всякой корысти он шел на брань… «Пускай наши имена забудутся, – говорил он, – но останется жива родина!» Таков воевода Пожарский… Решайте! Ваша воля!
Эта смелая речь Минина о воеводах и общее громовое восклицание: «Согласны!» – показались князю Звенигородскому почти мятежом. Он нагнулся, шепнул что-то Алябьеву, тот крикнул стрельцам, чтобы очистили дорогу. Мелкой рысью направили воеводы коней к Ивановским воротам.
Дорогой князь выражал удивление. Есть люди выше Пожарского, родовитее. Он же – худородный стольник, мелкий чин. Пожарские – люди не разрядные, больших должностей никогда не занимали; кроме городничих и губных старост, нигде ранее не бывали. Воевода с раздражением в голосе говорил, что его род, князей Звенигородских, куда стариннее и почетнее.
– Не по роду возвеличивает его Кузька… Меры не знает, – поддакивал ему Биркин.
С берега доносился рев толпы, пугая воевод. Что делать?! С народом идти заодно – значит терять своих покровителей, польских вельмож, против – невозможно, убьют. Остается лицемерить, подделываться.
IX
Лениво занималась заря.
У Земской избы всю ночь горели костры, толпился народ.
На днях был новый земский сход. На этом сходе Минин потребовал, чтобы каждый нижегородец давал в ополченскую казну одну треть своего имущества. Немало было споров. Решили взыскивать с каждого дома по одной пятой, а Минину дали наказ: «…страх на ленивых налагать, продавать дворы нерадивых».
Теперь он сидел за столом в Земской избе, опустив отяжелевшую голову на руки, и следил исподлобья за подсчетом приносимого в избу добра. Дьяк Юдин без устали скрипел пером. Несколько женщин осторожно разбирали описанное: ризы, золотые серьги, ожерелья, пуговицы от кафтанов, золотые и серебряные монеты, кованые ларцы, нательные кресты, братины и многое другое.
На воле около Земской избы Гаврилка подбадривал дрожавших от голода своих земляков, таких же, как и он, мирских разоренцев и бобылей. Еще днем их вооружили на воеводином дворе пищалями и бердышами. В сермягах, в вывороченных мехом наружу полушубках, в портах из войлочного сукна, в треухах и бараньих шапках, они робко поглядывали кругом, слушая Гаврилку. А он, заломив шлем на затылок, расхрабрился, кричал полным голосом:
– Гей, вы, соколы! Шилды, балды, закоулды – по-поляцки да по-немецки, а по-нашему «кровопивца и злодея, со двора тебя сгоню». Малая птичка воробей, да и та клюется, а мы и вовсе…
Он выхватил из ножен громадную саблю. Ребята попятились. Сталь блеснула весело. Гаврилка с видимым удовольствием любовался ею.
– Стоять будете у рогаток на Муромском выезде и в иных местах. Никого никуда! Прибывающих – в Земскую избу. Воевода вздумает бежать, и его не пускайте. Замышляют иные уйти из Нижнего… Берегитесь передатчиков! Бежать будут – бейте их, а в поле – ни-ни!
Гаврилка проверил стрельбу из пищалей:
– Слушайте, ребята-молодцы!
– Фурни пять на лопасть![43]
– Виль бухальцем на сторону![44]
– Торни к ноге дюже![45]
– Широким кверху: положь на плечо могучё!
– Сними с могуча плеча!
– Повернись боком!
– Открой пальцем корытцо!
– Ударь по лопатице!
– Взводи кочетки!
– Щелкни вдруг!
– Пяться назад!
– Виль вперед!
Эхо гулко повторяло команду Гаврилки, замирая в оврагах Парень бегал вокруг смолян, волновался, поправлял их, толкая под локти, ворчал, озабоченно посматривал в сторону Земского двора. Там его дожидались другие: балахнинские бобыли.
А завтра подойдут чуваши из Чебоксар. Народ валом валит в Нижний со всех сел и починков. В глухих лесах тоже зашевелились. Не так давно осаждавшая Нижний, по наущению самозванца, мордва известила, что и она пристает к ополчению. Мордовские старосты просили прощенья, каялись в своей ошибке. «Тогда лишь мы будем сыты, – говорили они, – коль будем с вами заодно».
В то время, когда Гаврилка, рассердившись на непонятливость одного из своих ратников, стал кричать: «Башка белужья! Сбитень!», из Земской избы вышел Минин. Высокий, в коротком бараньем кафтане, в сапогах из бычьей кожи.
– Буде! Устали, поди? – приветливо крикнул он. – Такое дело, братцы! Все препояшемся на брань! По засекам, по дорогам и стежкам – охрану держите крепкую. А буде у застав воинские люди объявятся, бейте тревогу, подымайте посад! На вас надежда! А теперь подите в избу! Возьмите хлеба с собой на засеки. Ортемьев, снаряди их!..
Перегоняя один другого, побежали смоляне в Земскую избу. К костру подошел стрелецкий десятник.
– Кузьма Минич! Воевода не пускает нас обучать земских людей.
– Многое гибнет в борьбе родоначалия и честолюбием разрушается… Бей вторично князю челом: Минин просит отпустить стрельцов!..
Стрелецкий десятник подался назад, пораженный властным, суровым голосом Кузьмы.
Минин сел на бревно у костра, а стрелец побежал в кремль. Вчера только нижегородские городовые дворяне и купцы слезно клялись перед крестом и евангелием идти со всем народом заодно, сегодня некоторые уже начали колебаться, замкнулись в своих теремах и в Земскую избу не показываются. И кто же первый? Сам нижегородский воевода. Вчера богу молился якобы о спасении Москвы, сегодня не пускает стрельцов помогать ополчению, преградил дорогу в город крестьянам-беглецам из барских вотчин, велит возвращать их обратно вотчинникам. Не зря князь чин окольничьего от короля получил, не зря приходится родственником Михайле Салтыкову!
Пожарский тоже не едет. Были у него нижегородские ходоки Мосеев и Пахомов, приговор народа передали, а он отказывается. Звенигородский и Иван Биркин радуются этому. Надеются, что их изберут.
Ночь уходит, бледнеют края небосвода. В предрассветной тишине – скрип полозьев и крики возниц… Минин поднялся, вглядываясь в темноту. Прислушался. По съезду двигалась толпа. Раздавался женский плач, причитания юродивого. Везли колокол, снятый в Печерах с согласия архимандрита Феодосия, колокол уже треснутый, негодный для службы.
– Гляди! Гляди! – подскочил к Минину с кулаком неизвестный чернец. – Так-то ты спасаешь веру?!
– Чего ради непорочное ввергаешь в бесчестие! – вопила кликуша. – Горе нам! Горе!
– О грехе помысли, Косма! – подняв сучковатую клюку, кричал полуобнаженный юродивый. – Господь бог разгневается на нас!..
Минин оттолкнул его, поспешив к коням, которые выбивались из сил, таща колокол в санях по окаменелой от холода глине.
– Ну-ка, православные, сюда!.. – Кузьма уперся обеими руками в колокол.
Несколько парней подошли к саням, навалились сообща на колокол.
– Ой, Косма, Косма!.. Не к добру твоя прыткость! – вздыхал около Минина седой старик, помогавший сталкивать сани. – Не того мы ждали, не того…
– Дядя Исай, и ты? Чего боишься?! – сказал Минин. – Не первые мы. Вспомни царя Василия, Иоанна, Бориса!.. И они снимали колокола. Цари не видели в том зла. Держись своего! Не сворачивай!..
– Своего?! – горько усмехнулся старик, – У кого ныне «свое»? Отнимаете свое-то… О владычица, прогневалась ты на нас!.. Дождались…
Причитывая, старик с силой упирался, как и другие, в колокол. Бронза[46] жгла стужей. Коленки бились о санную раму. Ноги цеплялись за обледенелые камни и бугры. Было тяжело, а он шел, напирал на колокол, как и другие.
– Не слушай слабых! Разум делай хозяином своим, – сказал Минин.
Старик умолк, ошеломленный властными речами Минина. Мог ли кто думать, что Минин будет таким?!
Колокол подвезли к литейным ямам близ Благовещенской слободы на набережной. В земляных стенах ям, вырытых по приказу Минина, на прошлой неделе было выложено из камня пятнадцать печей, прочных, связанных железом, снаружи и внутри. Они были тщательно вымазаны салом. Печи плотно прикрывались поднимавшимися и опускавшимися железными дверцами.
На дне ям громоздились кучи мели, куски ранее привезенных битых в пожар колоколов.
Рожком, висевшим на груди, созвал Минин своих помощников, вологодских литцов и котельников. Приволокли бревна, доски и толстые мочальные канаты. Спустили блоки с четырех громадных столбов, связанных между собой бревенчатыми перекладинами. Дружно принялись сваливать колокол в яму. Минин влез на высокий бревенчатый помост, следя за работой. Большого труда стоило народу столкнуть колокол в яму и разбить его. Дробильщики были дюжие ребята, несмотря на холод работавшие без шапок в одних рубашках.
Минин велел разогнать плетью кликуш и юродивых. Собрали всех кузнецов.
Начался совет в пушкарской избе. Пришли и мастера устюжского литья, прославившиеся своими колоколами и крепостными орудиями. Дюжие ребята с подстриженными затылками, с закопченными веселыми лицами и черными от работы руками. Минин усадил их на самое почетное место, под образами. Устюжские литцы и котельники начали высмеивать обычай воевод брать с собой в поход пушки из попутных крепостей. «Можно ли, – говорили они, – ходящему полку возить с собой крепостную пушку, да еще на посошных (обывательских) подводах?!» Не лучше ли отливать «легкий наряд» и брать зелье и всякие пушечные запасы и пушкарей с места, оснастив войско заблаговременно, воеводе «по мысли». Каждому коню в походе «мочно взять» не более пятнадцати пудов, а крепостные орудия «сидячие», тяжелые, да и притом же не пригодные к легкому полевому бою, а народу-прислуги при них требуется много.
Минин внимательно выслушал устюжан:
– Три десятка верст и более должны мы ходить в день, – сказал он. – Добрый совет дороже денег. Кто не посмеется вместе с братьями-устюжанами над древним обычаем государева войска побираться огнем у мимостояших крепостей?!
Сам я испытал то… Поход наш будет велик, скор и многотруден. Крепостей в дороге у нас малое число – и те давно обобраны. Легкость «наряда» – половина успеха. Сокол с лету хватает, а ворона и сидячего не поймает. Наши полки должны быть подобны соколиной стае, сшибать врага на ходу…
Бывшие в избе стрелецкие военачальники одобрительно поддакнули Минину, только один из них, Ивашко Лаврентьев, сказал:
– Не худо бы оное решить с нашим воеводою…
Минин возразил хмуро:
– По-твоему, хоть воевода и не стоит лыка, а ставь его за велико! Знай! Не быть ни Василию Андреевичу, ни Андрею Семеновичу нашими воеводами. Надо бить челом князю Пожарскому… Вельможа он хотя и худородный, но прямой.
Он не ищет у панов защиты от своих же людей… Твой воевода задерживает беглых холопов и мужиков. Он – слуга королевича, ибо присягнул ему, а Пожарский не присягал ни ему и ни его отцу-королю. Он и будет нашим воеводой. Земское наше дело разошлось с воеводой. Разве ты того не знаешь?!
Кузнец Митька Лебедь стукнул кулаком по столу:
– Да чего говорить-то?! Крест целовали Кузьму слушать?!
– Целовали.
– Стало быть, воеводой будет Пожарский…
Все молча с ним согласились: какие теперь разговоры? Балахнинский бобыль Степанко Данилов, очнувшись от своих мыслей, разгорячился:
– Бегут мужики – опустошили, объярмили их воеводы да дворяне… Самим им жрать нечего… Чего же им держаться за нас?! Бредут крестьяне из вотчин от бедности. Кормиться немочно…
Минин усмехнулся, пожав плечами:
– Смешные люди! Голодный раб может ли прельщать разумного властителя?
Затем он поднялся. Сердито посмотрел на стрелецкого военачальника Ивашку Лаврентьева, ратовавшего за князя Звенигородского, и, отвернувшись от него, сказал:
– О литье будем судить у меня в Земской избе. Не все должны знать наши мысли… Ель – не сосна: шумит не спроста. Неприятель всегда и везде с нами: на носу, на плечах, на пятках – везде он!.. Ямы оберегайте пуще своего глаза, стражу с пищалью поставьте.
Низко всем поклонившись, в сопровождении вологодских и устюжских мастеров Минин пошел по прибрежной к Козьмодемьянской улице.
* * *
Вечером при свете факелов и раскаленных печей началась работа. Люди дружно поднимали куски бронзы, клали на весы, а потом скатывали их и сваливали в огонь. Печи плотно закрывали, замазывали глиной и раздували в них сильнейшее пламя.
– Три дня держи огонь! – командовал Минин. – Пускай бронза и медь станут начисто жидкими… Эй, ребята, карауль меха!..
Швед весело кивал головой, улавливая по догадке смысл слов Кузьмы.
Литцы и котельники, просунув через отверстия в дверцах длинные железные прутья, ворочали куски металла в печи. В ямах стало так жарко, что литцы поснимали с себя рубашки, работали по пояс голыми. Раскаленные железные прутья они выхватывали из печи и совали в землю.
Треск огня, шипенье металла, крики рабочих оживили скованное осенней тишиной Поволжье. Вокруг литейных ям расползся едкий запах гари.
Минин любовался ловкою работою устюжан и вологжан, бросая изредка озабоченные взгляды на каменные желоба, пристроенные к печам, по которым через три дня потечет расплавленная масса. Минин еще и еще раз осмотрел формы, приготовленные из трех слоев глины и проволоки. После длительного обжигания они стали твердокаменными, способными выдержать любое литье. Устюжскому старшине-мастеру показалось и этого мало: он велел формы пушек сковать еще железными обручами; опять начали обмазывать их смесью из сала и воска, примешивая для твердости толченого угля. Кузьма внимательно следил за работой пушечных мастеров, то и дело обращаясь с улыбкой к кузнецу, пленному шведу: «Гляди, гляди, что делают!» Тот растерянно улыбался, не понимая восклицаний Кузьмы.
Старший устюжанин весело подмигнул:
– Они знают!.. Щелкали их новгородцы нашим-то нарядом… Немец немой, а тоже знает, где у него чешется. Как и мы.
Кузнец Митька Лебедь с насмешливой улыбкой добавил:
– Били их мало… Опять, слышь, полезли к нам?!
Минин сразу стал серьезным.
– Королевича своего суют нам шведы в цари, – сказал он тихо.
– Ишь ты!
– Завистника сколь ни бей, все одно будет лезть.
Швед смущенно улыбался.
Блоки не переставали скрипеть, на весы вталкивали все новые и новые куски бронзы и меди…
Над литейными ямами повисло густое красное зарево, пугавшее обывателей…
Кузьма Минин кликнул смоленских стрелков. Явились Осип и Олешка с товарищами.
– Зрите в оба! Никого не пускайте через свое кольцо…
Едва передвигая ноги от усталости, он стал взбираться в гору, к себе домой.
X
Зима наступила прежде времени. В конце октября поднялась снежная буря.
Намело целые горы снега. Утонули в них кустарники, изгороди, надворные постройки.
Теперь улеглось. Тучи рассеялись.
Блеснуло солнце.
В теплом мухояровом охабне, сгорбившись и прихрамывая, с посохом в руке, Пожарский вышел за околицу. Идти по сугробам больному, с простреленной ногой, трудно, но и дома сидеть невмоготу.
Снежная белизна залепила глаза.
Пожарский, устало улыбнувшись, снял шапку, провел ладонью по своей курчавой голове. Сел на ствол ели, поваленной бурею, и задумался. Во время болезни многое в самом себе осудил он. Что честь княжеская? Что гордыня вельмож?! От царей и то, кроме шапки Мономаха, ничего не осталось. Да и та… убереглась ли от рук панов? Кто ныне истинно богат? Тот, кто не желает ничего. Кто знатен? Тот, кто не щадит жизни ради государства… Кто самый несчастный? Тот, кто отвергнут родиной. Можно ли назвать счастливыми Федьку Андронова и Салтыкова?
– Достохвальный милостивец наш, отец родной, добрый боярин Митрий Михайлыч! – вдруг раздался голос за спиной Пожарского.
Оглянулся.
На коленях, в снегу, старик Елизарьев и жена его Аксинья.
– Вы чего? Вставайте! – поморщился Пожарский.
– Сынок-то помер… Утеснения в животе не стерпел… Маслица бы теперя нам… Икону нечем озарить…
Пожарский с грустью покачал головой.
– Поп Иван, бог с ним, истинной вере изменил… Сами уж похороним… Беглый инок отпоет, положа упование…
– Поп Иван?!
– Точно, батюшка! За королевича перед господним престолом позавчера молился!
Мужик плюнул, плюнула и женщина.
Пожарский, поморщившись от боли, поднялся и, опираясь на посох, заторопился в дом.
– Обождите… – промолвил он тихо.
В горнице он поспешно вылил из лампад все последнее масло в маленький глиняный кувшин и отдал его женщине. Божница погрузилась во мрак. Кланяясь и славословя князя, мужик и женщина вышли из дому.
Опять заныла рана в ноге. Пожарский снял охабень и прилег на постель. Печальными глазами стал вглядываться в широкую голомань[47] своего боевого меча на стене.
Не этим ли мечом разил он врагов под Зарайском, не желая присягать тушинскому вору? Не этот ли меч был свидетелем того, с каким презрением он отверг предложение Ляпунова перейти к тушинскому вору? «В вас сокрыт не общий земский интерес, а токмо личные своекорыстные и честолюбивые замыслы», – сказал князь Ляпунову. Зарайск не изменил… Но… бояре сделали свое.
Вздрагивая и поминутно открывая глаза, Пожарский задремал.
Старушка-мать перекрестила его, приговаривая:
– Недужный ты, сынок… Куда уж тебе бродить! Ложи-кась, а я тебя святой водицей покроплю.
* * *
Туманное серое утро. По берегу Волги тянутся три крытых кожею возка. Их сопровождают несколько вооруженных всадников. Одеты неказисто, пестро. То и дело останавливаются, ожидая возок, а сами тем временем зорко оглядывают окрестности. Наказ дан – беречь возки пуще своей жизни. Везде рыскают ляхи.
В возках нижегородские послы: безместный дворянин Ждан Петрович Болтин, игумен Печерского монастыря Феодосий и «изо всех чинов всякие лучшие люди».
Думушка у всех тяжелая. Нелегко быть зачинщиками такого опасного дела. Сила противника велика. А вдруг нагрянет он в Нижний, посадит на кол Минина и всех его друзей как бунтовщиков!.. Посольство ведь тоже снарядил он, Кузьма. Болтина – человека доброго и умного – выбрали послом по его же совету. Феодосия уговорил ехать в Мугреево тоже Минин.
Воеводы и многие дворяне вознегодовали на Феодосия, обзывают его всяко, чуть ли не богоотступником. Легко ли им, воеводам, видеть такой позор?! В одном возке и дворянин, и игумен, и посадские тяглецы, тут же боярские холопы и беглые крестьяне!
Сумбур большой царил в последние дни в Нижнем. Ненадежные люди подняли головы, вступили в борьбу с Кузьмой. Пока трудно сказать, чем кончится эта борьба. Главное, надо как можно скорее уговорить Пожарского. Ополчение без воеводы – то же, что стадо без пастуха. Но захочет ли он наживать себе врагов среди воевод и дворян, пойдет ли заодно с простыми людьми и согласится ли подвергать свою жизнь опасностям будущей страшной войны? Князья и бояре привыкли получать власть и грамоты из рук царей, а тут ему власть вручают мелкие люди, а главный из них – говядарь, простой посадский человек. Не сочтет ли князь оскорбительным для себя получить власть от «подлых людей»?
Да и больной он, израненный. Может быть, и посольство-то зря к нему нарядили?!
Игумен Феодосий втайне начал уже было раскаиваться: зачем поехал. Однако, вспомнив, что царь Василий Шуйский – покровитель Печерского монастыря, бывший собственник Нижнего Новеграда, давший тарханную грамоту монастырю, – может быть посажен опять на престол, игумен Феодосий решил не отступаться от начатого. Что будет, то будет! «Я уже старый, все одно помирать!»
Посадские, холопы и крестьяне беспокойно вздыхали: «А ну-ка, и этот такой же, как и другие! Вот вчера один мужик не стерпел, прямо в глаза сказал своему барину: «Мы-де и в аду будем вам служить, вы будете в котле кипеть, а мы дрова подкладывать». Но нет! Князь Пожарский не таков. Недаром на него бояре жаловались Лжедимитрию, что «он с мужиками слаб».
* * *
В суздальской вотчине, в Мугрееве, случилось удивительное событие: князь послал людей на село за попом Иваном, чтобы они привели его, хотел допросить, как смеет он поминать на молитве в церкви польского королевича, а поп сбежал неизвестно куда. Конные и пешие гонцы по приказу хозяина искали попа всюду, а он словно в землю зарылся. Когда гонцы, рассказав об этом Пожарскому, уходили из его дома, им бросились в глаза спускавшиеся с нагорья три возка, а вокруг них вооруженные всадники. Что за люди? Уж не польские ли паны? Известно, что разъезжают они по Русской земле, как у себя дома. Уж не казаки ли вора Заруцкого? Не побежать ли да не поднять ли село? Нет! Лучше дождаться!
Кони остановились у ворот. Приезжие начали выходить из возков. Мужики опустились на колени, но, услышав над собой голоса: «Вставайте, добрые люди! Указывайте, где Пожарский», приободрились.
Наумку Григорьева, ландиховского парня, дернул за рукав полушубка какой-то рыжебородый дядя в лаптях, вылезший из одного возка, и тихо, на ухо, спросил: «Что князюшко-то? Приветлив ли, не лют?» Наумка весело подмигнул:
– Увидишь – отец родной.
– То-то! Сам знаешь: кинь в собаку палицей – в злого барина попадешь… Паутина! – и вздохнул.
Нижегородские гости справились о здоровье князя и пошли к дому Пожарского. У всех была одна мысль: «Согласится ли?» Отправляя послов, Кузьма наказывал: «Не отступайте! Тверже Пожарского нам воеводы не найти!»
Впереди всех пошел Олешка. Старичок, тяглец Благовещенского монастыря Онисим, догнал его, дернул: «Чего все вперед лезешь!» Игумен Феодосий недовольно покосился на Олешку. «Дерзкий, мол, холоп!» Онисим прошептал парню на ухо: «Попам перёд надлежит, дворянам – середина, посадским – низина, а нам – зад». Но пока старик увещевал парня, двое мужиков нижегородских – черный курчавый великан Онуфрий Постник и Андрей Лукин, а с ними Гаврилка – пошли впереди игумена Феодосия и дворянина Ждана Болтина. Старичок тяглец хотел было остановить и их, а Олешка помешал ему, сказав с великим злом: «Мотри, додергаешься!»
* * *
– Сынок! Митенька! – склонилась над постелью сына мать Пожарского. Он открыл глаза, потянулся.
– Ты все около меня?! Бедная!.. Иди отдохни.
– Да нет, сынок! Народ на дворе какой-то из Нижнего…
Не разбойники ли уж?.. Называют себя послами. Не поймешь, что говорят… и кто такие… будто и поп с ними…
– Наш?! Привел разбойников!
– Да нет… Чужой какой-то… Из Нижнего.
Пожарский быстро поднялся. Надел охабень, шапку и, опираясь на посох, вышел во двор. На крыльце всей грудью вдохнул в себя крепкий, пахнущий соснами воздух. С любопытством осмотрел кучку неизвестных ему людей.
– Чего ради, граждане, пожаловали ко мне?
Послы поклонились низко, до земли.
– Любезный наш воин и заступник! Видим мы: Московское государство все возмущено и грады многие опустошены, в прочих же во всех великое смятение, и всюду проникают злодеи, и царствующим градом, Москвою, латинцы обладают… И по многие дни совещавшись, мы, всякие люди, пришли к тебе, пресветлый наш Дмитрий Михайлович. Не допусти погибели государства Российского. Посланы бо мы всем народом нижегородским… Прими же мирской приговор земских наших, служилых и жилецких людей…
Дворянин Ждан Болтин с поклоном подал Пожарскому бумагу.
– Ныне мы тебе преданнейше бьем челом, желая видеть тебя вождем нашим, наистаршим воеводою нижегородского ополчения.
Все опустились перед Пожарским на колени.
– Встаньте, братья! Низко кланяюсь и я вам, дорогие нижегородцы! Но заслуживает ли такой великой чести побежденный и раненый воин и притом же не столь родовитый и искусный в ратном деле, како иныи, более именитые полководцы?..
– Сокол ты наш ясный!.. Не приказано нам уйти от тебя без заручного твоего согласия… Никого нам иного и не надо!
Пожарский задумался. Потом, поклонившись, сказал:
– Прошу в покои, дорожные люди, отогрейтесь… Там и побеседуем… Токмо одно знайте: не гожусь я в воеводы…
Не просите меня! Не надо! И не надейтесь на меня!
Все в глубоком тягостном молчании последовали за хозяином внутрь дома.
Когда расселись на скамьях, расставленных около стен просторной светлицы, Ждан Болтин с дрожью в голосе снова повел речь о том, что нет более заслуженного и верного воина на Руси, нежели он, Дмитрий Михайлович, что смеха достойны и осуждения шаткие воеводы: бояре Шереметевы, князь Лыков и Салтыков, коих князь Звенигородский лукавства ради тщится возвести на место главных военачальников и спасителей Родины… Нет веры им, как нет веры и самому Звенигородскому. Два только есть истинных героя, которым верит народ: защитник Смоленска боярин Шеин и он, Пожарский. Но защитник Смоленска пленен поляками… Его увезли в Польшу. Один человек, который может послужить очищению Московского государства, – это только он, любезный народу воевода Пожарский. Только ему одному нижегородцы могут теперь доверить жизнь свою и животы[48] свои.
Пожарский слушал со вниманием нижегородских послов, волновался, но согласия своего не давал. Он говорил, что недостоин стать главою такого великого дела; нигде и никогда он доблести ратной не показал, был рядовым воином, выполнявшим свой долг. Он высказывал удивление: за что ему такая незаслуженная честь!
Нижегородцы исчерпали все свое красноречие, а он оставался по-прежнему непреклонен. Наступила тишина. Слышны были только подавленные вздохи и кашель послов.
Вдруг со скамьи поднялся одетый бедно, в сермягу, обутый в лапти, Гаврилка. Он вышел на середину светлицы, стал на колени против Пожарского и, с сердцем бросив шапку на пол, голосом, в котором звенели слезы, воскликнул:
– Митрий!.. Погибаем вить… Чего же ты?! Ополчайся!
Дальше он не мог говорить. Слезы блеснули и в глазах Пожарского. Он порывисто вскочил со своего места, подошел к парню и крепко его обнял.
– Вставай… Экой ты… – ласково проговорил князь, поднимая Гаврилку с пола.
– Так ли вы тверды, как сей юноша? – спросил он тихим, растроганным голосом.
– Так! – раздалось в ответ.
Послы окружили Пожарского.
– Чуваши, вотяки, татары и иные народы сему делу по своей вере клятву дали, неужели мы отступимся? Что ты! Пощади, князь!
Некоторое время длилось раздумье Пожарского.
– Да будет так! – вдруг сказал он. – Ополчаюсь!
Не пристающий вовремя к защитникам родины – бесчестен. Об одном прошу преименитый Нижний Новеград… Изберите человека, коему бы у сего великого дела хозяином быть, казну собирать и хранить… Так я думаю: Минин Кузьма наиболее достоин сего.
– Добро, батюшка, добро! Наш староста он, выборный наш человек, – ответил, низко кланяясь, Ждан Болтин. – Но скажи же нам, отец родной, что передать от тебя народу-то?
– Острый меч решит судьбу… Дрова, усиливающие огонь, им же самим истребляются… Враги наши, подняв гнев народа, от него и погибнут. В ночь на понедельник буду в Нижнем.
После отъезда из Мугреева нижегородских послов Дмитрий Михайлович вышел во двор и направился к конюшне. Заботливо осмотрел своего коня, погладил его по гриве, похлопал по бедрам и, бросив взгляд через ворота в снежную даль, улыбнулся…
Ему вспомнился голубоглазый парень, его неожиданное выступление, и он твердо решил: «Молодые воины верною опорою будут!»
* * *
Денек выдался на славу. Ясный, морозный. Снег еще держался.
По нагорному берегу, вдоль Волги, сверкая шлемом на солнце, ехал Пожарский, а с ним верхами же семь верных ему слуг, и среди них стрелецкий сотник Буянов. Он дал обет никогда не покидать Пожарского. Ехали неторопливой рысцой. Вокруг простор. Кое-где среди снега дымили черные избы крохотных деревень. Около одной такой деревушки при виде всадников заметался какой-то человек. Догнали: поп Иван!
– Так вот где ты? – с усмешкой взглянул на него Пожарский. – Чего ради признал королевича? Говори!
– Без владыки земного может ли быть крепкою церковь? – ответил поп, но, испугавшись сам своих слов, повалился князю в ноги и стал просить прощения.
– Чем искупишь вину, несчастный?
Поп молчал.
– Призывай своих богомольцев идти в Нижний… Покайся перед ними, иначе погибнешь. Убивающий разбойника и изменника, по решению власти народной, неповинен… Запомни это. От гнева божьего ты укрываешься молитвою, а от гнева народа не укроешься…
Пожарский хлестнул коня, повернул его снова на дорогу и во главе своих конников пустился в дальнейший путь…
* * *
В Нижнем князя Пожарского ожидала радостная, многолюдная встреча. Как только конь его переступил городской вал, затрезвонили колокола, прогремели пушечные выстрелы. У заставы вышло ему навстречу нижегородское духовенство в полном облачении, с хоругвями, и впереди всех протопоп Савва и игумен Феодосий. Кузьма Минин вместе с посадскими, с пушкарями и съехавшимся со всех сторон крестьянством встретил Пожарского хлебом и солью на Нижнем базаре.
Шествие медленно двинулось по съезду в Верхний посад к кремлю. Там, у Спасо-Преображенского собора, окруженные подьячими Съезжей избы, дворянством и стрелецкими начальниками, стояли, поджидая Пожарского, князь Звенигородский, Биркин и Алябьев.
Звонари, которым по приказанию Кузьмы поднесли по чарке водки, превзошли себя. Казалось, колокола, вылетая из колоколен, набрасывались в воздухе друг на друга, сшибались и разлетались в мелком звоне.
Минин улыбался своим сокровенным мыслям.
На другой же день Пожарский, медленно шагая из угла в угол по просторной Съезжей избе, строго наказывал своему помощнику, дьяку Юдину:
– В Нижний принимать всех. Из Нижнего никого не выпускать. Усилить стражу у застав. Бойтесь перебежчиков и доносчиков. – И шепотом произнес: – За дворянами присматривайте… Много званых – мало избранных.
Затем принялись писать грамоты в соседние города. Пожарский говорил, Юдин записывал.
– Господину Смирнову, воеводе из Курмышского города, и уезду дворянам, и детям боярским, и земским старостам, и целовальникам, и всем посадским людям, и новокрещеным татарам, и чуваше, и черемисе, и крестьянам, и всяким служилым и жилецким людям Дмитрий Пожарский и Василий Юдин по общему земскому совету челом бьют…
Пожарский просил курмышские власти о присылке в Нижний на совет от всех народов и чинов по два, по три человека. «лучших людей», «дабы приговор свой отписать своими руками и правити в любви и согласии безо всяких сердечных злоб…»
Пожарский рассылал такие грамоты повсеместно. Развозили их конные пушкари и стрельцы, толпившиеся около Съезжей избы.
Часть третья
I
С приездом Пожарского жизнь города во многом изменилась. На площадях и на улицах кучками появлялись ополченцы. Они уже не дичились, не прятались по окраинам, как прежде. Ходили свободно и вид имели бодрый, веселый. Их обступали посадские, выспрашивали: «Ну, как воевода?» Ополченцы рассказывали, что князь разделил их на сотни и полки и что велено срубить большие избы на зиму. Пожарского называли земским воеводой, а Звенигородского – боярским.
В первые же дни после приезда князя ратники построили караульные вышки у застав. Пожарский сам установил порядок караульной службы. Буянова назначили сотником конного дозора.
Новый воевода дал почувствовать Звенигородскому, что самое важное в Нижнем – ополчение.
Звенигородский отвел Пожарскому покои в кремле, в соседстве со своими.
Устроил в честь его пиршество. Каждый из гостей норовил сказать новому воеводе что-нибудь лестное.
Минина не пригласили. Этого не позволял обычай: нельзя было посадскому человеку, в разряде служилых не значившемуся, сидеть за одним столом с князьями, боярскими детьми и дворянством. Это было бы жестоким оскорблением для гостей воеводы. «Смерд боярину не товарищ!» – так думали в кремле, на Верхнем посаде.
Кто-то из посадских намекнул Минину: «Тебя-то, дескать, и обошли; как ты, братец, ни старайся, все одно гусь свинье не товарищ. Звенигородский да Пожарский – князья, и столкуются между собою скорее, чем с тобой».
Минин шутил:
– Сатана гордился – с неба свалился; фараон гордился – в море утопился; а нам гордиться не годится, мы – земские люди…
Он хитрил. От всех скрывал, что Пожарский после своего приезда уже дважды приходил к нему по ночам, переодетый в стрелецкое платье. Приходил к нему за советом, как к старшему. Целые часы длились их беседы. Пили вместе брагу, угощались домашними кушаньями.
Князь расспрашивал Кузьму обо всех городских делах, о влиятельных людях города, о том, как управляют уездом воеводы и чем недовольно население.
Пожарский поинтересовался также: кого бы хотел он, Минин, видеть на престоле после изгнания панов из Москвы.
– Только с тобой одним могу я говорить об этом… – прибавил князь, тяжело вздохнув. Видно было, что вопрос о будущем царе мучает его.
Минин ответил:
– Пожелаем царя нового, не похожего на ранее властвовавших. Они правили, будто на белом свете нет простых людей. Так нельзя. Гляди сам, Митрий Михайлыч, как люди жалеют государство. Нищие, голодные, едва волоча ноги, бегут к нам под твои знамена. Бунтуя, наш народ никогда не шел против своего государства! Тебе ли того не знать! И кто был у Болотникова, радеет о нашем царстве едва ли не больше тех, кто у него не был.
Пожарский выслушал Кузьму в глубоком раздумье и, как бы желая продолжить его мысль, сказал с горечью:
– А бояре, обидевшись на власть и ради самогосподствия, не раз искали прибежища у врагов, со всею охотою склонялись к измене. Возьми Салтыкова. Знают все, что он сговорился с поляками и немцами еще при царе Борисе. Он и дьяк Власьев… когда их посылали в Польшу договор утверждать. Там и с Сапегой он сдружился, и с королевичем Владиславом виделся. И в Неметции он бывал… Там нашел себе друзей.
Заметив волнение на лице князя, Минин постарался замять этот разговор. Становилось неловко, хотя и приятно слышать осуждение бояр и князей из княжеских уст.
Пожарский помянул князя Василия Голицына. Заговорил о нем с жаром и гордостью.
– Вот какие надобны были бы люди в нынешнее время. О, если бы был здесь ныне такой столп, как князь Василий Васильевич! Им бы мы все здесь держались. И я за такое великое дело не взялся бы.
Кузьма понял Пожарского. Он слыхал и раньше, что князь держит сторону Голицыных и что он был бы рад тому, если бы трон достался Василию Васильевичу.
Минин заметил: рано думать о царях! Впереди и без того много дел.
* * *
Присутствуя на устроенном для него пиршестве, Пожарский думал об одном: как бы поскорее уйти из воеводских хором; вина не пил; на заздравные чарки отвечал вежливым поклоном, осматривая всех ласковым, располагающим к нему взглядом.
Целый вечер за ним ухаживал воевода. Он оказывал ему всякие знаки уважения, а захмелев, увел его в одну из пустых горниц и неожиданно начал разговор о Минине. Заговорил о нем как о человеке опасном, с которым князь должен быть осторожен. Он изобразил Кузьму хитрым, ловким, своекорыстным, склоняющим народ к бунту, восстанавливающим его, подобно Болотникову, против бояр и вотчинников. Но этот еще, пожалуй, опаснее Болотникова Ивашки: им руководит честолюбие, жажда наживы и власти. На него уже и посадские жалуются: под видом сбора на ополчение дерет налоги с живых и мертвых… Монастыри вздумал обирать… Не в свои сани мужик залез. Красными словами народ заворожил.
– Народу верить нельзя! Ненавидит нас, князей, народ, – бубнил в ухо Пожарскому Звенигородский.
Биркин шепнул Пожарскому:
– Видел за столом вдову? Красивая баба? Сбил и ее. Подослал к ней смазливого холопа. Не устояла! Им того и надо было. Деньги у нее обобрали. Казну накопил Куземка невиданную. И тою казною подкупает беглых. Тем только и привлек их на свою сторону. На наши же деньги – и против нас! Вот он какой!
Воевода, охмелев, плачущим голосом воскликнул:
– Князь! Опомнись! С кем ты связался! Не срами родителей! Не достоин он тебя!
– Погибаем вить мы от них… – поддержал воеводу Биркин. – Теснят они нас, купчишки и мужики здешние.
– Вы хотите учить меня! Не считаете ли вы меня отечеством ниже вас? Не думаете ли вы, что без вдовьих денег мы и ополчения не собрали бы?! – вспылил Пожарский.
– Что ты, что ты, князюшка! С чего ты это взял?! – ответил Биркин, поднявшись со скамьи. – Воитель я такой же, как и ты!.. – стукнул он себя кулаком по груди.
Звенигородский побагровел, оттопырил губы:
– А я такой же, как и ты. Но, может быть, и повыше. Мой предок – князь Мстислав! – промычал он себе в бороду.
Пожарский, с трудом подавляя гнев, укоризненно покачал головою:
– Не спесивьтесь, друзья! Иван Третий, выведя из новгородской земли толпу таких спесивцев, отдал их имения не только крестьянам, но даже холопам, и стали черные люди такими же, как и мы с вами, князьями. Борис – царь также из холопей, сделал боярским сыном мужика Филатова. Будущий царь может и нас лишить чести, а неведомую чернь возвести в сан… Чванство – не ум, а недоумие: не понизился я, сойдясь с разумным человеком, но повысился.
Эти слова Пожарского поразили нижегородского воеводу. До сих пор он слыл закоренелым местником. Кому на Руси не была известна его нескончаемая тяжба о чести с князьями Лыковыми? Теперь же он кичится, что сошелся с мужиком.
Может быть, ищет опоры в народе, желая сам пролезть на престол?
«Не отравить ли нам Пожарского? – вертелось в голове Биркина. – Избавиться от людей, которых поддерживает простой народ, можно только ядом или ножом наемного убийцы. Какие цари и властелины не прибегали к этому?!»
Пожарский держал себя с подобающим достоинством.
– Жалкий глупец либо малое неразумное дитя могут кичиться родословием, потеряв государство, – усмехнулся он. – Изгоним врага, явим храбрость, подумаем и о роде. Получить княжеское звание легче, нежели заставить людей уважать его. Много дано – много и спросится.
Князь Звенигородский с неожиданным для самого себя восхищением взглянул на молодого красивого гостя, рассуждавшего просто, по-юношески горячо и убежденно. Голубая шелковая рубашка князя, чистые выхоленные руки, новенькие сафьяновые сапоги – все это было необычайно в эти тревожные дни. В последнее время князья опустились, ходили грязные, немытые, обросшие волосами и злые на все и всех, особенно на крестьян.
Лицо молодого князя дышало задором, самоуверенностью и добродушием.
«Отравить или нет?» – бродило в голове Биркина.
«Не жилец на белом свете сей красавец», – пытался утешить себя Звенигородский.
* * *
В доме Минина жизнь шла своим чередом. Гаврилка поздно вечером привел десять человек ветлужан. Они побили какого-то дворянина, назвавшего ополченских сборщиков ворами.
Минин рассердился на ветлужан.
– Не поддавайтесь соблазну! Не время ссорам! Только на своей земле, когда прогоните ляхов, сможете с божьей помощью возвысить голос… и добиться желаемого.
Но едва уладилось одно, как в горницу ввалилась толпа богомольцев Никольской церкви, недовольных сбором одной пятой с их имущества. Не хотят платить.
– Не вы ли сами хозяева? – спросил их Минин, Добродушно улыбнувшись. – Не вы ли тот приговор дали и богу клялись?
– Мы.
– Так не скупитесь же! – укоризненно покачал головой Кузьма. – Враг рядом. Он пожжет и разорит храмы. Не избежать в те поры вам ада, коли оставите домы божии беззащитными ради токмо своей скупости.
Пристыженные богомольцы Никольской церкви, низко кланяясь, смиренно вышли на улицу.
Минин с грустью покачал головою им вслед.
На недавнем земском сходе снова приговорили силою принуждать неплательщиков одной пятой. Для того Пожарский свел стрельцов в особую сотню под начальством Буянова.
Буянов не щадил скаредов.
Когда Минину жаловались на Буянова, он говорил, что он, Минин, тут ни при чем, такова воля земского схода.
Отправлявшихся для взыскания сборов дьяка и стрельцов обычно благословлял в путь-дорогу протопоп Савва. На том настоял сам Минин. Прежде чем приступить ко взысканию оклада, сборщики объявляли вслух приговор земского схода.
А ведать сбором одной пятой, по указанию Кузьмы, земский сход выбрал посадского воротилу и старейшего недруга Минина – купца Охлопкова. Как ни отказывался тот, но все же пришлось покориться сходу. Охлопков, как и многие другие богатеи, отстранялся от ополченских дел, опасаясь: «а вдруг… поляки верх возьмут?!»
* * *
Пожарский решил собрать ополченцев.
Пестрая, рваная, полураздетая толпа сошлась на базарной площади. Тут и русские, и украинцы, и татары, мордва, чуваши, черемисы, вотяки и казаки… В стороне стояло, спешившись, несколько десятков конников, потомков плененных некогда Иваном Грозным литовцев. Они уже показали себя хорошими воинами во время алябьевских походов под Балахну и Муром. Как и русские, храбро бились они с поляками под знаменами нижегородского воеводы. Была оттепель. Снег растаял. Минин указал посадским богатеям на полуразутых мужиков.
– Знаем… – отозвался Охлопков. – Обувщики-кожевники обещали… Тысячу пар привезут.
Из нижегородских воевод прибыл на берег только один Алябьев.
– Ну, что скажешь, Андрей Семеныч? – спросил его Минин.
– Добро, Кузьма Минич… Действуй!
– Ну, а где же князь Звенигородский да Иван Иваныч? Мы их звали…
Алябьев улыбнулся:
– Спят… Всю ночь бражничали.
– Бог им судья!
Пожарский объезжал ряды ополченцев, расспрашивая: кто к чему способен.
После этого трубач дал сигнал: «по домам!»
Площадь вмиг опустела. Тогда Минин крикнул ямскому старосте Семину:
– Николай Трифоныч!.. Веди!
Старик Семин повел конный отряд Ямской слободы.
– Вот гляди, Митрий Михайлович, не с пустыми руками тебя встречаем, – сказал Кузьма. – Потом сведу тебя к литейным ямам.
Пожарский, большой знаток лошадей, с любопытством рассматривал коней.
– Ишь, какие гладкие! – рассмеялся Алябьев.
– По одной лошади с двух дворов дали, – сказал Минин. – Сами и кормят.
– Гляди. Передний конь гордо голову держит. Хороший знак, – сказал Пожарский, дотронувшись до Минина.
– Как тебе, Минич, удалось оседлать самого норовистого коня?.. Про ямского старосту я, про Николая Трифонова! – спросил Алябьев.
– Трудненько пришлось! А ноне, гляди, настоящий сотник…
Семин пустил коня рысью, обратившись лицом к Пожарскому.
После того как берег опустел, Пожарский и Алябьев на глазах обывателей отправились в гости к Кузьме Минину. Это вызвало много пересудов у жителей слободы, находившейся на окраине и не удостоившейся за все свое существование посещения князей и воевод.
II
Холод и скудный снег.
Кровли лавок и амбаров на Нижнем базаре заиндевели. Еще темнее стали бревна в стенах – круглее, заметнее. В рядах торговки предлагали горячие калачи и квас в медных кумганах. Под таганами на земле тлеющие угли.
Торговля не идет. Раненько выползли, поторопились – кругом безлюдье. Еще не кончилась утреня.
Э-эх, пошли времена! То-то было раздолье! А теперь?.. Нигде хмельного гуляки не увидишь. Самые записные питухи – и те за работу взялись.
В Хлебном ряду пооживленнее. Стрельцы и ополченские десятники нагружают хлеб на подводы для своих.
Вместе с холодом навалились на уличных торговцев унылые недоуменные размышления.
Ворчать на Кузьму не скупились: что бы ни случилось, – во всем он виноват. Даже холод и непогода в представлении некоторых людей связывались с его именем. «Бог, мол, наказал за колокола, свезенные в литейные ямы». Но если бы ворчунов спросить, согласны ли они, чтобы Минина не было и ополчения тоже, пожалуй, не согласились бы.
Обиднее всего было, что строго наказывали за сокрытие имущества. Двоих дворян и то не пощадили. Ведь еще царем Шуйским было строго-настрого запрещено поместным дворянам обманывать власть, выдавая себя за беспоместных. А тут в самый разгар сборов нашлись два щеголя, притворившихся беспоместными… Обманщиков, по согласию со Съезжей избой, усердно отхлестали, а землю по закону Шуйского отобрали. Минин и Пожарский советовали, пока новых законов нет, поступать со всякими преступниками по законам Шуйского, последнего законного царя.
Посадские были довольны ополченской властью за то, что она с великою строгостью стала преследовать грабителей и разбойников. Наконец-то нашлась защита! На днях двух ополченцев за воровство судили всенародно: сами ратники потребовали казни для них. Обоих утопили в Волге. Никогда не было такой тишины на посаде и в уезде, как теперь. Стрелец Буянов со своими молодцами по нескольку раз в день объезжал город и окрестности, оберегая покой посадов. Всем объявлено было, чтобы крестьян не обижать, к бедным проявлять милосердие, помогать им.
* * *
– Эй, подходи, которые!.. Калачи горячие!.. Съешь, – три дня сыт будешь!..
– А на четвертый помрешь!
– Ну, ты, бродяга!.. За душой ни гроша, а туда же… с разговором лезешь…
Становилось все оживленнее. Загудели и колокола в кремле.
– Болезная, подкинь угольков! Утреня кончилась.
– Подайте, христа ради, красавицы молоденькие. Пожалейте старца.
– На! Бог с тобой! Помяни покойную Агриппину, Софью, Давида… Абрама да Ольгу.
– Спаси Христос!
– Бог спасет!
Проглянуло солнце сквозь облака, осветило ровные ряды лавок, амбаров, ларей… Стало веселей. Запел гудошник:
То не кули-ик кули-икает, Но молоденький кня-азь по лу-ужку гуляет! И он не один кня-азь гуля-ает, – со своими полка-ами… Со любезными полка-ами, больше с каза-аками…– Стой! Чего врешь?
Песня прекратилась.
– Дай грошик! Будь милостив!
– На вот тебе!
Гаврилка показал гудошнику кулак.
– Пошто грозишь?
– Не ври! Казаки казаками, а нас чего забыл?
– Кого «вас»?
– Земщину, мужиков… Ну, да ладно, до трех раз прощаю… Хватай!
Подслеповатый гудошник ловко поймал деньгу.
– В иное время попало бы тебе. Почесал бы ты лопатки, а ныне, ради праздника… леший с тобой, дыши!
Бабы встрепенулись:
– Какой праздник? Введение прошло… Ты уж зря-то не болтай, не мути. Купи калач!
– Хлебни кваску. Ядрен. Сердце жжет…
– Мое сердце обожженное… Не проймешь. Гляди-ка на Ивановские ворота! Что такое?
Все притихли.
– Кузьма! Воеводы!.. Протопоп Савва!.. И тот верхом. Что такое?!
– Говорю, праздник… Вишь, народ валом валит!
– Куды?
– В литейные ямы, под Благовещенье… От щелчка дошли до кулака, от кулака до полка, от полка до ополченья… Будет ляху похлебка в три охлебка! Поняли?
– Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его.
Вздохи. Кресты да поклоны, а Гаврилки уже и след простыл.
По Ивановскому съезду медленно верхами спускались Минин, Пожарский, Звенигородский, Алябьев, Биркин, протопоп Савва, а вокруг кольцом буяновские стрельцы…
Смотрят острым взглядом по сторонам, правой рукой придерживают рукояти сабель.
Позади воевод на конях – казаки, мордовские всадники, татарские мурзы, чувашские старосты, башкирцы и другие.
Нижним базаром направились в Благовещенскую слободу. Парень не соврал, в самом деле – к литейным ямам. По следам всадников со звонкими криками и смехом побежали ребятишки. Стаи голубей и галок взлетели над головами. Оживились торговки: «Калачи, горячие калачи!», «Квас, квас!»
Направо – черная, присмиревшая Волга… Канун ледостава. Медленно, скучно движется «сало», кружится в воде, жмется к берегам, сливаясь в льдины-лавины, оседает под, толщей прибрежной ледяной коры, крепя у берегов ледяное поле – утару. День за днем все шире будет расползаться утара и все более суживаться полоска воды на середине реки.
Рыбаки еще копошатся на берегу. Неохота свертывать сети. На рыбу поднялся спрос.
Каждое утро посматривает нижегородец на Волгу: два-три хороших заморозка – и остаток воды покроется льдом… Кое-где уже начались заторы… Эк, времечко-то бежит!..
* * *
От литейных ям исходила нестерпимая жара и едкий запах расплавленного металла. Громадные клинчатые меха при нажиме на верхнюю пластину издавали пронзительный свист – вырывался воздух в просверленные в пластине отверстия. Меха приводились в движение частью руками рабочих, частью особым вращающимся колесом.
Пожарский, глядя на усилия рабочих, неодобрительно покачал головой:
– У меня дома кузница на реке: и людям легче, и силы более.
Кузьма почесал затылок.
– Эге! Благодарствую, князь, что надоумил! Стар, видимо, становлюсь, малоумен. На что бы лучше – Почайна! Силища!
Биркин пожал плечами:
– Горд ты, Кузьма Минич. Без нас все делаешь. На себя понадеялся… У Ляпунова бы тебе поучиться.
Звенигородский вспомнил:
– Стрелец Ивашка Лаврентьев сказывал, чтоб ты меня спросил. А ты? Вспомни-ка!
Минин кликнул старшину вологодских литцов. Спросил его совета.
– Хорошо-то хорошо, да не совсем, – медленно ответил старшина. – А как в гору-то нам колокола возить? Почайна с горы бежит.
– Зачем в гору? У подошвы.
– А песок? Да болото? Нешто там печь станет?! Да и Волга рядом… Кто знает, какой паводок будет!
Пожарский добродушно рассмеялся:
– Выходит, ты, Кузьма Минич, и прав.
Звенигородский насупился. Биркин отъехал в сторону.
– Ну-ка, покажи нам, что вы сделали? – спросил Пожарский вологодского мастера.
Тот быстро подбежал к подводе, дернул вожжи – две лошади вывезли подводу из ямы. Старшина сбросил рогожу.
Новенькая бронзовая пушка с искусно выточенной казенной частью и стволом, но с неотрубленной прибылью[49] лежала у ног воеводы.
Пожарский слез при помощи Буянова с коня и, слегка прихрамывая, подошел к подводе. С отеческой нежностью в глазах он провел рукой по холодной гладкой поверхности орудия, снял шлем и перекрестился.
Его примеру последовал и Минин. Глаза обоих встретились. Пожарский взволнованно произнес:
– Спасибо, Минич! Хорошо!
И снова заботливо прикрыл орудие рогожей.
Минин соскочил с коня, взял Пожарского под руку и, слегка поддерживая его, сказал:
– Айда, Митрий Михайлыч, к печам.
Сделав над собой усилие, чтобы не показаться слабым, Пожарский твердой, военной поступью стал спускаться в литейную яму.
Ополченцы низко поклонились ему. Он приветливо ответил им.
– В чем нужда у вас? Говорите!
Откликнулись котельщики:
– Дров мало… Подумай-ка: расплавить сто пудов – сколько надо? Три либо четыре сажени в день. А у нас всего десять. Не более что на три дня, а кусков хватит на месяц.
Кузьма успокоил: лишь бы река стала, – на той стороне, у Боровской Никольской слободы, лежит сто саженей. Заготовлены для церквей, но сход богомольцев и протопопы отдают их ополчению. (Преподобного Сергия убоялись, который якобы являлся во сне Минину.)
Пожарский высказал мысль, что русские литцы лучше немецких.
Был такой случай при царе Федоре. Во время пожара в Кремле разбился большой колокол в восемь тысяч пудов. Опечаленный этим происшествием царь выписал из немецкой земли ученых мастеров, чтобы сделать новый такой же колокол. Они просили пять лет сроку для работы. Это уж совсем огорчило царя. Узнав про то, в Кремль явился русский мастер, человек малого роста, невидный собою слабосильный, лет двадцати от роду, и попросил для работы только один год сроку. Царь, обрадовавшись, дал ему денег и послал ему в помощь много стрельцов. Парень сдержал свое слово в точности: изготовил колокол лучше прежнего и ранее обещанного срока.
– Вот тебе и ученые немцы! – улыбнулся Пожарский. – Не попусту покойный государь Иван Васильевич более возлагал надежду на своих мастеров, на наших…
– Есть и у нас один швед… Забили его наши ребята. Удивляется на них, похваливает.
Когда вернулись к коням, то ни воеводы Звенигородского, ни Биркина, ни Алябьева уже не оказалось. Протопоп Савва шепнул: воевода, мол, обиделся, почему, дескать, без него все делается.
Пожарский и Минин переглянулись, молча сели на коней.
* * *
Дьяк Василий Юдин устал рассылать челобитные верховым, понизовным и северным поморским городам. Он мог теперь с закрытыми глазами писать: «Чтоб всем было ведомо всею землею – обще стать, покамест еще свободны, а не в рабстве и в плен не разведены…» Сколько раз уже сходили с его пера эти слова! Сколько раз ему приходилось убеждать «господ братий» «всем идти на защиту отечества, стоять заодно, быть в любви, в союзе, в совете и в соединении».
– Поторопись! – раздалось за спиной Юдина.
– Эх, да это ты! – встрепенулся дьяк.
Перед ним стоял Роман Пахомов, румяный, востроглазый и слегка насмешливый.
– Ты не того… не заснул ли, дьяче?!
– Куда там! (Дьяк поглядел в окно.) И-их ты, пурга какая!..
– Ничего не значит! Конь у меня сильный, быстрый. Грамота готова?
– Вот бери.
– Да, брат, засиделся я в Нижнем, Мосеев давно ушел в Вологду, а я ни с места. Эх, эх, эх!
– Все о Наталье вздыхаешь? Зря, брат. Пропала…
Не видать ее уж тебе…
Пахомов махнул рукой, и вышел на крыльцо.
На него возлагалось дело серьезное и опасное. Помолившись на нижегородские церкви, он вскочил на коня и быстро скрылся в снежной мгле.
Живой, прозрачной завесой окутал вьюжный зимний вечер кремлевскую гору, Волгу и Заволжье. Приятно щекотало снегом лицо; дышалось легко-легко.
* * *
К Минину в дом из иноземной слободы под Печерами пришли старшины плененных при Грозном литовцев и поляков. Они жаловались на Съезжую избу. Воевода заставляет их, ратников, сдать оружие; в ополчение они, иноземцы, приняты не будут.
Минин пошел к Пожарскому посоветоваться насчет иноземцев.
– Вот о чем я думаю, Митрий Михайлыч, – сказал он, – Казимирка Корецкий, что приходил к тебе, – старшина литовцев, бывал со мной в походах, ранен был, сражался храбро против панов. Однажды я спросил: «Не расхотел ли ты поляком быть?» – он ответил с великой гордостью: «Никогда не отрекусь я от нашего рода; поляком был и помру. Но за правду всегда буду стоять. Правда – выше рода… И не одинаково ли голодаем и мы от войны, как и вы?» Так вот, Митрий Михайлыч, гляди сам, что тут делать?! Отвергнуть их? Обидишь, коли они честные люди. Принять? Не было бы измены?
– Народ польский одной крови с нами… Паны – наши враги, шляхта, а не поляки, – сказал князь.
Пожарский задумался. Ведь когда-то и у него в войске были польские рейтары-перебежчики и честно сражались за Москву со своими же. Даже у Сретенских ворот среди пушкарей были поляки.
– Точно, – продолжал князь. – Честные воины нам дороги ныне. А напрасная обида во все времена приносила государству вред, на войне и подавно.
После долгих размышлений Пожарский и Минин решили принять в ополчение иноземцев, рассеяв их по русским полкам.
Против этого восстал Биркин, которого Земский совет назначил помощником Пожарскому. Он вовсе не хотел допускать в ополчение иноземцев.
Властолюбивый, самочинный, мнивший себя умнее всех, Биркин пытался с первых же дней повернуть дело по-своему. Ляпуновские порядки вздумал завести и в Нижнем. Минин считал его и в самом деле умнее других нижегородцев воителей и решительнее.
Минин опасался, что простой, доверчивый и добрый князь Пожарский легко может оказаться в руках своего помощника, тем более что действия его имели вид усердия. У бессовестного властолюбца трудно бывает отделить хорошее от дурного, полезное от вредного. Спасая дом от огня, трудно уследить за притворными спасителями, грабящими и уничтожающими твое добро. Минин давно понял, что не каждый, идущий в огонь – спаситель.
В скором времени Кузьма собрал Земский совет. Гаврилка, Олешка, Осип и Зиновий обежали всех военачальников, дьяков, атаманов, старост и татарских, мордовских и иных старшин. Сошелся Совет в кремле, многолюдный, разноплеменный.
Кузьма привел с собой несколько татарских наездников. Они только что прискакали в Нижний. При них была грамота из Казани.
Писали татарские мурзы, оставшиеся верными царю Шуйскому, что уже с июня 1611 года в Казани нет воеводы. Всю власть Казани захватил дьяк Никанор Шульгин. Казанский воевода, боярин Василий Петрович Морозов, ушел с войском в Москву к Ляпунову. Дьяк Шульгин пытается склонить жителей к измене.
Мурзы просили нижегородцев прислать им в Казань послов, дабы те образумили Шульгина и уговорили казанцев присоединиться к нижегородцам «для очищения Московского государства от воров».
Кузьма низко поклонился на все стороны:
– Посольство надобно послать. Под началом такого воеводы и духовного лица с иереями, чтобы тому Шульгину повадно не было, чтобы он послушал их.
Поднялся, как всегда, невообразимый шум в Совете. Каждому хотелось вставить свое слово. Казань в тылу у Нижнего, близко, совсем рукой подать! Как можно допустить измену там? Говорил ведь Минин давно воеводам о Казани. И теперь – его правда. Опасность явная! Только глухие да слепые не слышат и не видят этого.
Пожарский потребовал тишины. К нему нижегородцы питали особое уважение. Почтительно умолкли.
– Граждане, – сказал он негромко, расстегнув ворот своей голубой шелковой рубахи, – пошлем в Казань бывалого мужа, Ивана Ивановича Биркина, да из духовного чина протопопа отца Савву, да несколько посадских человек и иереев.
Кузьма облегченно вздохнул. Его желание исполнилось. Но он сделал вид, что не вполне с этим согласен.
– Что мыслите, друзья и братья? – спросил Пожарский.
– Минин! Минин! Говори! – закричали ополченские начальники.
Кузьма поднялся с места, осмотрел всех исподлобья и сказал, подобно Пожарскому, тихо и неторопливо:
– Как же мы-то тут будем без Ивана Иваныча! Он уж очень нужный здесь… Обойдешься ли ты, Митрий Михайлыч, без него? Смотри сам!
Пожарский ответил громко:
– Обойдусь.
Кузьма пожал плечами:
– Что делать! От меня ни отказу, ни приказу. Маленький я человек; дело воеводское. Нам ли вмешиваться? Митрий Михалыч лучше нас знает. Конечно, праведные, крепкие люди и в посольстве велики, спорить не беду. А главное, как решит Совет… Его слово свято. Им управляет воля божья… Ивана Иваныча к тому же Казань хорошо знает и почитает. Так я думаю.
Со всех сторон понеслись дружные крики: «Биркина! Биркина!» Каждый, слушавший смиренную речь Кузьмы, почему-то решил, что Кузьма хочет услать именно Биркина.
Протопопа Савву выбрали также общим хором земских и духовных лиц.
Великое нижегородское посольство вскоре было отправлено в Казань.
III
Глухая полночь. Снежные улицы, с их домишками и растрепанными плетнями, утонули во мраке. На постоялом дворе в Суздале шел разговор:
– В Нижний я не поеду. Не уговаривай! Не поеду. Бог с ним!
– Не пойму я тебя! Чего ты упрямишься! Чует сердце, там твой отец!
– Будет! Не уговаривай!..
– Натальюшка!..
– Уймись, не время! До свету выезжать.
Ответом был тяжелый вздох.
Старушечий голос посоветовал идти в Кострому. Там безопаснее. И воевода там крепкий, не подпускает никаких врагов к городу, и богомольник, и красавец, праведник, чуть-чуть не святой – Иван Петрович Шереметев. Боярского рода человек А в Нижнем неспокойно. Мордва и воры одолели его. И смута там! Мужики зорят церкви. Колокола снимают. Мятеж невиданный!..
Пришедший на ночлег поздно ночью Роман Пахомов услыхал сквозь дремоту этот разговор, крикнул с печи сердито:
– Будет врать, старая карга! Дружнее нижегородцев и людей нет. Не мути православных!
– Нешто ты не спишь, батюшка? – удивленно спросила она.
– То-то и есть!.. Язык отсохнет, убогая!
Старуха начала оправдываться, божиться, Пахомов не слушал ее. Его одолевал сон.
Произнесенное в темноте имя «Наталья» подняло воспоминания. Но Пахомов постарался отогнать их от себя. Лучше не думать.
Тепло было под меховым охабнем, уютно. Забывались горести земные, забывалось все тяжелое, неприятное. Пахомов крепко уснул. И не слышал, как из той же избы, где он ночевал, в полумраке зимнего утра вышли на волю Халдей и Наталья. Они вскочили на коней, пойманных ими накануне в одном разоренном ворами селе, и поехали на север, к Костроме.
Наталья, упрямо отказывавшаяся ехать в Нижний, настояла на своем.
Она боялась… боялась самой себя, боялась «наказанья божьего»… Она внушила себе, что Константин ей послан богом, чтобы спасти ее, охранять ее от опасности… Как же можно бросить его?! Как же можно дать волю своему сердцу, когда сам бог на стороне ее нового друга?!
Халдей, поникнув головой, думал: «Почему она не хочет в Нижний? Известно, что Пожарский в Нижнем граде на Волге и готовится идти он на Москву с новым земским ополченьем. Слухом земля полнится. Разве утаишь такое дело? Наталья уверяет, что отец ее непременно в войске Пожарского. Он давно знаком с князем и тайно всегда стремился уйти из Москвы к нему на службу в Зарайск, и все-таки… она не хочет ехать в Нижний. Простая и добрая, теперь она почему-то краснеет, сердится; черные глаза ее становятся злыми».
Немало было пережито и плохого и хорошего за эти восемь месяцев. Немало опасностей преследовало их на дорогах. Везде смерть подстерегала людей, таясь в каждом овраге, под каждым кустом, в каждом переулке заброшенных жителями деревень!.. Однажды, скрываясь от польских всадников в дремучем лесу, Наталья наступила на змею, которая ужалила ее в ногу. Целых две недели девушка при смерти пролежала в лесу на постели из ветвей и травы.
Приходилось ухаживать за ней, как за малым ребенком. Эти две тревожные недели сблизили Халдея с Натальей так, как не могут сблизить годы. Выздоравливая, она с детской серьезностью признавалась: «Что было бы со мной, если бы тебя не случилось?!» И с благодарностью целовала его, как брата, как близкого, родного человека. Она привыкла к нему.
В огне сельских пожарищ, в диком вое степных ветров, среди постоянных опасностей родилась его любовь… Никогда ранее Константин не испытывал этого чувства. Никогда до этого времени не знал он, как велик и прекрасен мир.
Ловко, по-мужски, сидела на коне стрелецкая дочь.
Она ускоряла ход, выказывая беспокойство. Два раза даже оглянулась назад, словно опасаясь погони. А дело было просто: она увидела на постоялом дворе Романа.
Утро сумрачное; в безветренном воздухе кружатся редкие снежинки.
А там вдали, где земля сходится с небом, все еще висит густая темная мгла.
Вот уже целый месяц они бродят по суздальскому краю в поисках безопасного пристанища. Монастырь под Коломной, где им удалось несколько месяцев прожить спокойно, неожиданно подвергся нападению шайки сапежинцев. Счастье, что вовремя скрылись! Враги сровняли монастырь с землей, а обывателей, которые в нем прятались, почти всех перебили, не пощадив ни женщин, ни детей.
– О чем ты задумалась? – осторожно, с опаской спросил Константин, поравнявшись с девушкой.
Наташа вздрогнула. Обернулась. Истомленное скитанием бледное лицо ее разрумянилось; завитки волос, выбившиеся из-под платка, и ресницы, посеребренные инеем, сделали ее какой-то другой, загадочной… В черных глазах светилось недоумение:
– Ах, это ты, Константин? – сказала она облегченно вздохнув.
– Полно, Наташенька, полно тебе задумываться!.. Уж не хворь ли с тобой какая приключилась?
– Нет, не хворь… – тихо ответила она, снова отвернувшись. – Умереть мне хочется, Константин, вот что…
– Да полно-те, мое диво! Полно… Не сглазила ли тебя эта ведьма-старуха?!
– Никто меня не сглазил… Сама я на себя грех накликала… Сама себя к тому привела.
– Что же это с тобой? Скажи христа ради? Не мучь меня.
Наталья молчала.
– Ты добрый, Константин… я знаю… – ответила она после некоторого раздумья, – но чем же ты можешь помочь мне? Все мы не знаем, что будет с нами завтра… Тебя самого надо жалеть.
– Не обижай! Я не такой, как ты думаешь. Я уйду в ополченье. Крепостным больше не буду.
Она недоверчиво посмотрела на него. Он продолжал:
– Если ты меня не любишь, тогда лучше уж умереть мне в бою за родную мать-землю и за тебя… Иной дороги мне, горемычному, не предвидится…
Снега белые, пушистые Покрыли поля все, Одного только не скрыли, Горя лютого мово…Константин сделал движение, будто он играет на гуслях… Вспомнился Кремль… Игнатий… Но разве Халдей – скоморох? Он никогда скоморохом и не был… Глупые бояре и польские вельможи! Смеясь над ним, вы никогда не подумали, что он смеется над вами.
– Наташа, слушай, – дотронувшись до ее руки, в которой она держала повод, заговорил он. – Не кручинься! Панам недолго осталось блаженствовать… Наша сила велика. Пойдем вместе с тобой на брань. И ты можешь стрелять… и на коне скакать… Не зря же отец тебя учил. Мы не расстанемся. Будем вместе. В Костроме попросим воеводу взять нас в войско.
Никогда так убедительно не говорил Константин, как теперь, в это тихое зимнее утро.
– Соберем таких же, как и мы с тобой, сирот и бобылей и уйдем с ними из Костромы к Пожарскому.
Наталья остановила коня, внимательно посмотрела на парня:
– Может ли быть, Константин, чтобы девка под войсковой хоругвию ходила? Не осмеют ли и не опозорят ли меня ратные люди, как блудницу?
– До смеха ли теперь, горлица, когда матушка-Русь гибнет!
Лицо Натальи просветлело. В глазах блеснула радость:
– Константин!.. дружок!.. говори!.. говори!..
– Да, никак, ты плачешь?! Не надо, не тужи!
– Тяжела наша бабья доля, – услыхал он.
– Эка ты выдумала! – расхрабрился Константин. – Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать… Чего нам голову, Натальюшка, клонить! Удалой долго не думает. Какая ты баба? Ты – смелая. Ты – воин!
Наталья вздохнула, погнала коня рысью. Кругом снежная пустыня. Ни деревца, ни кустика. Тишина. Только воронье, вспуганное всадниками, взлетает, оглушительно каркая.
* * *
Пахомов должен был разведать, можно ли двинуться ополчению прямо на Москву, не грозит ли опасность со стороны Суздаля и иных попутных мест? Хотя Пожарский и рассылал грамоты о том, что «Мы, собрався со многими ратными, прося у бога милости, идем на польских и литовских людей, которые ныне стоят под Суздалем», однако поход на Суздаль отсрочивался. Пожарский был молод, но осторожен и терпелив. Ничего не делал, не обдумав и не обсудив с Кузьмой и Земским советом. Важен первый шаг.
Суздаль – ключ ко всему правобережному волжскому замосковному краю, ворота на пути из Нижнего в Москву. И вот что услышал Пахомов тотчас же по прибытии туда.
Игуменья Покровского монастыря, в котором он утром помолился богу, сказала:
– Покарал нас господь за грехи: монастырские вотчины в Суздальском уезде от польских и немецких людей и от казаков разорены и крестьяне посечены и перемучены. И в монастырских вотчинах хлеб ржаной и яровой вывозили и притравили, и от монастырского хлеба ничего не осталось… И в княжеских и дворянских вотчинах такожде…
Сморщенные щеки монахини увлажнились слезами.
В бревенчатой келье было грязно; на столе и лавках валялись дохлые тараканы. Старуха с жадностью набросилась на кусок ржаного хлеба, который дал ей Роман.
Игуменья позвала в келью монахинь. Только что вернулись они из уезда – собирали милостыню, наслушались всего. Исхудалые, безголосые, одетые в рубище, входили они в келью.
Кое-как можно было понять из их слов, что в окрестностях Суздаля видели они казацкие разъезды. А казаки те атамана Просовецкого, которого будто бы направил сюда Ивашка Заруцкий. Умыслил он преградить путь нижегородскому ополчению.
Московские бояре заодно с панами считают нижегородское ополчение сборищем бунтовщиков. Они всюду рассылают грамоты, чтобы попутные города восстали против нижегородцев.
Вечером Роман был позван к воеводе, вручил грамоту Пожарского. Воевода, маленький розовый старичок с узенькими хитрыми глазками, принял его радушно. Он усердно наливал Пахомову чарку за чаркой, думая, что под хмельком гонец будет откровеннее, по Роман глотал вино, как воду, оставаясь трезвым.
– Ого! – с досадой прокряхтел воевода. – Ты уместительный…
– Волгарь! – бодро ответил Роман.
– Скажи, не лукавя, – я вижу, парень ты хороший, – надежно ли твое нижегородское ополчение? Не хвастовство ли там какое? Ныне всего жди.
– Мамай – и тот правды не съел, а Жигимонду где уж! Правда есть, она в Нижнем.
– Стало быть, веришь? А люди говорят: будто там бунт у вас готовится…
– Змею объедешь, а от клеветы не уйдешь, – угрюмо ответил Пахомов, наливая себе вино.
Воевода глубоко задумался. Кому верить: подмосковным людям из стана Заруцкого или нижегородцам? Куда выгоднее пристать? Никак не угадаешь! Одно хорошо известно: казацкие сотни атамана Просовецкого уже двинулись к Ярославлю.
Что стоит им уклониться вправо и напасть на Юрьев-Польский, Переяславль-Залесский, Суздаль и Владимир? Как быть?! «Не схватить ли этого нижегородского хвастунишку и не выдать ли его головою казакам?! Ишь разбражничался! Губу разъело!»
А Роман, захмелев, прищурил глаза, погрозился на воеводу пальцем:
– Я те, дяденька! Знаю я вас!
Воевода с удивлением взглянул на него.
– Нет таких поляков на свете, нет таких немцев, что с Митрием Михайлычем потягались бы… Посмотрел бы ты, силища какая у нас, мне самому и то страшно. Царь Давид едва ли подобное войско имел.
Пахомов подмигнул воеводе:
– Ну, говори, говори. Чего молчишь?! Поди, одной веры мы с тобой, одной крови. Нечего скрываться.
«Ах, сукин сын! – возмущался про себя воевода. – Холоп дерьмовый… С кем равняться вздумал! И что такое! В Суздале люди тихие, кроткие. Одного моего взгляда пугаются, а этот беззаконник при мне, при воеводе, что хочет, то и говорит.
Уж и впрямь, не идет ли по его стопам мятежная орда? Закуешь его в железо либо утопишь в проруби, а потом и тебе голову снесут. Не диво, коли и это будет!»
Страх перед нижегородским ополчением взял верх.
Воевода велел приготовить нижегородскому гонцу теплую пуховую постель. Сам проводил его ко сну и ласково пожелал ему доброй ночи.
Пахомов глядел на него озорными глазами:
– Э-эх, дедушка! Несчастный я… Ой, какой несчастный! Ну, да ладно! Что ты понимаешь! Стар ты!
Воевода притворно захихикал. Удаляясь, он услышал за спиной своей пение нижегородца:
Кровать ты моя, кроватушка. Кровать тесовая. Ты срублена, кроватушка. Из бещастного дерева… Пошто ты, кроватушка, уста ты стоишь?!Не спалось Роману. Долго он ворочался с боку на бок, а потом слез с постели, стал на колени, принялся молиться: «Сбереги, господи Боже, для меня Наталью, не допусти до нее ни одного пана, ни одного казака, ни одного гусара, ни монаха, ни разбойника…» Все звания и должности перечислил, стоя на коленях перед иконами, хмельной Роман.
Взошла луна.
Охваченный полночной тишиной, маленький Суздаль погрузился в тоскливый сон, наполненный предчувствием какого-то нового страшного испытания.
IV
Нижегородское войско росло и крепло. Минин целые дни проводил в ополченских таборах. Татьяна Семеновна притихла. Пробовал Кузьма заговаривать с ней, но безуспешно. Нефед, растерянный, запуганный, робко приближался к отцу, косясь в сторону матери.
Обедали молча. Минин ел, обдумывая: какое и кому жалованье в ополчении положить. Задача немаловажная. Крестьяне, холопы и бобыли против прежних порядков:
«Не давать вотчин дворянам и служилым! Не по-божьему так: мы будем кровь проливать, а нас посля меж собою дворяне ровно скотину будут делить!»
Ополченцы роптали на древний обычай награждать дворян за поход землею и крестьянами… «Давай всем жалованье!» Дорогобужанам, смолянам, вязьмичам уже платили деньгами.
Было над чем призадуматься Минину.
К ополчению примкнули многие из князей. Явились на службу в Нижний князья – Черкасский, Лопата-Пожарский, правнучатый брат Пожарского; князья – Хованский (зять Пожарского), Прозоровский и Гагарин да знатный вотчинник Михайла Дмитриев Левашов.
А эти и вовсе испокон века за походы землями награждались, и некоторые из них были очень храбрые и отважные. Отойдут – слабее станет ополчение.
Время от времени к крыльцу подъезжали верховые, вызывая Минина на волю. Кроме верховых, приходили кучки пеших ратников.
Кому давай сапогов и лаптей, кому оружие, кто жаловался на пищу…
Свой конь, вычищенный и оседланный, стоял у ворот. Нужно было в Земскую, в Съезжую избу, да и кузницы нельзя было оставлять без присмотра… В литейных ямах дело шло хорошо.
Вместе с Пожарским навещал Кузьма иногда Марфу Борисовну. Несколько посадских и деревенских женщин и девушек расшивали знамена. Пожарский сам чертил на бархате рисунки и слова. Немало золотных узоров на знаменах было полито слезами нижегородских вышивальщиц.
Много было забот, много волнений и тяжелых минут у Минина. Ведь на нем лежало всё: он должен был и накормить, и дать обувь ополченцам, и находить им жилища, творить суд и расправу.
Но для людей Минин – железный человек, у которого не может быть никаких сомнений. Стойко выслушивал он ругань и проклятия, но никогда всерьез не принимал ни их, ни льстивых похвал, говоря, что нет страшнее врага, нежели льстец.
Чем больше забирал власть Кузьма и чем ближе он становился к народу, тем осторожнее делались его враги. Тот же Охлопков, закоренелый недруг Кузьмы, теперь не отходил от него, называя его «братом». Балахнинский Фома Демьянов, рассказывавший ранее всюду о своих оленях, о том, что якобы Минин его обманул, выманив их у него за бесценок, теперь приехал на жительство в Нижний, возвестив всем, что он «жить без Кузьмы Минича не может!» Даже высокородные князья и дворяне стали с ним говорить как с равным.
И, однако, в Съезжей избе он сказал:
– Прошу прощенья у знатных родов! Мы – не царская власть и земли давать мы не можем… Бог не благословил нас на это. Ополчение – меч, врученный нам господом для очищения Москвы от ляхов и воров… Так по разорении Иерусалима собрались последние люди Иудеи и, прийдя под Иерусалим, очистили его. Воля боярская и дворянская обратиться к будущему избранному царю за награждением. А мы не можем.
Из царских рук достойно дворянину получать землю и людей, а не из наших. Не могут вожди ополчения уподобиться самовольному тушинскому вору!
Честолюбие дворян было задето. В самом деле, достойно ли боярину или дворянину получать земли из рук всесословного Земского совета? И признает ли будущий царь помещиками дворян, получивших от Совета землю?
Оставалось согласиться на жалованье. Другого выхода не было.
Пожарский, опасавшийся распри, теперь успокоенный, наедине, крепко обнял Минина.
– Спасибо, Минич!.. Не чаял я! Не чаял!
Жалованье обсудили, глядя по статьям: первой приходилось пятьдесят, второй – сорок пять, третьей – сорок и самой меньшей – тридцать рублей.
Дворяне, в надежде на получение от будущего царя вотчин, стали спокойны. Казакам жалованья положили больше всех. На этом настоял сам Кузьма. Запашек у них нет. От родных мест удалены, дома их нарушены военными походами. Голые скитальцы! Нет у них ничего, кроме коня и сабли. Нельзя равнять их со всеми. Они больше других боролись с иноземцами. И кто такие казаки? Кроме донцов немало крестьян, гонимых и обездоленных, назвались казаками.
Спор о казаках был горячий, и многие земские люди называли их разбойниками. Сам Пожарский был иного мнения о казаках, нежели Кузьма, однако казакам жалованья дали больше ратников.
Пожарский отказался от всяких денежных хлопот.
– Мое дело – война. Я не хочу уподобиться Ляпунову, Заруцкому и Трубецкому, – объявил он. – Смешав золото с огнем, они гасили огонь и обращали в тлен золото. Золото в руках Минича принесет больше пользы.
Прибавилось забот у Кузьмы, но он шутливо говорил:
– Так не так, а уж этак будет.
Собрал дьяков-раздатчиков и над ними поставил других дьяков – проверщиков, а надо всеми – дьяка Василия Юдина.
В Земской избе наладили приказ ополченской казны. Целые дни здесь толпились казаки, чуваши, татарские наездники, беглые крестьяне.
Все сюда шли за жалованьем. Временами среди этой пестрой толпы можно было видеть и дворянские кафтаны. Ходили, толкались около дьяков и князья. От них тоже было два человека в этом приказе.
Минин весело потирал руки:
– Подперто – не валится. Пришиблено – не пищит.
* * *
Незаметно шло время. Ополченская рать мало-помалу вооружалась. Кузницы шумели круглые сутки. Длинной вереницей тянулись из Заволжья через лед сани, нагруженные дровами для кузниц и литейных ям. Работа кипела. День упустишь – годом не наверстаешь!
Вот уже и февраль!
Крепкие морозы вернулись вновь. Небо синее, чистое. Церковные вышки кажутся прозрачными. Укуталось в овчину и меха все посадское население. Гулко скрипит снег в необычайной благоговейной тишине первой недели Великого поста. Лица богомольцев набожны, печальны. Уныло расплывается в воздухе великопостный благовест. Дни покаяния и молитв.
И вдруг однажды ночью жители Нижнего Новеграда были разбужены необычайным шумом, криком и конским топотом. Накинув тулупы, в сапогах на босу ногу выбежали на волю; во мраке разглядели толпу всадников.
Оказалось, из Ярославля прибыли они с грамотой, в которой говорилось, что Заруцкий, желая помешать соединению нижегородского ополчения с северными городами, прислал в Ярославль многих казаков.
Гонцы донесли, что по следам казаков идет большое войско атамана Просовецкого. Он намерен захватить Ярославль и другие северные города.
Пожарский и Минин в громадных неуклюжих медвежьих тулупах пришли в Съезжую избу, где уже с гонцами беседовал Алябьев. При появлении ополченских вождей поднялись со своих мест все находившиеся в избе.
Монахи и стрелецкие начальники подняли шум: ополчению, мол, давно следовало бы выйти из Нижнего. И Троице-Сергиева лавра много раз писала о том же… Сам отец Дионисий и келарь Авраамий Палицын уже начали упрекать Пожарского и Кузьму – «чего-де вы медлите?! Довольно бражничать!».
Кузьма крикнул своим могучим голосом:
– Чего шумите! Уймитесь! Хочу говорить!
Он спросил присутствующих:
– Крест воеводе целовали?
Взметнулись голоса:
– Целовали! Целовали!
– Внимать будете?
– Будем! Будем!
В избе наступила такая тишина, что слышен был писк мышей в подполье.
– Говори, Митрий Михайлыч…
Поднялся Пожарский. Спокойный, слегка улыбающийся.
– Не могу я сметать дело на живую нитку. Совершить на скорую руку – недолго, но и в беду попасть того скорее…
А я так думаю: берегись бед, пока их нет, а там уж поздно беречься. Монахи Троице-Сергиевой лавры и келарь Авраамий, хоть и святые отцы, а в ответе перед вами не они, а мы… Наши деды говорили: «Десятью примерь, однова отрежь!» – так будем и мы… Сгубить наше войско – стало быть, навеки потерять Москву. Будем ждать Ивана Иваныча Биркина с подмогой из Казани, тогда и пойдем. А для угона Просовецкого от Ярославля я пошлю вам воинов с вернейшим воеводой, братом моим Дмитрием Петровичем Пожарским-Лопатою.
Худенький, русобородый юноша вышел на середину избы. Сделал низкий поклон.
– Бью челом земским людям! Вот я здесь перед вами, Лопата-Пожарский… И клянусь послужить я народу, сколько сил хватит, нелицеприятно!
Раздались голоса:
– Бывал ли в боях-то? (На сомнения навел невзрачный вид.)
– Как не бывать! Воевал я и с латинскими полками… Под Волоколамском и в иных подмосковных местах… И не однажды.
Вмешался Кузьма:
– Честное имя – надежная порука… Низко кланяемся тебе, князь! Веди воинов в Ярославль… Изгони злодеев!
Не посрами имени брата своего!
Великопостной тишине наступил конец. Заскрипели сани, зазвенели песни, раздались шутки, перебранки снаряжавшихся в путь ратников.
Выступил Лопата-Пожарский со своим войском в путь ночью.
Дмитрий Михайлович и Кузьма распростились с ним на середине Волги:
– Добрый путь! Не робей, брат, бейся до конца, – сказал Пожарский.
Рать Лопаты-Пожарского составлена была из опытных нижегородских, дорогобужских и верейских бойцов.
При расставании Минин пообещал, как только «придет Казань» и явятся гонцы, посланные под Суздаль, Владимир и Юрьев-Польский, так и все ополчение тронется в путь.
Мороз крепчал. Люди жались друг к другу. Взволнованные выходили ратники из Нижнего. Прощай, тепло! Прощай, уют! Прощайте, братья ополченцы! Что-то будет впереди?
Вскоре после ухода князя Лопаты вернулся Пахомов.
Он оповестил нижегородцев о мученической смерти Гермогена. Бояре требовали у патриарха по наущению панов, чтобы он послал грамоту нижегородцам, запрещающую ополчаться против короля. Гермоген с негодованием ответил:
– Да будут благословенны идущие на очищение Московского государства, а вы, окаянные изменники, будьте прокляты!
Гермогену перестали давать пищу. Девятнадцатого февраля он умер голодной смертью в кремлевском подземелье.
Паны, московские бояре, Заруцкий и Трубецкой вознегодовали при известии, что на берегах Волги поднимают восстание в защиту Москвы нижегородские мужики. Минин и Пожарский объявлены мятежниками.
Дорога через Суздаль и Владимир, по словам Пахомова, опасна для похода. Шайки поляков, шаткость тамошних служилых людей, даже духовенства, обнищание и голод – все это затруднит передвижение полков по этой дороге.
Рассказ Пахомова слушали на посаде с великим вниманием. Пожарский поблагодарил его, Минин выдал ему награду деньгами.
Жалко было Кузьме Гермогена, и он проливал вместе со всеми горючие слезы о замученном патриархе. Всюду слышались плач и проклятия королю и боярам. Во всех уголках Нижнего и старые и малые шептали молитвы о победе над врагом.
Минин верхом объезжал площади, базары и окраины, усердно призывая народ отомстить за мученическую смерть Гермогена. Он рассказывал об издевательствах панов над патриархом так хорошо, так живо, как будто он своими глазами это видел. Там, где он побывал, за оружие готовы были взяться даже древние старики и старухи. Слова Минина пробуждали в народе неслыханную злобу и жажду мщения.
В ополчение вступали все новые и новые толпы горожан.
V
Снаряжение войска близилось к концу. Пора было подумать и о выступлении. Но каким путем двинуться к Москве?
После донесения Пахомова нечего было и думать о походе через Владимир. Правда, в Съезжей избе, на сходе, князь Звенигородский упорно настаивал на Суздальской дороге, говоря, что это кратчайший путь. Никакой опасности, мол, ополчению там не предвидится. Ему, воеводе, хорошо то известно.
Да и троицкие власти не напрасно, мол, торопят; они тоже советуют – через Владимир. Воевода убеждал собравшихся не доверять гонцу Роману Пахомову. Со страха парень наговорил разных небылиц. Воеводу поддержал кое-кто из купцов.
Ему возразил Пожарский:
– Как можешь ты, Василий Андреевич, давать такой совет! Ужели неведомо тебе, что Просовецкий движется к Ярославлю? Вор Заруцкий умыслил отрезать нас от северных городов и Приморья… Горе нам, коли допустим это! Север и Заволжье – наша опора, в те места не проникла рука зорителей и не грабила народа. Надлежит твердой ногой стать в Ярославле, стянуть все силы туда, очистить от воров ближние ростовские и суздальские земли, наладить дружбу с Новгородом и шведами, дабы не грозили нам с тыла, и оттуда навалиться на Москву. Вот мой совет. Нам подлинно известно, что ляхам в Кремль подвезли продовольствие и усилили ратную часть. И хотя велика сила нашей любви к родине, но не надо хулить и военную силу поляков. Не раз я бился с ними и скажу: на бранном поле нам не легко будет бороться с ними.
Пожарского поддержали воеводы Алябьев и Лысгорь-Соловцев, калужские воеводы Бегичев и Кондырев, Свиньин из Галича, стрелецкие сотники, казацкие атаманы, чувашский старшина Пуртас, татарский мурза Гиреев, черкасский атаман и другие. Они подтвердили, что польское войско сильно и особенно их конница.
Минин сидел в конце стола, помалкивал, не вмешиваясь в спор военачальников.
Но вот спросили и его, что он думает. Поднялся со скамьи, поклонился и тихо сказал он: «Кормить ратников на берегу Волги будет легче, нежели идя по опустошенной Владимирской дороге. Голод для войска страшнее всяких гусаров. Воины должны быть хорошо одеты и накормлены! Для того нужно пойти по нетронутой ворами дороге и стать в безопасном месте. Лучше Ярославля для сего ничего и не придумаешь».
Степенный, скромный вид и вразумительный голос Кузьмы тронул и знатных господ. «Дабы не унижать себя спорами да разговорами с мужичьем, и мы согласимся с Пожарским…»
Эти мысли Минин ясно читал в приветливо глядевших на него глазах бар.
Итак, решено: Ярославль! Выйти из Нижнего, подождав Биркина. Если же он к середине марта не вернется из Казани, то подняться, не ожидая его. На сходе высказывалось удивление, что от него до сих пор нет никаких вестей. Уж не приключилось ли чего с посольством в дороге? Живы ли послы?!
Опасен был город Курмыш.
– Доколе мы не изведем здесь у себя всех ненадежных людей, – говорил Пожарский, – дотоле нам нечего уходить из Нижнего. Курмышские дворяне и воевода кривят. Курмыш у нас в затылке – можно ли оставить его в руках ненадежных правителей?!
На сходе Пожарский громогласно бросил упрек князю Звенигородскому, что тот не может заставить курмышского воеводу Елагина покориться нижегородскому приговору. Елагин денег на ополчение не шлет, а собирает везде, елико возможно, и даже не в своем уезде, а в Нижегородском.
– Не пристало тебе, Василий Андреевич, допускать таковое бесчиние. Разве ты не воевода?!
На другой же день Пожарский от своего имени послал молодого стрельца Афоньку Муромцова и крестьянина Фильку Фебнева в Курмыш со следующей грамотой: «По указу стольника и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского да дьяка Василия Юдина велено в Нижегородском уезде, в селе Княгинине и Шахманове, да и в Курмышском уезде в селе Мурашкине, да в селе в Лыскове, приехав, взять у приказных людей приходные книги, что с тех сел каких денежных доходов по окладу, и в селе Княгинине, и Мурашкине, и в Лыскове, и в Шахманове тамошних, и кабацких, и иных каких денежных доходов в сборе есть. И те все доходы выслать тех же сел со старосты и целовальники в Нижний Новеград, дворянам и детям боярским и всяким служилым людям на жалованье. И для Земского совету быть в Нижнем Новеграде старостам и целовальникам и лутчим людям; и велено им во всем слушати нижегородского указу, а платити всякие денежные доходы в Нижнем для московского походу ратным людям на жалованье. Кого тебе на Курмыше жаловать? А хотя и есть кого, и тебе Курмышом одним не оборонить Москвы. Знай же, господин, сам, что все городы согласились с Нижним, понизовые, и поморские, и Рязань, и всякие доходы посылают в Нижний Новеград. А какое учинитца худо и взачнетца кровь твоею ссорою, и то все Бог взыщет на тебе, и от Земского совету и здеся от бояр и ото всея земли отомчение приимешь. А которые деньги были в сборе в Мурашкинской, и в Лысковской, и в Шахмановской, и во Княгининской волости, и те деньги послать в Нижний Новеград с целовальники и со крестьяны. А послали мы с сею описью нижегородского стрельца Афоньку Муромцова да Мурашкинской волости крестьянина Фильку Фебнева».
Курмышский воевода не внял приказу Пожарского, уклонился от помощи нижегородскому ополчению. Он был верным слугой московских бояр и тайным сообщником нижегородского воеводы князя Звенигородского.
Кузьма посоветовал Пожарскому:
– Смени! Предай сыску.
Пожарский опять собрал сход и просил согласия у земщины отстранить от службы курмышского воеводу, а на его место поставить воеводою нижегородского дворянина «из выбору» Дмитрия Савина Жедринского, верного и достойного слугу земского дела.
Совет одобрил действия Пожарского.
Съезжая изба наполнилась кандальниками. В Нижнем и окрестностях шныряли польские соглядатаи и люди, распускавшие смутные слухи. Этих людей ловил сотник Буянов; допрашивали пристава и два попа; среди пойманных соглядатаев немало попадалось монахов и странников. Добытое сыском сообщалось Минину и Пожарскому. Они же от имени Совета и присуждали наказание.
Минин был безжалостен к людям шатким, сравнивал их с сорняком, мешающим расти здоровым колосьям. И нередко осуждал он Пожарского, пробовавшего обойтись уговором и молитвами там, где нужна была сила. Набожный и еще не оправившийся от болезни, князь с большим трудом соглашался на строгости, боясь греха, боясь гнева божьего.
– Будешь плох – не поможет и бог! – говорил Минин, когда Пожарский начинал колебаться. – Гибнет Русь! А мы – «плюнь да отойди!» Смерть в бою – божье дело, а от вора – наихудшее из позорищ! Губи изменников без потворства, беру грех на себя… Пускай меня господь накажет! Пускай буду я гореть в аду, нежели покорюсь ворам, леший их побери! Гляди, князь! Как бы за твою доброту не поплатиться тебе жизнью. Изменники не чтут добродетели соперника, желаннее им – гибель его…
Пожарский отмалчивался.
Однако вскоре произошло событие, приведшее и его в великий гнев, и в его сердце вспыхнула ненависть.
Из Казани вернулся протопоп Савва, бледный, исхудалый, и со слезами поведал, что Иван Иваныч Биркин, нижегородский посол, ляпуновский помощник, на словах больше всех осуждавший измену, по-братски облобызавший Минина и Пожарского перед отъездом в Казань, изменил!
Вместо того, чтобы склонить на сторону ополчения забравшего власть в Казани слугу Владиславова, дьяка Шульгина, Биркин тотчас же по приезде сам примкнул к нему, к Шульгину, стал его сообщником. Вернуться в Нижний не захотел, остался в Казани.
– Никто мне не верил, – с грустью вздохнул Кузьма. – А ты, Митрий Михайлыч, нередко стоял за него…
Пожарский укоризненно покачал головой.
– Но не ты ли, Минич, натолкнул меня взять его в помощники?
– И не напрасно. И в Казань его советовал я же отправить. Искушал я его. Испытывать крепость стебля в тихом месте не след. Надо поставить его там, где дуют переменяющиеся ветра… Коли устоит – стебель крепок, а начнет гнуться, извиваться, припадать на разные стороны – плохо, стебель ненадежный.
Весь посад пришел в волнение, узнав об измене второго воеводы. Из уст в уста передавалась эта печальная новость. Никто не хотел верить… Биркин?! Может ли то быть?!
Он был так предан земскому делу.
Недовольная ополченскими постоями и поборами кучка посадских сплетников, придравшись к случаю, принялась злословить, сея недоверие и к другим вождям ополчения.
Не оставили в покое и «самоуправца, из грязи да попавшего в князи» – Кузьмы Минина.
– Вот они какие… – шептали сплетники. – И Куземка для себя норовит. Гляди, и он не лучше других окажется. И проклятый этот стрелец Буянов… Вдоволь небось набил карманы… А Пожарский – глупец! Опутают его, сердягу, до плахи доведут. В цари сдуру полез! Придет времечно – ответит и он.
И пошли, и пошли…
Минин крепко задумался над поступком Биркина. Как-никак, а изменил самый первый человек в ополчении – помощник старшего воеводы. У него все тайны ополченского лагеря. Шульгин – сообщник панов, он может выведать эти тайны у Биркина и продать их панам.
Разгневанный Кузьма нигде места себе не находил.
Кому верить? Бояре, к которым перешла в Москве власть от царей, осрамились, опозорили себя навеки; казацкие атаманы, осаждающие и поляков и бояр в Кремле, якшаются с вором Сидоркой, хотят провозгласить его царем. Заруцкий тянет «маринкина щенка» на престол, сына тушинского вора.
По городам, селам и деревням изменяют воеводы, дьяки и приставы, даже попы: присягают и Владиславу, и Сигизмунду, и шведскому королевичу, и псковскому вору Сидорке.
Первою мыслью Кузьмы было: подослать в Казань своих людей, чтобы они убили Биркина. Но Пожарский, услыхав об этом, пришел в сильное волнение. Грозил, если Кузьма так поступит, он, Пожарский, уйдет из Нижнего и навсегда откажется от воеводства в ополчении. Кузьма взял свои слова обратно.
И придумал другое: послать в Казань стойких посадских людей, попов и татарских мурз, чтобы пустили они там молву о непобедимости нижегородского ополчения. Надобно всю правду рассказать казанскому населению о боевом духе ополченцев, о готовности их постоять за правду «до смерти».
Пожарский одобрил. Решено было еще крепче объединиться с ближними городами, еще сильнее вооружиться, лучше одеться, обуться, больше запасти всякой пищи, откормить посытнее коней и двинуться к Ярославлю.
* * *
Поздно вечером, возвращаясь из Съезжей избы, Минин зашел к Марфе Борисовне. Дверь открыл Гаврилка. Марфа Борисовна уже легла спать. Услыхав голос Минина, она быстро оделась и вышла из опочивальни в переднюю горницу навстречу гостю.
– Добро пожаловать, Кузьма Минич! А я помолилась о вас обо всех да и спать было…
– Голова у нее что-то болит. Устала! – сказал Гаврилка, вздыхая.
– Прошу прощенья, коли так!
– Да нет, Кузьма Минич, не больно я устала, ничего не делая, молясь только богу.
– И то благое дело, Марфа Борисовна.
– Ты бледен. И голос словно не твой! Не стряслось ли какой беды, Кузьма Минич, спаси бог!
– Да что уж тут… – Минин оглянулся по сторонам. – Али присесть?..
Марфа Борисовна всполошилась:
– Ах, да что же это я?! Садись, садись, дорогой гостюшка… Милости просим!
Минин поставил в угол посох, сел на лавку, вздохнул:
– Хваленый наш радетель общего дела, ляпуновский выкормыш Ванька Биркин переметнулся, сукин сын, на сторону ляхов. Что ты тут скажешь?!
Марфа Борисовна всплеснула руками:
– Биркин! Иван Иваныч!
– Да, Иван Иваныч, чтоб ему на том свете бесы кишки выворотили.
– Да верно ли это, Кузьма Минич? Нет ли поклепа тут?!
– Протопоп Савва донес. Человек честный. Самого-то едва выпустили из Казани.
Марфа Борисовна села у стены против Минина, бледная, взволнованная.
– Да как же это так?.. – испуганно проговорила она. – Против своих же?!
– А против кого шел Елагин? Против кого он подымал злобу в Курмыше? Против своих же, против нас. А Звенигородский? Веришь ли ты ему?!
– Нет, не верю… – тихо ответила вдова.
– То-то и есть! Много еще у нас в уезде тайных друзей Биркина… Не зря он провел здесь полтора года. Не зря имел своих соглядатаев.
– Что же теперь делать?!
Минин поднялся с места, заходил широкими размашистыми шагами из угла в угол по горнице, как бы обдумывая ответ.
Наступило тяжелое молчание.
Вдруг Минин приблизился к Марфе и тихо сказал:
– Теперь нечего нам ждать Биркина с казанцами. Готовься! Через несколько дней выступим. Пока реки не разлились. Митрий Михайлыч готов. На народ надеемся. Народ не изменит.
Марфа Борисовна взяла его за руку.
– Родной, Кузьма Минич, как же мы-то тут без тебя останемся?!
– Без меня остаться не страшно, а вот без Москвы… Лучше умереть! Не надо мне тогда и никого и ничего. Пропадай всё, ежели врагов не одолеем… К чему тогда наша жизнь?.. Холопам королевских панов пятки чесать?! Помилуй бог! Господь не допустит того.
Марфа Борисовна съежилась, маленькая, испуганная. Кузьма подошел к ней и укоризненно покачал головой:
– Ну вот! И ты такая же! Я вон Татьяне уже и не говорю. Слезы надоели! Видеть я их не могу. Тебе сказал, думал – обрадуешься… веселая станешь, а ты вон, гляди… трясешься вся! Эх, бабы, бабы! Все вы одинаковы.
Лицо Минина стало строгим.
– Ну что, если бы мы теперь все заревели! Я так думаю, ты бы нам ни одного корабленника[50] не дала… Вот тогда бы и я заплакал, глядя на таких воинов, а теперь… ты взгляни на наших ратников – душа радуется. Сами в Москву рвутся. Требуют. А почему? Они знают свою силу.
Кузьма подошел к двери и крикнул:
– Ортемьев!..
Дверь распахнулась – влетел Гаврилка.
– Эк, ты скорый какой! – засмеялся Минин. – Вот, братец! Дождались мы с тобой праздника. Собирайся.
Гаврилка вопросительно взглянул на Минина.
– Чего зенки вытаращил?! В Москву пойдем.
Марфа Борисовна ревниво следила за выражением лица Гаврилки. Парень взялся руками за голову, хотел что-то сказать, но, охваченный радостью, запутался и, низко поклонившись Минину, побежал обратно в сени.
Минин, растроганный, молчаливый, опустив голову на грудь, подошел к окну:
– Тьма!.. На посаде еще ничего не знают, спят, как дети… – он вздохнул. – Дети и есть! Вот кому надо плакать! Мне!
Марфа Борисовна подошла к нему:
– Минич, что ты говоришь!
– Говорю, что знаю. Но плакать не буду. Господь Бог не оставит народ. Из детей люди станут взрослыми, но мне не видеть того. Да, Марфа Борисовна, много силы в человеке. Ну, прости, побеспокоил тебя! Покуда прощай! Молись о нас. Твоя молитва угодна богу.
Низко поклонился Минин вдове и вышел на волю. За окном слышны были его тяжелые шаги и стук посоха.
Проводив гостя, Марфа Борисовна пошла в горницу к Гаврилке.
Он сидел на полу и при свете ночника с большим усердием точил о камень саблю.
– Парень, что ты?
Гаврилка оторвался от работы, посмотрел на вдову хмуро:
– Чего не спишь, боярыня?
– Да как же мне спать-то? Слыхал, что Кузьма Минич сказал?
– Не глухой. Как не слыхать! Давно пора. Народ роптать начал.
– Убери саблю. Не скоро ведь, не сегодня, да и не завтра… Чего же ты?!
– Эх, боярыня! Иди почивать, покоя тебе нет.
Марфа Борисовна покачала в задумчивости головой и ушла на свою половину.
* * *
Земский совет еще настойчивее взялся за обогащение ополченской казны.
Нижегородцы заняли деньги у многих именитых иногородних купцов, и в том числе и гостей Строгановых, выдав поручные грамоты вернуть деньги «после очищения Москвы».
Минин велел Буянову и Охлопкову прекратить «понуждение и утеснение нерадивых плательщиков».
После того многие «сами себя ни в чем не пощадили, собирая с себя деньги сверх оклада».
Из Вологды, куда были посланы смоляне Новожилов, Угрюмов и нижегородец Петр Оксенов, пришел ответ, что, «как пойдут ваши ратные люди, и мы с нашими людьми пойдем головами своими». Стали прибывать богато оснащенные ратники с Понизовья, из Вычегды, куда для сбора зелья и людей были посланы четыре служилых дворянина и Родион Мосеев.
Пожарскому удалось созвать в ополчение еще несколько опытных воевод; среди них был и двоюродный брат его, Роман Петрович Пожарский. Он стал ближайшим помощником Дмитрия Михайловича.
Ополченская власть окончательно заменила власть князя Звенигородского.
«Изба площадных подьячих для письма», у Ивановских кремлевских ворот, знать никого не хотела, кроме Пожарского. Все челобитные писались и направлялись только к нему.
Ни днем, ни ночью не было покоя избяным писакам. Гусиных перьев не хватало на челобитные. Стрельцы, казаки, пришлые иноверцы, крестьяне целые дни толпились около избы, каждый со своим делом.
Отныне Земский совет, именовавшимися то городским, то земским, назван был Советом всея земли.
Заботы Минина и Пожарского об ополчении не прошли даром. В короткий срок оно возросло, усилилось не только людьми, но и табунами коней, оружием и зельем, ввозимыми из других городов.
От Лопаты-Пожарского в начале марта было получено радостное известие, что казацкие отряды в Ярославле им взяты в плен; город перешел в руки нижегородского ополчения.
Появившиеся в Нижнем казанские калики перехожие рассказывали, что народ не послушался изменников – Шульгина и Ивана Биркина.
Казанцы настояли на своем – снарядить ополчение в подмогу нижегородцам для «доброго единения к очищению Москвы от супостатов». Им не доверяли. Не подосланы ли они Биркиным и Шульгиным.
Во дворе Троице-Сергиева монастыря на берегу Волги поставили стрельцов с приказом строго следить, чтобы монахи не спаивали ополченцев. У зелейного погреба в кремле расположилась казацкая стража, охранявшая боевые припасы. На Ямском взвозе бегали приставы, проверяя приходящих и уходящих ямщиков с конями.
В монастырских банях, внизу, на набережной, целые дни стояла суета.
Сам Кузьма следил за порядком.
День и ночь пыхтела винокурня в Монастырском овраге над Волгой.
Минин велел как можно больше наварить на ключах. (Время весеннее, распутица, заморозки – необходимо!)
В хлебопекарнях печи трескались от сильного нагрева. Женщины резали караваи на сухари, увязывали их в коробы. Песни хлебопеков далеко разносились по набережной.
На городском валу зорко следили за уходящими и прибывающими в Нижний людьми казацкие и татарские наездники.
Везде и во всем чувствовалась близость похода.
* * *
Марфа Борисовна загрустила.
– Стало быть, так нужно… Прощай! – говорила она Гаврилке, – Уйдете вы – молиться денно и нощно буду я о вас. Пошли вам господь бог одолеть супостатов, а мне, чтобы отпустил он все мои прегрешения вольные и невольные. Одна дорога мне – в монастырь!
Гаврилка с испугом схватил ее за руку.
– Что ты! Что ты! Милая моя! Тебе ли говорить про монастырь! Вернусь из похода, буду опять служить я тебе верой и правдой, опять денно и нощно охранять тебя, Марфа… боярыня моя, да кто же осмелится осудить тебя! Ты – молодая, словно цветок алый, на солнушке расцветающий…
Под густыми ресницами вдовы сверкнули слезы.
Она не могла говорить – печаль давила грудь. Гаврилка почувствовал жалость к Марфе Борисовне, немало унижений перенесшей на посаде из-за него, Гаврилки.
Марфа Борисовна вытерла слезы, встала и, выйдя в соседнюю горницу, принесла ему дорогую мелкотканую кольчужную рубаху.
– Вот тебе на дорогу… Пускай она охранит тебя от вражеских стрел. Покойный хозяин мой ходил в ней воевать. Люблю я тебя… – И заплакала.
За окном белели пушистые влажные ветви вербы в цвету. Где-то совсем рядом слышался благовест. Звон большого колокола был густ и печален. Величественно держался он в голубом весеннем пространстве над Волгой, не вступая в спор с дребезжащими, нудно мелкими колоколами…
– Прощай, родная, прощай!.. Завтра уходим!..
Обнялись.
– Берегите Кузьму Минича! Берегите Митрия Михалыча!..
Это были последние слова Марфы Борисовны при расставании с Гаврилкой.
* * *
На Верхнем и Нижнем посадах люди молились, прощались. Лобызали ратники своих жен, матерей, сестер, отцов, малых деток, старики благословляли ратников…
В кабаках и на площадях под тихие струны гусель слепые певцы тянули сочиненную в народе песню:
Ах, не ласточка, не ясен сокол Вкруг тепла гнезда увиваются, Увиваются стар-пожилой муж Со женою, верной, доброй матерью. Со хозяйкою домовитою, Вкруг надежды их, сына милова: Он идет от них в сторону, Опоясавшись саблей острою. Ах, не бор шумит, не река льется, Обливается горючими слезами, Возрыдаючи, молода жена, Расставаяся с красным солнышком, Провожаючи друга милова; Он идет от ней в дальню сторону, Опоясавшись саблей острою. Не труба трубит и не медь звенит — Раздается речь добра молодца: – Ах, тебе ль вздыхать, родной батюшка, Перестань тужить ты, родимая, Не кручиньсь, не плачь, молода жена, Береги себя, сердцу милая: Ах, неужели вы не знаете, Что на матушку, нашу родину, Пришли варвары непотребные? Кровожадные, как змеи, шипят, Страну нашу разорить хотят, Города привесть в запустение, Села красные все огнем пожечь. Стариков седых всех мечу предать, Молодых девиц всех в полон побрать. Ах, неужели вы запомнили, Что за вас же я и за родину Полечу теперь в поле ратное? Все удалые и могучие, Дети верные царства Русского, На врагов идти приготовились; Уж оседланы кони добрые, Уж опущены сабли турские, Уж отточены копья меткие; Рать усердная лишь приказа ждет, Чтоб пуститься ей в путь назначенный. Я ль останусь, как расслабленный, Ах, утешьтеся и порадуйтесь: Не наемник вас защищать идет, Волей доброю мы идем на бой; Не прельстят меня ярким, золотом, Ни каменьями самоцветными; Не продам за них милой родины. Отца, матери с молодой женой! Не ударюсь я во постылый бег Ни от тучи стрел, ни от полымя — И рассыплются злые вороги, Не осмелятся напасть опять. Уничтожится сила вражия, И окончатся брани лютый — И родимый ваш возвратится к вам…[51]Вокруг гусляров собирались женщины, слушали эту песню и тихо плакали.
В розовых лучах весенней зари серые, незрячие лица базарных певцов оживлялись, дышали энергией; вероятно, никогда слепцам так не хотелось взглянуть на мир, как в эти дни.
VI
Вот он, долгожданный час!
Пушечный выстрел над Волгой и дружный набат посадских колоколен возвестили о походе.
Всю ночь нижегородцы не смыкали очей. С мала до велика – на улицах и площадях.
Плавно колышутся златотканые знамена – плод трудов многих томительных дней и ночей. Стоя под парчовыми полотнищами, безбородые и бородатые воины хмурятся, волнуются. Ведь это не просто знамена – это прощальное напутствие, последнее объятие матерей, жен, дочерей, сестер…
Стоят посадские женщины, бледные, строгие, с детьми на руках, прислушиваясь к тревожным, неумолимым ударам набата. Среди них и Марфа Борисовна. Она – бледная, одета скромно, как и другие посадские женщины. Серьги, жемчужное запястье – все давно отдано ополчению. Только простой серебряный маленький крест на темном охабне.
Куда ни глянь – булат, железо, медь. Не прошли даром заботы Кузьмы. Собрано и наковано кольчуг, лат, щитов и прочего с избытком.
Из-под нахлобученных на лоб железных шапок сурово глядят лица вчерашних мирных жителей. У одних – только глаза и видны, все остальное в чешуйчатой завесе (бармице), спускающейся на плечи и грудь. Таковы египетского покроя шлемы-мисюрки. У других лицо открыто, но сквозь козырьки продеты железные полоски, защищающие нос. Смолян не трудно знать по ерихонкам с медными наушниками и затылочной пластиной. Против кремля стоят нижегородские ратники в высоких синих шишаках и в мелкотканой кольчуге. Решено было из города выйти в доспехах, в полной боевой оснастке.
Минин одел войско с отличием не по чину и не по званию, а по городам, и многие дворяне сравнялись в одежде с посадскими и деревенскими людьми. Были, конечно, иногородние дворянские всадники и в богатых куяках-доспехах из ярко начищенных медных блях, нашитых на нарядные кафтаны, и в шлемах с накладным серебром. Сабли их, турские, тоже нарядные, в серебряных ножнах, обтянутых бархатными чехлами. Но большею частью в ополчении было бедное дворянство, прибывшее в Нижний из разных мест, разоренное «от польских людей». Эти дворяне поглядывали неприветливо в сторону своих собратьев-щеголей.
Протопоп Савва, совершавший в Спасо-Преображенском соборе службу, вышел на площадь, прокричал молебен перед густою толпою ополченцев, благословил коленопреклоненного Пожарского, крепко обнял его.
Колокольный гул повис над городом, над Волгою и окрестными полями и лесами. К нему примешались многочисленные рожки и дудки скоморохов, ржанье коней, лязганье железа.
От кремля по главной улице и до окраины Верхнего посада развернулось войско.
Пожарский выехал из Дмитровских ворот, одетый в досчатую броню, именуемую зерцалом, в остроконечном шишаке и голубом плаще, перекинутом через плечо. На коне – пурпурная попона. Воеводу окружали стрелецкие и иные военачальники, татарские мурзы, мордовские и казацкие старшины. Среди них незаметный в овчинном полушубке, с мечом на боку, в своей железной круглой шапке – Кузьма. Под ним дареный посадскими друзьями горячий вороной конь. Около – неразлучные спутники Мосеев и Пахомов. Они теперь не в одежде странников, а, как и все, вооружены с ног и до головы. Оба дали клятву быть верными телохранителями Минина.
У конских станов, в Печерах, к Кузьме подошла толпа ратников.
Жаловались на боярских детей – вздумали смеяться над беглыми холопами, вступившими в ополчение.
Подъехал Минин к обидчикам. Узнав в них тех самых смоленских дворян, которые довели до бунта в Арзамасе тамошних крестьян, Минин сказал строго, не стесняясь присутствия тяглецов:
– Смирите гордыню, знатные люди! Господа и рабы, изведано, не могут думать равно. Спасая Русь, каждый из вас имеет свою мысль. Но то не должно ныне быть выше мысли о победе над врагом. Горе будет вам, коли дворянская спесь нарушит земское дело.
Дворяне притихли.
Гаврилка с трудом сдерживал рассвирепевших смоленских пушкарей. Парень приветливо поклонился Минину и Пахомову, когда они проезжали мимо. Кузьма залюбовался им: закованный в латы грозный воин, с открытым веселым лицом, румяный, здоровенный.
Гаврилка торжествовал: вот когда сбываются его желания! Солнце, знамена, войско, Пожарский, Минин, вооруженные земляки – все радовало его. Свершилось то, чего он так горячо ждал с той самой поры, когда после штурма Смоленска покинул свои родные места, о чем, гонимый, бездомный, мечтал в темных ночлежках и попутных деревушках во время ночевок, в полях и в проселках, скитаясь по замосковным местам.
Ему позавидовали бы теперь все его односельчане.
Все ведь они только о том и думали, как бы им сразиться с врагами.
Вот они, «последние люди», так недавно еще ходившие в сермягах, рваные, приниженные. Теперь они – грозная сила; вооружены лучшими саблями вологодской и устюжской ковки. (Молодцы – тамошние мастера! Научились не хуже заморских обрабатывать железо своими руками.) Приятно было сжимать и гладкое тугое ложе пищалей и опираться на холодную резную рукоять сабель и мечей. В Москве Гаврилка нагляделся на польских и немецких рыцарей, а наглядевшись, понял, что значит для воина иметь хорошее оружие. Смолянам пешим хотели дать только луки, ан не тут-то было: Ортемьев не такой человек. Вступился за земляков. Налег на то, что-де смоленские беглецы – круглые сироты, безземельные, разоренные люди и теперь – хоть бы весь свой век в воинах быть. Драться с врагом они будут, не жалея жизни. Чего ради им собой дорожить! Нечего им терять.
Дождавшись, когда Минин проедет, Гаврилка зло посмотрел в сторону дворян, только что обидевших, его товарищей.
Мятежные мысли сидели в головах многих тяглецов-ополченцев, но никто из них не решился бы вступить в ссору с дворянами. Это строго-настрого было запрещено Мининым.
Но вот «выборный воевода всей земли» объехал войско, внимательно оглядывая каждого воина, каждого начальника, каждый полк, затем рысью промчался со своими приближенными вдоль табора ратников к головной части ополчения.
Навстречу выехал Минин. Низко, почтительно поклонился воеводе, тихо сказав ему что-то. Пожарский кивнул головой в знак согласия.
Кузьма отделился от ополчения и с Родионом Мосеевым и Романом Пахомовым поскакал вниз по съезду к месту переправы – туда, где Ока сливается с Волгой.
Здесь, на Оке, уже кипела работа: монахи, женщины и подростки устилали оттаявший под солнцем ледяной путь через реку еловыми лапами, соломой; насыпали песок там, где были лужи; набрасывали тяжелые тесины на толстые бревна, ровными рядами покрывая мутные закраины у берегов.
Минин спустился по широким сходням на лед. Озабоченно осмотрел помост над закраиной.
Крикнув кузнецам, чтобы скрепили доски железом, тревожно покачал головою:
– Глянь-ка, Родион, река-то!
Мартовское солнце припекало почерневшую поверхность льда. С гор бежали ручьи.
Закраины ширились, надувались, подтачивая лед. Надо было торопиться.
Все эти дни Кузьма недаром не спал, подгоняя кузнецов и упрашивая Пожарского поскорее перебраться с войском на ту сторону. Иначе поход придется отложить. Может быть, на месяц, а может быть, и дольше.
Где найти тогда столько судов, чтобы переправить тысячи ополченцев на тот берег, особенно в половодье? Да и запасы проешь раньше времени. Ратники сами стали беспокоиться. Минин в ответе перед ними.
Никто в войске, однако, не слышал жалоб Минина на усталость, на трудности, хотя была и усталость и на каждом шагу трудности.
Вот и второй пушечный выстрел! Оглушительный грохот прокатился по улицам и оврагам.
Минин прикрыл ладонью глаза от солнца, чтобы лучше видеть, как из верхней части города начнет спускаться ополчение в Нижний посад.
Сердце его забилось от радости: там, наверху, на дороге, сверкнули знамена; заблестело оружие, доспехи. Послышались удары боевых литавр.
Минин облегченно вздохнул. Словно гора с плеч. Пошли! В последние дни он сильно устал, готовя ратников к походу, а главное (и это больше всего утомило), он опасался, как бы не вышло какое-нибудь препятствие, как бы чего не придумали его недруги ради помехи земскому делу. Князь Звенигородский, хозяин уезда, воевода, который должен был бы помогать ополчению, во всеуслышание сказал ополченцам: «Пойдете, а оттуда уже не вернетесь, и торговлишки лишитесь, домы ваши захиреют, и дети по миру пойдут».
«Как ни хитри, а правды не перешагнешь», – думал Кузьма, любуясь шумной, празднично настроенной массой нижегородского войска.
«В Москву!» – это было так ново, смело, загадочно!
Спустились к Оке.
Выборный человек от всего государства Московского должен сам «иметь смотрение» за переправою народного войска. Он въехал на бугор над рекой. Мосеева послал на середину реки, чтобы там наблюдал за переправой, а Пахомова – на противоположный берег Оки.
Из-за прибрежных ларей и домишек выехал Пожарский.
Он сидел прямо, озабоченно поглядывая на реку. Рядом – молодой воин на горячем белом коне с развернутым знаменем вождя.
Позади воеводы три пары нарядно одетых всадников с распущенными знаменами поместной конницы и городового войска. Малиновые, зеленые, желтые полотнища, расшитые парчою и травами, то и дело закрывают собою рослых молодых воинов, с трудом сдерживающих своих скакунов. Бряцание сабель, доспехов, щитов напомнили Кузьме недавние годы его собственной боевой жизни.
Через плечо у каждого всадника – берендейка с пулями, рог с порохом, сумка для кудели, масла и других припасов. Вчера целый день Кузьма сам проверял содержимое ополченских сумок и в некоторых из них не нашел ночников для зажигания фитилей. Об этом в ополчении было много разговоров. Пожарский отдал строгий приказ: самим начальникам проверить в своих сотнях и десятках ополченские сумки.
Войско шло по-новому, рядами, а не толпой.
Пожарский построил его так, чтобы оно не бросалось в бой по татарскому обычаю, как это было заведено прежде, нестройною, густою ордою, надеясь на рукопашную победу. В случае неудачи такое войско обращалось вспять, налетая на пехоту и обозы, или совсем скрывалось с поля битвы.
Дмитрий Михайлович кое-что заимствовал и у шведов, и у поляков.
Биться по-старинному: и огненным, и лучным боем он строго-настрого запретил, приучив конницу и пехоту к правильному наступлению на врагов, чтобы одна помогала другой, а пушки помогали бы им обеим.
Минин по-хозяйски разглядывал одежду, обувь, вооружение проходивших мимо полков, мысленно ругая кожевников, не успевших выполнить всего заказа на бахилы.
Весело приветствовал он рукой Пуртаса, сидевшего на низенькой волосатой лошаденке впереди чебоксарских всадников. Пуртас был храбрый и умный воин. Без него не было в последние дни ни одного схода в Земской избе. Чуваши, одетые пестро, не все были вооружены огнестрельным оружием. Многие из них имели луки.
За чувашами прошел смешанный пехотный полк, составленный из марийцев, мордвы, удмуртов. После них, с трудом соблюдая тихую поступь, последовала низкорослая, подвижная татарская конница – движущийся лес копьев. Ее вел мурза Гиреев; потом казаки, сотня запорожцев, украинские беглецы, которыми предводительствовал Зиновий.
Он весело крикнул Минину: «Здорово, братику! Гляди, каких славных та лицарей до себе прийняли!» И он с гордостью кивнул на товарищей.
За конницей и пехотой потянулись телеги с легким нарядом и ядрами.
Среди смоленских пушкарей, под началом Гаврилки, находился и сын Кузьмы – Нефед. А в самом хвосте ополчения длинной вереницей растянулся обоз с продовольствием, с полотнищами шатров, с досками разборных мостов, с запасными одеждами и доспехами.
Минин, опустив поводья, тихо ехал позади обоза. Мысленно он подсчитывал, на какое время ему теперь хватит хлеба и мяса. Пришедшие вчера иногородние ратники все спутали.
– Родион, – сказал он подъехавшему к нему Мосееву. – В Балахне бей челом… Хлеба еще надо… Сколько продадут. Да в Васильеве рыбы не достанем ли… боюсь, не хватит нам и до Юрьевца…
Минин поставил дело так, чтобы у ополчения было «свое» продовольствие: не обирать силою встречные города и селения, как то водилось за царскими войсками.
Ополчение благополучно перешло Оку.
Минин последним сошел со льда.
Часть четвертая
I
Ополчение пошло к Ярославлю по правому, нагорному, берегу Волги.
Недолго стояла ясная погода. К вечеру небо нахмурилось. Повеяло холодом с северной стороны. Того и гляди – снег! Земля затвердела, умолкли ручьи. Вороньи стаи подняли шум над Волгой, вспугнутые передовыми отрядами всадников.
Нижний остался далеко позади. Вот когда защемило сердце! Не суждено ли сложить голову под стенами Белокаменной?!
Пестрою шумною толпой растянулось ополчение на далекое пространство вдоль Волги. Леса сменялись оврагами, овраги равнинами, равнины холмами. Порою Волга скрывалась из глаз, но вдруг дорога сворачивала опять вправо, и войско снова выходило на высокое побережье Волги.
Иногда Пожарский, чтобы пересечь извилины дорог, сократив путь, приказывал разгораживать плетни и прокладывать дорогу через огороды, мелкие кустарники и речушки. Конные помогали пешим собирать раскидные мосты. Работа шла дружно, бойко.
Минин подъехал к Пожарскому.
– Гляди, князь, – кивнул он в сторону ратников, – как работают, по-хозяйски, прямо, согласно. А что они получат за то – неведомо! Да и не думают они теперь о себе.
– Дивное дело! Не видал я в прежних войнах подобного.
– Вон тот дядя, в полушубке, полюбуйся на него, пузо выпятил, губу отдул… а на копье опирается, что на булаву. Чем не атаман?
– Кто он?
– Шабер мой Кирилл Полено, калашник, домосед, лентяй, а вот погляди на него… Пестра сорока-белобока, а все одна в одну. Злее крапивы, гляди! И все этак-то.
– Да, – тихо сказал Пожарский, – трудно возвыситься над ними… Подняли мы их, а справимся ли?
– Бог поможет, князь… – вздохнул Кузьма. – Помог поднять, поможет и достойными их быть.
Пожарский шел в Москву, чтобы очистить ее от поляков и восстановить добрый порядок. Если этого не будет, лучше умереть, нежели сделаться холопом Сигизмунда. «Добрый порядок» – значит, возвращение к власти бояр, ближних советчиков государя, как то было при Василии Шуйском. С будущего царя Пожарский мечтал взять «письма, чтобы ему быть нежестоким и не-пальчивым, без суда и без вины никого не казнить ни за что, и мыслить во всяких делах с боярами и думными людьми сопча, а без их ведома тайно и явно никаких дел не делать». Пожарский и Голицын не раз беседовали о том, что будущий царь, вступая на престол, «должен дать клятву блюсти и охранять православную веру; по собственному умыслу не издавать новых законов, не изменять старых и не объявлять войны и не заключать мира; важные судебные дела вершить по закону, установленным порядком; свои родовые земли отдать родственникам либо присоединить к коренным землям». Таков «добрый порядок», ради восстановления которого готов был погибнуть Пожарский.
Не раз Пожарский делился с Мининым своими думами. Но у Кузьмы, человека посадского, незнатного, было иное в голове. Он, как и другие мелкие тяглые люди, думал о большом «единоцарственном» Вселенском соборе, который бы всенародно избрал доброго, хорошего царя, облегчил бы тяжелую долю посадским мелким людишкам, дворянским холопам и крепостным крестьянам.
К вечеру добрались до Балахны: множество в беспорядке разбросанных домишек, несколько ветряных мельниц, соляных варниц, почерневших кирпичных сараев и много церквей. Недаром в народе говорили: «Балахна стоит полы распахня». Над избами высились рубленые стены и башни крепости, также почерневшие и местами обгоревшие. Много претерпела в последние годы Балахна от всяких врагов.
Навстречу из города вышли посадские власти с хлебом-солью, с ласковыми приветствиями. Какой-то низенький старичок в потертом кафтане поднес Пожарскому лукошко с деньгами и низко поклонился:
– Прими, князь, от посадских трудников и сирот. Бог не убог, а Микола милостив – помог. Собрали, что могли, на ратное дело… Не обессудь!
Пожарский передал деньги дьяку Юдину, а тот на коне отвез их находившемуся в тылу Минину.
С великой радостью принял Кузьма дар Балахны и бережно убрал в денежный ящик, который охраняла буяновская сотня.
– Болящий ждет здравия, а мы добронравия. Дай бог здоровья балахнинским сиротам, – перекрестился он, убрав деньги.
И тихо добавил Буянову на ухо:
– Гляди крепко за казной. Нет ли здесь лихого человека! Опасайся!
Тучи сошли. Солнце село. В глазах зарябило от окрашенных закатом перистых облаков. На том берегу сосновый бор темнел, хмурый, неприветливый. Весенний воздух, безветрие располагали к размышлениям. Усталость давала себя знать. Непривычные к кольчугам мирные горожане и деревенские жители на ходу торопились освободиться от доспехов, клали их на подводы. Тридцать верст в один день – не малый труд. Некоторые ратники давно уже сложили свои доспехи на воза.
Кузьма с охраной проскакал в город посмотреть, приготовлен ли ночлег ранее высланными передовыми. Но разве всех уместишь в обывательских домах? Так и этак многим придется ночевать на воле, в шатрах, а иным на телегах и на возах.
Не успел Пожарский с головною частью войска перейти по мосту крепостной ров и миновать проезжую башню острога, как к нему приблизилась толпа бежавших из-под Москвы бедных дворян с Матвеем Плещеевым во главе, отложившихся от подмосковных атаманов, упрашивая принять их в ополчение. Были они оборванные, полубольные, вид имели самый жалкий.
Взять таких воинов – значит взвалить обузу на себя; отказаться – нанести беднякам на глазах у ополчения великую обиду. Пришлось согласиться.
– Бог спасет, Митрий Михайлыч!.. Не покаешься. Послужим честию!
Кланяются и Минину низко, до самой земли, дворяне, принимая от него теплую одежду, доспехи и оружие.
– Век не забудем твоей доброты, Кузьма Минич. Богу станем за тебя молиться, – говорят они, забыв о своем дворянстве, унижаясь перед посадским человеком.
Минин вида не показывает, что ему нравится, как перед ним гнут шеи господа дворяне. Лицо его деловито, движения плавны, спокойны.
– Кто добро творит, тому зло не вредит… – приговаривал он, пытливо рассматривая плещеевских дворян. – А нам делить нечего. Заодно идем.
На земляных буграх появились толпы балахнинцев, ребятишки, монахи с хоругвями; общая радость, молитвы, набат, монастырское песнопенье – все смешалось, звучало величественно в тихом вечернем воздухе.
– Добро, братцы, добро! – сквозь слезы кричат направо и налево ополченцы, входя в Балахну.
После молебствия на площади Пожарский, усталый и разбитый, наконец добрался до ночлега, приготовленного ему в Съезжей избе. Но и тут не сразу удалось лечь спать. Осадили военачальники. Явился и Кузьма. Нужно было рассудить: кто из людей, приставших к войску, в которую статью годен и сколько кому жалованья. В этом суждении принял участие и воевода новоприбывших дворян Матвей Плещеев, расхваливавший своих воинов. Те ждали на воле, когда выйдет к ним Минин и объявит положенное жалованье. Только в глубокую полночь Пожарский остался один, охраняемый буяновскими стрельцами.
Кузьма пошел по лагерю. Осматривал, как устроились ополченцы. В город не вместились все; раскинули шатры за городом. Кузьма ежился от холода. Мартовские заморозки давали себя знать. Пахло талой землей и вербами. Только иногда неприятно ел глаза и глотку дым от костров, разведенных между шатрами. Составленные «горою» пики, ряды саней и телег, пушки и лошади – все это постепенно погружалось во мрак. В шатрах от изобилия спящих было тепло, жарко. Это успокоило Кузьму. Больше всего он опасался за здоровье своих ополченцев.
У одного из костров расположилась кучка ратников. Минин слез с коня, спрятался за шатер, подслушал, о чем беседа. Среди чувашей, марийцев, татар и удмуртов сидел Гаврилка. Тут был татарский начальник Юсуф, чувашский – Пуртас и другие.
Юсуф. Звенигородский – шайтан, Биркин – шайтан…
Им голову долой!
Гаврилка. А как по-твоему, по-татарски, голова?
Юсуф. Голова – баш.
Гаврилка. Ну, Пуртас, а по-чувашски?
Пуртас. Голова – пось.
Гаврилка. А по-твоему, мордвин?
Мордвин. По-нашему – пря.
Тут Минин неожиданно вышел из-за шатра и, подойдя к костру, сказал:
– Так вот, братцы, баш да пось, да пря, да русская голова всех шайтанов одолеют… О том не тужите, лучше айда по шатрам спать! Ведь стан почивает, а вы не спите. Дорога велика, наговоритесь. Да и утро вечера мудреней… Это ты, Гаврилка, тут заводишь! Ложись!
Увлекшиеся беседой ратники неохотно разошлись на ночлег. Не ушел один Гаврилка, которого остановил Минин.
– Не слыхал ли чего от ополченцев? Не ропщут ли?
Не пал ли и сам духом?
– Ну что ты?! Одного желают: к Москве скорей!
– А татары, а чуваши и иные?
– Ропщут на то: чего для не дал убить воеводу в Нижнем?.. Не надо было его оставлять!
Глаза Минина хитро улыбались:
– Стало быть, не угодил я?
– Куды там! Одному тебе только и верят изо всего воеводства. Черемисы да чуваши с тобой и пошли, спроси сам Пуртаса.
– Так. Ладно. Ну, иди спи. Завтра увидимся. Что-то теперь там наша Марфа поделывает?..
Гаврилка вздохнул, почесал затылок и молча отправился спать.
Минин пошел дальше, заглядывая в шатры. К нему подкрался верховой:
– Эй, человек! Чего бродишь?! – крикнул он, грозно подняв плеть.
– Не узнал? – тихо рассмеялся Минин.
Верховой соскочил с коня, подошел вплотную.
– Ба, да это ты, Кузьма Минич!
– Я самый. Спасибо тебе, Михаил Андреич! Служишь правдой!
– Почитай весь стан объехал и двоих только нашел, что не спят: ты да я, не считая стражи.
– Устали, не ближний путь. – И, понизив голос, Минин спросил: – Ну, что там? Нет ли каких лиходеев? Не болтает ли кто против нас? Все ли спокойны?
– Нашлись три прасола, болтали… Мол, Кузьма – парень не дурак, деньгу любит… Обобрал знатно Фому Демьянова… Оленей чуть не даром брал у него… И теперь, мол, пустили козла в огород… казну ополченскую ему доверили…
Минин крепко сжал руку Буянову:
– Ну, ну и что?
– Побили мы их да на съезжую в Балахне сдали.
– Добро – не попались мне. Я бы им… – Кузьма заскрежетал зубами.
– Бог им судья! И меня будут помнить всю жизнь.
– Зорко смотри… Михаил Андреич! Спаси бог, распря! Все погибнем! Ну, поезжай! А я пойду к себе в шалаш.
– Нешто ты не с князем?..
– Что ты! На виду и у дворян и у князей?! Достойно ли нам равняться?! Ворчать будут. Ну, езжай! С Мосеевым да с Пахомовым я там, на краю, у церкви.
– Дай бог тебе здоровья, Минич! Береги себя!
Буянов снова вскочил на коня и скрылся в темноте. Минин торопливо зашагал по скользкой дороге. В ночной тишине из шатров иногда доносились несвязные выкрики сонных ратников. Лунный свет серебрил подмерзшую к ночи землю.
* * *
Рано утром окрестности Балахны огласились оглушительным боем литавр. Трубачи возвестили утреннюю зорю.
Гой, еси вы, дружина храбрая! Не время спать, пора вставать!На телегах развезли по полкам хлеб и вареное мясо. Около шатров наступило шумное оживленье. Разговоры, смех, звон котелков, кувшинов с теплым квасом. Нижегородцы хорошо умели варить пиво и квас. Даже иноземцы, приезжавшие в Московское государство, восторгались нижегородским пивом. Опросталось несколько мехов с вином. Полегче стало обозу. Вино давали тому, кто чувствовал слабость либо кого лихорадило.
Спасибо Балахне! Хорошо встретила, по-родственному. Что-то будет дальше?
После трапезы, помолясь, двинулись в путь.
Погода ясная, безветренная.
Этот день шли уже в более приподнятом настроении. Прощальные отзвуки угасли. А нижегородец, хотя бы даже и оторвавшийся от своего города, долго грустить не любил. И теперь нижегородцы подали всем другим ополченцам пример бодрости, выносливости, деловитости и смекалки. Они же первые и песни запели. Во всем чувствовалось, что у них еще сохранились хозяйское достоинство и свежесть разума. Вот почему их песни дружно подхватывались остальными ратниками.
Следующая остановка была в любимой Кузьмою Василевой слободе[52], вотчине Василия Шуйского. На высоком берегу, над Волгой, раскинулась она в соседстве с дремучим лесом. Направо, налево – волжские просторы, ширь, величественные дали.
В этот вечер весна дала знать о себе. На откосе из-под снежного покрова обнажилась земля. Река совсем почернела; закраины отошли от берегов чуть ли не до середины – вот-вот пойдет вода. Вороны, взлетая с высокого нагорья, спускаются вниз на Волгу. В красноватом от вечерней зари воздухе тихо шелестят знамена. Слышно пенье какого-то подгулявшего василевского жителя:
Ты воспой, воспой, молодой жавороночек, Весной на проталинке, Возвесели меня, доброго молодца…Минин стоит на откосе, смотрит вдаль и вспоминает, как он ходил сюда в детстве из Балахны к тетке. «Когда война кончится, поселиться бы мне здесь навсегда в Василеве, отойдя от бояр и дворян и всякой служилой суеты… Провести бы старость здесь, среди деревень, в соседстве с матушкой-Волгой».
И люди в Василеве крепкие. Издавна славились своей отвагой. Вместе с ними Кузьма бил здесь панов, пытавшихся обратить Василево в свою вотчину. Вместе с василевцами, побив непрошеных гостей, зарывал он их кости в глубокие могилы. Вместе с василевцами на память внукам насыпал он и высокие курганы над побитыми панами.
И теперь! Не успело ополчение приблизиться к Василеву, как несколько десятков дюжих, коренастых василевских парней с секирами на плечах вышли за околицу навстречу Пожарскому. Стали поперек дороги: «Батюшка воевода, прими! Постоим головою!»
Как не принять таких бравых молодцов! Кузьма прямо от Пожарского увел их к себе. Расспросил о здоровье своих василевских друзей, с которыми вместе бывал в походах. Накормил их и сдал Буянову.
Долго в этот вечер бродил по василевскому берегу Кузьма, размышляя о будущих делах. Здесь, в вышине над Волгой, мысль становилась смелее. Уже в начале похода всем стало ясно, что если бы не он, не было бы такого единодушия в войске. Его имя ратники произносили с уважением и любовью. Свою силу Кузьма видел и сознавал, и оттого ему было тяжело. Примирив временно врагов непримиримых, сам никак не мог примириться с мыслью, что он ниже бояр, что он как был тяглецом, так им и останется, и теперь даже самый последний ополченский дворянин не считает его, Минина, себе равным.
Вспомнился ему один храбрый василевский ратник, Сенька Сокол, бившийся в войске Алябьева под Балахной. Любимая поговорка его была: «Пускай во все повода! Дуй в хвост и в гриву!» На своей сивой лошаденке, закинув над головою меч, он врезался в самую гущу поляков, обращая их в бегство своей бешеной дерзостью… «Главное дело – не робь! Греха на волос не будет!» – приговаривал он, возвращаясь из сечи и обтирая кровь на лбу. «Не уподобиться ли и мне Сеньке и не пойти ли в открытую после изгнания ляхов?»
Спрашивал о Сеньке Кузьма у василевских парней. Говорят, ушел куда-то с ватагой бурлаков. С какой бы радостью теперь Кузьма встретился с ним и поговорил по душам! Но где его найдешь! Ах, как хотелось бы кому-нибудь все высказать! Но нет. Надо молчать, молчать! Князь Дмитрий Михайлович – хороший человек, но поймет ли он? Не испугается ли того, что сказал бы ему он, Минин?
И здесь около одного из костров кучка ополченцев! Все спят, а они смеются, разговаривают…
Ну, конечно, опять Гаврилка:
– А как будет красный по-вашему?
Татарии Юсуф отвечает:
– Кызыл.
– А по-вашему?
– Якетере… – отвечает мордвин.
– Ешкарге, – торопится сказать черемис, не дожидаясь вопроса.
Увидев Кузьму, все разошлись по шатрам. Один Гаврилка не успел уйти.
– Чего ты, неспокойная душа? – спросил его Кузьма. Стыдливо опустил глаза Гаврилка.
– Хочу по-ихнему знать… Все языки хочу знать.
– Эк ты, хватил! Какой мудрец! Мы и так друг друга поняли. Все заодно идем. Разноплеменность не мешает. Душа у всех одна. Чего же тебе! Отправляйся спать. Путь далекий, береги силу.
* * *
Опять растянулось ополчение под знаменами длинной плотной вереницей по лесным и полевым дорогам. Появились больные. Их уложили на телеги. Суетились знахари вокруг них с травами, с настойками. За каждого вылеченного получали они чарку водки и деньги, старались угодить Кузьме изо всех сил.
Час от часу труднее было идти по весенней дороге, скользкой утрами и вечерами, мокрой и сырой днем; особенно трудно стало переправляться через овраги и речки с пушками, возами и телегами. Но не растерялись ополченцы, шли по-прежнему бодро, настойчиво, преодолевая преграды.
Кузьма собрал самых голосистых певунов из нижегородских бурлаков да гусельников, пустил их впереди и сам с ними запел. Остальные ратники подхватили.
Звуки гусель и дудок делали слова песни сочными, звонкими и вескими, как булат:
Выезжали на Сафат-реку На закате красного солнышка Семь удалых русских витязей, Семь могучих братьев названых. Выезжал Годено-Блудович, Да Василий Казимирович, Да Василий Буслаевич, Выезжал Иван Гостиной сын, Выезжал Алеша Попович млад, Выезжал Добрыня Молодец, Выезжал и матерой казак Илья Муромец.Лицо Минина, широкое, густо обросшее бородой, покраснело от напряжения: его голос звучал громче всех.
То и дело взмахивал он рукой, как бы давая знак, чтобы пели громче-громче.
Так подошли к Юрьевцу.
Навстречу высыпало все население города.
Юрьевские посадские дали ополчению хорошо вооруженных, тепло одетых удалых ратников. Кроме того, они вручили Минину немалую казну, собранную среди жителей города и уезда.
Ополчение расположилось на отдых среди сосняка, над Волгой, против впадения в нее Унжи.
В стан Пожарского приехали на конях юрьевские татары со знаменем в головном ряду. Просили взять их под Москву.
В 1552 году Иван Грозный подарил астраханскому царевичу, женившемуся на русской княжне, Юрьевец со всеми окрестными селами. Тогда переселилось сюда из Астрахани немало татарских семейств. Их потомки и предлагали Пожарскому свою помощь. Пожарский обнял и крепко поцеловал татарского старшину, приведшего к нему своих всадников.
Старшина с глубоким поклоном объявил Дмитрию Михайловичу, что татары давно ждут нижегородцев.
Это был маленький седенький старичок с темными печальными глазами. Он складывал желтые морщинистые руки на груди; тонкие потрескавшиеся губы шептали проклятия полякам.
Три года назад к Юрьевцу подошли они. Их вел пан Лисовский. Татары, соединившись с русскими посадскими и крестьянами, вступили в бой с Лисовским, но у них не было такого оружия, какое было у поляков. Пришлось отступить в Унженские леса. Прежде чем уйти из родного города, жители сожгли его дотла. Была зима, и немало народа погибло от стужи в дремучем лесу, особенно малых детей. Татары поклялись Аллаху отомстить панам за своих погибших единоверцев.
Старичок-старшина встал со скамьи и низко, до самой земли, поклонился Пожарскому:
– Не откажи взять и наших всадников!
Князь велел старшине поблагодарить татар за их стойкость и желание воевать. Он сказал, что ни русский, ни татарин, ни чувашин и ни мордвин не могут находиться в безопасности, доколе паны хозяйничают в Московском государстве, не могут они спокойно жить и трудиться на Русской земле, коли на нее нападают враги.
– Вы и мы идем на брань не ради чужой земли, а за свою станем биться до смерти…
На широком поле, за городом, конница юрьевских татар показала свои обычаи военного боя. В многоцветных полосатых халатах, в остроконечных, подбитых мехом шапках, татары, пригнувшись к шеям коней, с гиканьем и свистом рассыпались по полю. И быстро разделились на два лагеря. Замерли на месте, ожидая сигнала.
Вдруг пронзительным разноголосым языком засвистели, затрубили дудки. Раздался неистовый крик наездников. Обнажились изогнутые сабли и ятаганы, ощетинились пики.
Наездники обеих сторон беспорядочной массой стремглав ринулись навстречу друг другу и, скрестив сабли, замерли на месте один против другого.
Все это было проделано с изумительной ловкостью. Пожарский и Кузьма помчались к месту остановки наездников и похвалили их. Пожарский, между прочим, посоветовал им нападать на врага не врассыпную, а теснее, держась ближе друг к другу. Он осмотрел оружие наездников и велел острее отточить копья. Ополченцы окружили место, где происходил примерный бой. Слышались возгласы одобрения, веселые шутки их. Ополченцы остались довольны своими новыми союзниками.
Время в Юрьевце прошло весело, да и погода становилась все теплее и солнечнее. На площади, перед самым собором, ополченцы водили с здешними девушками хороводы.
Попы и старики махнули рукой на неугомонных ратников. Сначала пробовали жаловаться Пожарскому на «еретическое пение и скакание», а потом, видя, что и он не в силах сдержать веселья воинов, решили «отойти от зла и сотворить благо». Минин, закинув голову, сам первый во весь голос запевал песни вместе со своими приятелями-бурлаками, попробовал даже и «скакать» на площади сообща с молодежью. Ополченцы весело смеялись, глядя на него.
* * *
У Юрьевца Волга делает размашистый поворот. До сих пор она шла к северу. Теперь свернула на запад. Впереди – остановки в селе Решме, Кинешме, на Плесе и Костроме. А там уже и Ярославль! Когда ополчение покидало уцелевший после пожара пригород Юрьевца, была уже полная распутица.
В почерневших от сырости улочках звенела неумолчная капель, сверля и подтачивая рыхлый снег вблизи посадских хибарок. На тесовых кровлях, среди гари, оживилась древняя прозелень мхов.
Дорога окончательно испортилась. Ноги людей и коней проваливались сквозь рыхлый наст. Еле-еле, при помощи ополченцев, вытаскивали лошади из снежного месива дровни с нарядом.
Со стороны Волги налетали порывистые, но теплые ветры, налетали с такой силою, что не было возможности нести знамена над головами. Пришлось опустить.
– Свят, свят! – озабоченно сказал Гаврилка, подъехав к своим товарищам-смолянам. – Ровно сами дьяволы на нас лезут.
– Ветер-вешняк всегда так; зиму раздувает… Ему вдвое силы нужно, – ответил Олешка.
– Место нагорное, чистое, тут-то ему и потеха! – отозвался еще кто-то.
Посыпались шутки и прибаутки.
Диво-дивное: распутица ноги ломает, гложет сырость, донимает мокрота, а на душе весело: полторы сотни уже позади! До Ярославля осталось только два ста с пятьюдесятью. Приналечь еще немного – и полпути!
С каждым шагом возрастало все сильнее желание поскорее прийти к Москве.
Слова Пожарского: «Мечь решит судьбу!» – давали надежду. Зачем было и трогаться в такую даль, как не за победой! А вера в нее крепче каменных стен!
Теплые братские встречи по деревушкам и починкам укрепляли в ратниках горделивое сознание своей силы.
Избалованные, чванливые дворяне, бывшие в ополчении, только теперь поняли, что значит народ. Следя за тем, как Пожарский часто подъезжает с Кузьмой то к одному полку тяглецов, то к другому и как простодушно он беседует с ними, дворяне решили, что и воевода, как и они, боится простонародья. Перед их глазами постоянно широкое, усмешливое лицо Минина, сидевшего на коне бодрее и величественнее князя. И многие из дворян, которые познатнее родом, тайно осуждали Пожарского: зачем он, мол, рядом с собой ставит простолюдина, бывшего говядаря, затмевая им самого себя. Они считали это оскорблением для всех господ благородных кровей.
«Господи! Когда же кончится сие позорище?» – вздыхали они.
И как будто в ответ им, под взмахивание руки Кузьмы и под громкое запеванье, ополченцы буйными задорными голосами запевали все новые и новые песни.
Пожарский тоже шевелил губами… Зрение не обманывало: да, он, князь, вместе с черным людом и Кузьмой пел мужицкие песни!..
«Ой, ой, владычица! До чего дожили!»
В Решму из Владимира прискакал гонец от тамошнего воеводы Измайлова. Новость: подмосковные бояре Трубецкой и Заруцкий привели к присяге псковскому самозванцу – вору Сидорке – все казачье ополчение. Минин и Пожарский собрали совет.
Пожарский велел поблагодарить воеводу за известие и передать ему, что вору Сидорке присягнули Заруцкий и Трубецкой, а не казаки. Им не нужен еще новый вор. Довольно с них и прежних воров. Казаки в том не повинны.
В Кинешме ополчение отдыхало. От Юрьевца до Кинешмы дорога оказалась очень тяжелой. Пролегая по нагорному берегу Волги, она пересекалась многими оврагами и речками, выступившими из берегов. Всадники, рискуя утонуть, переправляли на своих конях и пехоту. Приходилось наскоро сооружать паромы, и затем их снова разбирать. Ополченцы по пояс в воде вытаскивали на берег бревна и тесины паромов. Снова складывали их на дровни и везли дальше. Переправы отнимали много времени и сильно утомляли людей.
Поминутно раздавался над головой могучий голос Минина, подхватываемый голосами бурлаков:
Ой, раз, ой, раз! Еще раз, еще раз! Взглянись, друг! Возьмись вдруг! Да ух!Большою помехою на дороге стала высокая гора при селе Нагорном, вблизи Решмы. Глинистая почва ее, размякнув, причинила ополченцам немало хлопот. Падали люди; катились вниз кони, ломая себе ноги; застревали на одном месте сани и телеги, приходилось их брать «на руки».
И везде в самые трудные минуты появлялся Минин, и снова:
Ой, матушка Волга, Широка и долга! Укачала, уваляла, У нас силушки не стало! Взглянись, друг! Возьмись вдруг! Да ух!!!Отдых в Кинешме показался настоящим праздником, да и жители Кинешмы проявили великую заботу об ополчении.
По просьбе Минина они выслали в Плес артели лесорубов, плотогонов и плотников. Нужно было заранее соорудить большие паромы для переброски ополчения на луговую сторону. Начался полный ледоход. Несколько дней пришлось переждать.
Ополчение стало готовиться к переходу в Кострому.
II
Накануне переправы в Плесе, повыше Кинешмы, Минин собрал у себя в избе древних ведунов-знахарей. Мосеев и Пахомов караулили около избы, чтобы никто не входил к Минину. На грязном дощатом столе коптел ночник. Вокруг стола сели три седых, убогих старца и две плесовские вещуньи-старухи. Косматые, темные от грязи, с длинными изогнутыми ногтями, старухи сидели неподвижно, глупо улыбаясь. Старцы, напротив, были угрюмы. Минин стоял посредине избы, о чем-то думал. Знахари ждали. В подполье возились крысы.
– А ну-ка, добрые люди! Что ждет меня впереди? Сподобит ли господь нас, грешных, побить ляхов, очистить Московское государство или нет? И что будет со мной после того?
Минин сел на койку в темном углу, и оттуда донесся его голос:
– Говорите все без утайки, как есть, не бойтесь меня разгневать или испугать. Будет ли благодать божия над нашим великим делом, или суждено и нам погибнуть на поле бранном, не победив врага?
Наступило тяжелое молчание.
Минин нетерпеливо покашливал, опираясь локтем то на одну, то на другую коленку.
Отозвалась худая высокая старуха. Она встала и, подойдя к Кузьме, шепнула:
– Кем хочешь быть?
От старухи пахло погребом. Минин поморщился, отодвинулся.
– Змием… Крылатым змием! – усмехнулся он.
Старуха захихикала, взяла его за руку.
– Аль полюбил кого? – продолжала она. – Аль неволею хочешь преклонить сердце любимой?
– Хочу лететь в Литву, губить панов.
– А ты, добрый человек, не притворяйся!.. А то не буду.
Кузьма сказал сердито:
– Прочь, убогая! Твои чары пустошные… Иди к девкам, там и гадай.
И крикнул:
– Эй вы, деды, чего заснули?
Все три старца поднялись, подошли к Минину. При свете ночника стали рассматривать его ладони. Потом отошли в сторону, между собой перешептываясь. Один из них достал из-за пазухи какую-то траву, сжег ее, тщательно собрал пепел и подошел к Кузьме.
– Плакун! Плакун! – зашипел он. – Плакал ты долго, выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разноси твой вой по синю морю. Будь ты страшен злым бесам, полубесам и недругам! А не дадут тебе покорища – утопи их в крови. А убегут от твоего позорища – замкни их в ямы преисподние. Будь мое слово при тебе крепко и твердо. Век векам!
Кончив заклинание, он осыпал Кузьму пеплом.
Подошел другой старец, тихо проговорил:
– Убит огненный змей, рассыпаны перья по Хвалынскому морю, по сырому бору Муромскому, по медяной росе, по утренней заре… Яниха, шойдега, бираха, вилдо!
На смену ему приблизился третий старец. Он спросил Кузьму:
– Что видишь?
– Ничего.
– Ничего и не станется.
– Как так?
– Покорись королю, поклонись московским боярам, не то погибнешь…
– Погибну?! – вскочил Кузьма в удивлении.
– В Костроме сложишь голову.
– Откуда ты знаешь?
– Костромские мы… пришлые люди.
– Кто вам то сказал?
– Филин-вещун на соборном погосте. А чтобы того не было, коли не отступишься и пойдешь дальше, вот выпей из баклажки нашего винца-сырца, и никакая напасть не возьмет тебя.
Минин дал им серебра и вытолкнул всех троих вон за дверь. Вылил в черепок мутную зеленую жидкость и долго при свете ночника разглядывал ее. Покачал головою, нахмурился, пить не стал. Вышел на волю.
Луна. Воздух прозрачен, отчетливо топорщатся кустарники и высятся бугры по ту сторону реки. После прокопченной курной избы и колдунов легко дышится. Внизу шуршат льдины, теснясь у подножья обрыва, Вся река в глухом беспокойстве. Торопливой стаей движутся оснеженные льдины. Вчера совсем было очистилось от льда. Хотели спустить паромы, но вдруг прорвало затор повыше Плеса, у островов, и опять пошло сало.
Минин тихо побрел вдоль берега, вдумываясь в предсказание знахарей. «Кострома? Почему колдуны предрекают гибель не в Москве, а в Костроме?» Минин вдруг остановился.
До его слуха долетел голос Романа Пахомова. Заглянул в овраг. Прислушался – хихикающее шамканье знахарки:
– Аль полюбил кого?
– Полюбил, ей-богу, полюбил! Сызнова полюбил – послышался плачущий голос Пахомова. – А она где – и не знаю я… Ей-богу!
– А ты бога не поминай. Заговор – дело грешное.
Минин спустился вниз, подошел к знахаркам. Пахомов, узнав его, отскочил в сторону.
– Здешние они… Калякал я тут с ними, – смущенно проговорил он.
– Здешние-то они здешние, – сказал Минин, – а ворожить не умеют… Костромские старички куда лучше. Право!
Старухи зашипели, полезли, размахивая руками, к Кузьме:
– Слушай их больше! Слушай! Знаем мы этих старичков.
– Они не такие, как вы…
– А ты спроси, – прошипела одна из старух. – Откуда они?.. Кто они?.. Почто забрели в Плес!
– Пей, говорим, пей!
– Почто?! Ворожить. Вон и зелие мне дали они, чтобы я пил его… От несчастий.
Старухи беззубо захихикали:
– Вот и пей!
– Что вы! – удивился Минин.
Кузьма сунул в ладони вещуньям монеты.
– Ну, Роман, пойдем. Надо готовиться к переправе.
Вернувшись к себе в избу, Минин вылил из черепка заговорное зелье опять в баклажку. Пахомов по приказу Минина привел к нему Буянова.
– Милый мой, – сказал Кузьма, – объявились тут трое знахарей-шептунов… Слыхал ли о них?
– Знаю. Костромские коновалы они; главного у них звать Гераськой… Коней они у нас тут пять голов загубили травами. Казаки хотели их утопить.
– Возьми баклажку. Здесь отрава. Они ее дали мне. А ты заставь их выпить. А до того пытай: чьи они, кто их послал сюда?.. Зачем?.. А отраву дай! Пускай выпьют! Насильно влей!
Буянов, осмотрев баклажку, покачал головой, вздохнул:
– Ах, проклятые!.. Ладно. Напою.
* * *
Волга за ночь очистилась ото льда.
Жители посада Плес с мала до велика пришли на берег провожать нижегородцев. Сообща столкнули в воду громадные плоты и заранее устроенные широкие, уместительные паромы.
В первую голову погрузили своих коней казаки и татарские наездники. Заботливо вели они за повода норовистых скакунов сверху по тропе к паромам. Кони упирались, становились на дыбы. Собравшиеся на берегу ополченцы покрикивали на них, помогали коноводам вталкивать животных на мостки, соединявшие берег с паромами. Минин, красный, потный, в расстегнутом кафтане, подхлестывал длинной плетью особо норовистых, сердито ругаясь. На пароме коней крепко привязали к ограждению. Провожать их вскочили на паромы казаки и татары. После того с берега по бревнам осторожно спустили крупные и мелкие пушки. На этот плот сели Гаврилка, Олешка и их товарищи-смоляне. Промокшие насквозь во время спуска орудий, они деловито придвигали вплотную одну пушку к другой, лазая через них, протирая их дула куделью. На этот же плот Минин приказал сесть и своему сыну, пушкарю Нефеду. Затем Кузьма повел к Волге по откосу ратников. Первыми заняли места на громадных паромах знаменосцы, литаврщики и трубачи. Опираясь на посох, по мосткам прошел с толпой князей и воевод Пожарский.
Многолюдная артель плесовских гребцов с большою охотою взялась помогать ополчению в переправе. Дружно взлетали над водой сотни длинных тонких весел. Но не так-то легко было преодолеть суводь[53] разлива. Паромы, несмотря на неимоверные усилия гребцов, или стремительно относило в сторону, или начинало кружить на одном месте. Гребцы, обливаясь потом, еле-еле справлялись с водой.
На луговую сторону благополучно перебросили ополченцев (их насчитывалось уже не менее тридцати тысяч), и всех коней, и наряд, и подводы.
Со слезами на глазах расстались гребцы с воинами и от платы за работу отказались.
Следующую ночь пришлось заночевать вдали от жилищ, в прибрежной рамени.
Тревожная ночь! Вода прибывала очень быстро. Испуганно ржали кони, косясь в сторону реки. Приходилось то и дело выскакивать из шатров, оглядывать окрестности. Не давало покоя шуршанье воды в прутняках. Словно охотилась она за человеком. Думаешь, поставил шатер далеко от берега, да еще на пригорке, успокоишься, хочешь заснуть, а она уже снова пенится около самых полотнищ шатра, поднимая прошлогоднюю листву и хвою.
Разве уснешь в такую ночь? Поневоле в шатрах идут разговоры. «Снег тает дружно – быть урожаю», – успокаивают нижегородцы иногородних ополченцев, снимая шапки и крестясь в сторону Волги. Чуваши добавляют: «И ягод будет много!» Мордва и черемисы тоже согласны с нижегородцами: разлив большой – хорошо!
А о том, что война помешает полевым работам, говорить не хочется.
Река зовет на волю. Не сидится на месте. Около шатров уже много ополченцев. Любуются на отражение в воде позолоченных месяцем облаков и на сплетенные из влажных золотистых сучьев над водою причудливые узоры.
Воображение разыгрывается. До сна ли теперь!
Пермяк стал уверять, будто черепа, что попадались в дороге, тоже к урожаю. Древняя самая примета!
Перешли на выдумки.
Один бойкий ополченец, с секирою за спиной, рассказывал о своей деревенской колокольне, будто на ней такой колокол: позвонят о рождестве, а он гудит до самой пасхи.
Лицо у него серьезное, хотя все кругом рассмеялись над его словами.
– Так врать умеют только монахи, – сказал Гаврилка, подойдя к толпе шутников.
Находившийся среди ополченцев монах обиделся.
– Ну-ка, я расскажу, слушайте, – оживился Гаврилка. – Был один постник. В самый Великий пост поймали его: пек на свечке яйцо перед иконой. «Что ты делаешь?» – закричали ему, а он: «Сатана меня соблазнил». Черт подслушал, не вытерпел и закричал: «Врет! Сам-то я впервые вижу такую штуку. Смотрю и учусь!»
Монах зло плюнул в подступившую к самому шалашу воду: «Еретик!»
– Один врал – недоврал, – хитро причмокнул Олешка, – другой врал – переврал, а третьему ничего не осталось.
– Ври, парень, и ты! Осталось!.. – раздались голоса.
– Про панов я… – смущенно заговорил он. – Сидят в осаде в кремле паны, ни войти, ни выйти – и скучно им. Давай врать, чтобы облегчить свою неволю… Пан Гонсевский расхвастался: «Нешто Москва умеет стрелять! Они только летучую мышь пугают. А мы – прямо в цель. Вот возьмите меня. Был я на охоте, бежит дикая коза. Я выстрелил в копыто задней ноги!»
– Как же это так?! – закричали ратники.
– Да так, – улыбнулся Олешка. – Будто бы, когда он стрелял, коза задним копытом себе ухо чесала, оттого пуля-то и прошла сквозь копыто… Тут пана Гонсевского перебил пан Доморацкий… «Нехай ясновельможный пан вспомнит: я насилу задний копыт притянул к уху; без меня бы козе не достать!..»
Острые на язык, находчивые на ответ, сорвиголовы – смоленские пушкари были самые неуемные говоруны. Вокруг них охотно собирались ратники и из других полков, и казаки, и татары, и чуваши.
Но вот около ополченцев остановился проезжавший верхом Буянов, подозвал к себе Гаврилку и поведал ему, что в Плес из Костромы приехали соглядатаи-колдуны и подсунули Минину отраву. Да не удалось им убить Минича. Буянов заставил их самих выпить зелье. Все трое после того богу душу отдали, покаявшись перед тем, что их подослал дьяк костромского воеводы Шереметева.
– Теперь не зевайте, – сказал Буянов. – Может, придется вспугнуть костромского вельможу огоньком.
Гаврилку обступили ополченцы: «О чем говорил сотник?»
– Кузьму Минича хотели отравить.
Парень передал ратникам всё, что слышал от Буянова.
«Бояре задумали погубить Минина!»
До утра шли горячие, возбужденные разговоры. Ратники требовали отдать им на суд и расправу костромского воеводу.
С большим трудом, и то только самому Минину, удалось успокоить возбужденных ополченцев.
* * *
Рано утром забили литавры, загудели трубы, подняв птиц в соседних соснах, – войско стало готовиться в дальнейший путь. Зиновий, протирая полусонные глаза, затянул, по просьбе Минина, песню. Товарищи подхватили:
Ой, посеяв мужик да у поли ячмень; Мужик каже – ячмень! жинка каже – гречка! Ни мов мини ни словечка! Нехай буде гречка. Нехай, нехай, нехай, нехай, нехай буде гречка!Эхо разносило басистое, озорное, дружное «нехай» по окрестностям. Неприятную дрожь от прохлады и сырости и от ночных переживаний ополченцы старались заглушить песнями.
Не отстали от прочих и нижегородские ратники. Яичное Ухо – запевалой.
Ах ты, Волга моя. Волга-матушка! Хорошо Волга разливалася, Со крутыми берегами сополнялася. Потопила Волга зелены луга, Поняла Волга все долы-горы!Песни песнями, а из головы никак не выходит жуткая мысль, что «Кузьму Минича хотели отравить». Еще милее, еще дороже он стал теперь ополченцам. И еще большая ненависть к панам и боярам-изменникам охватила их. Только бы взять Москву, изгнать оттуда проклятых панов, а там… В самом ополчении уже нашлись высокородные князья, о которых тоже недобрые слухи пошли: вздумали было захватить верховенство в ополчении, вознести себя выше Кузьмы.
Совсем недавно на одном из привалов князь Черкасский стал обвинять Минина в гордости и непочтении к князьям, что, мол, проезжая мимо них, он никогда не кланяется. Черкасский требовал, чтобы Минин при каждой встрече с князьями слезал с коня и кланялся им в пояс.
Минин остановил проходивших в это время ратников и казаков и спросил их:
– Пристало ли мне, друзья, шапку ломать, подобно холопу, перед князьями ополчения, как того ныне требует князь Черкасский?
– Нет! Не хотим! Не хотим! Ратоборствуй без унижения!.. – закричали ратники и казаки.
– Вот гляди, князь… Не велят. Могу ли я ослушаться их? Что люди, то и я.
Князь Черкасский позеленел от злости и поторопился исчезнуть в своем шатре под громкий смех ополченцев.
Кто может ратникам заменить Кузьму Минина?! Всем взял человек! И умом, и добротою, и силою. Любо-дорого смотреть, как он сидит на коне, как орлиным взглядом окидывает войско. Настоящий повелитель, родной, свой, а не какой-нибудь вотчинник. И кто может с Кузьмою сравняться силою? Устоять ли в единоборстве с ним рыхлым, избалованным князьям и дворянам?
Около него и Пожарский-то стал другим, чем был, когда только что приехал в Нижний. Теперь он еще проще и доступнее. Совсем не как князь! Несмотря на частые недомогания, он наравне со всеми ратниками переносит тягости похода. Любит на стоянках побеседовать, пошутить с воинами.
Когда ополчение стало приближаться к Костроме, случилось следующее.
В открытом месте, вдали на бугре, мчались два всадника навстречу ополчению. Приглядевшись, можно было разобрать, что это мужчина и женщина. Несутся прямо к воеводе. Размахивают руками. Подъехали. Загудели трубы – «остановиться!»
То были Наталья Буянова и Халдей, ныне стрелец костромского воеводы, Константин Симонов.
Прискакали они с тревожными вестями.
В Костроме получена грамота от московских бояр, а в ней сказано:
«…Мы, видя ныне то разорение, зело душою и сердцем скорбим и плачем, и мыслим, чтобы всемогущий и вся содержай в Троице славимый бог наш послал дух свой святой в сердца ваши всех православных крестьян, чтобы вам познати истину, а от воровские смуты отстати и к великому государю вашему царю и великому князю Владиславу Жигимондовичу всея Руси вины свои принести и покрыти нынешнею своею службою».
Воевода Иван Петрович Шереметев, единомышленник Семибоярщины, исполняя волю князя Мстиславского и своего родственника Федора Шереметева, объявил нижегородское ополчение и вождей его «мятежниками», согласно сему посланию московских бояр.
Он велел городской страже запереть ворота, не впускать никого, а пушкарям не сходить со стен, быть готовыми встретить «бунтовщиков» огнем.
Но… боярская воля – одно, мирская – другое. Многие из посадских людей и съехавшиеся в Кострому крестьяне восстали против воеводы и не допустили пушкарей к стенам. Воевода послал против них стрельцов, но и те перешли на сторону мелких людей. В городе начались волнения.
Константин и Наталья, подкупив воро́тников, поскакали из крепости уведомить о случившемся нижегородское ополчение.
Выслушав их, Кузьма сказал спокойно:
– На всякую беду страха не напасешься. Наше дело правое, идем, Митрий Михайлыч, чего нам! Народ небось не выдаст.
Решили идти к Костроме, положившись на честь и разум «последних людей», простого народа.
* * *
Иван Петрович Шереметев, костромской воевода, в страхе поглядывал из окна куполообразной вышки дубового воеводского дома на площадь.
Воеводиха забилась в угол со своими двумя малолетними детьми, испуганно таращившими глазенки на отца.
– Неблагодарные!.. Подлые!.. Изменники!.. – исступленно кричал воевода.
В дверь постучали. Вошел дьяк, растрепанный, с подбитым глазом. Воевода уставился на огромный синяк, украсивший лицо дьяка.
– Эх, друг! Кто тебя?
– Не слушают! Заиграли трубы Пожарского, и словно бы ума лишились все. Сбили воро́тников. Хлынули навстречу нижегородцам… Какая-то баба меня кочергой… Насилу от нее отбился.
– Далеко ль они?! – спросил воевода, придя в себя.
– Близко. С Успеньева собора уже стало видно.
– Велика ли шайка?..
– Господь ведает!
– Да не упрямься, батюшка, выйди с образами. Поклонись! Встреть их!.. – заплакала воеводиха. – Что тебе?! Не все ль равно?
– Чтобы я, Шереметев, да поклонился воровским людям?! Чтобы свою шею согнул перед мятежниками?! И принял бы, как равного, наемника холопьев, бесчестного князька?! Нет! Никогда тому не бывать…
Шереметев бегал из угла в угол, точно безумный. Нет! Нет! Может ли он унизиться, став на одну доску с «опоганившим княжеское достоинство» Пожарским!
– Да разве он – князь! Собака он! Вор! – вопил Шереметев. – Беги!.. Прикажи огнем встретить мятежную орду!.. Чего рот разинул? Прочь! Беги! А где архимандрит?
– Заперся в соборе. Испугался народа. Многие дворяне и купцы с ним. Богу молятся!
Шереметев махнул рукой:
– Нашли время! Ой, что мне делать с ними! Глупцы!
– Тише! – всплеснула руками воеводиха, еще крепче прижимая к себе детей. – Господь покарает нас!.. Образумься!
На воле усиливался рев толпы. Все трое подбежали к окну: множество народа, вооруженного дубинами и рогатинами, вливалось через Спасские ворота в крепость. Народ повалил к дому преданного воеводе стрелецкого сотника Жабина, выбил дверь, ворвался внутрь дома.
После этого толпа осадила ненавистную всем Съезжую избу, где много несправедливых расправ творил костромской воевода. Разгромив ее, толпа ринулась в Пушкарское дворовое место, разбила оружейные сараи. Появились самопалы и копья в руках у восставших костромичей.
Воеводиха, увидав, что разъяренная толпа направилась к дому воеводы, упала в беспамятстве на пол. Дьяк, перекрестившись, поднял ее, усадил в кресло. Плачущие дети вцепились в платье матери.
Воевода застыл у двери с саблей в руке:
– Да… да… идут… Прощайте! – растерянно бормотал он, – За честь гибну!..
* * *
Резкие, властные звуки ополченских труб стали слышны в городе.
Бедняки шумной, нестройной ватагой побежали навстречу нижегородскому войску. За спиной у них раздались окрики сторонников польского королевича.
В городе началась распря: кто – за Владислава, кто – за нижегородцев. Последние взяли верх. Их было больше. Устроили на валу сход. Сговорились – запереть захваченного в плен Шереметева, открыть Пожарскому ворота и просить его назначить нового воеводу, а прежнего казнить на площади всенародно как изменника, за его умысел против нижегородского народного ополчения.
День клонился к вечеру. Поднялся низовой ветер. С колоколен было видно, как разбушевалась Волга. Беляки[54] избороздили всю реку. Вспуганные шумом, вороны и галки каркали, раздражая слух.
Но вот… совсем близко. Впереди войска – два осанистых всадника, а позади них – знаменосцы.
Навстречу ополчению двинулось посольство.
С хлебом и солью костромичи пустили самую красивую дородную крестьянскую девушку, нарядив красавицу в лучший, дорогой охабень, убрав ее лентами и возложив на ее голову усыпанный красными каменьями кокошник. За нею шли, опираясь на посохи, седобородые посадские старосты. Потом – низкорослые, пестро одетые стрельцы. И, наконец, шумная толпа посадских ремесленников, бобылей и иных жилецких людей.
У Спасских ворот и на широком бревенчатом мосту над глубоким рвом костромичи оставили охрану около вывезенных из пушкарских сараев пищалей.
Ивашку-хлебника сход благословил быть начальником стражи. Сорви-голова парень, здоровый, убьет сразу, кто попытается ворота запереть либо мост разрушить.
За час до этого, ворвавшись вместе с товарищами в воеводин дом, он выбил из рук Шереметева саблю, повалил его и сел верхом – насилу оттащили парня. Воеводу взяли под стражу и посадили в его же доме, внизу в каменной подклети. С секирами встали: Любимка Гусельник, Степанка-пастух и великан Ахмет-лесник. Воеводиху с детьми спрятали в одной из изб как залог на случай побега Шереметева.
Горячо поблагодарили вожди ополчения костромичей за их приветливую встречу. Долго кланялись они красавице-крестьянке, вручившей Пожарскому хлеб-соль. Спросили, чья она, как ее звать.
Старосты отвесили поклон до самой земли:
– С господней помощью мы Ивашку Шереметева, замышлявшего против вас, сняв с воеводского места, посадили в клеть, где оный и есть под нашими приставами… Бьем тебе челом, Митрий Михайлыч, и тебе, Кузьма Минич, поставьте нам воеводу достойного, который прямил бы не королевскому заморышу, а общеземскому святому делу! И многие из наших людей просят принять их под твою хоругвь, Митрий Михайлыч… особливо юноши.
Пожарский пообещал поставить нового воеводу и горячо поблагодарил земских старост за обещание дать ратную силу, но просил пока не лишать жизни Шереметева.
Земские старосты поклялись во всем слушаться Пожарского.
– Раньше нам воевода не дозволял сбирать для вас деньги, ныне мы полновластны в себе. Будем сбирать!..
Ответил Кузьма:
– Жизнь нам дана на добрые дела. Будем думать, что не то хорошо, что хорошо, а что народу нужно. В иных городах люди не щадили себя ни в чем – отдавали всё. В Юрьевце татары сказали: «Отруби ту руку, которая добра себе не желает!..» А вы и подавно не должны скупиться. Кланяемся и мы вам за ваши обещанные дары!
У городских ворот ополчение ждала новая толпа. С трепетом смотрели жители на спокойных, ласково улыбавшихся нижегородских воевод, торжественно въезжавших в город.
Некоторые из посадских становились на колени, женщины плакали при виде усталых, но бодро и весело шагавших под тяжестью доспехов и оружия ратников. Норовили сунуть что-нибудь им в руки: либо хлеб, либо пирог, а кто вареную курицу или кусок вареного мяса и другие гостинцы.
Из-за реки Костромы приплыли монахи Ипатьевского монастыря, чтобы поднять костромичей против Пожарского. Узнав, что воевода сидит под замком, а архимандрит заперся в соборе, они в страхе разбежались.
Гаврилка, Осип, Олешка и Зиновий по прибытии в Кострому обратились к Пожарскому с челобитьем.
– Отдай нам Шереметева! Он хотел погубить Минина, а мы хотим погубить его.
Пожарский усадил парней, сказав:
– Шереметев ли послал колдунов? Не оговорили ли они своего воеводу? Мы того не знаем. Будет суд. Как он скажет, так тому и быть должно. Успокойте своих товарищей: наказать виновных мы с Кузьмою Миничем сумеем сами, коли найдем их… А Шереметеву больше уже не быть воеводой.
Успокоенные ответом Пожарского, парни вернулись в ополчение, сообщив товарищам, что сам «наш староста» будет чинить суд и расправу. Дело – надежное.
Узнав о прибытии нижегородского ополчения, крестьяне из разных деревень толпами двинулись в Кострому. Тут были варнавинские, унженские, галичские, кинешемские и из других мест охочие люди, желавшие присоединиться к нижегородскому ополчению. Все они горели негодованием на костромского воеводу Шереметева, не оповестившего заранее о предстоявшем приходе Минина и Пожарского в Кострому.
– Кабы мы знали ранее, так насобирали бы всего ополчению, да и оружием бы, чем могли, оснастились бы… Бог накажет за это изменника-воеводу. В прорубь бы головою его надо, окаянного!
Сильнее всех бушевал коробовский дед Иван Сусанин. Он привел с собою своих односельчан, вооруженных вилами, топорами, рогатинами.
– Братья-костромичи! Настал час – всем нам либо победить, либо погибнуть! Так мы, коробовские, на сходе и порешили!
– И мы!.. И мы!.. Все мы так же, дядя Иван!.. Все готовы головы сложить за землю родную, за матушку Русь! – закричали со всех сторон собравшиеся на площади перед собором крестьяне.
Костромичи с великой радостью приняли в свои ряды охочих деревенских людей. Выделенный ими для беседы с крестьянами высокий, красивый воин, по имени Антон Рудаков, обратившись к Сусанину, сказал:
– Спасибо, дядя Иван, тебе за доброе слово, за доброе дело, за горячую любовь к родной земле!.. Пускай знают изменники и маловеры, кои нашлись в Костроме: народ против них, костромские люди со всех концов идут в Кострому на борьбу с врагом…
Буянов, подоспевший в это время к месту схода деревенских охочих людей, объявил им, чтобы они шли в Земскую избу. Там их накормят и выдадут им кольчуги и оружие. А затем их осмотрит и побеседует с ними сам воевода Дмитрий Михайлович.
Ратники, устроившись на ночлег, пошли засветло погулять по городу, расположенному частью на возвышениях при устье реки Костромы, частью на двух уступах вдоль Волги… Костромичи назвали эти уступы Верхнею и Нижнею Дебрами. Остальная, большая часть, города расположена была на возвышенной ровной поверхности.
Костромские жители зазывали ратников к себе в дома, угощали их брагой и пирогами. Двойная радость была у них: убрали воеводу и дождались ополчения.
Пожарский вместе с Мининым пошел посмотреть на Шереметева Он приказал земской страже освободить его. Очутившись на свободе, воевода всхлипнул, стал на колени перед Пожарским и Кузьмой. Хотел что-то сказать, но не смог, слезы мешали.
Кузьма посмотрел на него недружелюбно.
«Блудлив, как кошка, труслив, как заяц». Не любил Кузьма таких.
– Буде! Вставай!.. – усмехнулся Минин. – Не стыдно ли тебе, воеводе, мякнуть в слезах и унижаться перед нами? Гляди прямо!
Наверху, в воеводском доме, Пожарский спросил Шереметева:
– Чего ради ты пошел против народа?
Шереметев промолчал, низко опустив голову.
– Не спи!.. Отвечай, Иван Петрович!.. – грубовато потряс его за плечо Кузьма. – Умел бушевать, умей и отвечать!
– Не знал я…
– Чего не знал?
– Что такая сила… Да и страшился.
– Чего страшился?
– С мужиками идти заодно. Стыдно!.. А что скажут, когда узнают…
– А с королевичем, стало быть, не страшно и не стыдно против своих же?! – гневно спросил Пожарский.
– Не верю я… Народ наш темный, ленивый.
Кузьма насупился, сжал кулаки. Если бы не князь, стукнул бы он воеводу по голове так, что тот с места больше бы и не встал.
– Отныне ты не воевода, – холодно произнес Пожарский. – Помолись на иконы и покинь с миром Воеводскую избу… Уступи место нашему человеку – князю Роману Гагарину и дьяку из посадских тяглецов Андрею Подлесному. Вот и весь наш сказ. Эти люди с нами заодно против польских панов. Им и надлежит править Костромой.
Пожарский и Минин вышли на площадь.
* * *
Под горою, у самой Волги, произошел неприятный разговор между Пахомовым и Константином.
– Ужели ты не знал, что она моя невеста? – с упреком в голосе спросил Пахомов. – Ужели не знал?!
– Откуда мне знать! Она мне не говорила, – ответил Константин.
– Не говорила. Она поклялась мне в верности!
– Тебе поклялась в верности, а мне крест целовала – век не расставаться со мною.
Пахомов хотел что-то сказать, но поперхнулся от волнения. Оправившись, он наклонился к сидевшему на камне Константину и на ухо стал назойливо твердить, что он ее жених.
Константин и тут сразил Пахомова. Он спокойно кивал головой:
– Хорошо.
– Что хорошо?!
– Пускай… она твоя невеста, но она не хочет со мной расстаться…
– Тогда накажи ей, чтобы она не помнила обо мне.
– Вольна ли она в том? – вздохнул Константин.
– Стало быть, она меня еще любит?
– Кто знает! Дело ее.
Волны метались в камнях и кустарниках, пенясь у берегов, оставляя на земле щепу и мусор. Одинокий челн боролся с валами на середине реки. Казалось, вот-вот он тонет, его уже не видно в воде, его похоронил под собой громадный пенистый вал, но нет… Он цел и невредим, вон мелькают весла и чернеет фигура гребца в нем.
– Послушай, друг! Оставь ее, уйди с дороги! – умоляющим голосом обратился Пахомов к Константину. – Я с детства ее знаю, она мне ближе, нежели тебе.
– Да разве я ее насильно не пускаю к тебе, да разве я ее отнимаю от тебя! Вот ты сызмала ее знаешь, да плохо.
Не такая она, чтобы не иметь своей воли. Не покорится она принуждению – не такая, да я и не захотел бы того… Нет.
Ты не знаешь ее, коли так говоришь!
Ничего не мог ответить на это Пахомов.
С той поры Роман стал выслеживать, когда Наталья останется в доме одна.
Ему удалось наконец добиться встречи с ней.
– Натальюшка, родная, ужель ты забыла меня?
– Нет, не забыла, Роман, но пытаюсь забыть…
– Полно, Натальюшка, не притворяйся!..
– Зачем мне притворяться! Бог не благословил тогда нас с тобой, а теперь и вовсе.
Роман не знал, как понимать ее слова.
– Константин, продолжала она, – оберегал меня от беды и от врагов… Ни в чем не пожалел себя, голубчик, ради меня. Прожила я с ним уже целый год, скитались вместе, страдали заедино… Он ведь спаситель мой. Он помог мне уйти из застенка…
– Да ты, гляди, не повенчалась ли с ним?
Вместо ответа Наталья закрыла лицо руками.
Роман потянулся к ней, чтобы ее обнять.
– Что ты! Что ты! – испуганно отстранилась она, высокая, стройная, с пылающими гневом глазами, – Уйди! Люди увидят. Да и зачем?!
Пахомов тяжело вздохнул:
– Наташа! Ты ли это? Неужели я не люб тебе!
Гнев исчез с ее лица. Оно стало грустным.
– Ах, не мучай меня!.. Уходи! И зачем мы с тобой встретились?
– Ты жалеешь о том?
– Я молила бога, чтобы никогда с тобою не встречаться…
– Прощай… – пробормотал Роман побелевшими губами и вышел из избы.
Река становилась еще более бурной, а небо еще пасмурнее и печальней.
«Эх, Наталья, Наталья! Ужели и впрямь – не судьба?!»
* * *
Накануне выхода ополчения в Ярославль прискакали из Суздаля гонцы, уведомившие, что их древнему городу угрожают шайки атамана Просовецкого. Дмитрий Михайлович решил отправить туда своего двоюродного брата, Романа Петровича, с войском, чтобы стать там «твердой ногой» (любимое выражение Пожарского). Суздаль находился с левой стороны ополченского пути на Ярославль.
– Вот истинный друг наш! – говорили нижегородцы про Пожарского. – В опасные места он отсылает братьев своих. Благополучие наше для него выше родни…
Диву давались все, ибо то было большою редкостью в княжеских родах… Но не трудно было догадаться, что Пожарский послал братьев на передовые битвы ради своего же спокойствия. В братьях он был уверен более, чем в ком-либо другом из воевод.
III
Распрощались с Костромой. Теперь… Ярославль. Пришлось обходить залитую водой на тридцать верст низменность.
Шли и жалели, что идут не по нагорной стороне; то ли дело: и выше, и суше, и просторнее. Как бы там ни было добрались! Высланные Мининым заранее из Костромы люди подготовили вместе с ярославцами переправу.
Встреча в Ярославле была еще радушнее, чем в других местах. И то сказать: столько страхов натерпелись ярославцы, пока ожидали ополчение, – вспомнить жутко. Как и на Нижний, давно глаза зарятся у панов и на Ярославль – ключ к северным городам, не тронутым еще войной. Южную Московию и украйные города уже разорили и разграбили, а в Заволжье и на Севере народ не допустил этого.
Слов не находили ярославцы, восхваляя мудрость вождей ополчения, не захотевших идти к Москве через Суздаль. Богатые дары поднесли они Пожарскому и Кузьме. Но те от даров отказались. Пришли, мол, в Ярославль мы не как завоеватели и не как гости, а как братья, союзники, дабы вместе с вами собрать такое войско, чтобы можно было идти к Москве.
Чего же ради подарки?
Дары свалили в ополченскую казну, в общий кошт[55].
Пока ополчение шло из Нижнего, враги тоже не дремали. В разных направлениях около Ярославля появились крупные отряды враждебных нижегородцам людей.
В каких-нибудь девяноста верстах от Ярославля заняли Углич подосланные Заруцким казаки. В самом тылу ополчения, в Пошехонье (сто верст от Ярославля), сумел укрепиться другой сообщник Заруцкого – атаман Василий Толстой.
На северо-западе от Ярославля подосланные поляками разбойничьи шайки взяли приступом богатый Антониев монастырь, близ Красных Холмов. В Тихвине, тоже в тылу ополчения, засели шведские наемники – немцы, хорошо вооруженные, закаленные в боях воины. Это, пожалуй, был самый опасный враг. На юго-востоке, в Переяславле-Залесском, тоже было неспокойно. На всех путях от Ярославля шныряли враги.
Из самой Москвы были получены неутешительные вести: подмосковное ополчение, действительно, присягнуло третьему Лжедимитрию – вору Сидорке.
Да и в самом Ярославле оказались скрытые сторонники королевича Владислава и Сидорки. Были и такие, что в кабаках и на базарах расхваливали атамана Заруцкого.
Явилось еще и новое затруднение.
Ярославские власти, не предполагавшие, что нижегородское ополчение останется в Ярославле на долгое время, не приготовили ни жилищ, ни достаточных запасов продовольствия.
Настали тяжелые ополченские будни. И погода резко изменилась. Похолодало, дули сильные ветры. Появились болезни. Немало ратников умирало.
Тайные послухи поляков сеяли смуту в дворянских полках: «Вы умираете, мол, с голода и мора того ради, что князюшка ваш Митрий восхотел сам на царский престол сесть!..»
Ругали Кузьму, намекая на его будто бы своекорыстие. «Богатство ум ему помутило».
Минин и Пожарский решили созвать и в Ярославле такой же Земский совет, какой был в Нижнем. Вместе с ним легче будет обсудить, как выйти из тяжелого положения.
* * *
Настоящая зима! Небо серое, холод; пронизывающий насквозь ветер; снег, редкий, похожий на крупу, больно хлещет в лицо; по улицам ходить невозможно. Вот тебе и апрель!
Убежавшие из-под Москвы два боярина – Василий Петрович Морозов, бывший казанский воевода, в отсутствие которого дьяк Шульгин да Биркин захватили власть в Казани, и князь Владимир Тимофеевич Долгорукий, – пробираясь мимо убогих, обывательских домишек к воеводскому двору на земский сход, вздыхали:
– Все спуталось, хоть помереть, что ли! Ох, ох, ох! Глазыньки бы не глядели…
– Полно, батюшка, Василий Петрович, поживем еще… Ох, ох, ох!
– Да уж какая тут жизнь!.. Раньше, бывало, и с боярином-то не с каждым рядом сядешь. А ныне с мясником поганым единым духом дышишь… на одной скамье томись… Так и умереть недолго… от срама… Ох, ох, ох!
– Наказал нас господь бог, что говорить, наказал! За грехи наказал, – царей плохо слушались… Терпеть надо… Поделом нам. Ох, ох, ох!
– Доколе же терпеть-то?..
– Царя выберем и заживем, Василий Петрович, по-прежнему… Я верю. Ей-богу, верю! (А сам чуть не плачет.) Господь-батюшка всё у нас с тобой отнял: и дом в Москве, и вотчины, и животы наши, и рабов, и скотину, но боярского сана и бог не отнимает… Наше вернется! Ох, ох, ох!
Долгорукий потряс в воздухе кулаком и несколько раз плаксивым и одновременно злым голосом повторил: «Вернется! вернется!»
После того как прошли соборную площадь, он тихо сказал:
– Вот видишь реку… Которосль… Втекает в Волгу она, так вот и мы с тобой вольемся в боярскую думу. Богом так установлено. Пускай очистят Москву! Пускай! Сиди, куда посадят, терпи, покуда терпится. Потом бояре свое скажут. Куземка, видать, мужик неглупый… Ну, и ладно! Во время пожара всякая тварь, льющая воду, полезна.
Морозов молчал. Чего зря тужить? Не сядет же после Смуты Пожарский, худородный князь, выше него, Морозова, в боярской думе, и не может мужик Кузьма остаться у власти, коли бояре вернутся на свои места! Яснее ясного!
Одно обидно: нет теперь ни обитых атласом саней, убранных персидскими коврами, не стоят на запятках холопы, не бегут по сторонам они. Катайся курам на смех в обывательских розвальнях. Уж лучше пешком идти, чем так, на осмеяние «черни». Бывало, конюхи разукрасят коней цепочками, колечками, разноцветными перьями, собольими хвостами… «Куда все делось?! Господи! Господи!» С самим дьяволом сядешь рядом, лишь бы всё поскорее опять вернулось! Но не пройдет зря и ополченская служба… Будущий царь уж кого-кого, а бояр ополченских больше всех наградит. Всё им припишет. «Э-эх, дай ты, господи! Поскорей бы!»
На воеводский двор к земскому сходу оба боярина явились полные наружного смирения и покорности.
Просторная изба, прилегающие к ней горницы и сени набиты народом. При виде бояр находившиеся в избе люди расступились. Пожарский поднялся из-за стола и провел Морозова и Долгорукова в передний угол под образа в заранее поставленные здесь два кресла.
Сели бояре, поклонились всем.
– Терять времени, братья, не след… – продолжал Минин, не обращая внимания на высокородных соседей. – Знатным воеводам надлежит очистить и Антониев монастырь, и Углич, и Пошехонье, и Переяславль-Залесский, ибо военная мудрость их тем паче поразит врага, чем прытче они с войсками в те грады устремятся.
Из толпы вышел невзрачного вида, одетый бедно, в лаптях, неизвестный ратник и крикнул смело:
– А от Понтусова[56] зорения засесть бы нам в Великой Устюжне, да город бы у Белого озера построить. На самой дороге. К Ярославлю в те поры немцам не пройти. В болотах увязнут и в лесах пропадут… да и нам бить их удобнее станет…
Ратник осмотрел всех и, переминаясь с одной ноги на другую, добавил:
– Право! Туды их мышь!
Наступило молчание.
Буянов толкнул Гаврилку, посланного на сход смоленскими пушкарями, и оба – Буянов и Гаврилка – крикнули:
– Митрий Михайлыч, приметь! Дело говорит.
Многие поддержали смелого ратника.
Кузьма дождался, когда стихнет.
– Чего тут! Золотые слова. Немцу поперек стать – первое дело! – громко сказал он.
Много споров было. Выступали и князья. Одоевский добродушной улыбкой ободрил ратника: «Правильно говоришь, молодчик!» Князь Пронский напротив: мол, далеко! До Белого озера и Устюжны едва ли не триста от Ярославля. Не опасно ли далеко угонять ополченцев?
Кузьма спросил, ни к кому не обращаясь:
– Земля наша? – И сам себе ответил: – Наша! – И сказал, мягко улыбнувшись: – А по своей земле ходить можем мы и за пять, и за десять сот верст. Дальше поставим охрану – больше земли сбережем. Не так ли?!
После этих слов Кузьмы князья выступать уже не решались.
Пожарский обратился к боярам, которые сидели, потели, вздыхали, закатывали глаза к небу, считая все происходившее здесь сном, страшным, нехорошим сном.
– Молвите и вы свое боярское слово, Василий Петрович и Владимир Тимофеевич… Бьем вам челом ото всего схода.
Бояре в тревоге переглянулись, покраснели, увидав сотню обращенных к ним глаз. Самого царя Бориса так не смущались, как мужиков, – точно языки прилипли!
Завертелся на своем месте Долгорукий, широкий, приземистый человек с длинной бородой.
– Не цари мы и не царевичи, прости господи, и не королевичи… – смиренно вздохнул он. – Како решите, тако и станет. Бог вам судья!
– Истинно рек! – встряхнул курчавою головою боярин Морозов. – Ныне такое дело… Не боярская дума! Что скажете, то и ладно.
Решено: к Антониеву монастырю против разбойничьих шаек, подкупленных польскими панами, послать войско под началом князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского да князя Троекурова, а с ними снарядить в поход стольников, стряпчих и многих дворян, слоняющихся без дела в Ярославле. Дмитрия Петровича Лопату-Пожарского – в Пошехонье.
Очистив Антониев монастырь и Пошехонье, воеводы должны были идти на Углич и общими силами выбить из него людей Заруцкого.
Устюжну-Железнопольскую тоже надо было занять. А при Белом озере обязательно построить «новый город», назвав его Белоозерск. Он должен стать крепостью, защищающею государство от шведов. Туда выслать сотню стрельцов, а с ними костромских плотников и плененных Лопатою-Пожарским в Ярославле казаков землекопами. (Они были еще до этого выпущены Дмитрием Михайловичем из тюрем, в которые их засадил ярославский воевода.)
Сход назвали Общим всея земли Советом.
Пожарский прочитал грамоту к вычегодцам «О всенародном ополчении городов на защиту государства, о беззаконной присяге князя Трубецкого, Заруцкого и казаков новому самозванцу и о скорейшей присылке выборных людей в Ярославль для Земского совета и денежной казны на жалованье ратным людям».
Ратники выслушали грамоту со вниманием. Пожарский дал ее подписать боярам, дворянам, посадским и жилецким людям, выбранным в Совет.
Вначале расписались бояре Морозов и Долгорукий. Пожарский – на десятом месте. На пятнадцатом месте значилось: «В выборного человека всею землею, в Кузьмино место, князь Дмитрий Пожарский руку приложил». Сам Минин расписываться не умел.
Грамоту подписало всего пятьдесят человек.
В конце схода дьяк Василий Юдин объявил об устройстве «для разбора многих дел и челобитий» ряда приказов. Поместный, Разрядный с дьяком Вареевым; Сибирью и ведомством Казанского дворца (Восточный приказ) ведать дьяку Семену Головину; Монастырским приказом – Тимофею Витовтову (он же и судья духовных дел); Денежным двором – дьяку Сухотину; Посольским приказом – дьяку Савве Романчукову; Судный приказ – дьяку Аксенову.
Кузьма Минин поднял висевшую у него за спиной большую сумку, набитую бумагами. Эту сумку он бережно носил постоянно при себе.
– Взгляните, земские люди, коликое множество князю и мне подано челобитен… – сказал он с растерянным видом, открыв сумку. – Чуете?
Земские люди переглянулись, сочувственно вздохнули. А некоторые дворяне, едва услышав о «Поместном приказе», тут же после схода подошли к Пожарскому с низкими поклонами и льстивыми речами, намекая на «верстание» их деревнишками и землями.
– Рано! – улыбнулся Пожарский, приведя их тем самым в смущенье.
– Без Земского и Ратного совета не вольны мы в земле… – добавил, поклонившись, Кузьма.
* * *
Вскоре ушли из Ярославля провожаемые Пожарским, Кузьмою и всеми ополченцами ратники под началом князя Черкасского и Лопаты-Пожарского.
Погода благоприятствовала. Опять потеплело; солнце сильно пригревало; подсыхали дороги; раскрывались почки, рождалась нежная, душистая зелень в садах.
С уходом части ополчения стало посвободнее в лагере. Количество больных уменьшилось.
Кузьма Минин, освободившись от многих забот, начал готовиться к походу на Москву: покупал коней, запасал продовольствие, одежду.
Ездил в поля, водил с собой ополченцев помогать крестьянам хлеб сеять.
На окраине Ярославля соорудили литейную яму, стали отливать новый наряд. Опять заработали устюжские литцы и котельники, а к ним примкнули и мастера литейного дела из Вологды. Опять кузнец Митька Лебедь установил горн и наковальню, принялся ковать мечи и сабли.
Буянов с дочерью и Константином поселился недалеко от дома Пожарского на соборной площади. Наталья шила белье и мешки ополченцам, Константин возился с гуслярами и гудошниками. Минин, узнав о том, что Константин был кремлевским скоморохом, подолгу расспрашивал его о панах, о боярах, о Салтыкове и Андронове, обо всем, чему свидетелем был он, Константин, в Московском Кремле. Когда разговор зашел о Мстиславском, Куракине, Шереметеве, Нагом, Лыкове и Иване Никитиче Романове, о главнейших из бояр, Кузьма с грустью покачал головою:
– Ну, кого тут выберешь-то! Эх, цари, цари!
Мстиславский – кичливый честолюбец и неверный человек. Ради чванства и себялюбия готов погубить все государство, весь народ. Куракин выслуживался перед гетманом Жолкевским и паном Гонсевским. Паны назначили его комендантом Москвы. Теснил людей он хуже панов. Федор Шереметев – давно известный холоп Владислава и Сигизмунда. Нагой и Лыков – сутяжники-местники, склонялись то к самозванцам, то к польской короне – тоже ненадежные люди. Иван Никитич Романов, как и его брат Филарет, «припадали на все стороны». Льнули и к Лжедимитрию I, и к Лжедимитрию II. Не погнушались «тушинским боярством» и наконец присягнули Владиславу. Бессовестные себялюбцы! Сын Филарета Михаил, о котором поговаривают как о будущем царе, неизвестен народу и малолетен. Пожарский все время поминает князя Голицына Василия Васильевича, но он в плену, да и тоже… грешен был… прислуживался к самозванцу и короны, как говорят, добивался нечестно.
– Ладно! – тяжело вздохнул Минин. – Захотим жить – жить будем. Лишь бы нам Москву спасти.
Однажды, когда Кузьма выходил от сотника Буянова, в темноте он столкнулся с человеком, подглядывавшим в окно. Минин схватил его за ворот, думая, что это вор. И вдруг услышал хорошо знакомый голос:
– Пусти, Кузьма Минич, это я…
Роман Пахомов прикрыл лицо руками.
– Чего же ты подглядываешь тут? А? – удивился Минин.
Пахомов открылся по секрету, что любит стрелецкую дочь Наталью и страдает по ней. Она обещала стать его женой, а теперь избегает, льнет к другому.
– Э-эх, парень! Всю ночь собака пролаяла на месяц, а месяц и не знал того. Коли любит, так не уйдет от тебя, а уж если не любит – не прогневайся. – И, немного подумав, добавил: – Не скули! До того ли нам?! Приходи-ка лучше поутру в мой приказ, на пекарню. Там буду. Пошлю я тебя опять в Москву и Мосеева тоже. Плакать не время! Слезой и комара не убьешь, а нам надо короля побить… Понял? Простофиля!
От слов Кузьмы стало легче Пахомову. И впрямь лучшее, что можно придумать, это уйти из Ярославля.
* * *
Рязанец Сенька Жвалов, приживальщик в доме Пожарского, маленький худой мужичонко с подслеповатыми глазами и растерянной усмешкой на губах, пыхтел около ворот, не справляясь с засовом.
– У, ты, нечистая сила! Эк тебя затерло! – ворчал он, обливаясь потом.
Раздался голос Минина:
– Спать, што ль, лег са-ам-то?
– Да нет, Кузьма Минич, из бани пришел, видать.
– Ну-ка, пусти…
– Иди, батюшка, иди… отперто.
Кузьма прошел по доскам, перекинутым через лужи, в маленький домик, скрытый в густой заросли яблоневого сада.
Дмитрий Михайлович, красный после бани, с мокрыми, приглаженными на прямой пробор волосами, в белой рубахе, расстегнув ворот, сидел за столом и ел щи.
Пожарский не удивился приходу Кузьмы. Нередко они помимо обоюдной работы в приказах и в полках, а также и собраний в Земской избе, сходились вдвоем для совета у себя на домах.
– Ты чего, Минич? Вести какие нешто?
– Точно, князь; из поповской избы я… Ладят одно: царя да царя! Мутят православных. «Сами вы ранее в своей грамоте, мол, писали, что в Ярославле же хотите выбрать законного государя, а к делу и не приступаете…»
Пожарский покачал головой. Потом, спохватившись, сказал:
– Кузьма Минич!.. Присядь, похлебай щец!
– Благодарствую! Сыт я. Смуты бы какой не учинилось! Мои люди ходят и слушают и опасные вести доносят. Народ волнуется.
– Думал уж и я о том… Нельзя нам было и о царе не помянуть в той грамоте, дабы и нас не сочли престолоискателями. Однако до царя ли нам теперь тут, в Ярославле! Размысли, друг!
– То-то и есть, Митрий Михайлыч. Не торопись ты.
Не в нашей воле избирать царя. Нам бы с божьей помощью хотя бы землю от врагов очистить!.. твердою ногою в родном бы дому стать… Хлеб соберем – да и к Москве айда! А царя в Ярославле выбирать не станем; пускай Вселенский собор выберет его потом… Попов уговорим, дабы не поминали с амвона о божьих помазанниках. У нас попы – беспастушное стадо. Нужен нам митрополит. Ему бы сидеть с нами в Земском совете и творить дела с Земской избой заедино; он сведет попов к единому послушанию, и Совет от того возвысится в глазах богомольцев.
– Дело говоришь, родной, дело… – отодвинув от себя чашу и обтирая полотенцем усы, произнес Пожарский. – Нет у нас церковного порядка… Издавна духовные чины привыкли к освященному собору[57]. Избрав собор, мы отложим избрание царя…
– И на дальние времена, – досказал Минин. Тут Пожарский, с опаской осмотревшись кругом, тихо проговорил:
– Был в Ростове добрый и смирный митрополит Кирилл. Его выжил при Лжедимитрии из епархии Филаретка Романов, ненавистник Василия Васильевича Голицына… Ныне Кирилл живет в лавре. Виделся я с ним там, когда из Москвы меня привезли туда раненого. И по сию пору он не может забыть обиды от Романовых. Его бы нам и вывезти в Ярославль из Троице-Сергиевой лавры.
– Послушен ли? – нахмурившись, спросил Кузьма.
– Овца!.. Слова против нас не вымолвит.
– А к пастве тверд? Будут ли его слушать? Это – главное.
– Будут.
Минин задумался:
– В крайности, есть у меня люди, помогут.
Пожарский укоризненно посмотрел на Кузьму.
– Горячая голова у тебя, Минич!
– Обойдешь да оглядишь, так и на строгого коня сядешь. Нужда заставляет.
– Не жесток ли Буянов? Как ты думаешь?
– Слаб.
– На него многие жалуются, особенно люди знатных родов: «Опричнину опять-де вы заводите?»
– На одном добросердии, правда, не устоит. Сам знаешь! А за Кирилла спасибо тебе, князюшка, низко кланяюсь, хорошо придумал. Пастырь кроткий, послушный надобен. Пошлю к нему я верных людей да денег дам им, да сукон и тафты для подарка митрополиту…
– Обрадуется старик! Забыли его, похоронили…
– Оно и ладно, – улыбнулся Кузьма. – От кого получит мзду и место, тому и предан будет. Так водится.
Минин собрался уходить. Пожарский вдруг остановил его:
– Да, забыл я тебе сказать… Вот память-то какая стала! Морозов мне сегодня шепнул: татарин к нему, его бывший холоп, прискакал, – Биркин из Казани будто бы подходит… Недалеко уже от Ярославля, а с ним татарский начальник Лукьян Мясной…
– Да неужто!
– Совсем забыли мы о нем, а он о нас не забыл.
– К добру ли?
– Раскаялся будто… На помощь идет.
– Только не верю я, Митрий Михайлыч. Ой, не верю!
– Что так?
– Смуту идет он чинить. Как есть смуту.
– Ты думаешь?
– Крест могу целовать в том… Опасайся его, не верь.
В полночь Кузьма ушел из дома воеводы, провожаемый князем до самых ворот. Оба были расстроены известием о приближении Биркина.
* * *
Минин не ошибся.
Придя в Ярославль, Биркин прежде всего начал каяться и обелять себя. Он жаловался на протопопа Савву. Корысти ради якобы протопоп начал смуту в Казани, добиваясь митрополичьего престола. По словам Биркина выходило, что один он честный человек да казанский дьяк Шульгин. Остальные все воры и обманщики.
Снаряженное казанцами войско было тепло одето, обуто и хорошо вооружено. Оно состояло только из дворян и посадских, которым Биркин насулил золотые горы. Вместе с казанцами пришел отряд татарской конницы, предводимый отважным наездником Лукьяном Мясным. Он сказал Пожарскому, что татары послали его помогать нижегородцам, «истомясь о порядке».
Не прошло и недели, как Биркин уже начал охаивать «дело нижегородских мужиков». Он хотел и в Ярославле быть первым воеводой, но ему сразу дали понять, что он должен во всем подчиняться Пожарскому. Да и поживиться оказалось в Ярославле нечем. Предстоявший же вместе с нижегородцами поход к Москве, кроме новых лишений, не сулил ничего иного казанским дворянам. Люди, которых Биркин подбирал себе, привыкшие в дни боярского и польского владычества к легкой наживе, громко возроптали на нижегородцев. Их охватила досада: зря пришли.
Узнав, кроме того, что и выборов царя в Ярославле не будет, что обещание, данное в грамоте, Пожарский и Минин хотят нарушить, Биркин думал привлечь к себе народ порицанием за это нижегородских вождей. Во всеуслышание на собраниях ратников он назвал Пожарского и Минина обманщиками.
– Вот глядите, чего они добиваются! Зачем им царь, когда они сами царями умыслили быть?.. Им мало одного обмана, жди от них еще и других обманов. Всё у них на обмане построено.
Вспомнил он и попов, прослышав об их недовольстве. Подлил и здесь масла в огонь. Обижают, мол, духовенство.
Пошли ропот и споры: кто за Пожарского и Минина, кто за Биркина. На площади дошло дело даже до кровопролития. В окрестностях города осмелели разбойники, наводили панику на крестьян. Пришлось начать жестокую борьбу с разбоями, грабежами и нарушениями порядка. Казанские дворяне и этому стали мешать, нападая из засады на стрельцов, уходивших для ловли разбойников. Они первые повсюду буянили, предаваясь пьянству и разврату.
Кузьма не вытерпел и призвал на воеводский двор Биркина и Лукьяна Мясного. В горнице были только Пожарский и Кузьма.
– Чего ты добиваешься, Иван Иваныч, мутя народ? – спросил Минин, сумрачно глядя на Биркина.
– Кто тебе наклеветал на меня? – грубо ответил Биркин.
– Об этом все знают. Уже и кровь пролили твои люди. Выходит: «Прости, господи, согрешение мое, да опять за то же». Так, что ли?
Биркин с усмешкой пожал плечами:
– Вольно же вам!..
– Умей грешить, Иван Иваныч, умей по чести и каяться.
– Ну, уж увольте, – пробормотал Биркин. – Уйду я от вас! Чем лаптю кланяться, поклонюсь уж лучше сапогу. Бог с вами!
Кузьма отвернулся к татарскому начальнику:
– А ты, Лукьян, тоже с ним?
Стройный, средних лет, с добродушным русобородым лицом, мурза встал, приложил ладонь к груди и слегка поклонился:
– Татары сказали: «Помогать!» – я и буду помогать… Зачем пойду в Казань? Меня ругать будут в Казани.
– Стало быть, остаешься? Добро! Казанские татары радеют о государстве лучше казанских дворян.
На следующий день Биркин повел свое войско обратно в Казань.
Боярин Морозов, бывший казанский воевода, пришел к Кузьме с поклоном. Забыл и свою боярскую спесь.
– Бог спасет тебя, Кузьма Минич, благодарствую, что прогнал Биркина!.. Будь проклят он вовеки! Он и дьяк Шульгин! Воры они, воры! Выжили они меня из Казани.
– Ты чего же, боярин, раньше молчал?
– Боялся.
Минин покачал головою: ему непонятна была эта боязнь.
О размолвке Минина с Биркиным слух прошел по всему ополчению. Гаврилка с товарищами повсюду говорили: «Минич выжил казанских зазнаек вон из Ярославля, не принял их в ополчение за их бездельные речи про царский выбор…»
С отрядом стрельцов Кузьма смелым налетом окружил большую разбойничью шайку, много бед причинявшую ярославцам, и взял в плен прославленного атамана шайки Петра Отяева. Его судили на площади всенародно и отправили под сильным караулом и в цепях в Соловки «для неисходного сидения» в земляной тюрьме. Отяев тоже был некогда вельможею: стольник тушинского самозванца – он состоял с Филаретом Романовым в одной свите, окружавшей Лжедимитрия II, и дружил с Романовыми.
Перед отправлением его в Соловки Кузьма дал наказ Буянову не пожалеть батогов «на прощанье».
Но вот пришли отрадные вести от Черкасского из Красных Холмов. Неприятеля удалось выбить из Антониева монастыря. Воры в страхе побежали на юг. Отряды Заруцкого из-под Углича тоже были изгнаны, многие казаки побратались с ополченцами. Лопата-Пожарский тоже действовал успешно.
Он отогнал неприятеля от Пошехонья, а Переяславль-Залесский занял ополченский воевода Наумов. Обо всех этих победах ополчения глашатаи возвещали народу на площадях и набережной, прославляя храбрость и честность ополченских воевод.
Приехал в Ярославль и митрополит Кирилл. По просьбе Пожарского он приказал попам за богослужением молить «о даровании побед земскому вселюдскому воинству».
Власть Пожарского и Совета всея земли снова окрепла. Происки Биркина ни к чему не привели. Недовольные притихли. Число сторонников Пожарского и Минина еще больше возросло. Об избрании царя в Ярославле теперь никто и не поминал. Митрополит Кирилл на первом же собрании церковного совета строго-настрого запретил попам болтать об этом. Попы притихли.
IV
Из-за Волги надвинулась темная грозовая туча. Она быстро охватила небо.
Около шатров началась суета: втаскивали оружие, развешанную по сучьям одежду, торопливо накрывали пушки рогожами; в дула пихали солому; с криками загоняли лошадей в конские дворы.
Пала огненная стрела в Волгу. Загремел гром. На улицах бежали люди, коровы, овцы. Поднялся сильный ветер, закружились столбы пыли, потемнело в глазах, трудно стало дышать. Всё утонуло в мареве сухого бурана. В стены домишек хлестало песком, будто градом. Опять молния – и снова оглушительные раскаты грома.
Хлынул ливень. Забушевали потоки дождевой воды в канавах.
К дому Пожарского осторожно прокрались два человека. Стукнули в ворота. Вышел слуга Пожарского Сенька Жвалов.
– Чего шумите?.. Кто такие?
– Сенька, отворяй!.. Пусти! Вишь, погода!
Ворота открылись. Сенька шепнул:
– Дома нет…
– Все одно. Пусти…
– Ну-ну!..
Проскочили в сени. Начался шепот. Стрелец Ошалда, Сенькин свояк, прислал сюда, а зачем – то должно быть ему, Сеньке, ведомо.
– У Кузьмы он, – прильнул к обоим Сенька. – Грамоту послы привезли из Новгорода… Игумен Геннадий да князь Оболенский… склоняют к шведам… Признайте, мол, королевича Филиппа царем, тогда неопасно вам будет идти к Москве… В спину никто не ударит. Хотят признать… Вишь, им к Москве без того идти не мочно… Гоношат[58] все о себе больше. Установим, мол, мир с немцами и пойдем на поляков.
– Вертят кромольники!.. Царь Димитрий – свой. Ему присягнуло под Москвой все наше войско. Они же его вором Сидоркой почли! За то, что он волю народу обещал. А эти молчат… Еще бы, Пожарский небось вотчинник… На кой ему воля? Сам умыслил в цари.
– Куды тут! Во все города грамоты гонят. Ни Сидорке, мол, ни маринкину сыну – никому крест не целуйте, а ратных людей и деньги в Ярославль шлите, к нам!
– А о крестьянах-то они говорят ли?
– Не слыхать. Больше о поляках, чтоб их выгнать…
– То-то оно и есть! Нам воля нужна.
– И Заруцкого с казаками хотят побить.
Громовой удар потряс хибарку, молния сверкнула в щелях. Все трое принялись креститься, опустились на колени. Успокоившись, Сенька с горечью в голосе заговорил:
– Что же такое будет? Мало терпели казаки под Москвой, мало стояли за вас за всех, а вы собираетесь нас же бить!.. Где же правда? Господь-батюшка, чего же ты не заступишься за нас, злосчастных донцов?
– Эх-эх, парень! Митрий Михайлыч аж побледнеет, едва о подмосковных казаках ему говорить учнут… Проклятые, кричит, аспиды!.. Губители!.. Изменники!
– Мы-то изменники?! Чего же ради тогда на Дону всю семью голодную я оставил? Не ради ли Москвы! Жива ли моя баба, живы ли мои малые детки, не знаю я, а во сне почитай каждый день их вижу… А вы, злодеи, хотите к Москве идти и всех нас перебить… Креста нет на вашем князе!.. Сам он – губитель, изменник! Заруцкий наш батько, все открыл нам… все ваши злохищные замыслы!
– Тебя как звать-то?
– Обрезка…
– А тебя?
– Стенька… Степан… С стрельцом вашим Ошалдой мы под Москвой спознались… В ляпуновском войске.
– Знаю… Говорил он. Пришли-то вы не вовремя: у Кузьмы князь.
– Ничего. Подождем, когда вернется.
В тишине слышалось беспокойное, затрудненное дыхание казаков.
Сенька Жвалов спросил:
– А что дадите?
– Заруцкий тебя господином сделает. Землю и денег даст.
– Коли не врешь, останьтесь. А меня свяжите и суньте в чулан. Будто я ни при чем.
Так и сделали. Сенька Жвалов принес толстые мочальные жгуты. Казаки связали его и осторожно положили на солому в чулан. Сами, отворив ворота, приготовили кинжалы и спрятались в темных углах.
Гроза сменилась тишиной. Дождь перестал. Звенела капель. Пахло освеженною зеленью из сада. Далекие молнии становились все реже и реже.
Природа отдыхала после грозы.
Обрезка и Степан, затаив дыхание, поджидали в сенях Пожарского. Но на дворе быстро, по-весеннему, стало светать, близилось утро, а князь домой все не возвращался.
Становилось опасно сидеть в сенях. К Пожарскому обычно рано приходили военачальники, мог прийти и телохранитель его, стрелец Буянов. Сенька стал молить казаков, чтобы его развязали, а сами бы поскорее убрались подальше.
– Не надо мне и вашей земли, и денег… Пропади он пропадом, ваш Заруцкий! – заскулил Сенька.
Обрезка и Степан всполошились, испуганно выскочили из своих углов, развязали Сеньку, шлепнули его по затылку, и оба сломя голову бросились бежать прочь.
* * *
До самого рассвета на дому у Кузьмы шли переговоры с новгородским игуменом Геннадием да с князем Федором Оболенским и прибывшими вместе с ними новгородскими дворянами и посадскими.
На столе перед Пожарским лежала грамота новгородцев. Они писали о смерти шведского короля Карла IX и о согласии нового короля Густава Адольфа и вдовствующей королевы, его матери, отпустить на «Наугородское государство» королевича Карла-Филиппа. А еще и о том, чтобы нижегородцы «Литовского короля и сына его, Владислава, и Маринкина сына, и “ведомого псковского вора, раздиякона Матюшку (Сидорку)” на государство не хотели бы и конечного разоренья в Российском государстве тем не всчинали бы, а похотели бы на Российское государство государем, царем и великим князем всей Руси государского сына Карла-Филиппа Карловича, чтоб в Российском государстве были тишина и покой и крови крестьянской престатие (прекращение)» и чтобы нижегородцы стояли «с немецкими людьми заодно».
Пожарский сказал, что этого дела сам он решить не может, а доложит о грамоте Совету всей земли.
На другой же день созвали Совет. Усадили послов на высоких скамьях, покрытых дорогими коврами, в почетном углу под образами.
Дьяк Василий Юдин громко и торжественно, нараспев, прочитал грамоту новгородцев.
Ответом было всеобщее угрюмое молчание. Этого еще не хватало! Шведа на русский престол посадить!
Первым повел речь митрополит Кирилл. Он говорил долго и сердито о том, что церковный совет не может благословить на царствование человека хотя бы и королевской крови, но не принявшего греческого вероисповедания.
Грузный и бородатый, он рявкал, как зверь, выкрикивая басом свои слова. Слушать его было утомительно. Даже когда он закончил, у всех в ушах стоял какой-то неприятный гул.
После него к послам обратился Пожарский.
От лица Земского совета он спокойно, негромким голосом заявил, что русские не верят иностранным королям. Много слышали обещаний от польского короля; намерения его были благие, а что вышло?
– Мы, – сказал он, – хотим одного, чтобы кровопролитие перестало бы… Мы радеем о крестьянском покое. Вы просите послать в Свейское государство послов, но мы не будем отправлять своих послов туда. Опасаемся, что придется претерпеть и им то же, что претерпели московские послы в польском стане.
Пожарский напомнил о судьбе Василия Васильевича Голицына с товарищами.
После Пожарского со своего места поднялся Минин и, отвесив низкие поклоны сначала послам, потом всему собранию, степенно, с достоинством заявил:
– Можем ли мы того не знать, что наилучший преемник московского престола – его королевская светлость, чадо короля Карлуса, Филипп Карлович? Можем ли мы не желать быти всем нам под одного государя рукою? Все мы желаем добра королю, Густаву и пресветлой королеве. Благодарствуем и за милостивое согласие отпустить на московский трон пресветлого королевича! Но хотели бы мы знать: как он будет править нами, как судить, оберегать от врагов и всякие дела делать? Хотели бы мы знать и то, придет ли к нам королевич? Не случилось бы того же, что было и с королевичем Владиславом! Митрий Михайлыч говорил уже вам, что мы горько искусились однажды, и ныне бы так не учинилось, как то было с королем Жигимондом! Польский король хотел дать на Московское государство своего сына. Манил с год и не дал, а что над Московским государством учинили польские и литовские люди, вам ведомо. И свейский король Карлус хотел отпустить к нам в Новгород своего сына вскоре, но и до сих пор королевич в Новгороде не бывал… И притом же народ желает, чтобы, когда Карло-Филипп придет, креститься ему в нашу православную хрестьянскую веру. Вот что, думается мне, мы могли бы сказать пресветлому королю Густаву и королевской матери. Не подобает нам быть безответными овцами перед королями!
Земский совет согласился на избрание королевича русским царем с условием: 1) скорейшего прибытия его в Новгород;
2) принятия православия.
Еще накануне на квартире у Пожарского все было обсуждено вместе с побывавшим в Новгороде послом нижегородцев Степаном Татищевым. Он сказал, что от свейского короля «отнюдь в Новгороде добра нечего ждать». Он же уверял, что после смерти мужа королева не так-то легко согласится на отъезд своего малолетнего сына в Москву. Дело это не надежное. Требование о принятии королевичем православия также должно заставить королеву задуматься. Переговоры непременно затянутся. А тем временем ополчение может двинуться к Москве и начать бои с поляками. Это не будет мешать переговорам со Швецией. А там, когда поляки будут прогнаны, и переговоры с королевой можно кончить.
В этот же день вечером Пожарский на дому у себя принимал возвращавшегося по Волге из Перми австрийского цесарского посла Иосифа Грегори. Пожарский и Минин просили его передать австрийскому императору Матфию заготовленную на немецком языке дьяком Саввой Романчуковым, ведавшим Посольским приказом, грамоту, В этой грамоте Пожарский от своего имени просил цесаря воздействовать на польского короля, дабы он прекратил войну и мирно сказал нижегородскому ополчению, что ему надо, чего добивается. Пожарский просил и денежной помощи у цесаря на очищение Московского государства от врагов. За это он обещал избрать на московский престол цесарева брата Максимилиана. Пожарский знал, что Максимилиан зол на короля Сигизмунда, перебившего у него польский престол.
Посол Иосиф Грегори оказался веселым малым. Минин обильно поил его русской водкой, говоря не понимавшему русского языка послу: «Пей, Осип, за наше здоровье! Пей, глупец, не жалей!» Водка очень понравилась Иосифу. Он был смешон. Малого роста, в курчавом, спускавшемся ниже плеч парике, толстый, кривоногий. После каждой рюмки Грегори долго кашлял; на глазах у него выступали слезы. Откашлявшись, с добродушной улыбкой поглаживал себя по затянутому в бархат животу. Чтобы еще более развеселить его, Кузьма кликнул гусляров и гудошников. Их привел Константин. Грегори пришел в восторг, когда подвыпивший Кузьма вместе с плясунами пустился в присядку по избе. Попробовал и посол так же, да не удержался, повалился на пол. Его подняли, усадили, начали кормить блинами. Заугощали до того, что он за столом и уснул.
Пожарский и Минин погнали стрельца за дьяком Еремеем Еремеевым. Когда тот пришел, высокий худой щеголь с большими усами и бритой бородой, похожий лицом на польского пана, Кузьма, кивнув в сторону спящего посла, подмигнул:
– С Осипом поедешь… К его королю Матфию. Одного-то нельзя его пустить. Видать, слаб. Грамоту повезешь.
Пожарский сказал строго:
– Только гляди! Сам держись! Да не болтай… Не ровен час, новгородцы узнают. Грамота важная, государственная. Собирайся! Береги грамоту пуще своего глаза.
После отъезда новгородских послов в Земском совете состоялась торжественная аудиенция, данная Пожарским цесарскому послу. Нарядно одетый Кузьма Минин с низким поклоном поднес ему осыпанную драгоценными каменьями саблю и другие редкостные вещи:
– Прими, высокий посол пресветлейшего и державнейшего из государей, наш скудный дар.
Вечером в двух повозках под охраной стрельцов Грегори и Еремеев уехали в Австрию.
Проводив их, Пожарский сказал с улыбкой:
– Ну, Кузьма Минич, куда мы теперь царей денем?
– Посмотрим, Митрий Михайлыч, может, и сами раздумают. А вот что! Опять из лавры пришли соборные старцы Серапион Воейков и Афанасий Ощерин. Опять торопят в Москву. Говорят, сам келарь Авраамий Палицын к нам собирается… Пожарский поморщился:
– Старая лиса!.. Нет ему покоя… Везде он, Сигизмундов холоп! Насмотрелся я на него в лавре.
Кузьма улыбнулся:
– Есть такие бати… Молока не хлебнет в пятницу, а молочнице и в Великую субботу не спустит. Ну, да мы знаем, как с ними поступать… Пускай хоть лопнет, раньше времени никуда не пойдем. Ляпунов поторопился, да что из того вышло!
* * *
Проводив новгородских послов и австрийского, Кузьма, живший с Мосеевым и Пахомовым в одной избе, велел принести браги. Сняв с себя кафтан и расстегнув ворот, сел за стол.
– Ну-ка, любезные, покалякаем перед сном.
Родион и Роман не заставили себя просить.
– М-да, соколы, – покачал головою Минин, наполняя кубки. – Хитры короли заморские. Ой, хитры! Так и норовят обмануть нас, простачков, и каждый по-своему… Ну, пейте, други! Хоть немного отведем душу. Устал я с послами возиться.
Все трое выпили.
– Кабы бог меча не дал, давно бы топиться надо! У них так: чья сильнее, та и правее. То я понял и у Жигимонда, и у Осипа, и у свейского Делагарди… Великое благо – ум и язык, да не многие могут ими пользоваться. И даже королевские вельможи. Проболтался ведь спьяну Осип-то.
Минин рассмеялся. Потом подошел к двери, прислушался, закрыл окно и тихо сказал:
– Цесарь-то Матфей тоже против Жигимонда! Слыхали? Мы с Митрием Михайлычем хотим того… масла в огонь подлить – цесарева брата Максимиль… Не выговоришь никак… Максимильяна… к нам на престол позвать. По совести, на кой нам бес он нужен? Как и Владислав так же, и как Филипп свейский… А грамоту отослали, прося Максимильяна… Чуете? То-то будет, коли Жигимонд узнает!
Минин тихо засмеялся, погрозившись на Пахомова, который сидел нос повеся. Темнее тучи.
– Ты у меня не дури! Знаю я всё! Ну, пейте за здравие воеводы, за Митрия Михайлыча… Близится пора! Не успел поправиться князь, опять ему страда.
Минин налил еще по кубку.
– Э-эх, что-то теперь поделывают у нас в Нижнем? – вздохнул он. – Как там моя Татьяна?.. Ругает, поди, меня.
Кузьма задумался. На воле слышались дружные песни ополченцев.
– Наливай еще! Будем пить этот вечер, а завтра вы пойдете в Москву. Отправим мы вас. Опять вся надежда на верных гонцов. Узнайте, что там? Дело близится к походу. Услышите, что мы тронулись, идите из Москвы в Троице-Сергиеву лавру. Там и ждите ополчения.
Песни послышались совсем около дома.
– Слушай! – насторожился Минин. – Смотри, как поют! Дружно, весело!.. Благодарение господу!
Минин широко перекрестился.
– Слышал? Вот будь каким! – сказал он Пахомову.
Роман, красный, потный, тяжело вздохнул, выйдя из-за стола.
– Что я могу поделать?! Сердце-то небось болит? Как увижу ее с Константином, так (господи, прости меня, грешного!) руки на себя наложить хочется.
Минин строго посмотрел на Романа.
– Э-эх, молодчик! Не думаешь ли ты, будто у одного тебя сердце? Думай мало о себе, а много обо всех, не будь себялюбцем!.. И станешь счастлив. Давно я приметил в тебе такое… Берегись! Сгниешь, как гриб под лопухом, отвернутся от тебя все.
– Не то ли я тебе говорил? – разгорячился Мосеев. – Измучился ведь я с ним, Кузьма Минич, точно с малым дитею.
– Даешь ли слово в твердости?
– Даю, – тихо ответил Роман.
– А теперь спать!.. – сказал Кузьма, снимая сапоги. – Пора уж. Петухи поют.
* * *
Роса не сошла с травы на улицах, как из дома Минина в одежде странников, в лаптях и с котомками за плечами тронулись в путь Мосеев и Пахомов. Выйдя за ворота, они сняли широкие войлочные шляпы и помолились на все четыре стороны.
С крыльца следил за ними Кузьма. Они увидели его, поклонились ему. У обоих на глазах слезы. Эту ночь Минин спал беспокойно, часто просыпался и молился, а во сне разговаривал сам с собою, поминая Нижний, короля Жигимонда, Грегори, Новгород, митрополита Кирилла… и теперь лицо его было бледное, улыбка усталая, хотя он и старался казаться бодрым.
– Добрый путь! Храни вас господь!
Родион и Роман быстро зашагали посредине улицы, направляясь к московской дороге. Пели петухи. В садах просыпались пичужки. Мычали коровы.
На берегу небольшого пруда у городского вала Наталья колотила вальком белье. Удары валька гулко разносились в утренней тишине.
Пахомов отвернулся. Ему бросились в глаза желтые рубашки Константина.
– Не оглядывайся, иди прямо! – покрикивал на него обеспокоенный этою встречей Мосеев.
* * *
В Ярославле появился Авраамий Палицын. Он приехал от имени Троице-Сергиевой лавры торопить Пожарского с выступлением в Москву, говоря, что его надоумил «сам святой батюшка Сергий преподобный» прибыть в Ярославль. Минин посоветовал Пожарскому холодно обойтись с Палицыным.
Украинские казаки, прибывшие в Ярославль несколько позже Авраамия с жалобой на Заруцкого, донесли: «Не батюшка Сергий преподобный надоумил Палицына, а закадычный друг келаря, с которым он бражничает, подмосковный атаман Дмитрий Тимофеевич Трубецкой».
Слух прошел под Москвой, что из Польши подходит со многими эскадронами к Москве грозный королевский воевода Хоткевич. Больше всех перепугался этого сам Авраамий. Не он ли присягал королю, не он ли получал разные подарки от него и не он ли изменил ему, вернувшись домой! Ныне он боится королевской мести. Вот почему и в Ярославль пожаловал.
Рассказали эти же украинцы Кузьме и другое: Заруцкий тайно от своего собрата князя Трубецкого ездил к Хоткевичу в лагерь под Рогачев с изменническими помыслами. Об этом узнали казаки, откачнулись от него и грозят его убить.
Наконец-то! Минин всегда считал князя Трубецкого честнее Заруцкого. Он говорил, что Трубецкой упорною осадою Кремля помогает нижегородскому ополчению. Долгое сидение в осаде истощает силы польского гарнизона. Минин ценил эту заслугу Трубецкого.
Но он хорошо знал, что князь не любит его, Кузьму. «Мужик хочет честь взять у меня!» – гневно воскликнул Трубецкой, узнав о выступлении ополчения из Нижнего. Трубецкой никак иначе его и не называл, как «мужиком» и «Куземкой». Но Минин привык не обижаться на гордецов. «Грешен! Каюсь! Посади мужика у порога, а он уж и под образа лезет.
Так и надо. Кафтан сер, а сам будь смел!» Поляки тоже, дразня бояр, писали: «Да и теперь у вас не лучше Андронова Кузьма Минин, мясник из Нижнего Новеграда, казначей и большой правитель. Он всеми вами владеет!» Нелегко было боярам слышать такие насмешки от панов!
Обласкав украинцев, наградив их деньгами, одарив сукнами, Пожарский и Кузьма проводили их обратно в Москву. Они наказали украинцам поведать там всю правду о нижегородском ополчении. «Пускай казаки видят в нас братьев, а не врагов!.. Мы скоро придем и вместе с вами выгоним панов из Москвы!..»
Ополчение начало готовиться к походу. По улицам шли все новые и новые толпы ратников, прибывших из разных мест. День и ночь горели горны в кузницах. На всех площадях башмачники шили и чинили сапоги и бахилы. По улицам в направлении к лагерю двигались подводы с рогожами, лаптями, с мешками хлеба, круп, сеном, лопатами. Около них бодро шагали полковые артельщики и стрельцы. Лица озабоченные, разговоры – негромкие, вдумчивые. Из литейных ям к Съезжей избе привезли последние пушки. Их должен был принять сам Пожарский.
В полдень, двенадцатого июля, около Съезжей избы собрались литейщики и пушкари. Тут же стал Буянов со своими молодцами, ожидая выхода Пожарского.
Все с нетерпением ждали князя, которому в последние дни недужилось: снова разболелись незажившие раны.
И вот показался он в дверях, поддерживаемый под руку караульным Съезжей избы, казаком Романом.
– Приветствую вас, граждане! – поклонился князь собравшимся.
В эту минуту из толпы выскочил вперед казак Степан и, размахнувшись ножом, направил удар в князя, но попал в казака Романа, который быстро загородил собою Пожарского.
Не сообразив сразу, что случилось, Пожарский шагнул вперед, к пушкам. Тут к нему подскочил Буянов и другие с криками: «Князь! Уйди! Тебя хотят убить!»
Толпа набросилась на Степана, и если бы за него не заступился сам Пожарский, его разорвали бы на части.
В Съезжей избе Степан кричал, ругался, а назвать сообщников не желал. От него пахло вином. Сам Кузьма допрашивал его:
– Своей ли волею, либо по наущению?!
Пришел и Пожарский. Стал просить, чтобы казака с дыбы сняли, не мучили. Посадил его на скамью. Несколько минут печальными, задумчивыми глазами рассматривал его: вот кто хотел лишить его жизни! Молодой, простоватый парень, смотрит исподлобья, недружелюбно.
– Не ты ли напал на меня? – тихо спросил Пожарский.
– Я, – ответил парень сердито.
– За что, не зная меня, поднял нож?
– Ты умыслил сгубить казаков! Ты хочешь быть царем и отдать нас в вотчины.
– Я не против природных казаков. Многие разбойники, изменники величают себя казаками. Ты донец?
– Да. И я не против же братьев пошел с Дона за десять сот верст, а против ляхов! – обиженно возразил казак. – Чего же ради мы свою кровь проливали за Москву! А ты хочешь нас отдать в кабалу.
– Тебя обманули. Царем я быть не хочу. Я тоже иду защищать Москву. Могу ли я о чем-либо помышлять для себя?
Казак склонил голову, задумался.
Минин положил ему на плечо руку:
– Степан, не упрямься! Открой добром: кто тебя послал?
Казак поднял глаза и тихо, смущенно ответил:
– Кто? Батька наш… Иван Мартыныч… Заруцкий.
– Мотри! – погрозился на него Кузьма. – Крест целовать заставлю! Правду ли говоришь ты?
– Спроси товарища моего Обрезку… да Ошалду, стрельца вашего… да… – парень задумался.
– Ну-ну-ну… – нагнулся Минин к лицу парня.
– Да княжьего слугу спроси, Сеньку Жвалова… Он – свояк Ошалды.
Пожарский и Кузьма в изумлении переглянулись.
– Говорил я тебе, Митрий Михайлыч! Не послушал! – с укоризной в голосе произнес Минин. – Не по сердцу он мне.
– Я приютил Жвалова из жалости к его сиротству, одевал его, заботился о нем как о брате, ел с ним из одной чашки… Не оговариваешь ли ты кого? – спросил Пожарский, все еще не веря тому, что услыхал.
– Нет. Заруцкий посулил ему дворянство и деньги. Спроси стрельца Ошалду. Мы хотели тебя убить ночью. Он прятал нас у тебя в доме… в засаде.
Пожарский побледнел.
Кузьма, заметив это, добродушно шлепнул казака по плечу:
– Ладно. Буде.
– Выпусти его на волю… Не чини ему наказания, – молвил Пожарский, уходя из Съезжей избы.
Кузьма с грустной усмешкой вздохнул ему вслед: «Эх, князь, князь! Хороши бы мы были, кабы твоего сердца слушать».
И строгим голосом обратился к казаку:
– Видишь? Вот какой наш воевода! Слово его, как весенний день. Это не Ивашка Заруцкий. Однако я его не послушаю. Ты посидишь у меня в подклети, покуда я всех твоих друзей не выловлю… Митрий Михайлыч торопится. Не гоже так-то.
И тут же Кузьма, широко и деловито усевшись за стол, послал за Буяновым. Когда же стрелецкий сотник явился, он приказал привести стрельца Ошалду.
* * *
Вернувшись к себе в дом, Пожарский позвал Сеньку и спросил его с напускным добродушием:
– Ты знаешь казаков Обрезку и Стеньку?
– И не слыхивал, что за люди, – не моргнув ответил тот. – И не знаю.
– И стрельца Ошалду не знаешь?
– И того не знаю.
Пожарский вздохнул, хотел приступить к увещеванию слуги, но не успел. Сотник Буянов, войдя, сказал:
– Кузьма Минич приказал увести Жвалова в Съезжую. Пожарский устало махнул рукой:
– Веди!
V
Не сразу Пожарский пошел к Москве.
Сначала послал в помощь подмосковным казакам против гетмана Хоткевича два отряда.
Первый тронулся в путь семнадцатого июля. Его повел умный и осторожный воевода Михайла Самсонович Дмитриев, – рода незнатного, но честный, крепко преданный земскому делу.
Через десять дней вышел и второй отряд под началом неутомимого воина Лопаты-Пожарского, которого за храбрость и веселый нрав крепко полюбили ополченцы.
Дмитриеву было указано стать в Москве у северной стены Белого города – близ Петровских ворот, а Лопате – недалеко от него, у Тверских ворот, не смешиваясь с казацкими таборами, которые стояли поблизости, у стен Китай-города, между реками Яузой и Неглинной.
С воинами Лопаты-Пожарского ушли из Ярославля и Константин с Натальей. Минин посоветовал ему попытаться снова под видом шута проникнуть в Кремль и разведать там о делах панов.
Наталья – верхом на коне, с саблей на боку. Голова повязана зеленым полосатым платком. Еще красивее и мужественнее стала она.
Минин послал в Москву множество соглядатаев-лазутчиков.
Дорога между Ярославлем и Москвою не пустовала. Среди лесов на постоялых дворах то и дело встречались одинокие всадники, низко кланялись друг другу и тихо что-то передавали на ухо один другому… И так – от перегона к перегону, пока слова их не доходили до Пожарского и Минина. Только до них двоих.
Близился час выступления в поход и всего ополчения.
Грустно было расставаться с Ярославлем, с народными земскими порядками, с приказами, в которых разбирались дела обиженных тяглецов-бедняков, но ничего не поделаешь: уходить надо. Дальше сидеть нельзя.
Торопили Пожарского и ратные люди украинских городов, они с братской готовностью откликнулись на призыв Ярославского правительства. Собрали казну, оделись, обулись, вооружились и пришли к Москве, чтобы стать заодно с нижегородцами. Раскинули свой лагерь там, где приказал Пожарский, у Никитских ворот, но здесь их стал теснить Заруцкий, о чем и сообщили гонцы. Со слезами умоляли они Пожарского поспешить к Москве, пока не поздно.
Двадцать восьмого июля Минин велел Буянову выпустить из тюрьмы казака Степана и всех его сообщников, покушавшихся на жизнь Пожарского; Сеньку Жвалова, бывшего слугу князя, и пятерых стрельцов Минин в цепях разослал по разным северным городам. Степана, Обрезку и других казаков, бывших с ними, он велел взять с собой в Москву для дальнейшего дознания.
В полдень двадцать девятого июля выстрелила пушка в Волгу – поднялось нижегородское войско. Из уст в уста побежало тревожное, волнующее: «В Москву!»
Стояла жара. Ратники поснимали с себя доспехи и положили их на приготовленные Мининым для того подводы. Кое-кто даже и рубахи с себя снял. Собравшееся за городом ополчение в таком виде мало походило на то грозное войско, которое шло вдоль Волги до Ярославля.
Пожарский, объезжавший ополченские таборы с новыми своими помощниками – князьями Андреем Хованским и Петром Барятинским, – смотрел на мускулистых, загорелых ратников серьезно, не слушая воркотни соседей-князей.
А они говорили:
– Только бы упаси владыко, бунта не было! Измаялись мы с народом. Дай ты господи, поскорее поразить ляхов, а там и ополчение распустим.
Кузьма, обходя войско, весело похлопывал воинов по голым плечам:
– Давно бы так! Изморились на жаре. Эк-кая сила! С такими воинами как не победить панов!
Он осматривал дюжих, крепко сложенных молодцов с радостью.
И ополченцы не оставались в долгу – весело откликались на его шутки; только Гаврилка с грустью сказал:
– Эх, Кузьма Минич, хорош день в вешний день, а всё – пень!
– Не тужи, парень, перемелется – мука будет.
– Когда она будет-то?
– Будет! Когда-нибудь да будет! Поверь мне, старику.
Гаврилка и его друзья: Олешка, Осип и Зиновий – накануне вдосталь хлебнули пива у Буянова на дому. Много говорили о будущем. Пели песни, грустные, деревенские. Хозяйка дома всплакнула. Всем стало тяжело. Казалось, что не вернутся уже никогда дни вольного приволья, пережитые в Ярославле и в походе вдоль Волги. Не быть такому почету, таким радостным встречам и веселью никогда, какие в эту весну выпали на долю ополченцев в Балахне, Юрьевце, Кинешме, Костроме и Ярославле!
Панов ратники не боялись: мечом освободишься от них! А вот как быть с боярами да дворянами? Как от них избавиться? Кузьма и тот не может ответить. Теряется, путается, а дельного ничего не говорит. Только одно:
– Очистим Москву, а там бог укажет. Он – мудрый… Унывать не след. Лишь бы земля осталась своей!
* * *
Набатный звон, гудки, свист, крики военачальников, пушкарей, устанавливающих телеги с нарядом, ржание коней.
Все население Ярославля всполошилось, высыпало за город. Ох, эти слезы, вздохи, молитвы! Лучше бы их не было!
А тут еще гудошники! Затянули песнь об уходящем ратнике:
Ах, не бор шумит, не река льется, Обливается горючими слезами, Возрыдаючи, молода жена, Расставаяся с красным солнышком, Провожаючи друга милова…Голоса певцов плачут, надрываются над ярославскими равнинами:
…Уж оседланы кони добрые, Уж отточены копья меткие. Рать усердная лишь приказа ждет, Чтоб пуститься ей в путь назначенный…Двинулись. Сначала тихо, еле-еле, оглядываясь по сторонам, вздыхая. Затем побыстрее, потверже и наконец полным шагом.
Все глуше становился звон ярославских колоколов, все дальше и дальше оставались позади уютные ярославские домики с их гостеприимными хозяевами.
Ах, прости-прощай, Уж ты, батюшко мой, Ярославль-город! Ты хорошо, славно сам ты построен…Дойдя до Сотемского стана, Пожарский передал начальство над войском Кузьме Минину и князю Хованскому. Сам с малою дружиною свернул с московской дороги в сторону, на Суздаль – поклониться напоследки могилам своих предков. Таков был древний обычай для больших воевод, уходивших в опасную войну.
Он обещал нагнать ополчение в Ростове.
Гаврилка видел, как Пожарский облобызал у всех на глазах Кузьму и как тот на коне, с достоинством, решительно занял первое место впереди бояр и князей, приблизив к себе знаменосцев.
Войско вошло в густой сосновый бор. Колеистая, ранее размытая дождями, теперь окаменевшая от засухи дорога. Грохот колес, топот конницы и пехоты заполняли проселок. Трудно было расслышать соседа. Накалившиеся на солнце, в полях, мечи и копья начали остывать в тени. Не так жгло тело. Янтарная испарина сосен издавала приятный, бодрящий запах.
* * *
Тридцатого июля ополчение вступило в древнейший озерный город Ростов.
Путь перед конем Кузьмы жители усыпали полевыми цветами, забрасывали платками и домоткаными дорожками.
Воевода со всем дворянством оказал Минину и Хованскому великокняжеские почести: дворяне били челом, клянясь в верности земскому ополчению.
Кузьма удивил всех «высокородною сановитостью», с которою он встречал приветствия важнейших особ ростовского воеводства. Словно с малых лет был он воеводою; только когда монахи запели псалом «помилуй мя, боже», Кузьма, сидя на коне впереди войска, не утерпел, – стал баском подтягивать монахам. В толпе дворян мелькнули насмешливые улыбки.
Приставам, которые с преувеличенным усердием принялись разгонять народ, как это было заведено при проездах высоких особ, Минин громко крикнул, чтобы они не мешали народу приветствовать ополчение. Гневный взгляд Минина смутил приставов. Никого не избив, они скрылись в толпе.
«И зачем только Пожарский дал ему такую волю? – удивлялись высокородные люди. – Не приведет то к добру!»
В Ростове Кузьма принял гонцов, прискакавших из Белоозерска. Они просили выслать на Белое озеро для большей безопасности еще отряд ратников.
Кузьма дождался приезда Пожарского. Обсудили вместе челобитие гонцов и решили послать на Белое озеро еще одного из воевод ополчения, Григория Образцова, с большим отрядом разноплеменных ратников и несколько пушкарей с нарядом.
Образцов, воевода старый, бывалый, хорошо знал северные окраины. Собрался быстро и повел войско знакомыми тропами к северу. Путь долгий, трудный, через леса, горы, реки и болота, но не пугал он ни воеводу, ни ратников. Правда, не хотелось уходить с полпути от Москвы, не померявшись силою с польскими панами, не легко было расставаться и с товарищами, но…
Зиновий, уходя с Образцовым, распрощался с Гаврилкой, Олешкой и Осипом.
– Прощайте, други! – сказал Гаврилка украинцам. Крепко обнял Зиновия. Вспомнилось, как они встретились на дороге к Москве, что пережили с тех пор. К горлу подступили слезы:
– Прощайте. Живы будем, увидимся.
Только что ушел Образцов, из Москвы прибыло полсотни донцов под началом атамана Кручины Волкова. Их послали в Ростов казаки из подмосковных таборов, наказав передать Пожарскому, что под Москвой многие казацкие атаманы примкнут к нижегородцам, едва лишь только они придут к Москве. Волков рассказал, что, когда в таборах стало известно о выступлении из Ярославля Пожарского, Заруцкий, покинутый многими казаками, в страхе бежал в Коломну с двумя тысячами преданных ему сорвиголов.
Донцы с возмущением вспоминали о том, как Заруцкий пытался войти в союз с гетманом Хоткевичем. Он хотел вместе с ним напасть на войско своего же союзника, князя Трубецкого.
Замысел Заруцкого открыл польский ротмистр Хмелевский, служивший в войске Трубецкого. Несколько поляков, также находившихся на службе в подмосковных войсках, по совету Хмелевского, взяли на себя посредничество между гетманом Хоткевичем и Заруцким и, когда убедились в изменнических умыслах Заруцкого, раскрыли заговор казацкому кругу.
Предатель сбежал вовремя, не то сидеть бы ему на колу.
Атаману Кручине Волкову донцами было наказано не только сообщить Пожарскому о предательстве и бегстве Заруцкого, но и разведать: не замышляет ли Пожарский чего-либо против казаков, и просить его поскорее прибыть в Москву, до прихода Хоткевича.
Пожарский и Минин, как и прежних казацких гонцов, обласкали Волкова, одарили деньгами и сукнами его и всех его спутников, уверив казачество в своих братских чувствах к нему.
Обрадованные хорошим приемом, донцы, веселые и довольные, ускакали в Москву.
* * *
Покинутая отцом и матерью, в Московском кремле одиноко жила Ирина в своем терему. Время проводила или в молитве, или около ребенка. Единственным человеком около нее осталась старая мамка Акулина Денисовна. Пекарский несколько раз заходил к Салтыковой с гайдуком, который приносил ей продовольствие. Взглянет на ребенка, улыбнется и, быстро повернувшись, уходит обратно.
Отец, уезжая, говорил ей: «Тебя куда такую повезу-то? Да и то сказать – стерпится, слюбится». Он надеялся, что Пекарский ради ребенка «одумается», что сам он, Салтыков, скоро снова вернется с войском Сигизмунда в Москву. Король добрый, он воздействует на пана Пекарского, заставит его жениться на Ирине. Со слезами благословил Михаил Глебович свою дочь, крепко обнял ее на прощанье и уехал в Польшу.
Прошло около двух месяцев после того, но об отце ни слуху ни духу. В Кремле положение все ухудшалось. Рязанское ополчение Ляпунова своею осадою обессилило польский гарнизон, довело его до голода. Не многим улучшил положение и явившийся на помощь полякам воевода Николай Струсь.
Кремлевские приживальщики, изредка посещавшие Ирину, говорили, что король недоволен Струсем и что посланное к Москве с гетманом Хоткевичем войско должно освободить Кремль от осады, а гетман будет новым московским воеводой.
Однажды Ирину навестила инокиня Марфа с сыном Михаилом Романовым. Поплакала, повздыхала и ушла. Михаил был беспечен.
Дни в Московском кремле тянулись серые, однообразные. Осада сделала людей замкнутыми себялюбцами; постоянная настороженность и голод притупили сознание. Польская солдатчина потеряла всякое понятие о дисциплине. Кто сильнее – тот и главенствовал. Ночью было опасно ходить по улицам: убивали, насиловали, грабили. Все дома на запоре. В церквах богослужение прекратилось. На стенах, на башнях, на колокольне Ивана Великого день и ночь караульные рейтары смотрели, не идет ли помощь от короля.
С наступлением сумерек огни в Кремле гасли. В мрачной тишине все замирало, только часовые у девяти кремлевских ворот, перекликаясь с патрулями, нарушали тишину. Ведь даже собак всех давно уже поели в Кремле. С каждым днем петля все туже и туже стягивалась.
В один из таких вечеров к дому Салтыкова подошел человек. Он осторожно поднялся по каменной лестнице, постучался. Отворила дверь Акулина Денисовна. Отворила и, подняв фонарь, в ужасе попятилась назад. Ей показалось, что перед ней нечистая сила. Лицо вошедшего было белое, как полотно: одежда – пестрая, в лоскутах, на босых ногах лапти.
– Чего испугалась? Не пан я и не вор, а православный человек, такой же, как и ты, – сказал он.
– Господи Иисусе! – прошептала Акулина, приходя в себя.
– Скажи боярышне – Халдей вернулся.
Акулина скрылась за дверью.
Вскоре из соседней горницы вышла в белой шелковой рубахе худая, испуганная Ирина. Ее трудно было узнать. Большие впалые глаза остановились в недоумении.
– Кто ты? – тихо спросила она. – Мне известно, что Халдей давно убит… на Пожар-площади, в дни бунта…
– Боярышня! Ужели не узнаешь?
Подойдя ближе, Ирина осветила фонарем лицо Халдея. Она зашаталась, вскрикнув со слезами в голосе:
– Он! Халдей!..
Акулина подхватила Ирину, чтобы та не упала…
– Матушка, Христос с тобой!.. Что ты! Что ты!
– Ослабла я! Прости, Халдей! Голод у нас, да ребенок замучил. Не спит по ночам… Я ведь одна, да вот мамка Акулина… Идем ко мне в горницу. Как ты пробрался в Кремль? Как тебя пустили?
Халдей ответил не сразу. Подозрительно покосился в сторону Акулины.
– Ушел и из нижегородского ополчения… Обманули меня нижегородцы. Поверил я тамошнему вору, Кузьме Минину, чтоб ему!..
Ирина посмотрела на Халдея недоверчиво:
– Ну, а разве у нас лучше? Здесь и вовсе ты умрешь с голоду… Да и непохоже на тебя, чтобы ты мог быть переметной сумой. Не обманываешь ли ты меня?
– Не думал я тебя обманывать! Да и не знал я, как здесь живут. Господь батюшка авось защитит нас, обездоленных, не даст погибнуть нам с тобою. Позволь мне, красавица-боярышня, ночевать в твоем доме! Я буду, как пес, сторожить твой покой! До смерти буду защищать тебя от всякого лиха.
Донесся детский плач.
– Оставайся! Бог с тобой! – скороговоркой ответила Ирина и побежала в соседнюю горницу, где плакал ребенок.
Халдей умылся, привел себя в порядок. Акулина Денисовна дала ему на ноги вместо лаптей сапоги. Усевшись около нее, он рассказал, что из Ярославля выступило нижегородское ополчение и что войска в нем видимо-невидимо и пушек несчетное число, а ведет ополченцев злой-презлой князь, который поклялся ни одного человека живым не оставить в Кремле, если ему чинить помеху станут.
Акулина ахала, крестилась, причитывая:
– Ай, батюшка! Ай, милостивец!
– Самое лучшее, коли поляки да бояре добром сдадутся, не то он не пожалеет и кремлевских святынь, всё пушками разобьет.
Наутро Акулина поведала о грозном нижегородском ополчении соседке, та передала другой – и пошли слова Халдея гулять по всем домам и домишкам в Кремле, наводя панику на всех. Польское командование сделало попытку найти того, кто пустил этот слух, но отыскать виновника так и не удалось.
Халдей редко выходил на улицу. Большею частью он следил из окна за тем, что делается в Кремле, да слушал новости, приносимые в дом Акулиной Денисовной.
Выходя на улицу, он одевался в свой шутовской наряд, мазал лицо и своими скоморошьими шутками старался развеселить рейтаров. Над ним насмехались, издевались – и за это разрешали ему бывать всюду беспрепятственно. Попросту его не считали за человека.
А в темные ночи при свете ночника он ходил из угла в угол с ребенком на руках, плотно завернутым в мягкие пуховые ширинки. С любовью заглядывался он на маленькое, с широко открытыми глазенками личико ребенка, крепко прижимал к груди крохотное тельце, прислушивался к биению его сердца.
Халдею жаль было Ирину, которой мешал спать ребенок. Он сторожко прислушивался к детскому плачу, брал ребенка из люльки на руки и укачивал его, стараясь дать Ирине покой.
И она была благодарна Халдею за его помощь. Акулина Денисовна от старости и бессилия была плохой ей помощницей. Халдей внес в дом большое облегчение. Кроме того, он раздобывал и хлеба. Присутствие его несколько ободрило Ирину.
– Вернется отец, он отблагодарит тебя за твою доброту ко мне, – говорила она.
– Не надо мне ничего… Лишь бы ты была здорова да ребенок твой… – задумчиво вздыхал он.
Так потекли дни у Халдея в Московском кремле.
* * *
Четырнадцатого августа нижегородцы вошли в Троице-Сергиеву лавру.
Здесь их дожидались новые гонцы из подмосковных таборов. И они обратились к Пожарскому с просьбой о скорейшем приводе ополчения в Москву. Не сегодня-завтра Хоткевич должен появиться под ее стенами.
Пожарский ободрил гонцов, но всего войска опять-таки не двинул к столице; пока послал только отряд с князем Турениным во главе, приказав ему раскинуть лагерь у Пречистенских (Чертольских) ворот.
Однажды рано утром на заре в монастырь прибыли облаченные в дорогие доспехи с заморскими перьями на шишаках иноземцы: Андриан Фрейгер, Артур Эстон, Яков Гиль и другие. Они предложили принять на службу в ополчение собранный ими за границей полк, что, по их словам, принесло бы большую пользу Пожарскому. Они хвалились какими-то особенными смертоносными орудиями, такими, каких ни у кого нет.
В толпе иноземцев Пожарский с удивлением увидел хорошо ему известного француза Якова Маржерета, некогда грабившего вместе с панами мирные села и деревни.
Пожарский и Минин во время переговоров наружно себя держали так, будто они не имеют никаких поводов быть недовольными иностранцами. Приняли заморских рыцарей пышно, со всякими знаками внимания. Но тут же за чаркою вина старались вызнать истинные намерения нежданных гостей.
Выяснилось: у иноземцев были разработаны широкие планы «спасения Москвы». Они предполагали перевозку в Московию большого количества наемных солдат на нескольких английских и нидерландских кораблях. Было намечено и место высадки этих войск: Архангельск.
Кузьма с веселым лицом выслушал все это из уст иноземцев.
Он показал себя гостеприимнейшим хозяином, доверчивым, простым человеком. Не поскупился и на дорогие вина из троице-сергиевских погребов. Архимандрит Дионисий, хотя и поворчал, но все же отпустил.
Под хмельком иноземцы в свою очередь не пожалели красок, чтобы расхвалить богатство и обилие Московского государства.
Их глаза блестели завистью, а слова были витиеватые, путаные. Гости проявили большое знание того, «где и что плохо лежит» в России.
Кузьма, притворившись опьяневшим, тайком ловил каждое слово их откровенных речей, лез целоваться с ними, а когда пиршество кончилось и он остался наедине с Пожарским, сказал ему деловито:
– Пошли, князь, и в Архангельск кого понадежнее. Чует мое сердце: недоброе замышляют. Губу разъело им наше богатство, дьяволам. Архангельск! Ах, сукины дети! В Архангельск захотели!.. Медлить нельзя. Скорее, скорее туда надобно отсылать войско!.. Знаем мы аглицких и других заморских благодетелей! Прожорливы и коварны…
Минин стал ругать самого себя, что он до сих пор мало думал об Архангельске.
– Самая макушка ведь наша!.. Как же это так мы с тобой, Митрий Михалыч, не подумали раньше?
На другой же день Пожарский послал несколько сотен ратников в далекий Архангельск с приказом бить из пушек всякое иноземное, не торговое, судно; поднять весь архангельский народ на защиту города, если будет угрожать опасность.
А иноземным гостям в этот же день был поднесен обширный ответ, в котором, между прочим, говорилось:
«…Мы, бояре, и воеводы, и чашники, и стольники, дворяне большие, и стряпчие, и дворяне из городов, и приказные люди, и дети боярские, и стрельцы, и казаки, и всяких чинов служилые люди, и гости, и торговые и всякие посадские и жилецкие люди, также разных государств цари и царевичи, которые служили прежним государям в Российском государстве, и царства Казанского и Астраханского и иных понизовных городов князи и мурзы, и татарове, и черемисы, и чуваши, и литва, и немцы, которые служат в Московском государстве за разум, и за правду, и за дородство, и за храбрость к ратным и земским делам стольника и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского-Стародубского; да и те люди, которые были в воровстве с польскими и литовскими людьми и стояли на Московское государство, – видя польских и литовских людей неправду, – от польских и литовских людей отстали и стали с нами единомышленно против польских и литовских людей: и бои у нас с ними были многие, и многих польских и литовских людей мы побивали, городы от них очищаем к Московскому государству».
А в конце грамоты Пожарский писал:
«…А только будет за грех наш, по каким случаям польские и литовские люди учнут становиться сильнее, и мы тогда пошлем к вам о ратных людях на наем своих людей, наказав им подлинно: сколько им людей нанимать, и договор велим учинить, почему и каким ратным людям на месяц или на четверть года найма дать. А ныне нам наемные люди не надобет, и договора о них чинить нечего. А о том бы вам к нам любовь свою объявите, о Якове Маржерете к нам отписати: каким обычаем Яков Маржерет из польской земли у вас объявился, и в каких он мерах ныне у вас, в какой чести? А мы чаяли, что его, за неправду, как он, не памятуя государей наших жалованья, Московскому государству зло многое чинил и кровь христианскую проливал, – ни в которой земле ему, опричь Польши, места не будет!»
С разочарованием на лицах приняли эту грамоту из рук Кузьмы иноземные щеголи, поверившие было, что ополченские воеводы и впрямь с необыкновенной радостью встретили их предложение о помощи.
– Знайте! В заморских хартиях никогда не писали правды о нас, – с презрительной усмешкой сказал им Кузьма на прощанье. – Да и нужды мы в ваших похвалах не имеем.
Смущенные, растерянные такою внезапною к ним переменою, заморские гости торопливо умчались из лавры…
Явились из Москвы и Мосеев с Пахомовым: они сказали Пожарскому и Минину, что под Москвою, действительно, с нетерпением ждут Пожарского, что, действительно, настало время ополчению идти к Москве. Больше нельзя откладывать, и так уже кое-где замечается рознь между казаками и земским ополчением.
Минин справился о Константине, ушедшем из лавры в Москву.
Мосеев сказал, что он пробрался в Кремль и пока еще не возвращался обратно.
* * *
Накануне выхода ополчения нижегородские хлебопеки всю ночь состязались с монастырскими хлебопеками: кто больше напечет хлеба. Кузьма то и дело приходил на пекарню подбадривать нижегородцев. Он волновался, следя за ловкостью монастырских хлебопеков. У них шла работа куда спорее, чем у нижегородцев, да и хлеб был вкуснее. Нижегородцы, стараясь угодить Минину, из сил выбивались, чтобы не отстать от монахов.
Утром в день выступления из лавры Кузьма, глядя на горы хлебных караваев, сказал своим землякам, покачав головою с укоризной:
– Не стыдно ли! Вернемся в Нижний, расскажете, как вас побороли сергиевские монахи.
VI
На северной окраине Москвы, в глубоком рву, расположились тихие люди. То – бесприютные обыватели, не влившиеся в рязанское ополчение. Дети, горшки, вороха тряпок среди обгорелых столов и скамеек. Тут же торговцы печеным хлебом и квасом. Они пугливо косятся по сторонам. В толпе голодных погорельцев и бродяг торговать – дело ненадежное. Мыкаются попы, промышляя панихидами по убиенным. А рядом – гадалки. У них народа больше, чем у попов. Каждому хочется знать, что его ждет впереди. Носятся разные слухи. Кто говорит, что сам король идет на выручку полякам, осажденным в Кремле; кто – не король, а гетман Хоткевич; кто – свейский король… Вот тут и разберись. Болтовни много, а ничего не видно.
– Ну, ты, черноперая лисица!.. – крикнул одной из цыганок подъехавший на узкобрюхой коротконогой татарской лошаденке казак. – Погадай, скоро ль придут?..
Бросил монету.
– Скоро, красавчик, скоро… Ветер мешает. Встречь подул. Чей ты?
– А тебе на кой? – огрызнулся казак.
– Кого ждешь?
– Спроси, кого они ждут?.. – казак кивнул в сторону сидевших во рву людей.
– Видать, надеются.
– На кого?
Молчок. Тихие люди навострили уши. Они ловят всякое слово с надеждой услыхать что-нибудь о нижегородском ополчении. Надежда на избавление родной Москвы от поляков никогда никого не покидала. В голову не могла прийти мысль, чтобы Московское государство попало под иноземное иго.
– Чего там! – выкрикнул из толпы плачущий голос. – Весь город чает… Истомились! Надоели уж нам паны!
Казак подхлестнул лошадь, ускакал.
Женщины выходили изо рва и, держа детей на руках, с нетерпением смотрели на север, в ближний лес.
Несколько парней забрались на верхушки сосен Сокольничьей рощи; не отрывали глаз от сергиевской дороги.
Внизу волновались:
– Видать? Аль оглохли? Чего молчите?!
Дорога пустынна. Разве иногда стремительно проскачет одинокий всадник да проковыляет маленькая, едва заметная фигурка какого-нибудь странника – и снова мертвая пустыня, окованная грозной тишиной.
Ополчение двигалось медленно, с опаской.
Минин и Пожарский, подходя к Москве, продолжали соблюдать крайнюю осторожность. Они остановили ополчение в пяти верстах от Москвы, среди леса, на берегу Яузы. Тотчас же разослали лазутчиков по городу. Пахомов и Мосеев теперь ушли на разведку в казацкие таборы.
Утром лазутчики вернулись. По их словам: никакой опасности ни с какой стороны не предвидится, москвичи с нетерпением ждут нижегородцев, чтобы биться вместе с ними за Москву.
Пожарский после этого вступил в городские ворота.
У заставы ополчение встретил Трубецкой, веселый, нарядный, на белом коне, окруженный своими атаманами. Встреча была дружественной, но на приглашение Трубецкого стать лагерем у него в таборах восточнее Кремля Пожарский ответил отказом. Сухой, надменный, с недобрыми, заплывшими жиром маленькими глазками Трубецкой сделал обиженный вид, молча повернулся и ускакал обратно в свой табор.
Князь и Кузьма рассудили по-своему. Хоткевич движется с запада по можайской дороге, и войска надо ставить с западной стороны. Укрепиться следовало именно здесь. Оставить же западную сторону открытой, уйдя на восток за Кремль, к Трубецкому, – значит открыть Хоткевичу свободный доступ к Кремлю. А ведь он вез продовольствие для осажденных поляков. Помешать этому – значило приблизить час овладения Кремлем.
Нижегородцы заняли вместе с прежде посланными отрядами Белый город от Тверских до Пречистенских (Чертольских) ворот полукругом, крепко окопавшись и огородившись со стороны ожидаемого прихода Хоткевича. Работали круглые сутки, как один. Трубецкой и келарь Палицын, несмотря на это, снова пытались переманить Пожарского с его войском в казацкие таборы. Кузьма сказал:
– Хитер тушинский боярин, а мы того хитрее. Не пойдем к нему!
– Не пойдем, – согласился Пожарский, – будем своим умом жить.
Польские паны вздумали этим разногласием подмосковных воевод воспользоваться: пустили слух, будто Пожарский пренебрегает казаками, а земские люди держат камень за пазухой против оборванной, полуголодной казацкой голытьбы, от этого и не хотят соединиться. Сам Трубецкой говорил то же, науськивая казаков на земское ополчение. Намерения польских панов совпали с действиями Трубецкого.
– Я стою под Москвою немалое время! – обозленно воскликнул он, убедившись в непреклонности Минина, – я взял только Белый город и Китай (хотя Китай-города он еще и не взял). Что будет у мужика того, увижу…
Во всем он винил Минина. Келарь Авраамий Палицын приезжал в стан нижегородцев, упрашивал Кузьму быть уступчивее, не погнушаться съездить к Трубецкому в ставку с поклоном:
– Я едва умолил его. Ты, Кузьма, не прекословь князю ни в чем… Тебе же лучше будет. – И шепнул на ухо: – Гляди, как бы царем его не выбрали! Вот оно что. Запасайся его милостью.
Кузьма ответил уклончиво:
– Буду делать то, на что меня бог наставит. Ни Трубецкого, ни иных вельмож я не почту выше бога.
Польские власти, сидевшие в Кремле, ранее получали помощь от своих благодаря неурядицам, происходившим в дворянско-казацком подмосковном лагере. И теперь они прилагали силы к тому, чтобы поссорить нижегородцев с подмосковным ополчением. Распри внутри Московского государства были всегда наруку врагам.
* * *
Гаврилка вздумал выкупаться в Неглинке-реке, разделся, вошел в воду. Собралась на берегу кучка казаков из лагеря Трубецкого. Давай смеяться:
– Ишь ты, отъелся!.. Брюхо-то подвяжи, утонет!..
– Ладно! При нас останется!.. – ответил он деловито. – А у вас и тонуть-то нечему…
– Богаты вы… купцами одеты и накормлены, вот и жиреете, а мы тут за вас стоим и голодаем…
– Нас правда кормит, а не купцы. Правда и одевает… – вылезая из реки и хлопая ладонями себя по богатырской груди, засмеялся Гаврилка.
Он стал неторопливо одеваться. Казаки сели поближе к нему, с любопытством рассматривая кафтан, рубаху, сапоги.
– У нас и у атаманов таких-то нет… – завистливо щуря глаза и волнуясь, говорили они.
– Не ворует воевода – ратникам хорошо. Наши воеводы Митрий и Кузьма – отцы родные… А вот Заруцкий да Трубецкой: «Благослови бог деток до чужих клеток!» Есть что воровать – живете, а нет – зубы на полку… Не купцы нас кормят и одевают, а порядок! Бедность у вас от воровства ваших атаманов.
– А наши атаманы ругают ваших… Не поймешь!
– А наши ваших… Что из того! Ты смотри сам, где лучше… Туда и иди! Вот он, какой кафтан-то!.. Гляди!
Казаки переглянулись. Потрогали кафтан.
– Да. Видать, у вас больше порядка, чем у нас. Позавидуешь.
А вскоре с Гаврилкой в стан Пожарского пришло восемнадцать донцов, пожелавших поступить на службу в ополчение, Кузьма тут же выдал им жалованье вперед, одежду и сапоги. Казаки благодарили. Не ожидали они такого приема: вперед жалованье, одежду и сапоги! И во сне-то не могло того присниться.
Ополченцы повадились каждый день ходить купаться на Неглинку, несмотря на то что вода была очень холодной. Туда же повадились ходить и казаки.
Нет-нет, кого-нибудь и приведут с собой ополченцы.
Из лесов возвращались московские жители и тоже присоединялись к ополчению.
Пожарский и Минин, объезжая на конях Москву, с грустью осматривали сожженный дотла Скородом и превращенный в развалины Белый город.
– Вот она, панская Польша-то! – вздыхал Кузьма, с трудом сдерживая слезы. – Что наделали, дьяволы!
Обгорелые бревна, груды разбитых кирпичей, мусорные кучи, осколки горшков, обуглившиеся иконы.
Кое-где из остатков домов сложены тесовые чуланы, а в них – детский писк, говор людей.
– Уходить бы им теперь отсель… Чего они? – кивнул Буянову Кузьма. – Опасно здесь.
– Приказывал. Не хотят. «Коли Москву не отстоите, так погибнуть и нам всем, – говорят. – Не уйдем!..»
На почерневших от пожара костлявых деревьях каркали вороны. Алые пятна вечерних зорь ложились на белые шатры ополченцев. Сверкали шлемы и одежда воинов. Вдали краснели стены Китай-города. Гордо высился надо всеми Иван Великий.
Сердца воинов загорались нетерпением поскорее сразиться с врагом.
– Горе тебе, опустошитель!.. – тихо молвил однажды Пожарский, глядя вдаль, на запад. – Будешь опустошен и ты! Падет на тебя то, что готовишь другим!
– Хоткевич близок. Языки мне донесли… Через две ночи будет.
– Помолимся же богу, чтобы те две ночи были ему последними.
Минин широко перекрестился. В глазах его застыла суровая уверенность.
* * *
Смех стал преступлением в Московском кремле. Халдей чувствовал себя ненужным здесь. Его скомороший халат раздражал людей, наводил их на мрачные мысли. Однажды за Халдеем погнались два гусара, хотели проколоть его пиками. Оба были похожи на безумных. Он едва спасся от них. Выходить на волю стало опасно.
Паны ждали короля терпеливо. О сдаче Кремля и заикаться никто не смел. Не хотелось выпустить из своих рук сердце Московии. Не хотелось расставаться и с награбленным добром. Ведь столько крови пролито, столько трудов и волнений ушло на то, чтобы набить мешки драгоценностями! Солдаты Струся даже при последнем издыхании, умирая от голода, цеплялись холодеющими руками за серебряные и золотые вещи, боясь, чтобы кто-нибудь их не отнял.
Поползли страшные слухи. Акулина Денисовна сообщила, что сосед их, пехотный поручик Трусковский, съел своих двоих сыновей; другой съел свою мать. Отец не щадил сына, сын – отца; господин не был уверен в слуге, слуга в господине. Кремль стал похож на город безумных.
Каждый дом обращался в маленькую крепость. Из опасения быть убитым и съеденным каждый хозяин крепко-накрепко запирал дом, заряжал самопалы, держал наготове сабли и пики.
Приготовился к обороне и Халдей.
Ему удалось убить забежавшую в огород чью-то лошадь. Ее мясом питались.
Халдею давно уже настало время уйти из Кремля, но ему жаль было Ирину. Как оставить ее одну с ребенком? Да и ребенка он полюбил. Дитя было жаль не менее Ирины.
Не случится ли с ним того, что случается с людьми почти каждый день повсеместно в Кремле? Страшно подумать!
Но и в Кремле оставаться опасно. Надо было многое поведать вождям ополчения. Не мало собрал он всего. Времени терять на бесполезное сидение в Кремле ополченскому лазутчику не пристало.
Думал Халдей и так и этак, но уйти никак не мог!
Ирина, в свою очередь, не допускала мысли, что ее покинет Халдей. С ним она чувствовала себя спокойнее. Она привыкла к Халдею. Относилась как к должному к тому, что он носит по комнате ее ребенка, укачивает его в люльке, любуется на него, прислушиваясь к его протяжному безмятежному «гу-гу», любовно приглядываясь к его улыбке…
И вот однажды в ее горницу вошел переодетый крестьянином смущенный, опечаленный Халдей. Вокруг его туловища была обмотана веревка. Он подошел к люльке, наклонился над ней, поцеловал спящего ребенка и, перекрестив его, стал на колени перед иконою; поднялся, подошел к Ирине:
– Прощай, боярышня! Скоро увидимся. Не тужи!
– Ты… уходишь?! – в испуге прошептала она.
– Прощай! Береги дите. Христос с тобой!
Ирина вскочила с постели, бросилась было за ним, но его и след простыл.
Прокравшись через огород в темный переулок, Халдей остановился. Моросил мелкий дождь. Частые холодные капли студили лицо и шею. Халдей облокотился на изгородь и зарыдал.
В последний раз посмотрел в сторону жилища Ирины и торопливо направился к кремлевской стене. Место, где можно переброситься через стену, он присмотрел давно. Оставалось только подойти к нему незамеченным. В такую ненастную, темную ночь, как эта, нетрудно было укрыться от стражи.
Вот оно, то дерево!
Халдей стал карабкаться на него.
– Эй, стой! – раздался внизу голос.
Появился факел. Выскочило несколько человек из-за угла. Среди них Халдей узнал Игнатия. Два-три сука – и зубцы стены! Прогремел выстрел. Пуля пролетела мимо. Со всех сторон послышались свистки караульных.
Вот уже Халдей на стене. Он размотал веревку, которою был обмотан, надел петлю на зубец стены. Прислушался. Крики и свист внизу, в Кремле, стихли.
Халдей стал спускаться по веревке вниз. Но только он немного спустился, как на стене появились караульные рейтары, веревку подрезали, и Халдей полетел в ров. Сверху было видно его неподвижное тело.
Толпа рейтаров быстро сбежала со стены по мосту и через Кутафью башню, вниз на вал.
Халдей был мертв.
На его тело накинулись рейтары, вырывая друг у друга труп. Блеснули сабли… Поднялся вой…
* * *
Из Кремля, с колокольни Ивана Великого, утром на заре караульные увидели большое войско, двигавшееся по Можайской дороге.
– Гетман! – воскликнули они радостно.
Кому же иначе идти по этой дороге, как не королю либо гетману Хоткевичу?
«Гетман идет!» Эта весть обрадовала польский гарнизон, подняла надежды на скорое избавление. Струсь собрал всех своих воинов на площади и объявил им, что «скоро, скоро Москва станет нашей, а нижегородские мятежники дорого расплатятся за свою дерзость». Он приказал привести в порядок оружие, объявив, что придется сражаться и «храброму гарнизону» Кремля, сделав вылазку в тыл нижегородцам.
И бояре вздохнули свободнее. Наконец-то! О, это страшное сидение в осажденной крепости среди обезумевших голодных людей!
Снова ожили надежды на привольную боярскую жизнь под скипетром королевича Владислава и на жестокую расправу с беглыми крепостными крестьянами и нижегородцами-бунтовщиками.
Гетман Хоткевич прославился на весь мир своими воинскими подвигами. Таких полководцев в Европе было немного. Он не знал поражений. Куда же нижегородским мужикам воевать с ним! Смешно думать об этом. Да и войска такого у Пожарского нет, и оружия, и доспехов.
Бояре и вся именитая знать отслужили молебен в Успенском соборе о здравии «русского царя-самодержавца королевича Владислава» и «о умиротворении исстрадавшейся от смут Московской земли». Служил Игнатий.
– Помоги бог Хоткевичу разбить нижегородских изменников, – так бояре величали войско Пожарского.
VII
Войско гетмана, по своему походному обычаю, двигалось к Москве продолговатым четырехугольником, который был со всех сторон окружен многочисленными повозками, связанными между собой цепями. За передними повозками и внутри четырехугольника тянулись пушки, в середине – пехота, а за нею – тяжелая панцирная конница. Легкая конница гарцевала снаружи, по бокам четырехугольника.
Впереди войска на вороном коне, подняв голову, ехал суровый, непобедимый гетман Хоткевич, окидывая ястребиным взором окрестности Москвы.
Перед ним верховой пахолик, именовавшийся бунчуковым, вез громадную булаву, украшенную драгоценными камнями и лентами наподобие турецкого бунчука.
Конницу, делившуюся на хоругви или эскадроны, вели знатные шляхтичи, ротмистры. Она была пестра, разноплеменна.
Тут были и закованные в тяжелые латы неповоротливые немецкие ландскнехты, и польские панцирники, и венгерцы – кто с длинными копьями, кто с палашами, и иные с саблями, кинжалами и даже с боевыми молотами. У многих за спиной висели карабины, а за кушаками воткнуты были пистолеты. Вооружение, кони, сбруя – все было богатое, дорогое.
Около ротмистров гарцевали пахолики в кафтанах из волчьей шкуры, с орлиным крылом за спиной.
Легкая конница Хоткевича состояла из немцев, венгров, валахов и убежавших из Сечи запорожцев. На прекрасных конях они следовали рядом с тяжело двигавшимся коренным войском, с трудом сдерживая своих скакунов.
Широко раскинулись на обе стороны Москвы-реки таборы нижегородцев и казаков, став на пути к Кремлю.
Хоткевич ошибся. Он думал найти под Москвой жалкие остатки ляпуновского ополчения, которые, испугавшись его, сами разбегутся из-под стен Кремля. Вышло иначе: перед ним оказалось большое, сильное войско.
Он отдал приказ остановиться.
Вечерело. Посинели поля. Река, как стекло, неподвижна, и тишина, хорошо знакомая гетману тишина, соблюдаемая накануне боя серьезным противником, не склонным к уступкам.
Поляки раскинули табор на Поклонной горе, окружив шатры возами, связанными между собой цепями. Хоткевич не на шутку задумался над своим положением. Он приказал саперам возвести земляные укрепления. На валы втащили пушки. Осторожный и умный полководец Хоткевич счел нужным устроить свой тыл так, чтобы в случае неудачи укрепиться и послать гонцов к королю за помощью.
В польском лагере тоже наступила величайшая тишина. Ни рожков, ни песен, ни криков.
Нижегородских ратников охватило любопытство. Тянуло поближе посмотреть врага. Хотелось знать: что за противник? С кем придется потягаться силою? Из-за кого столько разговоров и хлопот?
Подползли к самой воде, вглядываясь в польские таборы. Расширенными от удивления глазами, с громадным интересом следили за тем, как гусары, спустившись вереницею с высокого берега, поили коней…
Начался шепот:
– Ах ты, мышь-перемышь! Кони-то какие гладкие да большущие!.. Ой, господи!
– Нашими овсами, чай, откормили… Пень! Чего дивуешься?
– Гляди… гляди… А сами-то ровно коты. Одни усы.
– Без бороды что за человек! Силы той нет.
– А какому они богу-то молятся?
– Ежели в иконы палят, стало быть, не нашему.
– Айда, ребята, к ним! А?
– Для ча?
– Покалякаем… Почто пришли? Мало им своей деревни!
– Завтра калякать будем, на поле. Накалякаемся вдоволь…
– Трудненько, братцы, нам будет…
– А по-моему, легче вора ловить, нежели вором быть…
– Слышите, смеются! Глядите – покатываются!..
– Смеялась верша над болотом, да сама там и осталась…
– Сесть бы в челнок, мышь-перемышь, да приплыть бы к ним, да испробовать бы… Думается, и не доживешь до завтра… Внутри горит.
Послышались подавленные вздохи.
Кто-то сердито сказал:
– Не искушай народ!.. Помело! Лежи смирно. Воевода какой объявился!..
Польские конники были веселы. Одни уходили, другие спускались с горы на смену им. И, кажется, конца им нет.
* * *
Трубецкой стоял в Замоскворечье, на том же берегу, где и Хоткевич, близ Крымского брода. Нижегородцы – на московском берегу. У нижегородских воевод родилась мысль: не замышляет ли Трубецкой вместе с гетманом пойти на ополченцев, но от него явились послы. Они передали обещание своего атамана действовать против поляков заодно с нижегородцами. Больше того: атаман дал слово ударить полякам в тыл, что ему было сделать, действительно, удобно. Тут же послы передали Пожарскому, что Трубецкой просит воинской помощи у нижегородцев. Они уверяли, что их князь и его есаулы клянутся с честью послужить земскому делу.
Пожарский согласился. Он не послушался Кузьмы, который убеждал его не верить Трубецкому, человеку ненадежному, холопу тушинского самозванца. Пожарский отобрал самых храбрых казаков пять сотен и отправил их на ту сторону Москвы-реки к Трубецкому.
Рано утром берег вблизи Девичьего монастыря огласился воем резких, пронзительных фанфар… Во всем этом было что-то страшное, зловещее, новое для слуха нижегородцев. Польские литавры тоже звучали оглушительнее нижегородских. Грянули выстрелы пушек, дерзко, вызывающе…
Минин и Пожарский стояли на сторожевой вышке.
Им видно было, как по берегу стала спускаться к реке блеснувшая железом огромная толпа польского войска… Грозно сверкало оружие в лучах восходящего солнца. Всадники, имея за спиною по одному пехотинцу, спустились в воду первые. За ними поползли через реку громадные, сооруженные за ночь плоты с остальной пехотой. Непривычно было видеть реку, сплошь покрытую лесом копий и знамен.
В действиях гетмановского войска чувствовалась сила и уверенность в собственной непобедимости. Хорошо вооруженное, закованное в заморскую броню, увенчанное славой прежних побед, оно красовалось перед нижегородцами отвагою, открыто, на виду у неприятеля совершая переправу через реку.
Вот тут и выдал себя Трубецкой.
Он не захотел помешать гетману переправиться через реку, хотя мог бы напасть с правого фланга на эскадроны поляков и помешать переправе. Он упорно бездействовал; равнодушно наблюдал за тем, как поляки перебираются на московский берег. Его приближенные позволили себе даже издеваться над гонцами Пожарского, говоря:
– Богаты вы пришли из Ярославля, сами и отражайте гетмана…
Трубецкой не сдержал своего слова. Минин оказался прав. Атаман даже не шевельнулся тогда, когда более искусная польская и венгерская конница стала теснить бросившихся ей навстречу всадников нижегородского ополчения.
На Девичьем поле произошло первое столкновение нижегородцев с поляками.
Пожарский видел, что ополченским всадникам не побороть превосходной конницы поляков и венгров, и отдал приказ спешиться.
Началась жестокая сеча. Польские гусары свирепо набросились на пеших нижегородцев. Но пригнувшиеся к земле ополченцы, пронзая вражеских коней своими длинными копьями, создали великое замешательство в эскадронах противника. Кони опрокидывались на спину, давили людей. В самый разгар боя и полякам пришлось спешиться. Брошенные седоками лошади бешено заметались в толпе, становясь на дыбы, брыкаясь задними ногами, наводя ужас на сражающихся.
Всё смешалось. Трудно стало разобрать, кто с кем дерется. Тесно, пестро, суетно. Под ногами катались недобитые латники. Они стонали, рычали, норовя ухватить и укусить за ноги бойцов. Многие из воинов наступали на окровавленные латы валявшихся на земле убитых и, поскользнувшись, падали. На них обрушивались соседи, начиналась свалка…
Кучи раненых и убитых росли, служа защитой для сражающихся.
Крики, вопли, стоны и проклятья вылетали из кровавого месива, горяча кровь, мутя рассудок.
Хоткевич вводил в бой все новые и новые отряды пехоты.
Из ополченского лагеря также все время бежали кучки озабоченных бородатых воинов в помощь своим.
Бой разгорался.
При этой сече пушкарям делать было нечего, поэтому Гаврилка, Осип, Олешка и другие смоляне тоже пошли врукопашную. Подобрались незаметно к самому краю места сражения. Увидели группу шляхтичей, горячо между собой споривших. Подползли к ним, хоронясь среди конских трупов, и вдруг, по команде Гаврилки, грянули из самопалов. Шляхтичи вскрикнули, лошади их взбесились, поскакали прочь, теряя по пути всадников. В это время из засады выбежала толпа венгерцев. Черные, разъяренные, со сверкающими белками, ловкие и беспощадные, они набросились на смолян. Тут только ребята поняли, в какую западню они попали.
Венгерцы бились саблями, смоляне копьями, мечами и кистенями. И те, и другие озверели. Рослый воин, у которого Гаврилка мечом вышиб саблю, вцепился ему в руку зубами, рыча, как зверь. Силой этот человек обладал необычайной. Спасибо Олешке! Выручил. Навалился на венгерца, уложил его кистенем.
Несколько смолян пали в этой стычке.
Осипу рассекли плечо. Он побежал в свой лагерь, обливаясь кровью.
Была солнечная тихая погода. Звон железа, стоны и вопли разносились на далекое пространство по окрестностям.
Нижегородское войско еле-еле могло противостоять неудержимому напору эскадронов Хоткевича.
Присланные Пожарским в помощь Трубецкому пять сотен казаков, увидев, в каком опасном положении находятся нижегородцы, ускакали от него обратно, переправились через Москву-реку и вновь пристали к ополченцам. Вслед за ними на глазах Трубецкого лучшие его атаманы Филат Межеков, Афанасий Коломна и другие с большою толпою казаков тоже бросились вплавь на ту сторону Москвы-реки в помощь Пожарскому. Они наказали товарищам передать Трубецкому: «По вашим ссорам настанет гибель Московскому государству и войску».
Дружно врезались они на конях в толпу поляков с правого фланга, остановив их наступление. Расстроенные польские эскадроны, понесшие громадный урон под тугим напором толпы ополченцев и казаков, принуждены были снова убраться в свой лагерь.
Тут сделали вылазку в тыл нижегородскому ополчению осажденные в Кремле поляки. Собрав последние силы, худые, с бледными лицами, похожие на скелеты, с оружием в руках, как пьяные, пошатываясь, пошли они на ополченцев. Их крики, похожие скорее на стоны тяжело больных, страшные, дикие, напугали ополченцев хуже всяких стрел и мечей. Втискиваясь в толпу ратников, костлявые рейтары падали от толчка собственных ударов – так обессилены они были голодом. Корчились на земле в судорогах, умирали, проклиная москвитян.
Лишь только ополченцы сами двинулись на нападающих, как остатки их в ужасе побежали обратно; немногим из них удалось скрыться в Кремле.
* * *
Темная, непроглядная ночь. Гетман Хоткевич сидит на походной скамье в своем шатре, окруженный офицерами.
– Для первого знакомства, – говорит он, улыбаясь, – мы были достаточно учтивы с москвитянами. Встреча вышла теплой. Тем более ночь должна быть приятной во всех отношениях. Мы – хозяева на правом берегу. Казацкий сброд Трубецкого – не воины, их региментарь не расположен ссориться с нами… Мой приказ – доставить четыреста возов с продовольствием нашим героям-соплеменникам в Кремль… Есть человек – он проводит караван в южные ворота Кремля…
На усатых лицах польских военачальников – усталость. У некоторых на головах повязки. Цветные с позументом кафтаны порваны, на них следы крови. Не того они ждали в Москве. Надеялись на более успешные дела у стен Кремля.
Слово гетмана – закон: четыреста возов в Кремль!
В этом – полное презрение к противнику и твердая уверенность в бездействии соседа, Трубецкого. Заскрипели тысяча шестьсот колес. Затопали восемьсот обозных коней. Раздались голоса четырехсот возниц. К этому надо прибавить шестьсот сопровождающих обоз всадников. Караван шумно тронулся в путь.
Князь Трубецкой был глух ко всему этому. Мимо него проходили по Замоскворечью поляки, но он пальцем не шевельнул, чтобы помешать им.
Караван благополучно достиг южных ворот Кремля; все четыреста возов оказались в руках осажденных поляков.
Этим был нанесен большой вред нижегородскому ополчению.
Шестьсот всадников конвоя мирно возвратились мимо казацких таборов опять в гетманский лагерь.
Хоткевич, дождавшись их возвращения, сказал:
– Хорошо! Завтра приведем в Кремль и нижегородского мясника. Пускай рубит мясо для королевских людей.
Засмеялся, отпустил офицеров от себя и в самом бодром состоянии духа расположился на ночлег.
* * *
Полученное панами продовольствие подкрепило и ободрило их.
Двадцать третьего августа осажденные сделали вылазку из южных ворот Китай-города, переправились через реку и без труда взяли в Замоскворечье русское укрепление у церкви Святого Георгия, тотчас же распустив на ее колокольне польское знамя. Обороняли это укрепление воины прежнего ляпуновского ополчения, начальником которых был теперь Трубецкой, но никто из его лагеря не помешал полякам занять этот острог.
Таковое безразличие князя не могло укрыться от зоркого глаза гетмана Хоткевича.
– Будем считать, ясновельможные паны, что Москва наша, – сказал он, осматривая с вершины Поклонной горы окрестности Кремля. – На правом берегу княжеские люди не мешают нам… Боятся гнева божьего… И мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что Пожарский будет благодарен нам за побитие Трубецкого на этом берегу, а Трубецкой не пожалеет, если мы уничтожим Пожарского на том берегу. Московские вельможи умеют ценить нашу поддержку и еще более того умеют не скупиться на жертвы ради своих родословных счетов.
* * *
Было хорошее, ясное утро. Кремлевские стены, башни, купола соборов, Иван Великий – все засверкало белизной и золотом в лучах восходящего солнца. Среди зелени садов и кустарников величественно застыла синеватая поверхность Москвы-реки. Медленно плыли кое-где по течению бревна от раскидных мостов и отбившиеся от берега челны. Стрекотали сороки, перелетая с места на место, норовя приблизиться к возам с фуражом. Дышалось легко. Как будто нет никакой войны, никаких кровопролитий: мир и покой на земле.
В то время, когда гетман за трапезой в своем лагере подсмеивался над москвитянами, веселя своих помощников, Пожарский и Минин, узнав о ночном маневре поляков, решили переправить часть ополчения на правый берег реки.
В этот день войско Хоткевича, бросив свое укрепление, двинулось с Поклонной горы к Донскому монастырю, чтобы охватить Кремль и Китай-город с южной и юго-восточной стороны, совершенно не защищенных русскими.
Пожарский быстро перекинул на правобережье два полка отборных воинов, захвативших с собой и пушки.
Трубецкой и в этот раз не помог нижегородцам. Он как бы нарочно, чтобы не мешать польским войскам, отвел казацкие полки в сторону к Лужникам.
Серпуховские ворота оказались незащищенными. Через них свободно прошли эскадроны Хоткевича.
Пожарский видел, что ему предстоит сражаться в неравном бою с превосходными силами противника, однако он решил во что бы то ни стало воспрепятствовать подходу поляков к Кремлю и Китай-городу.
Хоткевич, узнав о дерзкой переправе нижегородцев на правый берег, хозяином которого считал он себя, пришел в бешенство. Спокойствие духа его было нарушено. Он двинул навстречу Пожарскому самые лучшие эскадроны гусаров, стремительно помчавшихся к месту высадки ополченцев. Тут только гетман увидел, как он ошибся в безответности москвитян.
Нижегородские мужики не только не пожелали быть молчаливыми свидетелями подвигов гетмана, но и осмелились мешать ему, расстраивать его планы.
Вихрем налетела железная польская конница на только что переправившихся через реку ополченцев. Удар был необычайной силы. Громадное чудовище, ощетинившееся лесом пик, налетело на нижегородцев с разбегу по скату берега.
И, однако, ополченцы бесстрашно приняли удар, нагромоздив на пути эскадронов бревна, лодки, камни. Нижегородцы слились в плотную стену копьев, самопалов, сабель, о которую с грохотом и звоном разбилась польская конница. Начался жестокий бой.
В тылу у нижегородцев была река, впереди – озверелая вражеская орда. Оставалось: либо победить, либо всем погибнуть.
Пожарский, показывавший ратникам пример бесстрашия, твердил одно:
– Наша правда. Бейтесь до смерти!
Берег быстро покрылся грудами убитых людей и коней. Гусары давно уже спешились и дрались врукопашную. С той и с другой стороны становилось все меньше и меньше бойцов. Казалось, сражающиеся решили начисто уничтожить друг друга.
В это время вдали поднялись облака пыли. То шла польская пехота, высланная гетманом в помощь коннице.
Гусары, ободренные этим, с остервенением накинулись на ополченцев, но тут дали о себе знать и ополченские пушкари. Из двух имевшихся у них пушек они принялись стрелять по пехоте, испугав и остановив ее.
Трубецкой, вместо того чтобы ударить в тыл пехоте и тем решить битву, отвел свои войска еще дальше от места сражения… Он освободил хорошо укрепленный Климентьевский острог. Его немедленно заняли поляки. Получилось, он добровольно предоставил гетману выгодное в военном значении место.
Хоткевичу ясно было видно из острога, как нижегородские пушкари бьют его пехоту. Он окончательно взбесился. По его приказу помчались стоявшие в запасе свирепые немецкие ландскнехты и венгры.
Минин с замиранием сердца следил за ходом сражения. Он видел, что поляки жмут ополченцев к реке. Тогда он собрал толпу ратников и начал готовить переправу в тылу у Пожарского. Затяжка боя, который продолжался уже пять часов, помогла ополченцам устроить мост через реку.
С прибытием немцев и венгров перевес явно оказался на стороне Хоткевича. Отважно отбиваясь от врага, нижегородцы все до единого, даже тяжелораненые, благополучно перебрались опять на левый берег Москвы-реки.
Последним воином, который покинул правобережье, был сам Пожарский.
* * *
В лагере Хоткевича вновь зашевелились знамена. Гетманские конники храбро пустились вплавь через реку и снова пошли в атаку на ополчение. Нижегородцы оказали полякам, как и накануне, отчаянное сопротивление. Однако гетману удалось прорвать ополченский фронт, оттеснив правую часть ополчения к Москве-реке. Князю Пожарскому, находившемуся в этом крыле, угрожала опасность быть «втоптанным» в реку и взятым в плен. Положение становилось безвыходным.
Военный успех склонялся на сторону поляков. Князь Трубецкой видел, как под ударами панской конницы падали одно за другим знамена нижегородцев, как тщетно выбивались из сил воеводы и ратники ополчения, стараясь «свалить с себя» гетмана, но ни шага не сделал князь для того, чтобы прийти им на помощь.
Кузьма, разгневанный бездействием Трубецкого, послал Мосеева и Пахомова на ту сторону реки пустить слух среди казаков: если они помогут ополчению победить Хоткевича, то весь остальной гетманский обоз будет отдан им, казакам.
Кузьма сказал Пожарскому:
– Келарь Авраамий – друг Трубецкого. Да и боится он теперь короля, ибо обманул он его. Дары от него брал, а ничего не сделал. Пообещаем и мы ему чего-нибудь. Казаки его послушают… Пускай пойдет со «святыми дарами» в таборы, уговорить казаков. Он речист! Он должен! Православие гибнет! Ему ли не помочь?!
Князь послал гонцом к келарю своего брата, Лопату-Пожарского. Но когда келарь вошел в стан казаков, он увидел многих из них с оружием в руках бежавшими нижегородцам на помощь. Мосееву и Пахомову удалось уговорить этих. Другие стояли в хмурой задумчивости, держа коней наготове, а третьи играли с беспечным видом в зернь[59].
Келарь крикнул им, подняв «святые дары»:
– Чего же сидите?! Православных бьют! Креста на вас нет!
Он пообещал им отдать все ценности Троице-Сергиевой лавры. Казаков это растрогало: от награды они отказались.
Кузьма не ошибся. Войско Трубецкого, как один человек, по призыву Палицына тронулось на помощь нижегородцам. Москва-река покрылась переплывавшими ее на конях всадниками. Прильнув к гривам коней, они издавали боевые выкрики, подбадривая ополченцев. Радостными возгласами ответили ополченцы, с удвоенною силою начав обороняться от врагов.
Поляки, видя приближение помощи к нижегородцам, еще яростнее стали теснить ополченских ратников. Пожарский выхватил у знаменосца свое знамя и поскакал в самую гущу боя с криком:
– Не жалейте себя! Умрем все!
Бесстрашно кинулись на поляков ратники, не щадя своей жизни. В это время из воды вышла и казацкая конница.
Два ополчения – нижегородское и казацкое, соединившись, с оглушающей силой ударили по гетманским эскадронам.
Польское войско дрогнуло, стало отступать, теряя людей и коней, оружие и знамена, оставив на поле брани множество убитых и раненых. Одних только венгров Буянов насчитал шестьсот человек.
Часть ополченской пехоты после того перебралась на ту сторону Москвы-реки и залегла во рвах и крапивниках на пути гетмана, чтобы не дать полякам воровски незаметно провезти продовольствие к осажденным в Кремль. Эти смельчаки заведомо обрекали себя на верную смерть. «Умрем, а не пустим гетмана к Кремлю», – говорили они.
День склонялся к вечеру. Солнце село за Сокольничьей рощей. Усталые, израненные люди ложились на траву, чтобы омыть раны, завязать их, отдохнуть после двухдневных боев. Многих товарищей не досчитывали ополченцы.
Опять появились люди, подосланные поляками. Они начали сбивать казаков:
– Зря помогаете! Обманут вас нижегородские воеводы. Спасете их, а потом они и вас побьют.
Кузьма едва успевал уговаривать недовольных. Грозила новая междоусобица. Обещанные казакам четыреста возов остались не отбитыми, а впереди ничего не видно хорошего. На казаков напало уныние. Промокшие до костей в воде, полуголодные, утомленные прежним долгим стоянием под стенами Москвы, они начали падать духом.
Тогда Минин пришел в шатер к Пожарскому, сказав, что он сам попробует побороться с гетманским войском; не словами, а делом надо поднять дух в казачьем лагере.
– Хочу я сам попытать счастья в бою… Дай мне отряд воинов, и я с ними пойду на гетмана… – сказал Минин.
Пожарский ответил:
– Возьми кого хочешь… Но не будет ли хуже оттого?
– Лучше умереть, – ответил Минин, – нежели видеть такое неустройство. Ты князь… должен беречь себя. Не дай бог тебя убьют! А я… все равно!
Пожарский пробовал отговаривать Минина, доказывая, что и без него, Кузьмы, коли его убьют, войску будет худо. Но Минин настаивал на своем.
Он отобрал лучших воинов. Взял с собою удалого польского ротмистра, литвина Хмелевского, служившего честно русскому народу, и три сотни наиболее отличившихся в бою из дворянских полков. Пользуясь тем, что поляки, утомленные боями, расположились на отдых, не допуская мысли, что на них могут напасть, Минин быстро переправился со своими ратниками на Крымский берег Москвы-реки и с необычайною силой ударил в тыл на приготовившиеся ко сну польскую пехоту и конницу.
С противоположного берега Москвы-реки видно было, как Кузьма, громадный, без шлема, с развевающейся бородою, высоко подняв саблю, бурею несся по нагорью впереди своего отряда… Видно было, как его всадники, не страшась пуль, стройно, с копьями наперевес, скакали вслед за ним. Такого безумного наскока никак не ожидали поляки. Противники столкнулись грудь с грудью. Панская пехота разбежалась врассыпную под сокрушающим натиском нижегородцев. Конница поляков оказалась неподготовленною. Однако она все же вступила в бой. Стальным вихрем взлетели ее сабли над головами ополченцев, но и она стала подаваться назад. Кони уже вошли в реку, а нижегородцы продолжали наваливаться грузною, свирепою громадой на шляхетских воинов, давя, кроша их с неслыханною жестокостью. Часть польских всадников, которая находилась поодаль от воды, боясь также быть «втоптанной в реку», в ужасе бросилась к своему укреплению. Пришел конец тогда конникам, которых Кузьма вогнал в воду. Их расстреляли поодиночке. Покончив с ними, Кузьма опрометью погнался со своими воинами вдогонку за остатками конницы.
В лагере Хоткевича от неожиданности и стремительности удара ополченцев поднялась суматоха, и многие поляки бросились бежать куда глаза глядят. Особенно перепугались люди в обозах. Они перелезали через возы и врассыпную разбегались по полю.
В это время пехота нижегородцев, ранее посаженная во рвах и крапивниках, чтобы помешать панам в доставке продовольствия в Кремль, с боевыми криками выскочила на помощь Минину.
Сам храбрейший из храбрейших гетман Хоткевич в панике понесся на коне по полю, оставив обоз и шатры в добычу нижегородцам.
Победа на стороне Минина была полной. Казаки, изумленные бешеной храбростью нижегородского старосты, с радостью и огромным уважением приняли от него в дар отбитый у Хоткевича обоз. Имя Кузьмы Минина затмило имена подмосковных воевод.
Пожарский крепко обнял вернувшегося в лагерь своего соратника.
Он приказал пушкарям и стрельцам произвести «великую пальбу» по отступавшим войскам Хоткевича. Гаврилка постарался на славу. Стрельба по польскому стану продолжалась два часа. От грохота пушек не слышно было даже разговоров, и дым носился, «как от великого пожара». Разбитые нижегородцами поляки сначала отступили к Донскому монастырю, а затем и вовсе исчезли из-под Москвы.
Кузьма своею победою решил судьбу войска гордого гетмана. Лазутчики донесли, что Хоткевич «хребет показал», побежав по Можайской дороге обратно к себе в Польшу.
После боя, снимая с себя броню и латы, Минин сказал с усталой улыбкой на лице:
– Побили многих наших, а меня и смерть не берет. Впереди всех был – и жив. Видать, Татьяна за меня усердно богу молится.
На лице его появилась улыбка.
– Полно, Кузьма Минич, что ты говоришь!.. Господь с тобою! – помогая ему разоружиться, в испуге произнес Буянов. – Жив – и слава богу! Что о том говорить! Весь народ трепетал за тебя.
* * *
В этом бою принимала участие и Наталья. Пахомов не отходил от нее. Они вместе стреляли из самопалов на валу близ переправы по остаткам войска Хоткевича.
– Видать сразу стрелецкую дочь! – сияющий от счастья, похваливал Пахомов Наталью.
Сам он плохо стрелял. Редко ему приходилось иметь дело с самопалом; его неизменным оружием были посох и котомка. И теперь Наталья стыдила его за неуклюжесть.
Они в последнее время постоянно находились вместе и часто говорили о Халдее. Пахомов заметил, что при имени Константина она задумывалась, делалась неразговорчивой.
– Он лучше тебя, – сказала она однажды, строго сдвинув брови. – Он знает, что я его не люблю. Он не укоряет меня, а ты… Больше не лезь ко мне и не говори о нем.
Пахомов покраснел. После этого его стала мучить другая мысль: «Она сказала, что не любит Халдея, а обо мне ничего не сказала. Может быть, она и меня не любит? Но как узнать это?»
Пахомов много вздыхал около Натальи, но спросить ее об этом не решался.
В ополченском лагере было немало женщин, особенно девушек, из московских разоренных семейств. Они варили похлебку ополченцам, пекли хлеба, прибирали в шатрах. И были такие, что ходили вместе с ополченцами в бой. Среди них Наталья была самой отважной.
Женские шатры стояли в отдельности от ратных. Здесь и жила Наталья.
Женщины устроили обильную трапезу на Девичьем поле после победы над Хоткевичем.
Пожарский и Кузьма Минин тоже присутствовали на этой трапезе.
И здесь Наталья оказалась хорошей хозяйкой, она напекла пирогов по-нижегородски, с запеченной рыбой в тесте. Всем понравилось.
Одну победу отпраздновали, теперь оставалось взять Кремль и полонить засевший там польский гарнизон.
VIII
Разгром Хоткевича дал возможность нижегородцам обратить все свои силы против поляков, сидевших в Китай-городе и Кремле. Теперь должна была окончательно решиться судьба осажденных. Помощи ждать им неоткуда. Положение польского гарнизона безвыходное.
В эти дни в Москве появились друзья кремлевских бояр: бывший костромской воевода, спасенный Пожарским от народного гнева в Костроме, Иван Петрович Шереметев, а с ним Петр Шереметев, князья Григорий Шаховской, Иван Засекин и дворянин Плещеев. По наущению кремлевских бояр, выполнявших наказ польских панов, они стали натравливать казаков на земских людей. Но, увы, миновало их время.
«Вы, несчастная голытьба, разоренные люди, ничего не имеющие, должны бороться, воевать, добыть мечом заслуженное вами благоденствие. Нижегородская земщина отолстела, разжирела. Глядите сами, как они одеты, как едят. Сытый голодного не разумеет».
Тушинские бояре призывали «всех земских ратных людей переграбить и от Москвы отженуть». Но их речи не встретили сочувствия у казаков.
Как оплеванные, бродили тушинские вельможи из шатра в шатер, тщетно стараясь поднять казацкое войско против нижегородцев. Немного нашлось охотников ссориться с крепким, стойким нижегородским ополчением. От глаз казаков не укрылось и то, что в нижегородском ополчении бедняков-крестьян было гораздо больше, чем у казаков, что «купцами» их называли зря.
В таборы кондовых, природных донских казаков налезло немалое число проходимцев, бездельников и воров. Им было все равно, в каком стане находиться, лишь бы пограбить. Эти проходимцы тоже называли себя казаками. Кое-кого из них удалось сбить с толка и заставить «нелюбовь держать» к ополченцам. Начинались ссоры, но как быстро они возникали, так же быстро и угасали. Самая большая ссора между казаками и вождями земского ополчения произошла, как и в дни Ляпунова, из-за того, что нижегородские воеводы запретили грабежи и насилия над мирным населением.
Трубецкой и Заруцкий жалованья казакам не платили, принуждая их саблей добывать себе хлеб. В грабежи втягивались и честные казаки. Кузьма Минин понял это. Переманивая их, он выплачивал им хорошее жалованье, это и выбило оружие из рук Шереметевых, Шаховского и иных сообщников кремлевских бояр.
Трубецкой в эти дни заявил о своем старшинстве – стал доказывать Пожарскому, что он, Трубецкой, первый человек в России. Ведь он же боярин! Пускай тушинский, но боярин! У него в войске больше половины бывших тушинских воинов – стало быть, признавайте и тушинский чин наравне с древними чинами.
Пожарский и Минин получили от Трубецкого приказ ездить на совещание к нему, Трубецкому, в ставку.
Пожарский сначала рассердился, а потом должен был уступить Кузьме. Ответ дали вежливый, спокойный, величая Трубецкого боярином и всякими почетными именами. Однако от поездок на совещания в казацкие таборы вожди ополчения наотрез отказались: неудобно, мол, далеко и опасно для жизни Лучше образовать, наподобие ярославских, приказы да хорошо бы поставить их в срединном месте между нижегородским и казацким ополчениями, ну хотя бы по речке Неглинной, на Трубе.
Не успел Трубецкой дать ответа, как на Трубном предгорье Кузьма уже раскинул несколько громадных приказных шатров и поставил около них нижегородские знамена и крепкую стрелецкую стражу под начальством Буянова.
Волей-неволей Трубецкому пришлось ездить для совета сюда. Упрямство атамана было сломлено.
Как ни кипятился тушинский боярин, как ни старался верховенствовать, все делалось помимо него и в то же время при его подписях. На всех грамотах и приказах первая подпись все-таки была постоянно его, Трубецкого, а затем – Пожарского.
Двадцатого сентября Пожарский, не надеясь на согласие Трубецкого, послал от себя письмо польским панам в Кремль, убеждая их сдаться.
Ответили полковник Мозырский, хорунжий Осип Будила, трокский конюший Эразм Стравинский, ротмистры, поручики и «все рыцарство», сидевшее в осаде, на другой же день:
«…Письму твоему, Пожарский, которое мало достойно того, чтобы его слушали наши шляхетские уши, мы не удивились по следующей причине: ни летописи не свидетельствуют, ни воспоминание людское не свидетельствует, чтобы какой-либо народ был таким тираном для своих государей, как ваш, о чем, если бы писать то много бы нужно было употребить времени и бумаги… Чего вы не осмелитесь сделать природным вашим государям, когда мы помним, что вы сделали нескольким из них в последнее короткое время? Теперь свежий пример: ты, сделавшись изменником своему государю, светлейшему царю Владиславу Сигизмундовичу, которому целовал крест, восстал против него, и не только ты сам, человек невысокого звания или рождения, но и вся земля изменила ему, восстала против него».
Польские паны, говоря о том, что они лучше умрут, нежели позволят себе изменить царю Владиславу, с ядовитой насмешкой писали:
«…Мы не закрываем от вас стен. Добывайте их, если они вам нужны, а напрасно царской земли шпынями[60] и блинниками[61] не пустошите. Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть холоп по-прежнему возделывает землю, поп пусть знает церковь, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей, – царству тогда лучше будет, нежели теперь при твоем правлении, которое ты направляешь к последней гибели государства…»
«Король польский хорошо обдумал с сенатом и Речью Посполитой, как начать ему войну и как усмирить тебя, архимятежника…»
«…Если ты, Пожарский, кроме находящихся при тебе своевольников и шпыней, присоединишь к себе еще вдвое больше бунтовщиков таких, как ты, то и тогда, при божьей к нам милости, не получишь пользы…»
Пожарский и Кузьма посмеялись над ответом панов.
– Не целовал я креста Владиславу… Паны меня не обманут, и никого в том не обманут, – сказал Пожарский. – Не думают ли они, что гетман Хоткевич вернется? Не оттого ли храбрятся?
– «Пусть холоп по-прежнему возделывает землю, а Кузьмы пусть занимаются своей торговлей», – с усмешкой повторил Минин. – Бояре и паны думают, что холопы и Кузьмы не достойны защищать свою землю. Не так ли, князь?
Пожарский задумался.
Некоторое время длилось молчание.
– Да. Так было, – грустно ответил он, – но если бы я думал, как бояре, то не пошел бы с вами заодно…
Об ответе панов уведомили Трубецкого.
* * *
– «Холопы!», «Мужики!», «Куземки!» – ворчал Минин, распоряжаясь насыпкою новых туров у Пушечного двора, на подступах к Китай-городу и Кремлю. Буде! Натерпелись! Попомните же вы холопов и Куземок!
Кругом кипела работа. На телегах возили землю, камни, бревна. Нижегородские и костромские землекопы, плотники и кузнецы поснимали с себя зипуны. Несмотря на холод, работали в одних рубахах. Ратники дружно перетаскивали на носилках землю и камень. Валы вырастали один за другим. Тысячи людей уминали землю ногами.
Такие же туры насыпали около Девичьего-Георгиевского монастыря и у церкви Всех святых в Кулишках.
Минин самолично следил за тем, как укладывали камень, щебень, как вбивали частокол. Давал советы плотникам, поправлял их. Когда-то ведь он и сам плотничал. Был он веселым, разговорчивым в это утро перед штурмом.
– Поскорее бы бог привел поглядеть на Кремль да святыням его поклониться, а там и в Нижний…
– Что так, Кузьма Минич? Ты, гляди, с царем рядом сидеть будешь. Первым вельможею станешь, – откликнулись ратники.
– Не о том будем думать, детинушки, а о том, как бы нам ляхов одолеть, – сказал Минин и отошел прочь в задумчивости.
К вечеру поднялись со своих мест пушкари, затинщики, стрелявшие из затинных пищалей, и гранатчики. Пожарский нагнал коней и людей подвозить орудия к новым укреплениям. Гаврилка со своим нарядом занял место у Пушечного двора. Навел пушки на Китай-город, заботясь о том, как бы не задеть Спасской, да не сбить Никольскую башню, да не попасть в Благовещенский монастырь. Все пушкари ломали голову над тем, чтобы не повредить башен и храмов. Дворцы да боярские дома – бог с ними! Еще понастроят, а вот Успенского собора, да Ивана Великого, да Покрова не построишь.
С наступлением темноты запылали огни около орудий. Пожарский и Минин на конях объезжали туры, подбадривая пушкарей, осматривая наряд. Всё было готово. Всё было на месте.
Ночью Пожарский отдал приказ стрелять.
Земля содрогнулась от дружного залпа всех выставленных против Китай-города пушек и пищалей. За первым – второй залп, потом – третий, четвертый… Никогда Москва не видывала такого страшного «огненного боя», как в эту ночь.
Полетели в Китай-город и Кремль ядра каменные, железные, каленые и дробные (картечь), разрывные и зажигательные.
Ополченцы озабоченными взглядами провожали летящие ядра.
Минин соскочил с коня, начал помогать пушкарям и рассылыщикам подносить ядра к орудиям. Шапка с него свалилась, волосы растрепались, борода разлохматилась. Освещенный красными молниями, он бегал от одной пушки к другой. Охваченный отвагою и гневом, он ободрял ополченцев могучим голосом, который хорошо было слышно даже в грохоте пальбы.
Вот когда нижегородцы поняли, почему Кузьма так заботился о литье наряда. Вот когда и Гаврилка стал важным человеком в войске. Правда, пушкарем он был ополченским, доморощенным, в Пушкарском приказе не значившимся, землю в пушкарских угодьях не имевшим, но все же пушкарь, самый настоящий пушкарь. Его наряд бил без промаха. Пожарский, и тот поминутно подъезжал к смолянам, чтобы полюбоваться их стрельбой.
Грозные взрывы выстрелов наводили страх не только на поляков, но и на лагерь Трубецкого, в котором наряда вовсе не было. Особенно пугал всех огненный бой ночью, когда в осенней темени сначала небо озарялось кровавыми молниями, а после громового грохота на земле вдруг наступала зловещая тишина.
Кузьма, угрюмый, озабоченный днем, ночью около пушек становился другим человеком. Среди молний он ходил на валу в расстегнутом нараспашку охабне, громадный, бородатый, весело жмурясь от вспышек огня, шутками и прибаутками подбадривая пушкарей.
– Братцы, ну-ка!.. Еще! – кричал он, взмахивая рукой в сторону Кремля. Глаза задорные, озорные.
Приблизившись как-то однажды к Гаврилке, он сказал ему тихо:
– Порадей напоследок! Пускай запомнят нас враги!
Бей в самое сердце!
– Возьмем Кремль, – улыбнулся Пожарский, потирая руки, – и дело наше с тобою сделано.
Минин молчал.
Среди бояр и дворян раздались было вопли, что, мол, «грешно по древним местам бить огнем», но на общем ратном собрании решили: «Можно!»
Двадцать второго октября ополченцы и казаки с песнями пошли на приступ Китай-города. Впереди всех Минин. Осажденные выказали большое упорство и храбрость. Дрались, насколько хватало сил.
Но где же им было устоять против ополченцев?
Китай-город был взят, и через четыре дня – двадцать шестого октября – сдался и самый Кремль.
* * *
На другой день, в воскресенье, двадцать седьмого октября, назначен был торжественный вход в Кремль нижегородского ополчения. Шествие открылось с двух сторон: Пожарский со своим войском пошел с Арбата, где была его ставка, Трубецкой с казаками – от Покровских ворот.
Когда войска собрались у Лобного места на Пожар-площади, архимандрит Троице-Сергиевой лавры Дионисий совершил молебен.
Нижегородцы двинулись к Фроловским (Спасским) воротам. Впереди ополчения верхами ехали Пожарский и Минин. Позади них молодые знаменосцы верхами же везли распущенные ополченские знамена. Особенно красиво выделялось нарядное знамя Пожарского. За ополченскими знаменами пешие ратники несли опущенные книзу польские знамена, отбитые у Хоткевича.
За знаменосцами стройными рядами следовала ополченская конница: нижегородцы, казаки, татарские наездники, мордва, чуваши… Среди чувашей ехал с обвязанной головой раненый Пуртас.
Затем растянулась пехота, артиллерия, обоз в сопровождении духовенства с хоругвями.
Едва Пожарский и Минин въехали через Спасские ворота в Кремль, как к их ногам побежденное польское «рыцарство» с угрюмой покорностью сложило свои знамена.
Кони, на которых сидели Минин и Пожарский, прошли по полотнищам королевских знамен.
Кремлевские бояре до последнего дня приноравливались к польским панам. Немало потрудились они, чтобы посеять раздор в ополченском лагере. Теперь же и Мстиславский, и Шереметев, и Воротынский, и Романовы, и все другие со слезами благодарности низко кланялись Пожарскому и Минину, называя их своими «спасителями»…
Вожди ополчения холодно принимали боярские благодарности.
В это утро напомнили о своем существовании и кремлевские звонари. Вновь загудели колокола на Иване Великом и на всех других звонницах.
Трубецкой ввел казаков в Кремль через Боровицкие и Куретные ворота. Он спешно занял лучшее помещение – большой Цареборисовский дворец.
Пожарский и Минин объехали кремлевские улицы, расставили стражу, приказав полякам убрать трупы и кости, всюду валявшиеся в кремлевских садах и на улицах, и удалились в город, в новое свое жилище – Воздвиженский монастырь, рядом с лагерем нижегородцев.
Пожарский занял келью из двух горниц, Минин – вблизи монастырского кладбища келью в одну горницу.
* * *
Вскоре после занятия ополчением Кремля Наталья с Пахомовым стали разыскивать Халдея. Пожарский и Кузьма также послали для этого своих людей.
Долгие и бесплодные хождения но домам и расспросы ни к чему не привели. Наталья решила заглянуть в дом Салтыковых.
Ее тянуло узнать о судьбе Ирины: жива ли, что с ней? Может быть, она слыхала что-нибудь о Халдее?
Долго пришлось стучаться в салтыковское жилище. Наконец дверь отворилась. Вышла костлявая, с зеленым высохшим лицом старуха.
Какие-то неясные звуки вылетали из ее рта.
Наталья поднялась по лестнице вверх, в знакомый ей терем Ирины. Вошла. При слабом свете, падавшем в комнату через слюдяное оконце, она увидела на постели похожую на мощи, высохшую, неподвижно вперившую глаза в потолок Ирину. Даже когда Наталья подошла к ней совсем близко, Ирина оставалась такою же.
– Ирина! – тихо окликнула ее Наталья.
Лицо Ирины медленно повернулось в ее сторону. Какие-то чужие глаза. Впалые щеки, полураскрытый рот.
– Не узнаешь меня? Ирина! Иринушка! Это я, Наталья! Наталья!.. Да господи, да что же это с тобой! Милая!
На лице Ирины мелькнуло что-то похожее на улыбку.
Но какая улыбка! Наталье сделалось страшно.
Она осмотрелась кругом. В горнице – полный беспорядок. Пустая люлька. Детский чепчик на полу, скомканная пеленка. Нараспашку пустые шкафы и комоды, из которых когда-то Ирина, зазвав к себе Наталью, доставала дорогие материи и драгоценности, хвастаясь подарками пана Пекарского.
– Ирина, это я… я… Наталья.
– Воды!.. – прошептала Ирина.
– Роман! – крикнула Наталья, выходя на лестницу. – Воды! Неси сюда воду! Скорее!
Пахомов разыскал воду, принес ковш.
Маленькими глотками, морщась как бы от боли, Ирина выпила воду. Ее голову приподнял и держал Пахомов.
Он вспомнил, что при нем баклажка с вином. Наташа подбавила в ковш вина.
Еле слышно Ирина сказала:
– Позови… попа… умираю.
Пахомов и Наталья решили попа не звать, а привести еврея-лекаря, который лечил Пожарского. Его хвалили.
Он лечил какими-то заморскими травами и многим помогал.
К вечеру пришел лекарь, осмотрел Ирину. Вздохнул, покачал головою. Дал ей пить настойку из трав и велел ее кормить понемногу, осторожнее, размачивая хлеб в воде.
Пахомов и Наталья поблагодарили лекаря и принялись усердно ухаживать за Ириной.
Выполнили всё, что сказал лекарь.
Через несколько дней она уже могла подниматься на постели и немного говорить.
Соседи рассказали Пахомову, успевшему уже познакомиться с ними со всеми, что к Ирине после ухода от нее скомороха явился начальник кремлевской стражи пан Пекарский, обшарил весь дом и унес с собой ребенка, Ирина побежала вслед за ним, но ее связали и бросили в сенях. Соседи освободили ее от веревок и снесли в терем.
Пахомов выведал всё и о Халдее. То, что он услышал, привело его в ужас.
– И не ищите, – замахал руками рассказавший ему об этом старичок. – И косточек его не сыщете!
– Убили его?
– Хуже, соколик мой, хуже… И язык мой не повернется сказать то. Лютое наше время! Грешное!
Старик в страхе стал креститься, читая молитву.
Пахомов увел Наталью из терема в сени, передал ей слышанное от старика.
Она побледнела, перекрестилась и села на скамью.
– Помолись и ты!.. – сквозь слезы сердито сказала она. И залилась горючими слезами…
Придя в себя, Ирина стала просить, чтобы ей принесли ребенка.
Наталья велела Пахомову разыскать среди пленных Пекарского и узнать от него, что случилось с ребенком. Оказалось, что Пекарский хотел его увезти в Польшу, но, увидав, что ему не уйти из Кремля, застрелился. О ребенке пленные офицеры говорили как-то неохотно. Одно было ясно, что его в живых нет, но как он погиб – об этом умалчивали.
Ирина, узнав о гибели ребенка, долго плакала. С нею вместе плакала и Наталья. Затем обе они стали много молиться. Целые дни проводили в моленной.
За стенами Кремля делалось все шумнее, веселее. Трезвонили колокола. Слышались песни. Стук топоров. Появились гудошники. Москва возвращалась к жизни.
IX
После благодарственного молебна в Успенском соборе Трубецкой устроил пир в просторной палате Цареборисова дворца.
Поставленные полукругом вдоль стен столы были покрыты вместо скатертей снятыми с древков боевыми польскими знаменами, отбитыми Кузьмой у Хоткевича, а скамьи – дорогою парчою и бархатом. На столах красовались отобранные у пленных поляков царские сулеи[62], братины, ковши, кубки и чарки серебряные с бирюзовой эмалью. Холопы входили в палату непрерывною вереницею, принося на широких блюдах свинину, кур, рыбу, пироги.
Сотни свечей в стенных и настольных подсвечниках освещали расписанную изображениями святых палату нежным зеленоватым светом.
За столами сидели важные седобородые бояре, ополченские воеводы с загорелыми обветренными лицами, самодовольные казацкие атаманы и есаулы, вертлявые дьяки и робкие люди духовного звания.
Тесно и душно, зато весело, да в вине и пиве полное приволье.
Радовало всё: и то, что очистили Москву от панов, и что в будущем ждут награды, повышение по службе, вотчины, крепостные людишки и прочее.
Но приятнее всего было думать боярам, что будущему царю не придется идти по стопам Грозного и Годунова. Теперь бояре свое слово скажут, не позволят собою помыкать, как прежде. Да и царя выберут какого хотят, и крестоцеловальную грамоту заставят его подписать, какую им угодно.
Опять заживет полновластно вотчинник! Опять заставит царей угождать ему!
Правда, в годы междуцарствия много вылезло наверх худородных людей. Но и это не беда. Выбирая царя, и с этим злом можно покончить, поставив всякого на свое место.
Да будет вотчинник полным хозяином в государстве!
Пришедшие в Москву из Ярославля с ополчением бояре Морозов и Долгорукий чувствовали себя на вершине блаженства. Сидя тут же, за столом, они пили вино кубок за кубком и перешептывались:
– Кого?
– Василь Петрович, что ты!
– Шепни! Ну!
– Побойся бога! Не искушай! Чего щиплешься?
– Никто не слышит… Ну, ну!
– Василь…
– Ну?
– Воротынского!.. Чтоб тебе лопнуть!
– На кой бес?
– Кого же?
– Тебя!.. Князь ты!.. Долгорукий!.. Родовитый!
– Зачем врешь?.. Ты не думай… не пьян я…
– А коли знаешь, скажи…
– Мишку… Романова… Казаки за него… Вот что!
– Тише, дед!
– И Шереметевы за него… Да и воли нам с ним больше будет!
– Знамое дело. Тушинцы за тушинцев. Родня!
И не только Морозов и Долгорукий – везде за столами ползали такие же шепоты. Шептались и о том, что «во все города Российского царствия, опричь дальних городов, посланы тайно у всяких людей мысли их про государево сбиранье[63] проведывати верные и богобоязненные люди, – кого хотят государем царем на Московское государство – во всех городах». И эти же люди, посланные от земского собора, подсказывали сами имя Михаила Романова. И кто их научил тому, трудно узнать, да никто и дознаваться бы не стал: «на роток не накинешь платок».
Один пьяный казацкий есаул и вовсе, напившись «до зела», ударил кулаком по столу и крикнул что было мочи:
– Мишку! Мишку! Ро-ма-но-ва! Радейте!
Какой-то монах зажал ему рот:
– Храни господь уста твои!
Казак укусил до крови палец. Монах заплакал.
Морозов и Долгорукий лукаво переглянулись:
– Слухай! Сукин сын!
– Этак-то… Что я говорил? Ка-а-азаки!
Кто-то из ополченских воевод в ответ на возглас есаула закричал:
– Митрея!.. Пожарского!.. Его хотим!
Прохрипело с разных сторон зловеще:
– Подавись! Митрия, да токмо Трубецкого!
Кое-где ухватились за сабли.
Бесчинство умножалось. Один из дьяков «по ошибке» воеводе Воейкову бороду медом облепил и ругал его матерно. Монахи ни с того, ни с сего запели отходную кому-то, свалившемуся под стол. Ко всему этому примешивалось: шарканье сапогами, кашель застуженных глоток, хриплые витиеватые возгласы и крепкая казацкая ругань.
Трубецкой сидел у среднего стола, развалившись; справа от него Пожарский, слева – Минин. Трубецкой, совершенно пьяный, хохотал до упаду, следя за тем, как таскали друг друга за бороды два его есаула.
Пожарский был серьезен. Он выпил всего две чарки. Кузьма пил много, пожалуй, больше всех, но не пьянел. Его глаза пристально вглядывались в окружающих. Иногда он спрашивал у соседа, князя Черкасского: «Кто сей?» Нехотя отвечал князь: «Сицкий» либо «Лыков».
По одежде сразу было видно знать. В златотканых кафтанах, шелковых рубахах, а поверх кафтанов – атласные и бархатные накидки – козыри[64], обшитые золотыми и серебряными галунами; впарчовых ферязях с золотыми петлицами поперек груди. Залюбуешься!
Но тут же сидели люди, одетые бедно. При царях было запрещено входить во дворцы в охабнях, а теперь можно. Сам Кузьма Минин был в простой суконной однорядке. А какой-то пьяный князь и вовсе в самый разгар пиршества влез в палату в шубе и горлатной шапке, что ранее почиталось великим грехом.
Пожарский морщил лоб, видя окружающее бесстыдство.
Он привык к порядку во дворцах, к чинопочитанию и затрапезному благонравию. В этом же самом дворце ведь бывал он у царя Бориса и у Шуйского. И теперь ему было тошно смотреть на оголтелую, пеструю, собранную Трубецким толпу.
Всем было ясно, для чего Трубецкой созвал к себе этих разношерстных людей. Недаром есаул выкрикнул его имя, недаром и по Москве ходили слухи, что царем будет избран Трубецкой.
Князь в расчете ошибся… Никто не поддержал выкрикнувших его имя казаков. И в Земском совете, составленном в Москве из людей «великого и среднего рода», также никто ни разу не заикнулся о нем. Да разве один Трубецкой!
Кто из знатных бояр не думал о царской короне! И кто из них не раскаивался теперь в своей близости к полякам! Мстиславский откровенно сам признал себя недостойным царского трона. На него глядя, и другие отказались от честолюбивых умыслов. Федор Иванович Шереметев, увидав, что и ему нечего надеятся на престол, послал записку своему другу Мстиславскому;
«Выберем на царство Мишу Романова. Он молод и еще глуп».
В сожженной поляками Москве снова начиналась жизнь. Потянулись из лесов и деревень убежавшие во время пожара жители. По всем дорогам к Москве поползли возы и деловито зашагали москвичи. И у всех одно на уме: скорее бы наладить гнездо для себя, для жены, для детишек. Довольно мыкаться без крова, без власти! Жизнь стала не мила.
Минин в этот вечер думал о москвичах. Вот кто действительно исстрадался о мире, о порядке, о труде! Реки крови пролили москвичи, защищая столицу.
Но много ли их в Земском соборе, созванном наскоро в Москве? Бояре уже теперь говорят там от лица «всей земли». И выберут на царство Михаила. Шереметев не ошибся. Такой царь нм нужен. При нем всё пойдет так, как того желают бояре.
– Ты что задумался, староста? – покосился в его сторону Трубецкой.
– Немало дум у меня, князь… Всех не расскажешь. Пустая голова – что бесснежная зима. На то и голова, чтобы думать. На то и зима, чтобы снег был.
Трубецкой посмотрел на смеющееся лицо Минина. Насупился. Погрозился.
– Не хитри, староста! Грешно.
– Что делать! Все дела свои я во грехах творю. Ладно уж! На том свете за всё отвечу.
Трубецкой фыркнул:
– Моли бога, чтобы не на этом.
Морозов, покачиваясь, приблизился к Кузьме, наклонился к его уху:
– Встань перед князем… Кузя, уважь! Нехорошо.
Минин посмотрел на него сердито:
– Проспись, боярин!
– Чт-о о?! – Морозов закачался, его подхватили под руки два каких-то дьяка.
– Мятежник!.. – вскрикнул он визгливо, топнув ногой. – Вон!..
Иван Шереметев приподнялся со своего места и, прищурив глаза, погрозил кулаком Минину.
– Вспомнишь мне Кострому! – крикнул он злобно.
Трубецкой глядел на происходившее с довольной усмешкой.
Кузьма обратился к нему, встав с места:
– Аль ты не хозяин здесь! Аль ты не князь и не воевода! Аль не видишь – твоего гостя обижают!
Покачиваясь из стороны в сторону, к месту спора подошел князь Долгорукий, а за ним потянулись другие бояре.
– Уйми его! – крикнул Минин.
Пожарский в сильном волненье поднялся, взял Минина за руку.
– Нетрезвый он… во хмелю… Не шуми, Кузьма Минич! Успокойся!
Минин сжал кулаки.
Долгорукий закричал:
– Что ты, конь, што ль, вздыбился? Не Ярославль тебе тут и не Нижний, а Москва. Довольно! Знатно похозяйничал! Натерпелись мы от тебя в Ярославле!
– Мужик – что бык! Умрешь, не сопрешь! – сказал, подбоченясь, закутанный в парчу молодой князек.
Со всех сторон посыпались насмешки над Кузьмой.
– Глядите не ошибитесь!.. – рявкнул Минин и, с силой растолкав вельмож, пошел вон из палаты.
Морозов пьяно всхлипнул, заревел на всю палату:
– Никогда не забуду!.. Жалованье из его лап получал. Весь род мой опоганил!..
– И мой!
– И мой!
– И мой! – раздалось со всех сторон.
Выйдя из дворца, Минин взял у одного из гайдуков фонарь и хотел идти вон из Кремля. Его остановили дежурившие у крыльца Буянов и Мосеев.
– Опасно, Минич! Врагов объявилось у тебя много… Убить замышляют… Пойдем с нами.
Пошли втроем.
На дворе слякоть. Днем падал крупный обильный снег.
К вечеру потеплело. Теперь непролазная грязь. С фонарем шел Мосеев. Минин шагал позади него молча, тяжело дыша, а по пятам шел за ним Буянов, держа за пазухой пистолет.
Стража у кремлевских ворот узнала Минина и, обнажив головы, почтительно ему поклонилась.
* * *
Несколько ополченцев, придя к Кузьме, сказали ему, что в городе ходит сплетня, будто «нижегородские мужики хотят Кремль ограбить, а подстрекает их к тому Кузьма. Кузьма, мол, везде похваляется: если бы-де не я, то ничего бы и не сделал князь Пожарский». Что ни день – новая сплетня. Болтали о зазнайстве Минина, о его алчности и безбожии и смутьянстве, говорили о том, что он возмечтал сам царем быть.
По таборам бегали какие-то люди, разнося эти небылицы.
При встрече с Пожарским Минин пожаловался ему на клеветников.
– Ты сам виноват, Кузьма Минич!.. Не умеешь ты ладить с людьми. Гордый ты. Резкий на язык. Нет в тебе почтительности к старшим. Лучше молчи, а не перечь боярам и князьям. Божьего мира тебе не переделать. Мелкое среди мелких людей почетнее и понятнее, нежели великое. Приноровись к ним. Сломи свою гордыню.
Минин низко поклонился Пожарскому:
– Спасибо, князь! Благодарствую. За правду стоять и получить клевету ради нее мне более по сердцу, нежели лгать перед самим собой и приноравливаться к недостойному. Лишний я здесь стал, вот что. Не ко двору пришелся. Так и скажи, Митрий Михайлыч.
Пожарский остался недоволен ответом Минина.
– Гляди сам, Кузьма Минич, не вышло бы худа!
Не случилось бы чего!
После этого разговора с Пожарским Мининым овладело глубокое раздумье.
* * *
Предсказание Пожарского сбылось.
Кузьму вызвали на совет бояр в Цареборисов дворец. Некоторое время ему пришлось постоять в больших сенях около стражи. Таково было распоряжение Трубецкого.
До того, как впустить Минина внутрь хором, бояре долго о чем-то совещались между собою.
Наконец в сени вошел дьяк и повел Минина в покои Трубецкого.
В просторной светлой палате на расставленных полукругом креслах сидели бояре: Мстиславский, Воротынский, Шереметев, Куракин, Трубецкой, Морозов, Долгорукий, Иван Никитич Романов, Черкасский, Пожарский и другие. Тут же на особом месте за небольшим столом два дьяка с гусиными перьями за ухом.
Бояре были одеты в сверкающие золотом парчовые кафтаны и вообще вид имели торжественный, праздничный.
Мстиславский осоловелым тяжелым взглядом уставился на вошедшего в палату Кузьму. Все другие, развалившись в креслах, с любопытством и язвительными улыбками рассматривали Минина.
– Садись, староста… – слащаво-ласковым голосом, от которого Кузьму покоробило, произнес Трубецкой, указав на скамью, поставленную на середине палаты перед боярами.
Минин, поклонившись, сел. Трубецкой обратился к нему:
– Так вот, староста, на тебя жалуются… Превозносишь ты себя не по заслугам… Говоришь ты много, не по чину. В соборе на паперти, когда молились об изгнании короля, при большом многолюдстве сказал: я-де спас Москву, а бояре ничего не сделали и меня ущемляют, а кабы я знал, не ходить бы нам сюда… Пускай бы господами были поляки. Все лучше, чем бояре.
Минин с удивлением выслушал сказанное Трубецким. Спокойно улыбнулся.
– Такого у меня и на уме не было, на паперти я крикнул на стрельцов: «Чего бьете народ? Чай, не поляки!»
– Не отпирайся! Ты сказал иное.
Трубецкой хлопнул в ладоши.
В палату вошел нижегородский купец Охлопков, находившийся во все время похода при ополчении. Перекрестившись на все стороны, он поклонился Трубецкому:
– Бью челом, князь, тебе и всему ясновельможному собранию.
– Знаешь ли ты этого человека? – спросил его Трубецкой, указав на Минина.
– Как не знать!
– Говорил ли он то, о чем ты нам поведал?
– Крест целую всему боярству, говорил. Лучше, говорил, поляки, чем бояре.
Минин покраснел, заволновался.
– Зачем клевещешь? Чего ради чернишь людей?! Когда ты слышал от меня такие речи?
Охлопков приблизился к Минину, взял его за руку и с дружеской укоризной, вкрадчиво произнес:
– Минич… не бери греха на душу, сознайся? Сам я слышал. – Кузьма с сердцем отдернул руку:
– Прочь! Отойди от меня, клеветник! Не в чем мне сознаваться. Бояр я не боюсь, не боюсь я никаких земных царей. Мне ничего не надо. А за правду умереть готов.
– Тебе ничего не надо. Но мне говорили, что, вернувшись с почетом и наградами, ты хочешь мясную торговлю забрать в Нижнем… И меня втоптать в грязь.
Грустная улыбка скользнула по лицу Минина.
– Ты убоялся, не перебил бы я после войны у тебя доход? Бедный барышник! Своекорыстие помутило тебе разум и толкнуло на ложь…
В разговор вмешался Мстиславский:
– Чего для порочишь своего земляка? Он убоялся не тебя, а бога! Не он провинился, а ты. Ты склоняешь народ к смуте!
Бояре встрепенулись. Послышались негодующие возгласы:
– Холоп! Против нас пошел! Изменник!
Минин мужественно выслушал крики бояр. Поднялся с места, обвел хмурым взглядом собравшихся.
Когда шум прекратился, Мстиславский спросил Минина:
– Стало быть, ты не признаешься?
– Нет.
Мстиславский хлопнул в ладоши:
– Вот другой послух… Тоже твой земляк.
Появился Фома Демьянов. Он быстрыми шагами дошел до середины палаты, стал на колени перед боярами и несколько раз до земли поклонился им.
– Говорил ли Минин то, о чем ты нам сказывал? – спросил его Мстиславский.
– Как перед богом… – Фома перекрестился, – говорил. Говорил! Пускай покарает меня господь!
– Нам ведомо, Кузьма Минич, что нашелся в Нижнем у вас человек, говорил он против государства, против земского подмосковного ополчения… Прокопий Петрович послал своего усердного воеводу Ивана Ивановича Биркина просить нижегородцев о сборе денег на ополчение… А тот человек всяко отговаривал народ помогать святому всея земли делу. И не токмо Ляпунову, а восстал он и против своего же нижегородского воеводы… против князя Александра Андреевича Репнина… «И ему, мол, не давайте денег…» Мало того, он колебал народ, хуля князей, именуя их изменниками. И есть слух, что и князя Вяземского в Нижнем немного лет назад погубили по его же наущению. А денег он отговорил дать в те поры, в кои князь Репнин, идя к Москве с войском, великую тяготу от скудости и убогости терпел. А ссылался он на свидетельство беглого чувашина Пуртаса. Нехристю он больше поверил, нежели князю.
С кресла сорвался черный, чубастый, с искаженным злобою лицом князь Репнин.
– Тот человек, что морил меня с людьми, за свое умышление казни и проклятия достоин, как изменник…
Не князья изменники, а он – супостат, самый и есть. Смерть ему!
Трубецкой перебил Репнина. Тот зло плюнул и сел.
– Царство наше гибло, ляхи ликовали, а этот безумец отторгал народ от помощи православному войску…
Не так ли поступали и злоехидные предатели, способники короля!
Обратившись к Охлопкову, Трубецкой спросил:
– Был такой человек у вас в Нижнем?
– Был.
– Как его имя? Назови.
Охлопков, не моргнув глазом, громко ответил:
– Кузьма Минин.
Трубецкой громко, зло произнес:
– Бояре и князья! Много нагрешил против нас Минин!
Опять поднялся шум. Посыпались проклятья и брань. Кузьма с насмешливой улыбкой осмотрелся кругом.
Он видел, как ему грозили кулаками, как взбесились курчавые, одутловатые, облеченные в парчу бояре. Он видел, с каким ехидством и злобой тыкал пальцем в его сторону Фома Демьянов, но он ни одним словом не обмолвился после этого в защиту себя.
Кузьму стали хулить по очереди каждый из бояр, говоря о его болтливости, резкости, озлобленности, о безбожии.
Последним говорил Трубецкой.
Вытянув свое сделавшееся в эту минуту похожим на собачью морду лицо и как бы обнюхивая воздух, он мягко сказал:
– Поверь, Кузьма Минич, нам незачем порочить твоего имени… Мы не хотим тебе сделать ничего худого…
Мы хотим тебя предостеречь… Напрасно ты не сознаешься… Скажи прямо, всё начистоту… Признайся. Голову рубить тебе мы не станем. Нам ведомо: любишь ты поговорить… Говорун ты неуемный… Мы знаем, что к боярам, князьям и воеводам ты уваженья не имеешь… Но размысли сам: мог бы ты сделать то, что ты сделал, без нас? Нешто не я держал осаду два года? Не я ли истощил вражьи силы? Ипротив Хоткевича не я ли помог ополчению? А ты всё приписываешь себе… Сознайся, староста, нечестно это! Холопья вознесли не по заслугам, а ты возомнил, что ты и впрямь первый человек в Московском государстве!.. Покайся! Проси прощенья у бога и у выше тебя государственных мужей… Умерь свою гордыню! Дай нам зарок, что отныне не будешь ты ничего худого говорить о нас!.. Поклянись в покорности! И мы простим тебя.
Минин устало вздохнул, покачал головою и сказал громко:
– Не было того, в чем меня винят! А если вы хотите слышать правду, слушайте: да, не того я ждал здесь, что увидел! Не такой я встречи ожидал от вас малым людям большого дела. Коли боярству нужно погубить меня, губите! Но не поклепом и ехидством, а праведным всенародным судом. Что скажет народ, тому и быть суждено. Обвините меня в смуте, в измене, коли я того заслужил, но не глумитесь надо мной в вельможном застенье… Изменники должны быть судимы не в стенах боярской палаты… Они враги не токмо бояр, но и народа. Он и должен судить их. Но я знаю, вы не захотите народного суда, ибо ни в чем я перед народом не провинился… Как ни хитрите, а правды вам не перехитрить!
Тяжелое, мрачное молчание было ему ответом.
Со своего места устало поднялся Пожарский. Он тихо и с досадой в голосе произнес:
– Я хорошо знаю Кузьму Минина. Тех слов он сказать не мог. Оба эти послуха – ничтожные люди. Я их тоже знаю. Надеюсь, что мне будет больше веры, нежели этим двум мясникам…
После слов Пожарского Мстиславский показал Минину рукою на дверь.
Минин, не поклонившись боярам, вышел прямой, гордой походкой из боярской палаты.
Мстиславский и Шереметевы уговаривали бояр распустить земское ополчение. Хватит дворян и казаков.
– После того присмиреет и Куземка, – хмуро пробасил Мстиславский.
* * *
В Стрелецкой слободе, по ту сторону Москвы-реки, на уцелевшей от пожара улице – песни и пляски.
У самого дома стрелецкого сотника Буянова под бубны и дудки толпа стрельцов, ополченцев и казаков окружила двух запорожцев.
На вулыци не була. Не бачила Дзигуна, Не бачила Дзигуна, Трохи не вмерла, Дзигун-Дзигунец, Дзигун – милый стрибунец…Лихо вскидывая носками, кружились они вприсядку. А рядом, примостившись на обгорелом бревне, сидели в обнимку несколько хмельных волгарей:
…Я за то люблю Ивана, Что головка кудрява…Куда ни глянь – веселые, бедовые лица, раскрасневшиеся от хмельной трехдневной праздничной сутолоки. Стрелецкая слобода оглашается смехом и шутками.
Какой-то казак и кузнец Митька Лебедь сцепились: кто кого поборет. Устали, еле дух переводят, красные, потные, а уступить никому не хочется. Нижегородские ратники с трепетом следят за Митькой. Казаки насупились, пригибаются к земле, с досадой хлопают себя по бедрам, сердятся на своего товарища. Кузнец берет верх. Вот-вот еще немного… и казак валится наземь. Нижегородцы торжествуют, не скрывая своей радости.
В круг выходит высокий, плечистый мордвин, чернокудрый красавец. Вызывает желающих. В его облике – горделивое сознание своей силы.
Толкает Митьку, пристает к нему. Кругом хохот. Митька пятится:
– Полно! Устал. Чего пинаешь?
Мордовские наездники, снующие в толпе в белых войлочных кафтанах, подшучивают над кузнецом: боишься, мол!
Нижегородцы конфузливо жмутся, загораживают Митьку.
– Не тронь! Экой ты детина!
Заглушает всё громкий, мужественный голос со стороны.
– Эй ты! Задира Тимофеич! Обожди-ка!
Все оглянулись. На пороге буяновского дома – Минин. Черные глаза его полны задора. Он в зеленом кафтане, без шапки, с ковшом у губ. Выпил, отдал ковш стоявшей рядом Наталье, быстрыми шагами подошел к мордвину.
– Ну, господи, благослови! Давай потягаемся!
Минин перекрестился. Мордвин нахлобучил остроконечную меховую шапку на лоб, уперся ногами в землю, схватил Минина. Тот мягким неторопливым движением обнял его через плечо.
Началась борьба. Вначале ни тот, ни другой не нападал; топтались на месте, упершись друг в друга.
Из буяновского дома повылезли ополченцы. Тут и Гаврилка, и Олешка, и Осип, и нижегородские гонцы, и Пуртас, и многие другие – все с любопытством втиснулись в толпу.
Пляски и песни утихли. Всем хотелось посмотреть на единоборство Кузьмы с мордвином, славившимся в ополчении сказочною силою.
Кто кого поборет? Одни говорили – мордвин, другие – староста. Нижегородцы пришли в большое беспокойство: неужели мордвин повалит Кузьму?
Мордвин был моложе и легче Минина. Он ловко вырывался из его объятий, а вырвавшись, снова со всего размаха бухался своим огромным телом в бок Минину, стараясь сбить с ног. Минин вздрагивал, но не падал, а с яростью набрасывался на мордвина, сильно сжимая его, гнул к земле. Но мордвин тотчас же опять вырывался.
Долго боролись они яростно, отчаянно, изодрали на себе кафтаны, но ни тому, ни другому выйти победителем так и не удалось.
Кончилось вничью. Минин обнял мордвина, облобызал его и, обратившись к толпе, сказал с улыбкой:
– Видите? А я думал, что я – самый сильный… Ан и посильнее меня нашлись. И дай бог, чтобы их побольше было, таких-то! Потом пригодится.
Он взял мордвина за руку и повел с собою в дом.
Снова зазвенели бубны, взметнулись песни, загудели гудошники, пустились в пляс казаки.
Гаврилка вынес из дома саблю. Его окружили нижегородцы.
– Минич подарил…
Нижегородцы восхищенными глазами стали рассматривать широкое острое лезвие.
– Иди, говорит, на Украину и воюй там с панами… Одной веры с нами люди там и крови одной… Обороняй их…
– Стало быть, уже ты не вернешься к нам в Нижний?..
– Нет, братцы. Не вернусь. Прощайте!
Казаки обняли Гаврилку, лица их просияли:
– Эх, молодец! Пойдем с нами!
Один из запорожцев вонзил саблю в землю, надел на нее баранью шапку и давай кружиться вокруг нее. К нему присоединились другие казаки. Да и сам Гаврилка не отстал от прочих…
Минин вышел на крыльцо и громко крикнул:
– Так, так, братцы! Наш день! Гуляйте! Празднуйте!
Выбежали из дворов стрелецкие жены и девушки. Бедовые, озорные. Закружились в хороводе.
Заплетися, плетень, заплетися. Ты завейся, трава, ты завейся, трава. Ты завейся!..Вчерашние бойцы – конные и пешие, бывшие накануне в броне и державшие в руках копья, мечи и самопалы, – теперь в кафтанах и теплых рубахах, увлеченные стрелецкими девушками, вихрем закружились в громадном, шумном хороводе.
Минин, сидя у раскрытого окна, с довольной улыбкой любовался весельем ополченцев.
X
Сентябрь 1616 года.
Ровный, прохладный низовой ветер. Плавно и легко идет стружок вдоль нижегородских берегов.
День погожий и тишина, та особенная тишина, когда мелкая зыбь Волги для бездомовной голытьбы все равно, что нежные морщинки любящей матери.
Привет вам, родные места! Четыре года ваш гость не видел этих мест. Четыре года бродил он в поисках правды, одолевая бури и опасности. В степных просторах тихого Дона, в знойных пустынях буйного Заволжья, в грозных штормах Каспия познал он человека, его силу.
Нижний Новеград! Наконец-то!
Крепкий русобородый детина поднялся с кормы, пристально вглядываясь в стаю вновь отстроенных на высокой горе около кремля больших деревянных домов.
– Бью челом!.. – отвесил он низкий поклон в сторону Нижнего. – Кланяюсь вам, стены твердокаменные. А вот и Печерский монастырь!
– Эй, парень! Кормило! На косу наткнешься!
Кормчий опять опустил в воду свое широкое, похожее на лопату, весло, налег на него. Струг медленно обошел отмель.
Стали в устье Оки.
Прикрепив к причалу струг и условившись к вечеру вновь встретиться тут же, побрели по съезду наверх, в город. Один только кормчий отделился от своих товарищей и полез прямо по камням и уступам вверх.
Вскарабкавшись на гору, он ловко перепрыгнул через тын и очутился в усадьбе. Крадучись прошел мимо бани под яблонями к недавно выкрашенному в серую краску одноэтажному домику.
Окно было открыто. Слышался детский писк и какой-то мужской голос, успокаивающий ребенка.
Парень сел на бревно под окном, обтер пот с лица.
– Скоро мать придет… Чего ты! Ишь, горло-то, что у протопопа Саввы! – бурчал недовольный голос.
Слышно стало, что ребенку что-то суют в рот, он кричал, задыхался и, наконец, закашлялся…
– Что мне с тобой делать, ей-богу! В Волгу, што ль, тебя… к водяному… Пускай возьмет… Куда ты мне такой… Ах, господи! Что за дите!
Цепной пес, увидевший чужого, свирепо залаял.
– Кого еще там идол несет! – выглянул из окна обросший густою бородою человек. Присмотрелся. – Гаврилка! – воскликнул вдруг он радостно. – Ты ли это?
– Я самый, я и есть, Гаврилка… А ты не Мосеев ли?
Не Родион ли?..
– Ну, как же! Я самый. Узнал.
– Чей это у тебя малец? Уж не твой ли?
– Мой. А что? Похож?
– Да ты не женат ли! – покраснел Гаврилка до ушей, устыдившись нелепости своего вопроса.
– А как же? Бог благословил на четвертом десятке. С Марфой Борисовной сочетался. Да чего же ты тут стоишь, словно ушибленный. Милости просим! Жалуй в избу.
– Благодарствую! Бог спасет! – растерянно забормотал Гаврилка, ошеломленный неожиданной новостью: Мосеев и Марфа Борисовна! Диво дивное!
Обнялись. По-братски облобызались.
– Эх, жизнь ты наша!.. Чего на свете ни бывает! – стараясь не выдать своего волнения, вздохнул Гаврилка.
Родион, вынув из люльки плакавшего ребенка и укачивая его, стал ходить по горнице.
– Кузьму Минича схоронили, царство ему небесное и вечный покой!.. Вот что!
Гаврилка побледнел, перекрестился.
– Умер? – всполошился он. – Такой здоровый да дюжий?.. Ой, ой, ой!
Сел на скамью, в раздумье опустил голову. Родион осторожно укладывал заснувшего ребенка в люльку.
– Чтоб тебя!.. Другие мальцы спят, а этого никак не угомонишь! Мятеж в Казани приключился… Черемисия да татарове, – сказал он, отойдя от люльки, – на воеводу своего поднялись. Те самые, что в ополчении были. Царь послал боярина Ромодановского, а с придачу ему Кузьму да дьяка Позднеева дал. Уговорите, мол, царским словом. Кузьму, мол, послушают. Уважает-де его черемисия и татарове. Полюбили они его в походе. Точно. Уговорил. И стрельцов не понадобилось. Добрым словом покорил. Решили миром. А дорогой он застудился… Пурга, стало быть, была, а потом распутица, чтоб ей!.. Тут он и помер. В дороге богу душеньку отдал, на руках у чувашей под Чебоксарами. Татьяна и Нефед живут теперь в кремле, в избе… рядом с воеводой… Царь подарил избу-то. Новую, недавно рубленую. Сходи, наведайся. Помнят, чай, тебя, не забыли.
Пришла и Марфа Борисовна. Вся в черном, с просфорой в руке. Глаза заплаканные.
– Вот и хозяйка!.. Кланяйся гостю!
Марфа не могла слова произнести от удивления, увидав того, кого втихомолку ежедневно поминала на молитве. Низко поклонилась. Гаврилка ответил еще более низким поклоном.
– Бью челом, Марфа Борисовна! Как здравствуешь? Давно не виделись мы с тобой… Почитай уж четыре года!
– Бог спасет! Живем, – тихо ответила, не спуская с него глаз, Марфа.
Гаврилка понял ее смущение, перевел на другое:
– Ишь ты, беда-то какая! Борисовна! А! Кузьма Минич, наш отец родной, преставился!.. Погубили сердешного!
Ай, ай! И кой умник подумал послать его!
Марфа Борисовна залилась слезами.
– Да ты што? – всполошился муж. – Не обижена ли кем в храме?
– О Кузьме Миниче я!.. Как вспомню… – слукавила Марфа Борисовна. О Миниче она уже за четыре года наплакалась вдоволь. Теперь плакала она о другом.
Гаврилка догадывался. И он готов был зарыдать.
Да гордость не позволила.
– Довольно реветь! Угощай гостя! – хмуро и властно произнес Родион. – Натерпелся я тут без тебя с Афонькой. Слезами не воскресишь. Чего реветь!
Марфа Борисовна ушла в соседнюю горницу переодеваться.
– А у нас, – вновь заговорил Родион, – воевода нижегородский дурит. Зверь зверем стал. Царские приказы выполняет. Ловит беглецов, порет, сажает в клети, гонит с приставами в вотчины… Всех ополченцев перебрал. Все оказались провинившимися. И Нефеда было начал теснить, налогами облагать. Жаловался в Москву Нефед. Заступились. Охлопков да Марков – первые люди теперь у нас. В опале наш Нижний Новеград ныне.
– Как живут Минины-то?
Мосеев махнул рукой с усмешкой:
– Сказать правду – ни то ни се. Скудно. Что в думном-то дворянстве! Слава одна. Вчера Семеновна челобитную подала… Хочет продать дом да свою лавку сдать, что на посадской земле.
– А Богородское? Ему дали вотчину?
– Разграбленное место. И не мог Кузьма ярмить и холопить людей… Не его то дело. Не природный вотчинник. Где ему? Мотался по службе между Москвой и Нижним. О себе и подумать было некогда. Бил челом о своих же мужиках, чтоб им волю дать. Вот тебе и думное дворянство. Пустое! Так себе живут, бедно. У Марфы займуют деньги то и дело.
Вошла хозяйка. Собрала на стол. Угощали Гаврилку медом, ухой, телятиной (хотя попами и запрещалось ее есть), а также сладким яблочным тестом.
Во время еды Марфа Борисовна глаз не поднимала на Гаврилку. Он даже стал побаиваться, как бы Родион чего не подумал.
– Ну, а ты ноне что делаешь? – спросил Гаврилка Мосеева.
Тот рассмеялся.
– Купцом стал. Гнездо заняли мы в Гостином дворе. Скобяным товаром всяким промышляю. А она мне помогает, боярыня-то.
Марфа Борисовна покраснела.
– Теперь только и торговать. – Все вздохнули. – По Волге ходим до Казани и ниже, не опасаясь. И хлеб везут и зерно, и всё без задержки… Спасибо Кузьме Миничу! Всё он! Живем теперь хорошо!
Опять на дворе залаяла собака, остервенело набросившись на кого-то. Родион вскочил из-за стола, побежал на волю.
Гаврилке только того и надо было. Поднялся и крепко прижал к груди слегка сопротивлявшуюся Марфу:
– Милая!.. Прощай!..
Собака перестала лаять. Слышались окрики на нее Родиона.
– Как же это ты так? – обиженно спросил Гаврилка.
– Сказали мне, будто убит ты… Одной жить стало трудно… Запозорили. Без мужа! Иди в монастырь!
– Не судьба, стало быть! Дорогое солнышко мое!
– Что ты! Увидит! – испуганно оттолкнула она от себя Гаврилку.
Послышались шаги Родиона.
– Кто это там? – спросила мужа как ни в чем не бывало Марфа.
– Староста опять. Облаву будем делать на беглых. Арзамасские бобыли в Керженские леса качнулись… С собаками придется… Так не найдешь. Вот, ей-богу, люди! И чего им надо!
Гаврилка насторожился:
– Ой, Родион! – сказал он, укоризненно покачав головой. – От тебя ли слышу?
– А что поделаешь?! Против царя не пойдешь! Строго у нас. Не то уж стало на посаде, что в те поры было. Той вольницы уж нет…
– Стало быть, лови и меня и в цепи сажай. Я тоже беглый… – дерзко произнес Гаврилка, вскочив со скамьи. – Ну, чего же ты! Хватай! Самовольный я человек!
– Садись! Буде шуметь! – дернул его за рукав Мосеев, смутившись. – Никто не знает тебя тут. Не здешний ты. Дыши вольно.
Марфа Борисовна посмотрела на Гаврилку сочувственно. Она узнала его, смелого, прямого, дерзкого. Она его любила такого. Она поняла и то, что он зол теперь на Родиона, потому и волнуется. Она готова была защищать его. Но ведь Родион и не нападал. Гаврилка притих, сел за стол и в грустном раздумье опустил голову.
– Забыл ты Кузьму Минича, Родя. Негоже так-то! А я… после ополчения нигде места себе не нахожу. Всё не по мне. Вот и ты тоже… помнишь, как бегал по городам? А теперь… Нет, не покорюсь я помещикам… Пускай в степи с голоду сдохну, а не покорюсь! На низа, на Дон, может, уйду, а может, и нет… Не знаю.
Гаврилка сел за стол.
– У нас на Дону, в станице, слух был, будто Минин и к царю не ходил звать его на престол, как другие.
– Не ходил, точно, Гаврилушка, не ходил… Другого нижегородского старосту послали… Маркова да Савву протопопа… а его не выбрали. Воевода отставил.
– И грамоту царю будто не подписывал…
– И это как есть!.. Не подписывал, Гаврилушка… Сам укрылся!
Мосеев стал слишком вежлив и ласков с Гаврилкой. Виновато улыбался.
– Стало быть, казаки поминают Кузьму Минича?
– Помянули, да поздно… – печально покачал головою парень. – Дай, господи, ему во граде небесном так же служить сироте-народу, как здесь он служил! Хотя ныне и царь-государь, а мы как были, так и остались. Дай, господи, чтобы пришло и наше времечко!
Гаврилка широко перекрестился. В глазах его навернулись слезы.
Опять наступило молчанье.
– Ну, а Пахомов где?
– Утек куда-то с Натальей… Женился он на ней. Не то в Архангельск ушли, не то в Сибирь. И старик Буянов с ними. Не захотели нашему воеводе покориться да новому старосте нашему, Охлопкову. Гордые ведь они, знаешь, норовистые. Ушли все трое. Да многие тут разбежались… Кто в леса, кто на низа. Ну, а ты что думаешь делать? Оставайся у нас!.. Обелим тебя, к посадским припишем, женишься, торговлишку заведешь. Да и в пушкари возьмут. Народ нужен:
– Нет уж, увольте, мои родные!.. Не бывать мне посадскою овцою! Не гнуть мне спины перед князьями да купцами! Спущусь, пожалуй, на Низовье… Товарищи у меня тут, к Макарию плывем – дело есть. На Унжу. Будем за правду стоять… Кабале поперек.
Гаврилка поднялся, низко поклонился Родиону и Марфе Борисовне и быстро вышел из горницы.
Опять побрел он к тыну. Тихо колеблясь в воздухе, падали желтые листья с яблоневых деревьев, задетых на ходу Гаврилкой. А вот и баня, и скамеечка около нее! Господи, господи, неужели это было?
Постоял на этом месте, почесал затылок и пошел дальше. Родион и Марфа Борисовна укрылись под деревьями у тына, следя за Гаврилкой, как он спускался с горы, как подошел к берегу. Его уже там ждали товарищи…
Прошла минута, другая – и струг тихо под парусом поплыл вверх по реке.
– Жаль парня, – печальным голосом сказал Мосеев. – Пропадет… Чего бы ему! Открыл бы торговлю… Ей-богу!
Марфа Борисовна отвернулась, с трудом подавляя рыданье. Ей живо вспомнились шумные, счастливые летние дни перед уходом ополчения.
Через окно донесся плач ребенка. Оба побежали в дом. Гаврилка шел по берегу, отбрасывая носком сапога камни и раковины, и думал: «Эх, испортился Родион!.. Не то стало и в Нижнем. А Марфа… все такая же красавица… все такая же… О господи!.. За что мне мое мученье?!»
И, подойдя к стружку, сказал товарищам:
– Ну, садитесь за весла… Поплывем, вольные люди, дальше…
Жадным взглядом окинул он волжские просторы, прыгнул в стружок и опять взялся за свое кормовое весло.
Примечания
1
Региментарь – начальник посольской части, полковой командир.
(обратно)2
Речь Посполитая – польское королевство.
(обратно)3
Земля – мать тому, кто с ней умеет обращаться.
(обратно)4
Жолнеры – солдаты-пехотинцы в польской армии.
(обратно)5
Сигизмунд.
(обратно)6
Боярские дети – особая категория служилых дворян.
(обратно)7
Сапежинцы – солдаты отряда Яна Сапеги, в сущности бандиты, грабители.
(обратно)8
Тушинские атаманы – князья и дворяне, перешедшие к агенту Польши – Лжедимитрию II.
(обратно)9
Охабень – верхняя одежда.
(обратно)10
Сброд, бродяги.
(обратно)11
Язык – оговорщик, соглядатай.
(обратно)12
С середины XVII в. главная площадь Китай-города Москвы станет величаться Красной.
(обратно)13
Отлита при Федоре Иоанновиче в 1586 г. литейщиком Андреем Чоховым. Впоследствии получила название Царь-пушка.
(обратно)14
Черкасы – украинцы.
(обратно)15
Гробовой старец – схимонах. Схимонахи обыкновенно спали и гробу, пищею их были хлеб и вода. Схима – самый строгий вид монастырского затворничества.
(обратно)16
Белый город – часть Москвы.
(обратно)17
Иван IV (Грозный).
(обратно)18
Китай-город – часть Москвы, прилегавшая к Кремлю. Обнесена была каменной стеной.
(обратно)19
Дорогие боярские собольи шапки (из меха с горла соболя).
(обратно)20
Свейский – шведский.
(обратно)21
Иван Михайлович Салтыков – новгородский воевода, был заподозрен в измене родине; он уверял новгородцев, что «буде приведет литовцев сам его родитель, он и тогда будет биться с ними». Новгородцы все же ему не верили и в конце концов посадили его на кол.
(обратно)22
Выше своего родового происхождения.
(обратно)23
М.Г. Салтыков неоднократно бывал в Пруссии и Польше с разными поручениями от московских царей.
(обратно)24
Никитичи – Филарет и Иван Никитичи Романовы.
(обратно)25
Острог, острожек – укрепление.
(обратно)26
Паки – опять.
(обратно)27
Турецкими.
(обратно)28
Обилие майских жуков предвещает урожай.
(обратно)29
Воротник – сторож крепостных ворот.
(обратно)30
В тоске.
(обратно)31
Оплечье – вшитый в плечи одежды кусок холста (вставка).
(обратно)32
Глумы – скоморошьи забавы, издевательства.
(обратно)33
Так называли московские церкви.
(обратно)34
Ротмистры – командиры хоругвей или эскадронов. При каждом из них находились два-три «пахолика» (оруженосца).
(обратно)35
Татьба – разбой.
(обратно)36
Слова летописи.
(обратно)37
Игумен Иона, поддерживая связь с Лжедимитрием II, занимался со своими иноками грабежами и разбоями.
(обратно)38
Рыбница – небольшое судно, лодка для рыбного промысла.
(обратно)39
Троеначальники – так звали в народе воевод Ляпунова, Трубецкого и Заруцкого.
(обратно)40
Маринкин сын – сын Лжедимитрия II и Марины Мнишек.
(обратно)41
Острог – ограда из бревен, частокол.
(обратно)42
Закладывать жен и детей – значило отдавать их в кабалу на работы за плату.
(обратно)43
Положи ладонь (руку) на приклад.
(обратно)44
Вильни (повороти) пищалью в сторону.
(обратно)45
Жми к ноге крепче.
(обратно)46
В те годы колокола большей частью отливались из бронзы.
(обратно)47
Нижняя часть меча.
(обратно)48
Животы – имущество.
(обратно)49
Прибыль – лишек металла на стволе пушки (после литья срезается).
(обратно)50
Корабленник – древняя английская и французская монета, на одной стороне которой изображалась роза, на другой – корабль. В годы «междуцарствия» была в ходу и в Московском государстве.
(обратно)51
Подлинная народная песня того времени.
(обратно)52
Ныне Чкаловск.
(обратно)53
Суводь – водоворот во время половодья.
(обратно)54
Беляки – так называют волгари пенистые гребни волн.
(обратно)55
Кошт – расходы на содержание.
(обратно)56
Граф Яков Понтус де ля Гарди – шведский оккупант, захвативший Новгород на Севере.
(обратно)57
Освященный собор – выборные лица духовного звания, принимавшие участие в делах государственного управления.
(обратно)58
Гоношить – собирать; хлопотать.
(обратно)59
Зернь – азартная игра в кости.
(обратно)60
Шпыни – озорные люди, насмешники, издевающиеся надо всем.
(обратно)61
Блинники – люди, торговавшие на базарах и площадях блинами.
(обратно)62
Сулея – плоская бутыль, фляжка.
(обратно)63
Избрание на престол.
(обратно)64
Козырь – самая щегольская часть одежды. Отсюда, вероятно, выражение «ходить козырем».
(обратно)





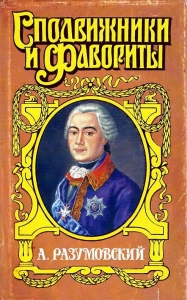
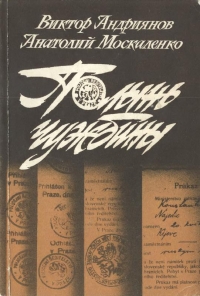
Комментарии к книге «Кузьма Минин», Валентин Иванович Костылев
Всего 0 комментариев