Юрий Лубченков Виват, Новороссия!
Тогда Румянцев, торжествуя Геройским духом, проходил Пределы турок показуя, Своему войску говорил: «Теперь нам Бог открыл путь к славе, Мы властвуем в чужой державе: Теки, о Росс! В сей путь теки Победою руководимый. Ты – Марсов сын непобедимый Теки подобием реки».© Лубченков Ю.Н., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства
Пролог
В пятом часу, когда сквозь сероватую и холодную дымку утреннего тумана только начали проступать контуры окружающего, днем по-южному яркого и многоцветного мира, под мерный, ввергающий в транс единения грохот полковых барабанов, русские каре начали подступ к турецкому лагерю у реки Кагул. День 21 июля 1770 года наступил.
Согласно диспозиции главнокомандующего генерал-аншефа и кавалера Румянцева русская армия наступала четырьмя группами: авангард генерал-квартирмейстера Баура – четыре тысячи штыков – атаковал турок в охват левого фланга их укреплений; дивизия генерал-поручика Племянникова – 4,5 тысячи человек – должна была атаковать левый фланг турецкой позиции с фронта, в лоб; дивизия генерал-аншефа Олица – 7,5 тысячи солдат – совместно с дивизией Племянникова также наступала на левый фланг турок; дивизия генерал-поручика Брюса – 3 тысячи человек – и авангард генерал-поручика Репнина – 5 тысяч пехоты – шли на правый фланг противника. Главные силы конницы – до 3,5 тысячи сабель генерал-поручика Салтыкова – двигались в атаку между дивизиями Олица и Брюса.
Последовавший бой потребовал от каждого предельного напряжения сил.
Корпус Баура штурмовал боковые укрепления. После четверти часа ураганного артогня главнокомандующий турецкой армией бросил и против этого корпуса – как прежде против Олица, Репнина и Брюса – спагов, свою отборную конницу.
Издавна турки лучше всего владели белым – холодным – оружием. Вот и теперь, когда они с криками и рвущим душу визгом на рысях пошли на сшибку, казалось, что их удар будет неотвратим и страшен: геометрически прямая фронта каре будет растерзана, первые ряды будут вырублены в минуту. Но этого не произошло.
Баур и Вейсман практически одновременно прокричали единственно возможную команду – и солдаты доказали, что уже научились обходиться с османскими конными лавами. Раз и навсегда.
Ружейный и орудийный огонь, обрушившийся на кавалерию, практически не оставлял никаких шансов прорваться к русским порядкам. Этот шквал охладил наступательный порыв спагов, и их отогнали. Тогда они ударили русским в тыл, надеясь хоть этим задержать их наступление. Но Баур, оставив арьергард, лишь убыстрил движение своего каре.
На подступах к укрепленной высоте русским преградили дорогу янычары, с которыми завязалась жаркая рукопашная, постепенно перемещавшаяся в глубь турецкой обороны. Офицеры дрались в первых рядах, подбадривая, поддерживая и направляя усилия своих подчиненных. Тут же были и Баур с Вейсманом, не привыкшие прятаться за свои чины и чужие спины в подобных жарких делах.
Русские военачальники знали, что, как правило, осман хватает лишь на самый малый наступательный порыв – долгое напряжение боя они не любят. Вот и теперь: янычары стали все чаще оглядываться назад и наконец побежали. Укрепление было взято, но отдыхать было еще рано.
– Граф, – обращаясь к командиру батальона егерей Воронцову, подчиненные которого первыми ворвались в ретраншемент, прокричал Баур, сам еще не остывший от горячки боя, – берите своих людей и ударьте с фланга в центральное укрепление визиря. Я вас прикрою.
Тут же раздалась команда:
– Батальон, за мной!
Вслед за быстрыми на ногу егерями Баур послал и более сильный отряд прикрытия, возглавляемый Вейсманом. Командующий авангардным корпусом вовремя приказал, а Вейсман с Воронцовым быстро поняли суть – удар с фланга в центральный ретраншемент был действительно необходим, ибо события в середине наступающих русских порядков менялись стремительно: каре Племянникова, заняв гребень высоты, теперь было на острие атаки.
Дивизия почти уже дошла до турецких окопов, состоящих из тройного рва, как внезапно была атакована отборным более чем десятитысячным корпусом янычар. Незадолго до этого янычары неприметно спустились в лощину, примыкавшую к левой стороне их лагеря, а вот теперь, выбрав самый уязвимый момент зыбкого равноденствия перед решающим штурмом, нанесли русским сильнейший удар.
Удар пришелся в угол правого фаса и фронта. Здесь были полки Астраханский и первый Московский. Едва передний ряд астраханцев успел выстрелить, как тут же был смят янычарами, ятаганами – ружей те в атаку даже и не взяли – прокладывавшими себе дорогу внутрь каре. Турок было вдвое больше, чем солдат у Племянникова, и сейчас – в рукопашном бою – это начинало фатально сказываться: в несколько минут два угловых полка были смяты и расстроены. За ними та же судьба постигла Мурманский, четвертый гренадерский и Бутырский полки. Строя больше не было.
Каре оказалось разорванным пополам. В руках янычар – уже два полковых знамени, которые они срочно отправили к себе в лагерь, зарядные ящики. Русские быстро теснили к отряду Олица, наступавшего чуть-чуть сзади и немного левее Племянникова, и янычары сквозь разорванные ряды передового русского каре уже промчались перед фронтом главного отряда Румянцева, начиная с ним отдельные пока стычки.
Турки вывели на прорыв достаточно сил, но немало их осталось еще и в ретраншементе. Поэтому они в общем-то спокойно восприняли на фланге их укрепления небольшого отряда русских – батальона Воронцова. Тем более что спешившийся на помощь Вейсман еще находился в это время вне зоны видимости с этого ретраншемента, и создавалось впечатление, что группа противника пытается выкурить осман из сильнейшего укрепления.
Разгоряченные общим достигаемым вот как раз в эти минуты успехом, турки намеревались также по-молодецки расправиться и с этой жалкой кучкой гяуров. Но Воронцов, зная свои силы, увидев, что происходит перед турецким ретраншементом, и ожидая обещанного корпусным командиром прикрытия, пока решил действовать иначе, чем ожидал от него противник. Он, расположив своих егерей рассыпным строем, приказал открыть плотный ружейный огонь по янычарам, так чтобы тем нельзя было поднять головы.
В главном же месте боя – у каре Племянникова – обстановка все обострялась. Наступала та минута боя, когда особенно значимо усилие каждого на весах общего успеха. Еще несколько минут торжества османской пехоты – и гибель русской армии станет неизбежной. Оторванная от баз, имея в своем тылу войско хана, она вся поляжет здесь, вся без остатка.
Военачальники главного каре – каре Олица – во главе с Румянцевым несколько мгновений как зачарованные смотрели на появившуюся перед их фронтом яростную толпу янычар во главе со своими знаменосцами. Но вот, наконец, и голос командующего – как освобождение от морока, – успевшего и сумевшего за несколько кровавых секунд принять единственное, ведущее к победе и спасению, решение:
– Отсечь турок от лагеря картечью! Лишить их подкреплений!
Начальник артиллерии генерал-майор Мелиссино бросился выполнять приказ.
– Салтыкову ударить во фланги и тыл!
И нарочные тотчас отправились к начальнику тяжелой конницы.
– Генерал Олиц! Для подкрепления Племянникова приказываю выделить первый гренадерский полк.
Потом, обернувшись, искоса посмотрел на принца Брауншвейгского – волонтера при его штабе – в начале боя все рвавшегося сразиться с турками, а сейчас как-то уже и не особенно жаждущего этого. Подмигнув принцу, Румянцев сказал ему обычным голосом:
– Теперь наше дело.
С этими словами, вскочив на коня, он бросился к полкам дивизии Племянникова. С маху влетев в толпу, главнокомандующий осадил скакуна и спрыгнул в самую гущу рукопашной. Выхватив из ножен шпагу, Румянцев закричал своему в расстройстве отступающему войску:
– Стой, ребята!
Громкий знакомый голос заставил остановиться ближайших к нему. На них натыкались остальные, и скоро вокруг командующего оказалось достаточно людей, вновь вспомнивших о своем солдатском долге, достаточно для того, чтобы заново начать отбиваться от янычар уже грудь в грудь, а не только способных подставлять свои спины под ятаганы.
Бой принял новое ожесточение, ибо турки, поняв, кто этот генерал, столь быстро вернувший своих солдат для боя, отчаянно рвались к нему. Отбиваясь от наседавших на него янычар, командующий продолжал руководить боем:
– Солдаты! Разбирайтесь по ротам! Становитесь в каре! Слышите? Наши уже рядом!
Невидимые ими, им помогали егеря Воронцова и часть отряда, которую успел привести уже Вейсман: ведя плотный ружейный огонь, они раз за разом сметали с флангового фаса ретраншемента всех, кто пытался в противовес им отбить их медленный неуклонный наплыв на укрепление. Наконец, уже никто из турок не рисковал высунуть головы из-за бруствера, а русский отряд тем временем приблизился почти уже вплотную к валу.
Крики турок, переходившие порой в захлебывающийся вой, крики, доносившиеся со стороны схватки с каре Племянникова, лучше всякого сигнала сказали командирам отряда «Пора!», и сначала Воронцов, а за ним и Вейсман повели своих людей на штурм укрепления, доверившись штыку.
Как раз в этот момент первый гренадерский полк под командованием бригадира Озерова, отделавшись от главного фаса, в штыковой атаке опрокинул турецкую пехоту и пробился к Румянцеву. Пять минут гренадеры сдерживали янычар, с визгом и возгласами «Алла!» рвавшихся для последнего удара по разгромленному передовому каре. За эти пять минут, подчиняясь магии слова главнокомандующего, раздробленные, растерзанные полки построились заново и приготовились к контратаке.
Снова раздался голос Румянцева:
– Солдаты! Товарищи! Вы видите, что ядра и пули не решили. Не стреляйте более из ружей, но с храбростию примите неприятеля в штыки!
С этими словами он подобрал с земли одно из многочисленных валявшихся там ружей:
– Вперед!
И стальной еж каре со штуками-иголками быстро покатился на начинающих терять запал янычар. Тяжелая русская конница, на рысях пришедшая к месту сражения, ударила по туркам с тыла. Те побежали. Не отставая, пехота на плечах отступающих ворвалась в укрепление, где его защитников уже добивали солдаты Воронцова и Вейсмана.
По взятии этого укрепления османы почти уже и не сопротивлялись – началось повальное бегство. Турок долго и успешно преследовал кавалерийский отряд генерала Игельстрома.
Уже у Дуная, когда неприятель, переполняя лодки, массами тонул, к реке вышел подоспевший в последнюю минуту корпус Баура, с ходу открывший ружейный и артиллерийский огонь. И все оставшиеся на берегу предпочли смерти плен.
Русские войска овладели колоссальным турецким обозом, заполонившим весь берег, лошадьми, верблюдами, мулами, множеством скота и остатками артиллерии – приблизительно двадцатью шестью медными пушками.
Кагул явился апофеозом не только военной кампании 1770 года, но и всей войны в целом. Войну, которую многие будут звать «румянцевской», поскольку именно благодаря военному гению командующего главной армией грянут победы, еще через несколько лет сказавшиеся на всей истории страны в целом. Поскольку именно по итогам этой войны и родилась Новороссия, окрепшая после победного мира следующей блистательной войны с Портой.
Российское государство, возникшее в конце ХV – начале ХVI века, являлось наследником Древнерусского государства. Древняя Русь имела прочные позиции в Северном Причерноморье. До берегов Черного моря, которое тогда называли Русским, простирались земли, населенные восточнославянскими племенами тиверцев и уличей, входивших в состав государства Русь с начала Х в. Русские поселения существовали в низовьях Днепра и Днестра. Галицкий князь Ярослав Осмомысл, по словам автора «Слова о полку Игореве», «запирал ворота Дунайские». На востоке Крыма и западе Северного Кавказа находилось загадочное русское Тмутараканское княжество. Однако с середины ХII века половцы, а затем в ХIII веке монголы отбросили Русь далеко от побережья Черного моря. Позже, после распада Золотой Орды, Северное Причерноморье оказалось под властью Османской империи и ее вассала – Крымского ханства. И рано или поздно перед Россией, как преемницей Древней Руси, должен был стать вопрос о судьбе этих территорий. И недаром в ХIХ веке бытовало мнение: Новороссия – это земли, отвоеванные Россией у Османской империи и не имевшие до того плотного христианского населения.
Так что решающее значение для судеб Новороссии имели две войны второй половины ХVIII века – 1768–1774 и 1787–1791 годов. Их часто называли в России Первой турецкой войной и Второй турецкой войной, хотя они не были ни первыми, ни вторыми. Однако это были действительно два самых масштабных из военных столкновений двух стран. Были они и самыми результативными для России. Именно в их ходе были решены главные внешнеполитические задачи Российской империи на южном направлении. Именно тогда Россия смогла, наконец, прочно утвердиться на огромных территориях Северного Причерноморья, получивших название Новороссии. Тогда же в составе России появилась Новороссийская губерния. И именно тогда началось интенсивное освоение Новороссии.
Глава I. Молодо-зелено
– Извольте познакомиться, Петр. Это ваш батюшка, – дама величественного вида подтолкнула явно робеющего рослого мальчика к человеку в щедро расшитом золотым позументом камзоле, взглянувшему на сына холодно-веселыми глазами…
Этот взгляд смутил Петю еще больше. Он попытался было спрятаться в материнских юбках, но роскошный вельможа ловко поймал его:
– Ну, здравствуй, сын!
– Здравствуйте, – мальчик запнулся и с трудом, шепотом, – батюшка!
– Молодец! Смотри какой большой. Никак генералом будешь. Хочешь быть генералом?
– Хочу, – прошептал Петя испуганно. Он был готов согласиться со всем, только бы его отпустили в его привычный мир детской.
Отец его понял, но продолжал:
– Быть по сему, как говаривал незабвенный Петр Алексеевич. – Жесткое лицо вельможи внезапно сломала мимолетная судорога, в глазах блеснуло. – Будешь ты генералом. Но начнешь с рядовых. Запишу-ка я тебя в Преображенский полк…
Так в 1740 году прошла первая встреча Петра Румянцева с его отцом – чрезвычайным и полномочным послом России в Турции кавалером Александром Ивановичем Румянцевым.
Александр Румянцев был истинным «птенцом гнезда Петрова», одним из ближайших сподвижников царя-преобразователя. Единственное отличие: большей частью царевы птенцы были людьми худородными. Александр же принадлежал к «благородному» сословию. Он – из обедневших нижегородских бояр. Солдат гвардии, денщик царя – таковы первые этапы его служебной биографии. Вскоре он становится гвардейским офицером. 9 мая 1712 года подпоручик гвардии Александр Румянцев доставил Петру I известие о подтверждении мира с турками, который Россия была вынуждена заключить после крайне неудачного Прутского похода. Итогом этого похода стало для России потеря всего того, что большой кровью приобреталось в предшествующие годы. Своевременный же гонец был награжден – Петр пожаловал ему чин поручика Преображенского полка.
С этого момента он – в фаворе. Письма и указы ему Петром пишутся большей частью собственноручно. Почерк энергичен – видно, что царю недосуг ждать писца, и он сам пишет свои приказания. Петр посылает Румянцева с самыми разнообразными поручениями – для вербовки матросов и плотников, для сбора налогов и провианта, для разведки дорог и многого другого. Во время второго этапа затянувшейся Северной войны со Швецией, а именно в 1714–1715 годах Петр в переписке дает своему корреспонденту конкретные дипломатические поручения: ехать на Аландские острова для переговоров с англичанами, а также разузнать, какие слухи распространяются шведами среди населения Ревеля и Дерпта.
1717 год. Румянцев вызван к Петру. Царь был мрачен. Лицо нервически подергивалось. Ссутулившись, он ходил из угла в угол по малым своим апартаментам и беспрерывно дымил.
– Слыхал, Сашка, что сынок мой натворил? – не отвечая на приветствия Румянцева, сразу спросил Петр о том, что его сейчас больше всего мучило.
Румянцев молча кивнул. Все окружающие царя знали, что его старший сын Алексей, сын от давно уже опальной Евдокии Лопухиной, неоднократно выступавший против бескомпромиссного реформаторства отца, подталкиваемый на это ревнителями незыблемой московской патриархальности, бежал за границу.
– Бежал, сопленыш, и попросил защиты у тамошних цесарей! Защиты! От отца родного! Ну, да бог с ним, – как-то сразу потухнув, продолжал Петр. – Это бы простил я ему. Но то, что теперь смуте быть в стране, коли он по заграницам сидеть будет, а тут дружки его воду начнут мутить, то что он дело всей моей жизни упразднить хочет – этого я простить не могу.
И сорвавшись на крик:
– Найти его! Вернуть! Понял, зачем вызвал тебя? Всю Европу обшарь, а доставь! Поедешь с Толстым Петром. Ты за ним пригляд имей. Преданный-то он сейчас преданный, да помню я, как в стрелецкие-то дни он чернь московскую призывал меня извести. Такое не забудешь. Так что забот у тебя много будет. Да я тебе верю – все исполнишь как должно. А теперь ступай.
Петр снова заходил по комнате, уже не видя Румянцева, отступавшего, кланяясь, к дверям…
И Петр Толстой, и Александр Румянцев не подвели государя, оправдали доверие – Алексей был схвачен, возвращен в Россию и после пыток убит, его сторонники подверглись опалам и казням.
Вскоре в благодарность за усердие и преданность царь самолично занялся – как он это любил – устройством личной жизни Александра Ивановича. Итогом его хлопот стал брак Румянцева с Марией Андреевной Матвеевой – представительницей одной из знаменитых и богатых фамилий России, внучкой известного боярина Артамона Матвеева, наперсника отца Петра I – царя Алексея Михайловича. Ее отец – Андрей Артамонович, получивший от Петра титул графа, – посол России в Голландии, Австрии, Англии. Маленькая Маша сопровождала отца в его европейских службах, смотрела, запоминала. Дожившая до девяноста лет, она и в старости, сохраняя полную память и живость ума, любила рассказывать о первых годах Северной Пальмиры, о людях, живших в те времена, уже начинавшие казаться былинными. Вспоминала она перед благодарными слушателями и об обеде у Людовика XIV, на котором присутствовала, и о своем посещении лагеря герцога Мальборо и о том внимании, которого она удостоилась в Лондоне от королевы Анны…
Летом 1722 года начался Персидский поход Петра. В 1723 году русские войска заняли Баку и южное побережье Каспия, что облегчило борьбу народов Закавказья за свою независимость. В это время, воспользовавшись ослаблением Ирана, Турция решила захватить и эти территории. Россия, только что завершившая потребовавшую крайнего напряжения сил кровопролитную Северную войну, не могла оказать действенной помощи народам Закавказья и была вынуждена пойти в 1724 году на заключение договора с Турцией, по которому признавалось владычество Османской империи над Грузией и Арменией.
В августе 24-го же года Александра Ивановича Румянцева, отца уже двух дочерей – Екатерины и Дарьи – Петр отправляет чрезвычайным послом в Персию – для определения границ согласно трактату, а оттуда – послом в Стамбул.
Румянцев уезжал, когда Мария Андреевна ждала третьего ребенка. Последняя воля отца перед дорогой: «Если мальчик – назовите Петром». И вот сегодня, после многих лет службы на далекой чужбине, он впервые увидел своего сына, свое второе «я» – как ему хотелось верить – будущего продолжателя его дел…
Будущий генерал, утомленный массой новых впечатлений давно уже спал. А родители его все сидят за полуразоренным праздничным столом, не замечая, что за окном – глухая ночь, что неслышно возникающие за их спинами слуги несколько раз меняли истаявшие свечи. Напряженная тишина пристально изучающих взглядов сменяется периодическим разговором, темы которого вьются вокруг дел политических годов отсутствия Румянцева в стране. Пока только об этом – они заново привыкают друг к другу.
– …О смерти государя я узнал из писем и указов преемницы его и супруги – императрицы Екатерины I. И удивительно: она при этом лишь мимоходом касалась переговоров с султаном – ради которых я и был направлен императором в Стамбул, – зато подробно писала, каких для нее купить духов и какой привезти шатер. И это затишье… Раньше – что ни неделя, то весточка от государя: что там, да как в России, да что мне, исходя из этого, делать. А тут – ничего…
– А мне неудивительно! Тебе она приказала купить ей духов, а другие послы получили иные задания: одних венгерских вин по ее приказу закупили на семьсот тысяч рублей, да данцигских устриц – на шестнадцать тысяч! Жили весело. И сама покойница – царство ей небесное – активно вкушала все радости бытия земного, и остальные не отставали.
Как ты помнишь, Александр Иванович, императрицу нашу супруг приучил к такой жизни, а особливо к зелью веселящему – чтоб не расставаться с ней даже в компаниях, которые так любил. Вот и довеселились!
– Не смей так об императоре!
– Смею. Ты мое отношение к нему знаешь. Пока тебя дома не было, оно не изменилось. Так что говорю, что думаю, несмотря на все его заслуги…
– Не всегда говори, что думаешь, матушка. Иногда и не грех подумать, что говоришь. А отношение твое к Петру Алексеевичу знаю! Знаю, что не можешь простить ему: ты внучка и дочь самих Матвеевых по его воле вышла замуж за денщика! Хоть и царского.
– Замолчи. Мы же договорились уже давно не касаться этой темы. И ты знаешь, что ты не прав. Так я продолжу? Или тебе уже стало не интересно?
– Продолжай, пожалуйста, Марья Андреевна. И прости меня – одичал там, на чужбине…
– Хорошо, прощаю. Так вот…
Александр Иванович с прежним вниманием стал слушать свою супругу. Все, что она сейчас говорила, было правдой, и заспорил он с ней больше по привычке, привычке не рассуждать о делах Петра I, а лишь исполнять его волю, ощущая радость духовного единения с самим великим императором. Только в последнее время, избавившись волею судеб от обаяния, вносимого царем-преобразователем во все свои деяния, начал Румянцев задумываться – что же был за человек, за которого он, не задумываясь, отдал бы свою жизнь. Начал задумываться: не является ли все происходящее ныне следствием предшествующего.
Когда он еще сидел в Стамбуле, до него доходили зыбкие, размытые слухи о делах российских: приезжавшие по своим делам и по делам державным на берега Босфора люди, по обязанности или по сердечному влечению на чужбине искать своих земляков, приходили к нему и осторожно, полунамеком-полуобиняком давали понять, что неладно что-то – да и не что-то, а многое в их родном царстве-государстве. Даже здесь – удивлялся Румянцев – говорилось шепотом, с опаскою! Даже черти-де опасаются доноса и кар! Но прибыв в любезное сердцу Отечество, повстречавшись кое с кем из прежних своих друзей-приятелей и просто хороших знакомых, вместе с Петром активно строивших Империю, он увидел, что мало их осталось – ранняя смерть (не всегда по болезни), опалы, ссылки, – а те, кто еще уцелел, были очень осторожны. Приучились держать язык за зубами. Сегодня ты по глупой злобе али из высокомерия мерзкаго ляпнешь про какую-нибудь персону нечто непотребное, а назавтра глядишь – она уже в фаворе, попала в случай! А тебя – болезного – в застенок! И хорошо, если только кнута попробуешь и, почесываясь, домой пойдешь… А то ведь можно и языка, и ноздрей, а то и головы лишиться за блуд словесный. Так что береженого Бог бережет. И обуяло страну безмолвие. Когда все слушают токмо начальство и головой качают – только одобрительно… Внезапно Румянцев заметил некое колыхание за портьерой. Не поленился – подошел. И что же? На него пристально взглянули глаза сына. В одной рубашке, босой, он, притаившись у дверей, судя по всему наблюдал за разговором родителей. Разбуженный непривычным оживлением в доме, он вошел неслышно. Александр Иванович поразился его не по-детски серьезному и раздумчивому взгляду. Отец, вздохнув, подтолкнул его к дверям:
– Ступай, вьюнош. Время позднее, даже уж раннее. Да и разговоры эти пока не про тебя. Так что иди спать. Мы еще с тобой наговоримся, коли ты такой любознательный.
Петр молча ушел. Обернувшись к жене, внимательно вглядывавшейся в эту сцену, Румянцев спросил:
– Как дети наши, Мария Андреевна?
– Как… Росли, болели, выздоравливали, играли. А я при них. Словом, жили мы, Александр Иванович. Жили, – повторила она с вызовом.
Но Румянцев предпочел его не заметить.
– А Петр как?
– Как и все. Правда, росл да умен – как видишь – не по годам. Дичится тебя, да пройдет это – тянется он уже к тебе, привыкает. Так что ничего особенного. Жили и все…
– Жили и все… – раздумчиво повторил муж. – Ну, что ж, худо-бедно все жили. И мы жить будем. Родину не выбирают. Ради нее лишь живут и умирают, коли нужда такая придет. Будем жить, – повторил он с хрустом потягиваясь и всматриваясь в уже наступивший рассвет за окном. – А, Маша?..
Мелкий, нудный дождик сеял сквозь свое сито по всем окрестностям влажную хмарь, нагонявшую смертную тоску, когда хочется непонятно чего и понятно, что ничего не хочется. В такую погоду лучше всего спать. Но ведь не будешь же спать все время. И так вон щеку отлежал, думал Александр Иванович Румянцев, стоя у мутного окошка и барабаня наперегонки с дождем по стеклу. Взгляд его пытался зацепиться за что-либо, но весь доступный его взору окоем был одинаково безлик, сер и неинтересен. Может быть, это было следствием дождя, а может быть и мыслей, уже долгое время ни на минуту не покидавших Румянцева. Мыслей невеселых, наглядным подтверждением и воплощением которых был блеск штыка под навесом ворот его усадьбы. Он вызывающе сверкал сквозь мутную влажную пелену, и как ни старался отвести глаза Александр Иванович, его взгляд рано или поздно натыкался на торжествующую полоску стали.
Штык олицетворял неволю. В неволе был он, Румянцев. А ведь по приезде вроде бы так сначала все хорошо складывалось! Слаб человек: происходящее что-то дурное с окружающими он норовит объяснить зачастую их провинностями и прозревает лишь тогда, когда судьба, обстоятельства и люди обрушат на него такой же удар. И зачастую прозрение запаздывает.
По желанию Анны Александр Иванович был приглашен в столицу из своих босфорских захолустий. Императрица и ее окружение знали его нелюбовь к Долгоруким и Голицыным и поэтому хотя и почти заочно, но сразу полюбили его. А Румянцев, хотя и многое знавший про царствующих и правящих особ, положение дел в стране, поначалу с радостью принимал сыпавшиеся на него милости. Он был пожалован в генерал-адъютанты, в сенаторы, затем он получил подарок в двадцать тысяч рублей в виде награждения за приходившуюся на его долю часть из состояния Лопухиных, отнятую у него Петром II. У некоторых – впрочем, у большинства – вместе с ростом пожалований пышным цветом начинает расцветать в душе холопство: им всегда мало полученного и хочется еще. У меньшей части при этих же внешних условиях начинают обостряться нравственные чувства, подавленные дотоле погоней за успехом. Теперь, насытившись, начинают думать о чем-то более высоком, духовном. Александр Иванович, опомнившись наконец от потока милостей, огляделся вокруг себя и увидел: все то, о чем ему говорили, о чем он догадывался еще там вдалеке – все так. Забыв все свои дипломатические навыки и премудрости, он начинает громко сетовать при дворе на предпочтение, отдаваемое немцам, то есть им же, да на них!
Анна, не желавшая его терять так сразу, предложила ему должность главноуправляющего государственных доходов. На это Румянцев, вспомнив, что он не только дипломат, но и военный, ответил ей по-армейски прямо:
– В финансах ничего не смыслю. А если б даже и разбирался, то все равно вряд ли бы нашел способ удовлетворить безумные траты ваши, ваше величество, и ваших фаворитов.
– Вон!
Благоволение кончилось. А вскоре он не отказал себе в удовольствии лично приложить свой закаленный в житейских перипетиях кулак к изнеженной физиономии брата главного фаворита Бирона – Карла. Чаша монаршего гнева, которую фаворит щедро доливал, памятуя собственные ссоры с черт знает зачем вызванным в Россию строптивым дипломатом – дипломат он ведь должен быть мягким! – переполнилась, и последовали державные выводы. По велению Анны он был передан суду Сената, который, демонстрируя свою лояльность верховной власти, приговорил Румянцева к смертной казни. Императрица все же помиловала его и в результате монаршего милосердия он был сослан в собственное свое село Чеборчино Алатырского уезда Казанской губернии.
– Че-бор-чи-но, – произносит теперь Александр Иванович, стоя у мутного окошка и от нечего делать пробуя на вкус и прокатывая между губами волнистое слово…
В 1735 году последовало высочайшее прощение чеборчинскому затворнику Александру Ивановичу, опальному Румянцеву. Все тут смешалось – и сильные заступники, и недостаток государственной мысли и размаха людей; и малость вины, забывшаяся почти за давностию лет, и внешняя покорность, регулярно доносимая по начальству охраной, выражающаяся в новоприобретенной любви к пословице «Плетью обуха не перешибешь» (все остальное умерло в душе) – и это смешение, стало причиной того, что Румянцеву вернули чин генерал-поручика и назначили астраханским губернатором.
Астрахани везло на знаменитых людей в начальстве. То царский родственник Артемий Волынский, лихой мздоимец, которого Екатерина I, спасая, перевела в Казань, то опальный Михаил Долгорукий, опальный фельдмаршал, вскоре отставленный от своего поста.
Но на этот раз многие астраханцы так и не узнали, что у них побывала губернатором такая известная персона. Ибо назначенный губернатором Астрахани указом от 28 июля, Румянцев только 20 августа – дороги и расстояния российские! – всенижайше поблагодарил императрицу за милость и честь, а навстречу его благодарности уже неторопливо следовал новый указ от 12 августа о назначении его казанским губернатором.
Собственно, казанскими делами он занимался опять-таки крайне мало по причине назначения своего и командующим войсками, отправлявшимися против башкир, поднявших восстание в Оренбургском крае.
Еще в 1731 году хан одной из трех групп казахских племен так называемый Младший жуз – Абул-Хаир обратился с просьбой о российском подданстве. Идея была принята благосклонно. Но Абул-Хаир интересовался прежде всего практическим вопросом – как его новые владыки собираются защищать его и его народ от джунгар? Петербургу ответить было нечего, поскольку на юго-востоке Россия не располагала ни войсками, ни путями их доставки, ни операционными базами. Выходом явился план обер-секретаря Сената Ивана Кирилловича Кириллова, предложившего создать Оренбургскую экспедицию с целью защиты жуза Абул-Хаира путем – для начала – постройки крепости у впадения Ори в Яик. Кириллова и назначили руководителем экспедиции, немного химерической, поскольку предполагалось проложение охранных путей аж до Индии и торговля с Ближним и Средним Востоком – что ничуть не смущало начальника-энтузиаста.
Жизнь нагло и мерзко обманула Кириллова. Башкиры, недовольные тем, что на искони принадлежавших им землях строятся какие-то, им явно не нужные, крепости, учинили злонамеренные волнения. Он начал бомбардировать кабинет и Сенат донесениями, которые под благостные кивки многомудрых голов правителей и оберегателей державы, осененных завитыми париками, читает секретарь:
– Башкиры – неоружейный народ и враждуют с киргизами. Никогда не следует допускать их к согласию, а напротив, надобно нарочно поднимать друг на друга и тем смирять…
Снова одобрительные кивки… «Разделяй и властвуй!» – этот Кириллов молодец: в глухой азиатской стороне применяет принцип императоров Великого Рима! Резюме: усмирительную политику междоусобиц продолжать, подкрепив ее регулярными войсками во главе с надежным руководителем. Кандидатура Александра Ивановича Румянцева возражений не встретила. И замаршировали, захлебываясь в июньской пыли, гренадеры. Драгуны, мерно покачиваясь в высоких седлах, глядели веселее. Но также муторно – идти воевать на край света! Где земля не меряна и все чужое – любой заробеет…
– Любезный Иван Кириллович, – мягко, но придерживая незаметно уже начинавшее дрожать веко – так его допек собеседник, – почти нежно проговорил Румянцев, – целиком разделяя вашу мысль, столь часто и подробно излагаемую в Петербург о том, что должно смирять башкирцев кайсаками, а кайсаков смирять башкирцами, позволю себе спросить вас: ваш Тевкелев – он как? Специально разжигает ненависть к нам местных жителей? Ведь поначалу простые башкиры относились к нам – ну, тепло, это понятно, вряд ли, – но терпимо, то есть спокойно, я бы даже сказал, равнодушно. Что нам, собственно, от них и требуется. У них своя свадьба, у нас своя свадьба. Так, кажется, говорят в народе? А Тевкелев…
– Российский полковник Тевкелев знает, дорогой Александр Иванович, в отличие от некоторых, как нужно обходиться с бунтовщиками! И он выполняет мои приказы.
– Ваш крещеный мурза Тевкелев принесет гораздо больше вреда, чем пользы, хоть вы его и держите как главного знатока по вопросу инородцев. Он дик по натуре. Да и кроме того доказывает нам свою лояльность. Слыхали, как говорят: хочет быть святее папы римского?
– Не слыхал. И знать не желаю, чего вы там набрались за границами вашими!
– Да это наше, Иван Кириллович. Ну, не слыхали – бог с ним! Меня-то хоть послушайте: жестокостью ничего не добьешься. Нужно мягче!
– Господин Румянцев! Как начальник Оренбургской экспедиции я буду придерживаться своих методов!
– А я, господин Кириллов, как командующий войсками, своих!
Если обратиться еще раз к пословице: когда паны дерутся – у холопов чубы трещат, разногласия начальников привели к новой вспышке восстания, затронувшей и русские деревни вблизи Уральского завода. Именно с помощью этих русских крестьян, организованных в отряды, преемнику Кириллова – Василию Никитичу Татищеву удалось усмирить зауральскую часть Башкирии. Сторонник гуманных мер, он постоянно конфликтовал и с Кирилловым, и позднее с Тевкелевым из-за их жестокого отношения.
И он, и Румянцев были правы – жестокостью добивались весьма малого. Проведенная Кирилловым в 1731 году карательная экспедиция привела только к новой волне вооруженного протеста. Мягкость же гасила пламя антагонизма. Но начальству, далеко сидящему, как правило, кажется, что подобная мягкость проистекает от нерадения в защите государственных интересов. И поскольку карательные акции с их шумом, пальбой, кровью были более эффектны и благосклоннее принимаются правителями – вот он как за мое, как за свое, крови не жалеет! – то Румянцева убрали первым – назначили правителем Малороссии, быть может вспомнив его дела на Украине еще времени Петра I, когда он упразднил там гетманство и основал Малороссийскую коллегию, Татищева – вторым. Второму повезло меньше. Он был обвинен в злоупотреблениях, против которых он как раз и боролся, отстранен от дел, лишен всех званий и взят под домашний арест. Абсурдность обвинений против него, свидетелями которых выступали явные преступники, высокий суд не волновала. Когда власть намеревается покарать очень ретиво отстаивающих государственный интерес подданных, примером своим показывающих неблаговидность деяний вышестоящих, – тут уж не до логики. Хоть какое бы дело слепить. Ведь недаром говорят: закон, что дышло – куда повернул, туда и вышло!
Румянцев расставался с Казанью, сдавая дела новому хозяину губернии – князю Сергею Дмитриевичу Голицыну, сыну одного из руководителей Верховного тайного совета. После воцарения Анны Ивановны он жил безвыездно в своем дворце в Архангельском, куда и держал сейчас путь Александр Иванович, уважив просьбу князя Сергея и собираясь передать привет сына отцу. С собой к старому князю он взял только Петра, которому и рассказывает о князе Дмитрии Михайловиче, о его брате – фельдмаршале Михаиле Михайловиче-старшем:
– Как ты помнишь, не было у императора более страшного и несносного врага, чем король шведский Карл XII. Война наша со Швецией шла долгие годы. И вот в самом ее начале, когда молодая русская армия еще редко выигрывала сражения у шведов Петр Алексеевич послал князя Михаила Голицына отобрать у Карла одну из самых сильных крепостей, ту, которую он потом назовет Шлиссельбург – ключ-город. Было это осенью 1702 года. Русская армия не смогла сразу взять крепость и начала осаду. Начались морозы, пошел снег! Голицыну привезли приказ Петра: снять осаду и отступить, а он только-только все приготовил к штурму. Тогда князь и говорит курьеру: скажи, мол, Петру Алексеевичу, что я теперь уже не в его власти, а принадлежу единому Богу!
– Ну а дальше?
– Дальше… Был штурм. Голицын сам возглавил штурмовую колонну. Шведы пытались, очень пытались сопротивляться – им еще было в диковинку, когда русские их били. Но все же крепость пала. С тех пор – и навсегда – она русская.
– А государь? Не обиделся за эти слова?
– Может, и обиделся, не знаю. Поначалу мог обидеться. Но Голицын ему подарок такой сделал… Так что князь был щедро пожалован.
– А князь Дмитрий Михайлович воевал?
– Князь Дмитрий Михайлович и так перед державой заслуг имеет предостаточно. И смотри – уже подъезжаем – язык там не распускай. Старый князь строг. Братья при нем без разрешения сидеть не смели. Понял?
– Понял.
– Молодец. Вон, смотри, уже и дворец Голицына.
Подъехавшую карету встретили проворные казачки, так что Румянцевы не успели и оглянуться, как оказалися пред строгими очами хозяина. Первые приветствия и поклоны нарушили немного холодную чинность, но легкая скованность у Румянцевых так и не прошла во весь разговор, весьма короткий.
– Куда путь держите, генерал?
– На Украину, ваше сиятельство.
– Да, бывал… Изменилось там все, поди. Многое в державе переменилось за последние-то годы… И тебя, вот, простили…
– И вас, глядишь, ваше сиятельство.
– Не юродствуй! И не ври – кому врешь-то? Не простят меня. Чувствую, скоро возьмутся за меня. И не так, как раньше. Да и не нуждаюсь я в прощении их. Нет моей вины перед совестью своей и державой! Сделал все, что мог, хотя, может быть, надо было иначе немного. Но ведь хотел как лучше!
– Все хотят как лучше, ваше сиятельство. По крайней мере на словах.
– Обиделся… За то, что одернул тебя за комплименты твои чересчур дипломатические. Или думаешь, почему спросил тебя о прощении? Так не обижайся. Верю я и знаю, что не изменился ты, иначе бы и на порог не пустил – мне тут весточку от Сергея уже передали – а потому спросил, чтобы и ты сам понял, почему так милостивы к тебе. Опору они, Бироны эти, Минихи, Остерманы и прочий сброд чужеземный, ищут в склоках своих в знати нашей, природной. Ибо поняли, что не опасна она им – Петр-то Алексеевич-то насадил все-таки, как и хотел западные привычки своим ближним, ближним ко двору. Так что близ трона и будешь, мжуей, отечество любивших, искать – ан, глядишь, один-два… А еще, мол, где? Нету! Как Диоген будешь ходить, а никого и не найдешь. Поэтому и простил тебе старый грех, хоть и ругал ты немцев – что ты сможешь один? Да и смирился, они считают, ты уж.
– Так что же, ваше сиятельство, и будет так? И делать ничего уж нельзя?
– Нам нельзя. Свой шанс мы упустили. Но Россия велика. Петр-то император, только корочку сколол, а озеро-то глубоко! И что-то там делается! Должно деятся! Иначе во имя чего все муки русские, слезы, кровь, пот наш? И напрасно тогда громил степняков Святослав, напрасно выводил Донской свой народ под татарскую конницу, напрасно сдавали последнее в казну Минина! Святослав говорил, что мертвые сраму не имут. Это, когда они сделали все, что было в их силах и даже больше. А когда покорно подставляли шею под ярмо – тогда имут. И грех их перейдет на детей их, и дети их, рабы, – будут проклинать их!
Князь откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Помолчал, и, не отворяя век, добавил:
– Запомни это, юноша! Тебе жить еще долго – значит, и дел за тобой много. Человек делами своими красен. Делами, на пользу отчизне своей. Ибо что мы оставляем, покидая этот мир? Голыми мы родились – голыми мы и уйдем. От нас остается память. Худая ли, добрая, но только она. Идущие после нас оценят деяния наши. Сквозь все лжи истина пробьется! Не может не пробиться, ибо без нее – не жизнь. И тогда суд людской на весах совести замерит свершения наши. И либо проклянет, либо забудет, либо восславит. Живи так, чтобы, умирая, быть уверенным в этом суде.
И после паузы:
– Ступайте. Устал я. Моя хозяйка вас чаем напоит. Прощайте!
Румянцевы поцеловали сухую руку Голицына, без движения лежавшую на подлокотнике, и тихо вышли из кабинета.
В гостиной уже хлопотала хозяйка, как назвал ее старый князь, – маленькая княжна Екатерина, дочь фельдмаршала Михаила Михайловича, племянница хозяина. Она пыталась как-то оживить разговор, рассказывая обо всем, что ей, ребенку, казалось смешным и интересным, но гости задумчиво молчали, отвечая как-то довольно сухо. В карете разговор тоже не завязался. Отец все повторял слова старого князя про себя. Этим же занимался и сын. Только иногда перед его глазами вместо безжизненно лежавшей руки Голицына вставали глаза его племянницы и ее ласковая полуулыбка. И как он ни тряс голову, эта картина преследовала долго, правда, постепенно делаясь все более и более блеклой, пока не стерлась совсем. Это старость помнит долго. Юность еще забывчива.
Вскоре Дмитрий Голицын по приказу Анны был ложно обвинен и заточен в Шлиссельбург, взятый штурмом его братом во благо России и во славу ее! Он умер в камере через три месяца.
Румянцевы узнали об этом только по прошествии долгого времени. По приезде в Малороссию Александр Иванович отправился в Глухов, где располагалась главная квартира армии, участвовавшей не всегда успешно в очередной русско-турецкой войне под командованием Миниха, незадолго до этого получившего фельдмаршальский жезл. Миних был в России со времени Петра I. Император, охотно привлекающий иностранцев, вытащил из европейского небытия эту своеобычную фигуру – как, впрочем, и все заморские авантюристы, ловящие в России фортуну за хвост. Начав в 16 лет службу во французской армии, он потом перешел в Гессен-Дармштадтский корпус, потом – Гессен-Кассельский, потом – к Августу II, саксонскому курфюрсту и польскому королю, потом долго колебался между Петром I и Карлом XII, но смерть последнего бросила его в объятия России. Ныне он был Российским главнокомандующим.
Румянцев, понимая, что по случаю войны его генеральский чин наведет начальство на размышления, спокойно воспринял свой вскоре последовавший перевод в действующую армию, хотя и засомневался про себя в своих военных талантах. Но, по-видимому, это беспокоило только его. И вскоре Александр Иванович понял почему. Понял, когда более подробно узнал о предыдущей кампании той войны, шедшей уже второй год.
В этой кампании Миних взял штурмом Перекоп, захватил Хозлейв, разгромил столицу татар Бахчисарай, Ахмечти, но был вынужден отойти, поскольку крымцы боя принимать не желали, предпочитая совершать многочисленные конные атаки. Миних вывел из Крыма половину армии, не добившись ничего.
На следующий – 1737 год – уже при активном участии Румянцева, командира одной из трех пехотных дивизий, русские войска штурмом взяли Очаков – сильную турецкую крепость. Александр Иванович при этом командовал правым крылом армии. Но поскольку фельдмаршал приказал взять крепость не имея достаточных припасов, осадной артиллерии, не говоря уже о плане кампании, то армия понесла такие потери, что мало нашлось удивляющихся, когда на другой год Миних вынужден был отступить, оставив Очаков, столь щедро окропленный кровью русских солдат, и заодно бросив всю тяжелую артиллерию.
Лишь кампания 1739 года принесла русскому оружию победу. Сначала в июле был разбит под Славутичем 30-тысячный корпус сераскира Вели-паши. Два дня спустя сдался Хотин. В начале сентября Миних форсировал Прут и занял Яссы. Но тут скверную шутку с Россией сыграла союзница Австрия. Терпя периодические поражения от турок, она потерпела очередное и сокрушительное – при Дунае, потеряв двадцать тысяч войска, и новый главнокомандующий австрийцев Нейперг поспешил заключить с Портой сепаратный мир, отдав ей все, что можно и даже немножко больше. Нейперг был предан суду, но дело было уже сделано. Миних требовал продолжать войну, но страна была настолько истощена, что желающих поддержать его в правительстве не нашлось. Последовали переговоры с турками, в результате которых после всего, чем она пожертвовала, Россия добилась лишь возвращения себе Азова, да и тот подлежал – согласно договору – разрушению.
Но все же это была какая-никакая, а победа, и праздновали ее весьма пышно. 27 января перед Зимним дворцом проплывало церемониальное шествие войск. Колыхались знамена, гремела музыка, шляпы офицеров украшали лавровые венки. Потом начали раздаваться подарки. Бирон, явно никакого отношения к войне не имеющий, получил золотой кубок с бриллиантами, с лежащим в нем указом о выдаче полумиллиона рублей. Миних и все генералы получили золотые шпаги, а Миних – еще и пять тысяч ежегодного пенсиона. Волынский – лицо в данном случае штатское – был награжден 20 тысячами. Румянцев, в это время уже генерал-аншеф, получил заново подполковника Преображенского полка и чин статгальера (правителя) Малороссии, которым он так и не воспользовался. Вскоре после празднеств он вновь был назначен на привычный ему пост посла в Стамбуле. Он едва успел проститься с сыном – Петр приехал в начале мая – как пора было ехать. Отъезд произошел через несколько дней – 20 мая.
Александр Иванович, правда, успел из разговоров с сыном понять главное, хоть разговоры и были эти кратки… Петр приехал из Берлина, куда отец отправил его еще в прошлом году, и именно Берлин и был главной темой их собеседований…
– Ох, Артемий, правильно говорят: поделом вору и мука. Нешто я тебя не предупреждал, да и книги ты разные, поди, читал все-таки. А там что пишут? Помнишь? Красть – там пишут – нехорошо, грешно! А ты нарушил заповедь-то, Артемий, нарушил. И за это – гордись! – накажу я тебя своеручно. Ибо надеюсь я выбить из тебя дурное и вложить хорошее! – С этими словами царь Петр поднял свою суковатую дубину, и она исправно заходила по покорно склонившимся дрожащим плечам корыстолюбца…
Кабинет-министр Артемий Петрович Волынский уж который раз за последнее время жалобно застонал и вскинулся на кровати, окончательно и сразу проснувшись. Весь в холодном поту. Один и тот же сон преследовал его из ночи в ночь. «Быть беде, – как-то тоскливо-обреченно подумал Волынский, поняв, что уже не уснуть и решивший лучше от греха почитать. – Не к добру сие, чтобы этакое видеть не единожды». Когда-то такое, действительно, с ним произошло, но было это так давно, а помнить об этом так не хотелось, что Артемий Петрович как-то последние годы совсем и не вспоминал, даже мысленно, данный казус. «Может, из-за Тредиаковского? – подумалось мимолетно. – Да нет, вряд ли, – успокоил себя. – А дубинка-то у власти тяжелая», – как-то некстати вспомнил он сонные свои муки и, чтобы окончательно изгнать смятение полусонных мыслей, позвонил в колокольчик. На пороге бесшумно возник лакей.
– Свечей и квасу, – бросил Волынский и, через несколько секунд получив искомое, уселся поудобнее, открыл книгу и погрузился в яркий, беспечальный, всегда удачливый мир рыцарских похождений. Но мысли постоянно отвлекали от удачливого книжного персонажа, который в конце концов сквозь все тернии прорывался к звездам, к такому же пока удачливому герою в жизни – самому Артемию Петровичу. Удачливость закономерно порождала вопрос: до каких пор? До каких пор фортуна будет опекать своего блудного сына, постоянно рубящего сук, на котором сидит, а ныне замахнувшегося на самое святое, что нынче есть в России – на самого Бирона. Отсюда и тоска, и мрачность, и дурные сны. И даже трудно это было назвать игрой. Он жил этим. Жил полноценно, может быть, впервые за всю свою бурную и пеструю карьеру, сознательно рискуя всем во имя высоких целей, обычно в его повседневной борьбе под солнцем – как, впрочем, и для подавляющего большинства людей – не особенно и нужных-то. А было в этих повседневных схватках многое…
По своей первой супруге – Анне Нарышкиной – Волынский приходился родней Петру I. Проучив своего проворовавшегося родственника, Петр направил его сначала послом в Стамбул, а потом назначил командовать войсками, отправляющимися в поход на Персию. И там, и там, неожиданно для всех знавших его, он блестяще справился со всеми заданиями. Не удивлялся один лишь царь, уже неплохо изучивший Волынского и увидевший в нем талантливого к делам человека. Потом было губернаторство в Астрахани и Казани. В 1730 году – он автор одного из многих конституционных проектов. Анна после своего воцарения всех этих прожектеров не жаловала, и быть бы Волынскому опять биту – и на этот раз гораздо серьезнее – но он благодаря своим родственным связям с одним из новых любимцев императрицы Салтыковым, сыгравшим важную роль в ее возведении на престол, сумел увильнуть от этого. И зная о любви Бирона к лошадям – о нем говорили, что о лошадях судит как человек, а о людях – как лошадь – Артемий Петрович пристроился в конюшенное ведомство, дабы быть поближе к животворному вниманию – благоволению фаворита.
Расчет оправдался: когда умер кабинет-министр Ягужинский, бывший Пашка Ягужинский Петра I, назначенный при нем генерал-прокурором Сената, обижаемый верховниками, за что его сразу возлюбила Анна, то Бирон двинул на это место Волынского. При этом – откровенный и прямой человек, когда дело касалось нелицеприятных характеристик нижестоящих – фаворит заявил:
– Я хорошо знаю, что говорят о Волынском и какие пороки он имеет, но разве среди русских можно найти более лучшего и более способного человека?
Желающих спросить у Бирона, чем же – в положительную сторону – отличаются стоящие вокруг него тесно сомкнутыми шеренгами иностранцы, не нашлось, и этот риторический вопрос вошел в историю.
Свою лепту в определение политико-нравственной физиономии Артемия Петровича внес и сам Ягужинский, чувствовавший, что на императрицыных конюшнях дожидается своего часа его преемник:
– Предвижу, что Волынский проберется в кабинет-министры, – посредством лести и интриг. Но не пройдет и двух лет, как принуждены будут его повесить.
Сурово, но в некоторой мере справедливо. Конечно, Волынского трудно назвать идеалом, но ведь жизнь и судьба зачастую не выбирают и делают своих героев не из рыцарей без страха и упрека, а из того материала, который есть в данный период в наличии, который попадается под руку. И среди них могут оказаться всякие люди – поскольку все живые, обладающие, кто больше, кто меньше, достоинствами и недостатками – но, ощутив свое предназначение, они очищаются пламенем жертвенности, и короста предыдущих неблаговидных деяний сползает с них, как шкурка с царевны-лягушки. Так постепенно происходило и с Волынским.
Поначалу озабоченный – как и многие из современников его – мыслями о благах сугубо материальных, он, достигнув, можно сказать, вершин служебной лестницы, почувствовал в полной мере вкус к делам державным, когда первое место в его миропонимании заняли вопросы государственные, требовавшие скорейшего и единственно-правильного решения. Это неминуемо привело его к зыбким патриотическим кругам, ибо засилие иноземцев было вопиющим, а их отношение к стране одиозно-утилитарным.
Человек тридцать собиралось в его доме, где хозяин – как человек способный и государственно мыслящий – зачитывал им, комментировал и подбивал на споры по своему «Генеральному рассуждению о поправлении внутренних государственных дел».
– Господа, – торжественно говорил Артемий Петрович, обводя блестящими глазами достаточно представительное собрание, – я убежден, что все важные государственные должности должны непременно занимать дворяне.
Уловив недоуменно-недовольное шевеление Нарышкина и Урусова, представителей самой высокой знати, поспешил разъяснить:
– Под дворянством, господа, я, разумеется, понимаю всех лиц благородного происхождения, не отчленяя и нынешних потомков достойного боярства. Но встает вопрос: каким образом возможно пробудить державные чувства дворянства, когда наше время дает пример как раз – наоборот, всеобщего наплевательства? Выход один – предоставить дворянству возможность действительно решать судьбу отчизны. А для этого должно расширить состав Сената, подкрепив его лучшими людьми благородного происхождения, передать им и все должности канцелярские, дабы не думали ныне сидящие там, что они – пуп земли и без них все замрет. Нет, господа, они ошибаются! Дворянство само в состоянии управлять державой полностью.
– Артемий Петрович, – вмешался, не выдержав, Хрущов, – а чем государство жить-то будет?
– Резонный вопрос, господин Хрущов. Мое «Рассуждение» предполагает поощрение отечественных – повторяю, отечественных – промышленности и торговли. Тарифы и уничтожение всех внутренних препон – это, я уверен, дает государству недостающие богатства. Государство при правильном управлении непременно, я уверен, должно богатеть. Но управление должно быть разумным. Ныне же правят у нас люди недостойные. Государыня наша не сказать, чтоб особенно была умна, проще говоря – дура, да и правит ведь, вы знаете, не она, а герцог Курляндский, ныне который уж совсем к короне явно подбирается. План свой давний – женить племянницу императрицы на сыне своем он не отставил… «Годуновское» это намерение, господа. И не шушукайтесь, пожалуйста. Герцог знает об этом моем отношении.
– Недаром он так к вам холоден!
– Совершенно правильно, Петр Михайлович. И так от немцев не продохнуть – так нам еще немца на престол не хватало! Нешто мы такие глупые, что сами не справимся? Надо просто своих дворян учить лучше, дабы они готовы были взять бразды правления в свои руки. Попервоначалу можно будет и за границу их посылать для учения. Зазорного здесь ничего не вижу – каждый народ умен, и учиться друг у друга никогда не грех. Но учиться, когда сам ощущаешь, что нужно сие, а не когда менторы твои, от чванства и гонора раздувающиеся, учат тебя, недоросля темного и неумытого, премудростям европейским. Впору тогда спросить: каков же тогда сам учитель, что светильник разума, коий должен нести незнающим сие еще, пытается обернуть в огонь, на котором ему жертвенных тельцов поджаривать учнут? Подлинно знает он нужное или токмо пыль в глаза пущает? А при правильном обучении недорослей дворянских у нас и свои природные министры со временем будут.
– Скажите, Артемий Петрович, – спросил из своего кресла покойно сидевший Федор Соймонов, – все, что вы говорите – это хорошо, правильно, со всем этим я согласен. Но это все в общем. А вот, так сказать, ежели взять ваши планы помельче: как будет государство в губерниях-то управляться? Ведь сами знаете – государство богатеет, когда налоги собирает, а то ведь и на образование недорослей наших не хватит.
– Федор Иванович, предполагаю я восстановить воевод и не сменять их. Налоги им будет собирать в этом случае сподручнее.
– А вот Василий Николаевич Татищев, как раз, наоборот, говорит, что бессменные-то воеводы-губернаторы погрязнут в мздоимстве.
– Ну, сами посудите, Федор Иванович! Скажем, он знает, что его менять-то не будут, он и будет брать умеренно – чтоб и на другой год осталось. А ежели он сидит, а на другой год уже тут его не будет? Так он после себя пустыню оставит.
– Да ведь, Артемий Петрович, это чтобы воевода ваш о завтрашнем-то дне своем думал-то, он умным человеком должен быть, а ежели – пока мы министров своих не воспитаем – не наберем столько? Может, прав Василий Никитич: говорит он, что не воеводы по губерниям нужны, а коллегии крепкие? Где губернатор – один из коллегии.
– Умных мы наберем, Федор Иванович. На Руси их хватит. А коллегии эти анархию породят. Советовать многие любят, а отвечать один должен. Россия всегда была сильна монархией.
– Это после Батыя.
– Так и Батый-то сумел прийти, что власть великого князя зашаталась.
– Власть власти рознь, Артемий Петрович. Русь наша древняя была сильна не только князем, но и советом бояр с дружиной, и вечем Новгородским. Вы же сами говорите: пока интерес державный в дворянстве не разбудим – государству сильным не быть. Ну, да это и потом домыслить можно будет. А вот за смелость вашу перед Бироном – низкий вам поклон от всех нас.
– Благодарю вас, господа. При первом же благоприятном случае представлю государыне мысли о ближайших ее. Быть может, слова мои убедят ее искать достойных…
Случай представился летом 1738 года.
– На кого метишь? – жестко спросила Анна Ивановна, рассмотревшая замаскированный упрек отнюдь не за лучший выбор своего окружения.
– Куракин, но больше всего Остерман, ваше величество, и Бирон.
– Письмо с советами подаешь, как будто молодых лет государю! Из Макиавелли это вычитал?
– Ваше величество, я…
– Ступай!
Благоволение было потеряно, но время шло, а Бирон все медлил с выводами, которые он мог бы подсказать больной уже давно и тяжело императрице. Волынский занялся устройством торжественного действа, прошедшего почти сразу после торжеств по случаю заключения мира с Турцией, в ходе которого был создан знаменитый Ледяной дом – чудо умелых рук мастеровых и неизгладимый позор для русских, окружавших трон; и не одних царедворцев – были унижены не только непосредственные участники, но и все те, кто был свидетелем этого действа.
Анна Иоанновна пожелала поженить одного из своих шутов – князя Михаила Алексеевича Голицына, прозванного «Князь-квасник», поскольку в его обязанности входило и подавать императрице квас, и шутиху Анну Буженинову, названную так по ее любимому кушанию – буженине.
В качестве дворца молодым построили дворец изо льда, куда их сопровождали представители различных народов, населяющих Россию, собранные по приказу Анны Иоанновны, желавшей развлечься видом своих подданных. Развлекаясь и развлекая, в это празднество ракеты во время фейерверка специально пускались в зрителей, отчего, как сообщали об этом официальные «Санкт-Петербургские ведомости», «слепой страх овладел толпой; она заколыхалась и обратилась в бегство, что послужило к радости и забаве высокопоставленных лиц при дворе Ея Императорского Величества, присутствовавших на празднестве».
За организацию празднества Волынского похвалили, но тучи сгущались. Куракин, запомнивший характеристику, данную ему кабинет-министром, подговорил Тредиаковского написать стихотворную сатиру на Артемия Петровича. Поэт – в расплату за свое творчество – был дважды бит Волынским. После очередного столкновения с Волынским герцог поставил перед Анной вопрос четко и ясно: «Или я, или он». Императрица выбирала проверенного старого друга. Тредиаковскому посоветовали поискать в суде правду, Бирон сразу оскорбился – поскольку второй случай битья был у него дома – в святом чувстве гостеприимства. Волынского арестовали и только уже в тюрьме предъявили настоящие обвинения. Были арестованы и его ближайшие сподвижники. 27 июня 1740 года чиновничьей скороговоркой с лобного места прозвучало:
– За важные и клятвопреступные, возмутительные и изменнические вины…
Волынскому отсекли сначала руку, потом голову. Еропкину и Хрущова обезглавили, еще несколько человек били кнутом и сослали в Сибирь.
– Ваше императорское величество, всепокорнейше доношу, что согласно вашей воле дворянин Петр Румянцев прибыл в Берлин. Согласно волеизъявления вашего величества обещаю и клянусь его в потребных молодому человек науках добрыми и искусными учителями наставить, о чем впредь далее обстоятельно доносить буду. Бракель. Писано в Берлине 1739 года, октября 6-го дня.
Человек, читавший реляцию покойным, размеренным, обезличенным голосом – его дело лишь читать, оценить без него есть кому! – осторожно поднял глаза. Императрица Анна Иоанновна сидела, умиротворенно покачивая головой. Бирон стоял рядом с камином, облокотившись на него плечом и чему-то своему усмехаясь. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием медленно сгорающих поленьев.
– Ох, ты меня прямо-таки в сон вогнал. Читаешь, как пономарь. Ну-ко зачти мне наново, что там мы писали Бракелю о Румянцеве-младшем. И ты, Иоганн, вспомнишь – ведь ты хлопотал о нем, – обратилась она и к Бирону. Тот утвердительно наклонил голову, так и не оторвавшись от камина.
Действительно, Александр Иванович Румянцев, возвращенный из ссылки, был весьма любезен со всеми, а особливо с Бироном и только сыну говорил: «Плетью обуха не перешибешь. Будем просто служить отчизне, а жизнь свое возьмет. Сегодня ты на самом верху – завтра в самом низу. Фортуна!
И делая практический вывод из этого фаталистического заявления, решил обратиться именно к всесильному Бирону за помощью в устройстве будущей судьбы сына. Польщенный смирением Румянцева временщик похлопотал за Петра, которого отец для пополнения его знаний и приобретения необходимых навыков по службе просил отправить с жалованием в русское посольство в Швецию или другое европейское государство, дабы он еще мог познакомиться с порядками и обычаями иноземными. Петра направили в Берлин.
Раздалось осторожное покашливание писца.
– Читай!
– Господин действительный тайный советник! Снисходя к просьбе генерала Румянцева, сын его отправляется дворянином посольства к вам, дабы вы его при себе содержали и как в своей канцелярии для письма употребляли, так и в прочем ему случае показывали, чтобы он в языках и других ему потребных науках от добрых мастеров наставлен был и искусства достигнуть мог, дабы впредь в нашу службу с пользою употреблен был.
– Хорошо, ступай!
Чтец поклонился сначала Анне, потом – не менее истово – Бирону и неслышно выскользнул в дверь.
– Вот видишь, все получилось, как ты хотел. Это младший Румянцев постигнет в Берлине всякие науки. Хотя я и не люблю, честно признаться, Румянцева, но всегда готова сделать тебе приятное.
– Благодарю вас, государыня. Я, как и вы, тоже не симпатизирую этому человеку. Но пусть он знает, что мы можем все, а он без нас – ничто!
– Ну, ладно, ладно. Посмотрим, как там теперь наш маленький протеже будет постигать все то, о чем там горячо ратовал его отец. А впрочем, это не наша забота. Подай мне ружье! – Страстно любящая стрельбу Анна Иоанновна распорядилась во многих дворцовых покоях развесить на стенах ружья и частенько любила с ними позабавиться… В заграницах Петр пробыл недолго – запросился домой, и отец отдал его на обучение в кадетское училище.
Учеба продолжалась не особенно долго – 17 октября 1740 года императрица Анна Иоанновна скончалась. Императором объявлялся двухмесячный Иван Антонович, сын ее племянницы. Регентом при императоре становился Бирон. В эти решающие дни новому регенту было не до мелочей. И 24 октября 1740 года кадет Петр Румянцев был пожалован в подпоручики.
Бирона с регента буквально днями отпихнул Миних. Но – тоже не надолго. Его оттер Остерман. Но рядом с Анной Леопольдовной выдвигалась и фигура графа Линара, посланника саксонского двора и – как становилось все более очевидным – фаворита регентши. Знакомство их датировалось еще 1735 годом, и теперь уже никто не мог служить им препятствием. Круговерть интриг продолжалась. И все громче раздавались в гвардейских казармах голоса:
– Да здравствует дщерь Петрова, матушка наша Елизавета!
Приближалось двадцатилетие Ништадтского мира, заключенного еще Петром Первым и выведшего Швецию из победоносной для России Северной войны, и в воздухе, казалось опытным людям, все отчетливее носится запах пороховой гари, железа, крови и смерти. К несчастью, посланник в Стокгольме Бестужев-Рюмин не мог быть отнесен к подобным провидцам, ибо, давно извещая о военных приготовлениях Швеции, о денежных субсидиях для этих целей Франции и, вероятно, Пруссии, он тем не менее оптимистично уверял, что причин для беспокойства у России нет. В июне 1741 года Бестужев уже так не считал, но было поздно: Швеция развернула открытую подготовку к войне, и в августе, после окончания затянувшихся сборов, война была официально объявлена.
Швецию толкали на эту войну, но надо признаться, что шведская аристократия, снедаемая идеями реванша, давала себя подталкивать весьма охотно… Потом было несколько сражений, где шведы потерпели поражение.
Вскоре Румянцев получил капитана и роту, во главе которой участвовал во взятии Гельсингфорса, произошедшем в кампанию следующего 1742 года, почти через год после начала войны – 24 августа. Вскоре был взят и город Або, где начались мирные переговоры, вести которые было поручено старшему Румянцеву – Александру Ивановичу. Только что подписавший в Стамбуле мирный договор с Оттоманской Портой, теперь должен был дать мир России и с севера.
Швеция колебалась. Дабы убыстрить мыслительные процессы ее правителей, Ласси на более чем ста кораблях повел морем десант из 9 пехотных полков – бить врага на его территории. Этого демарша оказалось достаточно, чтобы выгодный России мир был заключен.
Известие о нем повез в Петербург Петр Румянцев, вскоре после Гельсингфорса ставший флигель-адъютантом отца. Опытный дипломат рассудил безошибочно.
– Ваше императорское величество. Имею честь доложить, капитан Румянцев с депешей из Або.
– Что там, капитан?
– Мир, ваше величество!
– Благодарю вас за приятное известие. Вы сказали, ваша фамилия Румянцев? А Александр Иванович?
– Это мой отец.
– Ах вот как! Дипломат, дипломат. Ну что ж, еще раз благодарю. Вы свободны, полковник!
Итак, счастливый гонец монаршим волеизъявлением был пожалован – минуя секунд-майорский, премьер-майорский и подполковничий чины – сразу в полковники. От роду полковнику Румянцеву было годов – восемнадцать.
Мир был заключен, и награды по этому случаю раздавались уже при новом российском монархе, пришедшем на смену малолетке Ивану Антоновичу – при императрице Елизавете Петровне.
Переворот, возведший ее на престол, произошел в ночь на 26 ноября 1741 года. В силу входили новые люди нового царствования: Лесток – этот, правда, ненадолго, Разумовский, братья Шуваловы. Безродные поначалу, они скоро становились баронами, графами, князьями…
Глава II. Обретение себя
Абоский договор сделал Петра Румянцева не только полковником, но и графом, ибо главный его дипломатический виновник – Александр Иванович Румянцев – был пожалован графским достоинством по нисходящей, то есть со всем своим потомством, с девизом по латыни «Non solum armis», что означало «Не только оружием».
Несмотря на резкое изменение своего положения, полковник граф Румянцев продолжал эпатировать столицу молодецкими выходками – как до этого Берлин, Выборг, Гельсингфорс. Как-то раз Елизавета Петровна, узнав об очередной проделке младшего Румянцева, отправила его к отцу для примерного наказания. Тот приказал подать розог.
– Да ведь я – полковник!
– Знаю и уважаю твой мундир, но ему ничего не сделается: я буду наказывать не полковника, но сына.
– Батюшка, раньше вы так не поступали.
– Верно, – вздохнул отец. – И теперь об этом жалею ежедневно и еженощно. Верно говорится: «Любя и потакая чаду своему, мы его губим». Если бы я это делал своевременно – разве ты позорил бы сейчас мои седины? Воистину ты – как притча во языцех. Уже дня не пройдет, чтоб императрица не поинтересовалась: что ты еще учудил? Но лучше поздно, чем никогда. Прошу! – и сделал по направлению лавки широкий приглашающий жест.
Свист розог, осторожное кряхтение. Наконец полковник, почесываясь, встает.
– Благодарю, батюшка, за науку.
– Не за что, сынок. Всегда готов поделиться с тобой всем, что имею и знаю. Пшел вон.
Вскоре после сего вразумления Петр Румянцев получил под свое командование Воронежский пехотный полк…
Отец все считает его маленьким – хочет пристроить получше. Теперь вот надумал женить. И ладно бы только он. А то и императрица, запомнившая его, тоже желает ему счастия. Счастия, какое видится им самим. Он вновь взялся за письмо отца: «Такой богатой и доброй девки едва найтить будет можно… Ее богатее сыскать трудно. За ней более двух тысяч душ, и не знаю не будет ли трех! Двор Московский… каменный великий дом в Петербурге… Конский завод и всякий домашний скарб».
Разумеется, он помнил эту сейчас намечаемую невесту. Дочь Артемия Волынского Мария действительно считалась богатейшей невестой России. Елизавета Петровна вернула ей все конфискованное у ее отца и еще добавила от себя. И девушка ничего – симпатичная, спокойная. Но не лежит у него к ней сердце! До сих пор – после всех его похождений – он с закрытыми глазами может вообразить себе лишь одну – ту девочку Катю Голицыну, которая в доме опального верховника Дмитрия Михайловича Голицына угощала их с отцом чаем. Сколько лет прошло, а он все помнит. И решив для себя, что жениться он будет только по любви, Румянцев не поехал на смотрины в Петербург, и дело на этом и прекратилось.
А вскоре полк Румянцева перевели в Москву…
Знать в основном вся была в Петербурге – поближе к трону, живущих в Москве было не так уж и много, и поэтому нет ничего удивительного, что Петр Румянцев скоро перезнакомился с большинством из них. А кое с кем он уже и был знаком.
– Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Вы помните меня?
– Конечно, я поила вас чаем. Дядя был еще жив…
– Мир его праху. Я до сих пор помню вкус этого чая.
– Да? А мне тогда показалось, что вы пьете лишь из вежливости.
– Нет. Просто я отвлекался.
– Да, разговор с дядей – вы с вашим батюшкой тогда долго у него пробыли…
– Не только, Екатерина Михайловна…
– А что же еще? Дорога?
– И это тоже. И снова не все. Мне запомнилась тогда и девочка – хозяйка в доме.
– Полно вам, Петр Александрович! У нас хоть и не столица, но кое о чем мы также наслышаны.
– Не смею отрицать. Но ведь вы знаете тогда и то, что это были планы ее величества и отца. Я здесь ни при чем.
– Мы наслышаны не только о Волынской.
– Ах, ну да. О чем же еще говорить, если не мыть кости ближним и дальним, знакомым и незнакомым!
– Особенно когда они этого заслуживают!
– Вы улыбаетесь? Слава богу. Больше всего мне не хочется именно в ваших глазах предстать чудовищем.
– Что вам до моего мнения? Сегодня вы здесь, а завтра – уже нет.
– Я хотел бы возвращаться сюда всегда.
– Вот как? И это вы всерьез?
– Совершенно серьезно, Екатерина Михайловна.
– Знаете, Петр Александрович, то место, где тебя ждут, должно быть единственным местом, а не очередным. Только в этом случае можно надеяться, что двери для тебя будут открыты, очаг гореть, а стол – накрыт.
– Знаю, Екатерина Михайловна. Наверное, это и есть счастье.
Через год – в 1748 году – они поженились. И в этом же году полк Румянцева во главе со своим командиром в составе корпуса Репнина принял участие в походе на Рейн – в поддержку недавно вступившей на австрийский престол императрице Марии-Терезии. Русский корпус, появившись в Европе, подкрепил права австрийской императрицы и добился временного замирения в центре Европы.
Вскоре по возвращении из похода его отец, генерал-аншеф и кавалер Александр Иванович Румянцев скончался.
Отныне он оставался единственным мужчиной в семье. Время беспечной юности минуло навсегда.
Это сказалось и на его службе. Раньше плывший, в общем-то, по течению, он теперь всерьез увлекся военной наукой, постепенно вспоминая когда-то прочитанное, увиденное, услышанное. Обдумывая и анализируя это. Доставал и новые книги. И скоро уже с четкой уверенностью осознания говорил офицерам:
– Господа, приверженцы господствующей сейчас линейной тактики не учитывают, что победа лишь в редчайшем случае – если брать сражения всех великих – достигается мерным сосредоточением в нужное время в нужном месте подавляющего преимущества. Медленное движение пехоты и кавалерии не в силах дать этого. Особенно – при построении в линии. Колонны более мобильны и компактны, а стало быть, более страшны неприятелю, поскольку позволяют нанести неожиданный удар.
Теперь о холодном оружии. Конечно, я не ратую безоговорочно за седую старину и признаю роль огненного боя, но лишь когда сие оружие в надежных руках, в умелых. Пальба впустую бессмысленна и опасна, ибо противник, побывав под нашими залпами и не понеся потерь, лишь разъярится, наши же солдаты, произведя пальбу и не видя ее результатов, упадут духом. Другое дело – массированный удар холодным оружием. Дело офицеров при этом – не дать солдатам дрогнуть в первый момент, далее же – священное очищение боем, его азарт сами сделают все необходимое.
Это было непривычно, хотя и не так уж и сложно. Это почти лежало на поверхности, и кажется, что ты сам мог бы до всего этого додуматься – но лишь тогда, когда первый, поднявший это, растолкует тебе. Кто-то принимал правоту Румянцева, но многие – и нет. Семилетняя война убедила маловеров.
Граф Алексей Григорьевич Разумовский приоткрыл один глаз и хрипловатым голосом произнес:
– Ну-ка, говори, что ты там нашкребал.
– Ваше сиятельство, – торопко начал секретарь, – осмелюсь напомнить, что сии слова вы сами мне продиктовать давеча изволили.
– Да не части, хлопче, не части. Делай шо говорять.
Сказано тебе, так повтори. А шо я тоби говорил, то я и так знаю. Память кой-какая еще есть.
– Начинать, ваше сиятельство?
– Давно уж пора. Слухаю.
«– Ваше императорское величество! Государыня! Ты можешь сделать из меня кого хочешь, но ты никогда не сделаешь того, что меня примут всерьез, хотя бы как простого поручика». Все, ваше сиятельство!
– Добре. Запечатай и отправь. И дай мне булаву.
– Жезл, ваше сиятельство.
– Ну, нехай жезл. Дай сюда и ступай вон. Воли много берешь, советник. Смотри, этим жезлом и попотчую.
Секретарь, зная нрав графа, исчез, приседая и кланяясь, в минуту.
Разумовский взял в руки жезл и начал его вертеть в больших, красивой лепки руках. Его смуглое выразительное лицо было задумчивым и печальным. Он тихонько насвистывал протяжную украинскую мелодию, а жезл поблескивал перед его глазами своими украшениями и гранями. Фельдмаршальский жезл. Итак, с оного 1756 года он граф Разумовский – фельдмаршал. Граф и фельдмаршал усмехнулся, взгляд его затуманился. Он вспомнил. Последнее время он воспоминал все чаще…
Маленькую деревенскую церковь в Лемехах, что на Украйне, казалось, до основания сотрясал могучий бас. Местные, уже давно привыкшие к нему, только одобрительно кивали в наиболее, на их взгляд, удачных местах, новый же здесь человек – полковник Федор Степанович Вишневский, возвращавшийся из Венгрии в Петербург, куда он ездил по серьезному государственному делу – закупал для императрицы Анны Иоанновны любимое венгерское вино, – был поражен. Он не поленился выяснить, кто же так поет. Оказалось – молодой крестьянин Алексей, имевший по отцу кличку Разум, поскольку тот любил повторять о себе: «Что за голова, что за разум!» Оправдывая семейное прозвище, Алексей быстро согласился поехать в столицу и стать певчим императорского двора. Услыхавшая его принцесса Елизавета Петровна настояла, чтобы певца уступили ей. Вскоре Алексей потерял голос и сделался бандуристом. И скоро, показав и здесь себя с наилучшей стороны, он стал управляющим одного из поместий принцессы, а потом и всего ее не очень обширного хозяйства.
После возведения Елизаветы Петровны на российский престол Разумовский начал быстро повышаться в чинах. В конце 1742 года произошло еще одно событие, о котором даже и присниться не могло молодому казаку, трясущемуся в легкой кибитке в сопровождении Вишневского на пути к Петербургу, к славе, богатству и почестям – в деревенской церкви в Перове, недалеко от Москвы, он тайно обвенчался с императрицей. А через два года император Австрии пожаловал его графом Священной Римской империи, приписав ему в этом дипломе княжеское происхождение. Разумовский первым высмеял наличие таких предков у себя, но императрице перечить не стал, и на Руси появился новый граф, в детстве пасший коров и любивший играть на сопелке.
Брак так и остался тайной, поскольку почти одновременно с ним – в ноябре – был опубликован манифест Елизаветы, провозглашавший голштинского герцога Карла Петра Ульриха, сына своей сестры Анны Петровны, великим князем и своим наследником. Это была гарантия силам, возведшим ее на престол, что она не изменит тому умонастроению, наличие которого у нее и побудило участников дворцового переворота поддержать ее в решающую ночь.
Это было подтверждение ее лояльности Лейб-кампании – той роте Преображенского полка, которая поддержала ее в ночь с 25 на 26 ноября 1741 года. Они стали личной гвардией императрицы Елизаветы, которой позволялось все. Они поссорились с князем Черкасским, великим канцлером, когда им показалось, что он плохо исполняет их все более возрастающие требования. Компанейцам попытались объяснить, на какого важного барина они дерзают напасть, на что ходатаям канцлера было отвечено:
– Он важный барин, пока нам заблагорассудится!
Елизавета подписала указ, предписывающий чеканить на оборотной стороне рубля фигуру гренадера. Когда в 1748 году одного из наиболее приближенных к императрице людей – Петра Шувалова высокопоставленные военные попросили ускорить решение ряда больших и сложных вопросов, он меланхолично ответил:
– Я занят делами Лейб-кампании. Лейб-кампанцы прежде всего. Таков указ императрицы!
Они были ее опорой… В этом сказывались элементы патриархальности – Елизавета, как и Анна, были по сути своей барыни-помещицы, не отличавшиеся большим государственным умом и не желающие понимать, что подобное протежирование сил, позволяющих удерживаться на плаву, некоторым образом роняет достоинство власти. Как барыня она подбирала себе людей или лично преданных (Лейб-кампания), или просто приятных (таковы фавориты). Но монарх должен обладать – если не обладает государственным разумом – хотя бы государственным инстинктом, иначе ему не удержаться у кормила власти. И как следствие этого, императрица должна была себе подбирать людей, способных оказать ей помощь в управлении страной.
Выбор не всегда был удачен, – людей, готовых решать державные дела, иногда просто не хватало – бироновщина дала свои плоды, но это происходило не по злой воле Елизаветы. Она гордилась Россией и любила ее, несмотря на все испытания, выпадавшие стране. Именно в эти годы произрастала целая плеяда людей, принесших в дальнейшем славу отечеству.
Но Елизавета Петровна не была в полном смысле этого слова правителем. Самодержица – да. Когда при ней произнесли титул великого канцлера, она сказала:
– В моем государстве великими являются только я и великий князь. Да и тот только призрак.
Но государственным человеком она не была. Она действовала скорее поддаваясь эмоциям, иллюзиям и воспоминаниям.
Преклонение ее перед памятью отца доходило до такой степени, что некоторые свои письма она подписывала «Михайлова», поскольку Петр в своих заграничных путешествиях имел псевдоним «Михайлов».
Буквально через несколько недель после восшествия Елизаветы кабинет министров, образованный во времена Анны Иоанновны, был упразднен и первенствующее место в делах управления государством снова занял Сенат, «как при Петре Великом». Но уже на следующий год кабинет был восстановлен, значение же и роль коллегии постепенно, но неуклонно падали.
Зато на протяжении всего царствования влиятельную силу, как своеобразное дополнение и своеобразный противовес официальным органам государственной власти, наряду с фаворитами и Лейб-кампанией, представлял и особый женский кружок, попасть в который считалось великой честью, – занимавшийся чесанием императрициных пяток на сон грядущий. Кроме этого они еще и нашептывали что-нибудь императрице, чтобы та не скучала, нашептывали то, о чем их просили лица, принадлежащие к сфере политической. И часто эти ночные нашептывания трансформировались в дневные указы и рескрипты…
Такая же простота нравов царила и в развлечениях Елизаветы.
Любила поездки на природу, обеды в летних палатках, прогулки верхом и охоту. Между прогулкой и охотой, собрав своих фрейлин, она любила поводить с ними на лужайке хороводы. Утомившись, приказывала:
– Девки, пойте!
После пения – легкий сон в тенечке на специально раскинутом ковре. Одна из девок отгоняла мух, остальные стояли рядом, чуть дыша, если кто начинал болтать, в него летел Елизаветин башмак.
Были любимы и дальние поездки. Периодически на несколько месяцев она переезжала из Петербурга в Москву. Петербург пустел, Сенат, Синод, коллегии – иностранная и военная, казна, дворцовая канцелярия, почтовое бюро, вся дворцовая и конюшенная прислуга должны были ее сопровождать. На все это требовалось до 19 тысяч лошадей.
Особое благоволение высказывалось к быстрой езде: в карету императрицы впрягали дюжину лошадей и пускали их вскачь. Рядом бежала полная запасная упряжка, и как только одна из лошадей падала, ее сразу же заменяли. В 1744 году было предпринято путешествие в Киев. Старшина, желая поразить грандиозностью своего уважения и щегольнуть богатством, потребовал 400 коней. Алексей Разумовский, рассмеявшись, покровительственно похлопал по плечу отставшего от жизни провинциала:
– Надо в пять раз больше!
Вся эта роскошь – императрица имела несколько тысяч платьев, обычно надевавшихся раз в жизни, – помноженная на мотовство ближнего и дальнего окружения императрицы, тяжким бременем ложилась на плечи простого народа, прежде всего крестьян.
Сенат в середине 1750 года доложил императрице, что средний доход последних пяти лет – не считая подушной подати и некоторых других видов пополнения государственной казны – где-то около четырех миллионов, тогда как средний расход более четырех с половиной миллионов. Еще в 1742 году прусский посланник в России извещал своего короля, что «все кассы исчерпаны. Офицеры десять месяцев уже не получали жалованья. Адмиралтейство нуждается в 5000 рублей и не имеет ни одной копейки». Правда, справедливости ради следует заметить, что хронологически подобное положение дел следовало пока прежде всего инкриминировать Анне Иоанновне и Бирону со товарищи…
Всегда прослеживалась прямая связь: с ухудшением условий жизни народа растет его сопротивление, периодически начинающее приобретать открытые и явные формы и соответственно этому ужесточаются наказания, при помощи которых монархи стараются сбить волну народного протеста. На всем протяжении ХVIII века наказания ужесточались, и к моменту воцарения Елизаветы они были весьма и весьма суровы. С жизнью подданных не церемонились – главное было дать наглядный пример всем остальным потенциальным бунтовщикам. Время было жестокое, палачи работали не покладая рук. А Елизавета начала с того, что уничтожила смертную казнь. Не юридически, так фактически, ибо за годы ее царствования ни один политический или уголовный преступник не был казнен.
В это же время были запрещены и пытки при проведении множества процессов – и нет им числа! – вызванных возмущениями крестьян.
Но осознавая свои обязанности в защите собственных прав и прав всех тех, кто владел в стране землею, дворцами, крестьянами, лавками с товаром и хорошими деньгами, она, следуя традиции своих царственных предшественников, отнюдь не отменила наказания кнутом.
Что же такое кнут, лучше всего станет понятно из указа отнюдь не добропорядочной императрицы Анны. В нем предписывалось в некоторых случаях наказания заменять кнут розгами, «дабы виновные остались годными для военной службы». Некоторые палачи-умельцы с нескольких ударов могли убить человека, а единым – перерубали деревянную лавку.
В 1748 году граф Брюс, назначенный императрицей комендантом Москвы, резко возражал против ограничения количества ударов, непосильных наказуемым кнутом. Пятьдесят ударов, кои предписывал наносить закон, ему казались очень незначительными.
– Но, ваше сиятельство, – пробовали возражать ему, – ведь нанесение более пятидесяти ударов – это значит убить виновного!
– Ну и что же? Ведь речь идет о замене смертной казни…
А кнут присуждался иногда за весьма малое, как было с одним купцом, осмелившимся взять за фунт соли пять копеек при установленной цене 45/8.
Бирон в предшествующие годы знал, что говорил, когда заметил: «Россией можно управлять лишь кнутом и кровью!» Менялось многое, неизменными оставались интересы сословия.
Первые годы правления Елизаветы Петровны – после заключения Абоского мирного договора – прошли для России без войн. Поход на Рейн – лишь незначительный эпизод, если учесть общеевропейскую обстановку. Но в конце своего правления императрица логикой малозначимых поначалу и в отдельности внешнеэкономических акций подвела страну вплотную к войне, вошедшей в историю под названием Семилетней, которая прекратилась только с ее смертью. Именно эта война сделала имя Румянцева одним из наиболее известных в европейских военных кругах и во всем российском обществе.
После окончания войны за Австрийское наследство, в которой русские приняли участие корпусом Репнина, возросшая мощь Пруссии вызывала опасения французского двора, Алексей Бестужев-Рюмин с 1744 года – канцлер, сиречь глава внешней политики России, терпеливо внушал Елизавете, постоянно отвлекавшейся от скучных истин, высказываемых канцлером монотонным скрипучим голосом:
– Государь французский Людовик ХV никогда не устанет бороться с своим извечным противником – Англией за колонии, особливо индейские, да и мировое господство уступать не хочет.
– Господи, все людям неймется! Нечто земли им не хватает?
– Хватает, ваше императорское величество, но кто же откажется от большего?
– Это точно. Однако при чем же здесь Пруссия?
– После утверждения Марии-Терезии на престоле Англия помогает Пруссии, видя в ней гаранта неприкосновенности своих ганноверских владений – ведь обсюзерены помогают лишь золотом, а не людьми, обычный прием островитян, привыкших таскать каштаны из огня чужими руками. Но Фридриху люди и не нужны – у него и так лучшая армия в Европе. А золото очень кстати. И не поймешь тут: то ли англичане платят ему, чтобы он защищал их Ганновер от французов, то ли из опасения, как бы пруссак на него не покусился. Дело запутанное.
– Скажи уж лучше политическое.
– Истинно так, матушка-императрица.
– Ну а нам-то с этого какой резон? Я уж изрядно запуталась во всех этих договорах и конвенциях. Как бы нам опять не попасть впросак, как в последней войне со шведом.
– Не попадем, ваше величество. Позвольте продолжить?
– Ну, давай продолжай…
– Итак, извольте обратить ваше просвещенное внимание на то, что Франция – в противовес Англии – начала оказывать помощь Габсбургам, желая тем самым заручиться союзником против Фридриха, который рассчитывает на первенство в делах германских – в ущерб Австрии. Исходя из этого Людовик французский и с нами дружбы ищет. Мы же, по моему разумению, должны всецело поддержать идею сего альянса, ибо и для нас король Прусский опаснее всех и является всегдашним и натуральным России неприятелем.
– Пока, канцлер, я так и не поняла почему.
– Его планы о полном подчинении Польши Пруссии и стремление посадить на Курляндский престол брата своего Генриха Гогенцоллерна тому причиной.
– Откуда же? И правда ли?
– Наши агенты европейские передают. Да и посланник французский о том же говорит. Есть и сведения из самой Курляндии…
– Посланник чужеземный нам не указ…
– Все подтверждается, ваше императорское величество.
– Ну, что ж, значит, пора унять сего предприимчивого государя. Действуйте, Алексей Петрович!
Разговоры на подобные темы велись в кругу, естественно, весьма ограниченном, так что мало кто и думал о возможности войны для России.
Мало думал об этом и Петр Румянцев. За несколько дней до наступления нового, 1756 года, а именно 25 декабря, ему был пожалован чин генерал-майора. Он получил его через двенадцать лет после предыдущего полковничьего, и теперь мог смело всем смотреть в глаза, не боясь ни усмешки, ни завистливого укора.
– Я, Катя, – говорил он жене, – отныне могу всем сказать: чин свой выслужил, не милостью лиц вышестоящих, не исканиями родных и друзей, а токмо делами своими.
– Да уж. Сколько продвинулось за эти годы, а ты все в полковниках!
– Ничего, жена. И в тридцать один не страшно еще в генерал-майорах быть – времени впереди достаточно. Мы еще свое возьмем. Главный порог пройден: генералы – все на виду, так что зависит токмо от нас. Что заслужим – то и получим.
– Дай-то бог.
– Хотя, конечно, да ведь недаром говорят: бог-то бог, да сам не будь плох!
– Вот и не будь!
– Да уж постараюсь!
– И знаешь, Петя, что. Вот ты сейчас сказал: все, мол, зависит от меня – что, мол, заслужу, то и получу. Но ведь заслуживать будешь – стало быть, кто-то оценивать будет, а ты ведь бываешь иногда весьма и весьма несдержан, и…
– Не искательствовал, не льстил и впредь не намерен! И это говоришь мне ты, Голицына! Разве ты забыла нашу первую встречу?
У кого мы тогда свиделись? Не у твоего ли дяди Дмитрия? Ты и ему бы сказала то, что сказала сейчас мне? Или мне – и только мне – сие можно говорить?
– Прости, я не хотела тебя обидеть. Я хотела как лучше.
– Мы все хотим как лучше. Но не всегда это получается. Все дороги в преисподнюю начинались с благих намерений. Но это в общем-то так, к слову. Не будем омрачать Рождества.
– И твоего назначения, дорогой.
– Да уж, праздник к празднику!
Через десять дней был и третий праздник – день рождения, спустя месяц после которого он получил новое назначение – в Ревель, в стоящую там Лифляндскую дивизию. Отбывая по месту службы, Румянцев доносил об оном главнокомандующему генерал-фельцейхместеру Петру Ивановичу Шувалову лаконичным рапортом: «Во исполнение вашего высокографского сиятельства ордера я сего числа к команде в Ревель выступил, о чем вашему высокографскому сиятельству покорнейше доношу». Искательствовать он намерен не был.
Однако на новом месте он пробыл не долго – в воздухе все отчетливее пахло войной, и Румянцева отозвали назад, в Петербург, откуда он скоро – по получении секретного задания – спешно выехал в Ригу. Ему, наряду с еще двумя молодыми и перспективными генералами – Василием Долгоруковым и Захаром Чернышевым, поручалось приступить к созданию отборных боевых частей, традиционно отличавшихся в бою специальной подготовкой и мужеством, – гренадерских полков, набираемых из гренадерских рот пехотных полков.
Это распоряжение было отдано уже новым высшим военным органом – «Конференцией при высочайшем дворе». Конференция взяла на себя не только обязанности Высшего военного совета, но и все руководство внутренней и внешней политикой России. Она занималась разработкой стратегии будущей войны – предполагалось, что непосредственное командование армии в войне с Пруссией будет лишь покорным исполнителем решений Конференции, – занималась и вопросами комплектования войска, чему и стало следствием новое назначение Петра Румянцева.
Конференция приняла план подготовки к войне армии и флота; Румянцев сформировал Первый Гренадерский полк.
31 июня 1756 года Петр Шувалов – один из членов Конференции – доложил Военной коллегии о маршруте русских войск в Восточную Пруссию. Менее чем через два месяца после этого, видя, что коалиция против него обретает весьма зримые и весьма опасные черты – к союзу России и Австрии примкнули Франция, Саксония и Швеция, – Фридрих решил показать всем, что отнюдь не безопасно иметь его своим врагом: он вторгся в Силезию.
Российская армия, растянувшись по западной границе, к непосредственным боевым действиям готова не была. Румянцев возмущался:
– Что за страна такая! Ведь всегда так: уже ведь и пора, и знают все об этом, а пока по башке нам не дадут – ведь и не почешемся!
Его утешали:
– И что вы возмущаетесь, генерал! Сами же сказали: всегда так. Стало быть, не нами заведено, не нам и ломать! А в утешение вам – не одни мы не готовы, союзники наши тоже не больно-то…
– А мне на них плевать! И накладки европейские за образец держать не намерен! Впрочем, как и достижения, – добавлял он, остывая. – Своей головой жить пора! – вновь горячился.
А время шло. Только в сентябре утвердили командующего русской армией – генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина. Тут уж возмущался не один Румянцев. Все – от солдата до генерала – знали, чего реально стоит их новый фельдмаршал, любитель хорошего стола и гардероба, личный обоз которого даже в районе боевых действий, случалось, состоял более чем из пятисот лошадей.
– Ну что, господа, – злорадствовал Румянцев, – а каково теперь ваше мнение, что должно оставлять, а что ломать в порядках наших?
– Не ехидствуйте, генерал, – отвечали ему те, кто имел еще слабый запал поспорить, – вы ведь тоже с нами совместно, под командой сего стратега воевать пойдете!
– Пойду, – соглашался Румянцев, – но когда мне оторвет голову ядром – случайно, разумеется, – просто командующий поставит всю свою армию от большого ума под пушки Фридриха, я буду спокоен – вслед за моей отлетят и ваши головы, столь боящиеся задуматься!
– Ну, хорошо, задумаемся мы. А дальше что? Плетью обуха не перешибешь! Фельдмаршал наш ставлен самим канцлером Бестужевым-Рюминым! Вы что-нибудь имеете сказать канцлеру? Или персонам – членам Конференции? Так что сидите, ваше превосходительство, и не чирикайте! И вообще – побоку все серьезные разговоры и вопросы, от невозможности решения которых лишь болит голова! Пусть она лучше болит от другого! Где ваш стакан, генерал?
Король Прусский Фридрих II разговоров сих не слыхал, иначе бы – как человек по-европейски воспитанный и вежливый – поспешил бы с ними согласиться. Но и не слыша их, он поступал так, как будто был их участником, то есть особого внимания на русскую армию не обращал.
Он считал, что основные события развернутся в Силезии, Богемии, Саксонии. Восточная же Пруссия может особо не опасаться нашествия восточных варваров: как по их слабости, так и благодаря тому, что, выведя лучшие войска на основные театры военных действий, он все же оставил губернатору Пруссии фельдмаршалу Гансу фон Левальду порядка тридцати тысяч во главе с блестящими офицерами – Манштейном, Мантейфелем, Доной, кавалеристами Платтеном, Платтенбергом и Рюшем. Фридрих все рассчитал еще в самом начале войны – в 1756 году.
А теперь шел уже следующий, 1757 год. В июне, согласно планам Конференции, военные действия наконец начались – генерал-аншеф Фермор взял Мемель. Тогда же русская армия начала медленное движение к Кенигсбергу. Одна из ночевок в пути пришлась на местность на западном берегу реки Прегель, невдалеке от забытой Богом и людьми деревушки Гросс-Егерсдорф.
… Уже народ наш оскорбленный В печальнейшей нощи сидел. Но Бог, смотря в концы вселенны, В полночный край свой взор возвел, Взглянул в Россию грозным оком И, видя в мраке ту глубоком, Со властью рек: «Да будет свет». И быть! О твари Обладатель! Ты паки света нам Создатель, Что взвел на трон Елисавет…Шел 1746 год. Физик, химик, ритор и многое, многое другое Ломоносов читал свою оду на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Каждый год этот день отмечался одами и другими поздравлениями словесными – в стихах и прозе. Это – традиция. «Дщери Петровой» Ломоносов польстил еще в момент ее восшествия, напомнив ей о ее родителе и прямо требуя быть продолжательницей дел его державных. Елизавета, вспоминая эти строки, всегда умилялась. Именно благодаря своему поэтическому дару Михайло Ломоносов был поначалу известен верховной власти и даже иногда пользовался ее покровительством.
На следующий год была еще одна ода. Но каждая последующая декларировалась создателем со все меньшим энтузиазмом. Ибо ничего не менялось. Засилье иноземное в делах академических продолжалось, несмотря на нового ее президента – брата Алексея Разумовского – Кирилла. Тот, недавно дебютируя на этом посту, произнес речь вроде бы и дельную – разумеется, не им составленную. Куда ему до таких мыслей в восемнадцать-то лет! Но все равно – значит, советчики хорошие. А говорил Кирилл:
– Господа профессора, как ни прискорбно мне сие констатировать, но вынужден: думаете вы, ученые почтенные, токмо о прибавлении жалованья и получении новых чинов. Под предлогом же несовместимости науки с принуждением – бездельничаете!
Академики заерзали. Год миновал с тех пор, а впору удивляться: как ничего не делали – так и не делают, хотя и есть нововведение. Старая лиса Шумахер, советник академической канцелярии, фактический заправитель дел Академии, умудрявшийся сидеть на своем месте при всех переменах державной власти, усидел и на этот раз и настоял на новом регламенте, коий обязывал членов астрономической и космографической секций расширять границы империи открытием новых стран, физиков – эксплуатировать новые рудники, математиков же – основывать новые мануфактуры. Торжественные заседания Академии с его же легкой руки посвящались рассуждениям на странные темы, такие, как, например, о глазном клавесине аббата Кистель, которого Вольтер и Руссо дружно признавали безумцем.
Ломоносов допытывался:
– Господин Шумахер, как все сие это назвать?
– То есть, господин Ломоносов?
– А то и есть, что тут делом занимаешься, ночей не спишь, а вы…
– Что мы?
– Жалованье да харчи переводите!
– Сии мысли у вас от общей невоспитанности, господин Ломоносов, извольте прекратить!
Разговор этот не забывался. И уже позднее оного жаловался он своему приятелю – одному из немногих в Академии – Степану Петровичу Крашенинникову:
– Конечно, всякая власть – от Бога. Существовать без нее никак нельзя. Но ведь она же не просто так дана нам! Иначе сказать: сие есть необходимое зло, признание которого и падение ей же дает возможность заниматься настоящим делом…
– А в чем же оно?
– Будто и сам не знаешь… Множество проявлений его суммировать можно кратко – служение Отчизне. Или не во имя этого ты по Камчатке на карачках ползал?
– Ну, ладно, ладно, не гневись попусту-то. Побереги гнев свой для других.
– Что ж, продолжу. Когда сие зло упорядочено и, стало быть, терпимо, с властью мирятся. Когда же оно чрезмерно, когда забывают стоящие над тобой, для чего они в общем-то назначены, и рвут все токмо под себя – тогда нельзя молчать и бездействовать.
– Да немцы сии все Академию обсели. Как мухи мед, право слово.
– Не в этом суть. Человека оценивать следует по служению делу его. И Рихман мне дороже любого русака – ленивого да бездельного. Он науке, сей немец, служит, а, стало быть – России. А среди русских есть такие, что жизнь свою мыслят – как бы век на печи пролежать, да за старину рассуждать!
– Таких во всяком народе хватает.
– А я ничего и не говорю. Вестимо – в любой семье не без урода.
– Вот-вот, Михайло Васильевич, а насчет дельных немцев я так тебе скажу: их у нас по пальцам пересчитать можно, большая же часть урвать поболее и побыстрее к нам слетелись.
– Это – иное. Таковых трутней гнать поганой метлой, потому – и своих с избытком хватает.
– Ох, с избытком. Один Теплов Григорий Николаевич чего стоит!
– Ну, ты его не трогай. Наш, русский он.
– Смотря что под сим понимать. Русские испокон веку трудниками были – иначе бы не выжить. А он все норовит палки в колеса вставлять, чтоб его неспособность научная да леность мысли не вопияли. Он у нас политик! Когда тут о деле думать!
– Быть сего не может!
– Может. Ты хоть на каком-никаком, а верху в наших чинах академических, а мне-то снизу лучше видно. Он себя еще покажет!
И действительно: Теплов со своего назначения в 1746 году асессором Академической канцелярии вместе с Шумахером, а затем с его зятем и преемником Таубертом немало сделали, дабы «приращения наук в России» было как можно меньше.
Ломоносов долго не желал смириться с сей мыслью: Теплов, природный русак и бывший наставник Кирилла Разумовского, понемногу становился ключевой фигурой в Академии, от помощи или противодействия которой зависело много. И Теплов оказывал. Противодействие. Противодействие всему: исследованиям в естественных и иных науках, созданию преемственной школы русской науки – гимназии и университету.
Ученый все же не терял надежду найти общий язык с дельцом – писал письма, вел разговоры, взывая к тщеславию, чести, долгу. Одно из общений расставило, наконец, все знаки препинания – от запятых и многоточий до восклицательных знаков. Начали вроде бы о нейтральном, понемногу разговор оживлялся – начали вспоминать старину, дела и события минувшие, и тут Ломоносов возьми и спроси:
– Григорий Николаевич, как лицо, вхожее наверх, скажи, а какова участь брауншвейгцев: Ивана-младенца, матери его, отца, сестер. Неужто и ты не знаешь? Ведь они сразу тогда как в воду канули!
– Не тем интересуешься и не по чину выспрашиваешь, но отвечу: велика Сибирь!
– Но ведь это жестоко! Ладно регентшу с мужем-соправителем, но детей-то!
– Жестоко? Тут суть политика, а в ней добро и зло – понятия неприемлемые. Польза и выгода – вот ее краеугольные камни: если полезно – значит, сие действие суть добро, ежели нет – зло.
– Безнравственно.
– Опять ты заповедь Христову во главу угла тянешь! А разум тебе на что даден? Тот же ученый! Для тебя же должен быть наиглавнейшим разум! Или ты только в своих ученых бдениях им пользуешься, а в жизни нашей многогрешной предпочитаешь обходиться без вмешательства сей хрупкой субстанции?
– Ирония ваша, господин Теплов, в данном случае неуместна.
Разум без добродетельных чувств слеп, и даже не только слеп, а и – опасен. Только одухотворенный добром, красотой, каждой истины в силах преодолеть он все преграды и открыть человеку то, к чему тот стремится. Ежели же он, разум, будет одинок в этой своей деятельности – то наградой за все его искания будет лишь мертвящая схема достижения шкурного благополучия и догма, призванная и, действительно, могущая объяснить и оправдать что угодно.
– Вы ошибаетесь, господин Ломоносов. В данном случае софистикой и радением догматов занимаетесь вы. Что ж, отбросим единый разум, который – по моему глубокому убеждению – единый руководит нами. Поговорим о столь любезном для вас разуме пополам с добром. Итак, что есть добро?
– Добро всегда едино суть.
– То, что хорошо всем…
– Положим.
– Даже не всем, а многим, так вернее. А разве плохо сейчас народу при матушке нашей императрице? Или вы, требуя словами своими, отпустить Ивана Антоновича, хотите новых смут, заговоров, крови и смертей?
– Ну, что ж, мы здесь одни: иначе бы я подумал, что ваша цель – передать меня в руки палачу. Отвечу вам: вы говорите так, как будто народ – творец и участник всех этих смут и заговоров. Вы вытаскиваете ваши доводы из замшелой шкатулки предшествующих столетий. Сейчас не времена первых Романовых, не времена Минина и Пожарского. И там, действительно, стоял вопрос о судьбе России – вот откуда смута, вся кровь и все смерти. И тогда, действительно, народ сказал свое слово – ополчение, освобождавшее Москву, было народом. А сейчас… Говорить о всеобщем кровавом поносе для страны лишь потому, что выпустят свергнутого мальчика-императора? Извините, сие смешно. Напрягите столь любезный вам разум: Анну Иоанновну пригласила кучка верховников, Бирона свергало несколько десятков преображенцев-дворян, Миниха просто оттолкнули как лакея. За императрицей Елизаветой опять-таки триста преображенцев… Вы не пробовали купаться в море в сильную волну?
– Нет…
– Я просто к тому, что на поверхности – волны, ветер, а внизу – обычная тишина. И привычное спокойствие. Так и здесь. Народу все равно. Конечно, хорошо, когда снимают 17 копеек подушного налога, но когда люди знают, что любой, кому приглянется твое имущество – и твой барин, и любое начальство, – в силах и праве его отнять, радости мало.
– Тут я с вами, Михайло Васильевич, полностью согласен. Жалкие подачки Бирона были не нужны российскому люду! Мы, как патриоты, понимаем это – ведь не в деньгах же счастье!
– Не ловите так мелко, господин Теплов. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Да и потом, что же вы эдак уничижительно о деньгах-то? Ведь польза же какая, выгода их иметь! Ну, а коли вы патриот, то должны согласиться, что остальные не дали даже этого.
– Так, так! Это что же, вам не по нраву нынешнее правление? Вы что же – не испытываете священного трепета и священной и чистой любви к ее императорскому величеству?
– А, теперь вы заговорили о любви! А где же ваш разум и лишь разум? Разумеется – испытываю! Об этом-то, собственно, я и толкую вам все это время, что разум должен осеняться любовью. Мы любим нашу государыню, любим бескорыстно и приемлем ее сердцем и умом. И поэтому нам не нужны никакие браунгшвейцы! А вот вы, столь страстный поклонник разума… Значит, вы рассудили, что выгоднее – и поэтому против Ивана Антоновича и за Елизавету Петровну? Сие весьма предосудительно, сударь, если не сказать более…
– Не передергивайте, господин Ломоносов. Я всем сердцем…
– Так что, признаете тогда, что наряду с разумом человек должен иметь и чувства, кои должны быть с разумом в гармонии?
– Это демагогия! Софистика.
– Вы занимаетесь сей демагогией весь разговор. Почему же вы не желаете кушать сами того, что для других готовите с охотой и в больших количествах, а потом столь усиленно навязываете? Или вы признаете право на отуманивание голов лишь за собой, поскольку вы сверху? Нет уж, сударь, коли начали играть в эти игры, то не грех бы запомнить накрепко: мне отмщение, и аз воздам. Аз воздам! Слышите? А теперь честь имею кланяться, господин патриот. И поскольку, я думаю, вы слабы в греческом, то я на прощанье позволю себе маленькое словоизыскание и – перевод. Патрио, господин Теплов, это – родина, а отнюдь не та персона, коя правит ею. Так что впредь более точно употребляйте незнакомые вам слова. Почему бы вам не взять на вооружение слово «клеврет»? Чудесное слово! Я дарю его вам. Равно остерегайтесь употреблять и различного рода теории – если не боитесь, что их могут обернуть против вас. Шапка, господин Теплов, должна быть по голове, равно как и голова по шапке! Не считайте себя на будущее единственным умным человеком. Сие далеко не так. Жизнь вам еще докажет данное не раз. Нам больше не о чем с вами говорить. И помощи больше у вас я просить не буду. Я живу для России, и укусы ее недоброхотов, в какие бы яркие одежды они ни рядились и какие бы красивые и правильные словеса ни произносили при этом, меня не испугают. Я знаю свой путь и знаю его конец. Он, возможно, будет ранним, но я сделаю все, что смогу. А это для каждого уже немало. Прощайте!
Болело сердце. И опять вспоминались разговоры с Крашенинниковым, как бились они над вопросом о добре и зле, и как вспомнилось ему старинное – вербовка, а вернее, похищение в прусский великанский полк.
– Вот он, пример-то зла истинного, всамделишного, неприкрытого и гордого в своей силе единомнения и наплевательства на судьбы других…
– Ну, коли это за зло почитать, Михайло Васильевич, тогда для нашего-то природного и пальцев не хватит – только успевай загибать.
– Это точно. Поэтому и жизнь кладем, с ними борючись… Подо все копают, все размыть хотят. Видал, как море берег гложет? Поначалу тот не поддается, а потом, ежели не укрепить, то и рухнуть может.
– Да, что свои, что чужие – не знаешь кто и хуже!
– Хуже тот, кто активнее в злобе своей, алчности, желании властвовать над нами, как над тварями бессловесными. Все одно с одним связано. Замечал, как к истории нашей подбираются? Пока Байер с Миллером, а там и другие, я уверен, будут и не только иноземцы – и своих избыток будет! Недаром это, недаром! Ведают, что без корней человек – ничто, пыль на ветру, носимая по чужой воле. И ведь как пишут-то! Все, по-ихнему, способны державы свои создавать, лишь россы – нет! Чем же мы так пред Создателем-то провинились, за что такая духовная немощь наша? А все оттого, что чуют все эти иноземцы, с России сосущие, но обрусеть не хотящие да наши подголоски, что держава наша, ежели развернется, то весь мир изумлен застынет! Токмо из-под ига вылезли, всю Европу спася, и вот уже Русь – до окияна, в дверь Америки стучится! Петр Великий лишь верхушки жизни тронул – а уже Европе всей должно на Россию оглядываться при решении дел своих. Еще от крымцев отбиваемся, а султан уже начинает трепетать за Константинополь, враз прозвание его старое припомня. Поэтому и хотят нас обеспамятить, в покорстве воспитать, дабы сидели мы тихо все по щелям, кормили бы всех паразитов, сидящих у нас на шее, и их же бы и благодарили за науку и за то, что не забывают нас, бедных. Вот их мечта! Но этому не бывать! Покуда жив – не отступлюсь. Многим можно поступиться, но всего страшнее честь потерять, данную тебе предками для дел во благо своего народа и своей страны.
Под барабанную дробь, выбивающую генеральный марш, началось построение в ротные походные колонны. Раннее утро окутало землю белесым непроницаемым пологом влажного тумана, в который ныряли со своими командирами невыспавшиеся и оттого настроенные весьма мрачно солдаты.
Узкая дорога была со всех сторон окружена густым Норкинтенским лесом, получившим свое название от деревни, где и проходил ночлег русской армии.
В силу своей достаточно большой численности – до 55 тысяч человек – армия вместе с командующим фельдмаршалом графом Апраксиным уверенно смотрела на возможность предстоящих сражений с пруссаками. Уверенность эта опиралась и еще на одно немаловажное обстоятельство – пруссаки пока избегали столкновений с русской армией, позволяя ей беспрепятственно разгуливать по своим владениям.
Согласно решению Апраксина армия, снявшаяся с ночлега около четырех часов утра 19 августа 1757 года, осуществляла марш в общем направлении на Алленбург. Движение предполагалось осуществлять двумя колоннами: правой – в составе 1-й дивизии Фермора и части 3-й дивизии Броуна и левой, состоящей из 2-й дивизии Лопухина и части 3-й дивизии. Впереди – исходя из плана – предусматривалось следование авангарда Сибильского в составе 10 тысяч пехоты и конницы, усиленных бригадой артиллерии.
Плохо поставленная русская разведка так до самого боя и не узнала, что Левальд, еще к вечеру 17 августа расположивший свою армию южнее Норкинтенского леса, решил атаковать Апраксина по флангам: главный удар от д. Улербален через прогалину, ведущую к русскому лагерю, вспомогательный – по правому флангу русских вдоль дорог, ведущих к д. Норкитен с северо-запада и запада. На рассвете 19-го Левальд занял исходную позицию и внезапно на русские колонны авангарда и дивизии Лопухина, уже начавшие движение, обрушился жестокий артиллерийский огонь. Туман и наша разведка – вернее, ее практическое отсутствие – позволили пруссакам бить залпами с весьма выгодных позиций, почти вплотную.
Дивизии Фермора и Броуна также собирались в ближайшее время выступить, поэтому их обозы уже тронулись в путь. По диспозиции Апраксина предполагался общий марш через единственно возможный узкий прогал. И теперь обозы армии свалились к этому месту и создали толчею, пробку, сопровождающуюся массовыми истерическими ругательствами скучившихся людей. Залпы, начавшие доноситься все более и более близко, усугубили толчею, могущую легко перейти в панику. По ходу движения оказался и неизвестно откуда взявшийся ручей, своим присутствием накалявший обстановку.
Основной удар Левальд нанес по дивизии Лопухина. Массированный огонь артиллерии и густые порядки наступающей прусской армии вызвали поначалу замешательство:
– Сюда, сюда артиллерию!
– Сюда кавалерию!
– Пришлите как можно скорее кавалерию!
– К черту обоз!
– Назад, назад!
Паника, однако, фактически не начавшись, утихла. От злополучного ручья и многострадального обоза – через лес, топь и фуры начали пробиваться к опушке отдельные солдаты и небольшие отряды под командой наиболее инициативных начальников. Выбираясь на открытое пространство, они, не обращая внимания на канонаду, выстраивались в боевые порядки. Таким образом намерение Левальда уничтожить русскую армию, не дав ей построиться для боя и тем самым вызвать при своем наступлении панику, провалилось. Это было первым звоночком прусскому фельдмаршалу, имевшему в своем распоряжении всего 24 тысячи солдат и намеревавшегося с их помощью просто разогнать и затем добивать, гоня, этот русский сброд.
Но все же управление войсками было нарушено – впрочем, общего командования со стороны Апраксина трудно было и ожидать, – большая часть армии не была задействована в силу крайне неудачных маршевых маневров, поэтому вся тяжесть принятия оперативных решений выпала на долю генерал-аншефа Лопухина. Без тяжелой артиллерии – эти бригады находились при первой и третьей дивизиях, – но под кромсающим огнем вражеской, без возможности наиболее оптимального построения своих войск, но под давлением приближающихся правильных порядков Левельда, в численном меньшинстве, поскольку пруссаки ввели в дело всю свою армию, что не могли сделать русские – таково было положение командира второй дивизии, при котором он должен был сделать все, чтобы не допустить разгрома всей армии.
Только что вернувшийся от Апраксина, весьма путано наметившего общую диспозицию армии, и с первого взгляда понявший, что умом фельдмаршала здесь не прожить, Лопухин первым делом приказал себе не торопиться и внимательно осмотреть прусские позиции, потом перевел взгляд на свои.
– Иван Ефимович, – обратился он к своему заместителю генерал-поручику Зыбину, – прикажите прекратить огонь; подпустим неприятеля ближе. Все равно для пуль пока слишком далеко.
– Слушаюсь, ваше превосходительство!
– И распорядитесь насчет раненых. Пусть отнесут в тыл.
– Хорошо, Василий Абрамович. А много их у нас?
– Да, многовато. Вот она – дозорная конница! Это надо же суметь – целую армию не увидеть! А нам теперь за это кровью приходится расплачиваться.
– Нам не привыкать.
– Да, это мы умеем. Ну, что ж, сделаем все, что в наших силах.
И, повернувшись, пошел к переминающимся солдатским шеренгам. Переминались солдаты и от чужой артиллерии, и в ожидании неминуемого – рукопашного боя.
– Ребята, – звонко крикнул им Лопухин, – наше дело – не робеть. Пусть пруссак робеет!
И вместе с Зыбиным, также выхватившим шпагу и ставшим во главе уже почти прямых боевых линий, быстрым шагом, постепенно все ускоряя его и переходя на бег, направился в сторону прусской пехоты. Солдаты обогнали его, уже не слишком молодого человека, и ударили в штыки. Штык сошелся со штыком – прусская пехота, пережив русский залп, почти в упор, который был по ним произведен по приказу Лопухина перед самой контратакой, не потеряла наступательного задора и твердо надеялась сломить в открытом рукопашном поединке русских. И это им начало удаваться. Нарвский и второй гренадерский полки, понесшие значительные потери еще при прусском артобстреле, сейчас таяли прямо на глазах. А к наступающим пруссакам линия за линией подходили подкрепления, наплывая на захлебывающихся под их множеством русских. Продолжала фатально сказываться и невозможность отвечать залпами артиллерии на залпы, а пруссаки продолжали косить выходящие из леса на подкрепление русские отряды огнем пушек.
Лопухин принял первый штык на основание шпаги, и когда он скользнул к эфесу, ударил неприятельского солдата рукоятью пистолета, зажатого в левой руке, в основание переносицы. Тот сразу закатил глаза и беззвучным мешком осел на землю.
Перепрыгнув через него, генерал поспешил на помощь к своему любимцу – поручику Попову, отбивавшемуся уже не шпагой, валявшейся сломанной пополам в нескольких шагах от него, с наскоро подобранным ружьем. Хороший фехтовальщик Дмитрий Попов отбил выпад одного из нападавших, тут же прыгнул в сторону второго и заколол его, успев ударом ноги опрокинуть третьего. Но еще несколько оставшихся упорно старались взять Попова в кольцо. Русских пехотинцев рядом оказалось всего несколько человек – остальные в горячке боя проскочили дальше и немного в сторону, кто-то уже полег на поле брани – так что в данный момент под началом генерала Лопухина оказалось меньше солдат, чем положено табельному капралу. Пруссаки, увидев подбегавшего к ним русского генерала, несмотря на отчаянные крики кучки набегавшей русской пехоты и на опасность оставления в своем тылу Попова, несколько из них развернулось и дали залп по Лопухину. Тот почувствовал внезапный толчок и инстинктивно схватился за сразу ставший липким левый бок. Пистолет выпал у него из руки, он пошатнулся и был подхвачен успевшим подбежать к нему офицером. Теперь группа русских потеряла свободу маневра – она окружила раненого генерала и начала пятиться к своим тылам, сдерживая сразу после этого удвоившуюся ярость пруссаков. Кроме непрекращающихся штыковых наскоков противник начал и лихорадочно обстреливать маленькое каре русских. Один за другим падали, успевая пронести раненого генерала буквально несколько шагов. Последним упал получивший сразу несколько штыковых ран Попов. Подбежавшие к Лопухину прусские пехотинцы, увидев, что он лежит недвижим, не растратив наступательного запала, устремились дальше. К этому времени уже все поле было за пруссаками. Они глубоко охватили правый фланг дивизии Лопухина, смяли его и оттесняли дивизию к лесу, грозя зайти ей в тыл.
Генерал-поручик Зыбин был убит еще в самом начале рукопашного боя. Заступивший на его место бригадир Племянников приказал полкам, – а вернее, тому, что от них осталось, – отступать на первоначальные позиции на опушке леса. В это время раздались крики – сразу с нескольких сторон:
– Братцы! Ребята, смотри! Жив наш генерал-то! И правда, живой!
Лопухин, откатившийся на поле боя и бывший до этого без сознания от еще нескольких огнестрельных ранений и беспрерывной тряски, сейчас пришел к себя и как-то неумело старался привстать. Заметив это его движение, к нему бросились несколько пруссаков.
– А-а-а! – раздалось со стороны русской позиции. – Не отдадим! Ребята, что же мы?
Племянников приказал контратаку и первым с криком «Вперед!» побежал по только что оставленному русскими полю, обильно политому их и вражеской кровью. Единый порыв вмиг подхватил солдат второй дивизии; он был так силен, что не ожидавшие его неприятельские солдаты даже начали было понемногу очищать с таким трудом завоеванное ими пространство, но бригадир, твердо решивший не увлекаться и понимавший, что опомнившиеся пруссаки именно здесь в состоянии уничтожить его потрепанные порядки, сразу после того, как Лопухина отбили, распорядился об общем отступлении к лесу.
Там уже были установлены полковые батареи, заблудившиеся поначалу неведомо где и наконец благополучно отыскавшиеся, так что Племянников на вопрос раненого генерала, заданный тихим прерывающимся голосом: «Ну как?», имел полное основание ответить:
– Еще подержимся, ваше превосходительство. Хоть и жмет пруссак.
– Главное – не допустить паники, Петр Григорьевич. Если нас опрокинут, Левельд пройдется железной метлой по всему пути до нашего ночлега, и армия перестанет существовать. Так что держитесь. Помощь должна быть!
– Слушаюсь, Василий Абрамович! Будем держаться.
Он распрямился от лежавшего на разостланных плащах Лопухина и только собрался тихо от него отойти, как насторожился и стал пристально вглядываться вдаль – в тылы пруссакам. Там начинался шум, свидетельствующий всегда о бое. Но кто сейчас ввязывается там в бой? Насколько знал Племянников, русских сил там было не много.
Но это были именно русские и именно силы. В тыл прусской пехоте, все более и более окружавшей дивизию Лопухина ружейным и артогнем, уже и со стороны леса, внезапно вышли четыре свежих русских полка: Воронежский, Новгородский и Троицкий пехотные и Сводный гренадерский. Это были полки бригады генерал-майора Румянцева.
С начала боя его бригада располагалась на месте ранним утром завершившегося ночлега на северной опушке леса. Бригада числилась в резерве и никаких приказаний о дальнейших действиях не получала. Начавшийся внезапно бой, внесший сумятицу в действия высшего командования и полностью расстроивший управление армией, позволил командирам Румянцева о его бригаде, по-видимому, забыть.
Командир бригады по собственным разумению и инициативе построил свою бригаду в каре – на случай отражения кавалерийских атак пруссаков и организовал разведку – через лес, к месту боя – с требованием подробно извещать обо всем там происходящем. Через некоторое время поручик, возглавлявший разведывательную группу, докладывал:
– Ваше превосходительство, неприятель атакует нашу армию. Основной удар – по центру, по дивизии генерал-аншефа Лопухина. Правый фланг – там недалеко какой-то фольверк – держится.
– А, фольверк Вейнотен!
– На левом фланге кавалерия пруссаков, ваше превосходительство, заманена под огонь артиллерии и пехоты авангарда на высотах западнее Зитерфельде.
– Хорошо, хорошо, что со второй дивизией, поручик?
– Главная атака ведется против ее правого фланга.
Положение опасное: большие потери, артиллерии я не видел, прусская пехота отжимает их от леса и окружает…
– Окружает или окружила?
– Окружает, ваше превосходительство. Дивизия держится стойко, но потери и отсутствие артиллерии…
– Достаточно, поручик, я сам знаю достоинства дивизии.
Скажите лучше, как лес, через который вы сейчас изволили прогуляться туда и обратно? Его ширина, проходимость?
– Около полверсты, ваше превосходительство. Лес болотистый, но пройти можно.
– Спасибо, поручик. Свободны.
Проводив глазами отошедшего офицера, Румянцев задумался.
Потом резко тряхнул головой и направился к каре. При его приближении тихий шепот, стоявший в шеренгах, сразу замолк.
– Солдаты! – поднявшись на повозку, начал командир бригады. – Вы слышите, – он махнул рукой за лес, – там идет бой. Наши братья сражаются там. Им трудно, и долг наш – прийти к ним на помощь. И мы пойдем к ним на помощь, пойдем сквозь этот лес. Пойдем быстро – от этого зависит жизнь наших товарищей там. Поэтому обозы, артиллерию, патронные повозки, мешки, шанцы – все оставить здесь. Только ружья! Только штыки. Без дела не стрелять – а залпом, по моей команде. И молча. «Ура» крикнем, когда победим! Идти полковыми колоннами. Все!
Полки шли через лес, проваливались в глубокие выбоины, наполненные застоявшейся водой, и мелкие болотца, цепляясь за острые сучья и проваливаясь в лиственную и хвойную труху, сплошным темно-рыжим ковром покрывавшую землю. Шли, по пути присоединяя многочисленные разрозненные группы солдат, отброшенных превосходящими силами противника в лес, но бывшими не прочь еще раз попытать военного счастья в открытой сшибке с врагом.
То, что Румянцев сейчас делал, было вопиющим нарушением основополагающих принципов линейной тактики, господствовавшей в военных доктринах этого периода, кроме того – формальным нарушением всех принципов субординации и дисциплины, так как никакого приказа он не получал, что могло иметь для молодого генерала далеко идущие последствия – особенно в случае поражения. А кто в бою возьмет на себя смелость гарантировать победу?
Румянцев шел на все эти нарушения сознательно. Пренебрежительно относясь к закостеневшим доктринам западноевропейских стратегов, он давно пришел к выводу, что только отказ от них может стать залогом победы. Но кто-то должен быть первым на этом пути противодействия рутине и косности. Сегодня, спеша во главе своих полков на помощь товарищам, генерал Румянцев поставил на карту все…
Солдаты бригады Румянцева вместе с присоединившимися к ним! сразу, внезапно, вдруг во множестве появились на опушке. Румянцев быстро осмотрел поле сражения. Появление русских, оценил он, именно сейчас и именно здесь было чрезвычайно удачным: пруссаки повернули свои боевые порядки против фланга дивизии Лопухина, и тем самым подставляли под удар Румянцева свой фланг и тыл. Командир бригады не замедлил воспользоваться этим. Увидев, что его окружает уже значительное количество солдат, он отрывисто скомандовал:
– Огонь!
И сразу же:
– Вперед!
Бригада стремительным рывком сошлась с первой линией прусской пехоты. Минутный лязг штыков, крики раненых, умирающих и трусов, заглушаемые многоголосым «ура!», казалось, рвущим барабанные перепонки, и пруссаки обращены в бегство. Убегающего бить легко – главное догнать. А русские, еще не выдохшиеся в бою и чувствующие уже пряный вкус победы, догоняют. Первая линия редеет, тает, истончается. В этом ей помогает вторая линия пруссаков, принявшая своих товарищей по оружию за наступающих русских. Наконец, все же поняв свою ошибку, вторая линия пытается дать отпор подбегающим пехотинцам Румянцева, но их сначала частично сминают свои отступающие, а затем, возбужденные победой, на них наваливаются русские. Все сопротивление сметено! Прусские батареи захвачены, прусская пехота и артиллерия начинают сдаваться в плен.
Русские дошли с боем почти до противоположного леса и неожиданно встречают там Племянникова с его солдатами, который, увидев наступление Румянцева, повел в атаку и свою пехоту. Поблагодарив Румянцева за своевременную помощь, он поведал ему о потерях дивизии. Поведал кратко, устав от боя, ослабев от раны в голову. Да и что было много говорить? Лучше всех слов говорило за себя поле боя, почти сплошь усеянное убитыми и ранеными.
– Пойдемте, Петр Александрович, – морщась, сказал Племянников, – покажитесь Василию Абрамовичу. Он сразу понял, что это вы со своей бригадой.
– Как он?
– Вельми плохо. Так что поторопимся.
Лопухин умирал. Дышал он с хрипом, грудь его судорожно вздымалась, но воздуха генералу все же не хватало. Увидев подошедших к нему генералов, он спросил их взглядом: «Что?»
– Победа, Василий Абрамович, – радостно произнес Племянников, подталкивая Румянцева поближе к раненому, – узнаете виновника виктории?
– Спасибо вам, генерал, – тихо произнес Лопухин. – Русская честь спасена. Теперь умираю спокойно, отдав мой долг государыне и Отечеству…
Генералы склонили головы над умершим. Их шляпы были потеряны в бою – им нечего было снять из уважения к герою, погибшему на поле брани, и лишь ветер развевал их волосы, присыпанные пылью, измазанные пороховой гарью и смоченные кровью.
Помолчали. Потом Румянцев повернулся к Племянникову:
– Вот и все. И еще одного солдата мы оставили на поле.
Кстати, эта деревушка там, в конце поля, Гросс-Егерсдорф?
– Она самая, Петр Александрович.
– Запомним.
– Да и королю Прусскому отныне ее не забыть. И детям своим передаст, что есть такая деревня в Пруссии – Гросс-Егерсдорф!
…Русская армия отступала. Это была та самая армия, что лишь малое время назад доказала всем и самой себе, что есть она на самом деле. Теперь же она пятилась к Курляндии.
После Гросс-Егерсдорфа русские несколько дней держали победное поле битвы за собой, потом неторопко пошли вперед, но, пройдя лишь самую малость, затоптались на месте и, подумав – не понять, хорошо ли думали, плохо ли, да и чем делали сие – крепко, начали отход в сторону своих баз, на восток, в Курляндию.
Двигались в тяжелейших условиях: наступавшая распутица делала дороги почти непроходимыми, а те, по которым и можно было двигаться, могли принять лишь немногих – и если первым еще было терпимо, то концы колонн почти плыли по жидкой грязи. Не хватало продовольствия, армейские лошади, привыкшие к овсу, по недостатку оного перейдя лишь на подножный корм, быстро теряли силы. Черные гусары пруссаков донимали своими уколочными молниеносными налетами. Армия таяла – отход более любого сражения отнимал солдатских жизней.
Труднее всего было раненым, повозки, с которыми помещены были в хвосте. После каждого привала тихо угасших в скорбном молчании спешно зарывали при дороге. Это становилось привычным. И это пугало…
О них вспоминали редко. Еще реже кто-либо из генералов подъезжал к ним. Румянцев был одним из немногих. Как-то раз, подбежав к фурам, он встретил там и Племянникова, беседовавшего с перевязанным офицером, лежащим на одной из передних повозок.
– Вот, Петр Александрович, – поспешно, даже с каким-то облегчением, – Племянников представил раненого Румянцеву, – рекомендую: герой Гросс-Егерсдорфа – поручик Попов.
– Право, господин генерал, – замялся поручик, и Племянников наблюдал сие с удовольствием, – вся армия знает истинного героя Баталии. – Офицер выразительно посмотрел на Румянцева. Все почувствовали налет неловкости, такой же, как всегда хорошего человека принуждают лицемерить жизненные обстоятельства. Он это делает, но так неловко, что даже окружающим за него неловко, а не видеть нельзя – слишком бросается в глаза.
– Ну, что же, господа, – неуклюже-бодро после непродолжительного молчания, – я вынужден буду вас покинуть, что я, собственно, и собираюсь сделать до приезда господина Румянцева, а вам, Петр Александрович, – обратился он к подъезжающему генералу, – все же еще раз позволю себе рекомендовать нашего героя. Кроме сугубой смелости в баталиях, он так же смел и в мыслях своих.
Бригадир тут же после этих слов хлестнул лошадь и с поклоном исчез: Румянцев задумчиво покусал губы, провожая его взглядом, и повернулся к повозке с раненым, пристально всматривающимся в него.
– Господин поручик, господин бригадир как-то не очень ясно очертил, как вы слышали, тот круг вопросов, что вы изволили с ним обсуждать и что заставил его столь поспешно ретироваться.
– Ваше превосходительство, господин бригадир изволил говорить со мной о русской армии, о некоторых баталиях, в коих она участвовала. Но мы сошлись с ним не во всех оценках…
– В каких же, если, конечно, это не тайна.
– Никакой тайны, ваше превосходительство. Вы в армии имеете на это право в первую очередь.
– Это почему же?
– Как победитель Левальда…
– Прусского фельдмаршала разбила армия, предводительствуемая фельдмаршалом Апраксиным, молодой человек.
– Коий ею в бою не управлял…
– Попрошу вас…
– Слушаюсь. Впрочем, это не суть. Я лишь хотел сказать, что почту за счастье услышать ваше мнение, – мнение человека, делом доказывающего, что он имеет на него право, что оно истинно его, а не заемное, – о некоторых положениях нашего разговора с господином бригадиром.
– Слушаю вас.
– Итак, мы говорили с ним о различных баталиях, проходивших с участием русской армии; и мы совершенно не могли прийти с ним к согласию в оценке значимости этих побед…
– Вы отрицали их значение? Или приумаляли?
– Ни в малейшей степени. Просто господин бригадир расценивал их как суть свидетельство нашей русской силы, я же находил в них проявление нашей слабости.
– Казуистический вывод, достойный древних софистов, – спокойно-добродушно усмехнулся Румянцев, глядя на разгоряченного своими словами поручика как на расшалившегося ребенка. – И на чем же вы основываете свое столь неординарное умозаключение? Ведь для подобного вывода, как вы сами понимаете, одного посыла недостаточно. Тут должно иметь стройную систему взглядов, из коих и проистекает подобный тезис…
– Да, разумеется, я все понимаю. Даже то, что мои слова вы не воспринимаете всерьез. Господин бригадир вел себя так же. А потом, как вы заметили, отъехал весьма поспешно.
– И каким же доводом, – насмешливо бросил генерал, – вы обратили его в столь бесславную ретираду?
– Я лишь сказал ему, что наши солдаты воюют почти без воинского умения.
– То есть как это, господин поручик, а кто же тогда побеждает, как не русские солдаты? Вот хотя бы у Гросс-Егерсдорфа?
– Ваше сиятельство, вы не изволили дослушать. Я разумел под умением воинским всю совокупность ремесленных навыков войны, без коих он всегда будет суть существо страдательное. Русские же солдаты пока воюют и побеждают – пока – благодаря лишь смелости и цепкости природным, кои были воспитаны в нас предшествующими веками.
– Значит, надо, по-вашему, готовить из русских солдат куклы военные?
– Нет, не надо. Как и не надо мысль мою поворачивать лишь одной стороной. Вот листок, – он взял оказавшийся на повозке кленовый лист, – с одной стороны – темнее, с другой – светлее. Так и мои слова. Если к смелости и разумной осмотрительности нашего солдата добавить еще и прочное владение им воинской наукой – его никто не победит. А пока он воюет и добивается побед слишком большими жертвами, слишком большой кровью.
– Разумно.
– Как разумно и то, что кровь эта льется не токмо из-за солдатской неумелости, но и – даже больше – из-за неумелости их командиров. Наши генералы – я не вас, разумеется, ваше превосходительство имею в виду…
– Да уж, конечно…
– Наши генералы либо вообще ничего не знают из военной теории и норовят переть – как древние рыцари – грудь в грудь, силой силу ломать, либо затвердив два-три образца из прошлых времен, все хотят их в своих войнах применить…
– Сие справедливо.
– А ведь полководец-то должен быть ярым мыслителем. Ведь на войне все может смениться за миг, и сие должно уловить и использовать к своей выгоде. Знание, разум, острое чувствование – вот что такое водитель полков. А у нас? Вот вы, ваше сиятельство, ведь у Егерсдорфа поступили так – и победа. А ведь правила-то нарушили!
– Нарушил. Но ведь, поручик, сии правила европейские. Как же без них-то?
– А вот так, как вы делали. Я ведь не зову все иноземное копировать. Я хочу, чтобы свою силу сохранив, мы все доброе и за морями взяли – ведь целые фолианты в Европе написаны о полководцах – вот бы изучить. Изучить, но не заучить, знать, но не слепо копировать. А все их правила, как солдат собственных давить – нам без надобности. У них свое, у нас свое. И если мы начнем у них брать что ни попадя, то мы возьмем себе и их поражения.
– Значит, брать не будем?
– Плохого не будем. А хорошее пока не умеем. Или не хотим. Наши генералы еще пока слабы: ничего не знают, да и солдатам не верят. У Фридриха же его военачальники как волки натасканы – они еще накажут нас.
– За что такая пагуба ждет нас?
– А за то, что если из своих поражений мы еще умеем извлекать уроки, то из побед – никогда.
– Хорошо и сильно сказано. Но подмечая в своем народе столько дурного, не грозим ли мы ему и себе вместе с ним жалким прозябанием?
– Я хулю лишь то, что должно. И не нахожу в этом приятности. Достойное же хвалю. Невозможно излечение больного без определения его болезни.
– А не спустит больной руки, вызнав все? Не лучше ли приоткрыть ему истину не целиком, а частично?
– Ложь во спасение? Она хороша, как вы мудро подметили, для больных. Народ же наш, пока он есть, в основе своей здоров. И для него необходимо знать правду. Иначе, не вызнав ее, он будет все глубже и глубже низвергаться. Но все же вы правы – должно соблюдать золотую середину. Жизнь многолика, и всегда можно набрать из нее кучу грязи или кучу одних лепестков. Знать суть – вот задача.
– Господин поручик, вот вы изволили сказать сейчас, что народ наш здоров? А что есть нездоровье народа? Где сие? И в чем здоровье нашего?
– Ваше сиятельство, античная история учит нас, что жизнеспособны суть те народы, кои имеют сильных землепашцев…
– А наши сильны?
– Да.
– А в чем же сие проявляется?
– В их твердости следованиям заветам предков, завещавших им жить на земле…
– Сие не их заслуга – такова воля их господ. И к тому же, господин поручик, как вы знаете: если ранее землепашца нельзя было продавать отдельно от его нивы, то теперь сему закон не препятствует… Так в чем же сила? Иные страны же давно отменили у своих селян крепь – стало быть, по-вашему, они сильнее нас?
– В чем-то – да. Но там государь и его приближенные имеют дело с каждым селянином, стоящим одиноко, у нас же между ними стоит община. Она предохраняет деревенского трудника от разных невзгод, ниспосланных на него богом и злыми господами. Мир делит зло и добро на всех, давая тем самым возможность жить и дышать.
– Стало быть, наша сила в общине, а слабость иных – в ее отсутствии.
– Или слабости.
– Хорошо. Или слабости. А в чем тогда болезни? Или слабость и есть болезнь? И тогда нам одним жить, а все иные – уже обречены?
– Слабость не есть болезнь. Но уже как бы ее преддверие. Когда во главу угла ставится польза не мира, а своя…
– Стало быть, и вы, и я больны, ибо не в общине?
– Для нас вся держава – община.
– А для иных нет? Для французов, например. Для тех же испанцев? А если нет, тогда что же такое Реконкиста?
– Ваше превосходительство, я знаю, что значит Реконкиста. Десятилетия внешней опасности сплотили народ испанский. За нами же – века и века сей угрозы. Насколько же мы крепче… Иные народы те же века живут как бы и спокойно. Хотя и воюют, но не ощущая при этом за своей спиной ужаса исчезновения. Страх же контрибуций – не страх.
– Значит, наша сила в предшествующих несчастьях… И стоит нам зажить без войн, как мы себя потеряем, ибо, как мы уже выяснили, только что, одной общины при нашей сегодняшней жизни маловато… Ведь селянин наш не греческий да римский там гражданин, даже не новгородец наш старинный, а раб, колон, холоп. А какая сила с раба? Вот и остается война…
– Не все наши крестьяне рабы. И мир деревенский живет… И память народная о великом и злом жива…
– Верю тебе, верю, не сердись, поручик. Просто мне, как, вижу, и тебе, хочется понять кто мы, откуда и куда идем – вот и пристаю я к тебе с вопросами. Другой бы меня спросил – я бы отвечал бы как ты вот сейчас. А уж коли довелось мне побывать в облике спрашивающего – удержаться не мог.
– Так, стало быть, вы со мной согласны?
– Согласен, согласен. Но в чем? Что мы лучше других? Но вот ты же не смог мне доказать сего. Ведь я не услышал же на свои вопросы таких ответов, после которых спрашивать уже нечего. Ведь так?
– Да, но…
– Вот видишь. Мы не лучше и не хуже. Просто мы – немного иные. Как и все прочие. Не надо сим ни гордиться, ни ужасаться. А просто понять и принять. И жить, исходя из сего постулата. Зная сильные и слабые свои стороны, можно усилить первые и попытаться избавиться от вторых. Понимать свое место в череде иных народов и жить, исходя из этого. Ты все, Дмитрий, говорил верно о том, кто мы, но, может быть, просто, переводя свою душу в слова, что-то теряешь неуловимое. Сие невозможно объяснить – с сим можно токмо родиться. А уж коли родились, то и жить должно так, чтобы не стыдно было признаваться в том, кто ты.
– Истинно так.
– Вот и хорошо, что согласен. Верю, что еще не раз наши дороги пересекутся. Выздоравливай давай, – мы еще пригодимся!
И Румянцев, хлестнув коня, погнал его в голову колонны. Попов же, проводив его взглядом, улегся на спину и долго смотрел в небо.
Глава III. Поля Пруссии, или Становление полководца
Военная кампания 1758 года совершалась русской армией уже без фельдмаршала Апраксина, отстраненного от командования. Опального полководца вызвали в Россию и взяли под стражу. Там, в заточении, он и умер от апоплексического удара на одном из первых допросов.
Столь немилостиво судьба обошлась с недавним победителем Гросс-Егерсдорфским все из-за его очень уж поспешного отступления с места баталии, вызвавшего подозрение в Петербурге, ибо циркулировали слухи, что сие столь не характерное для медлительного по натуре фельдмаршала лихорадочно-быстрое движение не токмо акция военная. Но и сугубо политическая. Поскольку в это время, именно в это, императрицын двор пребывал в неустойчивой лихорадке ожидания – Елизавета всерьез занемогла, надежд на выздоровление было мало, стало быть, вставал вопрос о преемнике. Или преемнице – канцлер Бестужев-Рюмин, ненавидя официального наследника трона – великого князя Петра Федоровича, намеревался способствовать воцарению супруги Петра – Екатерины.
Канцлер отписал о сей болезни фельдмаршалу. После чего началось движение русской армии к своим границам, возможно, для того, чтобы в нужный момент бросить тяжесть ее штыков на неустойчивую чашу весов выбора преемника умирающей ныне императрицы – Петр или Екатерина. Но Елизавета выздоровела. Канцлер за пессимистические намеки в переписке был приговорен к смертной казни, правда, замененной ему ссылкой с лишением чинов и орденов. Конец Апраксина известен.
На следствии ему инкриминировали поспешность и необъяснимость отступления. Его объяснения – провианта, мол, не было, – вызывали вроде бы резонный вопрос:
– Почему отступал к границе, а не повел войско к Кенигсбергу?
– Так ведь там пруссаки! – наивно-испуганно оправдывался Апраксин.
– А ты на что, фельдмаршал хренов? Тебе на что войско было дадено: противника бить, города брать или людей в нем морить? – грозно вопрошал допрашивающий подозреваемого член Конференции Александр Иванович Шувалов.
– Так ведь осада дело долгое – провианта же нету!
Эта сказка про белого бычка, как ей и положено, шла по кругу. Вслух не произносилось главное – думал или не думал полководец подправить штыками престол. Но в воздухе это главное постоянно витало. Как-то не учитывалось – наверное, со страху перед положительным ответом, ведь, как известно, лиха беда начало – что решение об отступлении принимал не Апраксин единолично, а военный совет, собиравшийся трижды. Среди же членов его лишь незначительная часть могла чувствовать себя приобщенной к большой политике двора. Да и фельдмаршал был не из тех людей, что потрясают вселенные. И войны были редки, малорезультативны – у солдат не успевал воспитаться культ полководца, зато все прекрасно помнили о царях, водивших самолично армии, так что незачем было Апраксину идти в Петербург. Из всех русских полководцев подобное могли бы сделать лишь через годы и годы – находясь в зените своей славы – лишь Румянцев и Суворов. И, говорят, Екатерина II, умирая, оставила о сем предмете бумагу, собираясь, использовав авторитет этих людей, лишить трона своего сына Павла и отдать его внуку Александру. Но это когда будет!
Пока же, ныне – на допросах химерического преторианца – по-прежнему «да» и «нет» не говорили, правда, пригрозив молчальнику пыткой, чего он и не перенес. Дело – за отсутствием главного виновника – закрыли. А на его место – главнокомандующим – был назначен генерал-аншеф В.В. Фермор, англичанин по происхождению, бывший некогда начальником штаба у Миниха, а последнее время служивший главным директором императрициных построек.
Армия под его командованием по первому зимнему пути снова двинулась в Восточную Пруссию и в короткое время в январе 1758 года заняла ее, благо и Левальда там уже не было – его корпус был переброшен в Померанию против шведов. В этом походе Петр Румянцев командовал одной из двух наступающих колонн и занял Тильзит. Затем во главе своих частей он вместе с войсками генерала И. Салтыкова вступил в Кенигсберг и Эльбинг. Вступил уже генерал-поручиком – чин сей был пожалован ему на Рождество.
Из Кенигсберга вновь испеченный генерал-поручик был отправлен в Столбцы, что около Минска, – переформировывать кавалерию. Здесь учли его опыт 1756 года, когда он формировал новые гренадерские полки. Через три месяца Румянцев привел в Мариенвердер 18 эскадронов, оставив на месте кадры для дальнейшего пополнения. Это, вместе с переформированными им же кирасирами, дало до семи тысяч регулярной конницы. С частью ее он и маневрировал до последовавшей в августе осады Кюстрина.
Воистину царство слабого монарха отсчитывают по его фаворитам. Впрочем, как сильного – по его преступлениям.
Елизавету Петровну безо всяких споров отнесем к первым, и теперь, когда срок ее жизни и царствования истекал, это было видно рельефнее всего. Как было видно и то, что время Алексея Разумовского прошло – наступили времена иных людей.
Граф Алексей Григорьевич, бывая на охоте, часто становился весьма гневен – естественно, когда промахивался. И как лицо выдающееся – по высокопоставленности, а отнюдь не по решению дел государственных, которых он весьма не любил и в которые старался не вмешиваться – гневался, естественно, не на себя, а на всех тех, кто – в буквальном и переносном смыслах – попадал ему под руку. Тому доставалось тогда вельми, поскольку от предков-казаков графу Разумовскому рука досталась крепкая.
Жена Петра Ивановича Шувалова, тоже графа, Мавра Егоровна, одна из ближайших приближенных императрицы, всегда зажигала перед иконами свечи и служила молебен, если дело охотницкое, от которого граф Шувалов открещивался как только можно, но, как правило, безрезультатно, обходилось без бития палочного. Остальным иногда перепадало еще и больше, ибо Петр Иванович был фигурою весьма заметной, значение которой возрастало год от года до тех пор, пока стало почти невозможным такое положение дел, при котором графа могли бы побить палкой.
Казалось, сама судьба расчищала ему и его семейству место близ трона. Люди, возведшие Елизавету на престол, постепенно уходили в тень либо в небытие, вперед выходили льстецы… Один из основных действующих лиц воцарения – личный медик Герман Лесток, получивший от новой императрицы титул графа и право пускать императрицыну кровь по две тысячи рублей за один сеанс – был, наконец, полностью отблагодарен за свое усердие. Обвиненный в заговоре – согласно расшифрованным депешам прусского посланника, представленным недоброжелателями Лестока императрице, – он был арестован. Незадолго до этого, пытаясь как-то рассеять паутину подозрительности, он пришел во дворец. Навстречу ему попалась жена наследника престола Петра Федоровича (так окрестили герцога Голштинского в России) Екатерина Алексеевна, собравшаяся, как обычно, поболтать с интересным ей человеком.
– Не приближайтесь! Я весьма подозрительный человек!
– Вы шутите, право, граф?
– Нет, ваше высочество, к сожалению, мне не до шуток.
Повторяю вам вполне серьезно – не приближайтесь, потому что я – подозрительный человек.
Екатерина Алексеевна недоуменно пожала плечами, милостиво кивнув невесть что городящему графу, и удалилась, не поверив ни единому слову. Все знали роль и влияние Лестока. Она вспомнила эти его слова только после ареста графа.
О его мужестве в великосветских салонах потом еще долго шептались. Говорить о таких вещах было дурным тоном, да и опасно. В этом случае мода подчинялась здравому смыслу. Лесток на протяжении нескольких дней отказывался от всякой пищи и отказался ответить на все вопросы. По приказу Елизаветы его пытали, но он, стиснув зубы, вытерпел все. Жена убеждала его признаться, обещая помилование. Но он, показав свои изуродованные руки, сказал:
– У меня с императрицей ничего нет общего. Она отдала меня палачу…
После этого звезда Шувалова начала быстро всходить.
Используя поначалу лишь фавор жены, он делал состояние. Позднее к поддержке Мавры Егоровны присоединилось и благоволение Елизаветы к двоюродному брату Петра Ивановича Ивану Ивановичу Шувалову, не графу.
А ведь был и еще Шувалов – старший брат Петра – Александр, один из активнейших участников переворота, подарившего Елизавете престол; долгие годы возглавлявший политичский сыск. Именно во многом благодаря брату, не особенно принимавшему участие в политически-куртуазных комбинациях, а просто находившемуся в должности наиглавнейшего столпа режима, Петр, стоявший на запятках кареты будущей императрицы, когда та ехала свергать Анну Леопольдовну, получает вместе с Александром чин подпоручика Лейб-кампании. Той кампании, что создала новую владычицу России, в которой Елизавета состоит капитаном, а Алексей Разумовский – поручиком.
Кстати, о поручике. Если поискать, то у каждого – или почти у каждого – найдутся заслуги перед историей. Так и Разумовский. Своим положением особо не злоупотреблял. Что само по себе уже немаловажно. Покровительствовал традиционной религии, цементирующей государство, которая находилась в некотором порушении после долгих лет владычества Бирона, отличавшегося добродушием ко всем верам, за исключением православия. И наконец, Алексей Разумовский всегда поддерживал великого канцлера, Бестужева-Рюмина.
Разное говорят про канцлера. Что был корыстолюбив – по-видимому. Что ради этой слабости торговал государственными интересами. Но ведь понятие сие предполагает не только взятие мзды, но и деяние, противное интересам государства. Канцлер же совершал лишь первое, свято придерживаясь во втором лишь собственного усмотрения. И все признают – и редкие друзья, и гораздо более многочисленные недоброжелатели – что заменить его, по сути, было некем. Это доказало его падение и замена Бестужева Михаилом Воронцовым, начинавшим рядом с Петром Шуваловым – с запяток елизаветинской кареты.
Братья графы Шуваловы – Петр и Александр – также оставили следы. Александр понятно какой: во все времена у человека, заведующего контролем за мыслями, словами и деяниями своих соплеменников и сограждан, он приблизительно одинаков. Разница – в эпохе и темпераменте. Нет, речь о Петре. Фаворит императрицы и муж ее интимной подруги, он начинает пробовать себя поначалу во внутренних сферах государева управления. В частности, уничтожил внутренние таможенные границы – «дела давно минувших дней, преданье старины глубокой», как-то уцелевшие со времен удельных княжеств. Потом занялся артиллерией – и изобрел шуваловскую гаубицу, действовавшую на полях Семилетней войны. Но ведь и казнокрадствовал! И тут даже не скажешь: как все, так, мол, и он. Нет, он совершал сие гораздо лучше других. Да что других – почти лучше всех! Недаром Петр Иванович Шувалов считался некоторое время одним из богатейших людей России. Начинали же братья, тогда еще, естественно, не графы, скромными костромскими помещиками.
Основной заслугой братьев, однако, признаем не облегчение для торговых людей, проистекавшее из беспрепятственного передвижения их в пределах государства российского (сие к Петру Шувалову). И не сдерживание сил, норовящих устои оного государства злонамеренно подмыть и подкопать (брат его Александр): нет, к основной заслуге их отнесем выдвижение ими на арену истории или, пользуясь более приземленным языком: к подножию трона своего родственника, тоже Шувалова и тоже Ивановича, но Ивана. Итак, Иван Иванович Шувалов, по прозванию «камер-юнкер», что соответствовало занимаемой им должности. Последний фаворит Елизаветы…
Шуваловы всегда стремились к власти. Именно поэтому Петр Иванович женится на Мавре Егоровне Шепелевой, все время находящейся близ – уж ближе некуда! – императрицы. Мимолетный фавор все того же Петра Шувалова не приблизил семейство к столь желанному. Ибо сей фаворит был лишь одним из ряда. И тогда семейный совет решил вывести пред светлые очи государыни молодого Ивана.
– Это кто? – заинтересованно спросила Елизавета Петровна, гостя в последний год первой половины столетия у князя Николая Федоровича Голицына в его Знаменском.
– Иван Иванов сын Шувалов! – бойко представила родственника Марфа Егоровна. – Двоюродный брат моего Петра. Сын достойных родителей, юноша пристойного воспитания – мечтает служить вашему величеству.
– Мне все мечтают служить, – спокойно констатировала императрица. – Ибо долг подданных служить своему монарху.
– Вот-вот, ваше величество, – истово и невпопад подтвердила Шувалова. – Так и говорит: за государыню, говорит, жизнь отдам.
Иван скромно потупился, но все видел.
– Это хорошо, – теперь императрица посмотрела на юношу с легким сожалением, и он покраснел под таким странным для подобного разговора взглядом. – Хорошо, что готов. Да ведь мне нужны живые подданные, а не мертвые!
Молодой Шувалов смело вскинул глаза.
– Ваше императорское величество, покорный раб ваш готов служить так, как сие будет угодно его венценосной госпоже!
– Угодно! – твердо произнесла Елизавета. Произнесла так же основательно, как припечатывающе-царское – «быть по сему».
Иван поклонился, Мавра Егоровна радостно улыбнулась и незаметно перекрестилась. Елизавета тоже улыбнулась, но – иначе.
В Знаменском она находилась недолго – императрица совершала паломничество из Москвы в монастырь Святого Саввы и не намеревалась его откладывать. Она двинулась далее, оставив всю свиту в имении князя, двинулась с одним новым пажом – Иваном Шуваловым.
Скоро он был назначен камер-юнкером и все оставшиеся годы продолжал оставаться лишь в этом чине, упорно отказываясь от всех иных. Равно как и от титулов. Елизавета предложила ему графа – как у родственников – но он отказался, так и оставшись Иваном Ивановичем, не-графом, зато единственным.
Графская же ветвь Шуваловых также не прогадала. С этих пор все державные бури их обходили, если же и доносился легкий рокот – в основном из-за любви Петра к лихоимству казенному – то его гасил новый фаворит.
Но, конечно, не тем славен Иван Иванович, что укрепил положение у трона своего рода. А тем, что был он человеком, тянущимся к наукам – Екатерина II всегда видела его с книгой в руке – и к людям, ими занимающимся. А для того времени внимание подобной персоны к делам ученым вещь весьма чувствительная.
Тебе приятны коль Российских муз успехи. То можно из твоей любви к ним заключить, —писал Шувалову Ломоносов.
Их отношения – вот основная заслуга Ивана Ивановича перед историей.
– Иван Иванович, помогите! – Ломоносов редко кого просил; человек сильный, он не хотел испытывать унижения отказа. Но к Шувалову с подобным он не стеснялся обращаться. Как-то враз определив для себя размеры фигуры – для настоящего и для будущего – Михайлы Васильевича фаворит никогда не изменял своего дружески-покровительственного и восхищенно-удивленного отношения к академику-помору.
С помощью Шувалова Ломоносов воевал с недругами своими и русской науки в академии; они были инициаторами открытия Московского университета, куратором которого стал Иван Иванович. По его инициативе через три года после университета в Петербурге была основана Академия художеств, которая также всегда пользовалась благосклонной заботливостью Шувалова и которой он завещал обширную библиотеку и ценную коллекцию картин и скульптур. Между этими событиями он помог и театру, обязанному именно ему открытием первой русской сцены.
Словом, Елизавета Петровна сделала хорошее приобретение: от Шувалова у нее не было тайн. Не забывал он и кузенов – оба они становятся, не побывав на войне, генерал-фельдмаршалами и членами Конференции.
Но даже эта гармония не могла улучшить в полной мере настроение и самочувствие императрицы. Она старела, ее начинали донимать болезни. Все более часто шумные игры и забавы, столь частые ранее, отменялись: приготовившись уже полностью к торжественно-ослепительному выходу, Елизавета Петровна бросала последний раз взгляд на зеркало: «Свет мой, зеркальце, скажи?» – и зеркало говорило… И тогда срывались украшения, задергивались шторы в покоях: а в бальных залах печально-беззвучно угасали свечи.
К императрице допускались лишь немногие. И эти немногие, привыкнув к царским милостям, с тревогой спрашивали друг друга и себя:
– Хорошо ли чувствует себя сегодня Елизавета Петровна?
Ошибка Бестужева, осмелившегося в письме предположить подобное, сдерживала: вслух крамолы никто не произносил, но в глазах стояло одно: «Господи, что будет-то…» Все знали симпатии и антипатии наследника Петра Федоровича.
Симпатии однозначные – ко всему прусскому, включая битого короля Фридриха. С антипатиями было сложней – но каждый чувствовал возможность попасть к очередному самодержцу в немилость. Хотя бы потому, что пользовался милостями предыдущего венценосца. А опала – это не просто удаление от двора. Это и конфискации, и ссылка, и тюрьма, и пытки, и казнь – все, что угодно.
И поэтому главный вопрос при дворе:
– Как здоровье ее величества? Хорошо ли?
И прерывистое дыхание больной императрицы заглушало временами даже грохот пушек. Все понимали: умри сейчас русская государыня – и ее преемник сделает все, дабы выйти из войны, войны, которая стоила России уже столько крови, войны, которая начинала новый виток.
Фермора отстранили от командования армией. На его место был назначен в мае 1755 года генерал-аншеф Петр Семенович Салтыков, решивший вести более решительную военную политику в отношении великого полководца – короля Пруссии Фридриха II.
Поначалу мало кто воспринимал это всерьез. Начавший свою службу еще при Петре I в гвардии – в 1714 году, он затем по приказу императора изучал во Франции морское дело, участвовал в походе Миниха в Польшу в 1734 году и в русско-шведской войне 1741–1743 годов. Он имел и придворное звание камергера, а в последние годы командовал на юге Украины ландмилицейскими полками, призванными защищать границы от нападений крымских татар. Именно в ландмилицейском белом мундире без орденов и украшений он и прибыл в войска, сражавшиеся уже не один год в самом центре Европы.
Привыкшие за это время к представительному виду, ярким нарядам и многочисленным знакам не всегда заслуженной доблести своих командующих солдаты и офицеры с удивлением взирали на скромную, непрезентабельную фигуру нового командира. Шепот растекался и рос:
– Чевой-то фигура у него кака-така…
– Как така?
– Да не осаниста! Нешто можно генералу быть таким?
– Это точно, мужики. Ни мундира, ни орденочка. Прям херувим какой, а не енерал!
– И голос тихой, и взгляд чевой-то без суровинки.
– Да, завалящий, прямо скажем, робята, генерал нам достался. Нешто матушка-императрица посолиднее да побойчее никого найтить не могла! Чисто срам!
– Одним словом, не енерал, а курочка!
Слово было произнесено. Через несколько дней вся армия называла своего главнокомандующего «курочкой», но весьма скоро прозвище это вместо уничижительного приобрело ласковый оттенок.
Произошла данная смена оттенков после Пальцига…
Конференция, будучи в далекой российской столице и пытающаяся осуществлять высшее командование конкретно неизвестным театром военных действий, исходя из сиюминутных нужд высшей политики, предписала Салтыкову соединиться в июле месяце с войсками австрийскими, над которыми начальствовал знатный полководец фельдмаршал Даун. Фельдмаршал, хорошо в свое время усвоивший и умно применяющий в своей стратегии такое понятие, как загребать жар чужими руками, на данное соединение не торопился. Тогда Салтыков, здраво рассудивший, что если гора не идет к Магомету… сам пошел ему навстречу. Ему пытался преградить путь прусский корпус генерал-поручика Веделя, одного из любимцев своего короля. Корпус этот, действовавший отдельными отрядами, усиленно тревожил русские тылы, разбивая магазины и нападая на отдельные мелкие тыловые части.
Под Пальцигом же он решил пойти на открытое единоборство с этими неповоротливыми и плохо обученными русскими.
Русские полки стояли у деревни Пальциг, расположенной в девяти верстах от Одера.
– Пруссаки!
– Кавалерия! Прусская кавалерия!
– Тревога! Тревога!
Ведель остался верен своей излюбленной тактике и свалился на русский лагерь отдельными кавалерийскими отрядами. Фактор внезапности был на его стороне, и прусская конница поначалу слегка перемешала неприятельские порядки. Замешательство, вызывавшееся еще не забытым Цорндорфом, однако, скоро преодолели. По приказу Салтыкова по наступающей лаве ударила картечь. Это отрезвило пруссаков и приостановило их. Салтыков, решив, что нечего дело откладывать в долгий ящик: а нужно ковать железо, пока оно горячо, перегруппировал свой фронт, что позволило ему схватить фланги одного из самых крупных отрядов, рвавшегося вперед по равнине между болотами, с одной стороны, и холмами – с другой. Раздавив его, русская армия так же поступила и с остальными частями прусского корпуса.
Бой продолжался с четырех дня до захода солнца. Пруссаки бежали, оставив у деревушки около шести тысяч пленными, убитыми и ранеными. Ведель через два дня пытался еще раз встать на пути Салтыкова, заняв со своим отрядом Кроссен. И снова неудача – кроссенский замок ему пришлось сдать, как и весь город.
Салтыков, найдя в Кроссене Веделя, не удивился. Он немного удивился другому. Удивился, не найдя там Дауна, ибо именно здесь они собирались соединить свои армии. Поудивлявшись – ведь вроде фельдмаршал благородный человек, а слово как-то вот так не держит! – русский главнокомандующий решил двигаться к Франкфурту-на-Одере. В это время прибыла весточка от Дауна.
– Ваше сиятельство, – доложил Салтыкову адъютант, – пакет от господина фельдмаршала Дауна!
– Зачти, голубчик. Что там господин фельдмаршал нам сообщить хочет?
– Требует, ваше сиятельство, идти на соединение к нему в Силезию, а оттуда – совместно на Берлин.
– Отпиши ему, что для меня путь на Берлин открыт через Франкфурт, туда и пойти. Союзников же дражайших прошу поторопиться туда же. Да повежливей все это там раскрась. Все же не кому-нибудь – фельдмаршалу пишем!
– Слушаюсь, ваше сиятельство!
– Да не забудь поздравить его с нашей союзной викторией при Пальциге, а то он так на Берлин торопится, что сам-то забыл об этом. Мы же люди дикие: нам о таком забывать никак нельзя!
Румянцев узнал о Пальциге, направляясь в ставку Салтыкова.
Новый главнокомандующий снял его с командиров особого тылового корпуса и дал ему вторую дивизию, свою ударную силу.
Вскоре к русской армии присоединился, наконец, и австрийский корпус генерала Лаудона. Фельдмаршал Даун посчитал возможным выделить лишь его для совместных операций со своим северным союзником. Но все же корпус насчитывал 18 тысяч солдат и был хорошим подспорьем Салтыкову в исполнении его широких планов. Соединение сил произошло во Франкфурте, и союзники уже было совсем собрались двигаться на Берлин, как разведка донесла, что дорога на прусскую столицу перекрыта армией самого Фридриха, намеренного приложить и на этот раз все силы, дабы навсегда вывести из игры русскую армию и не забивать ей больше голову при составлении оперативных планов предстоящих баталий.
Армия Салтыкова, усиленная корпусом Лаудона, занимала позицию в районе деревни Кунерсдорф, что около Франкфурта, и когда стало известно о приближении пруссаков, русский командующий приказал именно здесь принять бой, максимально усилив оборонительную мощь армии путем отрытия окопов с брустверами бастионного начертания для защиты артиллерийских батарей и устройства куртин между ними для пехоты.
Позиция располагалась на гряде высот Мюльберг, Гросс-Шпицберг и Юдинберг по их гребням фронтом на север. Высоты протянулись на четыре с лишним километра с северо-востока на юго-запад. С севера позиция прикрывалась труднопроходимыми болотами, с запада, там где располагался Юденберг, примыкала к Одеру, мосты через который вели на Франкфурт. Эти мосты обеспечивали связь Салтыкова с Дауном. С востока и юга подступы к позиции были по местности, иссеченной рвами, отдельными высотами и прудами. Тут же с юга на расстоянии порядка километра от Мюльберга, левом крыле Салтыкова, расположились пять вновь сформированных полков под командованием Голицына. На центральной высоте – Гросс-Шпицберге расположилась 2-я дивизия Румянцева, состоявшая из 17 полков. На Юдинберге расположился Фермор со своей дивизией. Лаудон был помещен позади правого крыла русских.
Фридрих решил нанести основной удар по Мюльбергу. К началу одиннадцатого утра он развернул свои силы для атаки на Голицына и после часа сильного артиллерийского огня предпринял атаку Мюльберга с трех сторон: с севера, северо-востока и востока. Три вытянутые, казалось, по гигантской линейке шеренги солдат в синих мундирах с яркими разноцветными отворотами наступали на молодых солдат Голицына. Резкие голоса прусских офицеров и унтеров поначалу еще поддерживали эти прямые линии в построении, но пересеченная местность и залпы шуваловских единорогов стали преобразовывать во все более видимые с каждой минутой волны и зигзаги. Еще только когда равнение начало рушиться, пруссаки дали слитный залп из ружей, перезарядили их и теперь, подойдя ближе к русским позициям, снова открыли огонь.
Огонь из пушек и ружей с обеих сторон окутал весь холм темным пороховым дымом, из марева которого доносились стоны, проклятия и – изредка – призывные и победные кличи. Русские, имевшие на Мюльберге всего пять полков и четыре небольшие артиллерийские батареи против фактически всей армии Фридриха, несли огромные потери; князь Голицын был ранен. Наконец, исчерпав все силы и не выдержав концентрической атаки превосходящих сил пруссаков, полки начали отходить с холма, позволив даже противнику захватить свою артиллерию.
По приказу Салтыкова Румянцев выделил четыре полка из своей дивизии для прикрытия отхода Голицына. Полки, возглавляемые Брюсом и Паниным, контратакой на Мюльберг дали возможность остаткам корпуса Голицына отойти без особых потерь, коими чревато всякое отступление, когда противник повисает на твоих плечах.
Контратака русских полков задержала продвижение Фридриха и сорвала его внезапную атаку на Гросс-Шпицберг. Батареи Румянцева успели перенести свой огонь на Кунгрунд – овраг, отделявший их холм от Мюльберга, куда сейчас ринулась прусская пехота.
Уверенный, что осталось лишь последнее усилие для достижения окончательной победы, Фридрих посылает бюллетени о поражении русских в Берлин. Принимая в этот момент курьера принца Генриха с подробностями битвы при Миндене, король написал брату весьма гордо:
– Мы тоже можем предложить вам кое-что!
Как и при Цорнсдорфе, он снова рассчитывал на деморализующее влияние поражения одной части русской армии на все остальные. Фридрих не желал никак верить, что отдельные клетки организма русского войска способны сражаться сами по себе, и что полки Мюльберга не просто погибли и отступили, но и измотали его армию и подвели под очень уязвимую позицию при Кунгрунде. Если бы он ограничился Мюльбергом, он не претерпел бы дальнейшего, но и захват этой единственной высоты не спасал его положения, ибо единственной возможностью обезопасить себя от русской армии было ее уничтожение. Генералитет был сейчас против чрезмерной решительности короля. За него – только Ведель, не могущий смириться с Пальцигом. Мнение монарха перевесило все остальные.
– Вперед же! – воскликнул Фридрих, и прусская пехота – так же как и на Мюльберг, с севера, северо-востока и востока – построенная в несколько линий, начала решительный приступ позиции Румянцева.
Там ее встречали ряды русских фузелиров, беспрерывными залпами сбивавшие наступательный порыв пруссаков. Выбывавших стрелков тут же заменяли новые. В тылу Гросс-Шпицберга стояло большое количество резерва. Русская тяжелая артиллерия, расположившись, как в крепости, за стенками кладбища, демонстрировала невозмутимое спокойствие, ведя дуэль с пушкарями Фридриха, стрелявшими из захваченных орудий Мюльберга. И дуэль эта все время шла не в пользу прусских канониров, ибо мощная батарея Румянцева была гораздо губительнее, чем новые прусские орудия. Свои же батареи Фридрих задействовать не мог, ибо песчаная почва препятствовала движению орудий. Так что фактически пехота пруссаков оказалась один на один с русской артиллерией и несла и от нее страшный урон. Редкие мелкие отряды прорывались сквозь первые русские цепи и, уцелев перед этим и под орудийными залпами, достигали верха Шпица, но там их брали в штыки, либо за недосугом просто сбрасывали в овраг. Трижды слышала пехота призыв короля:
– Атаковать!
Трижды Фридрих водил ее в атаку, и трижды Румянцев отбрасывал ее.
Конницу Зейдлица, считавшуюся лучшей в Европе, Фридрих еще ранее наметил для атаки русских с юго-востока и юга, намереваясь развернуть ее западнее Кунерсдорфских прудов. Теперь пришло, как посчитал король, ее время.
– Генерал! Вы все видите – только атака!
– Ваше величество, русская артиллерия…
– Только вперед! Промедление для нас – это смерть!
– Мы все будем уничтожены, ваше величество! Я иду.
Зейдлиц сам возглавил атаку своих эскадронов и пал одним из первых. Лучшая конница в Европе была расстреляна еще на подходе русскими артиллерией и пехотой перекрестным огнем с Юденбурга и Шпица. Когда она поворачивала уже в расстройстве назад, вслед ей пошли три лавы русской и тяжелой австрийской конницы. Остатки прусской кавалерии в полном беспорядке откатились к Кунерсдорфу.
Фридриху так и не удалось больше бросить пехоту в новую атаку. Отброшенная в очередной раз к Мюльбергу она бессмысленно топталась там под огнем русских батарей.
Уловив благоприятный момент заминки неприятеля, Салтыков, в течение всего боя укреплявший Румянцева свежими частями с Юденбурга – в частности, и австрийцами Лаудона, приказал:
– Петр Александрович, батюшка, пехоте – атака.
Русские снова предприняли контратаку на Мюльберг, но пруссаки еще не полностью исчерпали себя.
Генерал Ведель, так же как и король, не могущий примириться с тем, что сначала окончательная, а теперь и просто победа ускользает из державных рук Фридриха, подошел к своему главнокомандующему и повелителю:
– Ваше величество, позвольте ввести в дело кирасир. Со стороны Кунгрунда. Русские батареи не смогут ударить по ним массированно, а их пехоту мы сомнем.
– Действуйте, Ведель!
Генерал лично повел кирасир. Железная стена конницы, появившаяся с востока и северо-востока, вырастая на глазах, рвалась к Шпицу. Залпы батарей не успевали за ее перемещениями. К тому же артиллеристы, ориентированные на другие цели, сейчас запаздывали со сменой позиций. Момент стал воистину критическим. Как вдруг – на войне все часто бывает вдруг, особенно если импровизации долговременно планируются и заранее обязательно готовятся – навстречу кирасирам пошла русская кавалерия. Ее возглавил сам Румянцев, доказывавший правильность своего мнения, что латы и ружья в конной атаке лишь мешают, главное – смелость и благородное белое оружие. Стесненные сталью брони и болтающимися за спиной ружьями, кирасиры уступали в стремительности атак коннице Румянцева. Появившаяся конница Лаудона довершила разгром. Все, что осталось от кирасир, поспешно отступило под прикрытие своей артиллерии.
Последним шансом Фридриха стали драгуны принца Вюртембергского и гусары генерала Путткаммера. Подстегиваемые своим королем, впадавшим в истерику ярости от поражения, все более явно вырисовывавшегося перед ним, и не просто поражения, а гибели армии, а значит, и его страны и его великих планов, прусская кавалерия отчаянно рвалась к Гросс-Шпицбергу. Ей удалось невероятное – она сумела пройти огненную завесу русской артиллерии, растерзать линии стрелков Шпица и прорваться на вершину холма. И это было все, чего они достигли. Русская и австрийская пехота в молниеносном бою штыками смирила их наступательный порыв, опрокинула кавалерию, а артиллеристы Гросс-Шпицберга довершили начатое, открыв по отступающим шквальный огонь. Был убит и доблестный Путткаммер.
После этого пруссаки уже не пытались атаковать. Вскоре пехота генерал-поручика Панина загнала пехоту Фридриха на Мюльберг, где многие нашли свой конец, поражаемые артиллерийскими залпами Гросс-Шпицберга. Начавшееся отступление прусской пехоты – конница у Фридриха уже не могла сейчас иметь значения – превратилось в повальное бегство, когда Панин начал новую атаку, и с юга ему на помощь пришла кавалерия.
Армия прусского короля не существовала более. Потери до 17 тысяч, масса дезертиров – у Фридриха в строю осталось не более трех тысяч солдат.
Преследовали отступающую и разбегающуюся толпу пруссаков, недавно еще бывших армией, Лоудон и генерал русской службы Тотлебен. Преследовали весьма недолго – лишь до темноты, что и объясняет сохранение Фридрихом хотя бы этих трех тысяч.
Король – хороший стратег – ясно представлял, что может последовать за этим поражением: гибель всего была неизбежна. Он писал брату: «Я не переживу этого. Последствия битвы хуже ее самой. У меня нет больше сил… Я убежден, что все погибло… Я не переживу гибели родины. Прощай навсегда…» Сразу же после сражения, когда союзная конница ушла вдогон отступающим, Румянцев объезжал позицию на Гросс-Шпицберге, дабы отдать своим павшим боевым товарищам последний долг. Огибая небольшую проплешину, на которой, судя по количеству неподвижных тел в русских и чужеземных мундирах разыгралась особенно жаркая рукопашная, генерал наткнулся на сидящего тут же на чьем-то ранце офицера с окровавленной повязкой на лбу, который, несмотря на это, ловко и довольно бодро бинтовал себе левую руку. Его шпага, покрытая засохшей уже кровью, по самый эфес была воткнута в землю. Тут же рядом валялись в кобурах и пистолеты. Румянцеву раненый показался кем-то знакомым. Приглядевшись, он обрадованно воскликнул:
– Ба! Поручик Попов!
Офицер вскинул глаза, вопросительно посмотрел на кричащего и, узнав Румянцева, поспешно вскочил:
– Так точно, ваше превосходительство! Капитан Попов к вашим услугам!
– О, поздравляю с капитаном. Ранены, Дмитрий Николаевич?
– Есть немного, Петр Александрович. Саблей да штыком зацепило.
– Серьезно зацепило-то?
– Пустяки, ваше превосходительство! Чтоб на солдате, да не зажило!
– Ну и хорошо. Хочу поблагодарить вас, капитан. Вас и солдат ваших. Славно, вижу, здесь вы сражались. Теперь уж у Фридриха хребет окончательно сломан.
– Пора уж и сломать, господин генерал-поручик. Коий год воюем. Пора уж дело доделать и по домам.
– Скучаете по дому?
– По России, Петр Александрович. Дома-то ведь у меня и нет. Всю жизнь с отцом по гарнизонам да домам государственным жил. А умер он, и никого у меня не осталось. А по родине скучаю.
– Скоро, я думаю, двинем по домам.
– Ох, ваше превосходительство, хорошо бы. Да вот сомнение меня берет.
– Это в чем же, Дмитрий Николаевич, ваше сомнение?
– А в том, что коли хотели бы мы быстрее окончить кампании эти, то я бы сейчас не сидел здесь, перевязками своими занимаясь, а гнал бы прусса к Берлину! А то ведь опять дадим ему оправиться. Он же у себя дома. Что ему стоит войско заново набрать!
– Так ведь преследуют Фридриха, господин капитан. Или не знаете вы, сидя здесь и своими ранами занимаясь, что союзные части гонят неприятеля?
– Да видел я все. Отсюда сверху хорошо все видать. Только ведь кавалерия вдогон-то пошла. А ведь вы знаете, ваше превосходительство, что пока пехота своим сапогом куда не ступила, та земля еще не отвоевана.
– Прав ты, Дмитрий Николаевич, во всем прав. Союзнички это все. Даун с Лаудоном. Хоть кол на голове теши – не хотят ну никак вперед идти. Как привязанные. Хотят нашей кровью земли себе откупить у Фридриха. А Петр Семенович вот этого-то и не хочет. Оттого и медлим. Но все равно я уверен – конец Фридриха не за горами.
– Вашими бы устами, ваше превосходительство. Поживем – увидим.
– Вот именно, капитан. Поживем. Как там говорят в Европах: короткий язык способствует длинной жизни? Не по чину рассуждаешь. С другими остерегись, а то неровен час…
– Не вчера с елки упали, Петр Александрович! С кем же, как не с вами, и поговорить-то? Армия все знает. Солдату ничего не говорят, да он до всего смекалкою доходит. Да и я тоже с генерал-поручиком графом Румянцевым не сейчас познакомился. Не с Фермором же мне разговоры говорить. Он, известное дело, как и Апраксин – царствие ему небесное – все на Петербург глазами косит, вот на противника смотреть и некогда!
– Капитан!
– Слушаюсь, ваше превосходительство!
– Я не слышал, вы не говорили. Твое дело не рассуждать, а исполнять.
– Так точно! Не сомневайтесь, Петр Александрович. Свой долг мы исполним. Они, – Попов показал рукой на лежавших там, где их застала смерть, русские шеренги, – выполнили его до конца. Ну, и мы постараемся не подвести. Но ведь обидно! За что гибнем-то? За государыню и Отчизну! А генералы наши во славу чего нас под пушки прусские подводят? У меня вот, – капитан рванул мундир: рваный шрам уходил от ключицы вниз, – от Цорнсдорфа мета на всю жизнь осталась! А Гросс-Егерсдорф? Доколе нам опаснее прусских генералов свои будут? Сколько можно на солдатской крови учиться? Ведь солдаты же все видят! Мне стыдно перед ними, ваше превосходительство!
– Мне тоже, капитан. Но не мы командуем армией. Не нам и решать, кто и как будет ею командовать. Наше дело – солдатское. Делать, что скажут, но делать с головой. Это все, что я могу тебе, Дмитрий Николаевич, сказать. Будем бить врага Отечества нашего, даже имея гири чугунные на обеих ногах. Надо! Если не мы – то кто?
– Понимаю, ваше превосходительство. Сурова ваша правда, да вижу, другой нам не найти. Не беспокойтесь. Русский солдат еще никогда не подводил! И не подведет. Надо – значит надо. Переможем. Многое терпели, и это вынесем!
В 1760 году заболевший генерал-фельдмаршал Петр Семенович Салтыков, получивший этот высший воинский чин за Кунерсдорфскую викторию, был заменен генерал-фельдмаршалом Александром Борисовичем Бутурлиным, одним из самых первых фаворитов тогда еще принцессы Елизаветы. С тех пор минуло много лет, и теперь фельдмаршал Бутурлин ехал принимать войско своей государыни-императрицы Елизаветы Петровны.
Приблизительно в это время был осуществлен корпусом русских войск под командованием генерала Захара Чернышева набег на Берлин, который Румянцев планировал за год до этого.
Уже пятый год в Европе шла война. Никто не знал еще, что она войдет в историю под названием «Семилетней», и поэтому каждый наступающий год казался последним.
Пруссия впервые выходила в это время на европейскую, а значит, и на мировую, авансцену, демонстрируя всем свои молодые и хищные зубки, которые по первой пока еще удавалось обламывать. Но уже с трудом. Континентальные монархии, кичившиеся своей многовековой традицией имперской государственности, очень хорошо чувствовали это на себе: прусский государь Фридрих II в этой войне периодически их жестоко бил.
И сам терпел поражения от России, поначалу недооценив ее, а потом уже и будучи не в силах что-либо противопоставить ее все более возрастающей мощи.
Держался он пока лишь на постоянно углубляющихся разногласиях союзников, связанных между собой лишь деловым взаимовыгодным партнерством и не желающих в силу этого таскать для соседа каштаны из огня…
Прусская крепость Кольберг, расположившаяся на берегу Балтийского моря в Померании, была поистине для русских костью в горле, ибо находилась она всего в сотне верст от Берлина и замыкала собой путь к столице Фридриха. Ее гавань могла бы быть использована как база снабжения русской армии, что избавило бы войско императрицы Елизаветы от каждодневной необходимости ломать себе голову при проведении каждой кампании и операции: каким образом обеспечить оную провиантом, фуражом, ружейным и пушкарским припасами?
Понимал значимость крепости Фридрих, понимал и русский генералитет, крупно с Конференцией и самой императрицей.
Две осады – осенью 1758 года под руководством генерала Пальменбаха и в конце лета 1760 года под командованием адмирала Мишукова – победительных лавров русским не принесли. Теперь наступало время очередной осады, третьей.
План петербургской Конференции на 1761 год отводил взятию Кольберга особое место. Предполагалось создание специального корпуса, по сути – практически отдельной армии.
Новому главнокомандующему был сделан запрос относительно оценки им деловых качеств своих подчиненных. Фельдмаршал Бутурлин, памятуя, что, хваля собственных подчиненных, ты вероятнее всего создаешь сам себе будущих конкурентов, весьма осторожно отозвался о вверенных ему генералах, подчеркнув при этом четко и недвусмысленно, что единый дельный стратег во всей армии – это он сам.
Однако члены Конференции, зная его хорошо еще по предшествующим деяниям и баталиям, как-то в сем позволили себе засомневаться и предложили фельдмаршалу назначить командиром корпуса уже известного своими предшествующими викториями не только в Европе, но и в далеком Петербурге, генерал-поручика Румянцева. Бутурлин по мере возможности пооттягивал это назначение, но наконец оно все же стало свершившимся фактом.
Отныне брать Кольберг надлежало Петру Румянцеву…
Главнокомандующий составил своему подчиненному подробную инструкцию, как вершить сие, которую и проборматывал сейчас Румянцев тихонько, поглядывая в текст, лежащий перед ним, и выражая вслух и про себя свое отношение к фельдмаршалу, отношение, честно говоря, совсем не смахивающее на почтение:
– …Так, значит надлежит мне по установлению связи с флотом к самому Кольбергу идти, столь паче, что когда флот приблизится, надо мне с моим корпусом там быть и гаванью завладеть, дабы перевоз с флота людей и артиллерии не столь труден был. Тьфу, Анибал еще один уродился – мало нам карфагенского, так теперь еще и гиперборейский свои стратигемы разрабатывает! Флот мне, понимаешь, только везет треть живой силы и всю осадную артиллерию, а я ему уже должен гаванью, то есть – попросту говоря – самим Кольбергом завладеть! Зачем мне тогда этот флот? Стратег! Полка бы не дал! Какого полка – сотню калмыцкую и то много! Ну, да бог с ним – пусть тешится бумажками своими. Посмотрим лучше, что я тут сам нацарапал предварительно…
Командир корпуса достал из сумки пачку бумаг – свою инструкцию корпусу, свой устав, который он сочинял с зимы, как только ему стало известно, что крепость на этот раз решено брать во что бы то ни стало, и брать, по всей видимости, предстоит ему. Теперь на дворе уже май, и лишь сейчас, смирившийся с подобной конфузной для его военных талантов несправедливостью, Бутурлин официально проинформировал его о сем назначении. Но, говорят, нет худа без добра: у Румянцева было время подумать, о чем наглядно свидетельствовало своим солидным видом его «Учреждение» – тот своего рода устав отныне его корпуса, который он надеялся – и будет! – применять в период осады.
– Ага, вот: единые правила несения строевой и караульной служб; так, порядок марша… лагерного расположения полков. Вот и план захвата – карты, смею надеяться, недаром изучались. Что же касается высокоумных планов господина фельдмаршала, то пусть он меня простит, но надлежит на них, по моему скромному разумению, незначительнейшего Петрушки Александрова сына Румянцева, наплевать и забыть!
Фельдмаршал ответил подобной же любезностью: все рапорты Румянцева о своевременной передаче под его начало определенных под Кольберг войск ни к чему не привели, и его буквально выпихнули в Померанию с половинным составом и заверением, что остальное будет направлено в его распоряжение при первой же возможности.
Сия возможность предоставилась, по мнению главнокомандующего, лишь через три месяца; до этого же осаждаемые превосходили русский корпус в полтора раза, не говоря уже об артиллерии, которой до подхода августовского морского десанта Румянцев почти вовсе и не имел.
Еще на марше командир корпуса наладил сторожевую службу, создал сеть магазинов, заложив в них достаточные запасы продовольствия и снаряжения, то есть всячески укреплял свой тыл, не желая в дальнейшем неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент и памятуя, что где тонко, там и рвется. Он же плел свою сеть везде крепко, твердо надеясь, что она нигде не прорвется и уж кто в нее попадет – не вырвется.
В августе, сосредоточив в своем укрепленном лагере Альт-Бельц наконец-то все предусмотренные ему по штату войска, он прежде всего занялся их всеобщим обучением и упорядочением имеющихся сил, поскольку еще сразу же по принятии командования над корпусом понял, что без этого ему ничего не добиться – настолько была плоха подготовка солдат.
Для начала он разбил свой корпус на бригады, в составе двух полков пехоты и батальона отборной пехоты – гренадер, создав его из отдельных гренадерских рот, бывших при каждом полку; сформировал особые легкие батальоны из охотников для действий в лесах и для поддержки операций легкой конницы – прообраз будущих знаменитых егерей, красы и гордости русской армии на долгие годы и десятилетия.
Дабы не отвлекать основную массу солдат от наиважнейшего, по его мнению, дела – военной учебы – Румянцев создает «штабной батальон» и «штабной эскадрон» для несения нарядов; организует бесперебойное снабжение, бывшее до этого всегда в Семилетней войне ахиллесовой пятой русской армии.
После чего с чистой душой призвал к себе старого своего друга еще по кадетскому корпусу, а ныне находящегося в его корпусе и подчинении генерал-майора Еропкина.
– Садитесь, Петр Дмитриевич.
– Благодарю, ваше высокопревосходительство.
– Вы забыли мое имя, господин генерал-майор?
– Нет, Петр Александрович, просто…
– Вот и прекрасно. Мы с вами не на параде и не на плацу, Петр Дмитриевич. Коли не связывало бы нас такое отношение: начальник – подчиненный, почел бы за долг и честь быть с вами на «ты», сейчас же считаю сие излишним, ибо подчиненный – разумеется, я говорю в данный момент не о вас – повторяю: подчиненный, панибратствующий с начальником, может в самый неподходящий миг заняться выяснением отношений или тешением самолюбия, и дело останется невыполненным. А ваше мнение по сему предмету?
– Совершенно согласен с вами, Петр Александрович.
– Благодарю. Всегда приятно обнаружить в подчиненном не льстеца или супротивника, а единомышленника. Что до официальщины, то мне она, тезка, не нужна. Да и знаем мы друг друга достаточно долго, дабы обойтись без нее. Так что с сим вопросом покончим отныне и навсегда и перейдем к делам настоящим.
– Слушаю вас.
– Так вот, Петр Дмитриевич, вызвал я вас по сугубо важному и серьезному вопросу. Как человек умный – это не лесть, а просто констатация факта, к сожалению, я не могу распространить сего на всех своих подчиненных, – вы, думаю, поняли, что части вверенного моему командованию корпуса я переорганизовывал не из одного лишь суетного желания прикрыть одну заплату на кафтане, обнажив при сем другую. Смею надеяться, вы поняли, что делалось сие с целью получить единые, не слишком громоздкие отряды войск наших, кои легко обучить необходимому для военного дела. Теперь они сформированы, отныне их надлежит обучать. И обучение оное я намерен возложить на вас, Петр Дмитриевич!
– Благодарю вас, ваше высокопревосходительство. Почту за честь, только…
– Пусть вас не смущает некоторая несвоевременность сего.
Она кажущаяся. Наоборот, своевременнее данного ничего быть не может.
– Петр Александрович, меня смущает не это. Насущность вашего решения я отлично понимаю. Стоит только посмотреть на наше войско, как всякое сомнение отпадает. Меня тревожат сроки. Уже август. Хватит ли у нас времени до зимы и обучить наших солдат, и с ними, обученными, взять Кольберг?
– Ничего, Петр Дмитриевич, на войне люди учатся быстрее.
Когда солдат воочию видит, что от того, насколько он сегодня все правильно запомнил и сумел повторить завтра, будет зависеть его жизнь, – он все постигает с лету. И насчет зимы не беспокойтесь – Кольберг будет взят! А будет ли он под снегом или еще нет – не суть важно!
– Как не суть важно? Кто же воюет зимой?
– Мы будем воевать. Разбаловались – в стародавние века, когда ставкой на кону была держава, сие не служило препятствием. Как вы помните, Невский любил воевать именно зимой – мечи звонче на морозе. Так и мы будем воевать и зимой, и летом. Наши победы не должны зависеть от того, выглянуло ли солнышко из-за тучек, или оно скрылось за оными. При достаточной организации всех служб армии погода не так уж и страшна. Она прежде всего пугает военачальников-разгильдяев, которые привыкли, что их войско спит под кустом и жует что из земли или у селянина с грядки вытащит. Война – это дисциплина, предвидение и организация. Как вы понимаете, Петр Дмитриевич, сии субстанции касаемы командиров. И это не говоря уже о многих других. Без сие же командир может быть смелым, удачливым, любимым армией и прочим, но он не будет хорошим воинским начальником. И в конце концов его подчиненные своей кровью расплатятся за этот маленький недостаток своего начальника. Думающая голова и пылкая душа – вот что делает полководца по должности подлинным водителем войск. Впрочем, мы отвлеклись. Я надеюсь, вы отринули все ваши сомнения. И я уверен также, что вы сделаете все насущное и необходимое, дабы мы здесь под Кольбергом имели настоящих солдат!
Обучение, тут же и начавшееся, шло скоро и успешно, если не считать досадных отвлечений, которые создавали пруссаки, не ведавшие об сем ответственном деле, проистекавшем в русском лагере.
Первым сорвать процесс образования попытался фон Вернер.
Фридрих, справедливо решивший, что коли за осаду взялся Румянцев, то не грех будет и усилить свои войска в районе Кольберга, послал сего кавалерийского генерала, укрепленного артиллерией, к крепости.
Гусары Вернера ударили по деревне Фархмине – по расположенному там казачьему полку, прикрывавшему направление на Кеслин. Разведка заблаговременно донесла о движении пруссаков, и командир полка имел время прикинуть что нужно и наметить диспозицию, которую он и изложил командирам своих сотен кратко и энергично:
– Пруссак – дурак. Он думает, что мы его в деревне этой чертовой ждать будем. Вот, мол, мы – бери нас, круши во славу своего Фридриха. Дулю им! Хлопцы! Оставим им тут – чтоб не огорчались – душ тридцать, а сами – по сторонам, ну, а когда они пройдут – тут уж не зевай!
Темные казаки нехорошо, не по-европейски обошлись с образованным хорошим военным образованием генералом фон Вернером. Его тщательно подготовленный и любовно исполненный массированный удар пришелся по тридцатисабельному отряду, начавшему паническое бегство перед непобедимыми гусарами. Увлекшись, Вернер забыл, что у него, как и у всех прочих воинских частей – независимо от степени цивилизованности – существуют, кроме фронта, еще и тыл, и фланги. Казаки напомнили ему об этом. Атакованный именно с этих наиболее уязвимых частей, Вернер был обращен в бегство, которое ускорил непосредственно сам Румянцев, приведший подкрепление и стукнувший гусар весьма ощутимо в их вновь созданный тыл. Было много пленных, в коий не совсем почетный список попал и сам генерал. Этому весьма содействовал отряд полковника Бибикова, состоящий из драгун, казаков и двух батальонов пехоты. Именно Бибиков, брошенный Румянцевым вдогон Вернера, настиг пруссаков в Трептове, окружил и наголову разбил. Здесь впервые было применено новшество, коему Еропкин по прямому указанию командира корпуса обучал солдат – гренадеры Бибикова атаковали Вернера под Трептовом не линией, а глубоко эшелонированной батальонной колонной, натиск которой противник не в силах был превозмочь.
Вернер рвался на помощь прежде всего принцу Вюртембергскому, по приказу которого еще в июне линия обороны города была вынесена вперед на одну-две версты, то есть непосредственно сама крепость Кольберг осталась лишь цитаделью в глубине укрепленного лагеря.
Линия обороны лагеря корпуса принца проходила по высотам севернее и западнее деревень Буленвинкель и Некнин и упиралась левым флангом в море, а правым – в реку Персанту. На этих высотах были вырыты укрепления мощного профиля – Фридрих решил больше не доверять некомпетентности и разгильдяйству противника – вдруг опять обманут! – и приказал Вюртембергскому готовиться самым тщательнейшим образом.
Будущие действия корпуса Румянцева затрудняло и то, что промежутки между этими укреплениями представляли собой болотистые низины, прикрытые специально устроенными затопляемыми районами и засеками. Юго-восточнее Буленвинкеля пруссаки расположили сильное передовое укрепление, западнее Некнина – другое. Грюненшанц. Кроме того, до последних дней корпуса Вернера и Платена прикрывали подходы к Кольбергу с востока. Теперь одного из этих нависающих над русским тылом корпусов не существовало, но оставался еще Платен, имевший под своим началом четырнадцать батальонов пехоты, двадцать пять эскадронов драгун и тридцать – гусар. Это была сила, которую нельзя было отмести при составлении любых оперативных планов и которая была в состоянии изменить ход любого течения военных событий.
А тут еще этот де Молин! Путается под ногами, когда не нужен, утомляя своим апломбом в рассуждениях. Когда же от него требуется совет – не найдешь днем с огнем! А ведь был рекомендован сей инженер-полковник самим его высокопревосходительством господином фельдмаршалом Бутурлиным! Воистину все, что советовал и рекомендовал сей великий стратег и военачальник – негодно! Его, де Молина, план осады, с похвальной оперативностью составленный, оказался настолько странен, что Румянцев поначалу поперхнулся от изумления и начал беспрерывно хмыкать.
– Господин инженер-полковник, – наконец, накаляясь, заговорил командир корпуса, – что сие значит? Сей план ваш… Как я мог понять из него, он требует от нас применять при осаде то, чем мы не располагаем и, судя по оторванности нашей от Отечества, располагать и не будем. Вам сие ведомо?
– Ведомо, ваше превосходительство. Согласно науке…
– Грош цена той науке, коя объявляет матерью своей талмудическую схоластику! Еще припишите в родственницы вашей любезной сердцу теории софистику – чтобы я окончательно уверился в вас! От вас требовалась не теория – я и мои генералы знаем, что означает сие понятие – а реальное дело. Каковы ваши практические соображения?
– При существующем положении дел, ваше высокопревосходительство, взятие крепости есть дело весьма сложное!
– Благодарю вас за чрезвычайно ценное и тонкое замечание, господин инженер-полковник. Как я понимаю, окромя сего вам добавить уже более нечего?
– Увы, ваше высокопревосходительство… Конечно, со временем…
– Времени у вас было достаточно – вас никто не торопил, но уж коли вы поторопились представить ваш план – значит, времени вам больше не потребовалось. Так что отныне я буду лишен удовольствия и счастья беседовать со столь умудренным различными знаниями и науками – сиречь с вами – на столь захватывающие темы! Конечно, я понимаю, что полковник Гербель ни в коей мере не сможет заменить мне вас, мужа столь могучей и дерзкой образованности, но я заранее мирюсь с подобным прискорбным обстоятельством. Сам будучи человеком необразованным и темным, я не буду чувствовать с ним рядом себя уж полным неучем. Вас же, господин инженер-полковник де Молин я – и отныне – не задерживаю. А если вы еще умудритесь все же попасться мне на глаза – то в окрестностях Кольберга растет достаточное количество крепких деревьев. Вон!
Господин инженер как ошпаренный выскочил из палатки командующего, а Румянцев еще несколько минут не мог успокоиться, раздувая гневно ноздри и черкая злополучный план одному ему понятными значками и стрелками.
Вскоре после этого разговора Гербель представил новый план, принятый Румянцевым с некоторыми поправками.
Но не план осады крепости сейчас больше всего волновал его.
Главное в этот период было отжать противника от лагеря корпуса принца – через восточнее его расположившиеся Кольбергский и Боденхагенский леса непосредственно в сам лагерь – и захватить передовые укрепления обороны корпуса.
Уже 19 августа русский корпус двинулся к Кольбергу, и вскоре после усиленных поисков по обоим берегам Персанты пруссаки сначала были отброшены в леса, а затем поспешно ретировались в лагерь. Тогда же флот вице-адмирала Полянского подверг трехдневной жестокой бомбардировке береговые батареи Кольберга, уничтожил их и блокировал крепость с моря.
Румянцев начал подступ – вплотную – к лагерю принца Вюртембергского. В помощь армии Полянский бросил двухтысячный десант под командованием командора Спиридова, усиленный береговой артиллерией. Тут-то и пытался генерал фон Вернер отбить фортуну у Румянцева…
Но тут капризная богиня решила, что она уже слишком благоволит к русскому генерал-поручику, и поэтому атака осадного корпуса 7 и 8 сентября для обеспечения своих флангов окончилась полуудачей. Задача на правом фланге была выполнена – правда, частично – окопы у Боденхагенского леса были взяты, приморское же укрепление севернее его – нет. Левый фланг не дался полностью: Грюнешанц отобрать у пруссаков не удалось.
Платен активизировался как раз в эти дни. Доселе, согласно приказу Фридриха, он уничтожал русские коммуникации в Польше – на пути от Познани к Бреславлю разбивал магазины и транспорты, ворвался в Познань и пошел через Ландсберг в Померанию.
Теперь он своим движением к Висле угрожал отрезать корпус Румянцева целиком и окончательно от главных сил русской армии, а ударом на северо-восток – полностью перерезать все коммуникации осаждающих. Выдвинувшийся как раз в этом направлении Платен в середине месяца занимает Шифельбейн и Регенвальде. В тылу пруссаков действует легкая конница русских под началом Берга, заменившего на этом посту Тотлебена, недавно арестованного за шпионаж в пользу Фридриха.
Но Берг все никак не мог придать своей легкой коннице легкости – удачно пока действовал лишь один его подчиненный подполковник Александр Суворов, основные же силы Берга все не могли обрушиться на Платена, упорно шедшего к Кольбергу. Вдогон Платену Бутурлин, кроме Берга, послал дивизию князя Долгорукова, но она отставала от пруссаков на два-три перехода.
В конце второй декады сентября Платен захватывает Керлин.
Румянцев посылает Долгорукову приказ:
– Наступать на Керлин!
Это же указание получает и командир отряда Минстер, которого Румянцев направляет от своего осадного корпуса для взаимодействия с дивизией Долгорукова. Сам же он с полком пехоты следует за Минстером.
Казалось, Платен, попадающий в такие клещи, будет раздавлен, но все обернулось иначе.
– Ваше превосходительство, – доложил командир разведки Долгорукому, – прусс стоит лагерем под Керлином. Судя по кострам – намеревается заночевать!
– Хорошо, капитан. Свободны. Вот видите, господа, – обратился командир дивизии к полковым командирам, – мы и догнали сего неугомонного Платена. А завтра с утречка навалимся на него – только пыль и останется!
– Так точно! – дружно и браво согласились офицеры со своим начальником.
Наутро их всех ждало горькое разочарование – Платен, ночью разложив лагерные костры, тогда же и ушел на соединение с корпусом принца Вюртембергского. Принц же одновременно с этим ударил по блокирующим его русским частям. Румянцев был вынужден повернуть назад, а Платен – в обход Минстера – прорвался в лагерь.
Общее количество осаждаемых, состоящее доселе из двенадцати тысяч корпуса Вюртембергского и четырех тысяч непосредственно гарнизона, увеличилось еще на десять тысяч сабель и штыков. Положение для Румянцева сделалось угрожающим, несмотря на то, что дивизия Долгорукова к нему все же подошла и влилась в его корпус. Однако перевес был за пруссаками, сидевшими, к тому же, за стенами сильных долговременных укреплений.
Обо всем этом сразу же начали говорить подчиненные Румянцеву генералы, когда он собрал их на военный совет, дабы решить на нем, снимать ли блокаду и отступить или продолжать осаду. Для себя вопрос этот Румянцев решил давно и бесповоротно. Теперь же он хотел выслушать своих боевых помощников. Он чувствовал необходимость этого военного совета, так как понимал, что лучше сейчас переубедить и пересилить сомневающихся, чем оставить их в раздумьях и скрытом несогласии.
– Господин генерал-поручик! – начал один из ближайших помощников Румянцева по осадному корпусу Леонтьев, сам по чину генерал-поручик, – военный совет единодушно считает, что при данном положении дел, то есть после воссоединения Платена с корпусом принца Вюртембергского и гарнизоном полковника Гейде, дальнейшая осада нецелесообразна и даже опасна!
Леонтьев обвел глазами собравшихся. Отовсюду ему одобрительно кивали. Румянцев, сидевший набычившись во главе стола, не поднимая глаз, глухо спросил:
– Ваши доводы, ваше превосходительство?
– Извольте, ваше высокопревосходительство. Доводы таковы: главнокомандующий господин фельдмаршал Бутурлин, кроме дивизии присутствующего здесь господина генерала князя Долгорукова, подкреплений ведь нам более не выделяет?
– Вы забыли легкую конницу Берга…
– Ваше превосходительство! Сия легкая конница не могла догнать пехоту Платена! К тому же при нашем положении осаждающих нам более кавалерии, все же, как мне кажется, уместна и надобна пехота!
– Кавалериста можно спешить.
– Это не значит сделать из него в сей же миг пехотинца.
Ваши собственные деяния по обучению вверенных вам войск как раз свидетельствуют именно об этом.
– Вы забываете еще одну мою мысль, столь же неустанно мною повторяемую: война учит быстро.
– Но…
– Господин генерал-поручик, оставим пока этот спор – он ни о чем: все равно, кроме Берга, ничего иного у нас нет.
– Именно об этом я и говорю.
– Я понял эту вашу мысль. Продолжайте.
– Хорошо. Далее: флот – по условиям погоды – скоро уйдет, тем самым деблокировав Кольберг с моря, что позволит подвозить пруссакам припасы.
Румянцев быстро вскинул на Леонтьева глаза. Тот, не отводя взгляда от лица командующего, продолжал:
– Я не останавливаюсь уже на соотношении сил. Просто хочу напомнить вашему превосходительству о рескрипте высокой Конференции относительно того, что паки произойдет нечаянное соединение Платена с защищающими Кольберг, нам надлежит отходить на старые квартиры.
– Это все?
– Нет, не все, – вмешался Еропкин, последние минуты ерзавший от нетерпеливого желания вставить слово. – Противник, ваше высокопревосходительство, обладая преимуществом в кавалерии, восстановил связь со Штеттином, откуда черпает ноне припасы. А наш подвоз затруднен недостатком транспорта и опять-таки этой же кавалерией.
– И еще, господин генерал-поручик, – подал голос бригадир Брандт, – скоро зима, у нас уже много больных…
– Надо отходить, Петр Александрович, – перебил его Еропкин.
– Ваше превосходительство, – с бешенством процедил Румянцев, – я просил вас высказывать доводы, а не советы.
Принимать решение буду я сам. У вас все, господа?
Члены военного совета спокойно и непреклонно наклонили головы в знак подтверждения, что все уже сказано и добавить, а уж тем более возразить, нечего.
– Ну что ж, господа, отвечу вам. Да, вы правы, неприятель превосходит нас числом. И он в укреплениях. Но ведь никто и не предлагает немедленный штурм! Ведь речь идет об осаде! Прошу также не забывать, что припасов в Кольберге не так уж и много, и скоро неприятель будет испытывать недостаток в продовольствии и фураже.
Шепот.
– Да, я знаю ваши доводы – вы их только что мне высказали. Но зима ведь не только прогонит наш флот от Кольберга, она не даст возможности действовать и кораблям противника. Что же касается подвоза со Штеттина, то мы – и особенно при помощи господина Берга – в состоянии прекратить подобные сообщения. Мы осаждаем, и у нас в этом случае больше возможности маневра. О нашем снабжении – кроме подвоза, магазинов – надо налаживать и реквизиции. Война затрагивает всех, включая и тех, на чьей земле она ведется. Это разумно. Но реквизиции – не грабеж. Таким образом мы, соблюдая меру и обеспечив себя необходимым, лишим этого противника, который будет решать задачу: драться с нами или отступить. Надеюсь, вы знаете, как должно сражаться на открытой местности?
– А холода, – снова повторил свой довод Брандт, – как быть с ними?
– Будем готовиться к ним. Я уже говорил как-то генерал-майору Еропкину, что война – не карнавал, не парад и не маневры. Она не должна зависеть от того, есть ли на небе солнце, или идет дождь.
– А как же быть с рескриптом, ваше высокопревосходительство, – со значением напомнил свой аргумент и Леонтьев.
– Господин генерал-поручик! Господин генерал фельдмаршал неоднократно получал рескрипты ее величества. Ныне получаю их и я. И они все говорят об одном – России нужна победа. Мы сидим здесь к противнику ближе и видим его более, так что не грех нам и принять решение своим умишком, и принять его на себя. И мне кажется, ваше превосходительство, что доводы политические при делах военных – не самые лучшие. Они чреваты самыми непредвиденными последствиями – если отдаваться им с упоением. Побережем себя и дело. А в данном же случае они токмо хорошо показывают вас, кто вы и что вы.
Леонтьев побагровел.
– И последнее, господа. Ведя осаду, мы тем самым ослабляем на основном фронте Фридриха и даем возможность нашей главной армии решать задачи свои без оглядки на силы Вюртембергского и Платена, без боязни того, что король прусский может внезапно усилиться за их счет. Я решил, господа, продолжать осаду. Мы слишком долго здесь пробыли и слишком много затратили сил, дабы после всего этого отступить ни с чем. Осада будет продолжаться и крепость будет взята! Несмотря на все и всяческие противодействия – как со стороны противника, так и со стороны своих маловеров. Я призываю вас, господа, выполнять свой долг. Мы – солдаты, а, стало быть, должны сражаться и побеждать! Для этого мы и нужны России. Все свободны, господа. Спокойной ночи.
На следующий день активные участники спора, продумав свою позицию за ночь, подали Румянцеву рапорта с прошением об отпусках по болезни. Румянцев хмыкнул:
– Насильно мил не будешь.
И подписал. В таком деле сомневающийся помощник – не помощник. Теперь его волновало всерьез лишь одно – отношение Конференции и главнокомандующего к его самоволию. Он не стал на совете смущать умы своих подчиненных этими своими раздумьями, но про себя передумал об сем предмете предостаточно. Но вскоре он уже с удовлетворением зачитывал оставшимся генералам новый рескрипт на свое имя:
– «…Службу вашу не с тем отправляете, чтоб только простой долг исполнить, но паче о том ревнуете, чтоб имя ваше и заслуги сделать незабвенными». Все ясно, господа совет? Нашу настойчивость осадную, – он щедро делился единоличным решением сейчас со всеми, хотя на том совете и был в полном одиночестве, – одобряют. И поддерживают. Надеюсь, что более из нас, оставшихся, никто отныне не занедужит и что это успокоит тех, кто боялся державного гнева за выполнение долга своего. И заставит всех сделать все возможное, дабы оценка верховная наших ратных заслуг не пропала втуне! За работу, господа!
К этому времени подошедшая легкая конница Берга вовсю тревожила пруссаков, постепенно отбирая у них контроль над жизненно важной артерией Кольберг – Штеттин.
В начале октября Берг у деревни Вейсенштейн разбил наголову отряд прусского майора Подчарли, пленив при этом и самого майора во главе множества его подчиненных.
Подчарли на подмогу шел от Грейбенберга отряд де Корбиера, дослужившегося со времени до фельдмаршала. Де Корбиер, увидев, что нужда в его подмоге уже отпала, пытался избегнуть поражения и вовремя отойти. Но Суворов, подполковник конницы Берга, настиг его с эскадроном сербских гусар и долго гнал.
Русская армия тогда уже – после неудачной осады Бунцельвица совместно с союзником Дауном – выдвигалась в Померанию и – далее: на зимние квартиры за Вислу. Бутурлин поэтому приказал соединиться с Бергом кирасирским полкам генерал-поручика Волконского. Дивизия Фермора должна была двигаться непосредственно к Кольбергу. Она шла наперерез пруссакам, идущим от Кольберга к Штеттину.
Это уходил из крепости Платен. Румянцев оказался прав.
Перерезав коммуникации неприятеля и раз за разом нанося колющие удары по небольшим отрядам Платена, пытавшимся противодействовать этому, Румянцев вынудил прусского генерала к ретираде. Поначалу Платен отошел к Трептову, а затем начал движение на Гольнау, выдвинув арьергардом сильный отряд Корбиера.
Авангард этот Берг атаковал у самого Гольнау на открытой равнинной местности, сильно раскисшей после ливней. Заболоченность, затруднившая наступление тяжелой русской кавалерии, позволила пруссакам заблаговременно приготовиться и открыть по наступающим огонь картечью. Построившиеся в каре русские пехотинцы в подкрепление своей артиллерии давали залп за залпом, но русские шли прямо на свинцовый дождь и первой же атакой опрокинули каре.
Корбиер попытался спасти ситуацию, введя в дело кавалерию, но ему снова помешал Суворов, выведший своих гусар навстречу неприятельской лаве. Пруссаки были опрокинуты, причем суворовские гусары успели еще и захватить неприятельских фуражиров.
– Господин генерал, позвольте наказать этих дерзких русских. Всего несколько эскадронов драгун, и с ними будет покончено, – умоляли Платена его офицеры, на глазах которых громили их товарищей по оружию и многолетним кампаниям.
– Запрещаю, – сурово отвечал Платен, отвернувшись от подчиненных и от своего авангарда. – Если мы сейчас ввяжемся в бой, то на нас упадет Румянцев! Вы этого хотите? Здесь война, а не игра в солдатики! А на войне, случается, и убивают. А случается и такое, что нужно пожертвовать частью, дабы спасти все! Волк, попадая в капкан, отгрызает себе лапу и уходит. Мы сейчас – этот волк. Мы даже не смеем остаться в Гольнау, а вы призываете меня к самоубийственным поступкам. Стыдитесь, господа. Вы не офицеры, а кисейные барышни.
И действительно, Платен не долго пробыл в крепости.
Подошедший Фермор подверг Гольнау двухчасовой бомбардировке, после чего позволил пруссакам отойти – из-за якобы чрезмерной укрепленности Гольнау, что не позволяло предпринять штурм.
Прусский командир – от греха подальше – перенес свой основной лагерь поглубже в лес, приказав все же закрепиться в крепости гарнизону, прикрываемому несколькими батальонами пехоты с приданными кавалерией и артиллерией. Прикрытие расположилось на мосту, ведущем из Гольнау. По приказу Берга Суворов с гренадерским батальоном смел всех этих прикрывающих, ворвался, взломав ворота, в крепость и, вытряхнув оттуда гарнизон, гнал неприятеля штыками до лагеря самого Платена.
Платен почел за лучшее отступить и отсюда. Берг преследовал его до Дамма. Фермор – нет.
Осадный корпус в эти дни тоже не дремал. Румянцев оставил для сдерживания наступательных амбиций принца Вюртембергского пехоту Долгорукова, после чего перешел на западный берег Персанты и принялся громить прусские посты. Расправившись с оными, русские войска двинулись к Трептову, – выкуривать генерал-майора Кноблоха, отряд которого был направлен туда принцем Вюртембергским – для облегчения положения Платена.
Платен же, отступая на Штеттин, оставил в Трептове Кноблоха защищать свои коммуникации. Но сейчас Кноблоху предстояло более серьезное дело – защищать от Румянцева уже не какие-то коммуникации, а свою собственную свободу и, может быть, даже жизнь.
Задача оказалась прусскому генерал-майору не по силам.
Подвергнутый артиллерийскому обстрелу, он решил не дожидаться штурма со всеми его жестокостями и предпочел сдаться. В свой актив русские записали 61 офицера, 1639 солдат, 15 знамен и 7 пушек. Это был крупный успех всей кампании 1761 года.
Румянцев с войсками вернулся в лагерь продолжать осаду Кольберга. Его корпус был усилен до тридцати пяти тысяч. Главная же армия была уведена Бутурлиным на зимние квартиры за Вислу и Мариенвердер.
В помощь же осадному корпусу фельдмаршал оставил корпус Волконского на Варте и корпус Чернышева в Силезии. Румянцев пытался критиковать подобное весьма неудачное расположение, но Бутурлин его доводов не принял.
Фридрих, полностью – заочно – согласный с Румянцевым, не мог уже предоставить русскому главнокомандующему свои доводы, разбив его корпуса по отдельности – был слишком слаб. Но сил для поддержки Кольберга не жалел, выделяя из своих скудных запасов все возможное и невозможное.
Он усиливает ослабленного поражениями Платена отрядом Шенкендорфа, насчитывающего пять тысяч. Но это уже мало чем могло помочь осажденным. Румянцев, когда ему донесли об этом отряде, отвечал на вопрошающие взгляды своих генералов:
– Господа, не понимаю вашего ожидания в отношении наших с вами совместных действий. Сей отряд, конечно, усиливает генерала Платена и делает оного последнего снова опасным как для наших магазинов, так и для припасов и фуража генерал-поручика Волконского. Не менее, но и не более. Хоть одинокий Платен, хоть вкупе с Шенкендорфом – он может только кусать исподтишка.
– Простите, ваше превосходительство, – спокойно возразил ему генерал-майор Яковлев, – а такую возможность, как совокупный удар Платена, Шенкендорфа и принца Вюртембергского по нашему корпусу, вы учитываете?
– Учитываю, ваше превосходительство, – весело отвечал командир корпуса. Весело и уверенно. – Равно, как и то, что конница генерал-майора Берга, постоянно тревожащая Платена, располагает необходимыми сведениями о нем. Учитываю и то, что совокупные силы пруссаков ныне наконец-то менее наших. Наступая же, они будут действовать там, где мы находимся уже долгое время и, стало быть, можем предположить направления их ударов. И не только предположить, но и предупредить их своими действиями. И вообще, чем быстрее пруссаки надумают пойти на решительную сшибку – тем лучше. Мы уже и так слишком долго находимся здесь.
– Вы так уверены в победе, ваше высокопревосходительство?
– Уверен, господа. Глупа уверенность, под которой нет крепкого фундамента логики. Хотя бывает, что и она приносит победу. Но и воевать без уверенности – значит терпеть постоянные поражения. Вспомните наш военный совет после того, как Платен пробился в лагерь Вюртембергского. Тогда тоже были сомнения. Сейчас же обстоятельства складываются для нас гораздо благоприятнее. Хотя бы из-за тех же холодов, которые некоторых из вас так пугали ранее. Наши солдаты худо-бедно, но уже обжились. Платену же с Шенкендорфом придется идти по неподготовленным для зимнего проживания местам. И потом: у них много кавалерии. А фураж? Вот вам, господин генерал-майор, и еще один довод. Кто еще хочет высказаться?
Генералы молчали. Они уже усвоили, что если, трудно и тщательно что-то для себя продумав и выверив, Румянцев приходил к какому-то выводу, то он уже не отступал, пребывая в своей уверенности до конца, и сейчас возражали ему больше по инерции. По инерции нежелания принимать на свои плечи груз ответственности.
Румянцев же подобную ответственность на себя брать не боялся. Привыкнув полагаться – и в большом, и в малом – прежде всего на самого себя, он жил и действовал по принципу: если не мы – то кто?
Осада продолжалась. Защитники крепости испытывали все большие лишения, Платен же и Шенкендорф, скованные беспрестанно тревожащим их Бергом, не рисковали нанести румянцевскому корпусу удар, дабы попытаться деблокировать Кольберг.
Корпус Вюртембергского, так и не дождавшись действенной помощи, по приказу командира ушел из лагеря. Сторожевые посты осадного корпуса упустили пруссаков, ушедших через плесо, соединенное с морем протоком. По приказу Вюртембергского через проток был наведен съемный мост, по которому и переправилась пехота. Кавалерия перебралась вплавь.
Отступающих обнаружил Берг, попытавшийся преградить им дорогу у Регенвальда, но пруссаки, хоть и с трудом, но все же пробились через его порядки и соединились с Платеном.
Румянцеву же в качестве слабого утешения достался укрепленный лагерь принца, заняв который он окончательно не оставил Гейде никаких шансов на удачное для того разрешение их долговременного единоборства. Но, предполагая, что Вюртембергский, как человек решительный, не замедлит с энергичными действиями, Румянцев оставляет в качестве прикрытия осадных батарей и лагеря несколько батальонов пехоты – только лишь для начального сдерживания полковника Гейде, коли у него возникло бы желание попытать судьбу в чистом поле – а сам со всеми силами перебирается на западный берег Персанты.
Пока руководивший непосредственно осадными работами инженер-полковник Гербель вел траншейные подступы к крепости и подбирался к подошве земляной насыпи перед наружным рвом укрепления, Румянцев на левом берегу реки выковыривал пруссаков из укрепления Вольфсберга и занимал устье Персанты.
Вскорости наступило время и для подведения итогов давнего знакомства Румянцева и Платена и принца Вюртембергского. Прусские генералы, получив категорическое приказание Фридриха о немедленной доставке в Кольберг продовольствия, пошли на быстрое сближение с русским корпусом. Несколько дней пикировки с помощью лишь легкой кавалерии в надежде, что Румянцев подставится под удар, закончились ничем, и первого декабря прусские войска двинулись на приступ русских позиций.
Основной удар был нанесен ими по Шпигскому проходу, защищенному лишь одним гренадерским батальоном с пятью пушками. Когда при извещении о диспозиции Румянцеву осторожно намекнули на подобную слабость и явную недостаточность этих сил для обороны такого важного направления, то он лишь весело возразил:
– Пустяки, господа! Все делается, как должно. Хочу надеяться, что знатные прусские тактики купно с вами оценят эту слабость и попытаются ее использовать! Сие весьма к месту!
Прусские генералы оправдали надежды русского командующего. Они бросили на этот проход кавалерию, которую гренадеры, прежде чем отступить, еще успели потрепать картечью.
Гренадеры занимали позицию, не имевшую флангов. По причине незамерзающих болот вокруг. И когда торжествующие пруссаки отбросили русский батальон с прохода и устремились по нему, они внезапно увидели, что в тыл им заходят пехотные колонны, усиленные конницей, включающей и казаков. Началась паника, усугубленная Румянцевым, бросившим вдогонку отступающим кавалерию и легкие стрелковые батальоны. Убитые мешались с ранеными и пленными. Избегнувших же этой участи гнали до Одера и далее.
Гейде, узнав о поражении тех, в ком была его единственная надежда, капитулировал через три дня после этого. Сдались 2900 человек, оставшихся в живых.
Сообщение о победе вместе с ключами от крепости в Россию повез бригадир Мельгунов. Донесение Румянцева о взятии Кольберга было, согласно распоряжению императрицы, напечатано и разослано по стране 25 декабря 1761 года.
В этот же день по смерти Елизаветы Петровны на престол России вступил Петр III.
Глава IV. Век Екатерины Великой
После взятия войсками Румянцева Кольберга казалось, что окончательное поражение Пруссии очевидно и весьма близко.
Фридрих, сидя в своем полуразрушенном артиллерийским огнем дворце в Бреслау, намеревался передать власть племяннику и отравиться. Как он писал в это время, «Пруссия лежала в агонии, ожидая последнего обряда». Но смерть императрицы Елизаветы смешала все карты.
Она умерла 25 декабря 1761 года, и этот день был, вероятнее всего, счастливейшим днем в жизни Фридриха II. На смену Елизаветы на российский престол сел великий князь Петр-Ульрик, принявший имя Петра III. Не желающий знать об ответственности государя перед страной, им управляемой, и считая свои симпатии и антипатии, свое мнение самыми правильными и наиболее верно отражающими чаяния его подданных, Петр III резко развернул российскую внешнюю политику.
С детства являясь почитателем военных и прочих талантов Фридриха II, безмерно гордясь знаками приязни своего венценосного друга, Петр III поспешил заключить мир с прусским королем, вернул ему все завоеванные земли и объявил себя его преданнейшим другом и защитником.
Он предложил Фридриху военный союз против его врагов, а в качестве первой совместной акции – войну против Дании. Зачастую забывая, что он император всероссийский, Петр никогда не забывал, что он сын Гольштейн-Готторпского герцога и что земельные владения имеются у него и в Германии. Вот именно из-за недоразумений по поводу этого герцогства и объявила Россия – в лице Петра III – войну Дании.
На пост командующего, как всегда, было множество кандидатур, но Петр, весьма часто ошибающийся в оценке людей и событий, на этот раз не сплоховал. Дело, затрагивающее его личный интерес, было, по мнению Петра, слишком серьезным, чтобы экспериментировать – командующим был назначен генерал-аншеф Петр Румянцев, приобретший к тому времени большую известность, но лишь как способный военачальник, не обладавший – после недавней смерти отца – сильной рукой при дворе, что служило некоей гарантией неучастия полководца в придворных делах.
Личность Петра III до сих пор не получила однозначной трактовки. Версия официальной историографии дореволюционной России о нем, как о экзальтированном и полусумасшедшем алкоголике, находит все меньше и меньше сторонников. Правда, он не имел необходимых знаний, опыта и подготовки для управления столь обширной державой. Но кто их тогда имел?
Судьба, назначившая родиться именно в этой семье, считалось, даровала счастливцу вместе с тем и все необходимые качества, необходимые для последующего царствования. Путь проб и ошибок над своими подданными, которым шел монарх, всегда был в порядке вещей.
Понимание того, что основной задачей государя является невмешательство в дела своего народа, усваивалось с трудом.
Кипучая деятельность венценосца, имитирующая заботу о своем пастырском стаде, была более проста и более внешне эффектна.
Петр III был романтиком. Таким же в дальнейшем будет его сын, будущий император Павел I, попытавшийся возродить средневековое рыцарство. Эта черта характера хорошо развивается у всех тех, кто, как эти двое, долгое время находились в непосредственной близости от трона, но были лишены возможности принимать самостоятельные решения и претворять их в жизнь. Желание применить свои силы и невозможность этого развивали мечтательность и склонность к химерам.
Древние замечали, что таким людям нельзя давать власть, ибо перегоревшие за долгие годы томительного ожидания, они, дорвавшись, в своей торопливости начинают совершать ошибку за ошибкой, не принимая никакой критики, закормленные ею в предшествующие годы своей жизни, когда все их проекты поднимались на смех подлинными властителями или их клевретами.
Но почему-то те же древние философы ничего не советовали подобным правителям в семейной жизни, хотя здесь тоже зачастую был виден тот же психологический надлом.
Еще в конце 1746 года, вскоре после свадьбы, Петр посылал жене такую записочку: «К великой княгине. Милостивая Государыня. Прошу вас не безпокоится нынешнюю ночь спать со мной, потому что поздно уже меня обманывать: постель стала слишком узка – после двух недельной разлуки. Ваш несчастный муж, которого вы никогда не удостаиваете этого имени Петр».
Екатерина с удовольствием цитирует это послание в своих автобиографических записках. Великая княгиня пока развлекалась, но мысленно уже примеривала – лишь на себя! – императорскую корону.
Взошедши на престол, Петр III повел себя возвышенно-романтически. Он пытался все делать для общего блага, не учитывая единственно, что до многих составных частей этого блага он дошел не своим умом, а был искусно направляем и подталкиваем. Петр был обуян жаждой деятельности, был неутомим, добр и доверчив.
С первых же дней правления новый император установил распорядок: день начинался обычно уже в семь часов утра и заканчивался поздно ночью. Он практиковал неожиданные выезды в Сенат, Синод и другие органы высшего управления, на казенные мануфактуры. Эти выезды пугали светских и духовных начальников, давно уже разучившихся работать в полную силу и привыкших во времена Елизаветы Петровны к спокойной и бесконтрольной жизни. Император ввел строгую дисциплину и в гвардии.
Он без охраны ходил по Петербургу, вступал в разговоры с солдатами, порой навещал своих бывших слуг. Это производило впечатление, но не укрепляло его политических позиций.
Большинство его прекраснодушных проектов остались лишь на бумаге. Один же из немногих – «Манифест о вольности дворянства» – претворился в жизнь. Он способствовал тому, что в российском обществе вместо социального слоя, веками обязанного заниматься той деятельностью, в которой в данное время больше всего нуждалось государство, все более отчетливо вырисовывается паразитический слой, не имеющий никаких обязанностей, а только одни права и, в силу этого, повисающего на обществе тяжким грузом.
Большой резонанс в народе получила также и провозглашенная Петром III секуляризация церковно-монастырских владений. С ней связывались и меры по прекращению преследований старообрядцев и закреплению веротерпимости, о чем Петр III мечтал еще в 1750-е годы.
Интересно, была ли эта его веротерпимость сродни бироновой, который, как отмечали «у себя в Курляндии Бирон… показывал широкую веротерпимость, как человек, затронутый современными ему философскими идеями»? Когда же дочь Бирона перешла в православие, то отец пришел в такую ярость, что ей пришлось искать защиты у самой Елизаветы.
Смена же внешнеполитической ориентации Петром III на союз с Пруссией была для России явно антинациональна; в жертву ей были принесены военные усилия и достижения страны, кровь ее солдат за предшествующие годы войны. Это будет одним из главных обвинений Петру III, когда его супруга, свергнув мужа, войдет на престол и в историю под именем Екатерины II, Екатерины Великой.
В своих «Записках» Екатерина зафиксировала, что еще до свадьбы ее будущий супруг: «Я не могу сказать, чтобы он мне нравился, ни что он мне не нравился; я умела только повиноваться матери, желавшей выдать меня замуж; но, по правде, я думаю, что российская корона мне нравилась больше, чем его особа». И позднее: «Надежда или перспектива не небеснаго венца, конечно, но земной короны, поддерживала мой ум и бодрость… говоря по правде, я ничем не пренебрегала, чтобы достичь цели».
Когда Петра III свергли, то, если верить манифестам Екатерины, вдруг сразу выяснилось, что переворот произошел исключительно из-за того, что Петр «законы в государстве все пренебрег, судебные места и дела презрел, доходы государственные расточать начал не полезными, но вредными государству издержками», что он оскорбил национальное достоинство, рискнув конфисковать вотчины, «коснулся древнее православие в народе искоренять».
Екатерина и ее окружение учли все просчеты Петра III, воспользовались всеми его ошибками, присовокупив, конечно, кое-что и не имевшее место в действительности, ибо кто же, освобождая трон от своего предшественника для себя, не обвинит того во всех смертных грехах? Такого рода перемены лучше всего проводить, обрядившись в тогу правдолюбца и защитника святынь, – меньше вроде как-то и неудобно.
Переворот, прошедший легко и просто, был совершен при активнейшем участии пяти братьев Орловых. Одному из них – красавцу Григорию – предстояла честь открыть своей персоной многочисленную плеяду фаворитов, до самой смерти Екатерины II с завидным постоянством сменявших друг друга у подножия ее трона.
И до Орлова у Екатерины были увлечения. Салтыков (возможный отец Павла I), позднее посол Речи Посполитой Станислав Понятовский, впоследствии ставший польским королем. Не забывшая его и после своего воцарения Екатерина в 1763 году в рескрипте, данном русскому послу в Варшаве, в том, в котором она приказывает ему поддерживать кандидатуру Понятовского в выборах на польский трон, говорит, что «он во время своего пребывания в Петербурге оказал своей родине больше услуг, чем кто-либо из министров республики».
Но Орлов – совсем иное. С него екатерининский фаворитизм становится неким подобием государственного учреждения. Со своими избранниками Екатерина пыталась – правда, не всегда удачно – делить бремя государственного правления. Ярчайший пример тому – Потемкин. Но он будет позднее. А пока Орлов – бывший герой Цорндорфа, трижды раненный в этом бою – из младших офицеров становится графом, директором инженерного корпуса, шефом кавалергардов, генерал-аншефом артиллерии и генерал-фельдцейхмейстером, президентом Канцелярии Опекунства иностранных колонистов, начальником всех укреплений.
И ко всем этим должностям он крайне равнодушен. Его брат – Алексей – гораздо более деятелен. Это он пришел в ночь переворота к Екатерине и сказал ей, что гвардия ждет ее, что пора отправляться в Петербург и объявить себя самодержицей всероссийской. Он был и главным действующим лицом в последующем убийстве свергнутого Петра III.
В конце 60-х годов, уже будучи победителем турецкого флота при Чесме, он удостаивается такой характеристики француза Сабатье, жившего в то время в Петербурге: «Граф Алексей Орлов самое важное лицо в России. Он своим появлением затмевает всех. Чернышовы не смеют и головы поднять… Екатерина его почитает, любит и боится… В нем можно видеть властителя России».
Орловы после воцарения Екатерины стали одними из самых богатых людей в России. Из этих средств они подкармливали гвардию, помнящую о своей роли в перевороте, которая и так любила их за молодечество. Они стали реальной политической силой, не считаться с которой было нельзя.
Князь Михаил Щербатов, написавший в эти годы книгу-памфлет «О повреждении нравов в России», где он дает очень нелестные характеристики многим венценосным особам и особам, их окружающим, для Григория Орлова делает одно из немногих исключений: «Сей, вошедши на вышнюю степень, до какой подданный может достигнуть, среди кулашных боев, борьбы, игры в карты, охоты и других шумных забав, почерпнул и утвердил в сердце своем некоторые полезные для государства правила, равно как и братья его. Оные состояли никому не мстить, отгонять льстецов, оставить каждому человеку и месту непрерывное исполнение их должностей, не льстить государю, выискивать людей достойных и не производить как токмо по заслугам, и наконец отбегать от роскоши, которыя правила сей Григорий Григорьевич (Орлов), после бывший графом и наконец князем, до смерти своей сохранял. Находя, что карточная азартная игра может других привести в раззорение, играть в нее перестал; хотя его явные были неприятели Графы Никита и Петр Ивановичи Панины, никогда ни малейшего им зла не сделал; а напротив того в многих случаях им делал благодеяния и защищал их от гневу Государыни». Панин Никита – долгие годы бывший при Екатерине как бы первым министром и руководивший в течение ряда лет российской внешней политикой – действительно сильно навредил и Григорию, и всем Орловым в целом.
Вскоре после того как Екатерина взошла на престол, она намеревалась выйти замуж за Григория. Несмотря на наличие множества недовольных подобной перспективой, никто особенно явно не возражал, памятуя, что власть любит и приемлет только те советы, которые отвечают ее собственным чаяниям.
Лишь Панин произнес фразу, поставившую крест на этом плане:
– Императрица может поступать, как ей угодно, но госпожа Орлова никогда не будет императрицей российской.
За подобную смелость Панин не поплатился – что, как подсказывает нам история, весьма вероятно – может быть потому, что угадал тайное желание Екатерины, уже решившей для себя к этому времени не эпатировать подобной выходкой общественного мнения и помня о еще некоей зыбкости своего положения. Поэтому отношения с Орловым, о котором Дидро отозвался как о «котле, который вечно кипит, но ничего не варит», и дальше пошли по уже привычной колее.
Чтобы царствовать, Екатерина, будущая «Великая», приучила себя от многого отказываться.
Ведь власть – самое сладкое, что суждено добиться человеку в этом мире. Она, став императрицей, по отзывам и воспоминаниям современников, никогда не выражала желания встретиться со своим братом, оставшимся в Германии и живущим там без особого блеска, и не позволяла ему навестить ее. На это у нее были вполне определенные политические причины. Она находила, что в России и без того слишком много немцев, считая и себя в их числе.
Пришедшая к власти в результате фактического военного переворота, Екатерина хорошо понимала реальную силу войска, находившегося в подобный нестабильный период в руках решительного человека, каким был Румянцев. К тому же он не поспешил с актом политической лояльности и недопустимо долго, по мнению законопослушных и быстро мимикрирующих подданных, да и самой императрицы, не присягал новой государыне, несколько сомнительно еще и рассуждая о законности прав венценосцев.
И поэтому одним из первых и логичных повелений новой самодержицы стал приказ об отстранении Румянцева от командования войсками, идущими на Данию, и передаче власти над армией брату Никиты Панина – Петру. Одновременно с этим Екатерина вообще приостановила этот поход, расторгла союз с Пруссией, но войны с ней не возобновила. В конце 1762 и начале 1763 года были заключены мирные договора между другими европейскими государствами. Семилетняя война окончилась.
Войны пришлось отложить. Надо было разобраться с тем, что уже навоевали. Когда Россия еще только вступала в Семилетнюю войну, она договором от 22 января 1757 года, заключенным с Австрией, обязалась содержать – также как и ее союзница – 80-тысячное войско в продолжении всей войны с Фридрихом, и кроме этого Россия должна была действовать флотом в 15 или 20 линейных кораблей и 40 галер, по меньшей мере.
Теперь же, проведя смотр этому, к счастью, практически не потребовавшемуся в битвах, флоту, Екатерина с отчаянием пишет своему первому министру Н.И. Панину: «Наше путешествие было так счастливо, что мы на следующее утро после отъезда из Петербурга уже были в виду флота. Передайте это моему адмиралу вместе с уверением в моей благосклонности. А вот что сохраните про себя, и что вам доставит не меньшее неудовольствие, чем мне: у нас в излишестве и кораблей, и людей; но у нас нет ни флота, ни моряков».
Приказ Екатерины о приостановлении боевых действий против Дании и сдаче командования Панину застали Румянцева на марше.
Человек прямой, он не задержался с ответом. 20 июля из Данцига он направил Екатерине прошение об отставке с позволением жить в деревне или ехать для поправки здоровья к целительным водам, что и было ему разрешено монаршим письмом от 5 августа. Он поселился в небольшом городке и чего-то ждал. И, действительно, он оказался прав. Между ним и императрицей завязалась переписка, суть которой сводилась к приглашению его вновь на службу и его колебаниям по этому поводу. Наконец 13 января уже нового 1763 года приходит очередное письменное приглашение Екатерины к службе, и сомнениям Румянцева настал конец. 31 января он письменно подтверждает свое согласие вернуться в Россию и еще в свое отсутствие получает Эстляндскую дивизию по письму Екатерины от 3 марта.
К этому времени первая волна эмоций, вызванная блистательной переменой судьбы, у императрицы уже прошла. Она стала более разумно и холодно оценивать своих подданных, принимая теперь во внимание не только тщательно выражаемую радость по случаю ее воцарения, но и – что у властителей получается хуже и реже – дарования человека, его способность принести реальную пользу государству в целом. Она оценила таланты Румянцева, чем и объясняется ее живая заинтересованность иметь его среди своих военачальников.
Он был одним из немногих знающих полководцев, за которым шла слава победителя. Он был храбр, хладнокровен, настойчив, справедлив, умел быстро воспользоваться ошибками неприятеля на поле боя. Румянцев был прост в обращении, доверял солдатам и был любим ими.
Вскоре после его прибытия в Россию, когда Екатерина получше узнала его, он неожиданно для многих назначается ею президентом малороссийской коллегии. Помимо всего прочего эта должность предполагала охрану границ России при взрывоопасном соседстве турок. Общепризнанная слава полководца, как верно решила Екатерина, в этом случае ее наместнику на Украине не помешает.
В этом случае произошел исторический курьез. В свое время отец Петра Румянцева был назначен на ту же должность президента малороссийской коллегии с заданием воспрепятствовать сепаратистским стремлениям казачьей старшины. При Елизавете гетманство, упраздненное было в предшествующие годы, вновь возродилось специально для Кирилла Разумовского, брата долговременного фаворита Елизаветы – Алексея Разумовского.
Постепенно свыкнувшись со своим гетманством, Кирилл захотел его сделать наследственным и в 1764 году попросил об этом Екатерину II.
Ему объяснили, что Переяславская Рада была не для того, чтобы он теперь опять выступал за отделение Украины от России, к чему объективно и вела его просьба. Разумовский, испугавшись за свое положение самого богатого человека в России, после подобных умозаключений монарха, поспешил подать в отставку со своего гетманства. Екатерина воспользовалась этим для окончательного уничтожения гетманства и замены его коллегией.
Назначенному президентом коллегии Румянцеву предстояло заняться решением задач, сходных с отцовскими. Екатерина советовала для этого запастись «волчьими зубами и лисьим хвостом».
Вскоре после получения энергичных предписаний он выехал из Петербурга к месту новой своей службы. В этой должности Румянцев останется до конца своей жизни, несмотря на множество других, время от времени получаемых им.
Закончился один из периодов его жизни. Покачиваясь в коляске, он ехал навстречу новым делам и заботам. Ехал умудренным жизнью и книгами человеком, ехал с уверенностью, что все необходимое им будет выполнено. Герой войны Семилетней, он ехал навстречу еще большей славе.
Именно еще предстоящие ему деяния позволят в самом начале следующего XIX века, уже через 15 лет после его смерти, сказать его современникам: «Всякому приятно знать деяния великих людей, а тем более своих соотечественников. Примеры образуют великих…
Русские могут славиться многими своими соотечественниками; в их летописях видны безчисленные примеры разительных доблестей и каждое почти царствование являет мужей истинно великих, мужей, которые в высокой степени блистают свойствами, искони отличавшими народ сей. Граф Румянцев был одним из первых участников блеска своего века».
Малороссийская коллегия была учреждена в составе 9 человек.
Румянцев – ее президент и генерал-губернатор Малороссии – «как поверенный Государя в отсутственном месте». Одновременно он назначен главнокомандующим всеми военными силами Украины.
Обязанности его были многочисленны и практически безграничны. На него возлагалось верховное управление всей областью. Он был обязан по своей должности «строгое и точное взыскание во всех подчиненных ему месте людей в той Губернии находящихся о исполнении законов и определенного их звания и должностей; почему и долженствует вступаться за всякого, кого по делам волочат, и принуждать судебные места той губернии решить такое-то дело, но отнюдь не мешаться в производстве онаго; ибо он только хозяин своей губернии, а не судья. Если б в судебном месте определено было, что не справедливо, то главнокомандующий может остановить исполнение, и доносить Сенату, а о времени не терпящих делах» даже самой императрице.
Кроме этого Румянцеву вменялось в обязанность «пещись до сохранении порядка безотяготительного, и иметь в полном своем распоряжении градскую и сельскую полицию. Чего ради он чинит пресечение всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обуздывает излишества, безпутства, мотовство, тиранство и жестокости, предупреждает могущий быть недостаток в нужных для жизни припасах».
На Румянцева, как президента коллегии, генерал-губернатора и главнокомандующего, возлагалась обязанность производить точно и своевременно всевозможные сборы с населения, особое внимание обращая на набор рекрутов. На случай могущих последовать народных волнений, эпидемии, наводнения или пожара ему подчинялись военные командиры частей, бывших на этой территории, не считая воинских частей в гарнизонах и крепостях, бывших в его непосредственной юрисдикции.
Поскольку Малороссия лежала на южных границах государства Румянцеву предписывалось проявлять «бдение и предосторожности от соседей».
Эти «бдения» забирали у него много сил, времени и забот. Он постоянно считал одной из важнейших своих забот оборону границ Малороссии. Если учесть, что в те годы, пока он был губернатором этих мест, произошли две крупнейшие русско-турецкие войны столетия, то с его мнением трудно не согласиться.
Еще в годы Семилетней войны, столкнувшись в лице Фермора с рьяным поклонником кордонной системы, Румянцев пришел к выводу, что оборона границ государства по соседству с активным противником должна строиться на иных принципах. Применительно же к Украине, он считал, что оборона должна быть основана не на системе укрепленных линий (так называемая Украинская линия) и – как это было прежде – растянутых за ними в тонкую, всегда готовую прерваться, линию местных войск.
Оборона ни в коем случае, считал Румянцев, не должна опираться на одну крепость, которой располагали в то время русские, – крепость Св. Елизаветы на правом берегу Днепра, – а только на соответственное использование естественных преград, на сильные сооружения на оборонительных линиях в строгом соответствии с местными особенностями, на армию, расположенную на пограничной полосе сообразно вероятнейшему образу действий в случае войны с соседней державой, и наконец – на строгом порядке в устройстве пограничных поселений.
Ознакомившись с границами южнорусского края, Румянцев в своих «Примечаниях военных и политических» (1765 г.) находил, что южные границы России не отвечают ни одному из этих условий.
Пестрое население приграничной полосы только усложняет дело обороны. В этом документе он советовал до более благоприятных времен запретить создание поселений в степи.
Как итог анализа положения дел на границах можно считать мысль Румянцева о том, что при существующем положении дел оборона границ практически невозможна. Он высказался за наступательное решение этого вопроса, все остальное считая полумерами.
Одним из самых важных дел, предпринятых им в первые годы деятельности на Украине, было проведение так называемой «румянцевской описи». Это было нечто вроде переписи населения, с его движимым и недвижимым имуществом, произведенной в Малороссии по распоряжению П.А. Румянцева на основании инструкций, полученных им от Екатерины II при назначении его на должность малороссийского генерал-губернатора. Весной 1765 года приехав на Украину, Румянцев целое лето провел в разъездах, знакомясь с ней. После этого в сентябре он предложил малороссийской коллегии произвести генеральную опись края.
При этом имелось в виду, главным образом, разграничить казаков от крестьян и определить их имущественное положение и состояние на основе юридических данных.
Будучи человеком военным, привычным к дисциплине и привыкшим отдавать приказы, Румянцев и дело переписи поставил на четкий военный лад. Он назначил ревизорами, проводящими перепись, штаб-, обер– и унтер-офицеров. Им придавались писаря и рядовые. Ревизорам вручались инструкции – одна общего содержания и четыре частные: для описи городов; казачьих имений; частновладельческих вотчин и, наконец, для описи кормных, урядовых и монастырских владений.
Согласно инструкциям, румянцевские ревизоры действовали решительно и настойчиво – они выгоняли народ из изб, строили его шеренгами и начинали делать перепись. Также поступали они и при переписи скота. Описывалось положение поселений по урочищам, перечислялись общественные здания, указывалось число дворов и бездворных хат, с числом в них жителей, здоровых и больных, и с указанием их болезней и увечий. Регистрировались промыслы и ремесла жителей, земли, их доходность.
В опись входило также перечисление чиновников, сведения о содержании полиции, о безопасности поселения в пожарном отношении, о призрении нищих.
Словом, власть хотела знать все. В будущем фискальная система должна была действовать без осечки, забирая в казну не наугад, а в строгом соответствии с зафиксированным. Эта перепись во многом ухудшила положение местного населения, многих записав в крестьянское сословие, что сопровождалось резким увеличением налогов.
Однако перепись была в то время для Украины актом назревшим – конечно, с точки зрения центральной власти – поскольку последние годы Малороссия, несмотря на все свои богатства, приносила российской казне вместо прибыли ежегодно по нескольку миллионов убытка… Природа не терпит пустоты: после того как Богдан Хмельницкий вымел с Украины традиционных хозяев здешней жизни польских и ополяченных панов – тут должна была родиться вековечная мечта простого народа: Вольное государство Вольных хлебопашцев-воинов. Свободная и сильная Казакия, царство Божие на земле.
Но не получилось – уже через считаные годы (в разы и разы быстрее, чем в других странах и народах, где крестьян подминали под владетелей веками) появились новые хозяева: вчерашние товарищи, выборные вожди, сотники, полковники, судьи и писаря. Времена, когда целый полковник Тарас Бульба жил в обычной хате, становились воистину былинными.
Черкассы (официальные, реестровые казаки) за одно-два поколения окончательно подмяли сердюков (селян-землепашцев) и стали их новыми хозяевами, властными в их свободе и неволе, жизни и смерти.
То, что удалось донским казакам, а затем – и всем остальным казачьим войскам Империи, остаться самостоятельными свободными хозяевами своих земель, воинами рубежей, не получилось на Украине. Почему – Бог весть. То ли так легли карты Судьбы, то ли потому, что подминали под себя вчерашних братьев их самые успешные товарищи-командиры. То ли из-за вековечного презрения переступившего через многое вчерашнего селянина, сегодняшнего воина, человека, взявшего в руки оружие, чтобы защищаться и защищать, убивать и готового и самого быть убитым к тому, кто решил отсидеться за спинами оружных товарищей, думая, что есть его поумнее и побойчее, кто все решит и сделает за них. И – сделали.
А, может быть, повторимся природа не терпит пустоты, и вчерашним хлопам польских панов не хватало строгой (всегда) и милостивой (изредка) руки хозяина. И они, оборотясь и поискав ее, с облегчением увидели, что и к ним проявляют интерес «сильные люди». Сошлось. И в дальнейшем в этих щедрых краях будет не раз происходить нечто подобное – достаточно посмотреть биографии местных гетманов, чьи взоры обращались во все стороны в поисках хозяина-союзника, не помышляя при этом ни о вере отцов, ни о прошлых ошибках предшественников, ни о перспективах существования доверенных им людей, или вспомнить события последних лет, десятилетий и столетий. И по какой причине – неведомо сие. То ли воздух здесь такой, то ли историческая память крепка, то ли – гены… Так что генерал-аншеф П.А. Румянцев, прибывший на Украину весной 1765 года и проехавшей по ней, увидел знакомую ему по России картину: баре и крестьяне. Только не всегда ясно законченную, поскольку местами и временами стыдливо скрывалась под флером высоких словес и штилей (риторы малоросские – хоть и Речь Посполитая ушла из этих мест и краев – никуда не делись и по-прежнему были готовы обосновать действия уже нынешних властей предержащих; и уже забывалось, что воспитаны они были во многом на латинских традициях словесных баталий со схизматиками и учили их зачастую лучшие учителя полемических и манипулятивных наук своего времени – иезуиты).
Румянцев, как человек прагматично-прямой (хорошему полководцу сложно быть иным, а то, что он хороший полководец к тому времени уже мало кто сомневался в Европе), решил прояснить и для себя (как и кем ему в дальнейшем управлять), так и для центральной власти ситуацию – так возникла идея Генеральной описи, получившей в дальнейшем наименование Румянцевской… В это же время Румянцев прилагал усилия для исправления Запорожского корпуса, занимался восстановлением в Малороссии водной коммуникации. 28 августа 1766 года утверждено его представление о построении в беловежских степях города Екатеринослава.
Очередная война с турками остановила – внезапно, вдруг – его кипучую административную деятельность…
Дмитрий Попов тоже оказался в составе своего полка на Украине. Он погибнет в одном из боев в 1772 году. Но пока до этого еще далеко. Война начнется только через год…
Наступившая ночь прекратила дневной шум-гам, стойко держащийся при солнечном свете в большом, многосложном и многолюдном хозяйстве малороссийского наместника. И лишь ночью нисходила благословенная тишина – пора раздумий и осмысления дневной суеты.
У открытого окошка за простым – по-армейски, по-походному – столом расположились секретарь наместника Александр Безбородко и его гость – офицер одного из полков, расквартированных в Малороссии, секунд-майор Дмитрий Попов. Познакомившись случайно несколько лет назад, они как-то сразу потянулись друг к другу – такая симпатия зачастую бывает – почти инстинктивна, хотя при желании ей и можно найти объяснение по аналогии с пословицей «рыбак рыбака» – людей, думающих схоже, не так уж и много, как и просто думающих, – вот они и тянутся друг к другу. Теперь они – уже старые знакомые, почти приятели, хотя и сохранилась в их отношениях первоначальная легкая куртуазность – начав так по привычке и немного из эпатажа решили в дальнейшем сие не менять.
– Угощайтесь, Дмитрий Николаевич. Попробуйте-ка вот пирожков домашних. Чай при вашем-то казенном коште и забыли, как их и с чем едят.
– Покорно благодарю, Александр Андреевич. С удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением, тем паче что подобных деликатесов я и в детстве-то не едал: всю жизнь свою по лагерям военным странствуя, так что не до разносолов было.
– Помню, помню, Дмитрий Николаевич, рассказы ваши. Тем более тогда надо на пирожки-то налечь. Что в детстве недобрано – то в зрелости наверстывать надо.
– Сей принцип, Александр Андреевич, весьма опасен, так как служит оправданию многого. Не лучше ли так сказать: коли в детстве сумел довольствоваться малым – не уподобляйся в зрелости скотам неразумным, до кормушки добравшимся?
– Так, значит, по-вашему, кто в юности все имел, тот пусть и дальше всем владеет, а не имевший ранее пусть не имеет и сейчас?
– Ах, Александр Андреевич, с пирожков ваших выходим мы на серьезные материи, но – делать нечего – планида наша с вами такая. Посему отвечу: не так я считаю, как вы сие сейчас изволили трактовать. Позиция ваша в данном случае – плод застарелой желчи вашей, усугубляемый ныне благосостоянием растущим. Мне же представляется так: чем быстрее человек дорвался до благ всех жизни нашей, тем он опасней для окружающих. Добиваясь их, он готов на все. Добившись же оного, он спешит воспользоваться приобретенным, невзирая на окружающих его. Старые же роды, ныне уже долго владеющие богатствами земли, помышляют – естественно в идеале, Александр Андреевич! – не токмо как бы прожить позвонче, но и как бы пополезнее – пополезнее для своей державы. Когда человек насытился и опьянение этим миновало, тогда он приобретает возможность оглядеться и понять многое из того, что до сего момента ему понимать было недосуг и не с руки. Заключая все сказанное мною, скажу: испытывающий в детстве только зависть, а в зрелости – удовлетворение от приобретенного, думает лишь о себе, а отнюдь не о державе. Вот что мне не нравится, а так – пусть старается достичь большего. Грех осуждать за это людей. Пусть их!
– Так, значит, все-таки дозволяете жить лучше, чем предки жили?
– Конечно, Александр Андреевич. Дозволяю! Живите, господин секретарь, лучше, богаче, звонче, чем батюшка ваш жил. Не забывайте токмо при этом, во имя чего вы живете – во имя брюха своего или во имя духа.
– А что вы, любезнейший Дмитрий Николаевич, подразумеваете под духом? Мы все веруем!
– Вопрос токмо: во что? В маммону, тельца золотого, или во что-либо иное, в субстанцию менее телесную. Каждый мечтает о своем: кто о своем процветании печется, кто о державном.
– А по-вашему, ежели я процветаю, так держава беспременно должна в разор прийти?
– Не обязательно. Но весьма вероятно. Когда в государстве каждый прежде о себе думает и ради этого готов соседа затоптать – державе добра не видать! Это же, представьте, Александр Андреевич, какая это редкость: чтобы интересы всех с государственными интересами в полное единение пришли!
– Не вижу противоречий, Дмитрий Николаевич. Богатые подданные – богатое государство.
– Богатое чем?
– Всем!
– Всем ли? Богаче ли оно будет совестью, честью, мужеством?
– А, вот вы куда!
– Именно туда. Золото не выигрывает войн, а питает их. Выигрывает железо. Железо, взятое в надежные руки. А чем они надежны? Тем, о чем я говорил вам сейчас и о чем вы считаете возможным не упоминать.
– Почему же? Сие тоже полезные и нужные качества. Но странно, мне, что вы не упомянули о таком важном качестве, как верноподданность. Или это не просто забывчивость?
– Я знал, Александр Андреевич, что вы обратите на это внимание. И был уверен, что не преминете мне об этом напомнить. Разумеется, это важная черта во всех случаях. Верность должна быть, без этого державе не простоять.
– Простите, Дмитрий Николаевич, я говорил о верноподданности, сиречь верности монарху и престолу. Конечно, это тоже верность, но верность в ее высшем, идеальном значении.
– Мы с вами по-разному понимаем идеал, Александр Андреевич. Для меня, русского дворянина и офицера, верность – это прежде всего выполнение долга, выполнение до конца, перед землей, породившей меня. Вспомните, как сказал Петр при Полтаве: сражайтесь не за меня, государя вашего, а за Отечество! Вот высшая верность.
– Так значит верность монарху вы отрицаете?
– Не передергивайте, Александр Андреевич, не старайтесь меня подловить или обвинить в чем-то. Я доказывал верность монарху задолго до того, как вы начали в политику поигрывать. Монарх как символ – да. Живые же люди стареют, умирают, случается, ошибаются.
– Монархи ошибаются?
– А разве вы не знаете нашей истории? Ах, да, это же не ваша история! Она только становится вашей. По-видимому, отсюда ваша экзальтированная и нерассуждающая преданность. Вам ведь еще надо доказать, что вы свой и нужный. Только умоляю вас, Александр Андреевич, не доказывайте это мне! Я и так вас весьма уважаю и не собираюсь – поверьте! – сообщать по начальству ни о чем для вас предосудительном. Если же это уже стало вашей верой – мне жаль Россию. Когда самые умные из ее слуг начинают думать так, как вы, – добру не быть. И кстати, господин секретарь, вы не находите, что мы сейчас говорим о том же, с чего и начинали? Сделав своим символом веры собственное благополучие и процветание, вы неминуемо должны были прийти в своих рассуждениях к персоне, какая может вам их дать даже в ущерб всем прочим, в ущерб всем и всему. В этом и состоит, Александр Андреевич, наше с вами отличие: у кого что болит. Для меня главное – державное процветание, для вас – милость властителей.
– Я не отделяю, – ответил Безбородко хрипло, – монарха от его державы и от его подданных. И милость верховную я желаю получать за дела во благо государства.
– Это хорошо. Но, простите, из ваших слов я могу заключить, что не все дела власть верховную предержащих могут идти во благо государственное. Или я извратил вашу мысль?
– Не извратили. Дмитрий Николаевич.
– А как же тогда верноподданность? Будете ли вы верным такому властителю или нарушите свой так лелеемый принцип?
– Не знаю.
– Вот именно. Не знаете, Александр Андреевич. Что свидетельствует о вашей совести. От чего и происходит сей разговор. Поэтому я еще раз вам скажу: я не желаю верить в нечто зыбкое, размытое, неопределенное. Я солдат и хочу определенности и постоянства. Эту определенность мне дает вера в землю моих предков, которую они обильно поливали своей кровью, защищая ее от различных любителей полакомиться за чужой счет, от желающих дать нам новых властителей, к которым мы бы – по их замыслу – со временем бы начали испытывать верноподданнические чувства. Теперь на смену всем павшим пришел я, а за мной – мои дети. Это и есть верность, Александр Андреевич. Иную мы вряд ли с вами измыслим.
– Может быть, вы и правы, Дмитрий Николаевич.
– Не может быть, а точно. Но я не хочу вам навязывать то, во что верую сам. Вера, не осененная разумом, слепа. Подумайте на досуге. А пока предлагаю, оставив сии высокие материи, отдать должное вашим чудесным пирожкам.
В 1763 году окончилась Семилетняя война. А уже через пять лет Россия начинает новый этап активной внешней политики, связанной с присоединением причерноморских территорий. Движение в этом направлении неизбежно приводило к военному столкновению с Турцией. За четверть века одна за другой следуют две войны России с Оттоманской Портой: в 1768–1774 и 1787–1791 годах.
В ходе этих войн Россией решалась важная национальная задача – осуществлялось присоединение земель, входивших в состав Древнерусского государства. Данная направленность войн с Турцией создавала возможность принятия армией, и прежде всего рядовым ее составом, моральных установок на реализацию этих целей.
Наряду с этим в войнах отчетливо просматривается и общеевропейский аспект. В это время Османская империя представляла собой обширное многонациональное образование, в составе которого находилось значительное славянское население.
Славяне в пределах Турции подвергались угнетению и насильственной ассимиляции. Славянские народы Балкан видели в России своего естественного – в силу этнической общности, единой веры и многовековых культурно-политических связей – и единственного защитника и покровителя.
Осенью 1768 года, побуждаемый Австрией, а главным образом Францией, турецкий султан предъявил русскому послу в Стамбуле Обрескову ультиматум о немедленном выводе русских войск из Подолии. Отказ России выполнить это требование был сочтен турецким правительством достаточным поводом для объявления войны. Однако поскольку ни та, ни другая сторона практичеси еще не были готовы к вооруженной борьбе, военные действия фактически развернулись только в следующем, 1769 году.
Для действия против турок составлялись каре из пехоты с артиллерией. Полковые орудия становились по флангам батальонов, а полевые соединялись в батареи, на углах и на середине длинных фасов каре. Небольшая часть пехоты помещалась внутри каре, вблизи той части войск, которой должна была служить резервом.
Стрельба производилась шеренгами и плутонгами (взводами).
Переноска рогаток производилась при передвижениях войск в бою, шестью человеками в каждом плутонге. Кавалерия располагалась в интервалах между каре.
К началу боевых действий 1769 года Россия сосредоточила на главном – Днестровско-Бугском театре военных действий две армии: 1-ю в районе Киева и 2-ю на Днепре, ниже Кременчуга. В Петербурге для руководства ведением войны был создан Военный совет при высочайшем дворе.
Военный совет разработал план кампании 1769 года, в котором основное внимание уделялось возможным активным действиям со стороны противника и способам их парирования. Первая армия («наступательная») при благоприятных условиях должна была действовать в направлении на Хотин и овладеть этой крепостью, Вторая армия – обеспечивать действия Первой и прикрывать юго-западный участок границы России. Командующим Первой армией был назначен генерал-аншеф А.М. Голицын, командующим Второй – П.А. Румянцев.
Как и всегда, подготовка к войне происходила больше на бумаге. Русский посланник в Лондоне граф С. Воронцов позднее писал: «Армия была сокращена, не укомплектована и рассеяна по всей империи. Приходилось заставлять ее переходить турецкую границу посреди лютой зимы и посылать пушки, мортиры, снаряды и бомбы почтою из петербургского арсенала в Киев».
Фактический ход боевых действий в 1769 году свелся к борьбе за Хотин.
22 августа у деревни Гавриловцы турки начали переправляться через Днестр – частью по наведенному мосту, частично же – вброд. Их целью было прорвать кольцо осады, с большим трудом созданное Голицыным вокруг Хотина, и помочь осажденным. К вечеру успело переправиться более четырех тысяч осман под началом Алай-бея, тут же начавших строить предмостные укрепления.
Русский командующий приказал четырем полковникам, более других известных ему искусством и храбростью: Вейсману, Сухотину, Кречетникову и барону Игельстрому, взяв по тысяче человек, в основном – гренадер, атаковать противника и сбросить его в реку, мост же с укреплениями – сжечь.
Около полуночи русские неслышно сконцентрировались рядом с турецким укреплением и по сигналу:
– Виват, Екатерина! – напали так стремительно, что турки даже не успели взяться за ружья, составленные в козлы.
Гренадеры действовали лишь штыками – все защитники укреплений были переколоты в считаные мгновения, после чего русский отряд, ведомый Вейсманом, напал на турецкий лагерь, захватил мост, который уже подожгли, и полностью очистил берег от осман.
Противник потерял более 500 человек и 17 знамен. Русских же убито 18 человек.
Такое соотношение будет приблизительно соблюдаться отныне во всех тех сражениях, с турками, где русскую оборону будет возглавлять Оттон Иванович Вейсман, пока только командир Белозерского пехотного полка.
Менее чем через три недели – 6 сентября – турки решили повторить попытку переправы. На этот раз силы турок состояли из 5000 пехоты и 7000 кавалерии под командованием двухбунчужного паши Орай-Углу. И вновь генерал Голицын отрядил сводный отряд в том же составе, дав под начало каждого из полковников по два гренадерских батальона резервного корпуса и по три гренадерские роты, взятые из полков; резерв гренадеров составлял отряд полковника Кречетникова – три полка пехоты с пушками (командование же гренадерами вместо него отдали пятому полковнику – Кашкину).
Шел проливной дождь. Ночь освещалась лишь всполохами молний. Гренадеры продвигались к вражескому укреплению молча, но все турки их заметили и открыли по ним огонь, – к счастью, безвредный: страх мешал меткости прицела. Поэтому гренадеры не отвечали.
А подойдя к наспех возведенной крепостнице с яростным криком, сразу заглушившим ливень, бросились с размаху в ров, а оттуда – на вал, и в несколько секунд овладели укреплением, переколов более тысячи его защитников.
После чего, не замедляя наступательного порыва, взяли и лагерь. Выбитый оттуда противник пытался огнем притушить порыв отборной русской пехоты. В этом им пришла на помощь и крепость, открывшая сильнейшую орудийную пальбу. Но все было напрасно. Последовал очередной штыковой удар по османам – на этот раз уже из самого укрепления, где гренадеры обосновались уже вполне по-хозяйски и остатки неприятеля были рассеяны по лесу. Многие решили искать спасение в реке, где полноводье и быстрое течение быстро принуждало их сделать последний судорожный вздох. Но все же большая часть турок погибла под штыками. Потери русских отрядов составили 94 убитых.
Во все время боя Вейсман не только осуществлял руководство, но и подавал личный пример солдатам, будучи постоянно в первых рядах атакующих.
Признанием его собственных заслуг стало назначение Вейсмана комендантом Хотина – сразу же после его занятия 10 сентября. Коменданту подчинялось четыре пехотных полка – его родной Белозерский, плюс – Азовский, Низовский и Ингерманландский. 19 сентября комендант Хотина был произведен в бригадиры.
Сдача же турками вверенной ныне ему крепости вынудила их не просто отвести войска к Дунаю, но и очистить Молдавию и часть Валахии.
Параллельно с этим было решено провести уже на море одну значительную операцию, основной задачей которой была высадка десанта на Морейском полуострове, с тем чтобы побудить греков к восстанию и поддержать их силами десанта. Это должно было отвлечь военные силы турок от русского театра военных действий и способствовать ослаблению Останской империи.
19 января 1769 г. Екатерина П велела отпечатать воззвание на славянских и греческом языках с призывом к восстанию. Подполковник Каразин, родом болгарин, служивший в русской армии, переодевшись нищим, понес воззвание по землям Порты, пряча его в посохе и корешке Псалтыри. Кроме него это воззвание до жителей Балкан и средиземноморского Архипелага было поручено донести А.Г. Орлову, находившемуся в Италии. Другая задача экспедиции состояла в нарушении морских коммуникаций, связывающих европейские и ближневосточные владения Порты.
Для решения этих задач из Балтийского моря в Средиземное были направлены значительные силы Балтийского флота: две эскадры (адмирала Г.А. Спиридонова, вышедшая в июле 1769 г. и контр-адмирала Эльфинстона, вышедшая в октябре) – в общей сложности 10 линейных кораблей, 3 фрегата, транспорты, малые корабли, на борту которых находились десантные войска. В последующие годы в Средиземное море были отправлены еще три эскадры.
Кампания 1769 года для сухопутных армий ознаменовалась сменой командующих. Неспособность Голицына к командованию была вопиюще очевидна. Он был отозван в Петербург. Командующим 1-й армией был назначен Румянцев. Командующим 2-й армией стал П.И. Панин.
Глава V. «Румянцевская» война
Румянцев прибыл к войскам 1-й армии в сентябре. Уже по его приказу главные силы армии были отведены на зимние квартиры к северу от Хотина. Передовой корпус, выдвинутый еще ранее в Дунайские княжества, был им там и оставлен. За зиму и весну командующий провел большую работу по подготовке войск к новой кампании.
В том числе – и кадровую, выдвигая на ключевые посты талантливых офицеров и генералов. Таких, как, например, Вейсман.
Новый командующий объезжал вверенные ему части. Прибыл он и в Хотин. Румянцев уже знал, что за человек здесь комендантом, и поэтому заранее решил его будущую военную судьбу – он, главнокомандующий армией, не настолько богат людьми, чтобы позволить подобному решительному и знающему человеку пребывать хоть и на ответственной, но все же несколько стариковской должности коменданта.
В его армии, думал Румянцев, – как и во всякой другой – полно исполнителей и людей бесталанных, так что бросаться человеком, подобным Вейсману, есть великий грех. Об этом он и не замедлил сказать своему собеседнику при первом же свидании.
– Господин бригадир, я ценю вашу разумную распорядительность коменданта Хотина, но, как вы считаете, не пора ли вам вспомнить звук походных барабанов?
– Пора, ваше сиятельство. Давно пора.
– Вот и хорошо. Приглашаю вас на военный совет. Там мы и решим этот вопрос. Война еще только начинается; – так что дел, Оттон Иванович, у нас с вами впереди еще ой как много!
Комендантом Хотина был назначен командир азовцев полковник Шатль, а Вейсману было приказано выступать с частью полков гарнизона на соседние с армией – командующий собрал раздробленные силы армии в единый кулак.
1 января 1770 года Вейсман был произведен в генерал-майоры с назначением командиром бригады. Бригада эта вскорости вошла в состав авангарда Баура.
Авангард этот все время использовался на острие атаки – так что отличиться было где.
И не только им. Петербургский военный совет в плане кампании 1770 года вновь выдвигал в качестве ее главной задачи овладение стратегическим объектом – крепостью Бендеры в нижнем течении Днестра. Решение этой задачи возлагалось на Вторую армию. Первой армии предписывалось своими силами прикрывать армию Панина.
Панин Бендеры возьмет – он привык исполнять то, что он считал нужным для себя расценивать как приказ. Таким он уродился, и такого себя он не собирался переделывать в угоду людям и обстоятельствам.
Человек, достигающий определенных чинов, меняет и манеру поведения, меняет и всю совокупность своих пожеланий и надежд.
Что вполне объяснимо и простительно. Очень немногие из солдат и офицеров, кого судьба довела до генеральских отличий, остались в душе солдатами, простыми и прямо смотрящими на жизнь людьми.
Восхождение на пирамиду любой власти от многого принуждает отказываться. Но те, кто сумеет не поступиться своей натурой и своим характером, вызывают глубокое уважение, хотя их и не особенно любят, ибо кому в повседневной жизни приятны люди, кои, не задумываясь, говорят все, что думают. Это шокирует, обижает и отталкивает. Именно таким человеком был граф Петр Иванович Панин.
Выросший на самом верху социальной лестницы, он в зрелые годы своей жизни имел возможность общаться с монархами и их приближенными, а поскольку именно в эти годы в России правила Екатерина II, то граф общался именно с ней и ее двором. И будучи человеком военным, он не всегда умел и желал скрыть пренебрежение воина перед представительницей прекрасного пола, занимающейся, как он искренне считал, сугубо мужским делом, и теми, кто ищет милостей у трона женщины. Многие подобное отношение Панина чувствовали и не любили его, хотя, включая и императрицу, отдавали должное его военным талантам и используя их в тех случаях, когда другие могли с задачей не справиться.
Использовали сквозь зубы, пользовались, но не любили. Панин же лишь усмехался, живя и действуя так, как привык и как умел. А умел он в военном деле немало.
Он родился в 1721 году, в пятнадцать лет вступил солдатом в лейб-гвардии Измайловский полк и в том же году участвовал во взятии Перекопа и Бахчисарая. Затем воевал против шведов. В 50-е годы он – уже полковник и командир Новогородского пехотного полка – считается одним из лучших офицеров в российской армии.
К началу Семилетней войны Панин – генерал-майор. Он храбро дрался под Гросс-Егерсдорфом, Цорндорфом, Кунерсдорфом, участвовал во взятии Берлина, был произведен в генерал-поручики и назначен генерал-губернатором кенигсбергским. Вскоре он стал и генерал-аншефом, сенатором и членом Совета, а в 1767 году – кавалером высшего российского ордена Св. Андрея Первозванного и графом.
Начавшаяся война с Турцией в 1768 году сделала его по открытии военных действий главнокомандующим Второй армией, главной задачей которой стало взятие считавшейся турками неприступной крепости Бендеры.
15 июля 1770 года армия Панина, насчитывающая порядка 34 тысяч человек, подошла к крепости. Долгие осадные работы, сопровождавшиеся многочисленными стычками и маневрами, атаками и контратаками, должны были иметь свой логический конец. Им и стал штурм, назначенный главнокомандующим в ночь с 15 на 16 сентября.
За несколько дней до этого, как сообщили перебежчики, бендерский паша, чувствуя неизбежность решающего приступа, взял со всего гарнизона клятву драться до конца и, скрепляя эту клятву и желая показать, что он разделит со своими подчиненными все, что бы ни уготовила им судьба, ел с ними так называемую «кровавую кашу».
К дню приступа русские подвели сильную мину под бендерские укрепления, и, хотя Панин и верил в ее действенность, но больше он верил в своих людей.
Вверенные ему гренадерские войска он разделил на три колонны.
Правая – под началом полковника Вассермана – состояла из гренадерских рот Ряжского, Курского, Козловского и Елецкого полков, двух батальонов мушкетеров и дивизиона егерей. Левая (начальник полковник Корф) – из гренадерских рот Севского, Орловского, Владимирского и Белевского полков, также двух батальонов мушкетеров и дивизиона егерей. Средняя – из гренадер Тамбовского, Старооскольского, Воронежского и Черниговского полков. Каждая колонна имела подкрепления, должные действовать в развитии успеха гренадер.
Наступил вечер 15 сентября. В десятом часу была окончена средняя мина – и 400 пудов пороха взорвались в темноте южной ночи. Турки открыли беспорядочную, но яростную пальбу наугад, однако она не остановила штурмовых колонн, пошедших на приступ.
Русские колонны быстро преодолели пространство до бендерских укреплений, и когда они уже начали вступать на крепостной вал, Панин направил в поддержку левого фланга два дивизиона егерей полковника Фелькерзама, чье мужество сделало его любимцем целой армии. К правому же флангу ушел с подкреплением обер-штер-кригскомиссар Ларионов, к средней колонне – полковник князь Одоевский.
В самом начале дела был убит начальник средней колонны полковник Миллер, которого тут же заменил подполковник Репнин, пришедший сюда на подкрепление с 4-мя гренадерскими ротами. Репнин и повел людей вперед – колонна перешла двойной ров при подошве гласиса, ров перед палисадом на гребне гласиса, двойной палисад перед прикрытым путем, главный крепостной ров глубиной в две с половиной и шириной в шесть саженей. Вслед за этим нападавшие приставили наконец лестницы к крепостному валу, взойдя на который вступили в ожесточенную рукопашную схватку с турками. Левая и правая колонны вступили на главный вал в те же самые минуты и так же с ходу включились в бой на холодном оружии.
Неприятель, деморализованный частично уже тем, что русские сумели с ходу преодолеть столь значительное количество препятствий, а также перспективой вступать в штыковую с людьми, которые были известны как мастера подобного рода боя, тем не менее держались стойко, со скрипом сдавая каждую позицию.
Сбитые гренадерами с вала, они не менее отчаянно обороняли каждый дом, превращая его в маленькую крепость, а каждую улицу – в поле боя. Но шаг за шагом все же русские отряды отжимали осман к твердыне крепости – замку, где противник решил держать последнюю линию обороны.
Той порой наступило утро – бой же, длившийся всю ночь, не затихал. Турки решились на отчаянную попытку – и бросили до полутора тысяч лучшей кавалерии и более полутысячи пехоты против тыла русского войска (этот отряд, выйдя из ворот, обращенных к реке, неожиданно появился на левом фланге Панина).
Но граф недаром настойчиво воспитывал у своих подчиненных чувства самостоятельности и личной ответственности за поручаемое дело. Это дало свои плоды как раз сейчас: многие отдельные офицеры успели с находившимися около них солдатами встать на пути осман. А когда еще и артиллерия по приказу главнокомандующего открыла по этому отряду сильный картечный огонь, то неприятель не выдержал и начал поспешное отступление.
Но намерение не стало действием: куда бы ни устремлялись османы, на их пути везде стояли русские отряды. Так что попытки оказались тщетными – большая часть из отряда, выделенного пашой, погибла, малая же часть предпочла позор плена бесцельной гибели.
Засевшие в замке, видя их судьбу, также предпочли жизнь смерти, и поэтому когда в 8 часов утра граф Панин приказал начать штурм замка, то вместо орудийных залпов со стен его начали кричать о том, что выпускают депутатов, готовых рассмотреть условия капитуляции.
Панин потребовал сдачи безо всяких условий – и османы, деморализованные всем развернувшимся доселе на их глазах, вынуждены были согласиться. Сдалось около двенадцати тысяч уцелевших, включая более пяти тысяч янычар и спагов. Кроме этого противник потерял более пяти тысяч убитыми, не считая, сгоревших при пожаре, в ходе штурма охватившем Бендеры и приведшем к тому, что вся крепость обратилась в пепел.
Трофеи составили: пушек медных – 203 штуки, чугунных – 59, мортир медных – 28, мортир кугорновых – 57, порох, боеприпасы, 20 тысяч пудов сухарей, множество пшеницы и проса.
Панин был награжден орденом Св. Георгия 1-й степени «за мужественное и благоразумное предводительство в вверенной ему в Турецкую войну армией противу столь отчаянно и с великой силой неприятелем защищаемой крепости Бендер и покорение оной с ее замком». Орден этот Панин получил 8 октября 1770 года – третьим, после Петра Румянцева и Алексея Орлова, но он не получил давно ожидаемого им фельдмаршальского жезла, и новоиспеченный кавалер действует с присущей ему решительностью.
Воспользовавшись как поводом своей болезнью, полученной еще в Семилетнюю войну и ныне в результате военной неустроенности обострившейся, он уже 27 ноября того же года подает прошение об отставке.
Она принимается, и покоритель Бендер начинает вести частную жизнь обычного помещика. Но огонь в нем не погас – он разгорается с новой силой, когда до Панина доходит слух о восстании Пугачева. Граф предлагает императрице свои услуги, и та спешит ими воспользоваться – 29 июля 1774 года следует рескрипт императрицы о вверении Панину начальства над всеми войсками, действующими против мятежников и над губерниями Казанской, Оренбургской и Нижегородской, начальства ничем и никем не ограничиваемого.
Графу понадобился всего лишь месяц – после ряда его молниеносных ударов 14 сентября Пугачев был выдан своими вчерашними товарищами.
Мятеж был подавлен, а спасший державу Панин вновь обратился к частной жизни, подобно многим полководцам и диктаторам Древнего Рима: в нем нуждаются – он приходит и свершает необходимое, опасность прошла – он вновь один из равных.
Опасности столь великой для государства более не было, и Панин отныне – лишь частное лицо. Каковым он и оставался до самой своей смерти, последовавшей в 1789 году. В годы новой войны с османами.
На которой вновь отличится Румянцев, сейчас лишь готовящийся к громкому титулу «грозы осман». И собирающийся дерзко откорректировать дошедший из столицы план военных действий на нынешний, 1770 год.
Он, не имея возможности полностью отказаться от выполнения плана, разработанного ближайшим окружением Екатерины, внес все же в него поправку, менявшую направление действий.
Задачу пассивной обороны он заменил активными действиями и выступил с предложением о наступлении между Прутом и Серетом, с целью воспрепятствовать переходу турок на левый берег Дуная.
Этим не только облегчалась осада Бендер, но и освобождалась часть сил его армии для активных операций на Дунае.
План Румянцева оказался возможным благодаря тому, что Военный совет на этот раз не зафиксировал четко способ действий Первой армии.
Директива совета (рескрипт Екатерины II) от 10 декабря 1769 года гласила: «…оставляем вам сами делать и предпринимать… все то, что вы собственным благоразумием за нужно и полезно находить будете к верному и совершенному содержанию наших главных намерений, то есть сохранения княжества Молдавского… и прикрытия осады бендерской». Так что командующий Первой армией целиком и полностью следовал букве распоряжений, правда, полностью изменив его дух.
Румянцев начал кампанию 1770 года с того, что оттянул передовой корпус на соединение с главными силами. Он намеревался действовать прежде всего против живой силы противника и поэтому считал сосредоточение своей армии необходимым, даже в ущерб территориальным потерям, что, как он знал, вызовет неудовольствие в Петербурге.
Главные силы турецкой армии под командованием великого визиря к весне 1770 года постепенно сосредотачивались на правом берегу Дуная у Исакчи, где ими велись работы по наведению моста, затрудняемые подъемом воды. Отдельные группы турецких войск задействовали на левом берегу Дуная. Значительные силы турецкой конницы намеревались – как стало известно русскому командованию – нанести удар в направлении на Яссы. В этой ситуации Румянцев и двинул армию навстречу противнику.
Своим движением, как писал он 20 апреля П.И. Панину, он имел в виду «прямое намерение наступательного действия, вложить в неприятеля больше страха, нежели суть мои силы». 25 апреля главные силы Первой армии выступили из лагеря под Хотином и двинулись на юг вдоль левого берега Прута. После соединения с передовым корпусом у Румянцева было около 40 тысяч человек, включая нестроевых.
Великий визирь, зная малочисленность русских и обширность квартирного расположения, предполагал разбить их поодиночке, не допуская до соединения. Для этой цели он назначил три корпуса (60 тысяч) татар, которые должны были исполнить это. Сам же визирь с передовыми силами спешил подкрепить передовое войско.
Именно поэтому Румянцев решил не дожидаться объединенного удара всей турецкой армии, а бить ее частями. В его планы вмешивалась весенняя распутица: проливные дожди приносили непредвиденные задержки, степи превратились в море грязи, ручьи – в почти полноводные реки. Люди и лошади тонули. Румянцев приказал бросать обозы и парки.
На марше армия составляла несколько походных колонн, соответствовавших частям будущего боевого порядка. В этом же порядке войска бивакировали перед сражением. Это облегчало построение к бою. Оно выполнялось дивизиями заблаговременно под покровом темноты до начала сражения.
Татарская конница, подкрепленная передовыми корпусами турок, при приближении Румянцева перешла к обороне в укрепленном лагере при урочище Рябая Могила на левом берегу Прута.
Командующий русской армией строил свой успех на расчете, что противник не подозревал о незначительности войск Румянцева. Кроме того, были предприняты тщательные меры к прикрытию операционной линии.
Несмотря на разведку, русские войска не знали точного расположения татарской конницы. Чтобы не позволить противнику ускользнуть и в то же время облегчить возможность быстрого движения воинских масс, Румянцев разделил свою армию на три группы, дав каждой особый маршрут и точно определив точку соединения…
Бывший русский посол в Варшаве, активно нелюбимый магнатерией за то, что не щадил ее гонор и частенько весьма резко осаживал, давая понять, что он не просто посол, а посол России, страны, отныне решающей судьбы Речи Посполитой, ныне же командир передового корпуса генерал-поручик князь Николай Васильевич Репнин озабоченно смотрел на разостланную перед ним на барабане карту. С легкой руки главнокомандующего армией барабан не ему одному заменял в походе стол.
Репнин заменил умершего от чумы генерал-поручика Штофельна, человека про жестокость которого Румянцев счел нужным писать Екатерине, и вместе с новой должностью принял груз проблем, тяжело сейчас давивший ему на плечи. За несколько дней до смерти Штофельн получил распоряжение: силами своего корпуса занять урочище Рябая Могила и удержаться там, не давая татарам и туркам двигаться от Нижнего Дуная, Аккермана и Бендер в направлении Ясс и Хотина. А незадолго перед этим противник перешел к решительным действиям, намереваясь разбить корпус по частям, на которые он был рассредоточен, выполняя задачу по обороне ряда городов и местностей Молдавии. И теперь неприятель с каждым днем все более и более усиливал свой натиск на корпус Репнина.
«Уже десять дней мы здесь, – не сводя воспаленных от недосыпания глаз от карты, думает командир корпуса, – здесь, на западном берегу Прута, против Рябой Могилы. Сие урочище занято противником нашим – татарами да турками. За эти недели, отбиваясь отдельными отрядами от неприятеля, корпус сумел в конце концов собраться в единый кулак и теперь препятствует Абаз-паше переправиться через реку. Но что делать с отрядом Абды-паши, коей наступает на нас по нашему западному берегу с юга. Не будет ли так, что, ввязавшись с ним в драку, мы упустим Абаз-пашу и татар Каплан-Гирея? А коли они соединятся, то что? Что, что, – прервал он сам себя, – нечто не знаешь. Мы так далеко от основной армии, что в этом случае нас уже ничто не спасет. И ведь я же неоднократно просил графа о помощи, обрисовывая ему наше положение, он же все: держитесь, скоро подойдут главные силы. Подойти-то они подойдут, но узнаем ли мы уже об этом?» Откинутый полог палатки впустил волну свежего воздуха, запах костров, комаров и приглушенный доселе тяжелой холстиной смутный гул большого лагеря.
– Ваше превосходительство, – вытянулся на пороге адъютант, – турки.
– Какие турки?
– Мыслю, что отряд Абды-паши. Идет с юга.
– Хорошо. Пригласите полковых командиров.
– Уже оповещены. Ждут вас. Звать, ваше превосходительство?
– Не стоит. Я сейчас иду.
С этими словами он прицепил шпагу, заткнул пистолеты и вышел вон.
– Господа, речи произносить не будем. Противник перед нами. Что делать, вы все знаете – чай, за последние дни не впервой. По местам, господа!
Ударили первые русские залпы. Визг картечи смешался с сухими и четкими хлопками залпов пехоты. Хаотические атаки турок натыкались на железную сдержанность русских порядков. Попытки Абды-паши сбить корпус с укрепленной позиции и разгромить в мешанине отступления не удались, и турецкий отряд, не поддержанный, к его удивлению, с противоположного берега Прута, отошел, откуда и прибыл, – на юг. Но отступил он недалеко, будучи готовый вновь начать свое наступление.
Репнин не меньше турок был удивлен странной пассивностью войск неприятеля за рекой. Он понимал, что его разгром зависит лишь от времени – не получилось единого порыва у турок с татарами сегодня – получится завтра. Но пасовать он не собирался. Выполнить свой долг до конца, – за этим он был послан к Пруту, и он его выполнит!..
Ночь после неудачного нападения турок, а на рассвете в лагере раздались радостные крики:
– Смотрите! Смотрите!
– Наши! И впрямь наши!
– Наконец-то дождались!
– Где? Не вижу! Где ж они?
– Да не туда смотришь! Вона за рекой! Вон там, там!
Разбуженные криками и гамом командиры впопыхах выскакивали из своих палаток, ожидая увидеть всеобщий штурм своих укреплений и тут же, уразумев, включались во всеобщий разноголосый радостный шум. Действительно, вдали от дома, окруженные со всех сторон врагами, увидеть своих братьев по оружию – это праздник, лучше которого трудно что-то придумать.
Радость относилась к подошедшему по восточному берегу Прута корпусу генерал-квартирмейстера Баура. Это Румянцев, зная о крайне тяжелом положении корпуса Репнина, выделил из своих малых сил отборный отряд из девяти батальонов, куда он включил свою гордость и любимое детище – батальон егерей графа Семена Воронцова, девятнадцать эскадронов кавалерии, несколько полевых орудий и понтонный парк, должный навести мост через Прут для быстрейшего соединения с передовым корпусом.
Но понтоны опоздали и поэтому корпуса Баура и Репнина целые сутки на себе доказывали правильность пословицы, что, де, видит око, да зуб неймет. Этим воспользовался Абаз-паша, который в тот же самый день бросил двадцатитысячный отряд против корпуса Баура.
Казаки Репнина обнаружили движение противника и доложили начальству. Их вызвали к командиру корпуса.
– Значит, говорите, готовятся?
– Так точно, ваше сиятельство, – бойко подтвердил седоусый разбитной урядник. – Все как есть господину полковнику обсказали.
– Молодцы. Молодцы, что увидели, и молодцы, что сообразили.
В разведке голова и глаза – первейшее дело. А теперь вам еще одно дело предстоит сделать. Обо всем, что видели и мне рассказали, надо теперь и генералу Бауру доложить. Справитесь, казаки!
– Так точно, ваше превосходительство. Не впервой со смертью-то в прятки играть! Будьте спокойны – все в аккурат сполним!
– Добро. Идите и помните: от расторопности вашей многие жизни зависят!
Казаки все сделали как должно: Баур, предупрежденный ими о готовящейся, на него из лесу атаке, построил свой легкий корпус в каре и двинулся навстречу неприятелю. И несмотря на его значительное превосходство, отбросил его на исходную позицию у Рябой Могилы.
А к вечеру подвезли и понтоны. Так что на следующий день мост был наведен, и Баур, перейдя Прут, соединился с корпусом Репнина, оставив на западном оберегу лишь небольшие отряды генерал-майора Григория Потемкина и полковника Каковинского.
Буквально через несколько часов подошел с основными силами и Румянцев.
Армия под его началом – так же как и авангард Баура – прошла за пять суток свыше ста километров по бездорожью, под почти постоянно идущим дождем, вытягивая на руках пушки, никак уставшие лошади не могли тянуть зачастую в той гористой местности, где проходил марш. Люди смогли.
Далее было несколько суток напряженной подготовки к сражению. Противник не нападал, ожидая подхода основных сил – войска великого визиря. Румянцев же проводил тщательнейшую разведку местности, в значительной мере – личную. Цена сражения была велика: русские должны были в этом бою раз и навсегда изжить страх перед открытым столкновением с превосходящими силами турок.
И еще, Рябая Могила должна была ответить – правильно ли все эти годы он обучал вверенные ему войска, не напрасно ли он пачкал бумагу писанием своих военных теорий. И последнее, главное: проигранное сражение ставило их армию в почти безнадежное положение, делало реальнейшим фактом разгром Второй армии и обрекало все территории, ныне защищаемые русскими, на жесточайший грабеж со стороны турок и татар.
Разведка выявила трудность предстоящей атаки для русской армии. Лагерь неприятеля был расположен чрезвычайно удачно для того, чтобы отбить любое на него наступление: с севера его защищал ручей Калмацуй, протекавший в глубоком овраге с крутыми берегами; с запада – был Прут; с юга – крутой овраг, так называемая долина Чора.
После напряженных раздумий, мысленного проигрыша различных вариантов с их завязкой, развязкой и их последствиями Румянцев решил нанести главный удар по правому флангу турок с обходом его частью сил. Наступление должно было вестись не монолитной линией армии, а дивизионными каре, каждое из которых начинало решать самостоятельную задачу, сходясь в единую точку в определенное время в определенном месте. В соответствии с этим командующий и объявил свою диспозицию:
– Господа генералы, прошу вашего всецелого внимания! В атаке принимают участие все войска, за исключением двухтысячного отряда полковника Каковинского, прикрывающего наш правый фланг и ныне уже занявшего эту предписанную ему позицию. Бригада генерал-майора Потемкина, усиленная гренадерами и артиллерией – до четырех тысяч человек, переправляется через Прут в нескольких верстах южнее урочища и атакует лагерь с тыла. Корпус генерал-квартирмейстера Баура, дабы отвлечь неприятеля от флангов, наступает вдоль речки Ныркова прямо на неприятельские ретрашементы в лоб. Генерал-поручик Репнин! Вам самое главное: скрытно приблизиться к правому флангу турок проходом между Калмацуем и долиной Чора и нанести им решительный удар. Дивизии господ генералов Олица, Племянникова, Брюса, конница господина графа Салтыкова под моей рукой наступают промеж корпусов господ Баура и Репнина и одновременно с последним наносят удар по правому флангу турок. Прошу помнить, господа генералы: у нас в строю – до 34 тысяч, у противника – до 72 тысяч. Наше главное оружие: единение, дисциплина, точность маневра. Успех зависит от своевременности каждого. И артиллерия – турки не любят пушек. Сбивайте все их противные действия артиллерией. В этом всем – залог нашей победы! Вопросы, господа генералы?
Лишь поскрипывание стульев и легкое покашливание. Лучше не придумаешь, глупость говорить не хочется. Коли пришли – так сражаться надо.
– Благодарю вас, господа. Все свободны. Надеюсь завтра каждый из нас выполнит свой долг. Выполнит наилучшим образом. Все свободны.
Сигналом к утренней атаке послужили три ракеты. А еще ночью Баур продвинул с правой стороны свой корпус вперед в лагерь При деревне Гремиште. Репнин с корпусом пошел влево, не снимая в своем лагере палаток. Горели во всей армии и бивачные огни, хотя к этому времени она уже выдвинулась в исходное положение, дабы по сигналу простым движением вперед выйти к пунктам атаки. В эти же ночные часы отряд подполковника Фабрициана, выделенный Потемкиным, заканчивал наведение моста через Прут против устья долины Чора.
Как только взвились ракеты, русские каре начали наступление.
Корпус Баура вышел на высоты перед фронтом турецкого лагеря и начал устанавливать батареи. Артиллеристы хрипя, рыча и ругаясь тянули по весьма отвесным склонам взгорья, покрытым густым жестким кустарником:
– Давай, давай!
– Раз-два, взяли!
– Куда, куда тянешь, телок!
– Еще налегли!
– Пошла-пошла!
На помощь рвущей жилы артиллерии пришли отобранные за особую силу, ловкость и стать егеря. С шутками и подначками они впрягались рядом. Дело пошло веселей. И вот пушки были установлены и открыли частый огонь.
Румянцев с главными силами также пошел вперед. Все это отвлекло турок от Репнина, опасность от движения которого они сначала не поняли. А он, перестроив свой корпус в два каре с конницей между ними, уже делал заход для удара по флангу. Его заметили, когда он с своим корпусом уже приближался к открытому пространству между Калмацуем и долиной. Абаз-паша, командовавший войсками лагеря, решил, что главный удар основной части русской армии будет нанесен именно отсюда и поэтому приказал перебросить на свой правый фланг большую часть артиллерии, кавалерию, янычар.
Эта переброска позволила снова начать энергичное наступление корпусу Баура, который поначалу было залег по приказу своего командира, дабы не подставляться понапрасну под ружейный и артиллерийский огонь, сосредоточенный турками в основном на его корпусе. Пошли вперед и основные силы под командованием Румянцева.
А в это время Репнин отбивал общую атаку татарской конницы.
В атаку ее вел сам сын крымского хана. Конницу встретила картечь. Залп был убийственен, поскольку Репнин приказал подпустить татар почти вплотную. Одновременно с артиллерией раздались и ружейные залпы батальонов. Плотная стена конницы начала опадать своими первыми рядами. Задние части лавы натыкались на уже умерших и умирающих, останавливались и также подставляли себя под удар.
– Огонь! Огонь! – беспрерывно доносилось с русской стороны. Каждый такой резкий приказ вызывал новый поток смерти, и татары не выдержали. Они повернули обратно. Вдогонку им Репнин, услышав о том, что командующий выслал ему в помощь тяжелую конницу Салтыкова, бросил три полка своих гусар во главе с генералами Подгоричани и Текалли.
Гусары завязали рукопашный бой с постепенно оправляющимися от огненного ужаса татарами. Чаша весов успеха, достигаемого саблями и кровью, еще колебалась, когда к гусарам на рысях подошли драгуны и кирасиры Салтыкова. Перевес русской конницы стал значительнее. Еще свежая, не испытавшая массовых потерь – как несколько минут назад татары – кавалерия Салтыкова, Подгоричани и Текалли все сильнее теснила крымцев.
В это время наконец появился и головной отряд Потемкина под командованием Фабрициана, с маху открывший артогонь по неприятельской коннице.
– Ребята, ну-ка, дружней, теперь татары в кольце! – крикнул Подгоричани своим гусарам, бывшим в первых рядах рубящейся конницы. В ответ уханье и хаканье русской кавалерии, с которыми она доламывала у татар волю и сопротивление, усилилось.
Попытка татар, думавших сбить Фабрициана со своей спины, закончилась их новыми потерями. Большая их часть начала уходить на юг к холмам. Меньшая же, помнившая о своем воинском долге, во главе с сыном хана попыталась пробиться в лагерь, но попала в окружение русских, и в жестокой рубке полегли все до единого.
Наступавшие каре Румянцева и Баура турецкий командующий также пытался задержать конными лавами татар. Но Баур по приказу Румянцева не напрасно установил на господствующих высотах пушки. Весь пот, все усилия солдат сейчас себя полностью оправдывали: артиллерия громила лагерь турок, захватывая и задние ряды конницы, а в лоб ей посылали беспрерывные слитные залпы ружей и картечи. Конница, начиная чувствовать свою обреченность, заметалась из стороны в сторону, завертелась на месте, видя неприятеля отовсюду. В этот момент пехота Баура, а затем и Румянцева бросилась на штурм турецкого лагеря.
– Алла-а! – раздался единый гневный вопль, ибо только теперь Абазы-паше и хану стало ясно, что основной удар Румянцев все же наносил в лоб. Переброшенные направо, к Репнину, артиллерия и янычары ничего уже не могли сделать.
Лагерь начал заполняться русской пехотой, штыками очищавшей его от наиболее упорных защитников. Но работать штыком здесь, в укреплениях, пехотинцам много не пришлось – основная часть защитников, поняв, что расплачиваться за ошибки начальников им почему-то не хочется, уже убегала весьма поспешно на юг.
Отступающих спасло лишь то, что большинство их составляла конница. Русская кавалерия, лошади которых не привыкли к скачкам по гористым местностям, преследовала противника лишь порядка двадцати верст.
К вечеру русская армия сосредоточилась у деревни Темлекиш, где главные силы ее оставались на протяжении трех дней. В первый же вечер Румянцев собрал генералитет.
– Господа генералы, – произнес он, глядя на своих сослуживцев сияющими глазами, – первая наша виктория в этой кампании свершилась! Не так грозен турок с татарином оказалось, как доселе думалось. Отныне поражения его будут преследовать – пока в душах наших горит священный огонь защитников Отечества. Благодарю вас всех. Но долгом своим все же считаю напомнить вам, что победа сия была достигнута благодаря четкому выполнению каждым начальником возложенной на него задачи. В этом залог и грядущих наших побед. Только в этом. Каждое промедление будет грозить нам поражением и гибелью. Так что надеюсь, что в следующий раз, господа генералы, ваши команды будут весьма точно взаимодействовать промеж себя. Это позволит нам успешнее воевать с противником. Ибо не забывайте, наша основная задача – разбивать турецкие армии. Разбивать, а не рассеивать, дабы могли они заново легко опять собраться в единую силу. Хотя, как говорится, первый блин всегда комом. Ком у нас получился весьма удачный. Будем же, господа, прилагать усилия всех, дабы последующие блины получались лучше выпечены!
Через две недели разведка авангарда Баура донесла Румянцеву, что между течением Прута и рекой Ларгой ею обнаружено крупное скопление войск противника. Это были бежавшие от Рябой Могилы турецкие и татарские войска и большой турецкий отряд Абды-паши – всего около восьмидесяти тысяч.
Румянцев был прав: аппетит приходит во время еды и опыт во время работы – ларгский блин оказался более удачным. Он будет испечен ровно через сутки – 17 июня 1770 года.
Первое большое сражение после окончания Семилетней войны, сражение при Рябой Могиле показало, как высоко поднялось русское военное искусство. До сих пор наступление всегда осуществлялось сплошной массой войск, хотя и разделенной на колонны…
Раздельное наступление колонн к Рябой Могиле – первый в европейской военной истории опыт концентрического наступления.
Сразу же после сражения Румянцев отрядил отряд Потемкина для наблюдения за отступающим противником. Поскольку продвижение 2-й армии вперед временно оставляло его фланг незащищенным, Румянцев выдвинул несколько отрядов для охраны важнейших направлений и только потом двинулся к нижнему течению Дуная. Панин же в это время переправился через Днестр и шел по направлению к Бендерам.
Вскоре между течениями рек Прут и Ларга авангарды Первой армии, далеко выдвинутые от основных сил, обнаружили лагерь противника. Это были части бежавших, но в дальнейшем опять приведенных в порядок войск хана. Вместе с пришедшими им на помощь из Молдавии турками их численность достигала 80 тысяч.
Хан ждал здесь соединения с главными силами визиря, готовившимися к переправе через Дунай у Исакчи. Румянцев, чтобы не допустить этого, решает немедленно атаковать противника. Для осуществления операции он сосредоточил все свои силы, выделив лишь двухтысячный отряд для охраны мостов у Фальчи.
Русский командующий построил войско в четыре каре: два нацеливались на фланг татарского лагеря, два предназначались для атаки с фронта. По его плану вся кавалерия с легкими полковыми орудиями, соображая свое движение с фланговыми каре, в одно время с ними должна была ударить противнику в тыл. Артиллерия должна была идти впереди.
При Ларге Румянцев создал и применил новую тактику для действия против иррегулярных войск. Он напал, а не ожидал нападения. И напал в боевом порядке, доселе не применявшемся, что позволило ему разом выставить больше сил, чем татары, хотя те и были в значительно большем количестве. И хорошо информированы о планах неприятеля – ночью к ним в лагерь ушел перебежчик…
– Великий хан! Один из прахоподобных гяуров не вынес ужаса предстоящей битвы с вами и перебежал к вам в лагерь. Он здесь, у вашей палатки, – ждет, чтобы припасть к вашим стопам и поведать нечто важное.
– Какое такое нечто? Говорили толком, пес!
Служитель склонился еще раз в раболепном поклоне, а потом произнес испуганно:
– Посыпавший прахом и пеплом утверждает, что неверные готовятся напасть на вас.
– Ко мне его! Живо! – Ощутив прилив внезапного гнева и сковывающего энергию смутного волнения закричал Каплан-гирей.
Стража у входа в палатку, чуть-чуть замешкавшись, втолкнула перебежчика. Бледный, но решительный, тот поклонился хану.
Каплан-Гирей сделал знак страже, и пленного заставили опуститься на колени. Когда же он сделал попытку вскочить, один из телохранителей надавил ему на плечи, а другой отвел саблю – как для удара.
– Неверная собака, стоя пред лицом господина, – назидательно заметил хан, угрюмо усмехнувшись, – должна смотреть на него снизу вверх. И ласково, – добавил он угрожающе. – Я не вижу покорности в твоем взоре. Ты рискуешь лишиться того, чем смотрят на мир, дарованный нам Аллахом.
У пленника обвисли напряженные плечи, он сцепил до хруста руки и все же опустил глаза.
– Теперь говори, – удовлетворенно разрешил хан.
– Ваше величество, – заговорил перебежчик. – Я прапорщик Ахтырского гусарского полка Петр Квитковский. Родом поляк. Я бежал из передовых цепей русской армии к вам, чтобы известить вас о том, что генерал Румянцев намеревается внезапно напасть на вас.
– А почему ты так торопишься сказать нам об этом? Ты хочешь поражения своим?
– Я сказал, ваше величество, что я поляк. Русские мне не свои. Я хочу драться вместе с вами, с союзниками нашей Конфедерации, чтобы избавить свою страну от угнетения ее Россией.
– Хорошо, я хочу верить тебе. Моя вера – это и моя удача, и твоя жизнь. Ты знаешь, как поступают с теми, кто лжет?
Квитковский посерел. Непонятно – либо от силы, либо от страха.
– Знаю.
– Молодец, что знаешь. Сколько войск у Румянцева?
– Менее тридцати тысяч.
Абды-паша торжествующе посмотрел на Абазы-пашу.
– Уведите гяура, – обратился хан к страже. И повернулся к туркам: – Завтра состоится битва: если пленный лгал и русские не нападут на нас, – я сам на них нападу!
Предательство Квитковского изменило планы русского командующего лишь в малой степени. Понимая, что сражение не отменишь – хан, да и турецкие паши были настроены решительно – и что превосходство противника в людях в атаке будет более доминирующее, Румянцев лишь перенес начало своего наступления на два часа раньше. Желая хоть немного дезориентировать хана, выступавшего в роли главнокомандующего, Румянцев приказал оставить на месте ночлега палатки и лагерные костры, надеясь, что Каплан-Гирей поверит в невозможность сегодняшнего наступления русских, наступления, выданного бывшим офицером.
План атаки был оставлен в неприкосновенности. 7 июля наступать должна была вся армия, кроме арьергардного отряда полковника Каковинского. Малые силы русских предполагали удар в едином порыве – в этом был единственный залог успеха.
Согласно этого плана корпус Баура, куда входила и бригада Вейсмана в составе двух полков, должен был наступать, следуя на левую оконечность боевых порядков русской армии. Корпусу надлежало, приблизясь к Ларге вместе с корпусом Репнина, шедшим правее его, навести четыре моста через реку и построиться к атаке.
Баур запомнил пункты диспозиции, качаемые до его корпуса, сразу и, казалось, уже навсегда. Так же как и остальные начальники корпусов. Но особенно всем врезались в память заключительные слова главнокомандующего:
– И последнее, господа, прошу вас данное довести до сведения и подчиненных ваших. Конечно, всякий верный сын Отечества сделает все полезное и сверх предписания сего.
Начальники полков, увидя какую-нибудь перемену в ходе битвы, не пропустят случая сделать движений, согласных с успехом сражения. Это все, господа. Готовьте людей. Скоро уже в бой…
Отряды Репнина и Баура наступали тремя каре по хребту между реками Ларга и Бабикул, имея на флангах егерей уступом вперед.
Перед этим в подавляющей темноте южной ночи корпуса авангарда, то есть Баура и Репнина, и главные силы, наблюдая предписанный порядок, в полнейшей тишине, от которой зависел успех дела и жизнь всех, с изумительной точностью – согласного намеченному – перешли Ларгу. Никто не подталкивал и не направлял – каждый знал свои предстоящие действия и свое место. Слышны были лишь тихие команды начальников:
– Осторожней, ребята, не шуметь.
Переправившись, русские заняли высоты левого берега и перед самым рассветом выстроились к бою.
Татарские пикеты, согнанные с места движением корпуса Баура, возвестили в своем лагере о шествии неприятельских войск.
Поэтому поначалу в ставке у татар показались большие огонь и дым-сигналы тревоги – а потом раздался всеобщий крик и началось обыкновенное метание во все стороны внезапно разбуженных людей: хан все же до конца так и не поверил в возможность наступления столь малыми силами на его войска.
Первое, что сделали татары – это открыли по наступающим русским каре сильную канонаду со своих батарей. В ответ на это Румянцев приказал подготовить атаку подковообразного укрепления, сначала подавив его огнем своей артиллерии, а затем – предпринять наступление группами Баура, Репнина и Потемкина.
Основные силы под начальством главнокомандующего шли за этими тремя отрядами в едином большом каре, имея позади себя всю регулярную конницу, ведомую генерал-поручиком Салтыковым.
Вглядевшись в картину разворачивающегося перед ним сражения, Румянцев бросил через плечо адъютанту:
– Генерал-майора Мелиссино ко мне!
Тот появился почти сразу же:
– Я здесь, ваше сиятельство!
– Все орудия вашей бригады – к атакующим каре. Поставьте батареи между кареями господ Репнина и Потемкина. Весь огонь на главный ретраншемент.
– Слушаюсь!
170 орудий полевой бригады Мелиссино создали мощную огневую поддержку наступающим.
Назначенные к атаке каре подошли к укреплению на 200 шагов и открыли сильный огонь картечью из полковых и полевых орудий.
Особенно губительны были для неприятеля залпы бригады Мелиссино. Артиллерия противника, начав захлебываться, вскоре замолчала вовсе.
Одновременно с этими тремя каре вел наступление – на правой стороне боевых порядков Румянцева – корпус Племянникова.
К четырем часам он – как и Баур и Репнин – сбил передовые татарские посты и приблизился к укреплениям.
Боясь атаки с двух сторон, хан решил ударом во фланг Репнина и Баура, а также и главному каре, отразить их наступление. Для этого он бросил со своего правого фланга долиной Бабикула всю конницу.
По приказу глвнокомандующего пехотная бригада, усиленная батареей большой артиллерии, спустилась в долину и открыла продольный огонь по идущей там коннице. Вскоре Румянцеву было доложено, что противник из долины прогнан, опасность нападения на русский тыл ликвидирована; фланг и тыл каре Репнина, Баура и Потемкина были теперь надежно прикрыты. И каре быстро шли вперед.
Румянцев в этот момент также прибыл к авангардным каре, препоручив вести построенное им главное каре и в боевом порядке генерал-аншефу Олицу, а левую сторону – предохранять генерал-поручику Брюсу. Сам же он решил в определяющем пункте лично руководить боем:
– Вперед, ребята! В атаку! Ура!
Каре Репнина и большая часть сил Потемкина атаковали турок и татар с фронта. Часть сил отряда Потемкина под командой бригадира Ржевского охватывала их правый фланг.
Корпус Баура – а особенно бригада Вейсмана – вышел еще левее и открыл сильный огонь вдоль укреплений и в тыл неприятеля. Генералы корпуса были впереди, направляя действия солдат. Солдаты его бригады здесь впервые фактически видели в деле Вейсмана и мигом поняли, почему так любили его солдаты Белозерского полка: храбрый до отчаяния, он никогда не терял головы. Вот и теперь: каким-то чутьем угадывая точное направление ответных залпов противника, Вейсман умудрялся так располагать своих людей, что потери в его бригаде пока были минимальные, не такие, какие могли быть в рядах наступающих, идущих почти в лоб на сильнейшие укрепления противника.
Первый ретраншемент хана был атакован с трех сторон.
Противник начал подаваться, и каре Репнина под прикрытием артогня, подошло к самому укреплению. Пехота не шла, а бежала, не теряя строя, на крутую гору, и с разбегу заняла окопы.
Подполковники Ельчанинов и Фалькеншильд первыми ворвались туда с криками победы.
– Лупи, ребята!
– Ура, братцы!
– Алла!
Одновременно с ударом Репнина Баур бросил на фланг укрепления бригаду Вейсмана, и тот во главе своих полков спустя несколько мгновений после Ельчанинова и Фалкеншильда штыками уже выметал турок из ретраншемента. Как и в большинстве своих рукопашных боев, Вейсман дрался штыком; старая солдатская закалка – шпага кажется чересчур хрупкой. Да и, действительно, в горячке боя быстро выходит из строя.
Солдаты, приглядывавшиеся незаметно к своему генералу – чтобы вовремя прийти на помощь, да и оценить: каков он в настоящем деле, где не спрячешься за красивые слова, слишком все на ладони – видели, что таких мастеров рукопашного боя, как Вейсман, во всей бригаде наберется два-три человека. Из старых унтеров; генерал расправлялся с противниками, имевшими несчастье оказаться на его победном пути, несколькими неуловимыми движениями. Иногда даже успевая биться сразу с несколькими.
Турки ожидали, что русские, появившиеся сразу со всех, казалось, сторон, бросятся грабить лагерь, который прежде всего и прикрывал взятый ретраншемент, – хан отступал столь поспешно, что не успел ни вывезти, ни спрятать, а его подчиненные не успели растащить богатейшую казну. Русские постоянно натыкались на груды монет, россыпи жемчуга и камней, но поскольку было не до этого – враг еще сопротивлялся, все это кучами так и оставалось лежать.
Сохраняя полный порядок, русская пехота продолжала рваться в глубину расположения противника.
Генерал-майор Замятин – из корпуса Племянникова – к этому времени атаковал 3-й ретраншемент и вскоре взял его.
Относительная легкость предприятия заключалась в том, что Репнин, Баур и Потемкин, подкрепляемые главными силами, уже овладев правым укреплением, быстро взяли – на плечах турок – и 2-й ретраншемент, поскольку он был обращен к ним тылом. Османы начали сбегаться к 3-му, куда двинулись эти каре.
Все три авангардные каре шли вдоль третьего укрепления, а Замятин атаковал его в лоб. Противник не выдержал перспектив полного обхода и – начал поспешное отступление к самому сильному укреплению и по какому-то недоразумению считавшемуся им неприступного 4-му ретраншементу.
Пехота Племянникова почти уже преодолела склон, на котором возвышалось 4-е укрепление – причем подъем был настолько сложен, что солдаты сначала поддерживали друг друга, а потом, хватаясь руками за пучки травы, ползком продвигались к окопам – как тут, продолжая свое движение, появились три передовых русских каре, готовясь к атаке во фланг – Баур, Потемкин и Репнин, чтобы не идти через утесистый овраг до этого приняли влево и теперь вышли сбоку от окопов.
Увидев себя окружаемыми, турки принялись бросать позиции, и русская пехота, наконец, преодолев все трудности, снося залпы неприятельской артиллерии, под выстрелами своих батарей, вступила во внутренность ретраншемента.
Как итог – противник обратился в паническое бегство на юг по восточному берегу Прута. Пехота русских не могла преследовать турок – так резво те ретировались. Тяжелая кавалерия Салтыкова долго преследовала конных татар, но без особого успеха, так как последние на своих легких лошадях постоянно отрывались от драгун.
Приказ же Румянцева Салтыкову – отрезать турецкую пехоту – до того своевременно не дошел, поэтому потери у неприятеля были не такие, какие могли и должны были быть после подобного разгрома: тысяча убитых. Взято было триста орудий, восемь знамен и весь лагерь (татарско-турецкое войско насчитывало при Лагере 80 тысяч русских – в два с лишним раза меньше).
После боя Румянцев лично подъезжал к каждому начальнику и изъявлял свою признательность за их благоразумие и мужество, а солдатам их – за рвение, храбрость. Солдатам же корпусов Баура, Репнина и Племянникова досталось и по тысяче рублей на отряд – именно они бились на кисетах с пиастрами и каменьями. Отмечая это, главнокомандующий обратился к выстроившимся перед ним и замершим в волненье солдатам:
– Благодарю вас, воины, что не посрамили вы славного имени российских солдат! Что не ринулись вы алчущей толпой на рухлядь османскую, забывая при этом, что главная добыча воинства – мощь Отечества! Спасибо вам за викторию!
После Ларги отправляя реляцию Екатерине II с подробным описанием Ларгского сражения, Румянцев в числе иных отличившихся в бою упоминает и генерал-майора Вейсмана – единственного из генералов корпуса Баура. Именно с Ларги начинает восходить полководческая звезда лишь недавно произведенного генерала.
За Ларгу Вейсман получил орден Св. Георгия 3-го класса – самый почетный орден за всю историю России, даваемый исключительно лишь за подвиги на поле брани.
Новую славу, новые признания и новые награды принес Вейсману – как и всей армии – Кагул, одна из самых славных побед русского оружия на всем протяжении ХVIII века, наиболее крупная и значимая победа в русско-турецких войнах ХVIII – начала ХIХ века.
После Ларги русская армия двинулась вперед – стало известно, что великий визирь и главнокомандующий Залиль-бей ведет с собой войско в 150 тысяч человек. Отступать было некуда – в тылу русских находился хан, вновь усилившийся за счет турецких корпусов и доведший свое войско до 80 тысяч. У Румянцева был лишь один шанс – разбить неприятеля по очереди, не дав им соединиться, и разбить так, чтобы у противника уже более бы и не возникло даже мысли о сопротивлении. Кагул стал именно такой победой… И после Кагульского сражения Румянцев, обращаясь к солдатам, скажет: «Я прошел все пространство до берегов Дуная, сбивая пред собою в превосходном числе стоявшего неприятеля, не делая нигде полевых укреплений, а поставляя одно мужество и добрую волю вашу во всяком месте за непреоборимую стену».
Он имел на эти слова полное право. Русские во всех войнах с татарами и турками строили войско в одно каре, или в три, и в последнем случае ставили одно каре возле другого так близко, что четыре фаса, составляющие одну треть действующих войск, не могли принимать участие в сражении и своим огнем защищать друг друга, так же как и кавалерию, которая не могла держаться против превосходной турецкой конницы. Фронт каре прикрывался рогатками, артиллерия размещалась по флангам боевой линии и по углам каре, кавалерия – по флангам, обозы – внутри каре.
Румянцев совершенно изменил и образ войны и вид построения войск к битве. Он не ожидал турок, но искал их в поле и через это породил нравственную силу войска, заменявшую численность.
Он, разделяя свою армию на малые каре по две и три тысячи человек каждое, дал им быстроту и подвижность. Он помещал кавалерию колоннами за каре и артиллерию впереди каре, по флангам и в резерве. При удобном местоположении Румянцев мешал каре с колоннами. Иногда шел на неприятеля, построив войска в колонны, перестраивал их в походе при нападении кавалерии и даже отражал эту последнюю, имея в боевом порядке одни колонны, прикрытые густой цепью стрелков и огнем артиллерии, которая во всех сражениях, данных Румянцевым и подчиненными ему генералами, шла впереди и своим огнем, еще до удара в штыки, производила расстройство в рядах неприятеля. Так было и при Ларге, и при Кагуле.
Недаром поражаемые при каждой встрече губительным огнем русской артиллерии, турки приписывали свои неудачи прежде всего вероломным, по их понятиям, действиям русских войск: «Русские надеются на превосходство своей пальбы, против которой действительно не устоять никому… Но пусть только они не стреляют в нас, а выступят на бой с нами, как храбрые воины, с мечами в руках; тогда увидят они, на самом деле, могут ли неверные противиться мусульманам…» В сражении при Кагуле Румянцев разделил пехоту на пять каре, главное из которых насчитывало более пяти тысяч, остальные – приблизительно до трех. Это позволило подкреплять одни части армии другими, поддерживать в продолжение нескольких часов беспрерывный бой против многочисленных войск противника, сбить неприятельскую артиллерию концентрическим действием батарей и обойти турецкий лагерь с фланга.
Наградой за Кагул стал патент, подписанный Екатериной II и гласивший: «Известно и ведомо да будет каждому, что Мы Графа Петра Румянцева, который Нам Генерал-Аншефом служил, для его оказанной в службе Нашей ревности и прилежности, в Наши Генерал-Фельдмаршалы, тысяча седмь сот седмьдесятого года, Августа втораго дня Всемилостивейше пожаловали и учредили; якоже Мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем Нашим помянутого Графа Петра Румянцева за Нашего Генерал-Фельдмаршала, надлежащим образом признавать и почитать: напротив чего и Мы надеемся, что он в сем ему от Нас Всемилостивейше пожалованном новом чине, так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму Офицеру надлежит. Во свидетельство того Мы сие Нашею Собственноюрукою подписали, и Государственною печатью укрепить повелели.
Дан в Санкт-Петербурге, лета 1770. Декабря 28 дня».
Благодаря в ответном послании императрицу за милость, Румянцев напишет: «Русские подобно древним Римлянам, никогда не спрашивают: сколько неприятелей, но где они?» Сражение при Кагуле – одна из самых славных побед русского оружия на всем протяжении XVIII века, наиболее крупная и значимая победа в русско-турецких войнах XVIII – начала XIX века. Оно блестяще завершило выдающийся поход Румянцева от Хотина к Дунаю.
Победы Румянцева при Рябой Могиле, Ларге и особенно Кагуле означали, что в развитии русской стратегии рутина, господствовавшая в ней ранее и преодолевавшаяся уже в годы Семилетней войны – прежде всего в кампании 1759 года, – теперь успешно преодолевалась. Последовательные, целеустремленные, проникнутые от начала до самого конца наступательным порывом, завершенные разгромом главных сил армии противника, решения и действия Румянцева приводят к выводу, что с этого времени на передний план выступают принципиально новые методы ведения военных действий, методы активной стратегии, основная цель которой – сокрушение живой силы и быстрый разгром противника.
Наступательная стратегия Румянцева сочеталась с наступательной тактикой. Тактическая оборона господствовала еще и в войсках Голицына в сражениях 1769 года. Именно поэтому Рябая Могила, Ларга и Кагул и ознаменовали собой резкий поворот в тактических взглядах и практике ведения боя русскими войсками.
Новые тактические формы, примененные Румянцевым в сражениях 1770 года, были умело и продуманно приспособлены к специфическим свойствам противника.
У турок из-за слабой организованности и дисциплины, неудовлетворительной строевой подготовки определенного фиксированного боевого строя не было. Неорганизованный огонь турецкой пехоты и чрезвычайно слабый огонь артиллерии быстро подавлялся массированным огнем пехоты и орудий европейских войск. Поэтому турки и не придавали значения максимальному использованию в бою огнестрельного оружия, хотя это и было ведущей идеей линейной тактики. Турецкая пехота и конница в бою обычно образовывали бесформенные скопления значительной глубины.
Исходя из этого типичный для турков способ ведения боя заключался в том, чтобы сначала сковать и дезорганизовать противника рядом атак конницы, направляемой по преимуществу во фланги и тыл противника, а потом окончательно решить дело совместным натиском конницы и пехоты.
Стремление выработать действенный способ ведения наступательного боя лежал в основе созданной Румянцевым новой тактики борьбы с турками. Русский полководец осознавал, что только такая тактика отвечает требованиям наступательной стратегии. Имея богатый опыт Семилетней войны, он понимал, что русские войска способны на деле осуществить наступательные стратегию и тактику. Румянцев осознавал, что применявшиеся ранее способы ведения боя против турок не отвечали выдвинутым задачам.
Отсюда его расчленение армейского каре на ряд более малых, составленных дивизиями или бригадами. Такой боевой порядок обладал значительно большей подвижностью и создавал тем самым возможность маневра и удара, позволял сосредотачивать силы на направлении главного удара. Именно это принесло русским войскам победу в сражениях 1770 года.
Новая тактическая система, победоносно утвержденная Румянцевым, имела не только огромное практическое значение, но и не менее важное принципиальное значение, далеко выходящее за рамки проблемы борьбы с турецкими войсками. Русский полководец, приняв за норму расчленение боевого порядка на несколько более или менее самостоятельных частей, порвал с одним из наиболее тягостных постулатов догматизировавшейся линейной тактики, требовавшим обязательного сохранения сплошного боевого порядка при любых обстоятельствах.
Русское военное искусство в этом вопросе далеко опередило западноевропейское, продолжавшее непоколебимо твердо стоять на уже замшелых позициях вплоть до Второй русско-турецкой войны 1787–1791 годов, когда австрийцы, подражая русским, решатся наконец пойти также на раздробление боевого порядка. Отход от сплошного боевого порядка в дальнейшем неминуемо приводил к действию сомкнутыми колоннами, превращавшимися в главную тактическую единицу на поле боя.
Большое значение имел и отказ Румянцева от равномерного распределения сил по фронту, создание боевого порядка с выраженным сосредоточением сил на направлении главного удара. Это явилось продолжением идеи, которую Салтыков осуществил при Кунерсдорфе.
С точки зрения отхода от шаблонов линейной тактики явилось развитие Румянцевым практики боевого применения егерей, стрелковой пехоты. Русский командующий сформировал в своей армии из полковых егерских команд егерские батальоны. Эти батальоны в сражениях 1770 года обычно действовали в составе своих соединений, размещаясь в фасах каре, образованного этими соединениями. Главное заключалось в том, что егеря постепенно переходили к осуществлению особых функций в действиях пехоты.
Например, при Ларге егерские батальоны дивизий Бауера и Репнина в ходе наступления были выведены из общих каре и образовали самостоятельные каре, выдвинутые уступом впереди и слева от каре Бауера, уступом впереди и справа от каре Репнина.
Это было сделано в условиях ожидавшихся и уже начинавшихся атак турецко-татарской конницы с целью лучшего маневрирования.
Кроме того, егерские каре, обладавшие большой огневой мощью, могли принять на себя и задержать значительную часть конницы противника, тем самым дав возможность крупным пехотным каре продвигаться безостановочно.
В боевом использовании артиллерии также произошли существенные сдвиги. В сражениях 1770 года действия русской артиллерии являются новым этапом в этом отношении. Наиболее характерным было использование в сражении при Ларге артиллерийского резерва, включенного в состав главных сил Румянцева. Из него в ходе сражения были выдвинуты артиллерийская бригада Мелиссино для усиления артиллерии передовых каре при подготовке штурма турецкого лагеря и батарея Внукова для отражения атак татарской конницы, обходившей левый фланг каре главных сил. Так как атаки турецкой конницы не прекращались, бригаде Мелиссино было приказано принять участие в их отражении. Бригада переместилась вдоль фронта влево, заняла новые огневые позиции и своим огнем нанесла тяжелые потери противнику.
Румянцев никогда не сковывал инициативу своих подчиненных. Перед сражениями, давая предписания, он всегда говорил: «Конечно всякий верный сын Отечества сделает все полезное и сверх предписания сего; начальники полков, увидя какую-нибудь перемену в сражении, не пропустят случая сделать движений, согласных с успехом сражения».
Давал он своим подчиненным и оперативный простор. Так, в июле 1771 года он пишет генералу Репнину: «Уважая невозможность, по дальнему расстоянию, руководствовать действиями войск, вам вверенных в Валахии, предоставляю это благоразумию вашему с замечанием, чтоб в случае увеличения сил неприятельских, не взирая на его превосходство, предпочитать славу оружия пред всеми земными выгодами; искать неприятеля, уничтожать все его покушения и чрез то доставить защиту и безопасность занимаемому краю».
Кампания Румянцева 1770 года стала рубежом в развитии русского военного искусства. Его дальнейшее развитие представляет собой четко выраженное движение по пути формирования законченной самобытной системы и практических действий по важнейшим вопросам стратегии и тактики.
Румянцевым был найден ключ к проблеме борьбы с турецкими войсками. Методы, выработанные и проверенные на практике в ходе боевых действий 1770 года, сделались основой для дальнейшего совершенствования, в ходе которого принципиальная сущность введенной Румянцевым системы и деление боевого порядка на каре сохранились. Румянцевская система обеспечила русской армии подавляющее тактическое превосходство над турками в полевых сражениях.
После Ларги и Кагула численный перевес турецких армий практически утратил всякое значение. Если еще в кампанию 1769 года русские военначальники опасались стремительных атак турецкой конницы и ударов холодным оружием турецкой пехоты, то теперь эти опасения были рассеяны. Необходимо отметить, что победы русских войск над турецкими в полевых сражениях при этом обходились ценой малой крови. Огонь турок, как ружейный, так и артиллерийский – слабый и неорганизованный – не мог причинить значительных потерь, а до схватки на холодном оружии дело доходило крайне редко. Прорыв при Кагуле каре Племянникова был исключением. Общие потери в этом наиболее кровопролитном сражении из всех, имевших место в 1770 году, составили для русской армии 914 человек.
Сразу после Кагула отряд генерала Игельстрома, преследуя турок, бежавших к Измаилу, захватил мосты у устья Ялпуха, разбил арьергард противника и овладел его обозом. Вслед за Игельстромом Румянцев 23 июля отправил Репнина, усилил его отрядом Потемкина. 26 июля русские овладели Измаилом и продолжали наступление.
Наряду с победами, одержанными Румянцевым, и долгожданным взятием Бендер лето 1770 года принесло России еще один значительный успех.
Еще до начала войны – в ожидании ее неминуемого начала – Алексею Орлову принадлежала разработка плана кампании в Средиземном море на время русско-турецкой войны В 1769 году он был произведен в генерал-аншефы и лично стал претворять разработанный им план военных действий против Турции. Орлов стал главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами русской армии и флота в этом районе.
22 июня 1770 года русские эскадры соединились у острова Цериго с отрядом Орлова и теперь вместе начали поиск турецкого флота.
24 июня они обнаружили его в Хиосском проливе у Анатолийского берега к северу от Чесменской бухты.
Турецкая эскадра насчитывала шестнадцать линейных кораблей, имевших 1400 орудий, и стояла на якорях, образуя двойную дугообразную линию.
Русский флот имел всего девять линейных кораблей, на которых было 740 орудий.
Видя двойное превосходство сил противника, Орлов поставил вопрос на обсуждение военного совета, и совет, состоявшийся в тот же день, вынес решение об атаке турецкого флота. В ходе совета Спиридов предложил план сражения. По его замыслу, турецкий флот должен быть атакован не кильватерной колонной – тактика ведения морских боев, принятая в то время в европейских флотах, – а с короткой дистанции, подойдя перпендикулярно к боевой линии флота противника. Этот прием давал Спиридову возможность быстроты сближения и быстроты атаки, что позволяло ему нанести сосредоточенный удар по турецкому флагману. Несмотря на то, что у него был риск подвергнуться огню нескольких турецких кораблей, Спиридов принимал во внимание как внезапность, так и боевую выучку русских моряков.
План Спиридова был одобрен, и час спустя после военного совета русские корабли начали сближение с противником. На ходу они выстраивались в боевую линию. Авангард возглавил сам Спиридов, центр – адмирал С.А. Грейг (где и держал свой штандарт Орлов), а арьергард – контр-адмирал Эльфинстон.
Турецкий флот возглавлял адмирал Хасан-бей Джезаирли.
При подходе русских кораблей на пушечный выстрел – 500–600 метров – турецкие корабли открыли огонь. Однако поскольку они готовились к бою на более дальней дистанции, соответственно подготовив орудия для этого, их ядра попадали в верхнюю часть рангоута русских кораблей, что не мешало русской эскадре продолжать двигаться на сближение, не отвечая на огонь противника.
И только приблизившись к турецким кораблям на расстояние 50–60 метров, русские корабли дали залп сдвоенными ядрами по кораблям турок. Затем они медленно, почти вплотную друг к другу, стали продвигаться вдоль турецкой линии, продолжая всю ее обстреливать.
На турецком флагманском корабле «Реал Мустафа» возник пожар, который перекинулся на корабль «Евстафий», на котором находился Спиридов. Его корабль из-за повреждений потерял управление и течением был снесен к турецкому кораблю и сцепился с ним на абордаж. Последовали взрывы обоих кораблей. За несколько минут до взрыва Спиридов успел перейти на линейный корабль «Три иерарха», на котором стоял Грейг.
Сражение принимало все более яростный характер. Стоявшие рядом с флагманом турецкие корабли, спасаясь от огня русской эскадры, поспешно обрубали канаты и выходили из боя, укрываясь в Чесменской бухте. Русские корабли продолжали их преследование. Бой продолжался.
В течение всего следующего дня русские корабли продолжали обстрел турецких, что окончательно деморализовало турецких моряков.
В этот же день на военном совете Спиридов изложил свой план уничтожения турецкой эскадры, заключавшийся в том, чтобы, закрыв турецким кораблям выход из Чесменской эскадры, сжечь их комбинированным ударом корабельной артиллерии и брандеров.
Атаке брандеров должен был предшествовать удар корабельной артиллерии под командованием Грейга.
Ночью 26 июня корабли Грейга заняли место согласно разработанной диспозиции. Его корабли, войдя в бухту под огнем противника, стали на якорь. Обстрел турецких кораблей был проведен в основном брандскугелями – зажигательными ядрами, и на турецких кораблях возникли пожары. Затем, примерно через час, в атаку пошли брандеры – небольшие суда с взрывчатыми веществами для поджога кораблей противника, – из которых только один под командованием лейтенанта Д.И. Ильина, подойдя к турецкому флоту, сцепился с ним, вызвав пожар. В результате этих действий турецкий флот полностью сгорел. Даже после прекращения огня на русских кораблях, взрывы на судах противника продолжались. Затем русские корабли, высадив десант, овладели береговой батареей на северном мысе, а также складами и трофеями в самом городе.
В Чесменском сражении турки потеряли четырнадцать линейных кораблей, шесть фрегатов, около сорока мелких судов и около одиннадцати тысяч матросов убитыми и ранеными. Линейный корабль «Родос» и пять турецких галер были взяты в плен.
Русские потеряли убитыми одиннадцать человек.
Спиридов докладывал Адмиралтейству: «Честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 неприятельский военный турецкий флот… атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили… а сами стали быть на всем Архипелаге… господствующими».
Чесменское сражение сыграло решающую роль не только в 1-й Архипелагской экспедиции, но и отразилось на ходе всей русско-турецкой войны.
После него в Эгейском море стал господствовать русский флот. Дарданеллы были заблокированы.
Глава VI. От Дуная до Тавриды
В 1771 году князь Долгорукий, командовавший армией, действовавшей против крымских татар, завоевывал Крым.
Взял Перекоп и весь Крым: кошмар татарских набегов на юг России наконец-то после долгих и долгих столетий кончился…
За тридцать пять лет до этого, а именно в лето 1736-е русские войска уже раз взяли Перекоп. Тогда впервые для истории прозвучало имя Василия Долгорукова.
Василий родился в семье князя Михаила Владимировича Долгорукова – губернатора Сибири и члена Верховного тайного совета. Образованный еще при Екатерине I Совет стал играть важнейшую роль в государстве в годы правления Петра II и непосредственно после его смерти. Именно члены Совета решили пригласить на трон Анну Иоанновну – дабы ограничить самодержавие. Подобных умонастроений новая императрица не забыла.
Она считала Долгоруковых своими личными врагами. Старшее поколение рода при ней в большинстве своем оканчивало жизнь на плахе, а младшие были отданы в солдаты без права выслуги.
Василий разделил судьбу своих близких.
Лишь случайность, помноженная на дерзкую храбрость, позволила ему достичь офицерского чина: перед штурмом Перекопа фельдмаршал Миних пообещал, что первый солдат, взошедший на укрепление живым, будет произведен в офицеры. Первым был 14-летний Василий Долгоруков.
Далее он отличился при штурме Очакова (1737) и Хотина (1738), в русско-шведской войне – в деле при Вилайоках (1740).
К 1747 году он был уже полковником и командиром Тобольского пехотного полка. В этой роли Долгоруков резко выдвинулся из числа остальных командиров и общепризнанно считался одним из самых талантливых офицеров. Участие в походе на Рейн в 1748 году и почти во всех основных сражениях Семилетней войны (1756–1762 годы) с Пруссией принесло ему чин генерал-поручика и орден Св. Александра Невского…
Теперь армия под руководством генерал-аншефа Василия Долгорукова подошла к Перекопу. С началом войны – в 1768 году – Долгорукову была вверена охрана границ России с Крымом, а после назначения его командующим 2-й армией – на смену П.И. Панину – именно перед ним была поставлена задача ликвидировать Крымское ханство.
Покорение Крыма зависело от занятия главнейших его пунктов. Русским надлежало взять: Перекоп (или Орь) – укрепленную линию, загораживающую вход на полуостров; Керчь и Еникале, как пункты, обеспечивающие соединение Азовского и Черного морей; Кафу (Феодосию), Арабат и Козлов (Евпаторию), как приморские города-крепости, кои обуславливали прочное занятие ханства.
Поэтому и поделил командующий свою тридцативосьмитысячную армию на три отряда. Первый, наиглавнейший, которому надлежало брать Перекоп и далее – Кафу, повел сам. Второй отряд генерал-майора князя Щербатова при помощи азовской флотилии вице-адмирала Синявина переходил Сиваш, овладевал Арабатом, а затем шел на Керчь и Еникале. Отряд же генерал-майора Брауна должен был взять Козлов.
К апрелю 1771 года 2-я армия была приготовлена к походу и собралась в главной квартире в Полтаве. 20 апреля Долгоруков двинулся в поход.
Шли неторопко, по пути создавая магазины и укрепленные пикеты. Поэтому лишь 12 июня армия остановилась в четырех верстах от Перекопа. Неприятельская кавалерия попыталась провести рекогносцировку, но казаки и легкие войска, завязав перестрелку, вскоре загнали ее за укрепление, откуда защитники его уже более не отваживались высунуться, а смели лишь ожидать осады и штурма.
Осмотрев укрепленную линию, которая на пересечении ее дорогой, идущей в Крым, имела крепость Перекоп, что давало продольную оборону перешейка, главнокомандующий решил брать ее штурмом на следующую ночь, пока осаждаемым не пришла помощь, пока они не попривыкли к виду русской армии у их стен.
Главный удар предполагалось нанести по той части линии, коя примыкает к Черному морю. Для тыльной же обороны Долгоруков намеревался отправить часть кавалерии и пехоты в обход неприятельского правого фланга – вброд через Сиваш.
Одновременно с этим он запланировал ложную атаку части линии, также примыкавшей к Сивашу.
В ночь с 13 на 14 июня к воротам, бывшим на линии, подошла русская пехота с пушками, тем самым заперев их и лишив турок возможности нанесения ударов во фланги и тыл штурмовым колоннам русских.
На направление главного удара командующий направил четыре пехотных полка, построив их в три каре. Одновременно со стороны Сиваша началась жаркая перестрелка, свидетельствовавшая, что ложная атака начата. Неприятель, зная, что сивашский участок – слабейший, начал перебрасывать туда часть своих сил. А в это время пехотные каре подошли незамеченными к укреплениям, упиравшимся в Черное море, спустились по лестницам в ров и пошли на вал.
Долгоруков, увидев знакомую картину перекопского штурма, которая с самой молодости долгие годы частенько стояла перед глазами, стоило их только закрыть, посулил офицерские шарф и шпагу первому, кто взойдет на вал. Солдаты рвались вперед.
В один миг вся часть линии от моря почти до крепости со всеми бывшими на ней батареями оказалась в руках штурмующих.
Тогда же кавалерия генерал-майора князя Прозоровского, шедшая по Сивашу, вышла по отмели на берег – уже в Крыму – и заняла позицию перпендикулярно укреплению. Противник бросил против них всю свою конницу, надеясь опрокинуть Прозоровского в Сиваш. Но русская конница, выдержав массированный удар, совместно с подоспевшей пехотой, сама перешла в атаку, опрокинула татар и гнала их тридцать верст в глубь полуострова.
Таким образом – за исключением самой крепости – вся линия перешла в руки штурмующих.
С утра 14-го Долгоруков перевел по устроенному за ночь в валу проходу половину своей армии в Крым, а другую часть доставил на противоположной стороне прохода. Гарнизон крепости, увидев себя со всех сторон окруженным, враз забыл, что дело крепостей – выдерживать осады и поспешно капитулировал, так что уже 15 июня российская армия вступила в Перекоп…
Пятьдесят тысяч татар и семь тысяч турок не выполнили предначертанного им солнцеликим султаном – ключ от Крыма был выбит из их неловких дланей.
Назавтра колонны Брауна и Щербакова вышли по своим маршрутам, а сам командующий задержался еще на сутки, устраивая в крепости армейский магазин.
Наконец, утром 17-го двадцатисемитысячный отряд под его началом двинулся к Кафе – важнейшему и значительнейшему в системе крымской обороны городу полуострова. Шли тремя колоннами – каждая в составе дивизии – форсированными маршами, торопясь преодолеть как можно скорее испепеленное неистовым солнцем безводье.
29 июня отряд подступил к Кафе.
К этому времени Щербаков уже 18-го взял Арабат, 21-го – Керчь и Еникале, а Браун – 22-го – Козлов. Крепости эти достигались русскими малой кровью. Кафа – иное дело. После того как собравший у Карасубазара десятитысячный отряд начальник турецкого войска Ибрагим-паша решил пойти сразиться с Долгоруковым у Кафы, там собралась турецко-татарская армия не менее, чем в 95 тысяч человек.
Подойдя к городу Долгоруков построил пехоту в три боевые линии, между первой и второй расположил несколько эскадронов кавалерии, а остальную конницу направил на фланги первой линии, выставив перед кавалеристами еще и полевые орудия.
Боевые линии русских наступали. Отчаянная атака татарской конницы была отбита, и та отступила в земляной ретраншемент, расположенный впереди крепости с севера. Сюда же двинулся и русский командующий.
Высланная им вперед артиллерия открыла плотный огонь.
Выдержав всего лишь несколько залпов, неприятель поспешно отступил в крепость. Кавалерия Долгорукова заняла окопы и бывший за ними лагерь, а легкие войска в эти же минуты бросились по левому флангу – берегом моря – вперед, отрезая защитникам ретраншемента дорогу к столь вожделенной ими крепости.
Маневр этот был проделан столь успешно, что отступающие – и так уже бежавшие не в идеальном порядке – просто-напросто рассеялись и перестали существовать как воинское подразделение, став лишь толпой испуганных людей, поодиночке ищущих спасение в близлежащих горах. Часть из них, лишенная и этой возможности, бросалась в неверные волны, намереваясь вплавь достигнуть недалеко от берега расположенных кораблей.
Русские же, выставив на берегу батареи, вдребезги разбили подобное намерение – вместе с частью судов. Остальные предпочли убраться в открытое море, предоставив возможность всем надеявшимся на них спастись, утонуть.
Тем временем основные силы русского отряда продолжали идти к крепости. Уже были выставлены на господствующих над городом высотах батареи, как неприятель, потеряв надежду на спасение и вместе с ней и весь кураж, выкинул белый флаг… Среди пленных Долгоруков с некоторым удивлением обнаружил и Ибрагим-пашу.
К концу июля Крым был полностью покорен. На территории полуострова оставались лишь небольшие кучки отчаянно метавшегося в безысходной прострации неприятеля.
Заняв небольшими отрядами Ялту, Балаклавы, Судак и Бахчисарай – в последнем городе, кстати, пока громили его государство, отсиживался крымский хан Селим-Гирей и откуда теперь он убежал в числе немногих на гору Карадаг, а уж оттуда в Стамбул, каяться, – Долгоруков оставил на Щербакова спокойствие Крыма, а сам 5 сентября выступил с армией на Украину на зимние квартиры.
В одном из его жизнеописаний говорилось: «Таким образом он прославил имя свое в тех местах, где за 35 лет начал только знакомство со славою». А еще говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку!
Екатерина в рескрипте Долгорукову благодарила его за победы и поздравляла с орденом Св. Георгия 1-й степени. Он получил этот орден четвертым – после Румянцева, Алексея Орлова и Петра Панина.
Вернувшись из Крыма, Долгоруков был приглашен Екатериной II на обед и посажен рядом с фельдмаршалом Александром Михайловичем Голицыным. Императрица налила рюмку и, отдав ее пажу, тихо сказала ему: «Князю Долгорукову» и – громко:
– Подайте господину фельдмаршалу!
Паж подошел к Василию Михайловичу, но тот указал перстом на Голицына:
– Вот фельдмаршал!
После обеда присутствующие поздравляли Долгорукова, но он их не принял. Хотя и ждал фельдмаршальского жезла за свое деяние.
Однако со стороны Екатерины более такого широкого жеста не последовало. Так судьба на хрупких весах случая обмерила старого генерала…
В день торжественного празднования мира с Оттоманской Портой (10 июля 1775 г.) Долгоруков получил шпагу с алмазами, алмазы к ордену Св. Андрея Первозванного, который он имел с 1767 года, и титул Крымского. Обиженный генерал-аншеф подал в отставку…
Вновь служба позвала его в апреле 1780 года – он был назначен главнокомандующим в Москве, то есть фактическим генерал-губернатором второй столицы. На этом посту он заслужил всеобщую любовь своей добротой, доступностью, щедростью, широким гостеприимством и бескорыстием. Осуществляя верховное управление в Москве, В.М. Долгоруков-Крымский искренне заботился о порядке и справедливости и, не справляясь с законами, творил суд по своему разумению, полагаясь на собственный здравый смысл и жизненный опыт.
Он пробыл на этом посту недолго и скончался в 1782 году шестидесяти лет от роду. После его смерти появилась эпитафия поэта Ю.А. Нелединского-Мелецкого:
Прохожий, не дивись, что пышный мавзолей Не зришь над прахом ты его; Бывают оною покрыты и злодеи; Для добродетели нет славы от того! Пусть гордость тленная гробницы созидает — По Долгорукове ж Москва рыдает!Прольет слезу и Румянцев, ценя в князе прежде всего такого же, как он сам, солдата, помня о старом друге, которому в дни крымских побед он помогал, удерживая турок от помощи татар.
А война продолжалась. Согласно приказу Петербурга Румянцеву предписывалось «оборонной линии по Дунаю и покушениями за этой чертой обратить оттоманские силы преимущественно к той стороне, откуда опасности для земель их были тогда ближе и важнее». Таким образом на него возлагалась оборона от Ольты до северных устий Дуная. Им был выделен корпус для действий против Барской конфедерации, выделены полки для обороны крепостей Хотина, Бендер, Аккермана, Килии, Измаила и Браилова…
Именно этот год принесет генералу Вейсману, которого вскоре назовут «русским Ахиллом» (его, лифляндского дворянина. Но он связал свою судьбу с русской армией, отдав ей свой талант, отвагу, жизнь, и оттого вошел в историю как русский генерал), всеобщую известность.
Румянцев в этой кампании расположил свою армию на Дунае тремя группами. Центральную возглавил лично сам фельдмаршал.
Правое крыло, обеспечивающее участок между реками Ольта и Серет, возглавлял сначала Олиц, а после смерти генерал-аншефа – последовательно генерал-поручики Репнин и Эссен. Левое же крыло армии, защищавшее земли от Прута до Татар-Бунара, Румянцев, несмотря на то, что под его началом было множество старых, заслуженных генералов, доверил Вейсману, всего лишь генерал-майору, но уже командиру дивизии.
Именно для Вейсмана и Олица Румянцев не поленился самолично зачитать вслух, при этом значительно поглядывая на своих подчиненных, правила организации службы в этих корпусах. В комнате, кроме них троих, никого не было. Тем весомее звучали слова фельдмаршала, из которых, даже зная, что сия инструкция им будет вручена позднее в письменной форме, генералы боялись пропустить хотя бы единое.
– Вам надлежит, господа генералы, построить в важнейших пунктах своего участка по берегу Дуная укрепления и занять их гарнизонами…
– Простите, ваше сиятельство, – заторопился с вопросом Вейсман, – а не ослабит ли сие наши корпуса, коли мы везде понастроим корпуса с гарнизонами? Не похоже ли сие на кордонную систему, порочность принципов построения коей вы не раз нам же сами и объясняли?
– Оттон Иванович! Где же твоя европейская аккуратность и столь бедственное для неприятеля хладнокровие? Дай сначала договорить, а после уж спрашивай. А то приписываешь мне чужие грехи, а потом же сам их с жаром опровергаешь. Так полемизировать легче всего… Хорош, а? – весело обратился Румянцев к Олицу. Тот скупо и мудро улыбнулся, осуждая и прощая одновременно излишне горячих молодых людей, думающих, что все на этой земле в их власти.
– Простите, ваше высокопревосходительство, – произнес Вейсман безбоязненно, – но я просто…
– Ну, хватит, хватит, Оттон Иванович. Помолчи. А то сию умную бумагу я вам так и не дочитаю. Итак, продолжаю.
Укрепления, коими так сейчас возмущался генерал-майор Вейсман, занять небольшими, повторяю – небольшими, гарнизонами. Надлежит вам также организовать патрульную службу и летучую почту, дабы постоянно наблюдать за поведением осман на южном берегу Дуная и наибыстрейшим образом мочь донести о потугах его переправиться на наш, северный берег. Основные силы своих корпусов держать вот так, – он вытянул вперед сжатую руку, – держать в кулаке и наносить ими неприятелю удары в случае переправы того через Дунай, делая все возможное для полного уничтожения противника.
Уничтожать, а не только изгонять. Елико возможно более производить поиски за Дунай сильными партиями и целыми отрядами, формируя их из пехоты, кавалерии, не забывая и о пушках. Таковы будут вам указания, господа генералы. А вот теперь, Оттон Иванович, у вас есть ко мне вопросы?
– Никак нет, ваше сиятельство.
– А у вас? – обратился Румянцев к Олицу.
– Нет, Петр Александрович.
– Ну что ж, – тогда за дело. Опекой мелочной, господа, как видите, я вас не тревожу. Действуйте, как подсказывают вам разум и совесть!
Фельдмаршал болел за дело, выполняемое им, и поэтому никогда не ограничивал инициативы своих подчиненных. Когда во главу угла ставится общее благо – тут не до мелочных амбиций, склок и сведения счетов со своими подчиненными, сопровождающихся скрупулезным подсчетом того, сколько они украли твоей славы.
Командующий доверял своему войску, доверяло и оно ему. Взаимная уверенность полководца и армии оборачивалась чередой побед.
Вейсман, руководя своей группой, за одну кампанию 1771 года сделал, сколько иному военачальнику не удается совершить за целую жизнь…
Итак, принято решение о начале поисков за Дунай. И первый же крупный поручается ему. Против Тульчи. Потом еще неоднократно будет Вейсман ходить к этой крепости, но почин был сделан 23 марта.
За пять дней до поиска – 18 марта – Вейсман отправил на рекогнасцировку Тульчи поручика Дмитриева с пятнадцатью гренадерами. Поручик, проведя рекогнасцировку на лодках, на обратном пути остановился на отдых в семи верстах от Измаила. И тут 19-го числа увидел три большие лодки с сотней турок; лодки шли по течению. Противник, увидев русских, сразу же решил вернуться. Дмитриев преследовал его пять верст, после чего прекратил погоню.
Как выяснилось позднее, разведка подкачала – не учла постоянные приливы и отливы неприятельских войск, и потому считалось, что в крепости около тысячи человек гарнизона. Потом окажется, что турок было пять тысяч. При 29 орудиях. Но Вейсмана это не особенно огорчило – он уже давно привык считать противника лишь после боя.
Генерал взял с собой в поиск 720 гренадеров и 30 артиллеристов без орудий – с тем, чтобы было кому стрелять из пушек, которые, он считал, его пехота непременно отобьет у неприятеля.
В полдень 23 марта Вейсман двинулся от Измаила к Тульче с отрядом. Его заместителем был генерал-майор Озеров, тот самый командир гренадерского полка, отличившийся при Кагуле, которого Румянцев отправил с известием о победе к Екатерине, а та за подобную новость и за храбрость произвела смелого бригадира в генералы.
При всех предшествующих небольших поисках к Тульче русские партии выходили на турецкий берег ниже крепости. Там неприятель традиционно и ожидал русских. Вейсман же решил на этот раз нарушить сложившуюся традицию и высадиться выше крепости, приобретя тем самым фактор неожиданности. К тому же данное место высадки и сокращало плавание на не совсем надежных судах.
В ночь флотилия Вейсмана прибыла к мысу Чатала, откуда начала продвигаться к устью реки Сомов, рукаву Дуная. И уже в три часа ночи отряд высадился на неприятельский берег Дуная как раз против батареи при устье реки Сомов – чтобы зря далеко не ходить.
Капитан Вишняков с 60 гренадерами был послан захватить незаметно турецкий пикет, стоявший на батарее. Но опыта в подобных делах было еще маловато: сухой камыш предательским треском известил осман о неожиданном и нежелательном визите.
Приходилось поэтому начинать действовать открыто.
Вейсман делит тогда свой отряд на две колонны, оставив для прикрытия судов всего 60 пехотинцев. Правая колонна отдается им под начало Озерова. Левую ведет сам Вейсман. Они сойдутся в крепости – так решил командир отряда.
Озерову поручались также нагорные батареи турок. Левой колонне заниматься, следуя берегом реки, нижней батареей.
– Господин капитан, – обратился Вейсман к одному из лучших своих офицеров, давая ему тем самым возможность реабилитировать себя за предшествующую досадную неудачу. В бою генерал особенно вежлив, – соблаговолите взять своих людей и потеснить господ осман с батареи.
В крепости уже тем временем были сделаны три сакраментальные сигнальные выстрелы и слышались крики от собиравшихся отрядов.
Под этот волнительный аккомпанемент Вишняков с 90 гренадерами выбил турок с их батареи, переколов при этом более сорока человек прислуги и янычар.
Турки, наконец, опомнились и возвысились до действия: их конница, вылетев из крепости, упала на русские колонны, пытаясь сломить их нахрапом. Отбив первые приступы частыми залпами, гренадеры – по приказу Вейсмана – выделив заградительные отряды, лишь ускорили движение на Тульчу.
В ходе движения правая колонна легко взяла одну батарею, вернее, место расположения оной, – пушек там не оказалось, и, может быть, поэтому, или уже заранее с чем-то смирясь, неприятель сопротивлялся несколько лениво. И теперь колонна Озерова штурмовала вторую батарею – настоящую, с пушками.
Перейдя глубокий овраг, гренадерская пехота, расчищая дорогу штыками, ворвалась на позиции. Кровавой жатвы было вдвое против Вишнякова. Да и добыча побогаче – целых восемь пушек.
Вейсман же в это время уже вступил в предместье и начал выщелушивать турок из домов. Лишенные привычных жилищ, османы побежали к замку – обе колонны сходились туда же. Новая попытка контратаки турецкой кавалерии была отбита, и движение русской пехоты продолжалось также неумолимо.
Противник начал отходить к крепости Бабадаг, где располагался великий визирь с главным войском, оставив заслон в замке и каменной мечети, рядом с которой находились четыре батареи.
Около трехсот гренадер под командой премьер-майора Пеутлинга пошли в штыки на батареи и взяли 14 орудий. Все уцелевшие с батарей поспешили укрыться в мечети – гренадеры вынесли дверь и, ринувшись туда, перекололи более ста человек, пока остальные не догадались сдаться.
К восьми утра все было кончено.
Правда, турецкая конница еще несколько раз пыталась наскочить на отряд Вейсмана, но делала это без души, скорее по обязанности, и ее без труда отогнали. Но начинал сказываться недостаток патронов у гренадер, да и подкрепление из Бабадага не могло не прийти. И поэтому Вейсман решил возвращаться. Налегке, как и пришел: суда были слишком мелки для всех только что приобретенных трофеев. Поэтому взяли лишь четыре медные пушки, заклепав остальные – кроме двух прикрытия.
Этими-то орудиями и отогнали в основном кавалерию, сделавшую последнюю попытку растерзать садившуюся на суда и оттого почти полностью потерявшую возможность маневра пехоту, лишившуюся к тому же почти и всех патронов. После последних прощальных залпов заклепали и эти две столь хорошо сейчас послужившие пушки. Сожгли все неприятельские суда. Забрали всех своих убитых и раненых (соответственно – 18 и 78 человек) и отплыли, на час всего опередив турок, громадными толпами спешивших на помощь Тульчи.
Неприятель потерял в этом деле более 500 убитыми и 51 пленного. У него было изъято 6 знамен, пушки и суда.
Почти месяц после этого поиска турок лихорадило, а когда, забывшись, они немного успокоились, Вейсман решил повторить свой визит в уже знакомые места.
11, 12 и 13 апреля он беспрерывно получал донесения, что турецкий лагерь у Исакчи день ото дня усиливается. Опасаясь, что это постоянное усиление может расстроить его очередной задуманный поиск, Вейсман решил упредить неприятеля. Быстро и холодно решая подобные вопросы, он уже 14 апреля сажает на суда 1400 гренадер, 40 артиллеристов – опять-таки в надежде на трофеи, 200 мушкетеров и – на этот раз – все же две пушки.
Поиск начинался с утра – до полудня был еще час с лишним, когда флотилия взяла курс к мысу Чаталу. Шли почти двенадцать часов, и поздним вечером пристали к неприятельскому берегу.
Сильный ветер затруднял продвижение, так что предстояло действовать днем против сильнейшего противника. Вейсман решил не рисковать понапрасну и прислушался к совету своего постоянного спутника по поискам генерал-майора Озерова, рекомендовавшего перенести нападение с 15 на 16, с таким расчетом, чтобы предпринять его ночью.
Оставив на Чатале авангард секунд-майора Иохемсена и 206 гренадер для наблюдения за противником, отряд спустился к острову, прибыв туда с рассветом 15-го. Пока стояли на острове, Вейсман получил предписание Румянцева от 12 апреля: идти к Исакче и сжечь тамошние магазины. Генерал-майор прочитал предписание своим офицерам и солдатам: его мнение и на этот раз совпало с мнением главнокомандующего. Войска, вдохновленные мыслью, что два самых талантливых генерала, в чем они уже не раз могли убедиться, независимо друг от друга признавали необходимость и неотложность поиска, еще более рвались в дело, нимало не сомневаясь в успехе.
Дело началось в 4 часа дня 15 апреля: отряды во главе с Вейсманом двинулся снова к Чаталу, где сидел в засаде Иохемсен.
Движение отряда обнаружил неприятельский пикет, который прогнали к Тульче, чтобы там ждали нападения. И действительно – скоро там послышались сигнальные пушечные выстрелы и ружейная пальба напуганных еще прошлым посещением турок.
Спустя три часа после захода солнца Вейсман, оставив часть авангарда на Чатале – дабы подкрепление из Тульчи не могло занять мыса, двинулся с основными силами на Исакчу. Движение осуществлялось двумя колоннами по 700 гренадер в каждой. Впереди шел авангард Иохемсена, который сразу же взял направление на часть неприятельского лагеря, располагавшегося у самого берега. Эта часть защищалась пятиорудийной батареей. К ней скрытно и двинулся авангард. И так удачно, что турки увидели русскую пехоту только тогда, когда она подошла уже вплотную. Это и объяснило во многом рассеянность турок, не сделавших ни одного орудийного выстрела, а только завязавшего ружейную перестрелку с людьми Иохемсена, после чего лагерь бывшими хозяевами был очищен. Также легко отдали османы и соседнюю, трехпушечную батарею.
Авангард дошел до пристани, где Вейсман разделил свой отряд. Правая колонна Озерова должна была следовать берегом реки вслед за авангардом к крепости, левую сам Вейсман повел туда же по горам. Вскоре рассвело, и гарнизон Исакчи с огорчением убедился, что на этот раз именно им, а не тем, что в Тульче, предстоит играть главную роль.
Навстречу наступающим колоннам была выслана кавалерия, а янычары заняли виноградный сад, обнесенный плетнем и располагавшийся в предместье. Иохемсен с ходу попытался было выбить неприятеля с виноградника, но был встречен сильнейшим ружейным огнем. Тогда Озеров приказал капитану Колонтаеву взять сто гренадер его колонны и помочь авангарду.
Колонтаев, предварительно обстреляв янычар, повел своих людей в атаку сада с правой стороны. Ворвавшись в сад, гренадеры ударили в штыки. В это время из города к янычарам пришло очередное подкрепление, и они перешли в контратаку. Рукопашный бой прекратил лишь подход колонны Озерова, который, не теряя времени на пальбу, молча повел людей врукопашную и выбил турок с их позиций.
Янычары отступили на лежавшее за садом кладбище и там вновь закрепились. Озеров размышлял недолго:
– Господин секунд-майор, – обратился он к командиру авангарда, – мне сейчас – наступать на кладбище, и далее – прямо в город. Вам же с вашими 200 гренадерами – взять замок.
И генерал указал рукой на располагавшийся невдалеке на берегу реки замок, прикрытый двумя мощными батареями: в 7 и 15 орудий.
Иохемсен стремительной атакой взял батареи на штык, а Озеров тем же универсальным орудием сбил янычар с батареи, которую они успели установить заранее у кладбища, и занял само кладбище. Противник в беспорядке побежал к городу.
Тем временем Вейсман вел свою колонну по крутым лощинам.
Это делало невозможным нападение на него неприятельской конницы, и поэтому турецкие кавалеристы дождались русских у самого города, навалившись тут уже сразу с трех сторон: фронта, тыла и левого фланга. Напор был так стремителен и силен, что гренадеры по приказу Вейсмана даже прекратили свое движение и занялись отражением конной атаки турок.
Хладнокровие гренадер, спокойно прицеливавшихся и стрелявших слитно и лишь по команде по почти уже вплотную подошедшему противнику, решило дело: конные массы были уже отброшены, и Вейсман тотчас же двинулся вперед – к двум батареям, стоявшим на высотах в конце города и имевшим соответственно 5 и 3 орудия.
Здесь вновь противник собрался в большом количестве, но равномерное движение гренадер Вейсмана и на этот раз отвратило его от мысли о стойком сопротивлении, и турки отступили, оставив гренадерам обе батареи и лагерь из 50 палаток.
К батареям вскоре подошла и колонна Озерова, и отряд соединился, построившись в одну линию на высотах, на которых располагался город. Две взятые батареи послужили хорошими укрепленными пунктами позиции русского отряда, на которых и была отражена неприятельская конница, несколько раз с безумной храбростью отчаяния и полным безрассудством рвавшаяся вперед на гренадер.
Но вот турки, понеся значительные потери как от ружейного, так и от орудийного огня еще недавно своих орудий, отъехали версты на полторы от позиции Вейсмана. Генерал не стал упускать подобной благоприятной возможности и тут же приказал секунд-майору Кафтыреву взять 160 человек и овладеть магазином у реки, при котором находилась пятиорудийная батарея.
Офицер не стал – так же как и его начальник – медлить и повел бегом своих гренадер на батарею. Не замедляя движения, русская пехота заняла батарею, игнорируя слабый огонь уже лишающегося всех надежд противника.
Турки попытались было закрепиться между магазинами, но были выбиты и оттуда. Неприятель вновь пытался закрепиться в каменной мечети и молдаванской церкви – и вновь безуспешно. Наконец, отступая, османы добежали до замка, который обороняли 500 лучших янычар и который уже отразил несколько приступов Иохемсена. Кафтырев начал помогать Иохемсену с другой стороны, но так же безуспешно.
Вейсман прислал в подкрепление еще 180 гренадер, но замок держался. Он так и остался единственным местом в крепости, где до конца сражения продолжало развеваться турецкое знамя – Вейсман решил не терять на него более людей и время: к Исакчи уже подошли сверху Дуная два неприятельских судна, правда, пока отошедших, но можно, да и пора уже было ждать более солидных гостей. Пора было уходить, и поэтому – даже взяв замок – уже не было времени заняться его разрушением.
Так что Вейсман лишь приказал запереть янычар в замке, пока все его люди не уйдут из города, и занялся хозяйственными делами: по его приказу зажгли три больших провиантских магазина, полных хлеба, остаток моста через Дунай и все неприятельские суда, на которые хватило горючего материала – 3 галеры, 23 канчебаса и 18 понтонов. Были сожжены и магазины, располагавшиеся в самом городе.
Командир отряда дождался, пока магазины сгорят до самой земли, и только после этого приказал отступать к судам. В 5 часов весь отряд сел на суда и отплыл к Измаилу, по пути сняв часть людей Иохемсена, оставшихся на мысе. К полуночи отряд прибыл в свою крепость, захватив в качестве трофея в общей сложности множество пушек и более шестидесяти судов. Особенно чувствительной была для неприятеля последняя потеря, ибо из 200 судов, служивших в прошлом году туркам для переправы через Дунай, у них теперь оставалось не более 60.
Следующий поиск Вейсман совершил – по прямому указанию Румянцева, отдавшего аналогичные указания всем своим корпусам, располагавшимся в подходящих для этого местах, – 19 июня этого же года.
Вейсман понимал, что со своей немногочисленной флотилией, почти целиком состоящей из одних только легких судов, опасно десантироваться, поскольку неприятель может своими судами, отогнав легкую флотилию русских, отрезать тем самым десант, которому придется иметь дело и с гарнизоном, и с подкреплением, могущим подойти по Дунаю. Поэтому он решил направить на остров, лежащий против Тульчи, отряд для продолжения дорог через него.
Вскоре сообщение по острову, включая шесть небольших паромов и складной мост, было налажено, и Вейсман приказал генерал-майору Черешникову занять остров, расположить там батареи и не давать проходить мимо неприятельским судам вверх по реке.
Черешников занял остров 18-го, а в ночь на 19-е, в самое глухое время – в три часа – скрытно пройдя остров, открыл огонь по турецким судам у Тульчи.
Вейсман же, соответственно, должен был к этому времени быть уже у Чатала, и как только островная батарея откроет огонь, начать десантирование при устье реки Сомов. Но дождь, сопровождавшийся сильным ветром, спутал планы: непогода началась еще вечером 18-го, так что, когда Черешников – согласно диспозиции – открыл огонь, Вейсман был еще далеко от Чатала, куда он добрался лишь к 9 утра 19-го.
Со стороны острова все усиливалась канонада. Слышалась и частая ружейная пальба, и Вейсман решился на дневную атаку, хотя дождь вымочил у солдат его отряда даже патроны.
Дабы разделить внимание неприятеля, он пошел не к самой крепости, а немного далее – к устью реки Сомов. По пути флотилии Вейсмана попалась турецкая галера, поспешно отступившая, – фактор внезапности, и так уже почти иллюзорный, был окончательно потерян. Затем русским повстречались 11 турецких судов, решившихся было задержать их своим огнем. Авангард – легкие суда с 200 гренадерами во главе с гвардии капитан-поручиком Луниным – с помощью батальона гренадер, следовавшего за ним на запорожских судах, загнал неприятеля в камыш.
Как бы принимая эстафету, открыла огонь турецкая батарея, стоявшая на высоте близ устья, – и тут же поплатилась: ее взяли на штык гренадеры Лунина.
Из крепости подошла неприятельская кавалерия и навалилась на авангард капитан-поручика.
– Скорее, скорее, – торопил Вейсман десантировавшихся с плоскодонок солдат, тревожно вглядываясь в сторону захваченной его людьми батареи, куда сейчас направляли свою атаку турки.
Его нетерпение было понятно и разделяемо всеми – офицеры даже начинали покрикивать в полный голос, солдаты спускались по сходням бегом.
Поняв, что все равно не успеть, Вейсман повернулся к Озерову:
– Ваше превосходительство, возлагаю на вас руководство десантированием отряда. Когда высадитесь – начинайте движение в сторону лунинской батареи.
– А вы?
– А я – к капитану. Господин премьер-майор, – обратился он к Булдакову, командиру единственного высадившегося пока батальона, – батальон – в каре!
– Слушаюсь, ваше превосходительство! Батальон…
Каре Булдакова опрокинуло в двух лощинах турецкую конницу и осталось на высотах при взятой батарее, ожидая подхода основных сил отряда. Когда Озеров привел десант, османы уже вновь пошли в атаку, и их отбросили на этот раз уже общими усилиями.
В восемь часов утра 19 июня Вейсман двинул к Тульче две колонны, как обычно, возглавляемые им и Озеровым. Первым, его – шла пехота, озеровская – недалеко от него – вдоль берега.
Снова, как всегда.
Как всегда, по пути отбили две кавалерийские атаки, после чего начали фронтальное наступление. В колонне Вейсмана Лунин со своим авангардом, для левее ретраншемента осман, занимал ближайшие к нему строения, тем самым прикрывая тыл Озерову и преграждая путь из города к укреплению, которое турки считали ключом ко всему городу. Батальон Пеутлинга – еще левее Лунина – должен был оседлать дорогу из города и встать против основного, городского, входа в ретраншемент. Батальон Булдакова Вейсман лично вел на приступ со стороны реки, а триста гренадер подполковника Блюхера прикрывали атаку с тыла и флангов.
Колонна Озерова же, одновременно с этим, также обойдя ретраншемент слева, шла по берегу, поражая неприятельские суда, а затем атаковала тульчинские замок и мечеть.
Лунин, штыками положив более ста янычар, занял домишки у ретраншемента; рядом с ним стал Пеутлинг. Вейсман же и Булдаков подошли в эти минуты ко рву – две сажени глубиной и шириной – где попали под сильный ружейный огонь из амбразур. Русские не отвечали – порох намок еще за Дунаем.
Генерал подал подчиненным пример, первым бросившись в ров.
Лестницы, захваченные с того берега, пригодились – гренадеры начали врываться в амбразуры. В числе первых были и Вейсман с Булдаковым.
И в этот же момент Пеутлинг штурмом взял основной вход.
Янычары дрогнули. Видя себя окруженными, они начали бросаться в ров, где почти все полегли под штыками.
Блюхер за это время успел отбить три атаки: кавалерия турок и янычар отчаянно пыталась пробиться основной частью отряда Вейсману в тыл.
Ретраншемент был взят, и Вейсман поставил в нем 160 гренадер Лунина. Туда же загнали всех пленных. Остальные же свои силы генерал построил в поле для прикрытия города в одну линию, расположив их так, что левый его фланг примыкал к ретраншементу, а правый приближен к Дунаю.
Последовала новая атака: конная и пешая. Вейсман даже не стал дожидаться приближения противника, дабы встретить его залпами, а сам повел своих гренадер на бегущие и скачущие массы неприятеля. Ровная линия русских штыков гипнотизировала, и противник по мере приближения к русским шеренгам замедлял движение. Гренадеры ударили в штыки, перейдя за несколько мгновений до этого на бег. Османы не выдержали и побежали. Их гнали полторы версты, пока Вейсман не остановил своих измученных солдат на высотах для отдыха. После часа ожидания он вернул своих людей к ретраншементу.
Озеров же в эти часы шел, встречаемый оружейной пальбой – не приветственной, естественно, а направленной на его поражение – берегом реки вниз по ее течению. Преодолев зону огня, он отделил один батальон гренадер подполковника Берга для атаки кораблей, стоявших на берегу выше замка, а сам с оставшимися двумя гренадерскими батальонами двинулся на штурм каменной мечети, набитой многочисленной пехотой.
Берг молниеносно распорядился судьбой кораблей, а Озеров, атаковав мечеть с двух сторон, взял ее. После чего обратил внимание на небольшой по величине каменный замок, открыв по нему огонь из двух полковых пушек. Но толстые стены, орудия на валах и стоящий рядом двадцатипушечный фрегат затрудняли дело. Поэтому Озеров отказался от намерения занять замок, а ограничился тем, что, оставив подполковника Мелина с его батальоном для удержания мечети, он остальных своих людей – секунд-майора Феликса, капитана Коробковского и капитана Тахташева – направил на отторжение от неприятеля его кораблей: трех, стоящих ниже замка, трех, стоящих выше одного, расположившегося посреди реки. Все офицеры со своими людьми справились с поставленными задачами – корабли были захвачены.
К 11 утра весь город – за исключением замка – был в руках отряда Вейсмана, продолжавшего стоять со своей колонной, перестроенной в линию, недалеко от взятого ретраншемента. Сюда же двинулся с основной частью своих сил и Озеров, предварительно выделяя команду для охраны кораблей, и батальон Мелина – для прикрытия тыла Вейсмана – оставленный в городе.
Подойдя со своими людьми, Озеров встал с частью их в одну линию с Вейсманом, остальных поместив сзади ретраншемента. Но противник, видя подобные приготовления, пока выжидал.
Вскоре последовало движение отдельных его частей, располагавшихся на левом берегу, к устью реки Сомов, где стояли суда Вейсмана и располагалось их прикрытие. Генерал послал к судам приказ спуститься к острову, занимаемому отрядом Черешникова.
Суда отошли, но турки уже не могли отказаться от своего намерения и навалились на части прикрытия. Их отбили, после чего этот русский отряд также отошел к острову.
Тогда около трех часов дня неприятель решил еще раз попытать военное счастье против основных сил русского отряда и начал атаку развернутым фронтом на неподвижно стоящий фронт Вейсмана. Два орудия турок открыли огонь по русским порядкам, и после нескольких залпов, на которые Вейсману было нечем ответить, турецкая конница ударила по левому флангу русских, а пехота – по правому.
В это время последовала неожиданная помощь – островной отряд переместился на своих отдаленных рекой позициях так, что его ядра стали достигать неприятеля, после чего он открыл жестокий огонь против наступающего противника.
Несколько последовательно проведенных османами атак, было отбито, но вот турецкая кавалерия все же сумела на левом фланге опрокинуть два пехотных взвода и прорвалась за фронт. Раздались крики торжества, почти тут же сменившиеся горестными воплями: подоспевший из резерва капитан Тевкелев опрокинул зарвавшихся кавалеристов, после чего противник начал откатываться всем фронтом, в чем ему помог Вейсман, преследовавший турок опять версты две.
Люди устали от многих часов беспрерывного боя: отбив очередную атаку, гренадеры тут же ложились в липкую грязь, образовавшуюся вследствие дождя и многочисленных передвижений множества людей и несколько минут неподвижно лежали, восстанавливая силы для отражения новых нападений.
Около восьми вечера турки предприняли новое наступление на позицию: на подкрепление гарнизона визирь из Бабадага послал отборную конницу и фирман, что если комендант Тульчи не отобьет город и ретраншемент, то поплатится жизнью. Подобные стимулы оживили полководческие настроения коменданта, и он вновь бросил конницу на левый фланг русских, а своих янычар – на правый фланг.
Стоящие справа гренадеры несколько раз отбились от яростных наскоков турок, однако потом произошел конфуз. Здесь стоял рядом с гренадерами – и отряд запорожцев, человек сто из которых, увлеченных боем и не в силах преодолеть свою ненависть к неприятелю, внезапно ринулись вперед, в надежде на всеобщую помощь. Однако гренадеры, не получая приказа, не двинулись с места, и запорожцы поэтому оказались в окружении многочисленного противника. Они начали отступать к своему фронту, и отступили, по дороге прорвав линию гренадер. Устремившиеся туда же янычары, начали все больше разрывать ряды пехоты. Только высокая боевая выучка офицеров, стоявших в первых шеренгах гренадер и их личное мужество, позволили опять сомкнуть ряды, параллельно с этим переколов прорвавшихся внутрь боевых порядков турок.
К этому времени дождь перестал, порох подсох, так что русские открыли по уже отвыкшим от него за последние часы туркам интенсивный ружейный и артиллерийский огонь. Началось всеобщее отступление неприятеля, более уже не посмевшего возобновлять свои атаки.
Пленные донесли о решимости великого визиря отстоять Тульчу, так что вскоре следовало ждать подхода турецких войск.
Поэтому Вейсман принял решение возвращаться в Измаил. Когда стемнело, он направил островному отряду приказ двигаться к Тульче.
В крепость с острова прибыли не все – не обошлось без жертв, когда еще до подхода Вейсмана они приняли одни бой с неприятелем. В этом бою был убит командир отряда генерал Черешников, так что людей сейчас привел заменивший его полковник Фохт.
Тогда же зажгли около тридцати судов, которые было невозможно взять с собой, – восемь спалили еще до этого.
Перевезли на суда 8 захваченных пушек, остальные 15 основательно заклепали. После чего началась побатальонная посадка на суда.
Дабы обмануть неприятеля, батальон прикрытия целую ночь продолжал, выставив часовых, путать противника, до тех пор пока весь отряд не уселся на корабли и не отплыл к Измаилу.
Уже потом выяснилось, что Вейсману под Тульчей противостояли 3000 янычар, 1800 конницы и 6400 моряков. Днем же по приказу визиря подошло еще 4000 конницы. Такое большое количество не прошло противнику даром – у русских был большой выбор целей, и противник потерял до двух тысяч убитыми и утонувшими. У Вейсмана в отряде недосчитались 67 убитых гренадер: солдат, офицеров и генерала.
Поздней осенью этого же года Вейсман вновь заставил заговорить о себе всех и вся: получив приказ на новый поиск, при помощи которого Румянцев намеревался отвлечь турок от небольшого по численности отряда Эссена и удержать их за Дунаем, генерал решил гораздо более глобальные вопросы, фактически поставив знатнопобедную точку во всей кампании 1771 года.
На рассвете 19 октября флотилия Вейсмана отошла от измаильской пристани. Десантный отряд, состоявший из 7 батальонов гренадер и мушкетов и 1 батальона егерей майора Мекноба, возглавлял генерал-майор Озеров. Под началом командира кавалерии генерал-майора Энгельгардта было 5 эскадронов гусар и 300 донских казаков. Отряд вез на этот раз по десять больших и малых орудий, зарядные ящики. Подготовились основательно, так что теперь было чем потолковать с неприятелем.
Как и в прошлый раз, на островке, лежащем против Тульчи, проложили заблаговременно дороги, и с рассветом 19-го переправили туда всю кавалерию и артиллерийских лошадей. Сами же орудия за день до этого были доставлены к мысу Чаталу, где их прикрывала флотилия.
Пехота, ведомая самим Вейсманом, двинулась немного позже и лишь ближе к полуночи 19-го прибыла к Чаталу, где все и заночевали.
На следующее утро батальон егерей был выслан к устью Сомов, где по-прежнему на высоте располагалась неприятельская батарея. Недалеко от батареи располагался лагерь Нидели-Анту-Раима-паши.
По пути к устью Мекноба обнаружили небольшое турецкое судно, составлявшее речной разъезд, которое тут же устремилось к лагерю, после чего у противника началась суматошная тревога.
Егеря же высадившись под какофонию тревожных криков, не задерживаясь, бросились к батарее и овладели ею в штыковой, в спешке почти не заметив даже, что батарея пытается сопротивляться и в силу этого предприняла по наступающим несколько выстрелов.
На помощь батарее Нидели-Анту-Раим-паша выслал пехоту, но она припозднилась – когда янычары подходили к высоте, на которой стояли орудия, там уже хозяйничали русские егеря, быстро объяснившие – всего лишь несколькими выстрелами – наступающим истинное положение дел. После чего янычары начали поспешно отступать к лагерю, а егеря, развернув пушки, ударили и по основным силам турок, заставив их очистить лагерь и отступить к Тульче. Дорога к крепости была свободна.
Основные силы под командованием Вейсмана и Озерова также приближались к устью реки. Здесь пехота высадилась на берег и занялась перетаскиванием своих пушек на только что отбитую у неприятеля высоту. Корабли же тем временем перевозили по приказу Вейсмана кавалерию и лошадей с острова на берег.
Когда весь отряд был в сборе, Вейсман приказал разделиться пехоте на две колонны и построиться в две шеренги, назначив каждой колонне особый резерв. Одну колонну возглавлял Озеров, имея в резерве секунд-майора Травина, вторую – полковник Кличко с резервом из гренадер подполковника Блюхера, следовавшего несколько левее колонны. Батальон егерей шел впереди колонн посредине. Артиллерию поделили между колоннами и поставили в середину.
Более тысячи конников попытались опрокинуть егерей и колонну Озерова, но были спихнуты орудийными выстрелами в лощину, откуда противник намеревался ударить Озерову в правый фланг, но был оттеснен Травиным из лощины – вон.
Колонны двигались к крепости, откуда по мере приближения русских все более усиливался орудийный и ружейный огонь и все более и более знамен развевалось на ее стенах.
Солдаты и офицеры Вейсмана, да и он сам тоже, приготовились уже было к жестокому бою, когда противник, находящийся в обороне, цепляется за каждый клочок земли, каждый камень и каждую щель, как вдруг огонь утих, а знамена и войска пропали со стен. Как-то разом вдруг. Оказалось, что турки, во главе с комендантом, напуганные прошлыми приходами Вейсмана, решили еще раз не искушать судьбу и поспешно отходят закрытой лощиной к Бабадагу. Лишь их конница делала слабые попытки задержать русских, но и она скоро отступила напуганная недвусмысленными маневрами гусар и казаков.
Еще миновал лишь полдень, когда Вейсман расположил уже свою пехоту в замке и укреплениях крепости и выслал гусар и казаков Энгельгардта преследовать отступающего со всем поспешением противника. Русская кавалерия настигла турок, когда те поднимались на гору, и сумела отбить две пушки, взяв в плен около десятка неприятельских солдат и в несколько раз больше порубив на месте.
Вейсман решил не почивать на лаврах по случаю того, что гарнизон Джафир-паши проиграл – ведь комендант имел всего лишь 2500 человек – для генерала, прозванного «русским Ахиллом», этого было слишком мало, и он решил идти к Бабадагу, дабы атаковать самого великого визиря, располагавшегося там 20-тысячным отрядом.
Однако это обстоятельство – руководство армией Блистательной Порты столь высокопоставленного вельможи, второго человека в Империи после султана – ничуть не вдохновило его подчиненных. Как выяснилось немного позднее.
Пока же, дав своим солдатам три часа отдыха, Вейсман занялся хлопотным делом обустройства крепости. По его приказу были разрыты все укрепления, выжжен город и частично разрушен замок. В это же время все городские запасы, 36 пушек и 80 бочек пороха были переправлены на суда его флотилии. После чего отряд ночью двинулся к Бабадагу.
Вейсман торопился пройти семиверстное дефиле, начинавшееся недалеко от Тульчи, в котором его корпус легко можно было запереть. Но этого не произошло – неприятель не ожидал подобной дерзости. Дефиле уже было пройдено, когда навстречу русским попался небольшой – сабель в 300 – отряд неприятельской конницы, тут же прогнанной гусарами.
Турки ударились в панику при первом же известии о наступающих русских. Османские солдаты решили, что на них наступают главные силы армии Румянцева – после Ларги и Кагула им теперь везде мерещились главные силы и лично фельдмаршал – и не желая искушать судьбу, проверяя эту гипотезу, они бросились в стремительное бегство. Великому визирю удалось удержать в лагере лишь около восьми тысяч солдат, но этого оказалось явно недостаточно.
Вейсман не знал этого – захваченные только что в плен аги утверждали, что у визиря сейчас 40 тысяч. Начиная движение к Бабадагу, Вейсман ожидал гораздо более высоких цифр, поэтому он лишь убыстрил движение. После дела он доносил Румянцеву 31 октября: «Решившись уже на сие важное предприятие, не помышлял я о сравнении числа войск наших с числом неприятеля, но уповал на храбрость солдат и ревность моих подчиненных офицеров. А дабы не дать медленностию времени визирю или встретить себя, или обозреть мои силы, поспешал я с крайнею возможностию. Должен признаться я Вашему Сиятельству, что лестно было мне видеть древность идущего со мной войска, соответствующую прямо вашим высоким намерениям; ибо я видел, что всякий шел с тем, чтобы или остаться там на месте, или победить. А сие самое уже и предвещало мне победу, замечая, что не число, а твердость духа и добрая воля торжествует».
После дефиле турки могли еще в одном месте полностью погасить наступательный порыв русских – на мосту по дороге к Бабадагу, но турки не позаботились и о его защите, так что и это возможное препятствие было преодолено.
Когда до города оставалось еще верст семь, казаки, шедшие впереди, наткнулись на конную группу порядка тысячи человек, направленную из Бабадага на рекогносцировку. Турки отступили, ожидая подкрепления, после получения которого навалились на казаков. Вейсман выслал вперед тогда и гусар – и неприятель отступил.
Версты через три открылся и лагерь великого визиря, откуда тот срочно выслал до двух тысяч конницы с целью воспрепятствовать приближению русских. Конницу прогнали несколькими залпами. Заподозрив неладное – слишком легко противник поддавался на усилия его каре – и увидев горящие деревянные шалаши в лагере, Вейсман понял, что визирь не собирается принимать боя, и приказал убыстрить движение, дабы не упустить неприятеля.
При самом подходе к лагерю турки открыли по наступающим русским колоннам сильную артиллерийскую пальбу – у визиря было в совокупности около 100 орудий. В ответ на это Вейсман выставил перед колоннами поделенные на две батареи свои полевые орудия, затеявшие оживленную дуэль с турками. Настолько оживленную, что скоро турецкие орудия были принуждены замолчать, и почти сразу же началось повальное отступление из лагеря.
Пехота Вейсмана заняла батареи, а половину кавалерии он бросил в преследование и наблюдение за отступающими.
Одновременно с этим он направил полковника Кличко занять Бабадаг, сам же с основными силами остался у плотины, недалеко от города. Полковник нашел в городе множество магазинов, пушек, утвари, ценных вещей и палаток. Взорвав и заклепав 8 больших пушек, Кличко забрал все что мог. Что не мог – оставил в городе, предварительно окружив Бабадаг пикетами. После чего город загорелся. И сгорел дотла, Кличко же уже в четыре часа дня присоединился к Вейсману.
Тот, дабы не терять времени и удачного стечения обстоятельств, уже было совсем собрался нанести туркам визит в Мачине, как стало известно, что крепость эту только что покорил отряд Милорадовича. Тогда Вейсман решил двинуться в знакомые места – к Исакче. 60 с лишним бывших неприятельских пушек он отправил к Тульче, выделив для прикрытия батальон гренадер подполковника Булдакова и более ста кавалеристов. С остальными же 23 октября отправился к Исакче.
За день отряд, не встречая сопротивления, прошел более тридцати верст и остановился на ночевку в поле. С рассветом русские колонны вновь двинулись вперед, разбрасывая, как игрушечные, неприятельские разъезды и заслоны.
В Исакче уже было известно о Бабадаге, и защитников крепости охватило оцепенение: они не решились оборонять крепость и решили отходить к Мачину, о падении которого они пока еще не знали.
Вейсман, готовясь к взятию крепости, решил помешать отступить противнику свободно и с небольшими потерями. Для этого он выслал гренадер Блюхера оседлать мачинскую дорогу. Часть кавалерии, возглавляемая непосредственно генералом Энгельгардтом, также перекрыла эту дорогу, а другая ее часть, предводительствуемая майором Лалашем, была отправлена занять лежащее рядом с этой дорогой дефиле.
Турки, видя, что дорога, по которой они намеревались отступать, занимается противником, решили этого не допустить и, выйдя из крепости, всей своей кавалерией приготовились напасть на Энгельгардта. Но тот их опередил, предприняв нападение первым. Противник был рассеян по ближайшим кустам, там вновь в общих чертах собрались, обошли Энгельгардта и успели выйти на мачинскую дорогу. Где были встречены в дефиле Лалашем. В это время подоспели и Энгельгардт с Блюхером, наподдавшие неприятелю с тыла. Здесь турки лишились более 300 убитыми и около 100 пленными.
Вейсман же тем временем подходил к крепости по бабадагской дороге под огнем батарей крепости – артиллерия стреляла по русской пехоте почти беспрерывно, надеясь ее тем самым задержать и дать возможность отойти из крепости своим пехотинцам. Это туркам частично удалось, так как густой лес облегчал их тихое исчезновение.
Отряд Вейсмана занял крепость, откуда только что был изгнан двухтысячный гарнизон. Добычей его стали более 80 пушек и мортир, часть из которых были в конце доставлены в Измаил, а частью брошены в реку.
Укрепления Исакчи были по приказу Вейсмана разрыты; замок разрушен сильным взрывом; город полностью сожжен. Делать больше в этих краях было нечего. К тому же кончалось продовольствие, и Вейсман решил вернуться в Измаил.
Но предварительно он завернул снова к Тульче, направясь к крепости посуху, дабы внушить неприятелю мысль о своем намерении вновь двинуться к Бабадагу. Отряд прибыл в Тульчу 27 октября в 10 утра. Неприятеля в округе нигде не было, но все же Вейсман оставил по батальону прикрытия и в Тульче, и в Исакче.
Из этих крепостей началась массовая переправа жителей на русский берег Дуная – всего решило уйти с русскими порядка 16 тысяч человек. Их, собственно, и прикрывали батальоны, отряженные генералом.
Наконец, переправились и все местные жители, вся конница, вся артиллерия. Начала покидать турецкий берег и русская пехота. Последний солдат сел на корабль в три часа дня.
Экспедиция эта была феерической по своим результатам.
Талант полководца был причиной того, что его отряд, все время наступая на гораздо более сильного неприятеля, потерял лишь двадцать человек убитыми. Турецкие же потери были на порядок больше: 800 убитыми, множество раненых и более 120 пленных.
Противник лишился 170 пушек и мортир, множества кораблей, булав и знамен.
Вейсман за кампанию 1771 года был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.
Следующий год не принес ему – впрочем, как и всем прочим русским военачальникам, да и самой армии – новой славы. 1772 год прошел в переговорах о мире, переговорах бесплодных.
Еще в 1770 году Россия предложила Порте начать мирные переговоры. Австрия и Пруссия, опасавшиеся полного разгрома турок, изъявили желание быть в переговорах посредниками. Но вмешательство западноевропейских держав, и в первую очередь Франции, помешало началу переговоров. Франция, провал далеко идущих планов которой на Ближнем Востоке становился все более очевидным, откровенно толкала Оттоманскую Порту на продолжение войны.
К тому же, как ни сильны были удары, нанесенные туркам, они тем не менее оказались недостаточными, чтобы сломить их сопротивление. Возможности Порты к восстановлению своих вооруженных сил еще не были исчерпаны. Перед русской армией лежал Дунай – мощная водная преграда. На Дунае турки имели сильную флотилию, а у русских войск переправочных средств, кроме очень слабых подручных и табельных, не было. Кроме этого, складывалась от месяца к месяцу все более неблагоприятная для России международная обстановка. Особенно враждебную позицию заняла Австрийская империя, крайне обеспокоенная победами русского оружия.
Крупные военные успехи России вызвали нескрываемую настороженность и у Пруссии. Фридрих II втайне мечтал столкнуть Российскую империю с Австрийской. Последняя же была и сама сильно озабочена проникновением России в Дунайские княжества, на которые австрийцы давно претендовали.
В результате всех этих политических хитросплетений Австрия летом 1771 года заключила с Турцией конвенцию, по которой она брала на себя обязательство за крупную субсидию и уступку ей Малой Валахии добиться возвращения туркам занятых русской армией земель.
Успокоенные и ободренные обещанной помощью и посредничеством Австрии и Франции, турки отказались вступать в прямые переговоры с Россией о прекращении военных действий. Война продолжалась.
Однако смена политической конъюктуры вскоре вынудила Австрию пересмотреть свою точку зрения в очередной раз, и она предложила свое посредничество в проведении мирных переговоров.
Русское правительство, идя навстречу этой инициативе, приступило весной 1772 года к мирным переговорам.
Переговоры велись на Фокшанском конгрессе. С русской стороны присутствовал личный представитель Екатерины Григорий Орлов, про которого императрица пишет одной из своих корреспонденток: «Мои ангелы мира, думаю, находятся в настоящее время лицом к лицу с этими гадкими бородатыми турками. Граф Орлов, без преувеличения самый красивый человек нашего времени, должен, действительно, показаться ангелом рядом с этими мужиками; его свита блестящая и избранная… Я готова все же биться об заклад, что его особа затмевает все, что его окружает. Этот посланник странная личность; природа была так необыкновенно щедра к нему, как относительно лица, так и относительно ума, сердца и души!» Послом турок был реис-эфенди Осман-паша, о котором в дальнейшем русские, находящиеся на конгрессе, удивляясь странностям его обхождения, выражали свое мнение таким образом: «Конечно, с нашей стороны, было бы неприлично назвать этого человека глупым, и поэтому лучше сказать, что он умен в таком роде, в каком мы еще никого не встречали».
Кроме Орлова и Осман-паши в Фокшанах присутствовали без всякого непосредственного участия в переговорах австрийский и прусский поверенные в делах – барон Тугут и майор Цегелин.
Со стороны России основные условия были: независимость от Порты Крымского ханства и предоставление свободного мореплавания русским кораблям по Черному и Эгейскому морям. Но Осман-паша не хотел и слышать о независимости Крыма, объявляя, что такая уступка со стороны Порты повела бы к основанию двух калифатов, противному правилам мусульманского учения. Орлов же настаивал на этом, говоря, что «покровительство, оказываемое Портой татарам, подавало повод к нападениям на русские области, и всегда было причиной к несогласию между Россией и Турцией».
Но, необходимо признать, что подобное здравомыслящее рассуждение у Орлова на конгрессе – редкость. Его поведение, вызывавшее множество нареканий, послужило одной из причин неудачного проведения переговоров в Фокшанах. Едва только приехав на конгресс, он, казалось, больше думал о продолжении войны, чем о заключении мира. Он требует себе командование армией. На заседании конгресса затевает ссору с Румянцевым и объявляет, что повесит его. Он совершенно не считается с инструкциями, которые ему из столицы присылает Н.И. Панин; всерьез обдумывает планы захвата Константинополя, переезжает в Яссы, где проводит время в фейерверке празднеств. Наконец, он получает из Петербурга известие, что его место при Екатерине, прочно им удерживаемое на протяжении десяти лет, занято безвестным Васильчиковым. Он бросает все и уезжает.
Его отъезд, негибкость позиции Осман-паши и происки Тугута способствовали прекращению конгресса.
Храбрость солдат, искусство полководцев было – как это и происходило зачастую – принесено в жертву большой политике и личным амбициям.
Вскоре после неудачного конгресса в Фокшанах состоялся новый тур переговоров – в Бухаресте. На этот раз с турецкими представителями имел дело сам Румянцев. В ходе переговоров русский военачальник требовал то, что позднее Россия получила по Кючук-Кайнарджийскому миру. Глава же турецкой делегации предлагал вместо всего комплекса политических и территориальных условий 25 миллионов пиастров (что-то около 14,5 миллионов рублей).
Румянцев отказался. Верховный визирь, узнав об этом, заметил меланхолично: «25 миллионов легко сказать, да не легко уплатить. Может ли признание независимости татар поставить нас в худшее положение, при настоящем перевесе России над Портою?
Впоследствии можно возвратить потерянное, но теперь нам всего нужнее мир». Однако диван решил быть выше сиюминутных нужд, ибо что такое страдания наши перед лицом вечности? Короче, диван решил, что независимость татар не совместима с духом ислама, и переговоры тем самым закончились, снова уступив место пушкам.
Ресурсы Турции еще не были исчерпаны. Австрия и Франция подталкивали Порту к сопротивлению. Весной 1773 года военные действия возобновились. Эта годичная передышка была выгоднее скорей Турции, нежели России.
Из Петербурга Румянцеву был доставлен приказ Совета о наступлении за Дунай. Ему предписывалось перейти через Дунай и наступать на Шумлу, важнейший опорный пункт противника в предгорьях Балкан. Однако самое необходимое условие для обеспечения успеха такого наступления даже при относительно небольшой его глубине – стратегическое сосредоточение сил не было выполнено. Армия Румянцева в это время состояла из трех дивизий и двух корпусов. Первая дивизия, которую возглавлял сам Румянцев, состояла из 10 пехотных полков, 4 карабинерских, 2 гусарских, 3 казачьих, общей численностью не более 7 тысяч человек, занимала Молдавию. Вторая дивизия (командир – Салтыков), расположенная в Валахии, оставляла правое крыло армии и включала в себя 10 пехотных полков, 3 карабинерских, 3 гусарских, 1 кирасирский, 1 пикинерский, 6 казачьих. Третья дивизия под командованием генерал-майора Вейсмана, располагалась в Бессарабии и составляла собой левое крыло армии. Она включала в себя 4 пехотных, 2 карабинерских и 4 казачьих полка и егерский батальон. Корпус Потемкина располагался между Серетом и Яломицей. Его составляли 4 пехотных и 4 кавалерийских полка, егерский батальон и 2 тысячи казаков. Корпус Ширкова находился в Польше (22 пехотные роты и 1500 казаков). Плюс полки – в качестве гарнизонов – в Хотине, Яссах, Килии, Бендерах, Аккермане и Браилове. Всего около 34 тысяч, разбросанных там и сям. С этими силами и предстояло Румянцеву идти за Дунай и победить.
По диспозиции главнокомандующего отряд Вейсмана – четыре тысячи регулярного войска и до 2,5 тысячи казаков – располагался в Бессарабии и на нижнем Дунае. Именно этот отряд добился в ходе кампании 1773 года наиболее значимых успехов.
Первый поиск новой кампании Вейсман запланировал совершить на Карасу. 26 мая его экспедиционный корпус собрался в шестнадцати примерно верстах от объекта поиска, у деревни Карамурат.
Неприятель спокойно стоял в своем лагере, что дало возможность Вейсману, не торопясь, провести рекогносцировку, показавшую все сильные и слабые стороны расположения турок: лагерь, располагавшийся на высотах при деревне Карасу, прикрывался с севера заливом и двумя валами. Залив образовывал перешеек, на котором устроен был мост, прикрытый батареей. Сразу за мостом начинались крутые холмы, на оконечности которых турки установили еще одну батарею.
Учитывая все это, Вейсман решил в ходе наступления совершить обход и предпринять атаку с восточной стороны, где войска его не были бы так стеснены, как с севера.
27 мая в два часа ночи Вейсман выступил из Карамурата.
Авангард под командой полковника Левиза состоял из трех казачьих полков, двух карабинерских, батальона гренадер и батальона егерей. За авангардом следовали основные силы отряда. В двух колоннах: под началом Вейсмана и генерал-майора Голицына.
Артиллерия шла между колоннами непосредственно перед арьергардом, находившимся под началом премьер-майора Глебова и состоявшим из трехсот пехотинцев при 4 орудиях, казачьего полка и сотни арнаутов.
После двенадцативерстового похода отряд в пятом часу утра подошел к тому месту, где заканчивается залив. Туда тотчас же турки направили значительную часть своей кавалерии.
Кавалерия противника попыталась было пылко ударить на авангард, но быстро была приструнена меткой ружейной пальбой.
Этого оказалось достаточно, чтобы неприятель побежал, ища поддержку и спасение у главных своих сил, насчитывающих до двух тысяч конницы.
Левиз немедленно повел атаку на эти силы своим авангардом, вернее сказать, конной его частью – казаками и карабинерами – построив их предварительно в линию.
Турки тотчас же начали отступать, разделясь надвое.
Вейсман, видя подобное состояние противника, приказал Левизу продолжать наступление, не предпринимая, однако, ничего решительного до прибытия пехоты колонн Вейсмана и Голицына.
Начальник авангарда, выполняя приказ Вейсмана, с двумя полками карабинеров и одним полком казаков продолжил преследование противника, продолжавшего отступать к своему лагерю. Но вот тот, получив подкрепление, перешел в контратаку, Левиз подавил данную попытку сразу же и, продолжая гнать турецкую конницу, приблизился к единственной защите лагеря с восточной стороны – ретраншементу.
Перед самым укреплением конная масса турок быстро свернула влево в лощину, открыв тем самым ретраншемент, внезапно обрушивший на русскую кавалерию плотный артиллерийский огонь.
Карабинеры и казаки остановились и начали смешиваться, поражаемые ядрами. Этим моментом удачно воспользовались османские конники, вышедшие из лощины и вновь перешедшие в контратаку на левый фланг русских. Эскадрон Тверского карабинерского полка, стоявший здесь, был смешан и сбит. Начав отступать, он наскакал на соседний эскадрон, также пришедший в полное расстройство.
Таким образом османская конница смешала весь левый фланг конного авангарда и вынудила его отступить. На помощь своей кавалерии поспешил батальон гренадер подполковника графа Румянцева, входивший в состав авангарда. Гренадеры, поспешно достигнув небольшой высотки, расположили там свои пять орудий и принялись через голову карабинеров и казаков, а также в интервалы между ними интенсивно обстреливать турок. Левиз тем временем успел привести в боевое состояние свой левый фланг и вновь начал теснить турецких конников.
Из ретраншемента же тем временем – для единоборства с наступающими гренадерами и егерями – вышла пехота осман, усиленная пушками. Но турецкая контратака оказалась малоуспешной, и неприятель был вынужден отступить к себе в ретраншемент, еле успев увезти пушки. Кавалерия противника также покинула поле боя, опять отойдя в лощину.
Пока авангард вел свои удачные баталии, подошли основные силы Вейсмана. Враз оценив обстановку, он приказал своей артиллерии подойти на максимально близкое расстояние и открыть огонь по ретраншементу и коннице, отсиживающейся в лощине. Его приказ был исполнен быстро и точно: под воздействием русского артогня пушечные залпы из ретраншемента вскоре вовсе умолкли, а конница начала отступление.
Тогда Вейсман повел на укрепление свою пехоту. Но противник не стал выжидать атаки русской пехоты и начал поспешно очищать ретраншемент и лагерь. Было всего лишь 8 часов утра.
Вдогон отступающему неприятелю Вейсман выслал кавалерию полковника Лалаша, преследовавшего турок до полного изнеможения лошадей – более десяти верст. Пехота осман несколько раз пыталась огрызаться на преследовавшую ее кавалерию, но безуспешно – русская конница врубалась в ряды сопротивляющихся, моментально их выкашивая, и вновь противник показывал свой тыл.
В этом деле турки потеряли более 1200 убитыми и более 100 человек пленными. У них было отобрано 20 пушек, весь обоз, весь лагерь и 10 знамен. Вейсман же в этом бою лишился 58 человек убитыми.
После боя пленные показали, что с утра в Карасу было около пяти тысяч пехоты и около восьми тысяч конницы. Вейсман вновь оказался верен своему правилу – считать противника лишь после боя: дабы не забивать себе голову перед сражением скрупулезным бухгалтерским учетом, а оставлять ее свободной для вопросов чистой стратегии и тактики.
Вскоре Вейсман получил приказ перейти Дунай у Измаила, подняться вверх по правому берегу до Гуробала – что в тридцати верстах от Силистрии – и тут прикрыть переправу главных сил Румянцева, решившего перенести театр военных действий за Дунай, где уже шестьсот лет – после киевского князя Святослава – не ступала нога русских.
Во взаимодействии с Вейсманом действовал отряд генерала Потемкина, некоторое время назад овладевший крепостью Гирсово, так что теперь отряд Вейсмана мог двигаться непосредственно через эту крепость к Гуробалу.
Здесь переправу держал, меланхолично глядя на течение великой реки, десятитысячный корпус двухбунчужного паши Османа.
Русские ударили противнику во фланг и сбили его. Корпус Осман-паши был частично разбит, частично рассеян, что позволило главным силам фельдмаршала беспрепятственно перейти через Дунай.
После воссоединения дивизии Вейсмана с главной армией Румянцева на эту дивизию был назначен новый командир – более старший по чину – генерал-поручик Ступишин, а генерал-майору Вейсману был поручен авангард, самое острие молниеносного клинка Румянцева в его борьбе с османами.
Судя по показаниям пленных и по общему расположению войск противника, его основное внимание было направлено на Силистрию, считавшуюся турками главным пунктом на Дунае, который они надеялись любыми силами отстоять, а Румянцев надеялся взять – для развития дальнейших наступательных действий.
12 июня главнокомандующий приказал генерал-поручику Ступишину выступать к Силистрии, где засел 15-тысячный гарнизон Хассан-паши, двумя колоннами – Вейсмана и Потемкина.
Оба корпуса безо всякого сопротивления со стороны турок перешли по понтонному мосту через реку Галац и остановились недалеко от крепости – в пределах видимости также и нового лагеря Осман-паши, перебравшегося со всем своим 20-тысячным войском поближе к Силистрии.
Заняв одну из высоток, Ступишин начал рекогносцировку, которая не понравилась туркам, напустившим на русские легкие войска прикрытия свою кавалерию. Для нейтрализации турецкой кавалерии вперед пошел батальон егерей подполковника Мекноба, но из турецкого лагеря вышло к своей кавалерии значительное подкрепление.
Тогда Ступишин – на усиление Мекноба – приказал двинуть вперед 1-й гренадерский полк полковника Семена Воронцова с 10 орудиями. По просьбе Вейсмана он возглавил лично все эти силы, включая егерей.
Вейсман быстро повел вперед каре отборной пехоты, сметая артиллерией кавалерию противника со своих флангов. Осман-паша, увидя это, бросил на русских до 10 тысяч конницы. Картечные залпы на некоторое время погасили их пыл. Но лишь на время: оправившись, турецкие кавалеристы вновь насели на отряд Вейсмана и начали трепать его левый фланг, где располагались арнауты.
Арнауты оказались опрокинутыми, и турки мгновенно переместились с левого фланга отряда Вейсмана на его правый фланг, где занимал место егерский батальон. Неприятельская кавалерия окружила егерей с фланга и принялась неистово атаковать, угрожая своими наскоками отбить у русских их артиллерию, вкупе с зарядными ящиками. Дабы не допустить этого, Мекноб приказал развернуть пушки и открыть картечный огонь по противнику, наседавшему на него с тыла, третьей же шеренге приказал пойти в штыки.
Отбитые от передового отряда турки попытались навалиться на основные силы корпуса, но также безуспешно: его опрокинули и гнали до самого ретраншемента, лишь огонь которого заставил прекратить атаку. Тем временем Ступишин выслал в подкрепление Вейсману генерал-майора Голицына с Невским полком и гренадерским батальоном полковника Блюхера.
Усилившись, таким образом, весьма значительно, Вейсман пошел вперед – в атаку на ретраншемент и лагерь. Турки не выдержали удара и бежали к Силистрии.
Ворота крепости были закрыты – комендант Силистрии сказал, что ему не нужны в гарнизоне трусы, и поэтому разбитые отряды Осман-паши вновь собрались и предприняли еще одну атаку на русских. Тогда им навстречу вновь понеслась кавалерия Ступишина, ведомая Потемкиным. В несколько минут все было кончено: османы рассеялись уже окончательно, и преследование их было приостановлено лишь выстрелами из крепости.
Хассан-паша так и не пустил никого из разбитого войска – кроме одного раненного в бою Осман-паши – к себе в крепость, и 20-тысячный корпус перестал существовать, разбредясь по окрестностям.
Вскоре к Силистрии подошла главная армия. Румянцев нашел перед собой мощную крепость, гарнизон которой намеревался защищаться весьма упорно. Усилившись за последнее время до 30 тысяч, защитники крепости отвергли все предложения о сдаче, сказав – в лице своего коменданта, что русские не получат не только крепости, но и ни одного гвоздя, ни одного камня из нее.
Оборонительные укрепления были защитниками крепости значительно усилены. По приказу коменданта были обустроены с точки зрения долговременной обороны и прочно заняты даже высоты юго-восточнее крепости, из которых особенно важное значение имела одна, расположенная южнее стен Силистрии – так называемой Нагорный редут.
Румянцев решил взять окопы редута, мешавшие ему начать бомбардировку крепости. Атака была предпринята на рассвете 18 июня силами отрядов Потемкина, Вейсмана, Игельстрома и – отдельно – запорожцев. Удача сопутствовала и на этот раз одному Вейсману, который обошел окопы с тыла и выгнал из них турок. Его отряд держался в занятых укреплениях целый день и отошел лишь по приказу Румянцева…
– Ваше сиятельство, – голос Вейсмана дрогнул, – ваше приказание выполнено: Нагорный редут очищен от русских. Там осталась лишь пролитая кровь, павших утром…
– Оттон Иванович, знаю, что тяжело. Тяжело отступать в двух шагах от победы. Но вы еще не знаете, почему я отдал сей приказ. Мы отходим от Силистрии: на выручку ее идет Нуман-паша с базарджикской армией. У него двадцать тысяч, включая и тысячу ялынкалыджи, которые, как вы знаете, пехота весьма отборная, давшая клятву биться с неверными лишь на саблях. Так вот, покуда есть у меня возможность для маневра – я армией рисковать не буду: часть ее еще может быть разбита, вся же она – нет. Слишком многое в этом случае поставлено на карту. Ее поражение – это не только ее гибель, потеря всего того, что завоевывалось кровью нашей последние годы, но и гибель многого, многого другого. Вот почему, жертвуя частью, я должен спасать целое – и так до предела. Сейчас же пока – не предел. Так что действуйте, генерал! Да и к тому же, кто сказал, что в данном случае должна быть непременно жертва?
– Разумеется, господин фельдмаршал. Я понял вас. Благодарю.
– Ваше превосходительство, я даю вам пять тысяч…
– У Нуман-паши, ваше сиятельство, вроде бы, вы сказали, двадцать тысяч?
– Остальные пятнадцать тысяч – это вы сами, Оттон Иванович. Торопитесь!
– Не беспокойтесь, Петр Александрович. Все будет исполнено, как должно.
– Я и не сомневаюсь, господин генерал-майор. Именно поэтому вам и поручается сия баталия!
– Благодарю вас, ваше сиятельство. И до свидания!
– До свидания.
Вейсман повел свои 10 батальонов пехоты и 5 полков конницы наперерез туркам, дабы перехватить наступление Нуман-паши от Буюк-Кайнарджи на север.
Ночь застала русских на походе в нескольких верстах от неприятельского лагеря. Вейсман остановил свой корпус на ночевку в горах, а утром по теснине – единственному возможному пути к хорошо укрепившимся туркам – повел солдат вперед. На выходе из ущелья генерал приказал перестроиться в боевой порядок. Впереди шел авангард в составе Кабардинского пехотного полка, двух гренадерских батальонов, полка казаков и егерей. Вейсман доверил авангард Кличко, ведшему своих солдат чуть правее главных сил.
Слева от Вейсмана пылила конница, составлявшая как бы арьергард русских.
Нуман-паша расположил свой лагерь на высоте, по подошве которой турки отрыли множество рвов. Единственный специально оставленный проход к укреплениям блокировали сааги. По ним и открыл огонь Кличко. Сначала те растерялись, но потом, оправившись, – с помощью своих артиллеристов – пошли в наступление.
Но Вейсман уже также миновал проход, и его каре находились теперь левее авангарда, в деле. Он решил ударить по центральному укреплению, где скопилась почти вся артиллерия осман и большая часть пехоты.
Каре бегом пошло в гору, но когда до цели оставалось не более ста шагов, навстречу боевым порядкам Вейсмана хлынула толпа янычар и ялынкалыджи. Они кинулись на русские каре и прорвали центр главного из них. Тут дрался сам Вейсман, подбадривая солдат лишь своим примером, без всяких слов. Янычар было в три раза с лишним больше, чем солдат в каре Вейсмана, и они своей массой начали отжимать русских от лагеря. Один из турок, яростно рубившийся саблей и уже долгое время действовал как щитом своим пистолетом, зажатым в левой руке, приблизился к русскому генералу. Отбив шпагу Вейсмана и довернув противника кистевым нажимом, он в упор разрядил в него свой пистолет. Заряд пробил Вейсману левую руку и сердце. Последние слова его были:
– Не говорите людям…
Но его опасения и надежды турок, издавших ликующий рев, когда Вейсман упал, оказались напрасными. Два гренадера, держа на весу тело генерала, завернутое в плащ, мерно пошли вперед. Их обогнали остальные. Противник был сбит с позиции и попал под настоящую резню. Пленных на этот раз не брали.
Одновременно с этим Кличко, отбившись от спагов, повел штурм лагеря. Началось повальное бегство осман. Генерал-майор Голицын, заменивший Вейсмана на посту командира корпуса и на его месте в первой шеренге атакующих, бросил вдогон отступающим кавалерию, бывшую доселе в резерве. Турки потеряли до пяти тысяч, русские – убитыми пятнадцать, но среди них – и «русского Ахилла».
Тело Вейсмана забальзамировали в Измаиле и отправили для захоронения в Лифляндию, на мысу Сербен, пожалованную ему незадолго до этого – вкупе с трофейной пушкой – Екатериной II.
Суворов, узнав об этой смерти, прошептал:
– Вейсмана не стало – я остался один.
Так же думал и Румянцев – когда русские отошли за Дунай на передовом посту армии у Гирсова Вейсмана заменил Суворов.
После того как русские войска переправились через Дунай, Екатерина II писала Вольтеру: «Радуйтесь Г. Вольтер, вместе со мной переходу через Дунай. Он не столь знаменит, как переход Людовика ХIV через Рейн, но не столь обыкновенен. Целые восемь сот лет, Русское войско по преданию летописцев не было на той стороне Дуная».
В этой кампании Румянцев действовал с разумной осторожностью, не всеми понятной и оцененной. Русский командующий избегал риска, поскольку неудача главных сил южнее Дуная могла бы иметь катастрофические последствия.
В 1774 году началась новая кампания против турок. Действия русских войск развивались на основе предложений Румянцева, основную идею которых он сформулировал так: «Я приложу старание поставить все части во взаимную связь и теснить неприятеля, вовлекая его на бой в поле из мест, на которые без крайности не почитаю я полезным вести поспешную атаку, и отваживать в начале кампании людей на большую потерю».
Екатерина II предоставила Румянцеву самые широкие полномочия – полную свободу наступательных операций, право ведения переговоров и заключения мира. В мае 1774 года поход начался.
Русская армия состояла из трех дивизий и двух корпусов. Первая дивизия под началом Глебова – 8 пехотных, 4 конных, полтора гусарских и 2 казачьих полка. Вторая дивизия (командир – Лойд) – 4 пехотных, 2 конных, 1 гусарский и 1 казачий полки. Третья дивизия – ее возглавлял Каменский – 5 пехотных, 3 конных и 6 казачьих полков. В корпусе Салтыкова – 10 пехотных, 2 гусарских, 5 казачьих, 5 карабинерских и 1 пикинерский полки.
Корпус Суворова состоял из 4 пехотных, 1 гусарского, 1 казачьего и 1 пикинерского полков, двух егерских батальонов и 2000 запорожцев.
По генеральному плану Румянцева в 1774 году предусматривалось перенесение военных действий за Дунай и наступление до самых Балкан, чтобы сломить сопротивление Порты. Для этого корпус Салтыкова должен был обложить крепость Рущук, сам Румянцев с 12-тысячным отрядом осадить Силистрию, а Репнин – обеспечить их действия, оставаясь на левом берегу Дуная. Каменскому и Суворову предписывалось наступать на Базарджик и Шумлу, отвлекая на себя до падения Рущука и Силистрии войска верховного визиря.
Организованное несколькими группами войск наступление армии Румянцева на правом берегу Дуная приведет вскоре к нескольким значительным победам: Каменского при Базарджике, Салтыкова у Туртукая и – самой значительной, сыгравшей значительную роль в победоносном окончании войны – Суворова при Козлуджи.
Это соответствовало первоначальному плану фельдмаршала, где одну из главных задач в предстоящей операции должен был выполнить Суворов, недавно произведенный в генерал-поручики. В районе Базарджика его корпус соединился с корпусом генерала М.Ф. Каменского, после чего русские войска двинулись дальше по направлению к Варне.
В апреле 1774 года корпус Каменского переправился через Дунай и остановился у Карса. 16 мая с ними соединился и корпус Суворова. Оба генерала должны были предпринять решительное наступление за Дунаем, что сулило им большие преимущества – турки небольшими гарнизонами сидели в крепостях, и лишь в Шумле было около 50 тысяч войска. Румянцев предоставил обоим генералам полную инициативу в ведении действий. Но оговорил при этом, что в спорных вопросах первенство принадлежит Каменскому как старшему в чине.
Каменский и Суворов разработали план, одобренный Румянцевым. Каменский должен был действовать против Варны, а Суворов – прикрывать его силы. Затем главные операции предполагалось направить против Шумлы, и в случае встречного сражения Суворов должен был ударом во фланг или тыл отрезать турецкое войско от этой крепости.
Несмотря на то что Суворов должен был выступить к Козлуджи 28 мая, он поджидал некоторых из еще не прибывших полков и потому тронулся лишь два дня спустя. Он пошел не по параллельной дороге, как то было условленно заранее, а по той, которую считал более удобной, даже не поставив в известность об этом Каменского. Тот не замедлил сообщить Румянцеву, что Суворов неизвестно, где находится, и неизвестно, кому подчиняется. На это Румянцев ответил, что Каменский как старший сам имеет все необходимые возможности призвать Суворова к порядку. Но фельдмаршал забыл при этом, что прямого подчинения одного генерала другому не было, также как и внешних разногласий между ними.
В конце месяца отряд Каменского выступил к Базарджику, связывающему между собой Варну, Шумлу и Силистрию. Шесть дней он простоял здесь в ожидании Суворова и лишь 9 июня соединился с ним у Юшенлы. После проведения рекогносцировки у Козлуджи было обнаружено сорокатысячное турецкое войско, высланное великим визирем из Шумлы против русских.
Русская кавалерия уверенно преследовала отступавших турок, но, вступив в лесное дефиле, растянулась и на марше была атакована турецкой кавалерией. Русские войска уже готовились отойти в довольно неорганизованном порядке, но были быстро остановлены Каменским, выславшим вперед свою пехоту и лишь за ней сосредоточив кавалерию.
В ходе завязавшегося сражения турки были отброшены. Вскоре турецкий лагерь был захвачен отрядом Суворова, после чего противник окончательно отступил к Шумле и Праводам.
Победителем при Козлудже был объявлен Суворов. Каменский был обижен и приостановил наступление своих войск под предлогом недостатка перевозочных средств и провианта. На военном совете его отряда было принято решение оставаться у Козлуджи, а вскоре – и отступить на позицию между Шумлой и Силистрией, чтобы отрезать последней сообщение, а впоследствии и взять ее.
Получив об этом известие, Румянцев в негодовании писал Каменскому, что «не дни да часы, а моменты в таком положении дороги». Он приказал обоим генералам продолжать наступление на Шумлу и только в случае полной невозможности овладения ею идти к Силистрии.
Впоследствии Суворов обвинял Каменского, что он не дал ему перенести войну за Балканы. Однако тогда он и сам участвовал в военном совете и вместе с другими генералами высказался за приостановку наступления. Немалую роль в этом сыграло и то соображение, что никаких самостоятельных действий после соединения с Каменским ему больше позволено не будет, и руководителем дальнейших операций останется все же Каменский.
Суворов покинул армию и уехал для лечения в Бухарест. Здесь у него произошло объяснение с главнокомандующим по поводу самовольных действий, а затем и новое назначение. Теперь Суворов и Каменский расстались навсегда. Спустя более чем двадцать лет, во время последнего суворовского похода, под началом полководца стал младший сын Михаила Федотовича – Николай Каменский.
Получив такие указания, Каменский продолжал движение к Шумле, а Суворов двинулся к Кулевче, чтобы прервать сообщения между Шумлой, Варной и Праводами. Чтобы генералы не мешкали, Румянцев принял личное участие в обеспечении их экспедиции. Но было уже поздно.
16 июня Каменский разгромил турецкое прикрытие у Ени-Базара и на следующий день приблизился к Шумле. Здесь он удостоверился в превосходстве противника над силами его отряда. У великого визиря, сидевшего в Шумле, было 35-тысячное войско, в то время как у самого Каменского не было и семи тысяч человек. Оставалась лишь надежда разгромить турок в открытом поле, выманив их сюда из крепости. Для этого отдельные отряды начали жечь окрестные селения.
Уже 19 июня отдельный отряд полковника Розена, охранявший сообщения отряда Каменского, был атакован турецкой кавалерией. На помощь Розену генерал выслал русскую пехоту, что, в свою очередь, вынудило великого визиря выйти из крепости с большей частью своей армии. В ходе сражения турки были разбиты и бежали обратно в Шумлу. Но крепость так и не была взята. Каменский начал осадные работы и обложил крепость со всех сторон, одновременно наблюдая за всеми дорогами, ведущими в глубь страны.
К началу июля все сообщения турок со Стамбулом были прерваны, в Шумле стал остро ощущаться недостаток продовольствия и фуража. Это привело к массовому дезертирству из турецкого войска.
В отчаянии великий визирь предпринял 6 июля последнюю атаку русского войска, но был отбит на всех пунктах. Казалось, падение Шумлы близко, но в тот же день Каменский получил предписание Румянцева не предпринимать ничего решительного, поскольку в Кючук-Кайнарджи полным ходом шли переговоры о мире.
Но Каменский не желал оставлять уже занятые рубежи и предполагал расположить русские войска там, где они оставались при отражении вражеской атаки. 7 июля ему удалось этого достичь, но здесь его снова настигло предписание главнокомандующего прекратить все военные действия. Каменский отошел от Шумлы накануне подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора.
Сам же А.В. Суворов позднее вспоминал о своей победе так: «Последнюю баталию в Турецкой войне выиграл я при Козлуджи, пред заключением мира. Резервный корпус команды моей соединился с Измаильским. Турецкая армия около пятидесяти тысяч была под командою Резак Эфендия и главного Янычарского Аги, была на походе чрез лес и встречена нашею конницею, которая захватила их квартирмейстеров с генеральным и принуждена была уступить силе. От моего авангарда три баталиона гренадер и егерей с их пушками под командою Г-д Трейдена, Ферзена, Река остановили в лесу противный авангард, восемь тысяч Албанцов, и сражение начали. Скоро усилены были команды Генерала Озерова кареем двухполковым, Суздальского и Севского под Магабеловым; но почти уже преуспели сломить Албанцов, соблюдая весьма свой огонь. Сие поражение продолжалось близ двух часов около полден. Люди наши шли во всю ночь и не успели принять пищу, как и строевые лошади напоены не были. Лес прочистился, мы вступили в марш вперед; на нашем тракте брошено несколько сот телег с Турецким лучшим шанцовым инструментом; происходили неважныя стычки в лесу; конница закрывала малосилие пехоты нашей; ее было до четырех тысяч; старший Генерал Лунс, которого поступками я весьма одолжен; я оставляю прочее примечание: шли мы лесом девять верст и по выходе из онаго упал сильный дождь, который наше войско ободрил, противному же мокростью причинил вред. При дебушировании встречены мы сильными выстрелами с батареи на высотах от артиллерии Барона Тотта, и кареи, взяв свою дистанцию, их одержали и все взяли. Хотя разные покушения от варварской армии на нас были, но без успеха, а паче препобеждены быстротою нашего марша и крестными пушечными выстрелами, как и ружейною пальбью с соблюдением огня. Здесь ранен был внутри карея Князь Ратиев, подполковник… полем был наш марш, большею частью терновником, паки девять верст, и при исходе его прибыл к нам артиллерии Капитан Базин и с ним близ десяти больших орудиев, которыми открыл пальбу в лощину, внутрь Турецкого лагеря. Уже Турки всюду бежали, но еще дело кончено не было, за их лагерем усмотрел я высоту, которую одержать надлежало; пошел я сквозь оный с Подполковником Любимовым и его эскадронами, кареи же оный обходили и тем нечто замешкались. По занятию мною той высоты произошла с турецкой стороны вдруг на нас сильная стрельба из больших пушек, и по продолжению приметил я, что их немного, то приказал от себя Майору Парфентьеву взять поспешнее из карея три Суздальские роты, их отбить, что он с крайнею быстротою марша и учинил. Все наше войско расположилось на сих высотах против наступающей ночи, и прибыл к нам Г. Бригадир Заборовской с его кареем комплектнаго Черниговскаго полку; таким образом окончена совершенная победа при Козлуджи, последняя прошлой Турецкой войны».
Используя эту победу, Румянцев заблокировал главные силы армии великого визиря в Шумле. Противник был сломлен. Румянцев также организовал набег русской конницы за Балканы в тыл Шумлинского прохода для перерыва связи Шумлы с Адрианополем. Конный отряд возглавил тот самый бригадир Заборовский, который пришел к Суворову при Козлудже. Он стал единственным русским военачальником, проникшим далеко за Балканы. После подписания мира с турками Заборовский получил чин генерал майора, орден Св. Георгия 3-го класса и золотое оружие с алмазами и надписью: «За знаменитое удачное предприятие за Балканами».
Турки устрашились возможного массированного продвижения русских войск за Балканы. Великий визирь предложил снова заключить перемирие и начать мирные переговоры. В ответ на это Румянцев в ультимативной форме потребовал заключения мира и только на предложенных русскими условиях. Турки были вынуждены согласиться. К Румянцеву снова явились парламентеры, заявившие, что великий визирь вынужден «отдалить все противности и согласиться с уполномоченным… генерал-порутчиком князем Репниным заключить без отлагательства вечный мир».
Мир был заключен в деревне Кючук-Кайнарджи, которую незадолго до этого Румянцев занял сильным отрядом. Русский командующий решительно отклонил все попытки формальностями затянуть переговоры. Как писал сам Румянцев в реляции о ходе переговоров все дело было «трактовано без всяких обрядов министериальных, единственно скорою ухваткою военную, соответствуя положению оружия».
Прелиминарный текст мирного трактата был подписан непосредственно в русской ставке. Это событие прошло буднично и обыденно – договор был подписан по-походному, на полковом барабане.
Кючук-Кайнарджийский договор обеспечивал России исключительно выгодные условия. Согласно этому договору крымские, кубанские, буджакские и другие татары становились независимыми от Оттоманской Порты. Во владение России переходили Керчь и Еникале в Крыму и Кинбурн на побережье Черного моря, степь между Днестром и Бугом, кроме крепости Очакова. Южная граница России к востоку от Днепра была передвинута к речкам Берда и Конские Воды. Россия получала право укрепить Азов. Порта предоставляла русским судам право свободного прохода через проливы и уплачивала 4,5 млн рублей контрибуции. Россия брала под свое покровительство Молдавию и Валахию.
Кючук-Кайнарджийский мир превратил Россию в черноморскую державу и значительно укрепил ее позиции на юге, в Закавказье и на Балканах.
Однако впереди еще были трудности по ратификации мирного договора. Больной малярией Румянцев продолжал руководить всем ходом переговоров. Благодаря его твердости и настойчивости султан был вынужден утвердить договор без всяких изменений в необычайно сжатые сроки: трактат был подписан 10 июля 1774 года и подтвержден султаном 13 января 1775 года.
В ответ на реляции Румянцева о ходе переговоров Екатерина II писала: «Сей день почитаю из счастливейших в жизни моей, где доставлен Империи покой, ей столь нужный».
Важнейшим результатом Кючук-Кайнарджийского мирного договора явилось создание условий для резкой интенсификации процесса освоения Новороссии.
Первые шаги к «официальному» интенсивному освоению Северного Причерноморья были связаны с заселением отдельных его частей выходцами из других стран, принимавших российское подданство. Первыми из них стали сербы из империй Габсбургов и османов. Еще при Петре I в районе крепости Тор (ныне знаменитый город Славянск) был расселен сербский гусарский полк. При Елизавете Петровне, в 1751 году к русскому послу в Вене обратился полковник австрийской службы Иван Хорват с предложением о переселении на юг России сербов, страдавших от натиска католичества в пределах владений Габсбургов. Российское правительство ответило согласием: «Сколько бы из сербского народа в Российскую Империю перейти не пожелало, все они как единоверные, в службу и подданство приняты будут».
Для переселенцев выделили обширные территории в западной части запорожских земель. С 1752 года переселение приобрело значительные масштабы. Возникла Новая Сербия – автономная единица, подчинявшаяся только Сенату и Военной коллегии. Первым главой ее стал И.С. Хорват, получивший генеральский чин. Столицей стал город Новомиргород. Позже в Новую Сербию переселили также украинских казаков. Между тем поток сербов, других переселенцев с Балканского полуострова нарастал. В 1753 году для их расселения были предоставлены новые обширные земли, на этот раз – вдоль южного берега реки Северский Донец (ныне – часть территории Луганской народной республики). Так появилась Славяносербия. Помимо сербов значительное число переселенцев здесь составляли жители Молдавского княжества, валахи, венгры, болгары, турки, крещеные евреи.
Новый шаг по освоение южных земель был совершен в правление Екатерины II. Новая Сербия, Славяносербия, и ряд других территорий высочайшим указом от 1764 года вошли в состав вновь созданной Новороссийской губернии. Так это название впервые официально появилось на административной карте России. Центром губернии стал город Кременчуг.
В том же 1764 году был опубликован «План о раздаче в Новороссийской губернии казенных земель к их заселению». Согласно ему незаселенные территории Новороссии делились на участки по 26 десятин (на земле с лесом) и 30 десятин (на безлесной земле). Получить такой участок в наследственное владение могли «всякого звания люди». Для этого они должны были поступить на военную службу или записаться в крестьянское сословие. На определенное время поселенцы освобождались от уплаты податей. Если они селились в уже обжитых местах, то это время составляло 6 лет, в необжитых, удаленных местах налоги не платили 10 лет, переселенцы же в «Очаковские степи» освобождались от податей на целых 16 лет. По истечении данных льготных сроков поселенцы должны были выплачивать по 5 копеек за одну десятину. Причем военнослужащие освобождались вовсе от уплаты податей.
В 1775 году часть этой губернии (бывшая Славяносербия) отошла к вновь созданной на отошедших к России по Кючук-Кайнарджийскому договору землях Азовской губернии. К Новороссийской губернии отошли земли ликвидированной тогда же Екатериной II Запорожской Сечи. Именно с этого момента начался решающий этап освоения Новороссии. Связан он был с именем Г.А. Потемкина.
Пока же Румянцев был щедро награжден, назначен начальником всей русской конницы. Вообще же за время войны он был награжден орденом Св. Георгия 1-го класса, пожалован в фельдмаршалы, поименован Задунайским, получил фельдмаршальский жезл с алмазами, шпагу с алмазами, лавровый венок, медаль со своим изображением, имение, 10 тысяч рублей на покупку дома, серебряный сервиз и дорогие картины.
По замыслу императрицы, планировалось встретить Румянцева в Москве ей самой под триумфальной аркой, откуда он, не слезая с лошади, должен был поехать с ней до Кремля. Румянцев отказался.
В его честь слагали стихи:
Российский уж меч охочь врагов сечь, Румянцев тем управляет И бог ему поспешает. О господа! Славного Отечества сын Трудолюбивый вождь, с Россией один… Извольте все венки плести, И графе встречь с собой нести Хвалы за труд ему достойны, Как победителю пристойны. Разгнал всех турок злобу мрачну, Победу дал нам светлозрачну, Румянцев Граф всевышним дан, Фельдмаршал нам Христом избран.Он был на вершине славы. Казалось, достигнуто все, о чем можно только мечтать…
Глава VII. Потемкин и «потемкинская» война
Как известно, полного счастья на свете нет. На этот раз судьба решила подтвердить данную аксиому на примере Румянцева: еще недавно служивший под его началом (именно в его армии ставший из камергера – фигуры сугубо статской – боевым генералом) Потемкин вышел на авансцену истории, оттеняя и отпихивая всех и вся.
Фигура любопытная и многозначительная… Григорий Александрович Потемкин родился 13 сентября 1739 года в селе Чижово Смоленской губернии. После смерти ему не везло – уже в 1798 году по секретному распоряжению из Петербурга мраморный памятник Потемкина в Херсоне был разрушен, а церковный склеп херсонского собора с его телом замурован. Нечто подобное происходило и с памятью о князе в целом. Долгие годы почти полного молчания, затем – ряд биографических публикаций и очерков, в которых – также как и в значительном большинстве рассказов весьма пристрастных свидетелей его жизни – особый упор на его капризы, причуды и оригинальность характера, преходящую в оригинальничание. И для большинства сформировался стойкий комплекс представлений о Потемкине как баловне фортуны, фаворите в интимном смысле этого слова, вельможе с замашками царского сатрапа, любителе возведения «потемкинских деревень».
Конечно было и это, но не только, иначе личность светлейшего потускнела бы со временем: избирательность исторической памяти тому порукой. Ряд серьезных дореволюционных работ о Потемкине вышли небольшим тиражом, и хотя и способствовали ломке вульгарно раскрашенного стереотипа, но не смогли довести сего дела до конца, после же 1917 года пошла вторая волна обличительного забвения. Ныне всем кажется, что им известно нечто значимое из жизни Потемкина после его приближения к императрице.
Не будем разочаровывать и оставим эти знания в неприкосновенности, сосредоточившись на биографии будущего князя до его звездного возвышения, после же него – прежде всего – на аспектах государственного строительства.
По рождении Григорий Потемкин воспитывался в доме родителей, после же смерти отца в 1746 году вместе с матерью перебрался в Москву под покровительство двоюродного брата отца президента Камер-коллегии Григория Матвеевича Козловского, где начал обучаться совместно с его сыном – сначала в частном учебном заведении Литкела в Немецкой слободе. В 1755 году его записывают в дворянскую гимназию при только что открывшемся Московском университете и – одновременно, как и многих дворянских недорослей – в гвардию. Рейтаром в конногвардейский полк. Молодой Потемкин учится при университете (золотая медаль за успехи и право в числе двенадцати учеников гимназии и студентов съездить в Петербург пред светлые очи императрицы Елизаветы Петровны), а в гвардии ему идут чины: 1757 – капрал, 1758 – ефрейт-капрал, 1759 – каптенармус.
Вскоре после поездки в столицу Потемкин как-то отошел от университетского учебного процесса, стал манкировать занятиями, увлекшись чтением по собственному выбору, за что и был исключен из университета за нехождение. Теперь оставалась только военная карьера, и молодой гвардеец отбывает в свой столичный полк.
Здесь уже в правление Петра III он производится в вахмистры и становится ординарцем принца Георга Голштинского, ротой которого он и управляет, ибо самому герцогу заниматься подобной прозой недосуг. В этом качестве он принимает участие в перевороте, приведшем на престол Екатерину II.
За услуги он получил 400 душ крестьян и далее, в собственноручном росписании императрицы о наградах по данному событию: «В конной гвардии вахмистр Григорий Потемкин два чина в полку да 10 000 рублей». Вскоре он едет курьером к российскому посланнику в Швеции с известием о перевороте, а через некоторое время по возвращении его определяют на работу в Синод на должность помощника обер-прокурора. Растут и его военные чины: после переворота он – подпоручик, весной 1765 года – поручик, летом следующего года получает командование 9-й ротой; в 1767 году с двумя ротами своего полка командирован в Москву во время комиссии об «Уложении».
Упомянем немаловажную деталь: в это время своего первого взлета, еще, впрочем, довольно медленного, а именно в 1766 году, Потемкин, заболев горячкой, воспользовался услугами знахаря, и в результате окривел на один глаз (коий лекарь обвязал некоей странной припаркой). В отчаянии Григорий на полтора года удаляется от двора, живет анахоретом, читает, читает и… всерьез подумывает о монашестве. Но монаршья воля призывает его к новому служению. Отметим: инициатива исходила от императрицы. То есть уже в это время Потемкин принадлежал к небольшому кружку лиц, лично известных и лично преданных монарху, который считал опасным расточительством разбрасываться подобными людьми.
22 сентября 1768 года Потемкин становится камергером, а в ноябре сего же года был отчислен от конной гвардии, по воле императрицы, как состоящий при дворе. На следующий год, в связи с начавшейся войной с Турцией, Григорий Потемкин волонтером направляется в армию. В письме к императрице он изъявил желание служить в кавалерии. Его желание было учтено, а придворный чин камергера трансформировался в военный – генерал-майора (что соответствует Табели о рангах).
Он отличился под Хотином, Фокшанами, Браиловом, Журжей, Рябой Могилой, Ларгой, Кагулом, Измаилом, словом, во всех заметных делах кампании 1769–1770 годов. Командующий армией П.А. Румянцев, по своему характеру не любивший придворных и вообще людей склада Потемкина, тем не менее пишет в своей реляции от сентября 1770 года: «Ваше Величество видеть соизволили, сколько участвовал в действиях своими ревностными подвигами генерал-майор Потемкин. Не зная, что есть быть побуждаемому на дело, он сам искал от доброй своей воли везде употребиться. Сколько сия причина, столько другая, что он во всех местах, где мы ведем войну, с примечанием обращался и в состоянии подать объяснение относительно до нашего положения и обстоятельств его в С.-Петербург во удовольство его простьбы, чтобы пасть к освященным стопам Вашего Императорского Величества».
Потемкин исполнил желаемое – пал; и хотя он был вынужден вскоре – из-за недоброжелательства появившихся завистников – покинуть столицу и вернуться в армию, перед отъездом он добился права писать императрице и получать ее ответы через доверенных лиц. Екатерина II разрешила сие давно влюбленному в нее мужчине, находящемуся в поре расцвета мужественной красоты, активному помощнику в дни переворота, ныне блестящему генералу и кавалеру самых почитаемых российских орденов, даваемых за храбрость и воинское умение. Из обычного, хотя и выделяющегося постоянством, поклонника Потемкин становился в глазах императрицы человеком, на которого можно опереться в нелегкую минуту – боевого генерала, одного из любимцев армии, что для монарха с государственным складом ума весьма и весьма значимо. Плюс продолжающееся охлаждение Екатерины с ее долголетним гражданским супругом графом Григорием Орловым. Так что через некоторое время монархиня в ответ на письма подданного взялась за перо и сама.
Венцом этой переписки стало знаменитое письмо, перевернувшее всю жизнь Потемкина, письмо от 4 декабря 1773 года: «Господин генерал-поручик и кавалер. Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что вам некогда письма читать; и хотя я по сю пору не знаю, предуспела ли ваша бомбардирада, но тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному отечеству, котораго службы вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие вам имею ответствовать: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна. Екатерина».
И в январе 1774 года Потемкин уже приезжает в Петербург, получает аудиенцию у императрицы – по иронии судьбы при помощи уже отставленного от особы Екатерины Григория Орлова – и разрешение писать к ней с просьбой о пожаловании в генерал-адъютанты (иными словами – в новые фавориты). Он пишет, и она в ответном послании одобряет его, что он писал прямо к ней, а не искал побочных путей. Вскоре Потемкин получает генерал-адъютанта вместе со всеми остальными правами и обязанностями, а Екатерина простодушно пишет своему корреспонденту Бибикову: «…кажется мне, что, по его ко мне верности и заслугам, не много для него сделала, но его о том удовольствие трудно описать; а я, глядя на него, веселюсь что хотя одного человека совершенно довольнаго около себя вижу».
Кроме этого Потемкин делается членом Государственного Совета и подполковником Преображенского полка, где полковником сама Екатерина. Посланник прусского короля граф Сольмс вскоре доносит своему монарху: «Потемкин никогда не жил между народом, а потому не будет искать в нем друзей для себя и не будет бражничать с солдатами. Он всегда вращался между людьми с положением; теперь он, кажется, намерен дружиться с ними и составить партию из лиц, принадлежащих к дворянству и знати».
И хотя вскоре надменность Потемкина с высшими чинами и знатнейшими родами станет притчей во языцех (равно как и его простота при обхождении с простым народом), некая доля истины в сем замечании есть, ибо он был, воспользуясь словами человека, достаточно хорошо его изучившего – Екатерины, – «одним из самых смешных и забавных оригиналов сего железного века», века космополитизма, мистики и безверия. Сии оригиналы жили жизнью, казавшейся управляемому ими народу прямо скажем непонятной, впрочем, и они народа не понимали, а не понимая, не принимали его норм поведения, этики и морали. Отсюда гаремные утехи Потемкина расцвета его могущества, когда основной упор делался им на прекрасную родню. Отсюда же явное непонимание национальных потребностей (национальных, но отнюдь не государственных, ибо после культа собственной личности эти люди исповедовали культ государства, более или менее персонифицировавшегося в фигуре монарха).
Это находило выражение и в том, что, кроме гарема, Потемкин повсюду возил с собой раввинов, раскольников и начетчиков, периодически провоцируя их на догматические споры, что служило ему и отдыхом, и школой. Словом, он был ярчайшим представителем сего «железного века», девизом которого стало «жить и жить давать» и в личности которого неразделимо переплетались грандиозность замыслов и блеск умопомрачительного великолепия, забота о благе державы и пренебрежение оной, если она противоречила благу персональному.
Вскоре после начала своего взлета Потемкин становится графом и вице-президентом Военной коллегии. Однако казалось, что фавор будет недолгим: уже в декабре 1775 года в сердце Екатерины его заменил Завадовский. Но не у кормила государственной власти, у которого Потемкин остался до самой смерти, фактически являясь вице-императором: императрица уже не могла обойтись без его советов и его энергии. Дела альковные и государственные в данном случае четко разграничились.
Еще только войдя в «случай», он тут же развязал руки командующему главной армией, воюющей против турок, П.А. Румянцеву в вопросах войны и мира, что вскоре привело к победоносному Кючук-Кайнарджийскому миру. Для этого Потемкин посылал на театр военных действий – вопреки мнению многих – новые полки.
Параллельно с этим участвовал в принятии мер для борьбы с Пугачевым и по тем же высшим государственным соображениям санкционировал ликвидацию Запорожской Сечи. 31 мая 1774 года он назначается новороссийским и азовским генерал-губернатором (будущее Екатеринославское наместничество), главным начальником над поселенными в Новороссии войсками и командиром всей легкой конницы и иррегулярных войск (создание которых тоже его заслуга). В конце декабря он получает высший российский орден – Св. Андрея Первозванного, к которому вскоре прибавятся самые почетные ордена многих европейских государств.
Что же до наместничества, то здесь были умножены поселенные войска, учреждена для заведования духовными делами особая епархия. Устроены школы, присутственные места, таможни и таможенные заставы, приняты меры для быстрейшего заселения края и развития в нем промышленности. Были вызваны колонисты: греки, армяне, немцы, итальянцы, шведы, старообрядцы и крестьяне из великорусских губерний. Построены города: Екатеринослав, Новомосковск, Мариуполь, Нахичевань… А вот как описывал эти места бывший гетман Малороссии К.Г. Разумовский, посетивший их в 1782 году: «На ужасной своей пустынностью степи, где в недавнем времени едва рассеянные обретаемы были избушки, по Херсонскому пути, начиная от самого Кременчуга нашел я довольные селения верстах в 20, в 25 и далее, большею частью при обильных водах. Что принадлежит до самого Херсона, то представьте себе множество всякий час умножающихся каменных зданий, крепость, замыкающую в себе цитадель и лучшие строения, адмиралтейство со строящимися и построенными уже кораблями, обширное предместье, обитаемое купечеством и мещанами разновидными. С одной стороны казармы – 10 000 военнослужащих в себя вмещающие, с другой перед самым предместьем видоприятный остров с карантинными строениями, с греческими купеческими кораблями и с проводимыми для выгод сих судов каналами. Я и до ныне не могу выйти из недоумения о том скором возращении на месте, где так недавно один только обретался зимовник. Сей город скоро процветет богатством и коммерциею, сколь то видеть можно из завидного начала оной… Не один сей город занимал мое удивление. Новые и весьма недавно также основанные города Никополь, Новый Кайдак, лепоустроенный Екатеринослав, расчищенные и к судоходству удобными сделанные Ненасытские пороги с проведенным при них каналом».
В целом рост населения Новороссии происходил очень быстро. В 1781 году здесь было учтено 157 526 мужских душ, то на 1 января 1783 года этих «душ» было уже 193 451.
Два указа Екатерины II от 22 января 1784 года определили структуру Екатеринославского наместничества. По этим указам Екатеринославская губерния делилась на 15 уездов: Екатеринославский, Александрийский, Алексопольский, Бахмутский, Донецкий, Елисаветградский, Константиноградский, Кременчугский, Мариупольский, Новомосковский, Ольвиопольский, Павлоградский, Полтавский, Славянский и Херсонский. Было создано несколько новых уездных городов: Александрия – из бывшего Березовского и Бечийского шанцев, Новомосковск – из Екатеринослава I, Екатеринослав II – на месте запорожского селения Половица, Донецк – из войскового села Подгороднего. В Алексопольском уезде не было городов, поэтому уездным центром было сделано местечко Нехвороща, переименованное в город Алексополь. Крепость Белевскую преобразовали в уездный город Константиноград, а город Тор – в Славянск. В Бахмутской провинции (Бахмутский уезд и Славяносербия) возникло два уезда: Бахмутский и Донецкий.
На землях Войска Запорожского появились Екатеринославский, Новомосковский, Павлоградский, большая часть Мариупольского и Алексопольского и отдельные части Херсонского и Ольвиопольского уездов.
На землях Полтавского и Миргородского полков, отошедших в 1764 и 1775 годах к Новороссии, в 1784 году образовалось два уезда: Полтавский и Кременчугский. Из этих уездов в состав Новороссии вошли Екатеринославский, Александрийский, Елисаветградский, Мариупольский, Новомосковский, Ольвиопольский, Павлоградский, Херсонский уезды, а также большая часть Алексопольского, Бахмутского и Донецкого уездов. Константиноградский, Кременчугский и Полтавский уезды отошли к Полтавской, а Славянский – к Слободско-Украинской губернии.
В 1785 году население наместничества составляло более шестисот тысяч человек, так что легенда о фиктивных «потемкинских деревнях» не выдерживает никакой критики. Эта легенда родилась в озлобленных мозгах сопровождавших через два года Екатерину в ее поездке по югу России иностранных дипломатов, поначалу была с восторгом подхвачена немецкими газетами и потом с удовольствием вспоминаемая всеми потенциальными и реальными противниками России, как экономическими, так и военными.
Почти одновременно с этим между Азовом и Моздоком он создал ряд военных казачьих укреплений, заложил города: Ставрополь, Александров, Георгиевск, Екатериноград, что стало основой «кавказской линии». По его указанию управляющий «линией» его родственник П.С. Потемкин убедил кахетинского и карталинского царя Ираклия признать над собой верховную власть России. Поддавшись доводам Г.А. Потемкина, крымский хан Шагин-Гирей отказался от престола в пользу России. В воздаяние чего он был назначен президентом Военной коллегии, генерал-губернатором Крыма и пожалован чином генерал-фельдмаршала.
Проводил он и военные реформы: реорганизовывал войска, облегчал тяжелую солдатскую амуницию и одежду, издал военно-хозяйственный устав, довел численность армии до 260 тысяч, не считая созданной им иррегулярной конницы из черноморских и донских казаков. Все это способствовало в значительной мере победе в новой русско-турецкой войне 1787–1791 годов, которую зачастую называют «Потемкинской», ибо светлейший князь в ходе ее командовал сначала одной армией, а затем и двумя, первым из всех русских полководцев управляя несколькими армиями, по сути дела – фронтами, координируя действия войск на гигантских оперативных просторах.
Итогом его государственной и военной деятельности – Потемкин умер 5 октября 1791 года – стало присоединение Крыма и Тамани, округление южных границ государства, оживление пустынной прежде Новороссии, постройка целого ряда новых городов, среди которых Екатеринослав, Николаев, Севастополь, Одесса. Прочное владычество России на Черном море, создание там мощного флота, реорганизация и усиление армии. Совсем неплохо для одного человека. Многие законно гордятся гораздо меньшим.
Он был яркой, неординарной личностью, оставившей заметный след в истории. Этим он и интересен потомкам.
Перед последней кампанией затребованный императрицей в Петербург для занятия вновь вакантного места фаворита, Потемкин стремительно набирал вес, самозабвенно коллекционируя должности и награды. Достигнув пика своей карьеры, он будет неофициально именоваться вице-императором, но и к моменту Кючук-Кайнарджи его влияние во многих областях государственной деятельности было доминирующим. Включая и армию. Человек блестящих способностей и большого государственного ума – французский посол граф де Сегюр приводил курьезный пример, что, придя к Потемкину с проектом одного коммерческого учреждения в Херсоне, он зачитывал его светлейшему, постоянно отвлекавшемуся на множество самых различных дел; взбешенный невниманием, Сегюр скомкал прочтение и ушел, а через месяц получил благодарственное письмо от директора этого учреждения: Потемкин запомнил пункт за пунктом всю записку и большинство пунктов удовлетворил.
Но светлейший князь не терпел конкурентов. Талантливый человек и фактический правитель России, Потемкин не нуждался в соперниках, но лишь в подчиненных и исполнителях. Пусть даже талантливых. Так что Румянцев на Украине его устраивал, в Петербурге – никак.
И поэтому вскоре после заключения мира Румянцев вернулся к управлению Малороссией – было понятно, что на первых ролях в Петербурге ему не бывать. Там все прочно взял под себя его бывший подчиненный и новый фаворит Екатерины Г.А. Потемкин.
И в армии Потемкин хотел быть единственным начальником. За этим желанием проглядывалась тень императрицы, и Румянцев был вынужден отступить. Он уехал на Украину, где продолжал свое наместничество, руководил практической стороной присоединения и закрепления за Россией Крыма.
Взаимоотношения Румянцева и Потемкина служат хорошей иллюстрацией, ряд которых и множество других подобных примеров позволяют оценить саму систему фаворитизма, процветавшую и при Екатерине.
Фаворитизм стоил дорого: братья Орловы обошлись государству в 17 миллионов рублей, Васильчиков – в 1,1 миллиона, Потемкин – в 50 миллионов рублей (хотя, объективности ради, необходимо признать, что немалую часть этой колоссальной суммы Потемкин употребил во благо того же многострадального и долготерпеливого государства), сменивший его Завадовский – бывший секретарь Румянцева, уступленный им Екатерине II за-ради своего умения хорошо вести документацию и решивший попробовать себя и в новом поприще – 1,380 миллиона; далее были: Зорич – 1,42 миллиона, Корсаков – 920 тысяч, Ланской – 7,26 миллиона, Ермолов – 550 тысяч, Мамонов – 880 тысяч, братья Зубовы – 3,5 млн и некоторые другие – помельче. Плюс – расходы фаворитов – около 8,5 млн, и это не считая сотен тысяч душ крестьян, пожалованных Екатериной этим своим друзьям. Для примера: война 1768–1774 годов обошлась России порядка 47,5 миллионов рублей. Бремя, как видим, не малое. И не только в плане прямого расточения материальных средств. Институт фаворитизма подрывал и моральные устои: он был безнравственен по своей сути. Это, пожалуй, – крайняя, наиболее уродливо-беззастенчивая степень протекционизма (вне зависимости чем она вызвана и на чем основывается), разлагающего общество. Она размывает, деформирует все критерии общественного блага, личного достоинства членов общества, извращает всю систему нравственных ориентиров последнего.
Ланжерон, о котором скажем чуть погодя, в своих записках писал: «Некоторые (из фаворитов) умели облагородить свое унизительное положение: Потемкин, сделавшись чуть не императором, Завадовский – пользой, которую приносил в администрации; Мамонов – испытываемым и не скрываемым стыдом». Потемкин, пожалуй, единственный из всей этой плеяды – государственный деятель. Остальные тяготеют к балласту. Вот итог деятельности П. Зубова, как и Потемкин наиболее систематически испытывавшего тягу к управлению государством, но не обладавшего ни одним из талантов последнего, – согласно книге «Фавориты Екатерины II», вышедшей в 1912 году, – «результатом административной деятельности Зубова в области внутренней политики были подорванная дисциплина в армии, развитие роскоши и сибаритства в офицерских кругах, опустошенная казна и переполненные тюрьмы».
Тот же Ланжерон оставил нам свои впечатления о времяпрепровождении князя Зубова: «Каждый день с восьми часов утра, его передняя наполнялась министрами, царедворцами, генералами, иностранцами, просителями, искателями мест или милостей. Обыкновенно тщетно ждали часа четыре или пять и уходили, чтобы вернуться на другой день. Наконец, наступал желанный день: двери широко раскрывались, толпа бросалась в них и находила фаворита, которого причесывали сидящим перед зеркалом, опершись ногой на стул или на край стола. Посетители, поклонившись в ноги, осыпанные пудрой, становились в ряд перед ним, не смея ни шевельнуться, ни говорить. Фаворит никого не замечал. Он распечатывал письма и прослушивал их, показывая вид, будто занят делами. Никто не смел заговорить с ним. Если он обращался к кому-нибудь, тот, после пяти-шести поклонов, приближался к его туалету. Ответив, он возвращался на свое место на цыпочках. Те, с кем Зубов не заговаривал, не могли подойти к нему, так как он не давал частых аудиенций. Я могу удостоверить, что были люди, три года приходившие к нему таким образом, не удостоившись ни одного слова… В Царском Селе зеркало помещалось так, что в его отражении он видел посетителей, к которым сидел спиной». Зубов имел обезьянку, любившую путешествия по парикам посетителей. «Когда она видела полюбившийся ей головной убор, – продолжает Ланжерон, – она бросалась с люстры на голову его обладателя и пристраивалась там. Осчастливленный человек наклонялся и почтительно ждал, чтобы маленькое животное окончило свою трапезу или перешло на голову вновь прибывшего обладателя тупея. Я знаю людей, которые переменили и повысили свою прическу, в надежде привлечь на нее внимание фаворитки фаворита».
Однако царство Зубова еще впереди. Пока же в России почти самодержавно правил Потемкин.
А Румянцев укреплял рубежи страны. В 1776 году он получил приказ двинуть свои войска в Крым, дабы удалить оттуда Девлет-Гирея, придерживавшегося чересчур протурецкой политики, и провозгласить ханом Шагин-Гирея.
В ноябре один из подчиненных Румянцева князь Прозоровский вступил в Крым. Девлет-Гирей бежал в Порту, а Шагин-Гирей весной 1777 года был провозглашен ханом всех татар. Однако новый хан не пользовался особой любовью своих подданных. Крайне деспотичный и расточительный, он слишком рьяно стал обирать свой собственный народ. Шагин-Гирей решил европеизировать свои вооруженные силы и с этой целью завел в Крыму регулярное войско. Среди этого вновь набранного войска и вспыхнул мятеж. Турки воспользовались этим, и изгнанный Долгоруким еще в 1771 году Селим-Гирей вернулся в Крым и был провозглашен ханом. Ему в помощь Порта отправила восемь кораблей.
Екатерина после этого приказала Румянцеву восстановить власть Шагин-Гирея и прекратить мятеж. И снова исполнение этого приказа было поручено Прозоровскому, который вынудил 6 февраля 1778 года татарских мурз явиться с покорностью к Шагин-Гирею. Это стало, по сути дела, последней крупной военно-политической акцией, за которой в скором времени последовало окончательное присоединение Крыма к России, проведенное по инициативе Потемкина.
Все это время Румянцев – помимо комплекса дел, связанных с Крымом – продолжал управлять Малороссией. Его секретарь в эти годы Н. Лесницкий, оставил записки, показывающие фельдмаршала в мирной обстановке, когда его характер, не стесненный экстремальными ситуациями войны, проявлялся полнее всего.
Если на войне он зачастую был суров с людьми и, неутомимый сам, зачастую требовал того же от подчиненных, никогда не реагировал на чьи бы то ни было просьбы, то в мирной обстановке это был другой человек, естественно, сын своего времени, но не тот калиф на час, в силу неопределенности своего положения торопящийся урвать как можно больше и не думающий о последствиях. Нет, Румянцев был государственным человеком, не могущим позволить себе разорительные для окружающих людей слабости.
Он не страдал гипертрофированным честолюбием. Он никогда не отворачивался от оступившегося человека, несмотря на все слухи и сплетни о нем, а предпочитал дать ему шанс делом исправить свои ошибки. Единственно к кому он был нетерпим – это к людям бесчестным.
Был прост в обращении и быту. Свиты при себе большой никогда не терпел, караулов не имел. Сам всегда носил простой офицерский, большей частью пехотный, мундир. В дороге большие дома обычно проезжал мимо. Доступ к нему был всякому свободен. Часто бывал там, где его никак не ожидали увидеть. Всякий, кто имел к нему пакет или просьбу, сам и должен был вручить лично. Секретари принимали у Румянцева посетителей только в случае его болезни. Был гостеприимен со всеми и всяким. Любил гостей, но не выносил их поклоны.
На непорядок, упущение или ошибку смотрел снисходительно.
Если совершивший это как-то пытался оправдаться, то был выслушиваем всегда терпеливо. Слухам не верил. От обещаний уклонялся, «упреждая их самим делом. Если обещал, то не свыше возможностей своих и слово всегда держал твердо. Напоминать ему не надлежало. Находил возможность оказывать милость… Влияний никаких на себя не терпел. Враг был всяких ласкательств. Одалживался самыми малыми услугами, чтобы в больших не иметь необходимости. Ничем не нуждался, ни к чему не привязывался, поскольку мог без чего обойтись. В речь свою себя насчет заслуг никогда не включал… Тщеславием и мечтанием гнушался. Путей посторонних к себе никаких не позволял, и их не было известно.
Всякому уловлению себя противопоставлял если не речь, так дела. Всегда один и тот же и вообще никогда не пременялся».
«Упражнение на пользу службе, или общественную во всяком его положении… всегда обращали его внимание и признательность… Поспешность без торопливости исполняющих сопровождала все упражнение его до самой смерти… Ровно относился ко всем – ни во что не ставил покровительство сильных мира сего; не претворялся сам перед начальством».
Случай, произошедший с Румянцевым в эти годы, лучше всего свидетельствует, что Лесницкий не ошибался в своих наблюдениях.
Вскоре после присоединения Крыма Екатерина решила продемонстрировать Европе новые российские приобретения, посмотреть самой на страну, которой она правила, и дать возможность своим подданным увидеть того, кто правит ими. Общая организация путешествия была поручена Потемкину, что привело в итоге к тому, что в русском языке прижилось выражение «потемкинские деревни», то есть «пускать пыль в глаза». Выражение это обязано скорее не реальному положению дел, а зависти русских доброхотов и ненависти зарубежных, удивленных и напуганных тем, как быстро растекается Россия в своих беспредельных границах.
Потемкин сделал, действительно, необычайно много. Он не терпел ровни себе, но, как человек государственный, он умел выбирать себе помощников, и не бездумных исполнителей, а людей мыслящих и инициативных, которым он давал широкие права и не лез к которым с унизительно-мелочной опекой. Результаты их дел и видела Екатерина и ее иностранные гости – послы и знать Европы, включая австрийского императора Иосифа II.
Однако, справедливости ради, необходимо заметить, что нарицательные «потемкинские деревни» возникли не на пустом месте. Феерическая роскошь и удивляющее воображение мотовство сопровождали путешествующих. Потемкин в дорожные мелочи не вникал – ему это было не интересно – другие же распорядители не всегда обоснованно считали, что деньги могут все и что чем дороже – тем лучше.
Когда обоз вояжирующих добрался до Украины, Безбородко – статс-секретарь Екатерины, еще один бывший секретарь Румянцева, заведовавший материальной частью путешествия, – посоветовал местному губернатору быть поэкономнее. Губернатором был Румянцев.
Он не заставил повторять себя дважды, и путешественников в Малороссии не ждали крытые галереи, со столами, уставленными закусками, и деревянные дворцы, построенные специально для разового ночлега; Румянцев сократил все импровизированные помещения до строго необходимого и не позаботился даже о парадном убранстве Киева, который Екатерина хотела показать своим гостям во всем блеске. «Скажите императрице, что мое дело брать города, а не украшать их», – ответил он Мамонову, которому было поручено передать ему замечание.
В Крыму Потемкин компенсировал аскетизм Румянцева. Стены дворцов раздвигались, и перед гостями проходили эскадры судов, пустыни оживали и приветствовали проезжающих. Сегюр писал об этом: «Таково двойное волшебство самодержавной власти и пассивного послушания в России: здесь никто не ропщет, хотя нуждается во всем, и все идет своим чередом, несмотря на то, что никто ничего не предвидит и не заготавливает вовремя».
Для подобной системы организации власти материальные издержки зачастую более приемлемы, нежели моральное поощрение, поскольку здесь действует закон, согласно которому чем власть менее ограниченна, тем более она антиобщественна. Поощрять же души людей – это приучать их к мысли о собственной самоценности. А это опасно, ибо они могут в конце концов начать задумываться и задавать различные вопросы, делая при этом никому не нужные выводы.
Именно поэтому Шешковский – глава того, что при Петре I сформировалось как Преображенский приказ, то есть организация политического сыска – следил за всеми проявлениями гражданской жизни подданных. Екатерины II. В его епархию входили не только реальные и мнимые государственные преступления, но и все то, что якобы способно подорвать авторитет власти – слухи, сплетни, злоязычие.
Недаром еще в 1763 году в Москве под барабанный бой был прочтен указ, являвшийся, по существу, повторением указа Елизаветы Петровны от 5 июня 1757 года и воспрещавший жителям заниматься предметами, которые до них не касаются. К этим предметам были отнесены все государственные дела. Указ был знаменитый «Указ о молчании», разгружавший головы подданных от ненужных власти умствований. Словом, живи просто, весело, сполняй приказы начальства и – радуйся. За тебя все решат.
Результатом исключения индивидуума из общественно активной жизни является социальная апатия. Привычка к наплевательству, проистекающему от безответственности, губит общество, и тогда, когда власть предержащие, поняв, что равнодушие к делам государства ведет к распаду, стараются как-то реанимировать этот общественный интерес. Вывод же, что без общественных организаций общественного сознания быть не может – пугает. Когда же логика жизни – сквозь зубы – заставляет с этим примириться, то жестко ограниченная инициатива – так, чтобы не затрагивать коренных принципов – не в состоянии помочь делу. Зачастую все это поначалу и незаметно, но тем не менее существует и эрозийно воздействует на общество.
Вакуум в обществе, лишенном общественно мыслящих граждан, заполняет бюрократия, центральная и местная, делящая власть с правителем и зачастую – в силу своей бесконтрольности, незаменяемости и, вытекающей из этого, неизменности – оставляющая ему лишь номинальное представительство с выполнением бутафорских функций. Они – уже не отдельное лицо, а мощная организованная система – во главу угла ставят не благо государства, а свое собственное, что прямым ходом ведет общество к упадку. Власти приходится мириться с этим и прощать своей единственной опоре все шалости. Хорошей иллюстрацией этого может послужить диалог Безбородко с Екатериной.
Екатерина, желая периодического отдохновения от дел государственных, создала у себя в Эрмитаже, третий параграф коего устава гласил: «Просят быть веселыми, но ничего не уничтожать и не кусаться», систему малых приемов, на которых, согласно тому же уставу, запрещалось заниматься серьезными проблемами, помнить о прошлых распрях и ссорах, лгать и говорить глупости. Виновные наказывались штрафами в десять копеек, которые бросали в кружку для бедных. Роль казначея исполнял Безбородко. Один из посетителей этих вечеров, говоривший нелепости поминутно, постоянно заставлял кассира подставлять ему кружку. Раз, когда он уехал с вечера раньше обыкновенного, Безбородко сказал Екатерине:
– Сему господину следует воспретить ему вход в Эрмитаж, поскольку иначе он разорится на штрафах.
– Пусть приезжает, – ответила Екатерина, – мне дороги такие люди; после твоих докладов и докладов твоих товарищей, я имею надобность в отдыхе, мне приятно изредка послушать и вранье.
– О, матушка-императрица, если тебе это приятно, то пожалуй к нам в первый департамент Правительствующего Сената: там то ли услышишь!
Этот искрометный диалог для казнокрадствующих рамоликов, все в большем количестве собирающихся в стенах Сената, дурных последствий не имел.
При всем при этом нет более рьяного защитника государственного блага и его неугомонного радетеля, чем бюрократия, полуинстинктивно понимающая, что открытое служение своим шкурным интересам чревато непредсказуемыми результатами.
Подобная система организации власти удачно вписывалась в исторически к тому времени обусловленную и с удовольствием воспринятую Екатериной II идею просвещенного абсолютизма. Бедный, темный народ нуждается в просвещении, и дело управляющих им отдать все силы на претворение этой программы, полностью отдаться благородной миссии просветителя.
В духе эпохи власть прибегает к все более оголтело-утонченной социальной демагогии. Екатерина щедро разбрасывает сентенции типа: «Лучшая слава и украшение Монарха – есть его правосудие», «Лучше, чтоб ободрял Государь, а наказывали законы», «Благо человечества, и в особенности Моих подданных, есть закон для Моих мыслей и для Моего сердца». Индивидуумов, всерьез воспринимающих все эти прекраснодушные идеи и пытающихся претворять их на практике, власти предержащие наказывают быстро и беспощадно, поскольку их реализация подорвала бы их реальное могущество.
Апелляция к общественному мнению – требование момента, поскольку понемногу вызревает потребность хотя бы в малой степени учитывать умонастроение масс.
С этого времени все больше и больше начинается декларирование роли образования в деле исправления нравов и усовершенствования общества, места интеллигенции в этом.
Однако деятельность интеллигенции – умственная деятельность.
Можно приучить или заставить людей единообразно и одинаково выполнять какую-либо несложную трудовую операцию, но нельзя таким же образом приучить людей думать. Ни одинаково, ни уж тем более единообразно. Когда собираются два-три человека, даже если они единомышленники, стоит их покопать поглубже, и на поверку получится два-три мнения. Поэтому это – самые опасные для правителей люди. Они думают, а следовательно – анализируют и начинают критиковать, ибо власть не может обходиться без ошибок – так как любые совершенные проекты она проводит в жизнь при помощи несовершенных индивидов, среди которых есть и глупцы, и сребролюбцы, властолюбцы и совершенно аморфные, которым все равно, что за приказы выполнять. Не говоря о противниках этих проектов – тайных и явных.
И поэтому единственный выход для властей предержащих – создавать такие условия, при которых люди умственного труда не смогут спокойно предаваться этому своему занятию, ибо оно предусматривает отсутствие забот о куске хлеба и некую гарантию личной безопасности, иными словами, стабильность положения. Но, в то же время, кусок этот не должен быть и слишком жирным, иначе все аналитические способности человека направятся лишь на то, как бы удержать его, и тогда он становится самым ревностным защитником власти; а на другом полюсе – большая масса, думающая лишь о хлебе насущном, абстрагируясь в силу обстоятельств – хотя и никогда полностью – от забот о судьбах мира и собственного народа.
Словом, старые как мир постулаты: «разделяй и властвуй», «кнутом и пряником». Екатерина хорошо постигла их значимость и умело применяла их на практике.
При ней эпоха просвещенного абсолютизма только-только вступала в России в свои права. Поэтому случались с точки зрения последующих времен пустяковые, но тем не менее досадные накладки. Так, в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1798 год рядом с предложением купить голштинского жеребца, напечатано объявление о продаже нескольких экземпляров «Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения», сохранившихся в академической типографии, а еще ниже: «Пожилых лет девка, умеющая шить, мыть, гладить и кушанье готовить, продается за излишеством (следует адрес)… там же есть продажные, легкие, подержанные дрожки». Или: «Продается за сходную цену семья людей: муж искусный портной, жена повариха; при них дочь 15 лет, хорошая швея, и двое детей, 8 и 3 лет».
Соответственно, и нравы еще были неустоявшиеся. Зачастую о нравственности, чести, достоинстве где-то и слыхали, но объяснить, что это за субстанция такая, затруднились бы. Во время кампании 1790 года князь Григорий Волконский, зять князя Репнина, генерал-поручик и кавалер ордена Александра Невского, рассердивший чем-то Потемкина, получил от него несколько пощечин. Русский офицер, посланный через некоторое время после этого случая в Вену, рассказал об этом случае принцу де Линь, по предшествующим годам знавшего обоих действующих лиц. Принц был возмущен.
– Но, – заметил офицер, – Волконский жестоко отомстил ему за оскорбление.
– Как же именно?
– Целую неделю не показывался у князя.
Этот довольно характерный для нравов эпохи случай произошел на очередной русско-турецкой войне. Еще в 1779 году Румянцев называл положение, сложившееся между Россией и Портой, кризисом во взаимоотношениях. И вот вскоре после поездки Екатерины в Крым, с потерей которого турки не считали возможным примириться, разразилась война. В целом внешнеполитическая ситуация не благоприятствовала вступающей в войну России.
Со стороны России военно-политическое руководство войной в этот раз было организовано иначе, чем в войну 1768–1774 годов.
Потемкин, с самого начала войны фактически осуществлявший общее руководство сухопутными и морскими силами, выделенными против Порты, (а в 1789 году принявший на себя главнокомандование), был почти свободен от опеки из столицы – огромное преимущество для полководца, дававшее возможность реализовать стратегические замыслы самого смелого характера. Но, по сути, использования этих широких возможностей на деле не произошло.
Кампания 1788 года в качестве главной задачи выдвинула овладение Очаковом, имевшим важное значение в системе турецкой обороны. Главные силы русской армии были фактически скованы этой крепостью на весь период кампании…
Редко кто из людей военного звания офицерского сословия минувших времен именовался кавалером лишь одного ордена. Многие битвы многих войн – многие награды. Но бывали и, так сказать, однолюбы, конечно, не желанием своим, а волею судеб и случая. К персонам подобного рода без сомнения должен быть отнесен и генерал-лейтенант граф Ираклий Иванович Морков. Почти четверть века – а точнее, двадцать четыре года – его грудь украшал лишь почетнейший орден для военного – орден Св. Георгия.
Родился Ираклий Морков – тогда еще не граф, и уж тем более не генерал-лейтенант – около 1750 года. Вот потому что не граф, неизвестна точная дата его рождения: родовитых судьба примечала более тщательно. Воевал с турками в первую войну с ними эпохи Екатерины II, воевал и во вторую – 1787–1791 годов – когда и прославился.
Впервые его имя зазвучало в подобных реляциях и наградных указах после Очакова…
«Времена Очакова и покоренья Крыма» – фраза, свидетельствующая о седой старине. Но, произнося ее, мы уже как-то мало задумывается, что тогда Очаков, наряду с Измаилом, был сильнейшей крепостью, считавшейся неприступной. А ее тем не менее надлежало брать на штык.
Крепость, одной стороной упирающаяся в море, с трех других вздыбилась высоким валом, перед которым зиял одетый камнем семи с лишним метровой глубины ров. Пространство перед крепостью было, в свою очередь, окружено укрепленным десятью люнетами валом, перед которым располагалась линия рогаток. Многочисленные сады и виноградники, разбросанные с севера и запада от Очакова, не только несли аромат своего цветения в крепость, но и служили прекрасными укрытиями для турецких стрелков, которые не ленились обстреливать передовые посты русских. Внутри укрепления было множество каменных зданий и две мечети, а на самом краю Очаковского мыса притаилась еще одна небольшая крепость – Гассан-Пашинский замок – обнесенный также валом и рогатками.
Штурму Очакова, последовавшему в декабре (6 числа) 1788 года, предшествовала долгая его осада, тянувшаяся с июля.
Главнокомандующий армией Григорий Александрович Потемкин не хотел платить кровавой дани, которую непременно соберет приступ подобной твердыни, и поэтому надеялся взять крепость измором. Но турки держались стойко, и постепенно мудрая осторожность командующего начала оборачиваться пагубной медлительностью: русская армия была лишена простора и прикована к одному месту, начались болезни, возросла смертность среди солдат. Откладывать далее было некуда: или штурмовать, или уходить от крепости несолоно хлебавши. Потемкин выбрал штурм.
Согласно диспозиции, составленной начальником инженерных работ генералом Меллером, который за нее станет бароном, получит ордена Св. Андрея Первозванного и Св. Георгия 2-й степени, и утвержденной Потемкиным, для производства приступа образовалось шесть отдельных колонн. В третьей из них – колонне генерал-майора князя Волконского – надлежало идти на штурм и Ираклию Моркову.
Ему вместе с его боевыми товарищами – корпусом лифляндских егерей, батальоном и рабочими херсонского пехотного полка – надлежало с началом атаки двинуться к ближайшим воротам ретраншемента, взять его и тут же выслать вправо и влево команды, дабы связать с флангов защитников укрепления, если они не отступят к крепости, и постараться их отрезать.
И вот наступило 6 декабря. В семь часов утра русские колонны пошли к крепости. Каждая из них действовала на пределе храбрости. Не отставала и третья.
Люди генерал-майора Волконского бегом достигнув рва ретраншемента, ни минуты не мешкали, а тут же начали спускаться в ров. Подполковник Морков, идя во главе колонны, лично прислонил к валу первую лестницу и первым взошел на укрепление. Лифляндские егеря следовали по пятам за своим начальником.
Турки ударили в ятаганы, и широкое лезвие османа скрестилось с молнией русского штыка. Егеря оттеснили противника. Волконский бросился с подкреплением на помощь к подполковнику, дабы одним мощным нажимом выбить турок, но был сражен пулей. Отнюдь не случайно, ибо значительно усилившиеся османы пошли, в свою очередь, вперед и начали вытеснять морковцев из ретраншемента.
Тогда сменивший Волконского полковник Юргенс, построив херсонцев развернутым фронтом перед неприятельским укреплением, повел тотальный огонь, заставивший осман сойти с вала.
Русские вновь вошли в ретраншемент, и егеря Моркова во главе с командиром вновь ударили в штыки. На этот раз – до полной победы. Счастливцы из числа защитников успели убежать, остальные легли тут же. Морков же впереди колонны бросился к стамбульским воротам Очакова, куда прямо перед ним вошла и вторая колонна…
Турецкой твердыни более не существовало – все русские отряды поработали на славу. Отныне здесь находилась лишь русская крепость Очаков.
Награды вполне соответствовали подвигам. Не был забыт и Ираклий Морков – теперь уже полковник и кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени, отмеченный кроме этого и золотой шпагой.
Измаил сделал Моркова помимо кавалериста Св. Георгия 3-й степени и бригадиром. Окончание же войны – генерал-майором, ибо именно ему была доверена почетная обязанность привезти в Петербург известие о Ясском мире.
В этом же 1792 году, когда он стал генералом, Морков был отмечен еще раз – на его груди засияли звезда и крест кавалера ордена Св. Георгия 2-й степени, награды чрезвычайно редкой для генерал-майора. Но Морков ее заслужил: во главе восьмитысячного отряда он у польского местечка Зелинцы сумел, сражаясь на два фронта с превосходящими силами Костюшки, принудить неприятеля к отступлению, удержав позицию за собой.
Пока же врагом России была Порта. И Очаков был взят. Больше в этом году в общем-то ничего сделано не было. Так как в то же время в Молдавии, решая весьма ограниченные задачи, действовала 2-я армия – под командованием Румянцева. Стратегического взаимодействия между армиями налажено не было. Это состояние дел усугублялось тем, что Потемкин зачастую из соображений личного соперничества ограничивал инициативу Румянцева.
Армия Румянцева считалась резервной. Командующий, поставленный в фактическую зависимость от Потемкина и союзного австрийского командования, долго вообще не выезжал к своим войскам и отсиживался в имениях. Прибыв, наконец, в действующую армию, он убедился в своих подозрениях о изначально определенной его армии второстепенной роли.
Военные операции развивались без учета его советов и рекомендаций. Его заставляли действовать по чуждой ему кордонной системе, нежизнеспособность которой он сам неоднократно доказывал делом. Румянцев получал указания от Потемкина, весьма настойчивые советы, переходящие в прямые требования, представителя союзной армии принца Кобурга, многочисленные упреки из Петербурга, где в попрекающих не было недостатка, учитывая отсутствие любви у Екатерины к нему.
Но все же и в этой кампании Румянцев показал образцы маневренных действий. В свои действия он внес существенно новое: в противоположность союзникам, действовавшими растянутыми силами, слабо связанными между собой отрядами, Румянцев в нужный момент быстро сосредотачивал в необходимом направлении все свои войска.
Он поступил так в отношении своего центра после переправы через Днестр, когда австрийцы, не предупредив союзников, оставили Яссы и турецкое наступление оттуда угрожало любому участку армии. Развернув операцию у Бендер, Румянцев, не стягивая своих сил, поставил тем самым противника под опасность флангового удара в случае его прорыва к Хотину или в тыл русских войск. Маневрируя, он сковал турок у Рябой Могилы, – при всякой попытке к наступлению противопоставляя им сосредоточенные силы. Заставив турецкие войска после падения Хотина отступить от Рябой Могилы, Румянцев без потерь добился стратегического успеха, который могло дать выигранное сражение…
В кампании следующего, 1789 года Потемкин наметил для своих главных сил основную цель – овладение крепостями Бендеры и Аккерман на Днестре. Корпус Репнина должен был прикрывать действие главных сил со стороны Дуная. Дивизия Суворова – около 10 тысяч человек – была выдвинута в район Бырлада на стык с австрийскими войсками, которые занимали растянутое кордоном расположение от Адриатического моря до реки Серет. На стыке с русскими войсками находился корпус принца Кобургского численностью около 18 тысяч.
Турки воспользовались инициативой боевых действий, которая была им предоставлена. Их первая попытка прорваться на стыке расположения союзных армий была встречена контрударом Суворова и Кобурга при Фокшанах 21 июля 1789 года и закончилась крупным поражением турок.
11 сентября у реки Рымна Суворов во взаимодействии с Кобургом разгромил 90-тысячную армию великого визиря, имея под своим началом около 24 тысяч человек, из которых только 7042 человека были русскими, остальные же – части принца Кобурга.
Победа при Рымнике – крупнейшая после Кагула победа над турецкой армией в полевом сражении за время обеих войн с Османской империей второй половины XVIII века, могущая иметь стратегическое значение, – осталась неиспользованной. Потемкин после Рымника не начал общего наступления, обещавшего быстрое окончание войны; турки получили возможность оправиться, и война затянулась еще более чем на полтора года.
Следующая кампания – 1790 года – началась при весьма неблагоприятной для России внешнеполитической обстановке. Шла война со Швецией, сложилась угроза нападения Пруссии, Англия занимала крайне враждебную России позицию. В связи с этим пришлось оттянуть значительную часть русских сил с Дунайского театра военных действий, перейдя здесь к обороне. Турки, в свою очередь, держались также оборонительно, рассредоточив войска полевой армии по дунайским крепостям. Австрийцы, действовавшие в начале кампании крайне неохотно, в июле под давлением Пруссии вообще прекратили военные действия, а в сентябре заключили с Портой перемирие и начали вести мирные переговоры. Однако в августе 1790 года между Россией и Швецией был заключен выгодный русским мир, обнаружился и некоторый позитивный элемент во взаимоотношениях с Пруссией.
Все это, вместе взятое, дало возможность русскому командованию начать в конце сентября активные военные действия.
А 11 декабря Суворов взял считавшуюся неприступной крепость Измаил, что и решило фактически исход войны…
– Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил! – так ответил один из измаильских пашей, приближенный коменданта крепости сераскира Мегмет Айдозле, выражая волю своего господина. Ответил русскому офицеру, привезшему от Суворова предложение о сдаче.
Офицер в точности запомнил ответ и передал его по начальству – отсюда и пошло данное выражение гулять по подлунному миру в качестве яркого примера тщетности достижения невыполнимого и – одновременно – как свидетельство опасности переоценки собственных своих сил.
Паша не подозревал, насколько глубоки и в то же время уязвимы его слова. Но вскоре узнал. В числе первых, кто объяснил сие желающим слушать, был секунд-майор Леонтий Яковлевич Неклюдов.
Точная дата рождения ярославского дворянина Неклюдова не известна – где-то между 30—40-ми годами XVIII столетия. Наверняка знают лишь то, что уже 1 марта 1766 года он поступил в службу капралом в Азовский пехотный полк, а позднее – при создании егерских частей – в 1-й егерский батальон подполковника Фабрициана.
К тому времени Неклюдов – уже унтер-офицер. Новый, 1770 год для него начался удачно, – прямо 1 января его за боевые отличия производят в прапорщики. Но и еще несколько следующих лет он, будучи уже офицером, живет одной жизнью с солдатами, ничем не отличаясь от них – продолжает делить с ними артельную пищу и спать на соломе.
В «румянцевскую» русско-турецкую войну Неклюдов дерется с противником при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле, участвует во взятии Измаила, Калии, Браилова, Журжи, сражается при Козлуджи – уже в чине ротмистра. Словом, во всех основных событиях войны он – непременный участник. Потом был Крым.
С началом следующей войны с Портой – «потемкинской» – он снова на театре военных действий. Начальство и служба бросали его с одного места на другое. И в 1790 году секунд-майор Неклюдов оказался под Измаилом – немного раньше, чем туда прибыл Суворов.
Крепость Измаил нынче уже была не та, что брал Неклюдов: ее укрепили. Теперь это было сооружение, построенное по последнему слову европейской военной мысли французскими инженерами: прямоугольный треугольник, вписанный в окружность длиною десять верст и гипотенузой, обращенной к величественному голубому Дунаю. Катеты треугольника образовывали шестиверстный главный вал вышиною от трех до четырех сажен, перед которым был еще дополнительно вырыт широкий и глубокий ров. Крепость защищал тридцатипятитысячный гарнизон, подкрепленный 250 орудиями.
Долгая осада Измаила ничего не дала русской армии. И тогда Потемкин назначил начальником над всеми войсками, расположенными в ближайшей округе, генерал-аншефа Суворова.
Появление Суворова означало лишь одно – штурм. Начались подготовительные работы: изготовлялись лестницы и фашины, возводились дополнительные батареи против крепости, солдаты тренировались преодолевать рвы и валы.
Суворов лично экзаменовал войска, готовил их в дело.
Как-то раз идя вдоль строя Екатеринославского полка, он вдруг споткнулся взглядом:
– Леонтий? Неклюдов?
– Так точно, ваше превосходительство!
– А как же гусарство твое? Неужто уже закончилось?
– Закончилось, ваше превосходительство! Пешком-то привычнее, да и бежать от противника несподручно – быстро устаешь!
– А гнать оного?
– Ну, сие не сложно. Привычка – вторая натура!
– Хорошо сказал! Помню тебя при Козлуджи – четырех спагов ублажил.
– Было дело.
– Памятен и по Крыму ты мне: в Балаклаве это ведь ты, не сходя с коня, оплыл большой корабль неприятельский? Русскому гусару не страшны ни морская глубина, ни крепостные высоты!
Полк слушал затаив дыхание. Собственно, Суворов и разговаривал сейчас со всем полком сразу, ибо мужество одного должно стать достоянием всех. Пример – дело доброе. И полководец должен знать своих храбрецов.
– Пусть офицер сей будет для вас примером! – Равняйтесь на него! – закончил Суворов резко и почти побежал далее вдоль неподвижно стоящих шеренг ветеранов… Взятие дунайской твердыни свершилось, как и было уже отмечено, 11 декабря 1790 года, а за день до этого Суворов отдал приказ, отозвавшийся в сердце каждого:
– Храбрые воины! Приведите себе в сей день на память все наши победы и докажите, что никто не может противиться силе оружия российского. Нам надлежит не сражение, которое бы в воле нашей состояло отложить, но непременное взятие места знаменитого, которое решит судьбу кампании, и которое почитают гордые турки неприступным. Два раза осаждала Измаил русская армия и два раза отступала; нам остается, в третий раз, или победить, или умереть со славой.
Этот приказ, затаив дыхание, слушала вся армия, все девять колонн, на которые их разделила воля командующего. Шесть колонн, ведущие атаку с сухого пути, и три колонны, которые произведут высадку на судах, со стороны Дуная.
Перед самым штурмом русский командующий послал Айдозле последнее предупреждение-записку: «Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление – воля; первый мой выстрел – уже неволя; штурм – смерть. Что оставляю на ваше рассмотрение». В ответ ему сказали о себе, Дунае и аллахе. «Значит – пора», – решил он.
На рассвете 10 декабря шестьсот русских орудий открыли по Измаилу огонь. А 11-го пять колонн – три с запада под командой генерал-поручика Павла Потемкина, две с востока под началом генерал-поручика Александра Самойлова – плюс с юга десант флотилии генерал-майора де Рибаса пошли на приступ.
Крепость была готова к сему – ночью к османам бежало несколько казаков.
Полковник Морков был командиром как раз одной из этих трех десантных колонн, а именно – третьей, в составе которой находились 800 днепровских приморских гренадер, батальон Бугского и два Батальона белорусского егерского корпусов, а также тысяча казаков.
Позднее в реляции Екатерине II о взятии Измаила Потемкин скажет о Моркове, повторяя слова донесения Суворова: «В сем случае начальник 3-й колонны изъявил новые опыты мужества, искусства и храбрости, примером его подчиненным служившие. Л. гв. секунд-майор Морков с начала устроения на острове Сетала батарей, командовал оными и во время беспрестанной почти канонады ни на малое время не отходил. Побуждаемый беспримерной ревностью к службе, он сам наводил пушки и не токмо наносил неприятелю великий вред в городе, но и множество потопил судов: во время же приступа, при высадке на берег войска и завладении неприятельскими батареями, учреждения его явили самого храброго и непобедимого офицера».
Суворов знал, что говорил: он следил за своими офицерами, видя в них сегодняшних защитников и завтрашнюю надежду России…
Колонны двигались в полном молчании, раздвигая собой плотное марево тумана. До крепости оставалось не более трехсот шагов, когда ее стены как будто взорвались – все 250 турецких орудий открыли огонь на поражение.
Штурм Измаила начался в половине седьмого утра. Тогда же три десантные колонны под общим командованием генерал-майора Рибаса, прорываясь через губительный огонь береговых батарей турок, ринулись к крепости, где суда первой линии высадили десант.
Морков действовал на левом фланге десантной линии, и вместе с колоннами генерал-майора Арсеньева и бригадира Чепеги одновременно – в едином порыве – ринулся на береговые укрепления осман, отбив их в жаркой молниеносной штыковой.
Первой подошла к стенам вторая колонна правого крыла под командой генерал-майора Ласси. При начавшейся страшной канонаде сердца солдат невольно дрогнули: они упали на землю и бросили лестницы. Неклюдов, назначенный находиться со своими стрелками впереди этой колонны, увидев, что войска колеблются, обратился к генералу:
– Ваше превосходительство! Позвольте мне начинать!
– С богом! – ответствовал тот.
Тогда, обращаясь к своим стрелкам, секунд-майор закричал:
– Ребята! Вперед! За мной! Смотрите на меня: где буду я, там и вы будьте! Вместе разделим славу и честь или вместе положим головы свои за веру и императрицу Екатерину! Она мать наша, мы – ее дети! Ура! С нами бог!
Бросившись в глубокий ров, он начал забираться на вал без лестницы, с помощью одних штыков. Солдаты, устыдившись, теперь торопились догнать и перегнать своего командира, забывая об опасности.
Мгновенно, – как будет потом записано в его формуляре, – Неклюдов взошел на бастион. За ним взлетели остальные.
Неклюдовские егеря отбили неприятеля от пушек и овладели батареей. В этом скоротечном бою Неклюдов был ранен пулей в правую руку, близ плеча навылет; в левую ногу он получил два пулевых ранения, и в левое же колено его ударили кинжалом – таково было напряжение боя. Но не раны сейчас занимали его.
Желая ободрить колонну, Неклюдов приказал своим стрелкам подползти под пушки и выстрелить в промежутки батарей.
Последние его егеря спешили влезть на вал из девятисаженного рва – на помощь своим отчаянно и самоотреченно сражающимся товарищам. Значительное число этой отборной пехоты было ранено и убито – первые приступы таких крепостей всегда покупаются большой кровью, но с горстью оставшихся Неклюдов, не имея даже нескольких секунд для перевязки и все более и более слабея от потери крови, продолжал бой на верху бастиона.
Тут его снова ранили – пикой в грудь, ударив несколько раз. Казалось, что все османы ополчились на него одного. На этот раз он упал замертво.
Но уже вся вторая колонна егерей взошла на отнятую батарею и двинулась по крутизне к третьей. Израненного и полуживого Неклюдова – когда его подняли, то оказалось, что он плавает в собственной крови – солдаты на ружьях вынесли из боя. Капли его крови пятнали дорогу, но он еще, очнувшись, находил в себе силы ободрять своих также израненных санитаров.
Перевязывать раненых было некогда, и Неклюдов, вновь теряя сознание от слабости, уже не слышал русского «ура!», олицетворявшего всегдашнюю победу, внутри Измаила.
Спустя три четверти часа после начала штурма вся крепостная ограда – и со стороны реки, и со всех остальных – была в руках русских. Но надлежало брать еще саму крепость, что после короткой передышки и сделали солдаты Суворова, в буквальном смысле прокладывая себе путь штыками, беря каждый шаг с боем и шагая по трупам – своих павших товарищей и неприятельским.
Никто уже не обращал внимания ни на свои, ни на чужие раны.
Казалось, что всякое чувство отлетело от людей, кроме одного – жажды боя, когда легче умереть, нежели потерпеть поражение. Так думали и русские, и турки, но в битве двоих один должен быть побежденным, и османы с каждой секундой все более явственно понимали, кто будет этот проигравший.
Русские солдаты шли вперед, и уже никто и ничто не могло их удержать. Бились в строю и без строя. Каждый знал врага и не нуждался в подсказке командиров. Как не нуждался и в их примере. Но офицеры тоже служили России и, не на словах зная, что такое честь, дрались впереди своих подчиненных.
Именно в эти мгновения и был ранен полковник Морков. Ранен тяжело, но, к счастью, не смертельно. Лучшим же лекарством ему послужило взятие крепости и Св. Георгий 3-го класса. Так было отмечено его участие в сем знаменитом деле.
Лучшее в мире войско взяло лучшую в мире крепость. Можно верить главнокомандующему Потемкину, отписавшему императрице: «Мужество, твердость и храбрость всех войск, в сем деле подвизавшихся, оказались в полном совершенстве. Нигде более не могло ознамениться присутствие духа начальников, расторопность штаб– и обер-офицеров. Послушание, устройство и храбрость солдат, когда при всем сильном укреплении Измаила, с многочисленным войском, при жестоком защищении, продолжавшемся 6 1/2 часов, везде неприятель поражен был, и везде сохранен совершенный порядок».
Бой длился около семи часов. Из турок почти никто не уцелел. Комендант Мегмет Айдозле, дравшийся до самого конца, умер на штыках, получив шестнадцать ран.
Страшные потери понесли и русские штурмовые колонны – четыре тысячи убитых, шесть – раненых; из 650 офицеров в строю оставалось не более 250.
Падение Измаила повергло в шок турок и всю Европу. Строились различные планы, проигрывались многовариантные комбинации…
А в крепости жизнь шла своим чередом: армия отходила от сражения. Солдаты, подпоясавшись трофейными знаменами, ходили, гордо на всех поглядывая. Из холодных лагерных палаток в крепостную больницу перенесли раненых. Почти что первым делом Суворов посетил этих героев и, увидя среди них и Неклюдова, обрадованно вскричал:
– Храбрый, неустрашимый Неклюдов! Ура! Ура!
Свита командующего сочувственно молчала, видя состояние секунд-майора.
Да, поводов для сочувствия было достаточно – Неклюдов долго балансировал между жизнью и смертью. Так долго, что до жены его дошли слухи о подвиге мужа и его мучительной смерти от полученных ран. И жена занемогла. И надо же так случиться – вскоре, опровергая все домыслы, к ней приехал сам Неклюдов, еще слабый от ран, но живой.
Говорят, от радости не умирают. Бывает, однако, что и умирают: жена, увидя мужа живым, не вынесла потрясения и сгорела в одночасье, оставив на руках мужа дочерей.
Вскоре умер и Потемкин, всегда примечавший Неклюдова. И о секунд-майоре казалось сразу же и напрочь забыли. Но так только казалось – нашлись люди, помнившие об Измаиле. Они и устроили в феврале 1792 года ему встречу с Екатериной II. Императрица обратила внимание, что правая рука у Неклюдова на перевязи:
– Измаил? – спросила.
– Да, матушка. Он.
– До сих пор?
– Так ведь и досталось крепенько…
Неклюдов был произведен в подполковники и награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
Когда заготавливали грамоту на чин, то Екатерина спросила:
– А, кстати, на какой лошади он более всего ездил в продолжение кавалерийской своей службы?
– На белой, ваше величество.
И на первом листе грамоты Неклюдов был изображен на белом коне в мундире гусарского подполковника.
Он прожил еще многие годы. Многое было в его судьбе – его оклеветывали и увольняли со службы, а, разобравшись, принимали снова. Потом уже с почестями и почетом провожали в отставку – «за старостью лет». Но он, не мыслящий себя вне державных трудов, вновь просился в дело.
Закончил он свой жизненный путь в 1838 году в Москве в чине генерал-майора, служа по кавалерии…
Одновременно с успехом Суворова русский флотоводец Ушаков в сражениях при Фидониси (июль 1788 г.), Тендре (август 1790 г.) и Калиакрии (июль 1791 г.) разгромил турецкий флот.
А далеко от Измаила Гудович взял Анапу…
– Эх, насколько на воле хорошо, настолько в тюрьме плохо! – философически думал подполковник Иван Васильевич Гудович, адъютант еще недавно не совсем последнего человека в Российской империи – принца Голштинского. Теперь – ни адъютантства, ни персоны сей значительной нет. В смысле ценности ее. Ибо шел в России год 1762-й. Только что произошла вещь доселе непривычная: жена отобрала трон у мужа. Начиналась эпоха Екатерины II.
Выпускник Кенигсбергского и Лейпцигского университетов тридцатиоднолетний подполковник не долго просидел в узилище – всего лишь три недели. Его отпустили за ненадобностью, а на следующий год он даже был назначен командиром Астраханского пехотного полка, такова была первая ступень его столь громкой позднее воинской славы.
С началом первой в царствовании Екатерины II русско-турецкой войны Гудович – в самом ее пекле. Он отличится еще под Хотином в июле 1769 года. Затем победа в Рачевском лесу, сделавшая его бригадиром.
Ларга – славнейшая страница русского воинства. Немало строк в ней писано и рукой Гудовича. Взятие турецких батарей сделало его кавалером редчайшей награды – ордена Св. Георгия 3-го класса.
Затем был Кагул, Браилов, взятие во главе самостоятельного отряда Бухареста, штурм Журжи.
После войны он – рязанский и тамбовский генерал-губернатор. Но как только началось новое военное противостояние России и Турции – 1787 год – он переводится в действующую армию. Взятия Хаджибея (Одессы) и Килии – на его счету. Гудович производится в генерал-аншефы и назначается начальником Кавказской линии и командующим Кубанским корпусом. Ну, вот мы и добрались уже почти до Анапы…
Шел уже четвертый год войны, и Россия твердо решила не затягивать ее более: человек живет на земле не для того, чтобы разрушать и убивать, а строить и приумножать. Конечно, история знала отдельные народы, с гордостью отбрасывавшие эту примитивную мудрость и видевшие единственную цель жизни в тешении воинских своих амбиций. Но русские были не из их числа. Словом, нужны были победы и победы – дабы Блистательная Порта, устрашась, пошла на заключение мира. Причем победы такие, чтобы запомнились туркам накрепко, хоть те и отличались в подобных случаях девичьей памятью.
Каждый военачальник должен был действовать на своем месте: кто на суше, кто на море, кто в Европе, кто дома. Гудовичу выпала Анапа.
4 мая 1791 года его отряд, состоящий из 15 батальонов пехоты, 44 эскадронов кавалерии и трех тысяч казаков, имея при себе 36 полевых орудий, выступил к крепости. Кроме того для усиления Гудовича из Крыма в Тамань был выслан и отряд генерал-майора Шица, насчитывающий 4 пехотных батальона 10 кавалерийских эскадронов и 400 казаков при 16 орудиях. В движении отряды соединились под общим командованием генерал-аншефа Гудовича и, спокойно и достойно преодолев трудности похода по безводным местностям, палящую жару, летучие нападения кавалерии противника, дошл, наконец, до Анапы. И остановились верстах в пяти от нее – на высотах, дыбившихся двумя отдельными горбами по обе стороны речки Бугура.
На левом фланге Гудовича на дальних высотах явственно просматривалась многочисленная вражеская конница, недвусмысленно показывающая всем своим видом, что удар во фланг и тыл штурмующим Анапу русским – если те, паче чаяния, все же решатся на сей штурм – не заставят себя ждать. Поэтому генерал-аншефу пришлось раздробить и так не особенно уж значительные свои силы и выделить на прикрытие фланга отряд генерал-майора Загряжского.
После достижения подобной минимальной безопасности можно было и осмотреться. Что и было проделано со всевозможным тщанием. Осмотр дал необходимое – уверенность в том, что крепость отнюдь не неприступна, и знание, как оную взять.
Анапа лежала на мысе, глубоко врезавшемся в жидкую переменчивую плоть Черного моря. Высоты, сбегающие к воде, на которых, собственно, и располагалась крепость, образовывали здесь плоскую возвышенность, резко низвергающуюся к берегу моря, которое омывало укрепление с юга, запада и севера. Таким образом, для штурма оставалась одна сторона света – восточная – предохранявшаяся, в свою очередь, рукотворными преградами: земляным валом и довольно-таки глубоким рвом, частично выложенным крупными камнями. Четыре бастиона на валу давали возможность вести продольную оборону. Словом, для русских Анапа казалась давно уже привычной. Вроде бы и трудно, но коли надо взять – не устоит.
Помня о недружественной кавалерии на своем левом фланге, Гудович перед штурмом оставил обоз в вагенбурге, назначив и для его охраны Загряжского. Наряду с общим тылом. Затем оставшиеся силы были построены в четыре колонны и пошли к крепости. Левый фланг их боевых порядков смыкался с берегом моря, что на правой оконечности крепостного вала.
Именно на правой половине вала русский командующий решил наносить основной удар – укрепления здесь имели меньший профиль, следовательно, слабее. Для этого предназначались две колонны генерал-майора Булгакова. Две соседние колонны, должные атаковать центр турецкой позиции, вел генерал-майор Депрерадович. Последняя, пятая колонна, генерал-майора Шица, состоящая из его людей и отряда пеших казаков, должна была атаковать левую оконечность анапского вала. Через море, которое тут было мелко. Шицу предписывалось по воде обогнуть вал и вступить в него с тылу. Связь русских флангов обеспечивал резерв бригадира Поликарпова.
Стало известно, что к Анапе на всех парусах из устья Дуная спешат 32 судна флотилии Сор-паши, и Гудович решил штурмовать крепость немедленно. И 19 июня общий приступ к крепости начался.
Четыре русские батареи обрушили на укрепления неприятеля огненную лаву. Канонада, казалось, будет всегда. Уже ближе к ночи 20-го не выдержал даже город – здесь начались пожары, и яркое их зарево отражалось в белой пене прибоя и в размытом мутном серебре наплывающих волн. Горело до утра, горело еще и тогда, когда русский главнокомандующий, уловив чутким ухом военного неуверенность в ответах турецкой артиллерии, послал в крепость парламентера с требованием немедленной капитуляции.
Парламентера на полпути к укреплениям с постом встретили два турецких офицера. Кланяясь, они взяли пакет и обещали дать немедленный ответ. И, действительно, ответ последовал тут же: два крепостных орудия повели огонь по стоящему на открытом месте русскому. Итак, штурм!
Весь следующий день прошел теперь уже в непосредственных его приготовлениях. За несколько минут до полуночи все русские батареи, подведенные по приказу командующего поближе к валу, открыли убийственный артогонь – желали, так сказать, доброго утра и гарантировали, что будет оно действительно добрым.
Одновременно с залпами пошли вперед пехотные колонны, подошли к укреплению почти вплотную, замерли. А за полчаса до рассвета так же молча начали штурм. Очнувшиеся турки ответили картечью. Но ответ запоздал – пехота Гудовича была уже у самого рва.
Самая левая колонна, возглавляемая полковником Чемодановым, спустилась в ров и овладела правым бастионом крепости. Успеху солдат способствовали действия самого полковника – Чемоданов шел впереди всех и получил при штурме три почетные раны.
Шедшая немного правее его, колонна полковника Муханова также выполнила поставленную перед ней задачу, взяв на штык османскую батарею.
Муханов также был ранен – как и начальник третьей колонны полковник Келлер, и сменивший Келлера премьер-майор Веревкин. А вот возглавлявший четвертую колонну полковник Самарин, первым взошедший изо всех атакующих на вал, остался невредим: боги покровительствуют храбрецам!
Следя за успехом наступления, растроганный и счастливый Гудович видел, что вся правая половина вала – до подъемного моста у ворот – уже в руках его пехоты. Но увидел он и другое: вся толпа противника, замкнутая каменным периметром крепости и насчитывающая до 25 тысяч человек, вдруг – хотя и запоздало – пришла в движение и почти как один начала захлестывать уже отобранный вал изнутри – как кислое тесто из квашни, расширяемое саморождающимся от собственной массы хмелем.
Командующий бросил в горнило схватки все частные резервы. И свежая кровь сыграла свою благодетельную роль: вспышка осман захлебнулась, и они покатились назад, окончательно и бесповоротно потеряв вал, покатились к морю, вытряхиваемые по пути их изо всех крепостных строений.
Одновременно с успехами левого фланга выпала возможность отличиться и Загряжскому, ибо в те самые мгновения, когда четыре храбрых полковника оседлали вал, он добивал конный отряд неприятеля, насчитывающий восемь тысяч сабель, и на основании этого самонадеянно решивший, что он смеет штурмовать вагенбург и угрожать русскому тылу.
Первый задор конной лавы противника погасили гребенские и семейные казаки. За ними свое веское слово сказала пехота, пошедшая под началом бригадира Щербатова вперед ускоренным шагом – подкрепить лихую атаку таганрогских драгун, в песи и хузары рубивших еще не знавших до конца тяжесть русской руки супротивников. Наконец, те осознали ее благодетельную мощь и раз и навсегда рассеялись по чисту полю.
А в крепости бой все продолжался: колонна Шица, по приказу Гудовича, вступила в Анапу все же через мост – в подкрепление первых четырех колонн, дабы дополнительным нажимом способствовать быстрейшему выжиманию противника. До этого этим же уже занялись 400 мушкетеров и 3 эскадрона спешенных кавалеристов, помогших самаринцам спустить подъемный мост.
Люди Шица, действительно, серьезно потеснили еще цеплявшихся за ряд домов осман. Прибытие же резерва последних ста егерей и вовсе разрядило атмосферу: действующего противника более не осталось.
Остались лишь мертвые, павшие в бою, да уходили в небытие попытавшиеся избежать судьбы в воде и теперь тонувшие. Остались пленные – числом более восьми тысяч; пушки – около ста, да знамена – более сотни с четвертью. Да осталась Анапа, русский город. Отныне и до века.
Должно заметить также, что вся сила русского войска в этом сражении исчислялась семью тысячами. Так они и бились – один с четверыми.
Но стратегическое использование этих сильнейших ударов по Оттоманской Порте оказалось неполным. Потемкин из-за позднего времени года решил не продолжать наступательные действия и расположить войска на зимние квартиры. Понадобилось еще полгода продолжающейся войны, пока Турция не признала ее проигранной и заключила в Яссах выгодный для России мир. Понадобился Мачин, совершенный Репниным…
Князя Николая Васильевича Репнина не определить единым словом – как и многих других его века. Он и дипломат, и государственный деятель, и полководец – один из наиболее общеизвестных. Пока лишь – для своего времени.
Он родился в 1734 году и, не достигнув еще 15 лет, принял участие в первом в своей жизни военном походе – Рейнском.
Участник Семилетней войны, во время которой он становится генералом. Затем – посол, полномочный министр в Речи Посполитой.
С началом Русско-турецкой войны 1768–1774 годов Репнин переходит в действующую армию, и в легендарной кампании армии Румянцева 1770 года он – командир передового корпуса. За Ларгу он за «пример мужества, служивший подчиненным к преодолению трудностей, и нестрашимости и одержанию победы» получили Св. Георгия 2-й степени. А в следующую войну с Блистательной Портой – войну 1787–1791 годов – он был пожалован высшим воинским орденом России – Георгием 1-й степени.
В 1791 году главнокомандующий русской армией князь Г.А. Потемкин отбыл по неотложным делам в Петербург. Его заменил на этом посту Репнин. Он решил действовать вопреки инструкции – активно: в конце марта посланные им за Дунай отряды Голицына и Кутузова захватили временно Мачин и совершили удачный налет на Браилов. Результат – турки потеряли до 4 тысяч воинов и 29 пушек. 5 июня отряд Кутузова близ Бабадага лишил султана еще полутора тысяч бойцов.
Вскоре – 17 июня – главнокомандующему стало известно, что визирь концентрирует свои войска у уже многострадального Мачина. Там уже находилось более 30 тысяч, и туда же сам визирь вел свои силы – порядка 80—100 тысяч человек. Репнин решил нанести упреждающий удар и бросил вперед свою армию. Заблаговременно сосредоточенную у Галаца.
Было 27 июня. За ночь Репнин намеревался пройти более тридцати верст, и с рассветом – упасть на противника. Он намеревался решить дело ударом в правый – наиболее открытый – фланг турок. Но делая вид, что атакует в лоб. И поэтому почти поровну разделил свои силы: у князя Голицына, коий будет производить фронтальную атаку, – 12 батальонов, 24 орудия, 3 карабинерных и 3 казачьих полка; у Кутузова, бьющего осман в правую скулу – 12 батальонов пехоты, те же 24 орудия. 4 кавалерийских полка и 6 казачьих и арнаутских. Существовала и третья сила главнокомандующего, его третья рука – 3-й корпус князя Волконского (10 батальонов, 16 орудий, 2 кавполка и 800 казаков), которому предназначалось служить связью между корпусами Голицына и Кутузова и способствовать последнему в его обходе.
В полночь подошли к речке Чичули, а с рассветом начали переправу: первыми Кутузов, сразу ушедший влево, и Голицын, которому сейчас предстояло принять на себя первый удар обнаруженных русских противника.
Удар не заставил себя ждать – конная лава хлынула почти до самых пяти каре Голицына, но была в основном отбита ружейным и картечным огнем, а самые настойчивые – переколоты штыками. Тут подоспела и конница Волконского, сразу же включившаяся в преследование отступающих турок, а вскоре к Голицыну подошла и пехота 3-го корпуса.
Голицын и занявший от него левее позицию Волконский открыли ожесточенную артиллерийскую пальбу по неприятельскому фронту.
Кутузов тем временем штурмовал его правый фланг. Здесь турки, оседлав крутые скаты господствующих высот и пользуясь удаленностью русского корпуса от основных сил, принудили Кутузова брать с боя каждый шаг, что и было сделано: по приказу командира корпуса вперед пошли 1-й и 4-й батальоны егерского корпуса. Их повел генерал-квартирмейстер Пистор, правая рука Кутузова. Они должны были оттеснить с высот осман и тем самым обезопасить вступление на их гребень основных сил.
Егеря выполнили приказ: взобравшись под огнем почти по отвесной стене, они штыковым ударом вымели турок оттуда, и те, поспешно отступив, очистили на полторы-две версты открытую поляну, составлявшую вершину высот.
Здесь и построились в пять каре все силы отдельного корпуса: три впереди, два – во второй линии, кавалерия вся – на левом фланге второй линии, поскольку справа его прикрывали крутые скаты высот. Сразу по построении Кутузов двинул свой отряд вперед.
Предполагая, что удар будет нанесен в его левый фланг, – уж больно удобная для кавалерийских атак поляна открывалась перед наступающим каре – Кутузов переменил фронт: повернув налево, корпус расположился в одну линию каре лицом к действительно пошедшей в массированную атаку турецкой коннице. Атака была отбита, но турки вновь пошли вперед, и снова откатились.
Бой велся с крайним ожесточением. Несколько раз, казалось, Кутузов будет опрокинут, но каждый раз подходили конные отряды Волконского – Репнин зорко следил за боем и в нужный момент не медлил с подкреплением. Особенно помогли Харьковский конноегерский и Северский карабинерский полки, которые с господствующих высот ударом в левый фланг на наступающую на Кутузова конницу несколько раз гасили ее наступательный задор.
Турки очень хотели отрезать левофланговый русский корпус от центра боевого порядка – корпуса Волконского, – но тот по приказу Репнина, немного выдвинувшись, закрыл промежуток между 1-м и 2-м корпусами и построил свою пехоту в две линии каре.
После чего выслал в помощь Кутузову гренадерские полки: из первой линии – свято-николаевский полковник князя Гагарина, и из второй линии каре – малороссийский полковник графа Разумовского и московский подполковник Фюрштера.
Гренадеры, быстро двинувшись, тем же мигом дошли до крутых скатов высот, отделявших их от Кутузова, отсюда открыли пушечную и ружейную навесную стрельбу, молниеносно выкашивавшую толпу турок, скопившуюся на верхнем плато до и после очередной безуспешной атаки. Противник начал суетливо елозить по плато, надеясь выйти из зоны губительного огня, но гренадеры не ленились передвигаться параллельно с ним.
Неприятель было решил временно переключить свое горячее внимание с корпуса Кутузова на 3-й корпус, но правое каре первой линии Волконского, состоящее из Екатеринославского гренадерского полка полковника Булгакова, разнесло эту идею в пух и прах. Этому помогла и меткая стрельба левого каре первой линии премьер-майора Гана.
Одновременно со столь неудачной атакой на центр русских позиций османы повели штурм и против корпуса Голицына. Столь частым наступлением, отбиваемым со столь значительными для турок уроном, Репнин был обязан тому, что неприятельские войска подходили по частям, и так же – по частям – посылались вперед под русские пули, ядра, штыки. И Репнин молил Бога, чтобы атаки эти не прекращались, дабы мог он перемолоть – не зараз, не зараз! – всю турецкую силу, одолеть которую вкупе будет ему очень тяжело, но говорят, что всевышний, желая наказать человеческое существо, первым делом лишает его разума, и Репнину, глядящему сквозь пороховой дым и почти полуденное уже марево на беспрерывно-беспомощные наскоки осман, даже стало жалко их – что не повезло им с командирами и это оборачивалось сейчас почти что уже бойней.
Да, Голицын, естественно, отбил эту лихорадочно-обреченную атаку, и сам – в свою очередь – пошел вперед. Пехота, принимавшая на себя основные удары, особенно не торопилась, а вот кавалерия преследовала противника до самого лагеря, потом – в лагере, потом – в округе. Отступающего легче поражать: спина – не защита, и были среди турок после этого многие жертвы.
В те же минуты подался и корпус Волконского, а Кутузов спустился со своих высот.
Тем временем, когда, казалось, все помыслы прикованы к небольшому, по сути, пространству, охваченному боем, турки все же нашли время замыслить и попытаться исполнить удар в тыл Репнину: из Браилова переправился пехотный отряд на полуостров Купцефан, а на судах одновременно с этим готовился десант. Но русский командующий, предвидя это, оставил отряд генерал-майора Шпета против островов ниже Мачина у пролива Катрофети.
И теперь турецким судам не оставалось ничего иного, как вместо тишины внезапного удара, открыть пальбу по отряду Шпета, который, в свою очередь, решил не отмалчиваться, а повел ответный огонь двумя выставленными на берег батареями полевых орудий. Батареи действовали губительно-успешно – и турецкие суда, направлявшиеся с десантом к берегу, вынуждены были поспешно ретироваться. Но маневр сей не для всех кончился благополучно – два из них взорвались, а три были потоплены.
В дополнение к отряду Шпета Репнин направил туда из корпуса Голицына Апшеронский и Смоленский пехотные, Черниговский и Стародубецкий карабинерные полки во главе с бригадиром Поливановым, а из корпуса Волконского – Московский гренадерский полк.
Это-то подкрепление и занялось судами десанта, распуганными Шпетом: турки надеялись пристать где-либо в другом месте, но везде натыкались на Поливанова и московских гренадер. Наконец, суда были окончательно прогнаны, и все высланные Шпету подкреплния стянулись к нему – отряд из Браилова предпринимал атаку в тыл русским.
В этом отряде было до полутора тысяч отборных янычар. Они камышами пробрались к Шпету и пошли вперед в момент самого разгара боя на Мачинских высотах. Но тут командиры янычар увидели фатально быстро приближающиеся три русских пехотных полка подкрепления и, раздумав атаковать, поспешили увести своих людей – опять-таки сквозь камыш – к судам. Но опоздали: Черниговский и Стародубецкий полки втоптали их в землю буквально в течение нескольких мгновений. Случайно уцелевших добили уже в лодках. До спасительных судов никто из янычар не добрался.
Одновременно с разгромом браиловского десанта началась – хотя никто подобного и не планировал, – просто логика боя, логика жизни – общая атака боевой неприятельской позиции при Мачине.
Корпуса князей Голицына и Волконского были построены в каре – в две линии. Кавалерия, как уже не раз сегодня, базировалась на левом фланге. Под барабаны линии двинулись вперед. Корпус Голицына направлялся на мачинские окопы, что составляли левый фланг турецкой позиции, и в молниеносной рукопашной овладел ими. 3-й корпус – князя Волконского – вступил на высоты левее, тем самым заняв неприятельский лагерь, располагавшийся в центре.
Толпы осман, перестав быть войском, сбились на краткое время за этим первым лагерем на дальних высотах, но тут на них вынеслась вся конница Кутузова, разметавшая в предшествующем движении своем всевозможные преграды, возводимые мужеством, доблестью и отчаянием противника.
И тогда началось паническое бегство: османы бежали, бросая во прах, грязь, ружья, пушки и амуницию. Добежав до второго своего лагеря, бывшего позади первого – у мачинского озера – турки задержались лишь на краткий миг – вдохнуть глоток свежего воздуха – и припустились вновь. Сталь русской кавалерии все время щекотала их между лопатками, и напрасно поэтому управлявший боем сераскир руменийский вали Мустафа-паша строгостью и лаской заклинал-приказывал своим подчиненным оказать достойное сопротивление противнику или достойно умереть – его никто не слушал и не слышал. Все бежало к Гиргову.
Навстречу разгромленному войску попался визирь с 20-тысячным отрядом, но и он, видя всеобщее устремление, почел за благо вернуться.
В этом сражении турки потеряли до четырех тысяч убитыми. У них было отнято 34 пушки. Русские потери составили 141 человек убитыми и около 300 ранеными. И это при том, что Репнину противостояло более чем 80-тысячное войско.
Мачин принес генерал-аншефу Репнину военный орден 1-го класса. Эхо этой победы было оглушительным – уже на следующий день в ставку русского командующего прибыли парламентеры. 31 июля прелиминарные артикулы были подписаны, но прибывший буквально на следующий день Потемкин почел их недостаточными – и подписание договора было отложено на некоторое время.
При праздновании мира с турками Репнин жезла фельдмаршала не получил, его лишь, вызвав из подмосковного имения Воронцова, где он жил по окончании войны, направили в Ригу – губернатором. Всему виной была его связь с Новиковым и мартинистами, к которым он также принадлежал.
Потом – как и в предыдущие годы – он губернаторствовал в разных краях и областях.
Восшествие на престол Павла, к которому он был всегда близок, наконец, сделало его фельдмаршалом. Фавор Репнина, однако, длился недолго, и в конце 1798 года он был уволен со службы.
Уйдя в отставку, престарелый фельдмаршал поселился в Москве, где жил, по выражению современника, «Цинциннатом». В Москве же он, прожив не у дел менее трех лет, умер от удара. На нем его род пресекался – его единственный сын умер в детстве…
Современники высоко ценили Репнина – и через месяц после его смерти 12 июля 1801 года новый император Александр I предписал, чтобы родной внук князя Репнина, князь Николай Волконский, принял его фамилию: «Да род князей Репниных, столь славно Отечеству послуживших, с кончиной последнего в оном не угаснет, но, обновясь, пребудет навсегда с именем и примером его»…
К этому времени Румянцева уже не было в войсках. Полное расхождение целей предшествующей кампании сделало невозможным продолжение его совместной деятельности с Потемкиным. Румянцев вынужден был снова уступить. В конце 1790 года он уехал на Украину. Подальше от противника, сделавшего его имя известное всем, поближе к тем местам, где некогда русские полки впервые громко заявили о себе всей Европе, разгромив доселе непобедимых шведов. Которые ныне, вспомнив снова о Полтаве, склонялись к миру с Россией.
Как и Оттоманская Порта, выбитая из этой войны гением Суворова и его боевых соратников. Мирный договор между Российской и Османской империями был подписан в столице Молдавского княжества городе Яссы. Переговоры велись с октября. Русскую делегацию возглавлял вначале Г.А. Потемкин, а затем А.В. Безбородко. Главным условием Ясского мирного договора было восстановление действий Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года и Георгиевского трактата 1783 года. В частности, подтверждались льготы Дунайских княжеств – Валахии и Молдавии, как вассальных владений турецкого султана. Османская империя также признавала переход под власть России Крыма и Прикубанья. Территориальные приобретения России были очень скромными – к ней переходила лишь территория между реками Южный Буг и Днестр. Все остальные земли, завоеванные русской армией, возвращались Турции.
Результатом Ясского договора стало перемещение западной границы Новороссии до реки Днестр. Но главным итогом являлось окончательное закрепление огромных земель Северного Причерноморья в составе Российской империи.
По двум императорским указам от 26 января 1792 года вновь приобретенную Россией территорию между Южным Бугом и Днестром включили в состав Екатеринославской губернии. Ее губернатору В.В. Каховскому было предписано лично осмотреть эти земли и доложить императрице и Сенату: «как о разделении помянутой страны на уезды, так и о назначаемых тамо по способности городах».
Отныне – с конца ХVIII и до начала ХХ века Новороссией стали называть огромные территории на юге Европейской России. В состав Новороссии входили Екатеринославская, Херсонская, Таврическая губернии, 3 южных уезда Бессарабской губернии (Измаильский, Аккерманский и Бендерский), 2 округа Области войска Донского (Таганрогский и Ростовский, до 1887 года – Миусский округ Области войска Донского; Ростовский-на-Дону уезд Екатеринославской губернии и Таганрогское градоначальство той же губернии), земли Черноморского казачьего войска с небольшими дополнениями (западные отделы Кубанской области: Темрюкский, Ейский, Екатеринодарский и Кавказский) и Черноморская губерния (губернский город – Новороссийск).
Новороссия состоялась. Уже навсегда.
Таковы были итоги побед русского оружия..
Тем временем завершался круг военного почета, характерный для эпохи. Эпохи Екатерины. Эпохи Потемкина, который через год после окончания войны с Турцией умрет – внезапно и необъяснимо.
Румянцев, узнав о его смерти, заплакал и произнес:
– Вечная тебе память, князь Григорий Александрович!
И, обращаясь к друзьям – князьям Дашкову и Апраксину, сказал:
– Чему вы удивляетесь? Князь был мне соперником, может быть даже неприятелем, но Россия лишилась великого человека, отечество потеряло сына бессмертного по заслугам своим.
Не любя Потемкина и не считая нужным скрывать это, как и скромную оценку военных дарований, Румянцев – сам истово служа родной стране – уважал за это и светлейшего князя.
Горе Екатерины, узнавшей о смерти Потемкина, было велико.
«При этом известии она лишилась чувств, кровь бросилась ей в голову, и ей принуждены были открыть жилу», – повествует уполномоченный в делах Франции, Женэ.
– Кем заменить такого человека? – повторяла она своему секретарю Храповицкому.
– Я и все мы теперь как улитки, которые боятся высунуть голову из своей скорлупы.
Она писала своему постоянному корреспонденту в Европе Гримму: «Вчера меня ударило, как обухом по голове… Мой ученик, мой друг, можно сказать, идол, князь Потемкин-Таврический скончался… Вот теперь я истинно сама себе помощница. Снова мне надо дрессировать себе людей!..» Она чувствовала увеличивающуюся вокруг нее серость и пустоту. Бюрократический абсолютизм, отягощенный таким долговременным единоличным правлением, которое само по себе способствует выхолащиванию талантов, не особенно часто примечает людей ярких.
Но было еще и нечто иное, почему она не хотела, не могла лишаться людей, подобных Потемкину.
Глава VIII. Столетие безумно и мудро
XVIII век можно по праву назвать веком полководцев. В этом столетии именно полководцы – самые выдающиеся личности, кумиры общества и толпы, яркие синкретические фигуры (зачастую один человек соединял казалось бы малосовместимые вещи – полководческие таланты, королевское достоинство, философские и иные научные изыскания, почти профессиональное занятие различными искусствами), наиболее полно выражающие меру таланта личности и тяготеющие к гениальности. Разгадку подобного феномена следует искать в своеобразии эпохи – недаром же XVIII столетие вошло в историю как «век Просвещения».
До этого – в Киевской Руси особенно, но подобное можно проследить достаточно явственно и в эпоху Руси Московской – безусловными духовными лидерами общества, центрами нравственного притяжения были князья-государи земли. Все они, помимо политических, военных, дипломатических талантов, еще и философы-книжники. Это было непременным условием – не высказываемым, но просто реально существующим – ибо на их плечах держалась тяжесть общественного мироустройства (и чем более ранние периоды истории мы будем брать, тем более доминирующая роль личности, стоящей во главе социума).
Итак, на Руси вплоть до XVII века в центре общественного внимания монарх – средоточие всех дум и чаяний общества. У него нет конкурентов. (Лишь в XIX веке совестью нации, ее кумирами, вождями, представителями становятся писатели, публицисты.) Таким образом со времен Киевской Руси – налицо демократизация общественного идеала (монарх – полководец – писатель), что в общем-то соответствует основному вектору развития общества.
Эту же – или немного отличную в деталях – картину можно наблюдать и в других странах Европы: данная триада смены общественного идеала в Средневековье, далее – в XVIII веке, затем – XIX век прослеживаема. В XVIII веке в Европе – налицо плеяда талантливейших полководцев, тяготеющих к мировоззренческим вопросам, к осмыслению национального духа, выразителями которого они являются и который они постигают теоретически и практически. Именно этому постижению национального духа обязаны они своими великолепными победами.
Итак, два вопроса: что же такое полководец в широком понимании этого слова и почему расцвет данного феномена приходится именно на XVIII век.?
В сущности, полководец – это человек, водящий лучшую – в идеале – часть нации на защиту и во славу своего Отечества, своего народа. Здесь прямая перекличка с культом полководца древности (практически все страны Древнего Востока, Древний Рим, Византия и т. д.), когда именно полководцы становились царями, императорами, владыками – реальная сила и власть была в их руках, помноженная на знание психологии и нужд народа, ибо в силу специфики своей деятельности полководец ближе всего к простому народу, зачастую разделяет с ним все тяготы походов и сражений, победу или смерть. Без наличия всего перечисленного полководец изначально обрекается на поражение и быстро сходит в небытие.
Культ полководца – это культ гения (и не случайно согласно толкованию древних, гений – это и человек, но и божество, дарующее смертным талант полной мерой), то есть человек, осененный божественной мудростью.
Гениальность полководца проявлялась всегда наиболее ярко, полно и выразительно. Подлинное творчество никогда не ассоциировалось у людей с муками – гений творил легко, играючи, не прилагая якобы никаких усилий. Это свидетельствовало, что боги покровительствуют ему и берут на себя все рядовые муки, оставляя человеку только радость самого акта творения. Писатели, художники, ученые, политики: всем им свойственны – в разной степени – муки творчества (переделывание сделанного, раздумья и время). Полководец же – иное. В бою размышлять долго некогда – решение должно быть мгновенным и единственно верным. Люди видят: два в общем-то равных войска (все перед глазами, как правило – ничего тайного) сходятся на поле боя – и одно из них выигрывает, выигрывает при всех прочих равных (или даже неблагоприятных) условиях. Единственно необходимое – это талант полководца. Следовательно, он один может перевесить чашу на весах успеха, следовательно – он божественной природы.
И народ, и сами его военные вожди рассуждали подобным образом, именно поэтому великим полководцам тесны рамки чисто военной деятельности, и когда они достигают апофеоза своей полководческой карьеры – неизбежен конфликт с Властью, которая на определенном этапе общественного развития уже создает структуры, противодействующие голой военной силе, насаждает нравственные запреты того же порядка. Словом, неизбежен конфликт с Властью, которая не есть полное отождествление лишь с военной мощью и которая, в силу этого, не желает делиться и иметь в лице талантливого военачальника подобного конкурента.
До XVIII века конфликты разрешались с переменным успехом: Власть могла быть свергнута, или, наоборот, опале, смерти, забвению мог подвергнуться полководец. В XVIII веке в подавляющем большинстве случаев Власть из этой борьбы выходит победителем, даже если и не объединяет в одном лице гениев Власти и войны, таких как Петр I, Фридрих II. Полководцы вынуждены уступить – наиболее талантливые из них периодически попадают в опалу (генералиссимус Суворов не мог не упираться в своем росте в стеклянный потолок, вместо неба, который и согнул его до могилы) или отходят от двора, ворча и понемногу подвергаясь забвению. О них вспоминают лишь в случае крайней нужды, после же исполнения неотложного они вновь уходят с авансцены, несмотря на широкую талантливость натуры (Румянцев долгие годы практически без какой-либо центральной опеки управлял Малороссией, и Екатерина II, сама хороший администратор, признавала, что когда Румянцев выступает и как администратор, то у нее никогда не болит за это дело душа – так она уверена в фельдмаршале).
Возможно, это последняя попытка противостоять Власти не отдельных лиц, а выразителей глубинных тенденций развития общества, эпохи. Народ именно в это время чтит полководцев, как никогда после, видя на данном этапе в них свою последнюю надежду на перемену своей доли. Ведь полководцы – отцы солдатам, а стало быть – и народу, они сами ненавидят казенщину и мертвящий бюрократизм.
Вот почему XVIII век. До этого не было столь резкого отделения Власти от народа, т. е. корпорация бюрократии до сего времени не могла рассматриваться как самодовлеющая сила. Таким образом полководцы рассматриваются – в силу своей особой близости к народу – как последняя связь-пуповина народа и верхов. И еще: традиция государя-военачальника остается в потенции, хотя практически реализуется очень редко. В менее отчетливом виде присутствует и другая традиция, проистекающая из первой: полководец – стало быть может и царствовать (ибо внешнеполитическая деятельность монархов с древности всегда на первом месте). Это на практически инстинктивном уровне сознания.
А с другой стороны, XVIII век – век Просвещения, век разума.
Идет секуляризация мышления. Абсолют монархических догматов разрушается и все более свободно пробивается мысль: а почему бы Монарху не потесниться, а лучше того вообще уйти, уступив место полководцу – защитнику государства и народа, человеку, стоящему рядом с народом?
Самые блестящие из полководцев оказались на уровне задач: философы, осмыслители народного духа, книгочеи, поскольку без широкого взгляда на мир талант вырождается в профессионализм, ведущий к поражению, талантливые гражданские и военные администраторы, блестящие дипломаты.
Наиболее дальновидные из монархов пытаются противодействовать им возрождением традиционной в прошлом синкретической фигуры монарха – полководца и мыслителя. Монарх – мыслитель эпохи Просвещения – это последний рецидив предшествующих эпох, последняя попытка монархов удержаться на авансцене истории – в средоточии жизни нации, предпринимаемая полуинстинктивно-полусознательно. На том же полубессознательном уровне явление монарха-полководца, т. е. желание приспособиться к новой Эпохе, ее новым требованиям. И если фигура монарха-мыслителя – это попытка, обращенная опытом лишь в прошлое, то полководец-монарх – не только прошлое, но и некое уловление новых тенденций, стремление соответствовать духу времени.
Мыслитель на троне – обреченность на провал. Да, и вообще-то их – единицы, основная же масса – нивелированные личности, все более становящиеся курьезом и тормозом своего времени. Их предки добивались тронов своими талантами или выдающимися злодеяниями, но природа отдыхает на детях гениев – потомкам судьба явно пожадничала, наделяя как личностей.
Монарх же полководец – это, так сказать, новая волна, позволившая на какое-то (иногда – весьма долгое) время задержать распад структур мироустройства предшествующих столетий.
Еще реже соединение в одном лице всех трех вышенаименованных компонентов. Из числа интересующих здесь нас фигур к ним принадлежит Фридрих II. Именно поэтому ему поклонялся Наполеон, его уважал Суворов, и к нему убегал Румянцев. Он уловил тенденции эпохи и поставил ее себе на службу, став королем-просветителем. Это дало ему гигантский перевес идейности, и, как следствие, – военного искусства, организованности над армиями европейских государств. Но он ошибался, поставив во главу угла идейности своих войск принцип лишь индивидуального благополучия, а не глубинные духовные ценности народа, выражаемые все же в большей степени в коллективистских началах. Пока он имел дело с обычными войсками и полководцами – он побеждал. Встреча с русской армией погубила его. Но он был сильным противником – это признавали все.
Необходимо учитывать и то, что XVIII век – это эпоха, когда экономический строй более-менее упорядочился, эпоха великих потрясений прошла, народу было особенно нечего ждать в плане улучшения своего материального положения (от Петра I до Екатерины II – можно найти лишь многочисленные примеры ухудшения). Как следствие – примат внешнеполитического фактора, который становится единственным, подтверждающим целесообразность пребывания данного монарха на троне (особенно четко это прослеживается у Екатерины II, обладающей на трон весьма зыбкими правами). Поэтому нужны победоносные войны, служащие стимулятором патриотической верноподданности и отвлекающие от дел внутренних. А это значит, что нужны талантливые полководцы, которых более-менее искусственно ставят в эпицентр общественной жизни, но особой воли стараются не давать. Но все равно замкнутый круг: чтобы усидеть, нужно пропагандировать полководцев, что делать и не стоит-то особо, ибо тем самым создаешь себе конкурентов.
Еще одна особенность XVIII века, как века Просвещения – это ослабление позиций христианства. Наиболее характерны в этом плане для России эпохи Петра I и Екатерины II: лишение патриаршества, церковные реквизиции при Петре, отказ церкви в финансовой помощи, закрытие монастырей при Екатерине, хотя это и вызвало даже падение элементарного просвещения в России, поскольку монастыри были еще и школами и т. д. Просвещенный абсолютизм связывают с Екатериной II, поэтому всмотримся в нее попристальнее: фактически она боролась с православием, т. к. (а может быть – именно поэтому) никогда не понимала глубинной его сути и всю жизнь оставалась иностранкой, поладившей только с верхушкой.
То есть когда началось противодействие православию с его идеалом человека (смирение, самоусовершенствование, терпимость, добро, любовь), возникла потребность в заполнении чем-то иным образующегося духовного вакуума. Каждое языческое и атеистическое общество исповедует культ героев – активных деятелей (в отличие от внутреннего совершенствования в христианстве), коим можно поклоняться и с коих можно и должно брать пример. Собственно, этого же придерживаются и каменщицкие учения, настаивающие изучать Плутарха и Тацита, насколько культ этот воспитывает мировоззрение «героя и толпы» (элиты и стада).
Екатерина II если не организационно, то идейно исповедовала эти же принципы, будучи под влиянием идеологов Просвещения. В качестве яркой иллюстрации ее символов веры можно привести ее попытку разрушения Кремля – символа и национальной святыни. Не случайно в народе эти попытки считались происками «просветителей». Начав проповедь идеала, противостоящего православию, естественно, целесообразно было начать вводить культ героя в его абсолютной (т. е. поначалу простейшей) форме.
То есть широким массам более понятен не герой мысли, а герой действия. Отсюда – культ полководцев XVIII век.
Петр I и Екатерина II делали ставку на политизацию мышления – в ущерб духовно-нравственным началам: внедряли светскость и культ гения-героя. Вся их политика членится на ничего не давшую стране внутреннюю и блестящую внешнюю, где первую скрипку играли полководцы – сам Петр, Румянцев, Суворов (именно двум последним – не монархам, но полководцам, любимым народом, самым блестящим военным гениям, с именами которых народ связывал все свои победы ее правления, тайно писала после смерти Потемкина Екатерина, делая их, по сути дела, опекунами над страной и троном. Именно им она отдаст тайное распоряжение: ее воля, выраженная в тайном завещании, – после своей смерти передать престол не сыну Павлу, но внуку – Александру. Завещание будет храниться у Безбородко, который, по сути дела, обменяет его у Павла на титул светлейшего и прощение всех прошлых, нынешних и будущих грехов. Но и фельдмаршалы не сделают ни одного движения в сторону молодого Александра, хотя, брось они свой авторитет на чашу весов, кто знает – куда бы качнулась стрелка его маятника? Но императрица не учла одного: не может народный полководец не быть близким народу по духу и нравственным критериям, а императрица здесь задумывала двойную несправедливость: в детстве, убив отца своего сына, она теперь хотела обойти его, по сути дела, отцовским наследством. Народу это было непонятно и чуждо).
Идея оправдала себя: из всего XVIII века (да и из предшествующих и последующих веков истории России) – только они двое Великие (как и Фридрих Прусский). Но если предшествующие века господства христианства не могли дать подобной титулатуры, как противоречащий идеалу христианского смирения и перечисленности народа на пастырей и стадо (Карл Великий, хоть и насаждал христианство, сам еще рудимент языческого мышления), то в дальнейшем идеалы претерпели такое изменение, что великих монархов не могло быть в принципе. Не они были повелителями умов народа, а ведь именно народ дает в конечном счете подобные отличия.
Остальные же монархи XVIII века – иное. Анне Иоанновне просто было на все наплевать. Елизавета Петровна же попыталась в силу особенности воспитания и характера вернуться к православным идеалам – отсюда малое количество войн в ее правление, их локальность для государства и, следовательно, – отсутствие культа полководцев. Культ отсутствовал как неприемлемый в силу идейных установок монархини, так и в силу своей физической невозможности, ибо благодаря этим установкам практически отсутствовала возможность развернуться военным талантам России.
Следующий, XIX век в значительной мере подрывает иллюзии, что благо и счастье народа может быть дано лишь сверху и со стороны – время показало, что только сам народ способен добиваться себе счастья. Отсюда – снижение авторитета полководцев как выразителей народного духа и отсюда же – высокое реноме писателей и публицистов, апеллировавших прежде всего не к Власти, а к народу. Писателей, влиявших на духовность общества, и публицистов-политиков, намечавших более-менее конкретные пути достижения этого счастья. Необходимо учитывать и то, что если дехристианизация идеологии началась в эпоху Просвещения, то в XIX веке этот процесс уже достиг определенных успехов, что также связано с выдвижением на первый план фигуры писателя-мыслителя, подвергающего анализу-критике весь комплекс бытия государства и народа. Хотя надо признать, что речь идет не о всем народе, а о верхнем его слое. Этот слой в силу большей образованности, меньшей занятости и оторванности от земледелия – занятия, влияющего на психологию соразмерности жизни, традиционности и преемственности мышления и идеологии – легче воспринимал различные новые идейные комплексы. Простой же народ искал опоры в вере, в монархии, в своих военных начальниках. Если проводить аналогию с «царем-батюшкой», то в полководцах народ видел прежде всего военного главу рода-общины, «отца солдатам», старшего брата, умудренного годами постижения тайн своего мастерства.
Да, кто-то уже добежал-добрался, дошел до половины своего земного бытия, до того порога, который принято называть золотой серединой – «и стали мудрыми они аки змеи, и слово их было как золото». Так принято хвалить. Но все ли то золото, что блестит, и золото ли мера всех вещей? Что до гадов ползучих, то мудрость их пополам с ядом, попадающим на излишне доверчивых. Поэтому просто смиримся с тем, что срединный порог бытия приносит – разумеется, не всем – мудрость прожитых лет и начинаемого осмысляться опыта. И осмысление это небезынтересно многим.
Но время течет для всех – и кто-то прошел дальше сей средины, много дальше. И в силу сего, прямо скажем, весьма прискорбного события стоял ближе к порогу вечности. Но и – смотрел на мир уже менее замутненным страстями и желаниями взором… Пример? Да вот он…
После смерти императрицы Елизаветы Петровны ее последний и, может быть, любимый фаворит (как известно, чем моложе объект пожилого любострастия, тем он желаннее и дороже обходится – ради него готовы поступиться многим и многими. Но опять-таки многое зависит и от данного объекта: кем он останется – человеком или развращенной игрушкой, столь же охотно, как и им самим, играющей чужими судьбами. Таким, как Платон Зубов, последний конфидент Екатерины Великой) Иван Иванович Шувалов остался не у дел. Годы и события шумели (и даже так не шумели – шуршали) где-то стороной, ибо бывший некоронованный властитель сразу и бесповоротно ушел в частную жизнь.
Путешествовал, меценатствовал. И предавался раздумьям. Чем дальше – тем больше. Ибо как бывший, по самой своей сути, государственный человек, бравший на себя груз ответственности за многие аспекты жизни народа и существования государства, он, ныне отлученный от всего этого, лишь теперь задумался о природе и сущностном проявлении той власти, которую он ранее воспринимал как некую естественную данность. Впрочем, таково свойство почти всех политиков – находясь у кормила, они не успевают предаваться раздумьям философского звучания, ибо сиюминутность заедает, и лишь отставка дает возможность осмыслить прошлый опыт. Отсюда такой поток мемуаров оставшихся не у дел.
Хотя для России время подобных мемуаров еще не пришло, так что оставалась только беседа. Но дабы она была полноценной, требуется второй (как минимум) столь же заинтересованный собеседник. И здесь Шувалову повезло – ибо его старый знакомец, долгие годы бывший под его покровительством и теперь еще пользующийся им, хотя и в меньшей степени (ибо роль мецената Шувалова ныне была уже не та), Михаил Васильевич Ломоносов, чувствуя свою не совсем, скажем так, нужность властям предержащим, находил душевное отдохновение и успокоение в бесконечных раздумиях-разговорах на аналогичную тему.
Так что повезло и Ломоносову, ибо столь благодарного слушателя-оппонента на столь, в общем-то, щекотливую тему, как Шувалов, ему не так-то было бы просто и сыскать. И даже более слушателя, ибо, распаляясь, Ломоносов зачастую не давал собеседнику и рта раскрыть. Шувалов же, уважая в рассказчике мощь интеллекта, одновременно делал скидку на дилентантизм кабинетного теоретика, хотя и признавал справедливость логических построений Михаила Васильевича, но видя одновременно трудность их практического претворения. Опять-таки из-за слишком явного и бескомпромиссного желания достичь идеала, абсолютной истины – и никак не меньше. Желая все или не желая ничего, забыв, что политика, как и жизнь, – это сумма векторов, некий компромисс наших устремлений и наших возможностей. Ибо слаб человек и многое ему еще не по плечу. Но он стремится к великому. Так что не осудим мечтателя, а лишь мудро улыбнемся как над его прекраснодушием, так и над скепсисом Шувалова. Ибо сомневаться и критиковать всегда легче чем созидать и рожать в муках. Но, к сожалению, всегда правильнее, поскольку в новом – всегда огрехи, и громко замечая их, можно прослыть пророком. Но это не те пророки, что строят царствие небесное. Это те, кто их низвергают на землю, дабы они разлетелись в прах, дабы иметь при этом возможность торжествующе крикнуть: «А я говорил, говорил!» Но участь Кассандры – даже древние отмечали – всегда была незавидна. Ибо как сказано, умножающий познание умножает скорбь. Мы же добавим – прежде всего такое знание. И вернемся к собеседникам, пребывающим в разгаре спора-диспута…
– Обратимся, ваше сиятельство, к примерам вам доступным, – в запале Ломоносов не замечает оскорбительных, по сути, полутонов, он хочет лишь более четко донести до собеседника свою мысль. Шувалов давно это принял и мудро смирился, так что теперь он лишь молча кивает, глядя на внутренне клокочущую фигуру оратора.
– Итак, мы живем в век высокого Просвещения, и токмо этому обстоятельству я обязан, что стал тем, кто я есть. А вот верховники после смерти императора Петра II, и особенно Голицын Димитрий, ратовали за старину. И не потому, что там уж так все хорошо, а потому, что, ломая, должно прежде хорошо подумать, во имя чего и для чего ты все это ломаешь, что в муках созидалось твоими пращурами. Или есть в тебе уверенность – и от чего она проистекает – что сделанное внове будет лучше испепеленного? А уж если ты видишь, что совершаемое – из-за лжи, корысти и суесловия делателей – становится злом, поскольку, говоря хорошо, ничего не дают, а лишь отнимают, тогда это – не твое. И дело твоей чести возвысить голос свой против свершаемого, не убоясь и плахи!
– Иными словами, Михаил Васильевич, – посмеиваясь, произнес Шувалов, – в новизне – зло?
– Нет! Жизнь не остановить. Но идя вперед, не нужно топтать минуемое. Ибо в прошлом – своя соразмерность, притертость к жизни. И правота, освещенная опытом предшествующих нам поколений, сумевших не просто выжить, но и свершить великое, память о котором будет вечно осенять наш путь. И, добавлю, если бы не их деяния – мы не сидели бы вот так, в уютном кабинете, и не обсуждали бы их. И сие многими понимаемо.
– А если многими, то что же привело Анну Иоанновну на мономаший стол? Что позволило приволочь с собой Бирона и иже с ним?
– А сие, сударь, типичная черта, зачастую губящая прекраснодушных заговорщиков: боязнь открытости. Считают – что в целом, в абстракции может быть признано весьма разумным – что чем меньше людей об их чудесных планах знает, тем меньше шансов разноголосицы, ввергающей любое дело в пустопорожнее произнесение словес. Не говоря уже о опасности прямого открытия сих планов силам, находящимся на прямо противоположной стороне от заговорщиков. Иными словами, боязнь доноса. Но в этом случае забывают, что как костер не разгорится от одной щепки, так и здесь – без определенного количества людей, должных своей заинтересованностью и своим принятием их символа веры осветить их правильность, необходимость и саму возможность, ничего не выйдет.
– И не вышло.
– И не вышло. Переоценили себя и недооценили русской особицы. А ведь один и тот же опыт – это говорю, как физик, нельзя одинаково провести в разнящихся условиях: в холоде или в жаре, днем или ночью.
– Русская особица? Это что за птица такая редкая? Что-то не слыхал.
– О ней не нужно особливо шуметь, ибо она есть и от нее никуда не одеться. Мы, да Гишпания в Европе – две особицы, близкие друг к другу.
– Чем же?
– Тем, что на нас века давили из Золотой Орды, а до этого – многоликая степь, а испанцы веками сдерживали наплыв мавров, рвущихся на север. Так что внутренние условия создания составных частей власти на Руси со времен монголо-татар всегда были вторичными, производными от внешних, т. е. все внутреннее развитие державы было подчинено тому, как это отзовется на внешней мощи, ибо вопрос стоял так – победить или умереть. Победить – значит выжить. И с этих времен до начала XVI века такая опасность действительно существовала. Народ это понимал – и никаких массовых противодействий верховной власти не было.
– Это точно – особенно в Смуту. Вор на вора.
– Я сказал, ваше сиятельство, до начала XVI века.
Действительно, затем подобная животрепещущая опасность пропадает, а власть, по неразумию, по привычке, от нежелания думать (да и зачем – когда есть удобное старое) по-прежнему вела себя так, как будто ничего не изменилось.
– Так стало быть, Михайло Васильевич, признаешь насущность нового?
– Признаю, когда оно насущно, когда оно органично меняет старое, а не ломает его с кровью, не выжигает его каленым железом. Жизнь, а не люди должны решать сей вопрос.
– Она состоит из людей, господин Ломоносов. И они выражают ее. И кто рискнет сказать мне, что один человек не может выражать желание многих?
– Я скажу: не может, если он выступая от имени многих, этих многих ради своих – своих, а не общих мыслей, – посылает на плаху.
– А если иначе не объяснишь?
– Что? Что ты должен служить навозом в чьем-то прекрасном саду?
– Хотя бы.
– Тогда проповедующему сии мысли лучше всего показать личный пример. Он быстрее всего убедит всех сомневающихся.
– Благодарю за совет, господин профессор!
– Пожалуйста, ваше сиятельство, почту за честь и в дальнейшем оказывать вам подобную малую помощь!
– Ну, ладно, ладно, Михайло Васильевич, будет ерепениться-то.
– Погорячился, Иван Иванович. Да и вы тоже хороши – как будто завтра на трон собрались.
– Так в этом, господин профессор, и есть та русская особица, о которой вы только что изволили толковать: соберемся в трактире, а разговоры не меньше, чем о судьбах державы. И крик такой, как будто в Боярской думе заседаем.
– Совершенно правильно изволили подметить – ибо не забылось еще до конца, что когда-то именно общие усилия решали дела. Однако не угодно ли вернуться к предмету беседы или на сегодня хватит?
– Не хватит, Михайло Васильевич. Ведь знаете – более-то и заняться нечем. Пиры Лукулловы не по здоровью. Равно как и симпосиумы греческие. Да и скушно, честно говоря, на них. Все одно и то же. Так что сделайте одолжение.
– Польщен, Иван Иванович, польщен и продолжу свое видение истории нашей. В годы Смуты, как вы совершенно верно изволили заметить, мы наблюдаем открытое противодействие формуле всеобщего повиновения монарху во имя жизни страны – ибо обстановка изменилась. И почти все предшествующее столетие зрел некий подспудный протест против сей теории, коий и разразился мятежами, приведшими к Смуте. Таким образом со времен Золотой Орды власть на Руси просто пользовалась формулой общего единения себя с народом, не пытаясь делать каких-либо иных шагов по сплочению государства, как суммы людей. Кроме опять-таки усиленной пропаганды этой самой идеи. Да, признаем, все иные действия до начала XVI века были излишни, а в том столетии – маловозможны.
Следующий этап я бы начал с Алексея Михайловича, а затем – в большей мере, но в духе государственного строительства отца действует Петр Великий. Смута дала власти и народу осознание того, что действительная опасность извне существует, и весь разброд в державе может – и будет – наказываться весьма быстро. Отсюда – опять укрепление самодержавного принципа.
Впрочем, это-то еще поняли и при первом Романове. Другое дело, что у него еще не было сил и средств. А в дальнейшем же это понимание, что власть нуждается в своем укреплении – кроме философических построений – в чем-то более насущностном, конкретном, дабы противодействовать как внешней опасности, так и возможности простонародного мятежа (о чем не слыхивали на Руси ранее), привело к подготовке людей, призваных управлять от имени власти.
– Эти люди были всегда.
– Но не в таком количестве. И не с таким воспитанием. Хотя и со схожими – ибо они универсальны – функциями. Во-первых, укрепление внешнего престижа, который силен лишь при наличии крепкого тыла, т. е. дел внутри рубежей государства. И, во-вторых, укрепление аппарата, принуждающего выполнять повеления власти. И тем, и тем нужны специально подготовленные люди. Царь Алексей Михайлович начал создавать подобный аппарат, но действовал в общем-то робко, ибо именно русская традиция единства и единения власти и народа в нем была еще сильна. А бюрократия, которую он сам создавал, которая разводит их пути и которая стоит между ними, еще слаба. Его сын, воспринявший западные концепции системы государственной власти, создал бюрократию, тем самым еще более – почти необратимо – разведя эти дороги в разные стороны.
– Мы говорили о верховниках, и вы упомянули русскую особицу, а теперь из ваших слов можно сделать вывод, что мы во всем сходны с Западом. Или я ошибаюсь?
– Ошибаетесь, как и верховники, которые тоже думали, что предшествующие годы полностью переделали страну. Однако они во многом изменили лишь верхушку, оставив глубинные слои в неприкосновенности. За Анну Иоанновну выступили те, кто искренне верил, что лишь царем Русь крепка.
– Как и те, кто уже ни во что не верил, а думал лишь о своем благополучии.
– И такие тоже. Так сказать, плоды просвещения. Кого воспитывали – того и получили. Ибо обратной стороной бюрократии является охлократия (или демократия наоборот), на некоторых этапах развития государства (или, наоборот, его упадка) даже поощряемая бюрократией. Поскольку деятельность охлократов прямо-таки вопиет о порядке «добрых старых времен», и бюрократы тут же готовы дать этот старинный мертвящий «порядок»-ранжир, при котором ни о каком подлинном порядке-ряде, договоре власти и народа не может быть и речи. И заканчивая вопрос об охлократии, добавлю, что она – и следствие бюрократизации страны, так как отвыкнув думать и решать, толпа удовлетворяет только свои простейшие – сиречь разрушительные – инстинкты.
– Ну, тут вы немного увлеклись, Михайло Васильевич, как раз просвещение и учило думать тех, кого оно воспитывало.
– Я говорю в целом и в перспективе. А под словом «думать» я понимаю державные думы, думы о судьбе государства.
– А вам не кажется, что если будет много думателей о государстве, то некому будет на него работать?
– Вы повторяете мысли императора Петра I. Он тоже готовил кадры, исходя из прагматического принципа, т. е. черчение, фортификация, навигация и им подобные науки-предметы, так как сего было достаточно для того, чтобы противостоять Европе, переживавшей эпоху приземленной реальности. Но по мере развития государств-обществ зрела идея, что аппарат управления должен быть развит всесторонне, иначе он будет не в состоянии постигать стратегические задачи государственной власти, что ведет к ослаблению государства. В идеале подобное развитие должно охватить все население страны. На Западе дошли до этого раньше. И Россия при ныне здравствующей государыне Екатерине II опять вынуждена догонять – отсюда наш просвещенный абсолютизм, вдогонку европейскому.
– Иными словами, господин Ломоносов, как ни пытайся свою особость отстоять, а без Европы – никуда.
– Не без Европы, а без общего человечества – действительно никуда. Мы же особые в своей истории, но это не значит, что мы не будем брать всего того, что сочтем нужным у соседей. Народ тем и силен, что перенимает у соседа все нужное и дает тому, что имеет сам. Вот Китай в свое время огородился стеной – и в конце концов пал под Чингисханом. Мир идет вперед. Брать, не отказываясь от своего доброго – вот задача задач. Или за века прошедшие наши потомки не поняли ничего, что может пригодиться нам?
– Наверное, было, и даже наверняка, иначе мы бы сейчас и с вами разговаривали не по-русски. Но меня вот что волнует: если Россия следует по пути, по которому идет человечество, и путь этот ведет к окончательному разъединению монарха и народа, то стоит ли по нему идти? Вы улавливаете мою мысль?
– Улавливаю, но это неизбежно. Сейчас у нас – как немного ранее там, в Европах, начинают пристальнее интересоваться не только техникой, но и естественными и гуманитарными науками, которые единственно могут развить ум человеческий в полной мере, дать ему возможность ясного понимания меры вещей.
– Но ведь нынешние науки учат не только этому!
– Вы правы. Власть, способствуя подобному положению дел, формируя и воспитывая таких людей, по сути, роет себе могилу, ибо, с одной стороны, без подготовки подобных кадров она уже не может существовать, а с другой стороны, воспитывая их таким образом, она готовит собственных критиканов, ибо человек, умеющий думать, думает и о недостатках всего сущего, в том числе и той же власти.
– Значит, это неизбежно…
– Ну, Иван Иванович, не надо так пессимистично. Я вас своими разговорами подвел к подобному мрачному выводу, но, строго говоря, почему вы считаете, что думающие люди всегда противники власти? Может быть они просто захотят ее улучшить-укрепить? А может быть, она уже и так хороша, что в подобного рода улучшениях не нуждается?
– На эти темы можно говорить, если не выглядывать в окно.
Вы сами прекрасно знаете, как обстоит дело – и почему я так заволновался!
– Больше оптимизма, ваше сиятельство. Пусть вас утешает мысль, что это общая судьба всех. А дополнительно – что нас это затронет, думается, в последнюю очередь.
– Но ведь затронет, и как! Мы не знаем полумер. Казнить – так уж казнить, миловать – так миловать.
– А вдруг не затронет? Ведь как вы можете заметить, если будет таковое желание, культура в том смысле, в котором мы в данном разговоре ее имеем в виду, у нас в России распространяется сверху – монархи властно-просвещенной рукой дарят ее алкающему народу. И в силу этого все приобщившиеся к ней автоматически – в подавляющем своем большинстве – оказываются на службе у власти, сами становятся частью этой власти. И, следовательно, проповедуют не традиционно-критиканские умонастроения раскрепощенных от всех условностей жизни в государстве творцов культуры и новой морали, а осуществляют в большей мере надзирательские функции, регулирующие и регламентирующие полеты творческой фантазии.
– Господин профессор, вы и себя относите к подобным надзирателям? Что-то подобных устремлений я у вас не особенно отмечал.
– Поэтому зачастую и не у дел. Хотя, конечно, я утрирую – для большей ясности своей мысли и большей ее доходчивости. Может быть, слова подобраны не совсем правильно, но суть в общем и целом они отражают.
– А как же единство формы и содержания? Не огрубляете ли вы содержание, не подбирая ему достойную форму?
– Ах, ваше сиятельство, не до жиру – быть бы живу. До красот ли здесь стилистических, когда душа огнем горит!
– Так я все же не пойму, Михайло Васильевич, чем вы недовольны – то ли тем, что власть в России сильна, то ли тем, что она ослабнуть может?
– И сам не знаю. И душно мне сейчас, и страшно за грядущее. Маета в душе. И ужас – и от того, что делаешь, и от того, что не делаешь. Куда ни кинь – всюду клин. Лучше уж вообще ни о чем не думать – а то как задумаешься, – хоть в петлю лезь!
– Простите. Я своей язвительностью вас расстроил.
– Да нет. Это не язвительность в вас говорит – вас те же сомнения, что и меня, гложат. «Куда идешь?», – спросил Господь Петра. Куда нам идти? И во имя чего?
– Веры в вас нет, Михайло Васильевич!
– А в вас она есть? Я верил – и желал мудрости. Я узнал многое – и пребываю в томлении духа, в сомнении, ибо разумом своим предвижу грядущее и не могу найти из этого выхода.
– И живете?
– Живу, поскольку жизнь эта дарована мне свыше, жизнь на нашей грешной и суетной земле. И по мере своих сил я стараюсь ее сделать лучше, хотя это «лучше» – лишь мое скромное разумение, но стараюсь не делать зла, жить не по злобе, прощать своих обидчиков. Я надеюсь что мое «лучше» не во всем расходится с предначертанным нам тем, кто мудрее нас. И думаю, думаю, смотрю и сравниваю, наблюдаю и анализирую.
– И о чем же ваши думы?
– В основном о том, о чем мы с вами сегодня – и всегда – беседовали. Что есть страна, что есть народ, что есть власть. И как совместить их, дабы государство не рухнуло, народ не был бы несчастен и власть не являла бы звериный оскал безудержного самоправства, попирающего всех и вся.
– Ну и есть уже выводы, кои могут быть применены у нас либо в более просвещенных странах?
– Выводы вы слышали. В дополнение же к оным могу добавить, что любая власть опирается на свои приводные ремни – тех, из кого она созидает свой аппарат. И с какими бы благими намерениями он ни создавался, перетряхивался и улучшался, т. е. преобразовывался, он в конце концов все же начинает проявлять свою основную суть – тяготеть к, если выразиться языком физики, «массе покоя». Так что Дант прав: все дороги ведут лишь в одну сторону. Конечно, можно попытаться найти выход из этого, простейший способ при этом – частая смена аппарата, дабы не успел он усвоить бюрократически-корпоративного духа. Но в сем вижу я опасность такого толка, что менять в этом случае кадры придется с такой быстротой, что люди не будут успевать приобрести необходимые навыки для подобной работы, т. е. просто все это превратится в неприкрытую кормушку. Все то, что пока и ныне является кормушкой прикрытой. Вспомним допетровских воевод – отправляли их на воеводство на небольшой срок, предварительно фиксируя их имущество. И все равно знали, что изворуются. Недаром-то и называлось это кормлением. Ныне перетряхивания есть, но они не носят обязательного характера. А так – когда уж слишком заворуются или вой от обиженных дойдет, или что подобное такое, чрезвычайное. А потом – опять тишина, да покой. Для тех, кто являет собой аппарат. Вот и выходит, что все встряски, все катаклизмы – будь то хоть гнев начальства, хоть Смута – через некое время, весьма незначительное, отступают для аппарата на задний план, поскольку четко регламентированная иерархия и такая же деятельность постепенно приучают всех этих канцеляристов к мысли о своей нужности. Ведь конечно – без этой бумажки никакого бы дела не делалось! И как насадил тушинский вор подъячих, да копиистов, так и попали они на службу к царю Михаилу Федоровичу – цари приходят и уходят, канцеляристы остаются и будут существовать вечно, ибо семя их неистребимо! А уж от сей нужности – и следующий вывод, вполне логический: о своей самоценности. То есть аппарат власти понемногу начинает охладевать к нуждам породившей его власти и государства и в конце концов замыкается лишь на себе. Поэтому всякое реформаторство, опирающееся на аппарат, невозможно в принципе и объяснимо лишь с точки зрения политической простоты-наивности или такой же изощренности, когда демагогия становится символом веры, реальное же дело не имеет никакого значения.
– Иными словами, Михайло Васильевич, вы хотите сказать, что бюрократические перевороты невозможны, постепенное же изменение, опирающееся на тот же самый аппарат, тяготеет к – если выражаться вашим языком – «массе покоя»?
– Совершенно верно. К застыванию, к трясине, в лучшем случае сверху подернутой ряской. Если бросить взгляд в прошлое, то мы увидим, и опыт первоначальной славянской общины показал, что только самоуправление способно в достаточной мере вершить дела на подлинное благо народа.
– Опасные разговоры, ибо хоть государыня наша и просвещенная монархиня, но все же монархиня.
– В этом-то и беда, ибо уже зримы те черты, на основе которых можно сделать печальный вывод.
– Это какой?
– А тот, что государство, отделяющее себя от народа аппаратом власти, в конце концов становится государством аппарата, где, с одной стороны, аппарат составляет слой тех, кто управляет, демагогически продолжая утверждать, что все это во имя и от лица. А с другой стороны, чем дальше, тем больше в структуре власти вызревает мысль, что аппарат и его окружение – это и есть народ, который, в таком случае, действительно заслужил все те блага, которые он получает. Ведь и точно глупо считать народом, имеющим возможность и право на что-то кого-то, а на себя, да и как-то считать народом тех, кто позволяет десятилетия и десятилетия так примитивно обманывать себя, уже вроде как-то и неудобно.
– И нет спасения?
– Может и есть, но мне сии методы неведомы. Обратимся к прошлому. Ведь и в России, как и везде, был свой аппарат управления державой, который позволял ей существовать и действовать. И хотя до Петра I сей аппарат не был столь всеохватывающим и жестко централизованным, он все же отбирал у правителя часть его власти – недаром Иван Грозный пытался бороться с собственным аппаратом с помощью опричнины, чувствуя в нем конкурента своему – как бы ему хотелось – безграничному владычеству. Боролся и принужден был отступить.
– А иные силы?
– Я уже сказал вам о них, но они неприятны вашему монархическому слуху. Да и потом их претворение в жизнь я не уверен что возможно – что было, то прошло. Да и как бы их претворение не обернулось еще большим злом, ибо где истинные носители этих идей – в далеком прошлом.
– Нет, я имел в виду другое. И других.
– Ах, других. То есть тех, кто, восприняв некую сумму знаний, почувствовал себя в силах подвергать сомнению все сущее, тем самым ослабляя его и готовя его падение?
– Совершенно верно.
– Что же для многих европейских стран сие весьма насущно, и я думаю, там вскоре полыхнет. Но не у нас. Я имею в виду – пока. Как я говорил – у нас несколько иначе. Да вы это и сами знаете. В основном эта бойкая на язык и мысли публика у нас в России при деле.
– Это, господин профессор, и до вас касаемо?
– Не язвите – и до меня. Что же до тех немногих, коих можно было с некоторой натяжкой наименовать «вольными художниками», то ныне у нас они пока не пользуются никаким влиянием. Да и смотрят на них с подозрением, видя в них праздношляющихся личностей, занятых непонятными, странными, да и нужными ли вещами? К тому же они с пеной у рта отстаивают свою значимость и необходимость – это странно вдвойне. Те же, кто при деле, курируют духовную жизнь страны, как настоящие чиновники. Как другие чиновники курируют иные проявления государственной жизни – как гражданские, так и военные. Так что у нас с этой точки зрения пока все в порядке.
– Хорош порядок.
– Какой есть. Какой заслуживаем – такой и получаем.
– Неужто заслуживаем?
– Походит что так. Да и без него нельзя – вот в чем беда-то. В других народах он есть и действует. И если его не перенять сейчас – опять отстанем, ослабеем, ибо порядок сей может хоть и не всем хорош, да проверен и действенен. То есть коли не примем – то скоро опять к нам доброхоты полезут. И опять с мечом. А тут – хоть как-то, да существуем. Не до жиру – быть бы живу.
– Что же, это, стало быть, и есть наш основной принцип в жизни?
– Выходит пока что так.
– Да-с, поговорили!
– Поговорить-то поговорили, и даже хорошо поговорили.
Жаль вот только что опять у нас все силы в разговор ушли.
– Не у одних у нас.
– И этого вдвойне жаль. И втройне жаль, что не остается этих сил на дело.
– Зато задним умом сильны.
– Хорошо хоть задним. Но боюсь, что будет в конце концов так, что воспользоваться им времени не хватит. Ибо сказано: всему свое время.
– Но сказано также: все суета сует.
– И – припечатано: мертвый лев лучше живой собаки.
История сохранила в своих анналах имена великого множества людей, которых с полным правом можно назвать мучениками идеи. Это те, кто раз восприняв какой-либо постулат, уже не имели сил и желания отказать от него ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах, зачастую даже предпочитая смерть отказу от выпестованных в душе (или – вложенных туда же кем-то посторонним) убеждений. И одной из подобных фигур может считаться, по-видимому, российский император Павел I, сменивший Екатерину II в 1796 году на российском престоле.
Жертва не только заговора, не только трагических обстоятельств, но и жертва определенного комплекса идей, которые, проникнув в его сознание, сразу стали его подлинным «Я».
Речь идет о его отношении к проблеме власти, власти монархической, абсолютной, проблеме взаимоотношения самодержца и народа. В свое время один из сановников будет разъяснять его сыну – императору Николаю I – различия подходов к монаршему управлению: «Самодержец может по своему произволу изменять законы, но до изменения или отмены их должен им сам повиноваться». Павел же не желал повиноваться никому и ничему.
После его смерти осталось множество свидетельств, коими щедро делились свидетели эпохи о безумии императора, но лишь Тьер верно определит название болезни – «самодержавие».
Самодержавие не в смысле формы правления, а как неверно понятое право быть единственным выразителем общей воли, единственным судией всех и столь же одиноким непогрешимым авторитетом.
Звучит несколько химерически. Но смотря для кого: тут все зависит от воспитания, от системы ценностей и, пожалуй, от личной заинтересованности. Все это Павел имел в достатке, поэтому его убеждение в своем призвании было искренним и не терпящим ни малейших компромиссов. Недаром основная мысль его звучала так: «Каждый человек имеет значение, поскольку я с ним говорю, и до тех пор, пока я с ним говорю».
Подобная тенденция имела двоякие корни – с одной стороны, от традиции Московской Руси, когда многовековые внешние обстоятельства привели к практическому осознанию божественности царской власти и соответственного взаимоотношения монарха и народа. С другой же стороны – пышный расцвет в России идеологии Просвещения с ее культом слова, закона, формально-логических конструкций, которые в силах подравнять под себя жизнь, т. е. жизнь, уложенная в прокрустово ложе схемы.
Л. Толстой, как художник, обладавший большой интуицией, скажет о Павле, которому он даже симпатизировал как человеку, что нельзя «выдумывать жизнь и требовать ее осуществления».
Здесь основная тенденция деятельности Павла – как законотворческая, так и практически-прикладная – подмечены очень четко.
Цели же императором выдвигались вполне благие – от которых не отказался бы ни один из современных правителей – от ярых тоталитаристов до идеальных демократов: «Блаженство всех и каждого!» Здесь четко прослеживается влияние просвещенческой идеологии, ибо в предыдущие эпохи московские государи не были озабочены идеологическим обоснованием своего правления – цели царствования по большей части лежали на поверхности, и их реализация напрямую затрагивала большинство населения страны – будь то защита внешних рубежей или восстановление в очередной раз нарушенного захватчиками народного хозяйства.
Теперь же Павлу, как и некоторым его предшественникам и коллегам из иных стран и регионов, как и нынешним владыкам, потребовалось уже постулирование своих намерений. В этом веяние времени, которое способствовало, естественно, развитию социальной демагогии и закладыванию навыков манипулирования общественным сознанием. Хотя бы в самом зачаточном его состоянии, ибо пока – да и долгое время спустя – многими из властей предержащих общественное сознание воспринималось в весьма кургузом виде.
Так, друг наследника – т. е. сына Павла Александра – князь Адам Чарторыйский писал в своих записках: «Таким образом почва для заговора (против Павла I. – Ю.Л.) была давно подготовлена; в нем участвовали, так сказать все, кто чувством, кто желанием, кто страхом и убеждением». И почти тут же он конкретизирует, что «все», по его понятию, – это «все высшие классы, государственные деятели, генералы и офицеры, все, что составляет в России мыслящую и деятельную часть нации».
Народ, таким образом, из понятия «все» исключен, равно как и из мыслящей и деятельной части нации. То, что он выращивал в столичных оранжереях ананасы и открывал новые земли, не учитывается. Главный формально-логический принцип – отсутствие образовательного ценза. Что очень характерно для тех, кто глубоко воспринял комплекс идей Просвещения, отдававшего предпочтение сумме схоластических знаний и навыков перед природным умом, не затемненным догматическими шорами.
Что до заговора, то он зрел давно – буквально с первых месяцев правления Павла I, который, в свою очередь, воспринимал свое воцарение как заговор-переворот. Г. Державин вспоминал: «Тотчас все приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорты, тесаки и, будто по завоеванию города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом». Воцарение воспринималось новым монархом как контрпереворот по отношению к 1762 году, когда погиб отец и на престол вступила его мать.
Через пять лет Павел падет жертвой переворота своего старшего сына – Александра. Он будет низвергнут с трона и убит.
Сразу после этого переворота Петербург ожил – к вечеру того же дня было выпито все шампанское, веселый гомон и разнообразие моды на улицах. Это в столице, по стране же – тишина с нотой покорной печали: «Бог дал…» Последний военный переворот в России свершился. Отныне страна вступала в Эпоху иных переворотов, более трагических, более кровавых и более пагубных… Эпоха Павла, годы его правления, лишь самым краем коснутся Румянцева. Через несколько недель после воцарения нового императора всероссийского престарелого фельдмаршала не станет, но все же – сухие цифры тому порукой: он захватит всех правителей России XVIII века: от Петра до Павла включительно.
Последние годы жизни Румянцев безвыездно жил в селе Ташаки Переяславского уезда Полтавской губернии. Отсюда он продолжал управлять Малороссией, бессменным наместником которой он был 32 года. Здесь он читал книги, которые он называл «мои учителя», здесь удил рыбу и принимал гостей. При дворе он не появлялся вовсе.
Сюда же в село в 1794 году с началом боевых действий в Польше прибыло извещение о назначении его главнокомандующим армией. Но фельдмаршал был уже стар. Он не выезжал на театр военных действий, а отдал приказ корпусным начальникам присоединить свои войска к корпусу Суворова, как к старшему по чину и после этого принимать и исполнять приказы Суворова.
В Ташаках его застало известие о смерти Екатерины. Вступивший на престол Павел пожелал видеть Румянцева. Но было уже поздно. 25 ноября 1796 года Румянцев почувствовал себя плохо. В начале декабря самочувствие его немного улучшилось. «4-го числа декабря по полуночи в 7 часов, он пил кофе с сухарями, отправляя свои письменные дела, и был очень бодр и весел, а в 9 часов параличный удар отнял у него язык и всю правую сторону тела». Следующие двое суток он пробыл в беспамятстве. «Все старания врачей спасти сего высокого больного и исторгнуть его из челюстей смерти», по словам очевидца, ни к чему не привели. 8 декабря 1796 года в 8 часов 45 минут, как было сказано в заключении о болезни, Петр Александрович Румянцев-Задунайский умер «самым тихим образом».
Узнав о смерти Румянцева, Павел приказал три дня носить траур, сказав: «Румянцев во время царствования отца и матери моих прославился в России более, чем Тюренн во Франции».
Фельдмаршал Румянцев, будучи крупным военачальником, значительно повлиял на развитие русского военного искусства: стратегия, тактика, военное администрирование – во все эти области военной мысли вложил он свои ум и талант. Своими победами он открыл фактически новый этап борьбы за возвращение России ей искони принадлежавших южных земель. Фактически мужеством его солдат стала возможна Новороссия. Он сделал так, что победы русского оружия на южных границах России перестали вызывать сомнение даже у самых закоренелых скептиков, коих не могли убедить даже многочисленные примеры предшествующих времен…

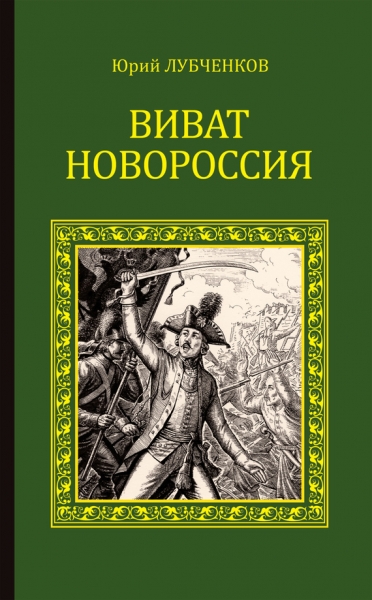



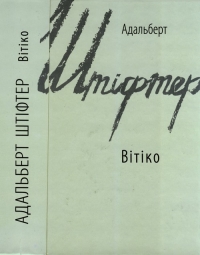
Комментарии к книге «Виват, Новороссия!», Юрий Николаевич Лубченков
Всего 0 комментариев