Валентин Александрович Пронин Жаждущие престола
© Пушкин В.А., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства
* * *
Посвящается моей жене Ольге Федоровне
И за то Господь Бог на них прогневался, Положил их в напасти великие, Попустил на них скорби претяжкие И срамные позоры немерные. Духовная стихираЧасть первая
I
С хриплым граем воронье тучами летело к Москве. Хватало поживы в оврагах близ пригородных слобод, куда сваливали отходы от забоя скота, а нередко там попадались и тела человечьи, неизвестно кем убитые и раздетые. Да еще – неподалеку от дороги, а то у самых ворот городских лежали загнанные лошади: посыльные мчались ото всех городов. А по Москве-реке плыли трупы, сброшенные из «Пытошной» башни; прибивало их течением к берегу повсеместно.
Звенящие стаи галок вились над кровлями изб с крашеным кочетом, над пестрыми луковицами церквей да рассаживались на монастырских крестах. Обозы тянулись через весь город по снегу, по грязям. Посольский возок с желтым орлом двоеглавым сбоку скользил за статными конями, бежавшими борзо. Развевая епанчу[1], скакал нередко сквозь толпу нарядный всадник. Прохожий люд ругал его по-черному из-за навозных комьев. Всадник, не оглядываясь, кривил злобно лицо.
Бокастая колымага, а то и более легкая каптана[2] с золочеными спицами, кренясь в колдобинах, важно катила, запряженная четверкой сытых кобыл. Может, из годуновской родни, а то – из думных бояр: князей Мстиславских, Голицыных, Воротынских… Рядом охрана верхами – стремянные стрельцы в кафтанах клюквенного да мясного цвета, в шапках мерлушковых со шлыком, звякают саблями у бедра, а на плече пищаль тяжелая либо с точеным лезвием протазан…
Круты разгоны по застроенным тесно холмам и оврагам московским – Чертолью, Сивцевым вражком, по Ямским улицам, по мосткам бревенчатым вдоль открытых лавок с товаром. Тут на Торгу толкотня, ругань, мордобой кое-где… Купцы, треща с гороха постными днями, зазывают, рухлядь свою нахваливают, прохожего мирянина за полу хватают бессовестно…
С серого неба сеет дождь, изморось, снег мокрый… Сыро, неуютно, скудно. Но хмельной, полуголодный народ в сермягах, в протертых зипунах, в драных тулупах с утра бродит по слякоти, ест с лотков блины, студень глотает, утирая лица шапками – есть в шапке нельзя, грех… В ухо кулаком получить можно или по шее…
Эх, шумно, крикливо, бранчливо, недушеспасительно!.. А на Спасском мосту лавки книжников. Торговля идет бойко лубочными картинками, непристойными, печатанными на досках. Еще «Хождение Богородицы по мукам», еще апокрифы с греческого про всякие приключения святых угодников да сказки про «Бову Королевича», переведенные с фряжского… Берут люди и переписанное от руки, стоит-то грош.
У церкви Обыденской близ Остоженки юродивые, босые, лохматые, без шапок, в рвани, в чугунных цепях на костлявом теле, грозят: идет, мол, тьма на Русь… горе Руси, горе грядет… Слепцы с поводырем, с холщовыми сумками для корок, с посошками… войну предрекают. Из деревень приползшие, бескровные от слабости, болезные старцы пугают голодом: ждите, православные, скоро уж… Монахи в скуфьях, в истрепанных подрясниках вещают о конце света. Мутное время, страшное. А когда было другое?
При Иване Васильевиче Грозном – при набеге крымского хана Девлет-Гирея вся Москва сгорела, один Кремль остался, выстоял. Еле отстроились кое-как в царствование Федора Иоанновича.
А что дальше-то? Неизвестно. Молили из-под палки на престол поставить Бориса Годунова. Поставили его, зятя палача Малюты Скуратова, по-настоящему Бельского. Днем на Москве шумно, а ночью тихо. И страшно: убитых много.
Ночью, как захолодает, подморозит, небо бывает звездное, звон колокольный слабый, тихие печальные звуки в вышине текут. И одна звезда большая, тусклая с желтизной, хвостатая – к беде, к войне долгой и мору.
И вот в белокаменной-то, первопрестольной Москве, при царствовании нелюбимого русским людом Бориса Годунова, где-то среди боярских, вольно построенных теремов, среди дворянских, купеческих, земских, ремесленных и прочих тесных дворов соседствовали семейные гнезда Безобразовых, Бугримовых детей боярских да галицких боярских детей Отрепьевых.
У одних больше ладилось: отец служил в старших стрельцах, другой отряжен был в сторожевые головы на рязанские засеки от набегов крымских татар, а третьи – безотцовщина.
Парнишки с этих дворов дружились, кричали один другому из-за высокой скосившейся изгороди:
– Эй, Юшка, хрен бородавчатой! Чаво делашь? Выходь!
– Я те дам хрена! Выйду, гляди, тогда узнаешь, жердь долгая!
– А пошто грозишь, а не выходишь?
– Пшёл прочь, дурак! Много узнаешь-то, состаришься!
– Недоумки глупые! – встревал третий со смехом. – Вона я сам вам по башкам настукаю!
Дружки выходили, бавились[3] в лапту, в «жаворонка»; зимой снежками кидались, бабу вместе лепили; к концу августа лазили из озорства в брошенный сад опального князя Хворостинина за яблоками и малиной.
Безобразов Ванька был чернявый, не особо хваткий, но себе на уме. Петька Бугримов, белобрысый, долговязый, простак-недотепа. Юшка Отрепьев, хоть и самый малорослый, да верткий, сообразительный и выдумщик редкий. Волосом рыж, лицом невзрачен, с бородавками на лбу и щеке, еще и руки разные – одна короче второй. Игрища-то затевали, переругивались шутейно, а иной раз и всерьез дрались – носы разбивали друг другу.
Потом подросли, поучились грамоте у ближнего к Кремлю дьячка в мухортовом кафтанце, с узкой седеющей бороденкой. Грамоту постигал скорее всех Юшка (в крещении Юрий, значит). Ну, подросли, стали прилаживаться к какому-нибудь месту на царской либо боярской службе. Так и разошлись по жизни.
Отрепьевы утешались дальним родством со знаменитыми боярами Романовыми.
Юшка пошел на романовский богатый двор простым челядинцем. Может быть, оттого что отец его Богдан Отрепьев убит был неким литвином во время свары в Москве, в Немецкой слободе на Кукуе. Однако вскоре по доносу наложил царь Борис на Романовых опалу, обвиняя в измене. Начал следствие и расправу. Якобы хранили у себя в доме бояре колдовские коренья с злоумышлением противу государя.
Романовых взяли под стражу вместе со всеми родственниками и приятелями – князьями Черкасскими, Репниными, Сицкими, Карповыми, Шестуновыми. Самого главу славного рода Федора Никитича Романова и братьев его не раз подвергали пытке. Пытали и холопов их, и всякую челядь, мужчин и женщин. Затем порознь отправили по дальним городкам и погостам в ссылку.
Видя такую упорную царскую немилость, бежал Юшка Отрепьев с романовского двора и постригся в монахи. Новым крещением стал зваться Григорием. Опасался нечаянной беды из-за родственной близости к Романовым. Переходил из одного монастыря в другой. Наконец оказался неведомым образом в Кремле, в патриаршем Чудовом монастыре. Пригодился там переписчиком священных уложений всяческих, старых книг. У чернеца Григория почерк отличался четкостью и красотой.
Про такие похвальные способности доложили самому патриарху Иову, старцу строгому и нетерпящему каких-либо послаблений в молитвенном усердии. Вообще же ходил слух, будто юный Отрепьев из-за своей редкой грамотности и тем, что служил у Романовых, известен стал царю Борису как человек подозрительный. Однако царь не хотел ссориться из-за столь мелкого служки с патриархом, который борзо пишущего монашка хвалил.
Скоро, и впрямь, время бед на Руси настало. Пришел голод. Трижды не родился хлеб. На праздник Успения Богородицы ударил мороз и побил весь урожай – рожь и овес. В этом году еще кормились кое-как старым хлебом. С новым посевом не прибавилась радость: зерно все погибло в земле, не дав всходов.
И тогда началась гиблая пора: хлеб купить стало негде. Бедствие свалилось такое на срединную Русь, что отцы покидали детей, мужья – жен, дети – престарелых родителей. Люди мёрли, как от морового поветрия.
Видели, как иные несчастные, подобно скотам, щипали траву, ползая на четвереньках. Зимой ели сено; у мертвых находили во рту навоз и человеческий кал. Были случаи, что родители поедали своих детей, а взрослые дети родителей. Человеческое мясо продавали на рынках в пирогах, выдавая за говяжье.
Царь Борис приказал раздать деньги и зерно из дворцовых закромов; народ отовсюду бросился в Москву. Созданная при боярской думе комиссия отыскала запасы зерна. Стали привозить хлеб из дальних областей, где урожаи еще сохранились у рачительных жителей. Людей охватывало безумие, как будто и рыба пропала в реках и озерах, и дичь исчезла в лесах вместе с грибами, ягодами, бортным медом.
Без хлеба православный человек не мыслил существования. В одной Москве погибло до полмиллиона человек, устрашающе сообщает летопись[4]. Царь скорбел и хоронил умерших на свои средства. Кроме того, Борис велел продавать хлеб за половинную цену. Бедным семьям, вдовам, сиротам и особенно служащим при дворе и на охране Кремля немцам отпущено было много пудов зерна даром.
– Господь наказал Русь за страшный грех безбожного Бориса, – открыто говорили на московских улицах изможденные мужики в драной одежде, – за убиение наемниками его сына царя Ивана Васильевича, невинного младенца Димитрия… За то и терпит вся наша земля православная… За то, что сам-то Борис не по закону, а самовластно захватил престол царский… Смилуйся, Спасе наш, не дай за кровавый грех погибнуть всему роду христианскому…
И вокруг худые, как скелеты ожившие, с запавшими щеками, с исплаканными глазами женщины кивали согласно. Прижимали к себе синеватых морщинистых головастиков – истощенных детей своих и крестились дрожащим двоеперстием. Несмотря на все усилия властей спасти народ от голодной смерти, население (от князей и бояр до замученного тягловым трудом смерда) ненавидело царя.
По многим, даже близким к Москве, городам витала крамола. Вспыхивали, как солома в смоляных кадях, бунты.
– Смерть Борису! Цареубийце смерть! – кричали ожесточенные, изголодавшиеся люди. – И потомкам цареубийцы смерть такожде!
За голодом и мором последовали множественные разбои по всем дорогам, по всем селам и городам. Беспощадные грабители рыскали вокруг Москвы и в самой столице. Шайки нападали на царские, боярские, купечесие обозы. Толпы холопов из знатных домов бросились грабить и убивать. Их число увеличивалось холопами опальных бояр, которых никто не желал приютить и накормить из боязни доноса царю.
Нищий, голодный люд побежал к границам Московского царства: на Дон, на Терек, в Северскую Украйну, которая и так была переполнена людьми озлобленными – и на поляков, и на москалей, и на крымских татар, а больше всего на безбожного и греховного царя Бориса. Они готовы были сражаться со всеми, не жалея жизни, которая в это время ничего и не стоила.
Царские рати бились отчаянно с вооруженными разбойниками. Возглавил разбой какой-то неведомый (не то из казаков-черкасов, не то из местных беглых крестьян) атаман Хлопко Косолап. Окольничий царя Иван Басманов погиб в сражении с лихими людьми. Однако Хлопка взяли в плен, пытали на дыбе огнем нещадно и четвертовали на деревянном помосте – наискось от Фроловской[5] башни, посреди Красной площади.
II
На третий год ниспослал Бог милость: хлеб поднялся, заколосился, дал урожай. Голод отступил, стало вроде полегче. Однако люд московский, – опытная, битая, многое знавшая городская толпа продолжала роптать, ждала чуда или каких-нибудь невиданных перемен.
Во дворе одной из семей большого и знатного на Москве рода князей Шуйских, у Скопиных, сошел по крутым ступеням из терема восемнадцатилетний царский постельничий князь Михайла. Высокий, стройный, плечистый, с приятным открытым лицом и серыми большими глазами, смотревшими не по возрасту вдумчиво и сосредоточенно. Вывели конюхи из конюшни рослого саврасого коня для молодого князя – ехать ему в Кремль, на царскую службу.
– Держи стремя, Федор, – сказал старший конюх Иван Китошев, мужик сильный, чернобородый, любивший преданно молодого князя Михайлу, соблюдавший во всем чин и порядок.
Другой слуга, часто сопровождавший Михайлу Васильевича, стриженный в кружок, русый, проворный Федька поддержал стремя, даже зарумянился от горделивого удовольствия. Он был почти погодок князю, но тот брал его постоянно с собой в Кремль к выходам самого царя, на царскую охоту или по каким-либо мелким поручениям.
– Я с тобою, княже? – спросил Федька, надеясь на обычное снисхождение незлобивого господина, который зря никогда не наказывал холопов.
– Куда ж без тебя, – усмехнулся Скопин, легко поднялся в седло, поправил шапку, отороченную куньим мехом, взмахнул витой плетью. – Отворяйте-ка ворота.
Два всадника выехали со двора, подбористой хлынью[6] двинулись по нелюдным поутру улицам в сторону стен и башен с железными флагами-флюгерами. Князь был в синем кафтане с серебряным шитьем на груди, в подбитой мехом накидке – на одно плечо. Сабля с посеребренной рукоятью. Однако ножны без финифти и каменьев, простые, сверху кожаные, перехваченные медными кольцами. Слуга приоделся в Кремль: на нем темный шугай[7] с ясными пуговицами, с круглым галунным воротом, шапка суконная, сизая, с красными отворотами спереди. Сабля стрелецкая, стремянного конного полка.
Постепенно толпы людей выходили из домов своих, копились в слободах. От слобод пробирались к Торгу – тащили всякую всячину: вареную говядину, капусту квашенную в бадьях, яблоки моченные в бадьях же, рыбин вяленых, оладьи с творогом, в сулеях и крынках – медовуху, водку на хрене, простоквашу и топленое молоко. Холсты несли – простые и беленые, иной раз тонкое полотно с вышивкой, шерсть баранью для вязки, сукна грубые и поприличнее ткани.
В кузнях уже пыхтели меха и грохали молоты. В подвалах, открытых, дымящихся вонью и заваленных обломками жести, старых чугунов и обрезков полосового железа лудили, плавили олово больные, кашляющие железных дел мастера. Выбегали отдышаться подмастерья – отроки жалкого вида, с желтыми лицами и посиневшими от такого ремесла губами.
Уж прошла в Кремль смена стрелецкого караула. И у Спасского моста толпа стала гуще, шумливее. Здесь безместные попы торгуют молебнами. Пристают к мирянам без совести, за грудки хватают. Близ церкви Покрова[8], пестрой, как магометанские мечети в Казани, есть патриаршая изба, где законно дают разрешение попам служить на дому. Однако имеющих законное разрешение немного. Остальные попы берут нахрапом, перехватывают у «законников» желающих отслужить молебен. Потому вечно здесь гвалт и ругань, каждый норовит отстоять свою выгоду. Нередко доходит и до драки, до крови.
Однако народ не осуждал воинственных попов.
– Че ж поносить честных отцов-то? – разводил руками иной ремесленник или купчик. – Всякому на сем свете жрать хотца… А как ему, попу-то, копейку добыть, когда и сорока сороков московских церквей на всех не хватает. Христиане ныне скупы стали. И для Бога не особо щедроты являют. Были нам за грехи наказания Господни, будут и еще за алчбу[9] нашу.
В том самом гулком, крикливом месте подъехал Скопин-Шуйский со слугой Федькой к колымаге, запряженной знакомыми лошадьми да управляемой знакомым возчиком в нарядной одежде и красном кушаке. По бокам и сзади охраняющие холопья в охабнях из дорогого сукна. У каждого при бедре – сабля, за поясом пистоль да топорик боевой: словно на войну собрались.
– Стой. Стой-ка, Миша, подсядь ко мне, – послышался сипатый, известный Скопину с детства голос.
Михайла Скопин спешился, передал поводья Федьке и толкнулся в дверцу колымаги. На седалище с пуховыми подушками, держа перед собой княжеский посох, расположился старший и влиятельнейший всего рода Шуйских, темноликий, приземистый старик, тщедушный, с седеющей бородой и не по-русски горбатым носом. Князь и думный боярин, прослывший в народе лукавым царедворцем.
– Здрав буди, князь Василий Иванович. Бог тебе в помочь, дяденька, – почтительно произнес Михайла.
– И ты здрав будь, племянник, – кивнул прилизанной головой Шуйский; шапку горлатную[10] черного соболя старик упирал в колено. – На службу к ехидному самовластцу Бориске спешишь? Ох, худы наши дела-то. Нас «рюриковичей» Бориска ненавидит и не щадит, Господь покарай его изверга окаянного… Не грозного ли царя Иоанна Васильевича повадки перенял?..
Слегка побледнев из-за слушанья слов, за которые легко было попасть на плаху, юный князь приложил ладонь к широкой груди.
– Что сетовать да роптать, дяденька Василий Иванович! На то, верно, воля Божия, какой царь на престоле Руси. А наша судьбина престолу царскому служить честно… – Скопин покрутил головой с некоторой досадой: молодцу хотелось жить весело, от остального он пока старался отмахиваться. Ведь каждому свое предписано Божьим промыслом. Кому возвышаться и радоваться, а кому тяжкий крест испытаний и казней нести покорно.
– Ты не боись, что нас с тобой услышат, – скривив сухие губы под редкими усами, хмыкнул Шуйский. – Я не дурак такое зря болтать. Сказанное в моей избе на колесах с воли-то никто не узнает. Приклонь ухо, я тебе поведать чтой-то хочу.
Михайла Скопин приблизил ухо к шепчущему опасные вести старшине рода Шуйских.
– Уж сколь годов-то прошло с той поры, как посылал Борис меня в Углич удостовериться воочию в истинной смерти семилетнего царевича Димитрия. Я тогда все обследовал и доложил царю о гибели младенца. Будто бы играл царевич неосторожно с ножичком да в припадке падучей сам себя и зарезал. Вот я, повторял сию сказку, старался для Бориса казить[11] настоящее-то дело, чтоб ему услужить. В самой же сути убит был царевич по тайному указу Бориса, чтоб царевич не подрос да не мог бы явить притязаний на отецкий престол. А народ, али кто подставной, как увидал крови младенца, так и порвал сразу Битяговского и других убивцев, чтобы под следствие их не привести. Знал про все то преступный царь наш и уверился в тишине на сей случай совершенно. А тут вдруг последнее-то времячко стал меня в пустой чулан зазывать и спрашивать с бранью, правду ли я тогда обсказал о смерти Димитрия. Я крещусь, клятву даю Божеским именем, што все то мной явлено по чистой правде и ничего измышленного быть не может. Он вроде бы успокоится, хрипеть-дрожать перестанет. А седмица пройдет, опять тащит меня за рукав в глухое место и давай признанья от меня требовать: жив ли остался царевич али не жив? Будто совсем, окаянный, ума решился!
– Да-к ведь, князь Василий Иванович, и мне баяли[12], как в те годы ты с Лобного места народу про действо злодейское вещал. И все молились за невинную душу младенца. Никто не сомневался да и не измышлял другого. Пошто же нынче такой оговор на тебя?
– Мало того, когда Борис меня трясет и грозит один на один. Он и в Думе боярской стал меня при всех обвинять в измене и ложных моих показаниях. Да мнения потребовал у бояр: а не казнить ли меня смертною казнью за неправедную службу и за сокрытие правды-истины? Я пал на колени и лбом об пол перед ним, как пред святым образом… И ведь нашлися среди вятших[13] людей злодеи душегубцы… Стали Милославские да Одоевские, да Колычевы, да еще кой-кто бормотать, что государь-то дело говорит и надо устроить Шуйскому пытку огненную… Да не велеть ли готовить палачу топор по мою выю?..[14] Судить меня собрался Годунов. А Игнатка Татищев бил меня по щекам и страмил последними словами, льстивый раб Борискин и скудоумец.
– Да ведь, по сказкам старых людей, такая неправедная казнь верных рабов прямо как в опричнину, при свирепствах Ивана Васильевича! И как же далее потекло говорение думцев? А сам-то царь Борис на чем порешил?
– Еле-еле умолили его Воротынские, Ромодановский, Голицын и прочие другие – кто Гедиминовичи, кто Рюриковичи…[15] А дьяки Щелкаловы оба на колена пали в слезах… Тогда царь будто от морока страшного очкнулся и понял, видать, что малость перехватил пока… Бездоказательно-то… И дело все в том чудном слухе, который стал гулять в Кремле да в патриарших палатах. Там молвил-де некий чернец кому-то «Буду царем на Москве!»
– Ахти, вор[16] какой! Взяли ли того монаха? – взволнованно спросил дядю Скопин-Шуйский, по молодости изумляясь превратностям человеческой жизни.
– Куда там! Пропал, как бес от крещенской воды, б… сын. Ни шума, ни следа. – Старик Шуйский со злости стукнул посохом об пол колымаги. Поник на малое время седой премудрой головой, призадумался. Потом слезу старческую отер, мелькнувшую в бороде и вздохнул тяжко.
Жалко было молодому князю Скопину дядю, а что поделать. Скопин терпеливо ждал продолжения беседы.
– Хоть бы слухи-то не разрослись, не начали толпу баламутить… – опасливо произнес Шуйский. – Молва пойдет шнырять по кабакам-кружалам, по площадям торговым, по приказам государским да стрелецким полкам… – он махнул рукой. – Приидет грех велий на языцы земнии… А тебя, племянник, слыхано, стольником царским назначить велено. Что ж, дай те Господь помочь и далее… Расти, вьюнош, и подымайся, а нам, старикам, одно остается: на суд страшный душу готовить…
– Бог помилует, князь Василий Иванович! Как найдется тот дерзкий чернец, что еретические свои слова произнес, то и с тебя, дяденька, царский гнев спадет.
– Ну да, как шелуха с луковицы… – Шуйский внезапно показал редкие темноватые зубы. – Ладно, Мишаня. Это хорошо, что Шуйских порода при царском дворе в рост, в удачу продвинулась… Может, ты неоценимым думцем али большим воеводой станешь… Но ведь такое безумное и предерзостное слово сказать в патриарших палатах мог только тот, кого Бог напрочь разумения лишил, либо человек, знающий за собой: он, мол, и впрямь – царской крови…
– Возможно ль этакое? – усомнился Скопин, удивляясь неожиданным и странным мыслям дяди Василия Ивановича.
– А тогда… – хитро сощурил взгляд старый царедворец, – все может обернуться так, что и во сне не приснится. Сегодня один царь на Москве, а завтра-то другой… Ну ступай, Мишаня.
– Будьте живы и здравы, дяденька. – Скопин-Шуйский вышел из колымаги, сел на своего саврасого коня, что истомился без хозяина и тянул в сторону от Федьки, державшего его за узду. Князь махнул плетью, и понеслись всадники, пустив коней в слань[17], прямо во Фроловские ворота.
III
В понедельник второй недели Великого поста Варварским перекрестком шел по Москве монах Пафнутьева монастыря именем Варлаам. И был он беглым расстригой. Монах уже склонялся в жизни своей годам к пятидесяти, облысел, стал чреваст и седобород. Одет Варлаам оказался в старый подрясник, а поверх того носил бурый истрепанный бешмет[18]. Лысину прикрывал затертым меховым колпаком, еще и куколь[19] монашеский надвигал. Нос у Варлаама бугрист и красноват от любви к хмельному питию. Пояс имел монах из мятой кожи с пришитым кошелем для сбора милостыни.
И как-то случайно приблизился к нему молодой монашек, поклонился смиренно, спросил старого монаха:
Не отче ли Варлаам?
– Он самый и есмь аз, – ответил не особенно приветливо седобородый любитель пображничать и поговорить о скоромном. – А ты отколь меня знаешь? И че те от меня надо?
– Да мне говорил про тебя, честный отче, праведный Пимен из Чудского монастыря. Знавал он тебя когда-то и помнит, что ты ведаешь и монастыри, и места чудотворных мощей. Исходил чуть не всю Русь – от новгородской Софии до киевской, и молился даже мощам праведных печерских старцев[20].
– Ну, што верно, то и правда. А ты кто таков, сыне?
– В монашестве Григорием называют. Живя в Чудовом монастыре, сложил я по наущению святого Григория Богослова похвалу московским чудотворцам. Самому святейшему патриарху стало сие известно, и видя такое мое усердие, взял он меня к себе в палаты. Потом стал брать с собою в царскую Думу и оттого возымел я, честный отче, великую славу.
– Да-к и што те еще требуется на белом свете? – спросил насмешливо повидавший всяких людей Варлаам. Он с явным недоверием разглядывал круглое невзрачное лицо и рыжую бородку столь преуспевшего инока Григория. И казалось почему-то прозорливому путнику и самому немалому пройдохе Варлааму, что затевается сейчас что-то необычайное и сомнительное. Но отец Варлаам был человек решительный.
– Ну? – еще раз вопросил он. – Я тебя слухаю, сыне. Отверзи уста своя, токмо не бреши.
Григорий ответил на настойчивый вопрос Варлаама очень пространно и не особенно ясно. Ему, как он объяснил, не хочется не только видеть, но даже и слышать про земную славу и богатство. Ему бы только съехать из Москвы в дальний монастырь, где и предаться уединенной жизни да постоянной молитве. Вроде бы узнал он от того же престарелого Пимена, будто хорош для такого духовного подвига черниговский монастырь.
– Нет, сыне, после патриаршего Чудова монастыря черниговская обитель тебе не подойдет. Там место, по слухам, неважное. Даже и в праздники жирной рыбы не отведаешь да крепкого, сладкого пенника не изопьешь.
– Ой ли! И чего же? – словно не понял Григорий.
– А то, что и выпив, и закусив, летней ночью негде там пухлую монахиню ущипнуть… – совсем уж бессовестно заявил отец Варлаам и хохотал долго хрипатым от перепоя басом.
Вдруг что-то дерзкое и веселое мелькнуло в глазах смиренного искателя праведной жизни.
– Коли не хочешь в Чернигов, отец Варлаам, то тогда идем дальше. Хочу в Киев, в Печерский монастырь. Там, бают, многие старцы души свои спасли. А, поживя в Киеве, пойдем далее, в святой град Иерусалим, ко гробу Господню.
– Но ведь Печерский монастырь за рубежом, в Литве. А за рубеж-то пройти трудно.
– И вовсе не трудно, – сказал Григорий уверенно. – Ныне государь наш взял мир с королем Жигимонтом[21] на двадцать два года. А стало быть, и пройти просто: застав никаких нет. Коли же прикажут навести заставы, так нешто мы их лесом не обойдем?
– Твоя взяла, сыне, идти так идти. Давай-ка встренемся поутру в иконном ряду. Встренемся без обману. Ну, Господи благослови! Не забудь харчишки с собой прихватить. По первому времени пригодятся.
На другой день сразу после ранней обедни Варлаам нашел в начале иконного ряда Григория и с ним еще одного «мозглявого», как подумал про себя расстрига, молодого чернеца с постным лицом и встревоженным взглядом. Но с увесистой котомкою за плечами.
– Вот, отче, тоже желает с нами путешествовать по святым местам, – указывая на своего товарища, сказал Григорий. – А зовут его в монашестве Мисаилом.
– В миру-то звался аз Михайлой Повадиным, из купецкого ряда. Ушел вон от мира, ибо сей мир греховен зело, – вздыхая, проговорил с сокрушенным видом лядащий монашек.
– Ладно, хрен с ним, пущай бредет с нами, – пробасил пузастый бродяга. Он опирался на суковатый посох, больше похожий на крепкую дубину. – А про жратву, яства дорожные не позабыли?
– Нет, не позабыли, – успокоил старшего путника Григорий. – Сухарей мешок малый взяли, рыбы вяленой – плотвы, окуня, карасей. Есть и немного денежек за пазухой.
– У меня цельная полтина имеется, – сообщил паломник из «купецкого ряда».
– Ну, так в ближайшем же кабаке мы ее и пропьем, – радостно возгласил Варлаам. – Негоже духовным лицам зря при себе деньгу таскать – сию бренную грязь, придуманную Сатаной людям на погибель. Что ж, благословясь да помолясь, трогаемся, братие по Киевской дороге…
Трое чернецов зашагали из Москвы в южном направлении среди пологих холмов с приземистыми деревеньками, меж невысоких березняков и ельников.
– По большой дороге не очень-то ладно нам идти, отец Варлаам, – неожиданно подал голос Григорий. – Тут ведь и стрелецкие дозоры иной раз скачут, всякие ярыги[22] и соглядатаи рыщут неведомо для чего… Лучше нам свернуть на тропинку поодаль да и продвигаться в ту же сторону незаметно. Мы людишки-то беззащитные, беглецы монастырские… Так если вдруг к нам какой лихоимец привяжется, оно как-то нехорошо.
– Да чего гадать, можно и тропинкой потопать, – благодушно согласился Варлаам, прикидывая про себя, что неспроста рыженький монашек хочет отдалиться от дороги: видать, не все благополучно у него за спиной, хотя он и наплел небылиц про свои заслуги перед патриархом. Старый бражник нюхом чуял непростой замысел молодого товарища. Думал он об этом, двигая седоватыми бровями, и ухмылялся – поглядывал на Григория искоса. Но и представить себе, конечно, не мог, куда приведет монашка начало сегоднешнего путешествия.
Богомольцы счастливо добрались до Новгорода Северского, прожили здесь недолго в Преображенском монастыре и, сыскав провожатого, перебрались за границу.
В Киеве их приняли в Печерский монастырь. Истово молились они перед мощами святых угодников и, среди них, перед былинным Ильей Муромцем. Прожили в монастыре три недели и отправились в Острог, к тамошнему владельцу князю Константину.
Перед Григорием открылся другой мир; южный, горячий, смелый и в то же время ленивый народ – то занятый своим плодородным хозяйством, то пьянствующий и гуляющий безмерно, то бунтующий против польских жолнеров, расквартированных в селах и городках, то громивший шинкарей и корчмарей, когда нечем становилось уплатить за горилку.
Временами часть молодежи уходила в поход с запорожскими казаками «за зипунами», то есть отправлялись в грабительские набеги на Крымского хана или (как их прадеды в давние времена) отплывали под парусами сотен ненадежных судов через грозные валы Понта Евксинского (а иначе – Русского моря) прямо в Туретчину. Свирепо бились там с янычарами[23] султана и – либо гибли в бою, либо оказывались в цепях на невольничьих рынках, либо являлись в своих краях с награбленными, испятнанными кровью шелковыми халатами, расшитыми золотом бархатными платьями, пестрыми шалями чудной работы, с ворсистыми многоцветными коврами. В ларцах, набитых серебряными, золотыми браслетами да монистами, грузли, бывало, их парусные «чайки». Там же кучей везли ятаганы с рукоятями, украшенными лалами[24], изумрудами да сапфирами, сабли в чеканных, золотых ножнах, пистоли аглицкие, мушкеты фряжские…
А поверх этого драгоценного хлама и заморского оружия сидели привязанные одна к другой своими смоляными косами – прелестные белокожие турчанки с длинными глазами и бровью полумесяцем, смуглые, тучнобедрые арабки да все, кто попался в гаремах, – грузинки, черкешенки, гречанки, болгарки и с маслянистым, темным, будто копченым, телом удивительные женщины из стран африканских. Ну, христианок возможно было взять замуж – замутить славянскую кровь «хохлачей» буйною страстью и невиданным упрямством. Басурманок продавали венецейцам – для дальнейшей перепродажи в Европу или обратно на Восток. Мужчин редко брали пленными, чаще по пути сбывали тем же венецейцам гребцами на галеры.
Видел это рыжеволосый инок Григорий, и голова его горела от сильного желания власти и наслаждений. Но он пока терпел и приглядывался к окружающему его сообществу новых людей.
Внезапно Григорий пропал и отсутствовал почти два года. Бывшие его спутники так и жили в Остроге, спрашивая про своего товарища у местных жителей. Вислоусые беспечные «хохлачи» говорили им, будто Гришка, или Хришко, как они его называли, подался в саму Запорожску Сичь и там стал казаком: скачет на конях, учится рубить саблей да стрелять из пистоля. А подрясник свой монашеский скинул и оделся в вольную одежду казацкую: свитку, шаровары да сапоги. Пьет горилку, буянит в шинках, а по ночам норовит перемахнуть через плетень с цветущими подсолнухами, чтобы выманить из хаты кареглазую пышнотелую Хиврю или Одарку. Тестей да мужей он не страшится и готов биться с любым кольями и на кулаках.
Все эти сведения сообщались с подмигиваньем и смехом, и непонятно – верны были те россказни или подвыпившие местные бахари[25] потешались над пришлыми москалями.
Появившись однажды, Григорий не вернулся к своим собратьям, которые по-прежнему находились в Троицком монастыре. Он отправился в город Гощу и стал учиться при католическом костеле в иезуитской школе латыни и польскому наречию.
– Ай, собачий сын! – взревел свирепо, узнав о столь возмутительном отпадении от монашеского братства, отец Варлаам. – Я те устрою вразумление, выродок, еретик!
Он поехал на монастырской двуколке в Острог бить челом князю Константину, чтобы тот велел взять Григория из Гощи и снова сделать его чернецом, возвратя в православную обитель.
– Да тут, отец честный, другие порядки. Земля здесь под королем Жигимонтом, он дает всякому человеку вольную волю. Кто в какой вере хочет, в той и живет, – сказал рассерженному расстриге князь Константин. – Вот у меня сын родился в православной вере, а теперь держит латинскую. Как я его не корил, ничего не сладилось. Мне его не унять. Так и живем: я при Святом причастии кровь и тело Христово из чаши потребляю. А он, поганец, взяв от ксендза[26], облатку сухую жует.
Ни с чем Варлаам вернулся в Троицкий монастырь, раздраженный и разочарованный.
– Ну, ништо. Господь этого безобразного изменщика накажет, – пророчески произнес старый бродяга. – Не видать ему добра, и конец его близкий страшен грядет.
А Григорий, понаторев в латыни и польском языке, рекомендован был в услужение к одному из виднейших магнатов Речи Посполитой, ясновельможному князю Адаму Вишневецкому.
Со временем пан Вишневецкий оказался весьма доволен новым слугой и проявлял к нему всяческое благоволение. Но Григорий уже готовился осуществить свой давний план. Он притворно заболел и, якобы готовясь к близящейся смерти, просил пана Адама выслушать его в скорбный час.
Вишневецкий подошел к ложу умирающего слуги и узнал от него, что перед ним прощается с жизнью не обычный простолюдин, а человек высокого происхождения. Более того, единственный сын покойного царя Ивана IV, имеющий священное право на московский престол в противовес захватившему трон преступнику Борису Годунову. Затем последовал рассказ о подосланных в Углич убийцах, замышлявших по приказанию Годунова зарезать царевича. Однако смелые и честные люди спрятали семилетнего Димитрия, а вместо него посланцы преступного царя убили другого мальчика такого же возраста, сына местного священника. Царевича же долго прятали у разных благодетелей, а затем определили в монастырь.
Вишневецкий призадумался. Он понимал, что сведения, полученные от больного слуги, сомнительны. Однако судьбы людей в руках Бога, и следует иногда только вовремя посодействовать Господней воле. Вспомнил пан Адам, что дед его вышел из православного казачества, звался Иван Вишня и стал известен после удачного набега на владения турецкого султана, воевавшего с Польшей. Затем король пригласил лихого запорожца к себе на службу. Дед согласился, принял католичество, за воинские заслуги получил титул князя. И теперь его внук один из самых знатных и владетельных магнатов королевства.
– Есть ли у тебя хоть какое-нибудь вещественное подтверждение твоей истории? – спросил пан Адам.
– Да, – отвечал слабым голосом Григорий, – вот вещь, оставшаяся у меня с детского возраста. – Он достал спрятанный на груди золотой крест с самоцветами и пояснил заинтересованному хозяину, что крест сей возложен на него при крещении его крестным отцом князем Мстиславским.
Откуда ловкач Григорий приобрел такую ценную вещь, трудно вообразить. Может быть, усердный писец, которого заметил патриарх Иов, похитил крест в ризнице Чудова монастыря, имея доступ к старым книгам и патриаршей церковной утвари? Словом, князю Вишневецкому захотелось поверить молодому человеку, и он ему поверил.
Тотчас был приглашен самый лучший врач в воеводстве. Врач был иезуит, а потому сделал все возможное, чтобы излечить русского царевича, учившегося недавно в иезуитской школе. Врачевание столь достойного мастера сразу возымело самое благотворное действие на больного. Григорий скоро стал совершенно здоров. Он попросил пана Адама называть его теперь царевичем Димитрием.
Князь Вишневецкий, как польский вельможа, сразу сообразил всю выгоду появления в Польше законного претендента на русский престол. «Царевичу Димитрию» были предоставлены отдельные комнаты с соответствующим убранством, панские одежды и панский стол. К тому же чрезвычайно удобным оказалось то, что он свободно говорил по-польски и даже вводил в свою речь некие сентенции на латыни.
Карета Вишневецкого стала все чаще оказываться у замков ближних панов. Входя в гостевую залу, князь представлял хозяину и его жене, как и прочим родственникам, русского царевича Димитрия, жертву коварства и жестокости Годунова, обманом захватившего московский трон. Изумленным панам рассказывалась история о намерении Годунова убить невинного младенца, сына царя Иоанна IV, далее шло известие о его чудесном спасении, долгом сокрытии его происхождения и…
– И вот теперь пришло время, – разглагольствовал вдохновленный своей ролью первооткрывателя Вишневецкий, – когда с помощью нашего короля Сигизмунда, с помощью ясновельможных панов и шляхты, во главе сильного войска благородный царевич пойдет на Московию освобождать родительский трон от преступного царя Бориса, обманщика и узурпатора…
Слова «с помощью короля Сигизмунда, панов и шляхты» буквально пронзали своим сокровенным смыслом буйные души ясновельможных.
– Виват! – кричали паны, раздувая пышные усы. – Виват царевичу Димитрию! Смерть проклятому Богом негодяю Годунову! Ваше высочество, наши сердца и сабли принадлежат вам!
После представления и приветствий устраивались пиры с жареным кабаном, жареными гусями и прочей рыцарской снедью, со старой польской водкой и венгерскими винами. Затевались балы под звуки труб, визг сопилок, пиликанье скрипок и звон цимбал. Почтенные паны и стройные шляхтичи, гремя шпорами, бешено откалывали мазурку. И хотя внешность царевича не производила особенно приятного впечатления на поляков, но хорошенькие паненки с открытыми лебедиными шеями, в легких платьях, в шапочках с пером приманчиво и сладко улыбались спасшемуся «царевичу Димитрию». От этих улыбок у Гришки стучало сердце и кружилась голова.
Новоявленного царевича везде принимали с царскими почестями. Особенное впечатление на «Димитрия» произвело празднество в городе Самборе у знатного сандомирского воеводы Юрия Мнишека. Младшая дочь Мнишека была замужем за Константином, братом князя Адама Вишневецкого. Но старшая дочь Марина была свободна. Несмотря на маленький рост, юная полячка, сверкающая диадемой в черных волосах, ослепила красотой и изяществом пылкого, до отчаянности дерзкого Гришку. Он старался не отходить от Марины, постоянно стремился развлекать ее и не скрывал своих чувств. Дочь пана Мнишека только вежливо терпела некрасивого, но необычайно красноречивого царевича.
IV
– Но вы же сами изволите видеть, ваше высочество, – вкрадчиво говорил Юрий Мнишек, уединившись на другой день с Григорием у себя в замке, куда тот захотел переехать от Вишневецкого, – вы сами изволите видеть, что моя дочь будет вашей супругой только при условии вашего принятия святой апостольской католической веры. Кстати, помощь короля и влиятельных вельмож Речи Посполитой тоже будет зависеть от этого условия.
– Что ж, я готов стать католиком, – слегка усмехнувшись и одновременно пожав плечами, согласился Григорий.
– О, это прекрасно, ваше высочество! Тогда приступим к выполнению вашего решения сегодня же, – обрадованно заключил Мнишек, хотя его немного озадачила легкость, с которой русский престолонаследник согласился принять новое крещение. Ревностному католику Мнишеку почему-то показалось: если бы он предложил русскому царевичу протестанство или даже склонял стать поклонником ислама, тот согласился бы с неменьшей готовностью. «Может быть, он вообще безбожник и ему безразлична любая религия? И кто совершенно достоверно решился бы доказать, что передо мной сидит истинный сын Иоанна IV, а не самозванец и авантюрист, холера ясна? Но все это неважно, в конце концов. Важно влияние Польши на Московию или даже полное ее покорение. И важно, что моей Маринке светит вознестись на царский трон и произвести наследника с польской кровью. А мне – расплатиться наконец со всеми долгами и превратиться в богатейшего человека Речи Посполитой. И стать зятем монарха, которому суждено править империей от Вислы до Волги, черт возьми!»
Впрочем, возникла неприятность. На уговоры Мнишека стать невестой, а затем и женой царевича Димитрия, гордячка Марина ответила решительным отказом.
– Чтобы я вышла за схизматика…
– Он в скором времени будет католик, – торопливо вставил Мнишек в возмущенную речь Марины.
– Чтобы я вышла за лжеца и беглого холопа, за проклятого москаля, пся крэвь! Нет, пан отец, я никогда не соглашусь. И никто меня не заставит!
– Но, дочь моя, ты не хочешь понимать редких и порази-тельных выгод, которые упадут в мои руки… и в твои тоже. Ты отказываешься быть русской царицей?
– До царства этому рыжему хаму как до неба, пан отец. Пока в Москве правит, насколько я знаю, царь Борис. Вот когда на его трон сядет ваш хваленый Димитрий, тогда я еще подумаю… И, кроме того, я должна признаться вам, пан отец, я люблю другого. Достойного рыцаря и моего избранника.
– Кто же тот избранник, дрын ему в дышло?
– Пан Валэнтин Огинский.
Мнишек сразу вспомнил статного белокурого красавца во французском камзоле и высоких ботфортах, со шпагой вместо традиционной сабли. Они ездили тогда в Краков с дочерью. Как и многие паненки, прибывшие на королевский бал, Марина была очарована любезным паном Огинским. Но Мнишек не мог представить себе, что его капризная дочь настолько увлечется этим вертопрахом.
– Огинский мот и картежник. Все его имения заложены до последнего фольварка, а в карманах вряд ли осталась даже пара злотых, – раздраженно преувеличивая пороки красавца, проговорил пан Мнишек. – Ты должна понимать: замуж выходят не за обманчивую внешность бабника и щеголя, а за состоятельного и уважаемого человека. Словом, готовься к обручению…
Однако Марина скандалила, упиралась и даже заплакала, что случалось с ней крайне редко.
Через несколько дней настойчивый пан Мнишек повел русского царевича в католический монастырь во имя Святого Франциска, и монахи-францисканцы совершили крещение «схизматика» по католическому обряду. Таким образом «царевич Димитрий», он же Григорий Отрепьев, превратился в католика. Впрочем, он попросил Мнишека не слишком распространяться об этом. Посвящены должны быть пока только избранные, ибо если вести о том, что сын Иоанна IV сменил веру, дойдет до православного народа… «Думаю, мое возвращение в Москву и притязание на отеческий трон станет невозможным», – доверительно сказал Григорий будущему тестю. И пан Мнишек с ним согласился.
После переговоров с Рангони, папским нунцием[27] при польском дворе, Мнишек и царевич отправились в Краков. За ними в отдельном возке следовала Марина со своей подругой, шляхтянкой Барбарой Казановской, и несколькими служанками. Немалый отряд вооруженных всадников сопровождал экипажи до самого королевского дворца. Рангони ехал отдельно со своими прелатами.
– Ваше Величество, представляю вам спасенного чудесным образом от убийц Годунова, сына царя Иоанна IV, царевича Димитрия Ивановича, – склонился в глубоком поклоне Мнишек. Он откинул полы нарядного кунтуша[28] и опустился на колено перед королем Сигизмундом. Король милостиво покивал, сдегка подняв брови.
«Царевич Димитрий» тоже поклонился польскому королю, хотя и не слишком низко. Это было заранее оговорено, чтобы не ронять достоинство особы царской крови.
– Мы рады приветствовать сына почившего великого государя Московии, – произнес Сигизмунд и несколько замешкался. Официально Польша недавно заключила мирный договор с послами Бориса Годунова, признанного Сигизмундом законным монархом, и принимать непонятно откуда взявшегося претендента на русский трон казалось ему довольно неприличным и даже опасным. Тем более – царь Борис обещал совместно с поляками направить свои войска против турок.
Произошла неловкая пауза, после которой распорядитель королевских приемов попросил высоких гостей перейти в кабинет Его Величества.
Королевский кабинет, роскошно убранный бархатными портьерами, портретами польских королей и золотыми шандалами, произвел на Григория Отрепьева ошеломляющее впечатление. «Как стану царем, тоже себе такой же сделаю, – подумал он и искоса поглядел на свое отражение в блестящей рыцарской кирасе, подвешенной у входа. – У, дурачина! Чего делишь шкуру неубитого медведя?.. – попенял он себе, но, подумав, приободрился: – Эх, ну ладно! Бог поможет. Поглядим, что будет дальше…» Гришка вскинул голову и принял надменный вид.
Король сел в обитое серебряной парчой кресло на возвышении. Движением холеной руки в перстнях предложил гостям занять соседние кресла, несколько пониже. У письменного стола расположился королевский секретарь с бумагами и гусиными перьями. За дверями стали гвардейцы-французы с обнаженными шпагами. Полтора десятка польских жолнеров выстроились в коридоре, держа алебарды и мушкеты.
И началась доверительная беседа. Во время нее был заключен договор, так называемые кондиции, по которым будущий царь передавал будущему тестю все города Северской земли[29], а будущей царице – Новгород и Псков со всеми пригородами навечно. В одном из пунктов «кондиций» королю отдавался так давно желанный для Польши Смоленск, которым предполагалалось погасить долг царского тестя (оказалось, Мнишек был должен крупные суммы не только ростовщикам и неким достойным панам, но и самому королю).
А чтобы сделать приятное нунцию Рангони, Григорий Отрепьев поклялся в течение года после своего воцарения ввести католичество по всей Руси, а провославие отменить. Нунций сдержанно возликовал, хотя и понимал: изменение веры будет делом крайне тяжелым. Оно может принять очертания настоящей религиозной войны… Однако слышать о победе католичества в Московии было так сладко… Рангони со своей стороны пообещал сделать все возможное для помощи царевичу.
На другой день нунций принял от него в костёле, в присутствии многих знатных особ, клятву, что он (царевич Димитрий Иванович) всегда будет послушным сыном римского апостольского престола. Затем Рангони причастил его и миропомазал, а также принял исповедь.
Тут же воодушевленный нунций повез новообращенного к королю. Тот официально, в присутствии придворных, признал его царевичем, достойным добиваться трона своего отца и низложения худородного Годунова. Король даже назначил царевичу ежегодное содержание в сорок тысяч злотых. Впрочем, помогать ему войском он не хотел, опасаясь больших осложнений в случае неудачи. А неудачами такого рода могли быть враждебные действия Швеции, с которой у короля Сигизмунда давно велись династические, территориальные и военные споры.
Мимоходом пан Мнишек пожаловался нунцию Рангони на свою непокорную дочь, капризы которой не благоприятствовали намеченным действиям по внедрению среди населения Московии католичества.
– Ей, видите ли, не нравятся манеры Димитрия и его некрасивое лицо в сравнении с… черти бы его взяли… с паном Огинским. За него она хоть сейчас вышла бы замуж. А за будущего царя не желает, безумная девчонка! Помогите, уговорите ее прекратить сопротивление, святой отец. Ну, не лупить же мне свою дочь вожжами, как немытую холопку…
Смуглое, с орлиным носом и черными пристальными глазами лицо нунция сурово нахмурилось.
– Пусть ваша дочь, мессер Мнишек, приедет в мою скромную обитель сегодня вечером. Я буду иметь с нею душеспасительную беседу и надеюсь ее уговорить.
Марину Мнишек привезли в резиденцию Рангони, находившуюся рядом с главным собором Кракова.
Нунций встретил дочь сандомирского воеводы благожелательно и даже с льстивой улыбкой, какая невольно возникает у мужчин при общении с красавицей.
Поначалу опытный пастырь душ доходчиво и откровенно, имея дело с очень неглупой девушкой, объяснял ей множественные выгоды брака с царевичем Димитрием. Затем он обратился к ее сердцу католички, которое должно пожертвовать своими привязанностями ради торжества церкви.
Но Марина упорствовала. Она твердо заявила о своем нежелании испортить себе жизнь ради политических интриг.
– Я знатная панна, а не какая-нибудь мещанка из предместья, – заявила красавица и, вскинув голову, посмотрела на свое отражение в большом венецианском зеркале.
Дрова в камине догорали, отбрасывая красноватые блики на белую стену с черным распятием. Вдоль стен протянулись резные, крытые бархатом деревянные скамьи. На столике в большом канделябре стояли семь зажженных свечей. Неподвижные язычки пламени внезапно заколебались, будто на них из темного угла повеяло холодом и сыростью (так показалось Марине). Девушка вздрогнула.
– Значит, ты, дочь моя, не желаешь внимать уговорам своего почтенного отца, пожеланиям Его Величества короля и моим пастырским увещеваниям… – подытожил Рангони окончание своих аргументов в пользу ее брака с царевичем.
– Да, не желаю. Пусть мой отец, вы и король обойдутся без меня в этих мужских делах. Лучшие женихи Польши не откажутся назвать меня своей коханой. И я не потерплю прикосновений московитского хлопа. Оставьте меня в покое, святой отец.
– Ты не хочешь стать царицей? Не желаешь быть осыпанной драгоценностями несметной цены? Не нуждаешься в платьях из шелков и бархатов, в мантиях из соболей и горностая? Тебе не нужна корона?
– Золотые побрякушки и дорогие меха не заменят истинной любви и высокого благородства… – отвергла соблазны нунция гордая полячка.
– Ради похоти своей ты пренебрегаешь интересами святой церкви. – Лицо Рангони стало мрачным. С выражением праведного гнева он вперил взгляд в маленькую фигурку Марины. – Гордыня отравила тебя, как яд змея преисподней… Пади на колена перед распятием Господа!
Марина почувствовала смятение и страх. Как верующая католичка, она понимала, что ее сопротивление нунцию греховно. Да, наверное, и бесполезно.
– Оставьте меня, святой отец! – повторила она и внезапно замолчала, окостенев от ужаса.
Вдруг одновременно погасли свечи. Тьма, лишь слегка нарушаемая отсветами камина, скрыла присутствие Рангони. Остался лишь его страшный голос.
– Адским пламенем заблистали глаза твои… Исказились и почернели уста, щеки твои поблекли… Под дуновением нечистого краса твоя пропала… Посмотри в зеркало, Марианна Мнишек!
Венецианское стекло отразило черную химеру с рогами, косматой бородой и зелеными, горящими злобой глазами. У ног жуткого чудовища скорчилась уродливая обезьянка в платье… Марина узнала себя.
Отчаянный вопль, мольба о прощении, клятва подчинения и раскаянья раздались в обители папского нунция. Рыдая, Марина на коленях ползала перед ним.
– Ты прощена в первый раз, – услышала она снова голос Рангони. – Ты будешь моей рабою, и каждое мое слово будет законом для тебя, ибо здесь я представляю святой закон Ватикана.
Свечи разом вспыхнули. Рангони поднял девушку и повернул ее к зеркалу. Сквозь слезы она увидела свое прежнее лицо, но бледное и поникшее.
V
Брак был отложен до утверждения жениха на московском престоле.
25 мая 1604 года Лжедмитрий дал Мнишеку запись, в которой обязался – жениться на Марине тотчас по вступлении на престол и выдать будущему тестю один миллион польских злотых для устройства в Москве. Марине обещалось столовое серебро из царской казны и бриллианты в соответствии с ее будущим царским обиходом.
Впрочем, четверо знаменитейших польских вельмож, возглавлявших сейм: паны Замойский, Жолкевский, Зборажский и князь Василь Острожский – отговаривали короля в поддержке авантюры Мнишека. Они доказывали опасность, заключавшуюся в обиде Годунова и его возможном союзе со Швецией.
– Откуда вы откопали этого проходимца, ясновельможный пан Мнишек? Вы думаете подобного добра мало в самой Польше и вообще в Европе? Может быть, вы представите нам завтра неучтенного сына короля Франции или случайно попавшегося вам под ноги неизвестного австрийского принца? И мы отдадим приказ всей Речи Посполитой собирать полки, чтобы посадить самозванцев на трон законных монархов? – язвительно спрашивали столпы польского правительства у сандомирского воеводы.
– Мне представил Димитрия князь Вишневецкий, – раздраженно отвечал Мнишек.
– А где же сам Вишневецкий?
– Он при царевиче.
– Царевич этот прохиндей, что выдает себя за сына Ивана IV? Ну, понятно. Его хотели убить, но почему-то убили другого. Убили поповича, вместо царевича, так кажется. И какую же армию вы, пан Мнишек, приготовили для будущего русского царя? – серьезно сердился канцлер Лев Сапега.
– В основном это добровольцы из шляхтичей и жолнеров[30] некоторых смелых рыцарей, панове, – продолжал отбиваться Мнишек, не собираясь сдаваться. Им, этим вельможам и богачам, наплевать на царевича Димитрия, но воевода из Сандомира, давно запутавшийся в долгах, не собирался отказываться от него. Димитрий на троне рядом с его дочерью давал ему надежду на обогащение и власть. Он так мечтал об этом.
Мнишек собрал для будущего зятя тысячу шестьсот боеспособных воинов в польских владениях. Конечно, это был всякого рода сброд. Промотавшиеся паны из приграничных воеводств со своими дружинами. Некоторые русские князья и бояре, сбежавшие в Литву от опалы и казни. Присоединились к походу на Москву и запорожцы, называвшие себя почему-то черкасами. Им безразлично было, куда скакать «за зипунами»: на север, в православную Московию, или на юг – в Крым и Туретчину.
Донские казаки, стесненные при Борисе Годунове (если их ловили в городах, то тотчас сажали в тюрьмы за разбой), откликнулись немедленно на призыв «Димитрия Ивановича» и присоединили к ополчению, собранному Мнишеком, две тысячи казаков. Теперь войско Лжедмитрия насчитывало четыре тысячи человек.
А слухи из Польши, Ливонии, с Северской Украйны и Дона уже проникали на Русь, в гудящие, как встревоженные ульи, города. Наконец ими переполнилась Москва. Донские казаки выбрали двоих атаманов, ограбили нескольких представителей царской власти и послали сказать Годунову, что явятся к Москве с законным царем.
Царь Борис ужасался этих слухов и приходил в ярость. Он приказал отгородиться от Литвы заставами и готовиться к войне. Но эти меры оказались запоздалыми. Народ ждал «доброго», «настоящего» царя Димитрия Ивановича. Люди на юге Руси вооружались – не для отражения близящегося войска Самозванца, а чтобы присоединиться к нему.
Первые города, попавшиеся на пути Самозванца, сдавались без боя. И именно простолюдины, «черный народ» усиливал его армию. Часто восставшие смерды и холопы приводили к «истинному» царю на суд связанных воевод и бояр. И если последние присягали, клялись в верности «Димитрию Ивановичу», он не только даровал им жизнь, но и доверял командование отдельными отрядами. Тех, кто отказывался присягать, немедленно убивали на глазах у всех, как прихвостней «преступного» Бориса Годунова.
Встретился с победоносным «царевичем» в Путивле бывший дружок Петруха Бугримов и вылупил простодушные свои глаза, бормоча явственно: «Ну и ну… Так ведь это же… Мы ведь с ним это… гы… когда-то того…» Его тотчас схватили недремлющие приставы, наблюдавшие за порядком в войске. Поволокли Петруху, заткнув ему рот, и только спросили взглядом у предводителя. Он холодно отвернулся, и сын боярский Петр, дергая ногами, закачался в петле на ближайшем дереве.
Однако бывший сосед Иван Безобразов сразу сообразил, в чем суть. Он даже помыслить не смел о том, как в детстве и отрочестве они играли с Юшкой Отрепьевым… Оказавшись поблизости от «Дмитрия Ивановича», пал на колени, пригнул голову: «Государь… Истинный царь наш… Слава тебе!»
К вечеру за ним пришли. Ивашка похолодел: «Ну, все… Конец…»
– Ты боярский сын Безобразов Иван?
– Я… аз…
Его привели к «царевичу», бросили перед ним. Безобразов сунулся лохматой башкой в ноги… «Господи, да я для нашего царя жизни не пожалею…»
Иван Романович Безобразов не дурак, своего не упустит. Приглядевшись к нему и оценив этот остекляневший от преданности взгляд, в котором ни на миг не отражалось бывшее «дружество», Самозванец сказал:
– Вот что, Иван, назначаю тебя своим постельничим.
– Ох, государь, Димитрий Иванович… Как и благодарить… Да я, Господи, думать не смел… – И стал Безобразов близким человеком нового государя, еще не воссевшего на родительском престоле.
Годунов слал письма с упреками к польскому королю Жигимонту. Тот отвечал уклончиво: я, мол, здесь не при чем, за смуту на границах Руси и за действия всякого сброда не ответственен. И мои советники разбой каких-то людей с панскими фамилиями не поддерживают.
Писал в сердцах царь Борис и Самозванцу, ругал его, призывал опомниться, усовеститься, побояться гнева Божьего. «Царевич» в ответ на письма Бориса отвечал длинным лицемерным посланием, где, в свою очередь, срамил его за покушение на убийство царского сына, за незаконный захват трона.
В Москве и других городах бирючи зычно кричали с высоких мест о Самозванце, еретике Гришке Отрепьеве. То же возглашал с амвона Успенского собора и негодующий патриарх Иов, проклинал еретика, расстригу Гришку и звал православных отвернуться от козней и безобразий вора и проходимца.
Но армия «вора» росла с каждым днем, пополняясь толпами «черного люда» и отрядами донских казаков. Догоняли своих собратьев и запорожцы, боясь упустить случай разграбления Московской Руси. Странно, что сидели, притаившись и выжидая, чем кончится свара между московитами, Польшей и казаками, стремительные всадники крымского хана Гирея.
Временами столкновения с царскими войсками кончались для пестрого сброда Лжедмитрия разгромом. Однако «царевич» не унывал, отступая. Вскоре, пополнив ряды своих ратников за счет противников Годунова, он продолжал наступление на Москву.
Борис метался, как затравленный зверь, то обвиняя своих бояр в поголовном заговоре, то требуя от воевод решительного сражения и пленения Гришки Отрепьева, то собираясь отослать свою семью в Швецию, к благожелательному королю Карлу[31]. Внезапно Годунов прилюдно упал, из носа, рта и ушей его хлынула кровь. Через два часа нестерпимых страданий трагический царь Борис умер, успев принять схиму и отойдя в мир иной под именем Боголепа.
Говорили, его постиг удар от угрызений совести и из-за безысходного положения беззащитной семьи. Иные утверждали, что Годунов был отравлен заговорщиками – боярами или тайными агентами иезуитов. Считали также возможным самоотравление царя от отчаяния и помрачения рассудка.
После смерти Бориса остался сын Федор, о котором распространялась молва, говорящая о его ранней разумности, благопристойности в поведении и редкой по тем временам образованности. Борис чрезвычайно ценил и любил сына, приобщая его к государственным делам.
Жители Москвы спокойно присягнули Федору, целовали крест. В целовальной грамоте сказано: «Государыне своей царице и великой княгине Марье Григорьевне всея Руси и ея детям, государю царю Федору Борисовичу и государыне Ксении Борисовне». Также присовокуплено было, повторено и прибавлено: «И к вору, называемому Димитрием Углицким, не приставать, с ним и его советниками не ссылаться, не изменять, не отъезжать, никакого государства не подыскивать и того вора, что называется царевичем Димитрием Углицким, на Московском государстве видеть не хотеть». Князь Василий Иванович Шуйский сказал по поводу присяги князю Василию Васильевичу Голицыну:
– В целовальной грамоте Самозванец не именуется Гришкой Отрепьевым, то ись стало он кабыть признается Димитрием, сыном Ивана Васильевича Грозного. Это вроде бы уже и дает ему заочно право на отецкий трон, ась?
Осторожный Голицын промолчал, но согласно покивал «лукавому царедворцу».
Воеводы огромной рати князья Мстиславский и Шуйский явно медлили в своих военных действиях против смешанного русско-польско-казацкого воинства Самозванца, значительно уступавшего в численности царскому войску. Новое правительство послало новых воевод, учитывая местничество по знатности рода. Первым вследствие этого оказался заурядный военачальник князь Катырев-Ростовский, вторым уже показавший в боях смелость и мужество воевода Большого полка Петр Басманов.
Поначалу Басманов предпринял перестроения и подготовку воинских отрядов для решительного удара по пестрому сброду «царевича». Одновременно новгородский митрополит Исидор привел войска к присяге молодому царю Федору Годунову. Все – и бояре, и дворяне, и чернь – целовали в том крест.
Ратные люди присягнули, но недолго оставались верными Федору. Охотнее они признавали царем Димитрия Ивановича, «доброго», «истинного», «законного». Басманов видел, что воеводы, опытные и смелые, способные успешно воевать, не хотят Годуновых. Он понимал – идти против общего настроения бесполезно. Сражаться и умирать за трон Годуновых не желают ни полководцы, ни рядовые бойцы. Со смертью Бориса правление Годуновых обречено на гибель. И тогда, не желая пасть жертвой присяги, Басманов решил покончить со службой нынешней династии.
Поздно вечером отряд всадников, сопровождавших Басманова, въехал в занятое царскими войсками село. Спросили, где разместился князь Василий Васильевич Голицын. Скоро Басманов уже соскочил с коня и, предупредив о своем приезде караульных, вошел в шатер князя Голицына с почтительным приветствием. Они разговаривали недолго. «Надо бы вызвать брата», – сказал Голицын, подумав.
Месяц золотистым серпиком освещал телеги, костры, коновязи воинского лагеря. Повсюду сидели или спали, укрывшись попоной, бородатые воины. Кто-то варил кашу в котле, кто-то чистил оружие. По границам большого табора на условленных местах стояли, опершись на фузеи и пики, дозорные стрельцы.
Басманов и оба князя Голицына обсуждали свои дальнейшие действия.
– В Москве-то громогласно изобличают царевича, называя его не иначе как вором-расстригой Гришкой Отрепьевым, – озабоченно говорил Михаил Голицын, поглядывая исподлобья на брата и воеводу Басманова. – А черный люд ждет его и признает царем.
– Армия царевича растет, набирается опыта, – как бы отвлеченно сообщил Басманов. – А правительницей при недоростке царе объявила себя его мать Марья Григорьевна, дочь палача Малюты Скуратова. От его злодейства и самоуправства казнены были мой отец и дед, чего забыть я не могу. И присягать ей и ее волчонку не желаю. Предпочту присягнуть Отрепьеву.
– Что ж, думаю наследников Годунова нужно сместить, – начал сердито Василий Голицын, – бесповоротно.
– Да что сместить, Василий Василич. – Басманов невольно схватился за рукоять сабли. – Извести следует весь злокозненный их и преступный род.
– Надо снестись с царевичем и сообщить о нашем решении перейти под его руку, – продолжил Михаил Голицын.
– Я говорил о сем с Василием Ивановичем Шуйским. Он тоже считает – надо воспользоваться приходом царевича Димитрия, хотя князь Шуйский поклялся мне, что своими глазами видел в Угличе труп настоящего царевича. – Василий Голицын горько усмехнулся. – Однако делать нечего. Большинство боярской Думы не находит иного выхода, как присягнуть вору и расстриге. Такова, знать, воля Божья. Присягнем, на трон посадим, а там поглядим.
VI
Вступать в Москву Самозванец не спешил, побаивался. Мнение видных, имеющих влияние бояр было ему известно. В большинстве случаев оно складывалось для него благоприятно. Но Отрепьеву казалось важным узнать настроение народа московского, народа строптивого и буйного.
– Глас народный – глас Божий, так-то, – посмеиваясь саркастически, говорил «Димитрий Иванович» думным боярам Пушкину и Плещееву. – Проберитесь-ка с моей грамоткой в столицу да почитайте людям. Потом вернетесь, доложите мне… если живы останетесь.
Мятежные, рисковые бояре (еще не старые), давно тайно сговаривающиеся против Годунова, сразу, лишь вошел в русские пределы Самозванец, перешли к нему.
Гаврила Пушкин и Наум Плещеев, взяв грамоту из рук «Димитрия Ивановича», поскребли потылицу и спросили:
– Кто ж нам поможет в Москве-то оказаться? Послание твое черни прочесть, государь?
– А вон атаман Андрюха Корела с вами поскачет. Пускай возьмет сотни две чубатых на самых лучших конях. Скажете, я велел. Он вас сопровождать будет. Ну, с Богом!
Расшвыряв сторожей и городских стрельцов у заставы, казаки с Пушкиным и Плещеевым ворвались в Китай-город.
Пушкин, прокашлявшись, начал читать быстро собравшейся толпе москвичей грамоту от законного сына царя Иоанна царевича Димитрия Ивановича. Одобрительно загудела толпа, услышав обвинения Годуновых, не жалевших русской земли, оттого что и жалеть, мол, им было нечего, потому как чужим владели.
– Верно, – раздались обрадованные голоса, – что правда, то правда. Вот наконец от истинного государя неложные слова узнаем… Да ты читай шибче! Не слыхать поодаль-то!
Гаврила Григорьевич Пушкин читал толпе с Лобного места:
– А которые воеводы и бояре ратоборствовали против нас, своего государя, мы в том их вины не видим. Они посланы были злодеем Годуновым под страхом отнятия живота и творили сие неведомостью. Мы их прощаем и призываем верно службой заслужить вины свои… Пусть мир и тишина воцарятся в нашей державе. Я прощаю всех, кого осудили Годуновы. Отворите темницы, сбейте оковы с несчастных, утрите слезы обиженным.
Переполненная народом площадь восторженно взвыла. Пожалуй, никто не мог припомнить царя, отворившего темницы, сбившего с узников оковы, утеревшего слезы обиженным.
Люди кинулись к тюрьмам, сбивая замки и разгоняя стражу.
– Простил государь Димитрий Иванович! Всех простил! Выходи, братцы!
В истлевшем рванье, в струпьях и кровавых шрамах узники, шатаясь, вышли на улицы.
– Испить дайте, братцы! Проводите до дому, православные… Силов нету… Пытали меня жестоко, о! Нещадно били, по-звериному… Голодом морили… Здравия и победы государю Димитрию Ивановичу!
Пушкина и Плещеева окружили тесно, повели на Красную площадь:
– Читайте, бояре, там. Народу больше услышит.
Казаки вертелись верхом на конях посреди толпы. Кричали:
– Читайте и на Пожаре![32] Не трусьте, грамотные!
Стрельцы, посланные из Кремля не допустить черный люд к Лобному месту слушать «прелестную» грамоту, испугались. Увидев стекающуюся со всех сторон ревущую толпу, побежали и затворили Фроловские ворота. Красная площадь ругалась страшным и скверным словом. Сотнями кулаков грозила Кремлю.
Пушкин снова развернул свиток, стал читать, надрывая горло. Когда дошел до слов «обещаю всем, гонимым Годуновыми, милость и защиту…», раздался общий вопль:
– Смерть Годуновым! Слава государю Димитрию Ивановичу!
В толпе замелькали палки, дубины, вилы, а то и пищали – видать, принесли сочувственники из стрелецких полков.
Когда посланные бояре вернулись к лагерю Самозванца и объявили о полном благоприятствованьи его въезду в столицу, Отрепьев сначала засомневался.
– Нет, правду говорите? – оглядываясь на окружавших его бояр и воевод, спрашивал он. – Москвичи готовы меня принять?
– Да Москва уже твоя, государь, – подтвердил Пушкин.
– А что с Годуновыми? – осторожно сказал Самозванец, не обращаясь ни к кому поименно. – Они где?
– Они пока спрятались, – также неопределенно произнес Басманов и стал шептать что-то Василию Голицыну.
«Царевич Димитрий Иванович» сделал удивленный вид и пошел куда-то, сопровождаемый своим постельничим Иваном Безобразовым, князем Мосальским и князем Михаилом Голицыным.
Князь Василий Голицын, Басманов и еще несколько придворных стояли, тихо переговариваясь. Среди них находились бывшие опричники царя Ивана Грозного Молчанов и Шерефединов.
Утром небольшой отряд конных стрельцов во главе с князем Голицыным, а также Молчановым и Шерефединовым подъехал к старому годуновскому дворцу. Спешились. Голицын с Молчановым, Шерефединовым и еще четверо вошли в нижние покои.
Голицын остался внизу. Молчанов, Шерефединов и остальные стрельцы стали подниматься расписной лестницей на второй этаж.
– Димитрий Иванович приказал Ксению не трогать, – напомнил князь Молчанову. – Только волчицу и волчонка.
– Понятно. Царевну себе приберег, – ухмыльнувшись, сказал Молчанов. – Ну и правильно.
Шерефединов тоже загыгыкал, показывая крупные татарские зубы. Вошли в верхние комнаты. Послышалась какая-то возня. Потом женский вскрик и звон сабельного клинка. Топот ног и опять тишина.
Спустился Молчанов, улыбаясь напряженной улыбкой.
– Кончено, Василий Васильевич, со старухой.
– А Ксению потом, когда толпа разойдется, увези на подворье Мосальского. В закрытом возке чтоб…
Наконец появился на лестнице Шерефединов со стрельцами, зажимая пораненную руку. Подходя к князю, молвил:
– Царенок саблей махать хотел. Хорошо, робята помогли.
– Не рубанули его?
– Нет, нет. Лицо целое. Придушили.
– Ладно. Приготовьтесь тут на всякий случай. Зарядите пистоли. Сабли наголо тоже… Но, вообче-то, думаю – обойдется. Кто за них будет биться? А?
Князь Голицын вышел на крыльцо и объявил толпе человек в триста, дожидавшихся у дворца:
– По повелению государя Димитрия Ивановича мы прибыли взять Годуновых за караул. Но, убоявшись праведного суда, бывшая царица Мария и сын ея Федор приняли яд. Мы видели их мертвые тела. – Князь перекрестился. – Да упокоит их души Господь Бог наш.
Толпа молчала, шевелилась невнятно. Кто-то громко сказал: «Туда им и дорога». Неожиданно где-то в задних рядах жалобно заплакала женщина.
– Ну, ну! Что еще там? – прикрикнул Голицын. – Все! Айда по домам.
На плакавшую женщину, кажется, бывшую няньку Федора Годунова, зашикали. Она пропала. Люди молча разошлись.
Голицын и стрельцы сели на коней и поскакали в Серпухов, в лагерь Самозванца.
На другой день к Успенскому собору в Кремле подъехал отряд стрельцов в синих кафтанах. Предводительствовал им воевода Петр Басманов.
Прямо во время литургической службы воевода со стрельцами вломились в алтарь и схватили патриарха Иова. Причем вытащили его из алтаря за седую бороду. Кто-то из стрельцов отнял у патриарха пастырский посох, другой сорвал с головы митру, третий толкал старика в спину.
– Низложить злодея, поносившего прилюдно государя нашего Димитрия Ивановича! – приказал Басманов.
– Низложить! – подготовленно и дружно рявкнули стрельцы.
Со старца сорвали ризу, вытряхнули его из епитрахили. Отняли панагию[33]. Плачущего патриарха наскоро облачили в черную монашескую рясу, на голову натянули клобук и поволокли из храма сквозь шарахающуюся толпу.
Никто не посмел защитить, даже голос подать за опального архипастыря. Кто будет рисковать своей головой ради Иова, верного ненавистному Годунову и поносившего прибывшего на Русь государя Димитрия Ивановича? Таковых не нашлось.
Патриарха затолкали в грязный возок и повезли куда-то на север, в заброшенный Старицкий монастырь.
Тело царя Бориса выкопали в Архангельском соборе, положили в простой гроб и вместе с женой и сыном погребли при Варсонофьевском монастыре на Сретенке.
VII
Москва встречала ехавшего из Серпухова нового государя многоголосыми радостными кликами и звоном колоколов. Сбегались к Красной площади.
Сначала вошло бывшее царское войско, частично осевшее в Серпухове и московских пригородах. Стрелецкие полки в красных, синих и белых кафтанах шли во главе обоза, растянувшегося в три версты. После обоза молодцевато гарцевала на красавцах конях, в ярких кунтушах, в золоченых шлемах или бархатных колпаках с перьями польская рота капитана Доморацкого, предшествуя сверкающей золотыми накладками царской карете.
Самозванец поглядывал из кареты на всклокоченные, обнаженные мужицкие головы, на кики и платки баб, на ребят и подростков, махавших шапками с деревьев, усеявших крыши и заборы.
Думалось: «Прямо въезд Христа во Иерусалим на осляти. Не машут только, как иудеи, пальмовыми ветвями-вайями». В церковной словесности Отрепьев был знаток. Однако кольнула неприятно, будто остренькой спицей, мысль: «Въезд-то похож на евангельский, да не случилось бы синедрионова суда[34] и распятия…» От этой мысли чуть стало тошнотно, но он продолжал милостиво улыбаться и кивать рыжей своей бесшабашной головой в высокой горлатной шапке.
Царскую карету окружали всадники – князья московские, известные каждому, такие как Голицын, Скопин-Шуйский, Шуйские – Дмитрий и Михаил, Лыков, Татев, Измайлов, Мстиславский, Воротынский, воевода Басманов и прочие. За каретой строго поблескивали латами да касками наемные ландскнехты Якоба Маржерета. И снова ехали вразнобой поляки, русские, кое-кто из иностранцев с Кукуя.
У Василия Блаженного некоронованного еще царя ждало духовенство в золотых праздничных ризах. Архиерей Арсений отслужил благодарственный молебен и благословил Григория Отрепьева образом Владимирской Богоматери. Тот с приличествующей торжественностью икону поцеловал.
В сопровождении клира и поляков-телохранителей он вступил на Ивановскую площадь Кремля. Тут, воспользовавшись наставшей тишиной, музыканты из польской роты Доморацкого грянули в трубы и литавры веселый марш.
Присутствующие при церемонии русские обалдело разинули рты. На музыкантов махали: «Замолчите! Осадите, ляхи негодные, кощунники!» Царь направился в Архангельский собор поклониться могилам отца – Иоанна Грозного и брата Федора Иоанновича, а тут музыка.
Посетил царь и Успенский собор (главную святыню Руси), отслушал псалмы и направился во дворец, в Грановитую палату. Тут он воссел на трон московских царей, положил руки на подлокотники и сделал надменный вид. Все князья и бояре низко ему поклонились, достав рукой пола. Поклонились и поляки, однако в соответствии с природным гонором – лишь слегка. Они и своему-то Сигизмунду кланялись обычно не глубже.
«Ну вот, – усмехнулся про себя Юшка, то есть Гришка Отрепьев, посматривая сверху вниз на одураченных, а может быть, притворяющихся только бояр и поляков. – Вот я и на троне…» Он вспомнил свою опрометчивую до безумства юношескую фразу, сказанную кому-то в патриарших палатах: «Буду царем на Москве…» Втемяшилось это в голову иноку Григорию после того, как рассказал ему о царевиче Димитрии старый монах Пимен, бывший когда-то стольником при дворах царей Ивана Васильевича и Федора Иоанновича.
Вспомнилось бегство из Москвы с расстригой Варлаамом и печальным (расстригой же) постником Мисаилом. Да, было дело… И вот – увенчалось успехом. До безумия поразительно. Или промыслительно – волею Божией. Ай да Юшка! Ай да молодец!
Через несколько дней Димитрий Иванович сделал несколько назначений.
Михаил Скопин-Шуйский объявлен после особого рыцарского (католического) обряда «мечником» – как у польского короля. При каких-нибудь торжествах, при общении с иноземными послами или просто в Боярской думе Скопин должен был представать перед взором государя в латах, епанче и с длинным прямым мечом у пояса. После окончания Думы Михаил обязан уходить последним за отбытием царя, сопровождаемого четырьмя рындами[35].
– Прости, государь, с чего ты изволил обласкать Мишку Скопина? – посмел спросить постельничий Безобразов.
– А что? – поднял брови «государь».
– Ну… Скопин-то Шуйский все-таки. А Шуйские они… как бы сказать… много лишнего болтают.
– Это ты про старика Василия? Что ж, надо будет, опалу на него наложим. Может, даже и того… А племянник за дядьку не отвечает. Он человек старательный, неглупый. И, по моему мнению, почтительный, верный слуга наш. А еще в Священном Писании есть пример. Судья Самуил выбрал в цари Израиля молодца Саула потому, что из всего народа тот в плечах был выше всех.
– Так ведь, государь Димитрий Иванович… в цари… Не дай господь у Мишки после твоей милости мысля такая явится… Ой-е-ей!..
– Ну, до того, я думаю, не дойдет, – засмеялся «царь». – Пусть Скопин служит меченошей у меня, а там поглядим. Зато он из всех бояр моих самый рослый и баской[36].
Когда новый царь был уже во дворце, из Кремля на Красную площадь выехал освобожденный из ссылки Годунова князь Богдан Бельский, окруженный боярами и дьяками. Он взошел на Лобное место и громко свидетельствовал перед всем народом: новый царь истинный есть Димитрий. И в доказательство правды слов своих поцеловал крест.
Но другое свидетельствовал человек, который при жизни царя Бориса торжественно объявлял московскому люду, что царевич убит, и тот, кто называется его именем, есть Гришка Отрепьев. Князь Василий Шуйский не повторил этого свидетельства по смерти Годунова. Не повторил, когда оно было всего нужнее, когда Пушкин и Плещеев читали на Лобном месте грамоту Лжедимитрия и толпа устремилась к Кремлю, чтобы сбросить с престола Федора Годунова.
Когда же с Годуновыми было покончено, а Самозванец с горстью поляков вошел в Москву и, хотя еще не короновался, считался всеми царем, Шуйский начал повторять прежнее свое свидетельство. Он объявил об этом торговому человеку Федору Коневу, а следом какому-то лекарю – и поручил им разглашать это тайно в народе. Но Конев и другой поверенный Шуйского не умели распространять крамольные слухи исподтишка. Их заприметили люди из слуг Басманова.
Узнав о злокозненных слухах и от кого они идут, Басманов донес царю. Оказалось, Шуйский хотел поджечь посольский двор, занимаемый поляками Доморацкого, и с этого приступить к восстанию против Лжедимитрия.
Шуйский был схвачен и доставлен к царю. Тот передал дело на суд высшему собору. На этом соборе кроме духовенства и членов Думы присутствовали представители простого московского люда: купцы и ремесленники из уважаемых горожан. Причем никто из простых людей не высказался за Шуйского, все на него кричали и упрекали во лжи.
По свидетельству иностранцев, Лжедмитрий сам оспаривал князя Шуйского и уличил его в клевете. Говорил молодой «государь» с таким искусством и умом, что весь собор пришел в изумление. Сомнений в правоте «Димитрия Ивановича» ни у кого не осталось. Собор решил, что Шуйский достоин смерти. Казнь назначили на 25 июня.
А за день до этого дня «Димитрий Иванович» устроил охоту в старых угодьях царя Бориса, за Серебряным бором, на берегу Москвы-реки.
Охота была «соколиная», то есть особенно любимая и распространенная в те времена среди монархов и знати – как в Европе, так и в странах Востока. Соколиная охота относилась к благородному развлечению. Белые, серые, даже красные сокола и кречеты ценились необычайно высоко. Стоимость их могла превышать сотни золотых монет.
– Я знаю, что батюшка мой Иван Васильевич в молодые годы очень любил поохотиться с соколами, – хитро прищуриваясь и натягивая поводья своего высокого серого коня, говорил «царь Димитрий Иванович». Он обращался к Петру Басманову и Михаилу Скопину-Шуйскому. – Мне старый князь Одоевский рассказывал. У него, у батюшки-то моего, в Новинском[37] целая слобода предоставлена была соколятникам. И еще, мол, послал Иван Васильевич королеве аглицкой Лизавете многие подарки. Жениться он однажды на ней задумал, да она ему отказала… ха-ха…
– О, ваш знаменитый отец, государь, устроить свой брак с Елизаветой намеривался напрасно. Английская королева, как я случайно слышал в Польше от одного путешествовавшего пана, необычайная женщина. – Капитан Доморацкий, тоже приглашенный на царскую охоту, подъехал сзади и без церемоний вступил в разговор.
– Что значит «необычайная», пан Доморацкий? Больная? – заинтересованно спросил Самозванец.
– Ну что-то в таком понимании, если рассуждать о природных свойствах женщин. Елизавета Английская ведь так и не пошла замуж – ни за французского короля, который слал к ней нарочно для этого послов, ни за… вашего великого отца, государь, ни за кого-либо из английских или шотландских герцогов. Так и скончалась девственницей. Однако, то сплетничала вся Европа, имела множество молодых, красивых любовников.
«Димитрий Иванович» расхохотался так весело, что откинул голову и едва удержал на голове шапку.
– А-ха-ха! – продолжал он, останавливая коня. – Чем же королева с ними занималась? Что они делали в постели-то?
– Но то осталось тайной для европейских дворов, Ваше Величество. Уж что-то они придумывали забавное. Видимо, какие-то постыдные штуки, да простят меня Езус Мария.
– Так вернемся к суждениям о соколах, не оставляя в покое аглицкую королеву, – отсмеявшись, продолжил «царь». – А в том-то чудо, что среди всяких драгоценных подарков, поистине царских, мой батюшка Иван Васильевич поручил предстателю полномочному своему Иосифу Непее передать королеве Лизавете большого белого кречета вместе с серебряным барабаном в позлащенных обручах вместо вабила[38]. А у нас, Тиша, – обратился «Димитрий Иванович» к старшему соколятнику, приземистому, с курчавой бородой Тихону Рябикову, – у нас-то для вабления что есть? Ну а сокольничий мой сам Иван Телятевский, боярин опытный… Да-к чем вабить, Тиша?
– А колокольцами, государь, серебряными.
– Еще у Годунова соколиной охотой Телятевский ведал, – вставил, будто невзначай, Басманов и взглянул вопросительно.
– Ничего, он мне присягнул вольно, – бечпечно ухмыльнулся Самозванец. – Зато дело знает. Он и у братца моего тихого Федора Ивановича в сокольничих ходил. Давай, открывай короб, Тиша. Пора выпускать соколов.
– Чуть рано, осударь, обожди. Чичас пугальщики начнуть журавлей да цапель спугивать из рогоза да с болот. Тады и спустим наших соколиков-то. – Тихон Рябиков приложил к глазам ладонь козырьком.
Подъехал сбоку, сняв шапку и поклонившись до лошадиной гривы «царю», благообразный боярин Телятевский.
– Подготовились твои пугальщики-то, Наум Иваныч?
– А как же, государь, скоро начнут.
– Лишь бы после сгона-то и боя вернулись бы сокола на вабление дружно, – сказал Самозванец, немного волнуясь: такая уж у Отрепьева была горячая, тревожная, но смелая натура.
– Вот был случай один чудесный еще при батюшке твоем, государь, при Иване Васильевиче… В предании остался даже и у простого народа.
– А про что? – отвлекся от ожидания начала охоты «царь».
– Молодой царский сокольничий именем Трифон Патрикеев, из владимирских бояр родом, однажды по оплошности упустил любимого государева сокола. Ох, разгневался Иван Васильевич на молодого боярина и говорит: «Вот тебе, Трифон Патрикеев, три дня. Найдешь сокола, доставишь мне, – твое счастье. Нет… то грядет на тебя моя царская опала и присуждается тебе казнь через отрубление головы». – Телятевский вздохнул и потупился. – Три дня и три ночи сокольничий провел в лесу, искал сокола… Сколько ни высматривал, сколько ни звал, ни вабил серебряными бубенцами… нет, как нет! Наконец, усталый, измученный, удрученный отчаяньем, присел отдохнуть. Да и задремал по случайности. И тотчас увидел сон: а во сне предстоит ему святой Трифон на белом коне и с соколом в руке. Сказал Патрикееву его заступник и покровитель, что царский сокол сидит на сосне недалеко от того места, а по направлению – к востоку. И правда, очнувшись от сна, нашел сокольничий сокола и отвез царю. «Что ж, – остался доволен Иван Васильевич, – сокол тот самый. Повезло тебе, Триша, ступай».
– Да уж, повезло так повезло, – заметил Михайла Скопин-Шуйский. – Крутенек был великий государь Иван Васильевич.
– А Патрикеев в благодарность за чудесное избавление и помощь построил святому Трифону сперва часовню, а потом храм. Царь же приказал, узнав о случившемся с его сокольничим, выстроить в Напрудной слободе каменный храм во имя святого Трифона, – закончил, довольный вниманием «Димитрия Ивановича», Телятевский.
– Я не стал бы рубить голову боярину из-за сокола, – задумчиво проговорил Самозванец. – Птица есть птица, несмышленая, бездушная. Соколов-то хватает, а вот людей верных…
– Открывайте короб-то! Выпускайте, пугальщики близко! – всполошился соколятник Тихон Рябиков. – Не прозевать ба… Надевай руковицу-то, государь Митрий Иваныч…
Послышался шум с речного берега. Зашелестели внизу рогозы и камыши. Зачавкала на болоте тинная жижа.
Осторожно откинули крышку большого короба, где держали в темноте подготовленных к выпуску соколов. Рябиков достал первого. Посадил на сжатую в кулак охотничью перчатку Самозванца и сдернул с сокола колпачок. Птица встопорщила перья и подняла голову, оглядываясь с воинственным видом.
– Хорош, – раздувая ноздри, сказал «Димитрий Иванович».
– Подкидывай его, осударь! Вона цапля поднялась.
Большая белая цапля, взмахивая широкими крыльями и свесив долгие ноги, стала набирать высоту. Тут же подкинутый в воздух сокол помчался за ней стремительной серой тенью. Кривым яростным треугольником он взмыл выше цапли и, разогнавшись, ударил жертву. Посыпались белые перья. Цапля вскрикнула, повернула шею, пытаясь отбиться. Но сокол снова взмыл и опять ударил. Изломанно махая крыльями, тяжелая цапля рухнула близко к скачущим по берегу охотникам.
– Там, там упала, – указывал Доморацкий и тоже подбросил сокола. – Журавель, журавель!..
Выкатив глаза и топорща усы, поляк указывал на взлетающих из зарослей больших длинношеих журавлей.
– Гони холопов искать добычу! – крикнул Басманов Телятевскому. – Забьются в камыши птицы – не найдешь… Давай, не зевай!
– Никуда не денутся, Петр Федорович, – льстиво говорил новому царскому любимцу Телятевский.
– Эх, краса какая! Не соколы – стрелы! – Самозванец поднял коня на дыбы, развернулся на месте и поскакал обратно. – Где еще сокола? Давай новых, Тишка!
– Будут, осударь, не беспокойся… Достанем!
Охота продолжалась часа три. Потом слуги искали и подбирали добычу, пока вабили звоном колокольцев и пересчитывали соколов. Приуставшие, разгоряченные всадники ехали медленно по вытоптанному лужку.
Выбрав время, когда «царь» несколько отделился от остальных охотников, Михайла Скопин подъехал к нему и снял шапку.
– Государь Димитрий Иванович, не изволь гневаться, что тебе докучаю, – сказал он тихо. – С делом к тебе на охоте пристаю…
– А чего тебе, меченоша мой верный? – улыбаясь, спросил «царь». – Какая у тебя забота?
– Да за дядьку свово, непутевого трепуна челом бью. Смилуйся, государь, не казни старика. Отдай ему его вины, окажи Василию Иванову сыну Шуйскому царское снисхождение.
– Так ведь собор решил казнить князя Шуйского за его клевету на особу государеву, а? – полуспросил насмешливым тоном «Димитрий Иванович». – Али не так что?
– Все так, государь. – Скопин опустил голову. – Виноват старый брехун, как есть виноват. Вчерась ко мне в дом прибегала княгиня Катерина Григорьевна, в ноги бросалась. Молила перед тобой челом бить за князя Василия. Вот я и того… Обещал ей, разве перед женскими слезами устоишь… Прости, коли никак нельзя…
«И Федора Годунова жизни лишили, назвав царем, присягнув. А мать его в чем виновата? За что удушили старую царицу? И куда дели царевну Ксению? Где справедливость и закон? – думал, ожидая ответа “царя”, Скопин. – Матушка моя после ухода княгини верно сказала: “Вот и доигрался старый дурак. При Грозном чуть не угодил на плаху, при Борисе еле из-под топора вынули, отстояли, умолили Годунова. Поди в третий-то раз не выскользнет. А все душа его неуемная власти алчет, с судьбой в игры играется. Да как бы за него, Миша, тебе в опалу не попасть…” О Господи! Пресвятая Матерь Божия, моли о нас, грешных».
По-своему думал Самозванец, слегка улыбаясь на прошение молодого князя Скопина-Шуйского: «Не стал бы я ходатайствовать за Василия Шуйского, будь я на твоем месте, Михаил. Ты человек честный, смелый, нелукавый, нежадный и независтливый… И дано тебе полководческое дарование, и решимость, и, может быть, воинская удача… Но всегда тебя будут ненавидеть и от зависти пухнуть все эти князья и бояре, думцы-глупцы и воеводы-недотепы, осатаневшие из-за местнической спеси своей, одуревшие от темноты своей, незнания и жестокости… Вот коли ты при другом властителе… (Отрепьев переморгнул и помрачнел, удерживая себя от тяжкого предчувствия) коли ты дашь промашку в чем… даже в пустяке, вроде как потере птицы при лютом звере царе Иоанне, чьего сынка зарезанного доводится мне теперь представлять, как в скоморошьем балагане… Да, промашки любой тебе не простят – и коли не казнят принародно, то найдут способ извести. Ибо светлое твое рвение об отечестве, о победах над вражьим станом, непохожесть твоя на родственников и совладетелей и соплеменников – все тебе упреком будет в угрюмых их умыслах и свирепых сердцах…» А еще другое раздумывал Григорий Отрепьев, надеясь на собственную изворотливость, на данное ему тонкое свойство правителя-дипломата среди мохнатых и клыкастых медведей-шатунов…
– Знаешь ли ты что-нибудь, Михаил, о мудром и отважном предводителе русского воинства, воеводе князе Воротынском? – неожиданно повернулся он в седле к Скопину.
– Слыхал, государь, да немногое. Вроде знать достаточно о нем не приходится, замалчивают. Вот дошло в поминании стариков, будто спас он, ведя малое войско, от несметной орды крымского хана Гирея Москву, уже сожженную раз дотла крымцами…
– Так вот послушай-ка. В летописях Чудского монастыря есть тайная запись о сражении при Молодне, недалече от речки Лопасни близ Серпухова. Когда навалилась Крымская орда, да вместе с ногаями, да с предателем, зятем царя Ивана, кабардинским князем Темрюком, то было их вдвое с лишком поболе, чем у моего «батюшки»… – Самозванец опять усмехнулся. – Один князь Хворостинин сумел так ударить в середину конной орды, употребив «Гуляй-город», стреляющий из ружей, фузей и пушек, что татары потеряли тысячи убитыми, а зашедший им в тыл князь Воротынский с ярой смелостью разил врага. Девлет-Гирей побежал, положив половину войска, и бежал до самого Крыма через степи. Битва та князя Хворостинина да князя Воротынского не менее важна для государства нашего, чем при князе Димитрии Донском Куликово поле, когда разбит был Мамай…
– Что же делал сам великий государь Иван Васильевич? – довольно робко вопросил Скопин.
– Сбежал, бросив Москву и войско. Затворился с семьею да ближними боярами в Ростове Великом, – пренебрежительным тоном ответил «царь» и добавил: – А твоего болтливого дядю Шуйского я уже простил. Только хочу постращать его малость да приструнить. Пусть дело до плахи дойдет, тут ему указ мой зачитают. А знаешь ли чем отблагодарили воевод, спасших царя и Московское государство от полного разорения? Обвинил их Иван Васильевич, православный царь, спустя малое время в заговоре супротив своей государевой особы. Велел пытать их нещадно и отправить в ссылку. Хворостинин-то был прощен и долго еще воевал потом, продолжая быть воеводой. Да вот славный князь Воротынский от пыток в дороге преставился. Староват уже был, не выдержало сердце. А у меня к тебе, Михаил Васильевич, тоже поручение. Езжай-ка в Углич за матерью моей, царицей Марфой. Так надобно. Время подошло. Пора нам с нею принародно встретиться.
VIII
Множество зевак стеклось на Красную площадь, где предстояло отлететь на плахе голове князя Василия Ивановича Шуйского. Рюриковича, одного из самых известных думцев.
– Видать, в батюшку свово уродился, присной памяти Ивана Васильевича Грозного, – переговариваясь о новом царе бормотали в толпе.
– Вот и Митрий Иванович такожде начинает.
– Ну да-к как? Царя Шуйский вором назвал, Митрием самозваным. Какому самодержцу-то этакое понравится?
– Вчерась Петру Тургеневу да Федьке Калачнику головы отрубили. А нынче вот самому князю Шуйскому, да-а…
– По мне всем бы им башки пооттяпать. Во веселье-то было бы на Руси! – говорит с кривой ухмылкой курчавый, похожий на казака, молодец. В кожухе добротном, при сапогах дорогих и с пистолем – торчит из-за пазухи. Подбородок бритый, усы подковой, концами книзу. В правом ухе серьга серебряная.
– Ну, ты не очень-то тут хмыкай, ухарь донской, – вмешивается ражий кузнец Спиридон, многие его на Москве знали. – На одних смердах да нашем брате слобожанине государство не удержится. То ись и без нас нельзя… Но власть должна быть. Веводы, думные бояре да грамотные дьяки… А иначе крымцы, поляки да ливонцы живо Русь под себя подомнут, как пить дать. Так что всем башки не поотрубаешь, накладно выйдет.
Привезли князя Шуйского в простой телеге, запряженной паршивою лошаденкой. Старик бормотал молитву, свечка тонкая в костлявой его руке дрожала. И, как это часто в Москве бывает, пожалела толпа старого князя, хотя и ведала о его хищном и немилостивом нраве, о свойстве его лукавом в кручении разных подковырок и экивоков в Думе, грешили на него, что способен и заговорщиков собирать. Словом, старик хитрый и вредный, а все равно жалко. Сколько лет при разных царях голос на думных толковищах подает и не зря державою управляет.
Примолкли люди, глядя, как могучий палач в красной рубахе хвалится своей черною, во всю грудь, бородищей да кафтан с худых плеч князя сдирает. Говорил палач при этом Шуйскому что-то ободряющее. Успокаивал перед смертью.
Рядом с помостом сподвижник нового царя воевода Басманов прочитал бумагу с указанием вины Шуйского. Нервно вертелся в седле, покашливал. Один раз пытался приказать палачу: давай, мол, скорей… не волынь там, не тяни. Но палач и ухом не повел. Разговаривал с казнимым о чем-то, похлопывал Шуйского по спине, как друга на гулянке. Потом князь поклонился на четыре стороны, крикнул срывающимся сипатым голосом:
– Прости, народ православный! А я невинен перед Богом и государем.
Наконец палач взялся за топор, но стоял, долго не принимаясь за казнь, и будто чего-то выжидал. На Басманова, который опять его торопил, бросил косой взгляд с неприязнью. Чего-то медлил, чего-то знал: тоже ведь государственный человек.
Толпа совсем замерла: тихо стало так, что будто слыхать как блохи перепрыгивают с шушунов на армяки да на однорядки[39]. И вот копытный топот раздался от Фроловских ворот. Примчался в прогале шарахнувшейся толпы начальник отряда немецких ландскнехтов Яков Маржерет.
– Стой! – крикнул немец, размахивая свитком с печатью. – Отменяется казнь! Государь помиловал князя Шуйского!
Народ на площади загалдел. Большинство восклицали радостно, славили царскую милость. Но были и недовольные. Одни желали досмотреть привычное зрелище до конца. Другие явно казались разочарованными: видно, имели зуб на Шуйского или по какой-то особенной причине.
Слухи пошли по Москве, будто самые уважаемые бояре да князья из Рюриковичей убедили Лжедмитрия помиловать Шуйского. Иные считали, будто вмешались поляки, а именно – настаивал царский секретарь Бучинский… из каких соображений, мало понятно. Скорее всего, в пику зверской расправе Ивана Грозного и Бориса Годунова с древними родами. Просил также Афанасий Власьев, которому Самозванец доверял международные, но, главное, личные дела. И мало кто знал о просьбе Михаила Скопина-Шуйского, а к нему «Димитрий Иванович» испытывал вполне бескорыстную искреннюю приязнь. Словом, считал: Скопину доверять можно.
Как бы то ни было, Шуйского вместе с двумя братьями сослали в Галицкие прогороды, имение отобрали в казну. Однако, прежде чем они доехаля до места ссылки, их возвратили в Москву. Отдали имение и боярство. «Государь» смеялся по тому поводу и имел с прощенным князем Шуйским шутливую беседу.
Следовало, по напоминанию окружающих, срочно разобраться с патриаршеством. Когда сунулись было помочь в религиозном избрании приехавшие с польскими военными иезуиты, они сразу получили твердый отказ. Участие их в делах православия было исключено.
«Димитрий Иванович» вспомнил, как торжественно признал его рязанский архиепископ Игнатий, прежде служивший архиепископом на Кипре и родом грек. В Москве он оказался в царствование Федора Иоанновича. Когда Самозванец при вторжении на Русь подошел к Туле (Тула входила в рязанскую епархию) Игнатий встретил его как царя. Он-то теперь и был возведен в патриархи.
Новый патриарх разослал по всем областям грамоты о восшествии «Димитрия» на престол и о возведении его, Игнатия, в патриаршеское достоинство. Причем предписывал молиться за царя и чтобы возвысил Господь его царскую десницу над латинством и басурманством. Но признание Игнатия не могло заменить признания перед всем православным миром матери, царицы – инокини Марфы (в миру Марии Федоровны).
Посланный в Углич мечник государев Михайла Скопин-Шуйский привез вдовствующую царицу-инокиню в легкой колымаге, сопровождаемой полусотней конных стрельцов, в село Тайнинское.
Из Углича везли тайно, в простой крытой повозке. Кругом кружили шайки разбойников. Один раз пришлось даже отбиваться, отстреливаться. Только за два перехода до Москвы Скопин-Шуйский отправил к Самозванцу царского постельничего с предупреждением о прибытии царицы-матери. Ее пересадили в Тайнинском в царскую золоченую карету.
Готовясь к встрече (причем к встрече прилюдной, всенародной), «царь» вызвал Басманова.
– Петр Федорович, нужно наладить в Тайнинском встречу моей матери инокине Марфе. Отправь туда богатую карету шестериком. И чтобы кони были все белые, а возчик и запяточные в шитых золотом кафтанах. Сможешь?
– Уже все посланы, государь. Так прямо, как ты указал. А встречать где будем?
– Я заранее сказал: в Тайнинском. И озаботься, главное, чтобы при нашей встрече побольше народу было. И на всем пути до Москвы тоже людей поставьте. Сгоните из деревень, что ли… Да, думаю, из Москвы тоже припожалуют. Меня чернь московская любит.
– А не опасно такое столпотворение? Вдруг злодей некий найдется? Или подошлют враги какого-нибудь одержимого с пищалью? Мало ли…
– На всякий случай растянуть стрелецкие полки вдоль дороги. А толпу от дороги отодвинуть, но всем чтобы хорошо видно было. И при въезде в Москву обязательно пушечный салют и колокольный звон во всех церквах. Когда же въедем в Кремль, чтобы ударили в колокол у Ивана Великого.
– Поселить где прикажешь матушку-царицу?
– В кремлевском Вознесенском монастыре, в лучших палатах.
И вот в Тайнинском, на широком лугу, встретились: золоченая карета с царицей Марфой и простая колымага, из которой бодро выскочил молодой царь и бросился обнимать грузную широколицую монахиню.
Расцеловавшись и вытирая слезы, долго держали друг друга за руки. Потом инокиня села в золоченую карету, а Самозванец шел рядом без шапки. И, уж пройдя шагов сто, уселся в свою колымагу о двух невзрачных лошадках.
В Москве женщины плакали, видя слезы матери-царицы и сына ее, нового государя Димитрия Ивановича. Наконец-то всякие дурные слухи рассеялись, и народ сам прикончил бы любого клеветника и охальника, который посмел бы сомневаться в истинности государя.
Пир в царском дворце показался всем роскошным, обильным, радостным, но при внимательном взгляде и довольно скромным – учитывая, наверное, что за столом сидела царица-монахиня с почтительным ее сыном – царем всея Руси Великой.
Столы ломились от осетров с Волги, балыков с Беловодья, от бараньих боков с греческой черной кашей, от кабаньих окороков польских да от жареных лебедей, индеек и журавлей с сарацинским[40] разварным зерном, от заморских редкостных фруктов, истекающих сладостью. На столе в золоченых баклагах, серебряных кувшинах, в резных узорчатых флягах и бутылях венецейского цветного стекла поданы венгерские и фряжские[41] вина, польские, настоенные на травах водки, и медовые сыченые русские напитки разной крепости и густоты.
Однако не звучала музыка трубачей из роты пана Доморацкого, не верещали, не дудели скоморошьи дудки и свирели, не звенели гусельные переборы, не трещали барабаны, не звякали бубны и цимбалы, что нередко требовал на пирах «Димитрий Иванович» и его польские соратники. Только единожды сбившиеся кучкой, в углу где-то, пятеро монахинь тихо пропели умильными, детскими голосками: «Очи всех на Тя, Господи, уповают и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое благоволение».
Да еще диакон низким и гулким зверообразным басом провозгласил «Матушке-государыне и сыну ея великому государю, царю Димитрию Ивановичу… Мно-о-огая лета…» Но ни один думский боярин, никакой князь, Рюрикович либо Гедеминович, не позволил себе допустить состояния хмельного и не посмел издать разудалого возгласа, тем нарушив порядок торжественности и благолепия. Повставали с седалищ своих и убрались с нижайшими поклонами довольно рано, не засиживаясь, чтобы не утомить царицу-монахиню с сыном и не помешать сдержанному любованию их благоговейной любви.
А ближе к ночному времени подъехал к заднему крыльцу царского дворца возок крытый, небольшой. Караульным стрельцам сказали что-то невнятное с облучка. Они крякнули в ответ так же невразумительно. Из возка мелькнула стройная женского очертания тень в длинном покрывале, будто у басурманской жены, а за ней широкая тень в большой бабьей кике[42] и платке округ плеч. Переваливаясь по-утиному, широкая последовала за первой, чуть подталкивая ее, подымаясь по крутой лесенке.
– Че робеешь? Ступай, дитятко, не кручинься. Господь помилует, Богородица Пречистая спасет-заступится…
В притененной горнице (горел трехгнездый шандал со свечами) от постели за шелковым пологом до столика, где светился отражением серебряный тонкогорлый кумган[43], миска со сладкими заедками и две чаши, ходил выжидающе Самозванец. Одет был в голубую расшитую рубашку, в неширокие польские шаровары и мягкие на каблуках сапожки. Охваченный в тонком поясе ремешком, ладно выглядел даже при небольшом своем росте. Время от времени поглаживал короткую бородку и подкрученные кверху усы. Свет от свечей словно переливался в его рыжих приглаженных волосах.
Дверца скрипнула, заглянул Безобразов.
– Что там, Иван?
– Привезли, государь.
– Мамку ее займи, угости в нижней горнице. Да людей на страже проверь. И сам пригляди за всем. Мамку спать уложи где ни то, понял?
– Как не понять… Все сделаю.
Безобразов исчез. Колыхнулась на дверном проеме завеса. Вошла с робостью высокая девушка. На лицо опущена кисея. Самозванец смотрел молча. Она тоже молча поклонилась. Потом стояла перед ним, почти не дыша.
– Ну, здрава буди, Ксения Борисовна.
– Здрав будь, великий государь. – Голос тихий, печальный.
– Давно я тебя жду. Как парсуну[44] твою увидел, так сердцем прикипел. Лучшей девицы я ни в Литве, ни в Туретчине не видывал. – Самозванец подошел близко, осторожно взял за края кисейное покрывало. Откинул.
Перед ним опущенное с грустью бледное личико. Ненарумянена. Тонкие черные брови вразлет. Ресницы длинные скрывают глаза. На голове небогатый девичий кокошник. Из-под него видны темные волосы, зачесанные за уши с золотыми сережками.
– На парсуне-то хуже, – улыбчиво сказал Отрепьев, невольно любуясь и разгораясь внутри. – В жизни истинно красавица, Ксения Борисовна.
– Спаси Господи, государь Димитрий Иванович. Недостойна я, сирота, твоих царских похвал. – По бледным нежным щекам побежали струйками слезы. Бывшая царевна Ксения Годунова закрыла лицо рукавом. На стройной девичьей фигурке скромный сарафан и сорочка с круглыми пуговками, по подолу вышиты зеленые травы, около шеи серебристая оторочка.
– Ну что ты, Ксюша, чего так печаловаться, – с видимым сочувствием произнес «царь». – Жизнь-то сурова. Ничего впереди не видать, а она вдруг и обидит. Я тебя жалею, Ксюша, не плачь.
– Маманю и братца Федюшу жалко. Пошто их было убивать? – Ксения перестала плакать. Вскинула большие глаза, посмотрела вопросительно, без упрека. Бывшая царская дочь знала о казнях при ее отце Борисе Федоровиче, знала, чем кончается почти всегда развенчание, потеря трона. Учить ее страшным безжалостным законам не требовалось, но она все-таки спросила.
– Я-то при чем, – довольно жарко начал оправдываться Самозванец. – Я такого приказа никому не отдавал, клянусь святым живоносным крестом. (Он действительно не приказывал душить Годуновых, только намекнул вскользь Басманову, а так… греха на душу не брал.)
– Что так жестоко… по-другому бы… – трудно вымолвила Ксения, хотя знала, что «по-другому» быть и не могло.
– Волки свирепые службу свою несут, и так вот царю угождают, – продолжил «Димитрий Иванович». – А я этакого не желал. Думал, по-христиански дело царское закончить, без смертоубийства. Матушку твою поместить в обитель… какую захочет… Либо за Девичье поле, в Новый монастырь, либо в суздальский Покровский… Там многие великие княжны и царицы жизнь свою в старости проводили. Что же до Федора, то хотел снабдить его всем, что знатному рыцарю надобно, и слуг послать, и охрану… Ну и, чтобы лишних-то свар не разводить, справадить его к шведскому королю… Служил бы при дворе Карла, воинскую науку постигал… А там бы женился на маркграфине какой, а? Ягода-малина… Чем плохо? Обязательно трона что ль добиваться?..
– Убили… – вздохнув, повторила Ксения. Она понимала, конечно, что он все лжет.
– А мне сказывали, будто вдова и сын Годунова отравились. И никаких ран и увечий на них не видали. – Самозванец пожал плечами, обеими руками взял бывшую царевну под локти и придвинул к себе. – Хорошо хоть твою красу ненаглядную не тронули, пощадили. Не страшись меня, Ксюша, не ожидай от меня дурного. Кохай меня, как говорят поляки, сядь на скамью со мною, нальем чаши. Помянем умерших. Да ободрим живых… – Отрепьев налил из узкого горла серебряного кумгана красное искристое вино. Одну чашу дал в дрожащие руки Ксении Годуновой, другую взял сам.
Сидели, говорили еще немного, опять наливали чаши.
– Коханая, царевна-сиротка… Полюбишь меня?
Ксения во всем с ним соглашалась, только покорно клонила голову, когда целовал. Разогревшись, «Димитрий» стал снимать с нее одежды. Она закрыла лицо белыми руками с одним перстнем – подарком от давно умершего жениха, датского принца.
– Ой, стыдно… Не умею я, не обыкла…
– Привыкнешь, Ксюша… – и «Димитрий» дунул на свечи.
IX
Еще будучи в Польше, Лжедимитрий говорил о заочном покровительстве, оказанном ему двумя умнейшими и образованными думными дьяками братьями Щелкаловыми. И примечательно, что Годунов Василия Щелкалова от государственных дел отстранил. А потому (невиданное дело) по прибытии в Москву «Димитрий Иванович» пожаловал Василия из думных дьяков в окольничие[45].
Родственники же и приверженцы бывшего царя подверглись ссылке – всего семьдесят четыре семейства. Однако это было исполнение пожеланий соратников «Димитрия» из древних княжеских родов и думских бояр.
Не проходило дня, чтобы «царь» не присутствовал в Думе. Иногда, слушая долговременные споры бояр, он смеялся и говорил: «Столько часов рассуждаете и все бестолку! Так я вам скажу: дело вот в чем!» – и, ко всеобщему удивлению, легко решал сложные финансовые или международные неурядицы, над которыми бояре бились долгое время. Вообще он любил и умел говорить, как все тогдашние грамотеи, приводя примеры из Священного Писания, из истории разных народов, а иногда рассказывал случаи собственной жизни – приукрашенной и надуманной.
Его живой ум, знания на уровне европейских толкователей того времени вызывали у многих думцев не только удивление, но и зависть. Этот свойственный людям яд уже проникал в их сумрачное сознание. Не благое и смирное почитание царя да стремление выслужиться перед ним, а неприязненное отторжение, даже злоба начинали копиться в душах спесивых Рюриковичей, Гедиминовичей и прочих седобородых думцев. «Ишь щенок возгливый, вьюн вертлявый, – бормотали про себя великородные старцы, – все показать хочет свою смекалку да ловкость. Набрался в латинщине тарабарщины разной, а где истинная мудрость, где достойное размышление, обретенное от святоотеческого кладезя – и не понимает». И в дополнение к таким мыслям уже сплеталось в клубки коварных замыслов доподлинное и свирепое корыстолюбие.
А Самозванец, не замечая их последних настроений, нередко упрекал думных людей в невежестве, впрочем, без грубости, скорее – ласково. Говорил, что надобно им измениться, ибо они ничего не видали, ничему не учились, обещал им позволить ездить в чужие земли, где они могли бы получить всякие полезные сведения. Этим он оскорблял их самомнение родовитых властителей и сознание православных блюстителей веры. Призыв поучиться у чужестранцев бояре воспринимали как еретичество.
По приезде обретенной матери и с ее (инокини Марфы) благословения Лжедимитрий венчался на царство. Весь обряд невероятно его забавлял и развлекал. Например, надев шапку Мономаха, он улыбался и, хотя и невнятно, но весело и удовлетворенно что-то про себя бормотал. Марфа, в свою очередь, очень искусно изображала нежную мать. При венчании «сына», все время радостно била поклоны перед иконами Богородицы, крестилась и плакала. Видя такое ликование матери нового царя – дитяти ее, – многие люди тоже плакали, особенно женщины из простого народа.
Как-то, после венчания на царство, «Димитрий» пришел поговорить с «матерью». Ему, казалось, что она, хотя все и понимает, притворяется ловко, все же, наверное, вправду болеет за него сердцем, раз уж нету настоящего сына. К тому ж он отомстил Годунову, погубившему ее родного.
Присев к столу, стал расспрашивать:
– Матушка, я слыхал, Годунов сослал тебя на Белоозеро, в глушь чудскую…[46] Как же случилось, что ты оказалась в Угличе в Богоявленском монастыре?
– Ох, помню, – вздыхая, вспомнила Марфа, – когда ты, сынок, явился с войском в Путивле, привезли меня по приказанию Борисову в Москву. Ну, поселили в Новом монастыре за Девичьем полем, а ночью явился Годунов со своей Марьей-то Григорьевной, царицей-то. И давай у меня допытываться: «Жив твой сын али умер?» Отвечаю: «Неизвестно мне, одному Господу ведомо». Тут Марья схватила подсвечник с горящей свечой и – на меня. «Я, – кричит, – те, сука, Манька Нагая, зенки твои бесстыжие выжгу…» Я заплакала: «Вся надежда на Господа нашего Иисуса Христа, а я ни в чем не виновата». Борис говорит: «Ладно. Скажешь с Лобного места на всю Москву, что сын твой мертвый?» – «Вся надежа на Бога. А супротив Бога, как я могу такое сказать, коли мне нету от него приказа?» – и на пол упала, как есть без дыхания. Они от меня и отстали. Попросилася я потом в Богоявленский монастырь. Ну и отвезли меня в Углич.
– Умная ты у меня, матушка, – улыбнулся Марфе признательно Самозванец.
А когда с охраной шел к себе почивать, прикинул в уме: лукавила инокиня Марфа, недоговаривала, что упросила царя Бориса быть ей в Угличе, поближе к дорогой могилке.
Утвердясь на троне, Лжедимитрий объявил милости к преданным или родственно близким людям. Мнимый дядя «царя», Михайла Федорович Нагой, получил звание конюшего боярина. Филарет Никитич Романов возведен в сан Ростовского митрополита, а брату его, Ивану Никитичу, жаловано боярство. Бывший царь и великий князь Тверской Симеон Бекбулатович, был также вызван из ссылки и с прежней честью (как при Федоре Иоанновиче) явился при дворе. Мнимый сын Грозного соперничества Симеона Бекбулатовича не боялся.
Поляки, бывшие с ним, такие как Бучинский, Доморацкий и некоторые другие, советовали ему принять строгие меры против подозрительных людей. Но Самозванец ответил, что дал обет Богу не проливать христианской крови; что есть два способа удерживать подданных в повиновении: одно – быть жестоким мучителем, другое – расточать награды и стараться быть щедрым. Он избрал, заявил полякам Лжедимитрий, последнее средство.
Велел он заплатить всем людям деньги, взятые в долг еще Иваном Грозным и неотданные. К ликованию стрелецких полков и ведущих дела в разных служебных приказах, жалованье служилым людям было удвоено. Духовенству подтвердили старые льготы и составили новые грамоты. «Царь» избрал себе в духовники архимандрита Рождественского монастыря во Владимире. Отдал также указание продолжать печатание священных книг. Так, отпечатанный в Москве Иваном Невежиным «Апостол» имел в предисловии следующие строки: «Повелением поборника благочестия и божественных велений ревнителя, благоверного и христолюбивого государя всея России, крестоносного царя и великого князя Димитрия Ивановича».
Относительно крестьян и холопов в правление Лжедмитрия были сделаны многие новшества и упорядочения к тем крестьянам, которые совершили побеги не по своей вине или из-за несправедливо наложенной на них кабалы.
Были перечислены многие сложные случаи, и царь находил в них положения справедливости или несправедливости. Говорилось, например: «Если же отец с сыном или брат с братом станут по служилым кабалам на ком-нибудь искать холопства, то этим истцам отказывать, а тех людей, на кого они кабалу положат, освободить на волю».
Закон этот имел целью ограничить распространение холопства, чтобы сын или вообще наследник не мог наследовать холопов умершего отца или родственника. Этот и другие законы, касающиеся закрепощенных или вольных хлебопашцев, несколько смягчили произвол и наказания господствующего сословия над бесправными мужиками. Все говорило о том, что «Димитрий Иванович» делал поползновения к установлению порядка в Московской державе, несмотря на недовольство закоснелых в своей жестокости владетелей и всяких главенствующих и начальствующих чинов.
Наконец-то предоставилась возможность распорядиться государственной казной. Дума переругалась. Долго пыхтела, устраивала счеты и пересчеты. «Димитрий Иванович» на думских «сидениях» и ухом не вел. Слущал молча, а губы сложил ижицей.
– Государь, скажи свое слово, ясное солнышко, – приставали старые бояре, вспотев в шубах и ферязях[47]. – Скажи на чем установление сделать. Не то щас князья бороды друг у друга повыдерут. Ей-ей, прикажи: как быть-то? Казна у нас ноне совсем тоща.
– Рассчитать надо поляков и казаков, – вдруг отрывисто произнес «царь».
Те бояре, которые сидели на скамьях, покрытых коврами, только хлопнули себя по ляжкам. А другие, в рьяности препирательства вставшие, от неожиданности упали на скамьи задом.
– Верно! – вскричали Мстиславский и Телятевский, заиграли подслеповатыми глазами и даже подтолкнули друг друга.
– Истинная правда, – поддержали все остальные.
– А если князья бороды будут у несогласных драть, – пошутил «царь». – То вот тут мой меченоша Михайла Скопин-Шуйский вынет меч и ругателей всех разгонит.
– Ха-ха! О-хо-хо! – захохотала Дума, умиляясь на решительность и сообразительность своего «царя».
Улыбаясь, Михайла Скопин взялся за крестообразную ручку меча и встал. Он как бы выглядывал среди князей и бояр недовольных драчунов.
Дума опять грохнула. Качали со смехом головами, вытирали мокрые шеи платком. Расправляли бороды.
– Секретаря Бучинского ко мне. Быстро, – сказал Самозванец. Когда тот через несколько минут вошел, кланяясь «царю» и боярам, «Димитрий Иванович» произнес:
– Ян, пошли в казначейство и передай решение Сената, то есть государственной Думы: согласно росписям пусть рассчитают всех.
– Что? Всех хочешь распустить, государь?
– Роту Доморацкого оставить. Это моя личная охрана. А нанятых Мнишеком грабителей на все четыре стороны.
– А как же казаки?
– Казаков в первую очередь. Вызови атаманов со списками. А мне пришли Сутупова, канцлера моего.
Прибежавшему почти рысью Сутупову «Димитрий» приказал:
– Богдан, озаботься государевыми кружалами. С сего случая ты значишься канцлером. Сегодня и шляхте, и казакам будут выдавать деньги за всю бывшую их службу. Так вот: чтобы более половины этого воротилось в казну через кабаки. Посему вели целовальникам отпускать водку день и ночь, без отказа. Кто не исполнит нашей придумки, тому батогов влепить на торгу для вразумления. Правильно сказал старик в Думе… как его звать забыл… «казна нынче тоща».
Попировавши отчаянно, проигравши деньги в кости, к тому же нарядившись роскошно сверх всякой меры и даже богато разодев своих слуг, поляки снова обратились к царю с требованием денег, но получили отказ. Тогда весь этот разбойничий сброд (в том числе грабители из Северской Украйны, черкасы и другие свободные вояки) отправились в Польшу с громкими жалобами на неблагодарность «Димитрия». Они послали своих представителей даже к королю Сигизмунду. Однако король их не принял.
При Лжедимитрии осталось всего несколько поляков, его старых приятелей, способных людей, необходимых для сношения с Польшей. Так же осталась дисциплинированная рота Доморацкого и еще несколько десятков иностранцев-телохранителей, которые были набраны еще Годуновым из ливонцев. Ими командовал Яков Маржерет.
Итак, государь «Димитрий Иванович» человек молодой, с необычайно деятельной и горячей натурой, побывавший на чужбине, принимавший, может быть, участие в запорожских набегах на турецкую Порту, не мог довольствоваться правилами и обычаями, господствовавшими при московском дворе. Он ввел за обедом у себя музыку, причем даже на посольских обедах. В присутствии иностранцев и знатнейших русских вельмож, князей и бояр, развлекался веселыми маршами, песнями и танцами. Для этого брали польских и ливонских музыкантов, а также подготовленных и наученных девиц. Это уж явно было «ради адского соблазна».
Длиннобородые истовые бояре, привыкшие, особенно при Федоре Иоанновиче, к религиозной торжественности и традициям византийского благолепия, воспринимали новшества в быту молодого «царя» как сатанинство, еретичество, недопустимое поношение православного уклада. Впрочем, при Борисе Годунове тоже не отказывались от общения с иностранцами, от приглашения их на службу и от зарубежного способа веселиться.
Вообще все «истинное» нарушалось «Димитрием» как назло. Он не молился перед обедом, в конце обеда не мыл руки, а после обеда не спал. Говорили, что он ел телятину, что осуждалось, потому что было у русских не в обычае.
«Еще бы кобылятину подавать к столу стали», – ворчали старые блюстители православной старины, намекая на употребление в пищу конского мяса у татар, башкир, киргиз-кайсаков, по преимуществу к тому времени, – мусульман. Все непривычное при царском дворе расценивалось прежде всего с политической позиции, при особом влиянии церкви.
Оглядываясь и перемигиваясь в переходах дворца, дотошные царедворцы шептали друг другу на ухо по-приятельски:
– Наш-то Митрий-то в баню не ходит, а моется в бадье… Ей-ей, времени у его не хватат, вишь. Все казну считает с дьяками, со Щелкаловыми, да с етим сикритарем своим, ляхом Бучинским, хитрой лисой. В общем-то, бояре привирали, говоря о бане. «Димитрий Иванович» как раз любил попариться с друзьями и попить медовухи.
– А то еще в мастерские ходит, допытывается, какой кузнец лучше железо кует, да какие умельцы ловчее пули льют… Царское ли дело с мастерьем якшаться, со смердами… Нет, чтобы встать поране да заутреню отстоять, обедню раннюю отмолиться… эх!
– Вот, слышь, когда ругателей его, Тургенева Петьку с мещанином Федькой Калачником на казнь вели, Федька-то во всю горло орал, бесстрашной такой: «Приняли вы вместо Христа Антихриста и поклоняетесь посланному от Сатаны… Тогда опомнитесь, когда все погибните…»
– Господи, владыка живота моего, что деется-то!..
– А народ черный Федьку ругал и кричал: «Поделом тебе смерть. Слава государю нашему!»
– Но удал, ничего не скажешь да не почешешься. Когда в Коломенском медведей травили, на круг выходили самые могутные робяты – из стрельцов, из мещан… кузнецы те же… из смердов-пахарей здоровы были… Был Ивашко Бодун, кат[48]. Да-к он медведя с одним ножичком взял, прямо под пазуху ему саданул, зарезал… И тут глядят: наш-то государь венчанный, шапка набекрень, кафтанишко кушаком подтянул, схватил вилы двойные со стальными перьями и на медведя… Басманов вопит: «Не пущу, Твое Величество! Царску-то жизнь опасности подвергать!» Князь Телятевский тоже глотку дерет, глупой: «Государь, не ходи на ведмедя! Поберегися для нашей пользы, куда тебе… Ты мелкой, не удержишь зверя вилами-то». А тому хоть бы што… Выбрал зверя самого лютого, огромадного да брюхатого, башка в полтора локтя вдоль. А клычища, а когтищи… Ой, Господи! И встречь того страшилища с вилами наперевес… Ну, все рты порозевали, ждут-че будет… А Димитрий Иванович, как будь всю жизню токмо энтим и занимался… Подскочил, примерился. Саданул зверю в сердце, древко укрепил и держит, напыжился, аж жилы вздулись… Тот-то поревел, лапищами на воздусях помахал да и завалился… Што тута стало! «Слава! – орут и бояре, и смерды, и охотники, и стрельцы. – Слава нашему государю! Истинный ловец! Право хоробрый воин!» Во как, господа думцы…
– Да знаю, – подошел третий бородач в шитой ферязи, – видал я… Сильный царь-то, хоша и ростом невелик. Там еще и свей[49] был со слободы Кукуйской… Наш, говорит, свейский король Карл тоже оченно се дело любит – медведей травить, своими руками кончать…
А Самозванец продолжал удивлять непривычных москвичей своим не царским поведением.
Нередко он в сопровождении Басманова, князя Скопина-Шуйского, князя Мстиславского, кого-нибудь из дальних своих родственников Романовых, с доверенным в международных делах Власьевым, секретарем Бучинским, другим поляком Доморацким, а иногда с немцем Маржаретом и думным дьяком Василием Щелкаловым, ставшим окольничим, разъезжал в легкой колымаге или верхом по всевозможным государственным делам без большой охраны, а то и беззаботно сам-друг с Власьевым или Щелкаловым.
«Царь Димитрий Иванович» сам испытывал на дальних пустырях новые пушки и стрелял по мишеням весьма метко. Сам устраивал смотры стрелецким полкам либо сборным отрядам дворянским.
Приказывал сооружать земляные валы и крепости, чтобы приучать воинских людей совершать примерные приступы приближено к условиям войны. Принимал участие в таких приступах (оружие заменяли на палки) и лез в толпе на валы, несмотря на то, что его иногда сбивали с ног, давили, не глядя на царское достоинство. Однако Самозванец не обижался, понимая, что это произошло в горячке военной игры.
Многие царедворцы, привыкшие соблюдать размеренное и благолепное поведение, оскорблялись таким безудержным поведением «царя». Совсем новое, деловитое и бесцеремонное, иноземное устройство государственных предприятий у многих людей «вятших» вызывало глухое раздражение и даже негодование. А те, кто знали суть явления «сына Ивана Грозного», еле сдерживали себя, считая, видимо, это царствование кратким перерывом после уничтожения династии Годуновых.
Многие же люди воинские, а также купечество и «черный» народ – от городских низов до деревенского смерда, не зная о быте нового «царя» во дворце, очень были довольны его правлением и молились за него, занявшего трон Годунова.
Однако многие оскорблялись, обсуждая слухи о том, что «Димитрий Иванович» принял чужую еретическую веру католиков. Другие отрицали эти слухи, не верили им, видя как он молится в православных храмах, причащается, помазывается и преклоняет колени перед святыми иконами.
Впрочем, Лжедимитрию, уже сидевшему на московском престоле, нужно было сохранить благоприятные, даже дружественные отношения с папой, зорко следящим за его поведением. Ему нужно было не утратить связи с польским королем и другими католическими дворами. В своих письмах к папе, верхушке Речи Посполитой и некоторым ближним монархам он горячо поддерживал идею всеобщего христианского ополчения против страшного могущества турок, захвативших все земли, бывшие некогда православной Византийской империей и имеющие под своей властью Святую землю.
Наверное, он вредил себе, говоря иногда, что не видит большой разницы между христианскими исповеданиями. Он даже выражал кому-то из вельмож мнение о соединении католичества и православия. На это ему тонко заметили: главенствовать-то при таком единении будет, конечно, папа, а не патриарх русской церкви? Выслушав столь коварное замечание, «Димитрий Иванович» будто бы отнесся и к этому совершенно беспечно.
Патриарх Игнатий как-то спросил «царя» в присутствии нескольких влиятельных думских бояр, правда ли, что он, православный владыка, не против того, чтобы построили католический костёл для поляков.
– Почему бы мне этого не разрешить? – совершенно бесхитростно ответил «царь». – Они христиане и оказывают мне верные услуги. Вы ведь не возражали, когда позволили иметь свою церковь и школу еретикам. – Он имел в виду лютеранскую кирху, открытую при Борисе Годунове на Кукуе в Немецкой слободе.
Патриарх и бояре ничего не возразили «Димитрию Ивановичу». Но видно было по их лицам, что они противоположного мнения и считают намерения «царя» недопустимыми.
Между тем почтовые кареты с корреспонденциями из Рима продолжали часто отправляться в Краков к нунцию Рангони и королю Сигизмунду. А от них скакали гонцы к пану Мнишеку, к пану Вишневецкому – и ко всем другим, имеющим влияние на московского государя.
Самозванец очень оживленно отвечал на письма, прибывавшие к нему из Кракова, Сандомира и из Рима, от самого папы или от главы Иезуитского ордена. В своих письмах он охотно обсуждал различные предложения политического или религиозного толка, однако ничего определенного пока не предпринимал. Кроме одного: он желал как можно скорее обручиться, а затем и жениться на Марине Мнишек.
По-видимому, со стороны Лжедимитрия, человека молодого, пылкого и, возможно, действительно влюбленного, это было важнейшим событием, к которому он стремился.
Те дальновидные и осторожные паны, предводительствовавшие в Польском сейме, что были не так давно против поддержки «Димитрия-господарчика» (выражение пана Замойского), после его воцарения настороженно умолкли. Стремление царя Московии жениться на дочери сандомирского воеводы их теперь устраивало. Правда, некоторые считали, что желание царя сделать царицей польскую панну-католичку связано прежде всего с его политическими замыслами так или иначе соединиться с Речью Посполитой и превратиться в могущественного императора – «от Вислы до Волги».
Мнишек торжествовал. Он прислал боярам и «всему московскому рыцарству» письмо, в котором называл себя началом и причиной возвращения царевича Димитрия на престол предков. Мнишек обещал скоро приехать на Москву и способствовать увеличению прав боярских и дворянских, по образцу Запада.
Князья Мстиславский и Воротынский со товарищи отвечали ему вполне дружелюбно: «В грамоте своей писал ты и лично передал с посланцем своим, что ты великому государю нашему в обретении прирожденных прав его служил с великим радением и впредь служить хочешь. И мы тебя за это хвалим и благодарим».
X
После письма Мнишека боярам «царь Димитрий Иванович» немедленно отправил посла Афанасия Власьева в Краков уговаривать Сигизмунда – дать согласие на отъезд Марины в Москву.
Секретаря Яна Бучинского понесли по русским дорогам добрые и сытые кони для переговоров с Мнишеком.
Бучинский торопил «пана отца», однако заранее сделал предупреждение от «царя», чтобы поведение жены иноверки не произвело неприятного впечатления на народ. Еще «Димитрий» настаивал на обязательном условии: выпросить у папского легата позволение Марине причаститься у обедни из рук патриарха, ибо без этого она не сможет быть коронованной. Также испрашивалось разрешение ходить в греческую церковь, втайне оставаясь католичкой. Ну и были пожелания (впрочем, очень настойчивые) не есть в среду мяса, а в субботу наоборот, чтобы мясо ела на виду у двора и слуг, и – голову свою чтобы убирала по-русски, то есть волосы прятала под сетчатую шапочку, а сверху еще вздела бы кику. Кажется, тяжеленную – увешанную золотыми бляшками, убранную драгоценными камнями и жемчужным шитьем.
Узнав про столь затруднительные пожелания жениха, Марина Мнишек презрительно фыркала. Потом хохотала и спрашивала отца – не приготовиться ли ей пить свежую кровь по утрам и не продеть ли в нос себе кольцо, как принято у диких племен в колониях испанской Вест-Индии?
Посол Афанасий Власьев был принят королем Сигизмундом с положенной для подобного случая торжественностью. Власьев передал королю грамоту от «великого государя Димитрия Ивановича, царя и великия князя всея Руси и пр. земель». Вручен был пажам Его Величества гостиничный подарок: две сороковки (связки по сорок штук) отборных соболей. Затем Власьев просил назначить день заочного обручения государя Димитрия Ивановича с панной Мариной Мнишек.
Когда внешние стороны приема были соблюдены, Сигизмунд сошел с тронного возвышения и пригласил Власьева в соседнее помещение.
Король был очень приветлив и любезен с русским послом.
– Я весьма рад за вашего государя, – сказал Сигизмунд. – Наконец-то он обрел родительский трон. Хотя должен сказать, что до меня дошли слухи, будто Годунов жив и оказался в Англии.
– Борис умер своей смертью от удара, я видел его в гробу, – решительно заявил Власьев. – Так что простите, Ваше Величество, про Англию все брехня.
– Я уже послал в Москву своего посланника пана Гонсевского, чтобы обговорить с царем Димитрием наши совместные планы о войне с Турцией и усмирении крымских татар.
– Гонсевского я не видел. Мое главное поручение, Ваше Величество, отвезти государю панну Мнишек.
– Я знаю это, разумеется, – заулыбался король. – Однако я хотел бы предложить царю Димитрию невесту, равную его величию по знатности происхождения, нежели панна Мнишек. Например, мою собственную сестру или… она более подходит по возрасту, трансильванскую княжну Марию. Может быть, подыщем ему супругу королевской крови?
– Простите меня еще раз, Ваше Величество, от меня сие не зависит. Мой государь решил раз и навсегда сделать царицей Марину Мнишек. Так что, Ваше Величество…
– Да, да, я понимаю. Молодость, горячая кровь, любовь, страсть. Ну хорошо, обручение русского царя совершим здесь, в Кракове, у меня во дворце. Я думаю: назначим на 10 ноября… Итак, вы будете изображать жениха.
– Как вам будет удобно, Ваше Величество.
– Я уведомлю Мнишеков королевским приглашением. Это будет приятно для их самолюбия.
– А я сейчас к ним еду с подарками от государя.
– Чтож, добро, добро. Счастливый путь, господин посол, до встречи в день обручения.
Вечером король сидел в тайном кабинете дворца. При нем находился канцлер Лев Сапега и трое вооруженных шляхтичей в темных кунтушах. Разговор шел о разных внутренних польских делах. Потом переместился на отдельные детали символического обручения панны Мнишек и московского посла Власьева.
Вошел один из королевских шпионов, сутулый, мрачный, широколицый человек. На плечах плащ с пелериной, как у государственных стряпчих. Под плащом короткий клинок в ножнах.
– Ваше Величество, к вам с особо секретными сведениями неизвестный иностранец.
– Кто? Откуда?
– Да странно, Ваше Величество. Якобы швед, но из Москвы. По-польски говорит понятно, хотя и с искажениями.
– Обыскан? Впрочем, зачем я спрашиваю…
– Впустить, Ваше Величество?
– Н-ну… да. Кто бы это мог быть? Веди его, Йонтек.
Посланный возвратился с рослым бородатым человеком, одетым как краковский мещанин. Тот, сняв шляпу, низко поклонился. Йонтек остановил его в пяти шагах от Сигизмунда III.
– Имя? – спросил король.
– Улаф Карлсон. Для русских Еремей Куликов.
– Тайный соглядатый шведов?
– Нет, Ваше Величество. Я уроженец Немецкой слободы в Москве.
– Какие сведения?
– Я просил бы, Ваше Величество, чтобы здесь не было случайных людей.
– Здесь нет случайных людей.
– Но… дело касается царя московитов.
– Хорошо, пусть хлопцы выйдут. Останешься ты, Йонтек, и мы с паном канцлером.
Сапега усмехнулся. Король положил ногу на ногу, прищурил серые глаза.
– Слушаю.
– Я прибыл от царицы Марфы, инокини, последней жены великого государя Иоанна. Теперь она в Москве и, как мать царя Димитрия Ивановича, живет в лучших палатах монастыря, рядом с царским дворцом. Я прислан, чтобы сообщить от ее имени: царь Димитрий Иванович, которому Польша помогла взойти на престол, не является ее сыном. Димитрий умер в семилетнем возрасте от несчастного случая либо от руки убийцы, посланного Годуновым. Это истинная правда. Человек, правящий Московией под именем «Димитрий», ей неизвестен.
– Это все, что вам поручено сообщить?
– Да, Ваше Величество.
– Я учту столь ценное сообщение. Вы свободны и можете ехать в Москву. Йонтек, проводи господина Карлсона до конца парковой аллеи нашего дворца.
Когда швед и широколицый в плаще с пелериной покинули секретный кабинет Сигизмунда, Лев Сапега сказал презрительно:
– Бородатый индюк говорил торжественно, как будто он принес нам святое правозвестие.
– Не очень приятно слышать грязноватое откровение, которое уже знаешь.
– Главное, вряд ли мы разберемся, Ваше Величество, кто действительно послал московского шведа с этой давнишней сплетней. Мнимая ли мать царя Димитрия…
– Она дурра, что ли? Непохоже.
– Может быть, заговорщики-бояре начали снова расшатывать трон…
– Как бы то ни было, Димитрий обещал начать войну с турками и жениться на польке-католичке…
Следующим утром служители дворцового парка нашли в конце аллеи труп бородатого мужчины. Его положили на тележку и увезли.
* * *
Пан Мнишек хмуро смотрел на подарки «Димитрия Ивановича».
Власьев передал его слуге узду великолепного аргамака с блестящей сбруей и золоченым седлом. Конь был тонконог, статен, редкой игреневой масти. Затем достали из рундука[50] роскошную соболью шубу и прочие дорогие вещи: серебряные чаши, серебряные блюда, золоченые баклаги и графины венецейского цветного стекла. Наконец, русские бархатные ферязи и шелковые кафтаны с гранеными пуговицами, сабли, кинжалы с золотой насечкой и ножнами в самоцветах.
– Да, это хорошо, – сказал Мнишек недовольно. – А деньги?
– Десять тысяч золотом. – Афанасий вложил в широкую ладонь пана Мнишека тяжко брякнувший кожаный кошель.
Однако ясновельможный тесть еще препирался с царским послом и просветлел, лишь узнав, что все это только «на дорогу».
– А основное? – спросил Мнишек и махнул с деланой беспечностью. – Ладно, обговорим в Москве.
Для Марины из посольских сум явилась резная шкатулка с драгоценностями. Девушка была поражена: таких украшений она еще никогда не видела. Также не скрывала восторга ее подруга Барбара Казановская: «Марина, ты будешь настоящей царицей!» Служанки ахали и всплескивали руками.
Невеста, примерив диадему и ожерелья, спросила даже у Власьева:
– Ну как, а? Ничего?
– Государыня, красивей я не видел никого на свете.
– Неужели?! – Маленькая полячка захлопала в ладоши. – Я буду обручаться во дворце, в присутствии короля и придворных.
Тут же примчались швеи, портные, млеющие от восхищения родственницы. Начали рыться в ворохе дорогих материй, выбирая лучшее из присланного царственным женихом.
По роскоши одежд, торжественности обряда, который совершал дворцовый капеллан Мациевский, по удивительному убранству зала, наполненного толпой придворных и благожелательно улыбающимся королем Сигизмундом, – назначенный день совсем ошеломил простоватого московита. «Ну и лепота, ну и пение – как в раю, аж блазнит, голова кружится… Будто сон чудный приснился, – подумал Афанасий. – Да и невеста государева така басенька, така глазастенькая и нежная – ну, право слово, ангел на небеси… Токмо волосом чернявенька и мала росточком-то, почти с ребенка…»
При церемонии католического обручения посол Афанасий Власьев часто отвечал на вопросы капеллана невпопад, чем вызывал смех некоторых придворных, прикрывавших лицо ладонями. Взять за руку невесту государя исполнитель роли жениха ни за что не хотел и согласился это сделать, только обмотав себе кисть платком. Даже прикоснуться к белому, расшитому жемчужинами платью Марины он не смел. Ужасно потея в своем алом посольском кафтане, рослый и пригожий Власьев не замечал, как некоторые дамы из окружения короля поглядывают на него пристально и лукаво.
Когда дошло до танцев, до торжественного прохождения «полонезом», Власьев участвовать в этом, конечно, отказался. И обрученную невесту русского царя провел по всей окружности зала какой-то щеголеватый, ловкий кавалер с кружевами на вороте и закрученными вверх усами. За столом, сидя рядом с невестой, обрученный «жених» дрожал, боясь не задеть случайно Марину, ничего не ел и не пил, как его ни упрашивали.
Зато его возмутило поведение невесты, когда Марина, благодаря короля за великолепный праздник, низко поклонилась и даже коснулась коленом пола.
Возвращаясь в одной карете с Мнишеком, Власьев раздраженно сказал:
– Делать такие поклоны обрученной невесте царя – значит оскорбить достоинство моего государя. Панна Марина должна была сообразить…
– Ну что вы шумите, друг мой, это же король, – насмешливо ответил невоспитенному и туповатому московиту Мнишек. – Он ведь и дал разрешение на брак. Так что не сердитесь, побойтесь Бога.
– Ах вот как, мне бояться Бога… – взъерепенился уязвленный посол. И Власьев рассказал ясновельможному пану, что король еще до обручения предлагал подыскать для царя Димитрия Ивановича невесту более знатного происхождения… например, свою сестру. Или еще кого-то.
Настроение у пана Мнишека явно ухудшилось. «Шведско-трансильванская крыса», – пробормотал с досадой сандомирский воевода, имея в виду его королевское величество.
– Что? – не понял Власьев, все еще взволнованный происшедшим.
– Да это я так просто, ничего особенного. – Мнишек расправил пышные усы и нахлобучил покрепче шапку с пучком крашеных перьев. – В Москву! Скачим бардзо до Москвы, пан посол!
«Вообще неприятностей множество, даже с излишком, – вздыхал тесть русского царя. – Например, нунций Рангони встал на дыбы, не разрешая Марине причаститься у православного патриарха. Пришлось писать в Рим, к самому папе Григорию XV, объясняя (уже в который раз!), что иначе свадьба не состоится.
Папа, только что занявший священный престол, подумав, разрешил, как исключение и в виду будущего распространения католичества на Руси. Кроме того, секретарь царя Ян Бучинский передал тайно, чтобы Мнишек навербовал побольше жолнеров и привел их в Москву.
Царь чего-то тревожится: говорит, в Кремле три тысячи стрельцов, но он им не доверяет. Они полностью под влиянием бояр и, в случае беспорядков, могут его ослушаться. Им не сумеют противостоять сотня гусаров Доморацкого и немецкая рота Маржерета. Правда, деньги для найма добровольцев Бучинский привез. Да и мне, кажется, удастся расплатиться с моими долгами. Царь, видно, чувствует себя как на угольях. А я везу ему дочь. Но что делать, такова жизнь!»
Мысли ясновельможного пана Юрия Мнишека были тревожны. Сколько он ни тянул время, однако русские деньги получены и долги почти полностью отданы. Надо продолжать начатое дело. Он представил Москве царя, а дальше… Дальше нужно ставить Марину царицей и надеяться на лучшее.
XI
Летела щепа под топорами, визжали пилы, дробно толкли долотами. Подвозили на Ивановскую площадь к самому дворцу отборные, высушенные, заимствованные из монастырских складов бревна. Самые наторелые, искусные мастера по плотницкому делу с раннего утра строили деревянный, будто игрушечный, дворец рядом со старыми каменными палатами. Деревянный дворец был всего на четыре комнаты – зато весь резной и высокий: из верхних комнат всю Москву видно.
Димитрию пришло письмо от пана Мнишека, в котором, между прочим, было написано: «…Поелику известная царевна, Борисова дочь, близко Вас находится, государь, благоволите, вняв совету благоразумных людей, от себя ее отдалить…»
– Вот доносчики подлые, поганые свиньи… Сообщили-таки ясновельможному про Ксению, – злился Самозванец в кругу близких людей. Он показал письмо Басманову, Ивану Безобразову, князю Мосальскому и секретарю Яну Бучинскому. – Что решить, господа? Куда упрятать Ксюшу?
– Ясновельможные паны, и тот же Мнишек, прикидываются, будто в молодости они были ангелами с крылышками. А кроме невест и жен, не имели других женщин, – сердито произнес Мосальский.
– Марина, прослышав о Ксении, изошла в ревности, – заметил Бучинский. – Она теперь страстно желает быть царицей и не потерпит соперницу.
– А тебе-то, Димитрий Иванович, годуновская дочка не надоела ли? – усмехнулся Басманов.
– Да нет, я бы ее не отпустил. Однако, еще не обвенчавшись, свару в доме затевать… Надобно от полюбовницы избавляться.
– Вот эдак, что ли? – спросил Безобразов, проведя большим пальцем себе по горлу.
– Ну что ты, Иван… Что за дикое свирепство… – поморщился «царь». – Ксюшу пострижем в монахини. Никуда ей не деться, иначе слуги Мнишека ее сразу найдут.
– В Новодевичий? – уточнил Басманов.
– Надо бы куда подальше.
Решили услать Ксению Годунову в далекий северный монастырь. Несмотря на рыдания и мольбы бывшей царевны, ее ночью увезли в Белозерск и постригли в монахини под именем Ольги.
Шла тем временем оживленная переписка между некоторыми боярами и теми панами польского сейма, которые с самого начала были против помощи неизвестно откуда возникшему и очень подозрительному сыну Ивана Грозного. Водители сейма даже роптали втихомолку по поводу Сигизмунда, слишком благожелательно отнесшемуся к Самозванцу. Отказавши «Димитрию» в помощи, можно было бы много чего выторговать у Годунова. А теперь вместо благодарности от «Димитрия» одни только досады.
Этот «господарчик», этот «беглый холоп» (как называли его особенно возмущенные поляки) требует себе такого титула, которого не имеет ни один христианский государь. Он хочет называться не царем, а цезарем, то есть, по сути дела, – императором, утверждая, что имеет на это права большие, чем у древних римлян. За это, говорили они, Бог лишит Димитрия престола, да и вообще опозорит его перед всем светом и приведет к мрачному концу.
Сам «Димитрий Иванович» вел себя в это время слишком неосторожно, заносчиво, даже небрежно, упоенный близкой встречей с Мариной.
Когда надо было послать человека с благодарственными грамотами к королю, сейму и Мнишеку, Шуйские и Голицыны хитро обратили его внимание на Ивана Безобразова, которому он безоговорочно доверял. Безобразова направили в Краков с письмами от «Димитрия» и с тайными поручениями от бояр.
Ванька Безобразов, всегда так правильно и преданно ведший себя под боком «царя», теперь почувствовал чутким своим носом приближавшуюся угрозу со стороны настоящих хозяев Москвы, потерпевших временное поражение, но теперь объединявшихся для наступления на власть «расстриги», для неожиданного победного удара. Возвратившийся из Москвы королевский посланник Гонсевский пригласил к себе для скрытной беседы полномочного представителя боярства.
В сумерки Безобразова доставили в богатый дом пана Гонсевского. Старый слуга с крашенными в ярко-рыжий колер вислыми усами, достигавшими живота, в кафтане со шнурами и кисточками проводил московита к хозяину. Пан Гонсевский, вполне располагавший сведениями о состоянии дел у легковесно господствовавшего «Димитрия» и тайно противостоявшим ему «Рюриковичам», «Гидеминовичам» и их присным, сел в кресло и предложил боязливо поглядывавшему, неприятному лицом секретному гонцу передать ему поручения от бояр.
Безобразов к этому сроку изменился. Он не походил теперь на ослепленного удачей царского слугу, вовремя прикинувшегося забывчивым глупцом. Постепенно он разгадал готовящуюся смену власти и удивлялся на благодушествующее лукавство «Димитрия Ивановича» (Юшки пупырчатого, как он его называл про себя) в тот день, когда тот помиловал князя Шуйского, отменив казнь злейшему своему врагу. Шуйский-то его, дурака, никогда не помилует, уж такое даже во сне присниться не может. И Безобразов предал товарища детских и отроческих лет, готовился теперь насладиться его гибелью, утолить свою ненависть и зависть. Впрочем, осторожность его не покидала.
– Итак, что приказали передать? – Пан Гонсевский поднял брови, будто заранее удивляясь тому, что ему придется выслушать от неприятного чернявого мужика.
– Ясновельможный пан, – начал заученно Иван Безобразов и даже глаза закатил под лоб, словно припоминая порученное ему каждое слово, – светлейшие князья русские: Шуйский Василий Иванович, Рюрикович, думный боярин и такожде Голицын Василий Васильевич, Гедиминович, думный боярин, со товарищи – князьями русскими и думскими боярами жалобу приносят благородному сейму Речи Посполитой на действия Его Величества, короля польского Жигимонда. А жалоба сия такова есть: зачем Его Величество зело поддерживал и навязал с помощью воинских своих людей в цари на престол московский человека низкого как в помышлениях своих, так и в происхождении своем. Ибо сей легкомысленный и распутный тиран, подобный древним тиранам языческим, есть подлый и лживый Самозванец, монах-расстрига, а не сын царя Иоанна IV и ни в каком своем существе престола царского недостоин.
– Подобные сведения, которые я услышал, от вас, господин посланец, – заговорил пан Гонсевский, изменив выражение удивления на мину сожаления и даже некоторой печали, – мне, панам сейма и королю уже приходилось получать из Москвы как от вполне ответственных и благонамеренных, так и от случайных лиц. Опрометчиво и скороспело отвечать на сии сведения, а тем более предпринимать некие решительные шаги – как последствие столь разоблачающих сведений – пока в разумении Его Величества короля Сигизмунда, а также членов сейма не представляется возможным. Ведь, если память не изменяет нам с вами, господин посланец, бояре уже присылали письмо на имя нашего короля, где они в противоречие нынешним своим словам хвалили и благодарили Его Величество за помощь, оказанную сыну царя Иоанна Димитрию в обретении им отеческого трона. Что-нибудь еще приказано донести до сведения сейма?
– Да, ясновельможный пан, – несколько заторопившись, продолжил Безобразов, – мне указано передать о намерении думских бояр сверзить со престола беглого расстригу Гришку Отрепьева и возвести на трон сына короля Жигимонта, королевича Владислава.
Гонсевский на другой день сообщил Сигизмунду о предложении Боярской думы. Король, поразмыслив, велел отвечать боярам, что он очень жалеет, обманувшись насчет Димитрия, и не хочет мешать им помышлять о самих себе в захвате власти. Что же касается до его сына Владислава, то он, король, не страдая увлечениями честолюбия, хочет и сыну своему внушить такую же умеренность, предоставляя тронные дела воле Божией.
А русский царь тем временем, рассылая обещания о всяческом благоприятствовании в будущих свершениях по распространению латинства в Москве, думал только о скорейшей свадьбе с Мариной.
Под звоны всех московских колоколов Марина Мнишек с подругой Барбарой Казановской и стайкой молодых шляхтянок торжественно въехала в стольный град. Русские мизинные[51] люди толпились вдоль пути, с простодушной наивностью восхищаясь красотой невесты.
– Ох, до чего ж миленька, личико кабудь котенок облизал, – умилялась толстая румяная разносчица баранок. – Ох, басенька, чернявенька, ангелок писаный…
– Уж и глазенки прямь свечками светятся, таковы ясны, а роток красенький – одно слово розочка полевая цветет, – подхватила соседняя баба с восторгом и подняла девочку лет двух в платочке. – Глянь на невестушку цареву, Дуняшка-голубонька. Глянь да ладеньку-красотеньку у ей перейми… Вырастешь, сама така стань… Чтоб от жанихов-то отбоя не было, чтоб князья-бояре просили-кланялися… Ох, уж така холена да пригожа – что и словес не хватат.
– Да хороша-то прихорошенька, а больно маненька, ручонки беленьки да хиленьки… Белорыбицей не плывет, не ласкат погляденье… – сомневался мужик в войлочной шапке грибом, в малиновой новой рубахе с сизою подпояской. Плечистый, грудастый, спинища в неохват.
– Те, детинушка, таку былиночку-липеньку не с руки и глазом мерить… – засмеялся на его замечание старик в надорванном зипунке, бородка редкая, а глаз лукав чрезмеру. – Те надо девку кабудь репу ядрену. Гуль якши ясак, как татарове бают, те бы сытушку медовую, не немецку романею[52]…
– Толково, дед, баешь, – осклабив крепкие зубы, присоединился к старику с редкой бородкой здоровяк. – Я, дед, москвитянин сытой, мне невесту с Кутафью башню[53] надоть, ей-ей…
– Ха-ха-ха, бесстыдник-ялдырник, – рассмеялась напомаженным ртом до ушей разносчица-бараночница.
– Махни, махни рученькой, Дунюшка, царевой невестушке, а может, ответит, – уговаривала дочку баба в вылинявшем платке поверх бедного кокошника.
– А товарка-то невесты посмачнее будет… Больша, румяна, бровь соболья…
Марина Мнишек сидела прямо и гордо, с красиво окаменевшим лицом под жемчужным венцом с белой лентой. Толпы радушно встречавших ее варваров-московитов были для будущей царицы пустым местом. Однако сопровождавшие ее в карете миловидные полечки-шляхтянки искренне радовались веселым кликам в людских потоках этого пестрого, шумного весеннего города.
А за день до того «царь», предупрежденный Мнишеком, который уже расселил по частным домам своих жолнеров и шляхтичей, приказал поставить большой царский шатер перед Москвой. Туда доставили царскую карету, внутри обитую алым бархатом, с золотыми накладками и посеребренными спицами. Бояре, богатые купцы явились с подарками к шатру царской невесты.
На всем пути, во всех городах и городках Марину встречали колокольным звоном, священники с причтом выходили навстречу, народ радостно бежал сзади за «царицей», выражая восторг. Но она нигде не выходила из кареты, никому не отвечала на приветствия, не обращала внимания на духовенство.
И вот теперь, уже покинув шатер и сидя в сверкающей золотом карете, она ехала к центру, к Кремлю, где будущий муж «Димитрий Иванович» ждал ее въезда.
Он находился в столовой избе, где угощал Мнишека, сына его Станислава и командиров польских гусар. «Виват!» – кричали мужчины, чокаясь серебряными чашами.
А Марина уже подъезжала к Кремлю. Спереди и сзади ее кареты ехали более скромные экипажи с родственниками Мнишеков, панами и паненками. Гарцевали на прекрасных конях гусары с гусиными крыльями, прикрепленными на легких кавалерийских латах к плечам, в золоченых касках с белыми перьями, с красными накидками, вьющимися за спиной. Гусары подмигивали румяным москвитянкам в камчатых распашницах[54].
Загрохотали пушки, окутавшись дымом. Быстрее затрезвонили колокола кремлевских монастырей. Блестящий поезд невесты стрельцы отделили от любопытной, радостной толпы. Карета Марины вкатилась во Фроловские ворота. Маленькая девушка с жемчугом и белой шелковой лентой в черных волосах, морщась, нюхала французский флакончик от головной боли.
Когда невеста царя вышла из кареты, ее встретил дьяк Афанасий Власьев, тот, что в Кракове обручался с ней, замещая «Димитрия Ивановича». Он повел Марину к царице-инокине Марфе, «матери царя». Инокиня расцеловала избранницу «сына» и оставила ее в своих палатах вместе с Казановской, подружками и служанками.
В столовой избе опрокинули уже не одну чару крепкого венгерского.
– Ну, как устроилась Марина у матери? – спросил сильно возбужденный «царь».
– Да хорошо, государь, – отвечал Власьев. – Царица ее поцеловала, разместила Марину и подруг в палатах. Все ладно, только скучно ей будет в монастыре.
– Пускай музыканты из роты Доморацкого играют около монастыря что-нибудь веселое.
– Как так? – опешил Власьев. – Но это же монастырь! Разве можно тешить беса в обители?
– Может быть, не надо, Ваше Величество? – вежливо вмешался Станислав. – Все-таки монастырь… Обидятся монахини…
– А я приказываю играть! – стукнул кулаком по столу захмелевший Лжедимитрий. – Я властелин в этой стране, каждое мое веление закон. Играть! Да погромче – чтоб во всем Кремле и на Красной площади слыхали…
И никто теперь не поверил бы, что гордая Марина готова была вернуть обручальное кольцо и отказать жениху. А в то же время ясновельможный пан Мнишек до неприличия скабрезно и грубо торговался с Рангони. Даже писал в Рим папе Григорию жалобы на упрямство нунция.
Но если бы и Мнишек, и Марина знали о том, какие передряги пришлось совсем недавно перенести царственному жениху, они вряд ли чувствовали бы себя настолько уверенно.
XII
Протекавшая у Кремля Неглинка и впадавшая близ Боровицкой башни в Москву-реку, несла из-за слобод небыстрые и не особо чистые воды. На речную поверхность бросали тень старые ивы, меж ними плескали колесом две мельницы, какие-то еще виднелись бревенчатые строения под лохматой соломой, да были мостки с портомоем: тут бабы с утра колотят вальками по полотняным рубахам.
Поили тут же поблизости коров хозяева недальних изб, и стоял в летний день мальчонка с удочкой из орешины. Гуси ходили важно по берегу, стаей плавали иногда.
Чуть в стороне от Лубянки, где торговали готовым к постройке лесом, там и сям теснились харчевни, шалаши обжорные, питейные царевы кружала… Частные запрещались… Но подтихую существовали… И не с пропившимися питухами, рванью дерюжной, а с загулявшими гостями[55] в добротных кафтанах смеялись опрятные слобожанки с бирюзовым или обливным голубым колечком во рту[56]. На таких проходившие мимо мужние жены кидали хмурые взгляды, злились. Эти были и впрямь покраше простых срамных девок; однако тоже зазывали – кого в кружало, кого в притон дым пить из коровьих рогов[57], кого даже в баню…
Вот и стояла одна из таких бань на Неглинке, выстроенная купцами Веригиными при благом поощрении князя Милославского, начальника Большого приказа. Баня с двумя отделениями – мужским и женским, а предбанник с мутным фонарем один, общий.
У входа целовальник с заклепанным железным ящиком, в нем прорезы для сбора денег – с кого копейка, с кого пол-алтына. Рядом сторож с бердышом и саблей.
Пития хмельного в бане не разрешалось, чтобы не случалось похабства и озорства. Однако смотреть приходили многие: гыкали при виде голой толстомясой бабы, что возникала из клубов пара с веником перед животом между ляжек и, прикрывая груди, лезла, мокрая, в чистую рубаху до пят. Иной начинал на расстоянии охальничать, подъелдыривать, но трогать рукою – не моги.
Бабы, те что помоложе, отругивались беззлобно. Некоторые молча одевались или разоблачались, однако бывало что и посмеивались. К таким, с разрешения сторожа, можно подойти, уговориться человечно на скорое время или на потом. Сторожу грош с каждого уговора.
Однажды к востряку, что сперва мылся-парился, потом со смешливой бабой ненадолго уходил, снова возвернулся, разделся: копейки в кисете были… так вот к нему подошел и, разувшись, заговорил жилистый мужик с седоватой бородой. На правом предплечье рубцы от сабельного удара, на плече тоже. Бок искорежен шрамом. Видно, человек воинский, боец.
Тут третий, молодой, после мытья принес большую баклагу кваса, всех угостил. Сторожа этих двоих, сам испил из деревянной чашки. Целовальник только не стал: ему не полагалось у чужих пить. Могли порошка сонного подсыпать, ящик унести.
Пили квас. Разговор зашел к полякам, прибывшим в Москву с новым царем и охранявшим будто бы государя. Расположились они в Посольском приказе. Главным там у них значился Вишневецкий князь, командовал отдельной ротой пан Доморацкий.
Поляки бродили по Москве, как по городу, взятому с бою. На жителей поплевывали с презрением, чуть что – хватались за рукоять сабли, грозились. Женщин встречных, если нравилась, не пропускали свободно, изгалялись, лапали. Был случай изнасилования, но потолковали, позлилися – замяли.
А один польский кавалерист, дурной, пропившийся, до того обнаглел, что у купчишки на торгу калиту[58] с деньгами срезал. Тот вовремя спохватился. «Караул! – кричит. – Граблють, православные!» – это рассказывал седоватый со шрамами. Двое других слушали.
«Ну, тут все, как положено: стрелец охранный, два пристава поляка схватили: “Ух, ты, тать[59] поганая! Ишь разгулялся!” – связали его и к позорному столбу. Кат на Торгу батог взял. “Сколько?” – спрашивает. “За такое дело полсотни батогов”. Кат с удовольствием стал отсчитывать, да со всего плеча.
Поляк взвыл, ревет на весь торг, русские посмеиваются. Да поблизости оказались его сотоварищи. Примчались, лаются: “Русские собаки! Как посмели бить лыцаря?” Пристав объяснил: “Никакой он не лыцарь. Тать паскудная, калиту с деньгами украл”. Какой-то гусар ему отвечает: “Это пустяк. А калита с деньгами есть законная наша добыча…” И кулаком приставу в рыло. Тот сперва ошалел, а потом взвился: “Ах, сукины сыны! Меня, пристава, поставленного государевым дьяком, бить на Торгу?” – и стрельцу: “Взять его!” Стрелец было за саблю. И поляк за саблю. Другие тоже сабли повытягивали: “А ну пошли прочь! Пся крэвь!” Тут в толпе крикнули: “Бей их, православные!” Оглобли, палки, вилы схватили. Началась потасовка. Сабли у наглых гуляк повышибали из рук. Стали лупить палками, кулаками месить.
Поляки вызвали подмогу. От посольского приказа прибыла рота кавалеристов под командой ротмистра. Начали пиками, саблями, плетьми разгонять толпу. Да не тут-то было. По улицам к Торгу сбежалось чуть ли не пол-Москвы. Походя, выворачивали колья из плетней – главное оружие: и пика, и дубина. Разгоралось уже сражение, пролилась кровь. Ударил набат. Послышался нарастающий от возмущения рев толпы.
Наконец стало слышно и в Кремле, в царском дворце. Прибежали стрелецкие головы. Пали на колени перед “государем” и его ближними: “С чернью ничего поделать не можем! Всех ляхов перебьют!” “Встаньте, – Димитрий Иванович говорит, – хватит валяться”».
Стали наверху думать: как быть? Ну и вроде бы молодой мечник царев Михайла Скопин-Шуйский сказал царю:
– Государь, напиши указ о наказании виновных поляков. А при сопротивлении их сородичей ударим, мол, по Посольскому приказу из пушек. И пусть бирючи с Лобного места указ твой крикнут.
– Да ты что, Миша, – Димитрий Иванович кручинится, – как я могу поляков наказать, когда они главная моя охрана. И с панами, с королем договор у меня заключен. Да свадьба скоро с Мариной Мнишек.
– Да ты только для виду, государь, – смеется Скопин-Шуйский. – Проведем зачинщиков в цепях до тюрьмы. А ночью потихоньку выпустим. И пусть катятся из Москвы в Польшу кроме роты Доморацкого. А то черный люд рассвирепел, разозлился, как бы бунта настоящего не случилось. – Ну, делать нечего, – отвечает Димитрий Иванович, – вот ты сам, Михайла Васильич, поезжай в Посольский да с князем Вишневецким все и обговори.
«Скопин взял конных стрельцов, поехал да с польским начальством обо всем условился. Того “татя”, что калиту срезал, и прочих зачинщиков драки на виду у всех отвели в тюрьму, а бирючи на Красной площади проорали царский указ: “В случае-де сопротивления ударить по польским отрядам из пушек”.
Народ московский доволен, царя славит: “Ах, какой у нас царь-то теперь справедливый, честный! Все по правде рассудил и русских зря не обидел, и ляхов наказал”. Ну вот, ровно бы и тишина настала.
Однако седмица прошла, и понемногу начали москвитяне узнавать: как всамоделешне-то сделали. А народ православный обманули. Тут многие закручинились: вот тебе и добрый царь, справедливый, хороший. А никак не осмелился против друзей своих, поляков, пойти. У них бы с русскими другой разговор был. Понастроили бы глаголиц[60], да всех нас перевешали».
Про это седобородый человек с боевыми шрамами говорил, уже помывшись и с молодыми на улицу выйдя.
Зашли путем в харчевенку. Присели в уголке и опять за разговор. Заказали пенной (водочки, значит), пирогов, студня. Стали ужинать. А старший-то молодым разное рассказывает – да не шибко, а потихохоньку, ладонью-то прикрыв рот. Те, конечно, понимают – в чем дело. Нет, нет, а незаметно кругом поглядывают. Видят, что попался человек удалой, а они – тоже ниче, сгодятся.
Там питухи-пьянь перепившаяся – галдят, матерятся, свару меж себя затевают. Тут под пивное угощенье скоморохи кривляются, припевая:
Сани поповы! Девки отцовы! Оглобли дьяконовы, Хомут не свой… Погоняй, не стой!Монах какой-то здоровенный, опившийся, взревел через головы буйным хмельным басом:
– Люди хрещеные и нехристи! Телесо наше трепыханием своим сердце человеческое указует, цело ли тело наше праведное. А цело телесо, то жива и душа, алчущая пити, чтобы здравой быти! Вон оно как!
Кто-то сказал:
– Сей монах беглый Варлаам аки пророк возглаголошит и к чему-то дух людской призывает. А к чему? К зловещанию и властям неповиновению, ибо будто знает и скрывает некую тайну великую, ему известную.
– Ну что за тайну ты знаешь, отче расстриженный? – вопросил сутулый человечишко подьяческого вида: кафтан замаранный долгий да бороденка драная клином. – Небось крамолу скрываешь во чреве пьяном своем? А ты скажи – не боись. Дыбы, пытки огненной не боись!
– У меня темя лысое, да не глупое, – заявил Варлаам, – тебе не выдаст знаемое, видок ты поганый!
– А, боисси? Беглый ты пророче! А то – возглаголь, я мигом с тебя запишу да куда надо донесу, – изгалялся подьячий-пропойца.
Сильно хмельной монах заорал на подъячего:
– Стерво ты, прохиндей, а не человече грамотный!.. Уйди с глаз моих, пока я тя палицей своей и десницей[61] мощною не порешил!
Тот не испугался и завопил тонко, верезгом сиплым:
– Бес ты в монашьей шкуре! Не ведаю, что ль? Вор ты затаенный, сокрытый… И мало чаво удумаешь!
Седобородый, жилистый, что из бани, разговаривал с молодыми, но прислушивался чутко к крикам и байкам.
Двое неприметных, потрезвее, видимо, бывалые люди, говорили про себя, но тот со шрамами их слышал:
– Да семерых стрельцов захватили в Кремле, ибо толк был у них про самого царя. Лжа, мол, будто он сын Ивана Васильевича. И пока только правит, а потом поляков на Русь пустит – грабить да насаждать латинство.
– Тише ты, краем уха пымают, тады берегись…
– Ништо, тут все пьяны. И как дальше?
– Да выдал их кто-то. И всем полуполком пришли стрельцы ко дворцу самого царя… Семерых стрельцов привели из басмановского застенка. Вышел царь-то и молвит им: «Я суду ваших товарищей отдавать не стану. Бог им судья, а поступайте с ними сами, как сочтете праведным. Что решите, то и будет». Повернулся и вместях с Басмановым ушел во дворец. А дворянин думный Микулин Григорий верным стрельцам знак дал. Тут голова стрелецкий взметелился: «Раз такое про государя баили, в сабли их…»
– Ну?
– Што «ну»-то? Всех семерых на куски порубили…
– Посередь Кремля?
– Еле кровь замыли да мясо в Москву-реку покидали… А народ, узнав, доволен был. Царские, мол, изменники.
– Времена вновь настают кровяные. Надо, не дожидаясь, в Кремле ночью пошарить. Пока там с охраной переполох.
– После той ночки стрельцы сумные[62] стали, по сторонам от дворца стоят. И не видать. Пусто нынче в Кремле! В царских палатах и то почти никто караул не держит. Сказывают, поживиться можно. Сам-то Митрей вроде с постельничим Ванькой Безобразовым. Да еще ночует сиклитарь еный из ляхов по прозвищу Ян.
Трое, которые пришли в харчевню из бани, отдали деньги целовальнику за хмельное, стряпухе за еду. Вышли. Прошагали недолгое время. Старший спросил:
– Слыхали про все?
– Слыхали, – тихо произнес тот, что в бане угощал квасом.
– Ты как думаешь? Нож в сапоге есть? Али мы не казачьи головы?
– Нынче никого не проверяют, такой срок настал. Потом перекроют. А то Фроловские ворота всю ночь открыты. И только немцы-рейтары бродят лениво туда-сюда. Что же, пошли?
– Один раз живем, другого не будет. Айда.
Темень в Кремле. В одном месте только, у немцев, у рейтар, факел еле тлеет, дымит.
А во дворце, в спальне царской, свечи в шандалах догорели. «Царь» замедленным языком беседует о чем-то со спальничим Безобразовым. Где-то в Замоскворечье горланят вторые петухи. Тишина крадется по переходам и горницам. Сон нисходит; в окошке, в темном небе, плывут синие облака.
И внезапно – в передней части дворца, у входа, шум.
Лжедимитрий вскочил, схватил меч на лавке у стены.
– Что там? Пистолеты мои где?
– Не помню, царь-батюшка, – сдавленно бормочет Безобразов. – Прости, Христа ради…
Чутко вслушиваясь, Самозванец кинулся к двери босой. Слышен гулкий топот ног и голос его ближнего человека Дурова: «Стойте, суки!» – и мат.
Самозванец, обнажив меч, рванулся в переднюю. К нему подскочил Дуров, стрелецкий голова:
– Государь, какие-то крались.
– Их схватили?
– Взяли, государь. Ах, гады, с ножами…
– Что-о-о?!
Тут же Безобразов с пылающим большим шандалом, с теплым царским халатом:
– Оденься, батюшка, застудишься. Вот сапоги теплые…
– Пошел ты… Кто послал? На государя, с ножами!
Прибежал второй стрелецкий голова Брянцев. За ним стрельцы тащили троих окровавленных с закрученными за спиною руками. Лжедимитрия трясло – от страха, от гнева?
– Все трое с ножами? – переспросил он в бешенстве. – Федор, на двор мерзавцев, в сабли их! Нещадно! – Хотел даже вытащить из ножен свой меч. Опомнился. Плюнул и вернулся в спальню. Было не до сна. Утро уже. Полз серый, без теней, свет.
Когда приехал Петр Басманов, слышен был его дикий от злобы крик:
– Зачем порубили? На дыбу надо, ко мне! Они бы мне всех выдали! Э-эх, стрелецкие головы, бараны!
– Прости уж, Петр Федорович, я виноват, – кусая губы, раскаянно проговорил «царь». – Не мог гнев удержать.
– Да, государь, поторопился, – смело выговаривал ему Басманов. – Через два дня заговор бы раскрыли.
И вот в этот-то миг стукнуло в голову Безобразову: когда следующий раз придут за Юшкой Отрепьевым, первого на тот свет отправят его постельничего.
И опять простой народ был доволен: «Покусилися на царя-батюшку, на нашего Митрия Ивановича… Так им и надо. Поделом».
А в княжеских домах тайно собирались все те же: Голицыны, Шуйские, Татищевы. Но со страхом: Басманова боялись. Тот, как у Ивана Грозного Малюта Скуратов, у Лжедимитрия главным разыскателем и пытошником стал. Чуть что узнает о ком: на дыбу. Собирались князья больше у Татева, у купцов Мыльниковых.
Все это предшествовало роскошной свадьбе с Мариной Мнишек.
XIII
Подталкиваемый своим будущим тестем Мнишеком, «царь» настаивал сперва венчать Марину в царицы. После того, как приказано было отправить игумнам по далеким монастырям митрополитов Гермогена и Иоасафа, не соглашавшихся с этим требованием «царя». Священники кремлевских соборов только вздыхали. Бояре шептались: «Все с ног на голову ставит, во кощунство-то…»
Когда оговаривали венчание, «царь» многие из православных обрядов убрал.
– Все эти суеверия выкинуть, оставить только общехристианское. Сваху-чесальщицу, надевание кики, разрезание пирога и сыра – побоку. Мы сразу вместе с Мариной явимся в столовую избу, потом в Грановитую палату и в Успенский собор – венчаться.
– Правильно, государь, – вполголоса поддержал его решение Басманов, – а то Марина Юрьевна по католическим правилам бог знает что натворит. А так – ты, государь, рядом – подскажешь, как ей надо поступать.
При входе в Успенский собор «царь» напомнил Марине, чтобы крестилась не всей ладонью, а двоеперстием. И – не налево, а направо.
– Хорошо, я все сделаю, как ты приказываешь, – с кривой усмешечкой пообещала Марина.
Польские паны и шляхтичи, сопровождавшие панну Мнишек, входя в собор, крестились всей ладонью, хотя прекрасно знали, что православные крестятся двоеперстно. Внутри храма они стояли отдельными группками, с интересом поглядывая по сторонам. Более умно и сдержанно, подражая своей госпоже и подруге, вели себя полячки. Они все делали, чтобы не вызывать раздражения у русских.
Патриарх Игнатий, предупрежденный Лжедмитрием, начал с крещения. Марина закапризничала, не желая запивать просфору вином по-греческому обряду. Но «царь» приказал удалить из храма смущавших ее поляков и довольно сердито цыкнул на возлюбленную. Она, испугавшись, подчинилась.
Затем началось венчание. Хор загремел «Многая лета». Патриарх поднес чашу с вином, к которой жених и невеста (теперь уже муж и жена) прикладывались поочереди. А в конце «царь» бросил чашу на пол и принялся топтать хрупкий хрусталь, приговаривая: «Пусть будут также растоптаны те, кто посмеет затевать между нами смуту и раздор!»
Бояре только рты разинули: чтобы в храме такое…
Тут все гости, толкаясь, бросились поздравлять молодых – «царя» и царицу». Пан Мнишек пролил отцовские слезы счастья, соображая, что такого торжества и такого будущего в своей и Марининой судьбе не мог видеть даже во сне.
Свадебный пир начался в тот же день. Столы ломились от яств, приготовленных и оглашенных при внесении придворными кухарями:
«Стерляди паровые, белорыбицы печеные, лещи на пару и уха со стерлядями, с перцами пряными, листами лавровыми и травами заморскими… Щуки на пару в сладком отваре с шафраном, корицей и оливами черными… Судаки и язи паровые со сметаной по-польски… Белуга копченая свежая и осетры свежие же… И сомы большие соленые… Далее на блюдах лебеди под скрыли, журавли под шафранным взваром, ряби под лимоны, кури разниманы по костям под огурцы, тетерева окрашиваны под сливы… Ути окрашиваны под огурцы… Косяк буженины… Лоб свиной в грецкой разварной каше… Лоб свиной под чесноком… Гуси, утки, порося жареные…»
У некоторых гостей, особенно польских панов и шляхтичей, от такого изобилия и многообразия вырывались невольные вскрики изумления и какого-то дурашливого хохота.
А русские дворцовые кухари продолжали вносить и возглашать: «Кури индейские под шафранным взваром… Блюдо из ветчины, почки бараньи большие, жаркие… Середка ветчины и часть реберная говядины целой жаркой… Гусь, утка под гвоздишным взваром, ножка баранья в обертках…»
И когда казалось, что эти груды изысканных, искусно приготовленных кушаний подходят к завершению своего бесконечного благоухавшего пряностями потопа, как вновь закричали: «Несут, несут… Куря рафленое, куря бескостное, куря рожновое, гусь со пшеном да ягоды под взваром, куря в ухе гвоздишной, куря в ухе шафранной, куря в лапше, куря во штях богатых, куря в ухе с сумачом…»
И, конечно, баклаги золоченые, кувшины серебряные, ведра серебряные, фляги стеклянные венецейские, ведра из стекла же – толстого синего непрозрачного, кади белые с ковшами серебряными, медными… «Кубки, чаши, утицы расписные, бокалы хрустальные… А в них мед с гвоздикой и другой мед в десяти ведрах, да двадцать ведр цыжоного… Вино боярское с особым зельем, романея фряжская, рейнское вино светлое, меды малиновые, меды сытные, меды смородинные… Вино тройное по крепости, вино двойное по крепости, пять бочонков малмазеи, да меду вишневого ведро, да в бочках – четыре ведра вина боярского с зельи, пять ведр вина с махом[63], пять ведр меду патошного легкого, да пять ведр пива имбирного…» И подарок к свадьбе дочери от ясновельможного пана Юрия Мнишека – тридцать бочонков крепкого венгерского вина… «Да пива доброго сорок ведер… Да ко всему тому – сто тридцать три хлеба ситных… Еще три блюда оладий с патокой, три блюда пирогов пряженых с горохом… Три блюда со пшеном сарачинским да с вязигою… Три блюда карасей больших со свежею рыбою, со сметаной… Да пряженины, да блинов, да калачей крупитчатых…»
Но особенно странно и унизительно до бесстыдства было видеть русским боярам, что невеста после венчания снова переоделась в польское платье, сбросила кику и вольно отпущенные, черные шелковистые волосы повязала белою лентой.
Бояре только глаза пучили, глядя, как жених с невестой начали пить и есть, не скромнее, чем все веселое прожорливое застолье.
– Ну, царица простоволосая… – бурчали оскорбленно православные старики. – Это уж ни в какие ворота…
Поляки за праздничным столом, паны и паненки, юная царица, молодой царь, его близкие – вроде Басманова и еще кое-кто вели себя так, будто они сидели не в Кремле, в Грановитой палате – оплоте русских царей, а где-то в Кракове или, может быть, во Львове, где уж давно все стало польским, а Третьим Римом даже не пахло.
Опьяневший «царь» потребовал внимания и объявил на польском языке, обращаясь к гусарам, шляхтичам и другим рыцарям, допущенным к царскому столу, что жалует каждому в честь его свадьбы по сто рублей.
– Виват! – заорали гусары, поднимая кубки и чаши.
Пировали не только во дворце, но и во дворах, где были на постое прибывшие с Мнишеком поляки. Вино, водку и снедь послали и немецким рейторам. Они также не отказывались от здравиц в честь русского царя, державшего их в своей личной охране.
Народ на московских улицах тоже славил своего молодого «хорошего» царя. Однако перепившиеся поляки затевали бранные перепалки. Поносили русских, называя их уже давно запомнившимися оскорблениями «быдло» и «пся крэвь». Женщинам приходилось прятаться от грубого домогательства чужеземцев. Пьяные воины Речи Посполитой совсем не желали соблюдать вежливость, находясь в столице Московии. И часто брались за сабли, думая напугать русскую чернь. Приходилось вмешиваться стрельцам, которые едва сдерживались, скрипя зубами. Под пьяные песни гусар и жолнеров, под скачки верхом по темным улицам, под беспорядочную стрельбу в воздух город притих, будто накапливая ярость. И новый царь многим уже не казался «добрым», «справедливым», «боронителем нашим», «государем-солнышком».
Пир продолжился на следующий день. «Царь» захотел попариться в бане. Веселился, хвастался своими ночными подвигами с молодой женой, которая была после страстных объятий «чуть жива». Услышав от тысяцкого на свадьбе Скопина-Шуйского, что Мнишековское воинство очень плохо себя показало: словно город взяли «на поток» и «разграбление» – махнул рукой. Хохотал, слушая про жалобы жителей, говорил небрежно: «Да ладно, сойдет. Бог все управит. Ну, перепились панове, мать их в душу… Ничего, завтра очухаются, посмирней будут». Скопин только развел руками и замолчал.
– Гей, Ян, – обратился Самозванец к секретарю Бучинскому. – Бери Ивана, постельничего. Тащите корчагу вина, калачи и балыка жирного побольше. Продолжим предварительную пьянку. До обеда еще далеко. Зови Басманова, Богдана Сутупова, хранителя моей царской печати, других моих ближних…
– Надо бы остеречься с поляками, государь, – осторожно сказал князь Скопин-Шуйский. – Сам видел, что произошло на днях. Едва резню на Москве удалось остановить. Знаю, они помогли тебе в трудную минуту. Но Москва долго не сможет выдержать стольких грубых, несдержанных иноземцев. Как бы не взорвалась…
Самозванец внезапно повернулся и внимательно посмотрел на Михайлу Скопина.
– Чтобы был на пиру в вечер.
– Сегодня Николин день, – напомнил князь улыбаясь.
– Так что ж, в день святого Николая зови за стол друга и врага. – Отрепьев хорошо знал церковные порядки и праздники.
– Верно, государь, да скоромного есть нельзя. Только рыбу.
– Ну, не согрешишь – не покаешься, а не покаешься…
– Не спасешь свою грешную душу, – продолжил находившийся рядом командир немецких ландскнехтов Яков Маржерет.
– И ты, Яков, чтобы был за моим столом, – сказал ему, почему-то раздражаясь, «Димитрий Иванович».
– Я обязан охранять тебя всегда. За то, государь, ты мне платишь.
К гусарам ясновельможного пана Мнишека, стоявшим в карауле у его дома, крадучись подходили неизвестные люди. С виду русские, одеты как простые миряне. Доставали из-за пазухи свернутый в трубку бумажный листок и говорили тихо:
– Отдайте пану начальнику.
Гусары не очень торопились передавать эти листки Мнишеку. Думали, «схизматики» жалуются из-за прошлых безобразий: кому-то морду побили, товар в лавке сперли, не расплатившись, попу пинка дали, чтоб не проклинал прилюдно, чью-то девку, задрав сарафан, повалили в тихом месте… В общем, всякие были лихие дела – вплоть до серьезных ограблений, драк с применением сабли либо ножа, обиды, нанесенной не простой горожанке (это и у себя в Польше они не считали большой провинностью), а знатной боярыне… Словом, всякие случались безобразия, так что…
Но однажды какой-то младший начальник собрал все жалобы и отнес Мнишеку.
Тот удивился, повертев кипу бумажек перед собой. Позвал знающего русскую грамоту писаря. Кстати, некоторые были написаны по-польски. По прочтении этого бумажного мусора, тесть русского царя помрачнел, велел срочно подавать колымагу и конвой.
Мнишек приехал в Кремль, попросил «дорогого сына» принять его один на один. Когда на правах родственника ясновельможный пан пробился к царю и объяснил суть дела, Лжедимитрий только отмахнулся с досадой:
– Я уже столько видел этих доносов…
– Сын мой, Ваше Величество, тебе грозит смертельная опасность. Заговор, сын мой, и во главе его опять эти несносные Шуйские. Сам старик Василий и его братья. О, это коварные и жестокие люди… Надо что-то предпринимать…
– Ничего нет опасного. Ваши гусары, отец, натворили в Москве столько бесчинств, обозлили стольких горожан, что теперь боятся мести да и… взысканий. В конце концов, как монарх, я должен прекратить их бессовестный разгул.
– Но я умоляю тебя, сынок, прислушайся к доводам благоразумия.
– Я распоряжусь, чтобы у казарм ваших гусар выставили стрелецкую стражу.
– Не смейся, Димитрий. Побереги себя и жену. Ведь все может оказаться правдой, и Шуйские…
– Но, дорогой отец, после моего помилования, старший Шуйский самый преданный мне человек. Я могу привести много примеров, когда он проявлял необычайное почитание и даже преклонение передо мной. Нет, Шуйский верный вельможа. Дай Бог, чтобы остальные бояре были такими.
После долгой умиротворяющей беседы Мнишек успокоился и не стал ничего говорить дочери, даже не зашел к ней. Пусть веселятся молодые, у них ведь медовый месяц… Самое начало.
Пиры продолжались. В Кремле Лжедимитрий затеял невиданное на Москве действо: он решил устроить маскарад. Для этого созвали мастеров, которых усадили делать и раскрашивать всякие смешные «хари».
В один из таких праздничных дней в Кремль явился весьма значительный верховод московского приказа, дьяк Тимофей Осипов. Это был человек пожилой, степенный и богомольный. Видя происходящее на улицах Москвы и в самом Кремле, дьяк решил принести себя в жертву на благо православия и Руси.
Осипов постился и молился, готовясь к своему подвигу. Затем, причастившись в Успенском соборе Святых Тайн, он пришел ко дворцу. Пользуясь своим достаточно высоким положением по службе, дьяк свободно миновал дворцовую стражу и, будто с каким-то делом, попросил впустить его в обеденную палату.
За столом смеялись, возглашали тосты в честь государя и его молодой супруги. Здесь сидели вперемежку русские князья и бояре, польские паны и немецкие военные, приглашенные к обеду.
Осипов дошел до места, где сидел Лжедимитрий с женой Мариной и ее шляхтянками. Тут же находились Басманов, Сутупов, новоявленный канцлер Самозванца и прочие представители новой и старой знати. Остановившись, Осипов глядел в упор на царя, не кланялся и ничего не произносил.
– Кто этот человек? – спросил «царь», обратив внимание на сухощавого, бледного дьяка в добротном кафтане и высокой суконной шапке, которую тот не думал снимать перед ним. – Что ему нужно?
– Я усердный дьяк Судного приказа Тимофей Осипов. – сказал пришедший к царскому столу. – Наведя всяческие мне доступные справки и грамоты, пришел к тебе, непотребный человече, чтобы прилюдно на глазах Боярской думы и всех придворных и челядинцев тебе сказать… Ты воистину Гришка Отрепьев, расстрига, а не цесарь непобедимый, не царев сын Димитрий, но раб греха и еретик.
Осипов замолчал и продолжал стоять неподвижно вперив в лицо Самозванца негодующий и одновременно помертвелый от ужаса взгляд. Никто к нему не приближался, выжидая приказаний «царя».
– Все это вздор, – довольно спокойно сказал «Димитрий Иванович», который попривык за последнее время к всякого рода обвинениям, как письменным, так и личным. Они уже порядком надоели ему. – Обвинение сего дьяка есть оскорбление помазанника Божьего, государя всея Руси. По сему он подлежит законному наказанию. Но я наказаний не назначаю. Есть сенат, он же является Боярскою думой. Она и решит, какое наказание назначить.
– Взять его, – приказал жестким голосом Петр Басманов. – Отвести в пытошную, на дыбу его. И после допроса с пристрастием казнить, как преступника перед государем нашим.
Стрельцы выволокли дьяка Осипова из обеденного зала, и веселое пиршество продолжалось.
В продолжение обеда, при изрядном поглощении всяких яств и вина, «государь» стал возбужденно оспоривать князя Василия Шуйского по поводу употребления в пост мясных кушаний. Шуйский очень хитро и вежливо приводил места из церковных установлений о невозможности нарушения поста, являвшегося грехом крайне тяжелым и недопустимым для православного. К князю присоединился думный дворянин Татищев, сильно опьяневший, а по натуре строптивый и склонный к буйству. Глаза Татищева налились кровью от хмеля и злобы.
– Да ты, нажившись среди латинян, поляков и немецкой породы, уж давно привык и в пост жрать все подряд, как свиньи… для которых нету ни Бога, ни церковного устава. Помнится, в четверг на шестой недели Великого поста, твои холопы подали на стол жареную телятину, и ты, и жена твоя, и прочие оголтевшие грешники – все жрали, потеряв совесть… – и Татищев добавил еще несколько выражений, допустимых разве среди пьяниц в кружале.
Свободный обычно в обращении с приближенными людьми, Лжедимитрий на этот раз пришел в негодование.
– Ах ты, сквернословец, раб неверный! – увидев отвращение и испуг на лице Марины, закричал он. – Как ты посмел грязным языком своим разговаривать с помазанником и царицей мерзкими словами! Вон из-за стола моего и из дворца! Эй, взять его и скинуть с крыльца! Завтра же поедет он на простой телеге в ссылку… В Вятке малость поумнеет и наберется смирения.
Рынды схватили и, лупя ногами и кулаками, потащили упирающегося с руганью Татищева к выходу. Там его перехватили стрельцы. Скоро его приволокли к Фроловским воротам. А слуги князя Василия Голицына посадили Татищева бережно в колымагу и увезли. Долго еще слышно было, как думный дворянин бранится и грозит кому-то страшными проклятиями.
И тогда оставшегося за царским столом Петра Басманова опутал невидимо лукавый, хвостатый бес. Басманов стал заступаться за Татищева. С несвойственной ему мягкостью в голосе просил государя простить незадачливого бражника.
– Уж отпусти его вину, государь, – убеждал Басманов Самозванца. – Завтра же приползет милости у тебя вымаливать за болтливый язык свой, пьяный и глупый. Прости в последний раз, он человек верный.
Басманов, как околдованный, не отставал от «царя», рассердившегося не на шутку. И допросился себе на погибель.
– Ладно, Бог с ним, – согласился наконец Лжедимитрий. – Пусть в Москве остается, поганец.
XIV
Тем временем боярский заговор окреп.
Все Шуйские, Голицыны – оба брата, Татищев, Куракин, еще кое-кто из дворян, близких княжеским семействам, и богатые купцы Мыльниковы. У них чаще всего и собирались заговорщики, чтобы меньше привлекать внимание ищеек Басманова.
Через княжеских челядинцев, холопов подбирали людей недовольных новшествами, обиженных поляками, испуганных слухами об отмене православия и насаждении на Руси латинства. Последнее особенно волновало и возмущало многих, как в Москве, так и в других ближних городах. За веру люди готовы были сражаться, не щадя жизней, и если в распространении латинства виноватым казался царь, то и царь такой должен быть с престола смещен. Все так или иначе разочарованные в «хорошем», «добром» Димитрии Ивановиче, по призыву полномочных посланцев от княжеской верхушки хотели поддержать низвержение «расстриги». По набату, о котором заранее их обещали предупредить, явиться им следовало на Красную площадь с родственниками мужского пола и, по возможности, вооруженными.
Остальные москвитяне к таким событиям не готовились, к государю Димитрию Ивановичу по-прежнему относились с приязнью, некоторые даже с любовью, хотя польскими безобразиями, конечно, казались раздраженными. А слухи о том, что царь разрешил возведение костёлов в Москве, приводили в боевое состояние почти всех.
В кругу князей и думных бояр, задумавших отнять престол у Самозванца, еще до его свадьбы все было улажено. Прежде всего следовало убить «расстригу» и тех, кто искренне ему близок. Условившись со знатью и постепенно подбирая сочувствующих из народа, Шуйский решил привлечь на свою сторону восемнадцатитысячное войско новгородцев и псковичей, стоявшее под Москвой и предназначенное для будущего похода на Крым.
Василий Шуйский пригласил верхушку новгородцев и псковичей накануне решительных действий. Пришли три сотника и шесть пятидесятников из полков, готовых по их призыву сражаться.
– Народ-то бурлит на улицах, – сказал князь Иван Куракин. – Самое время начинать.
– Вчера ночью окружили подворье польского князя Вишневецкого. Говорят, черного люда до четырех тысяч набежало. Многие с топорами, вилами, сулицами. Жгли факелы. – Это довольным голосом доложил Василий Голицын. – Драка шла жаркая. Поляки еле отбились, применив мушкеты. Есть убитые, – добавил он угрюмо. – Большинство православных жизни лишились.
– Тогда пришел час кончать с расстригой, – решительно высказался один из новгородских сотников, пожилой уже, но могучий ратник в черной епанче, накинутой поверх панциря.
– Я лет двадцать назад воеводой назначался в Новгород Великий, – хитро напомнил Василий Шуйский. – Знаю им цену.
– И какова же наша цена? – довольно строптивым тоном спросил сотник.
– А цена моя такая, – улыбнувшись, ответил князь. – Новгородцы на рати – самое храброе и надежное войско. В такую пору, когда царь оскверняет святые храмы, выгоняет священство из домов, поселяя в них чужеземцев. Не щадит ни митрополитов, ни епископов. Патриархом посадил своего приспешника, хитрого грека Игнатия. Даже в день Николы-чудотворца пировал в Кремле, объедаясь скоромным, опиваясь заморскими винами. Все истинно православные должны быть готовы защитить веру от злых еретиков-поляков и немцев.
– Мы готовы, князь, – твердо произнес новгородец. – Сегодня в ночь и завтра будем говорить с простыми ратниками. Послезавтра можно начинать.
– Миша, – обратился к Скопину старший князь Шуйский, – ты проведешь их в Кремль. Войдете в Сретенские ворота. Сторожа будут наши люди.
– Сделаю, – кивнул Скопин-Шуйский, понимая, что Самозванец, довольно приветливый и уважительный поначалу, совершил столько кощунств и нестерпимых для православных поступков, которые не прощаются. Впрочем, в глубине души Михайла Скопин не желал смерти Самозванцу (может быть, куда-нибудь в монастырь заточить пока, а там…) Нет, он знал: снисхождения «расстриге» не будет.
Узнав о драках, даже серьезном противостоянии, «царь» позвал стрелецкого голову Брянцева:
– Выставь-ка, Федор, караулы у гусарских казарм.
– Они что, сами себя укараулить не могут?
– Боятся, что чернь ночью снова на них нагрянет.
– Сами виноваты. Задирались, обижали людей, баб волокли похабно, попов били… вот и…
– Знаю. Но надо поставить караулы. А где мой постельничий Ванька Безобразов? Опять где-нибудь по девкам срамным мотается? Ну, придет, плетей отведает, – рассердился «царь».
К Самозванцу обращались многие его приспешники, предупреждая о возможном нападении на дворец. Однако он только посмеивался:
– Народ меня любит, не даст кому-нибудь мне навредить. А с поляками попозже разберемся. Лучше достраивайте у Сретенских ворот деревянный городок для воинской потехи, потарапливайтесь.
– Да вот, государь, слух есть, будто ты во время той потехи хочешь всех бояр истребить, а потом поделиться с Польшей московскими областями… И Смоленск, мол, отдать… и Новгород со Псковом… Ну и… – Брянцев помялся, посмотрел в сторону, потом криво усмехнулся.
– Что – «ну и?..» Чего там еще брешут?
– Тогда ты, стало быть, повелишь отменить православную веру и призовешь польских ксендзов ввести латинство.
– Тьфу, дураки! – махнул на него рукой Самозванец. – Вот поймаю таких брехунов и на виселицу пошлю проветриться.
– Верно, государь, так и надо, – поддержал «царя» вошедший Басманов. – А то пьянь безобразная в кружалах ругает нагло царя, обзывая еретиком, и царицу поганой еретичкой…
– Ах, сукины сыны! Взять, привести… да плетей им…
– Немцы-алебардщики схватили такого крикуна и привели ко дворцу, – напомнил Брянцев.
– Знаю, было это при мне, – беспечно сказал Лжедимитрий, развалившись в кресле и наливая себе в серебряную чашу медовой сыты. – Но меня бояре уговорили отпустить пьяного дурака… Что с него, освиневшего, взять… Несет, что ему бес в кабаке нашептал. А немцев-наушников слушать – себе дороже станет. Они готовы от усердия и ради наград всех русских питухов пересажать… Кабаки опустеют, казна умалится… – «Димитрий Иванович» захохотал и стал рассказывать Басманову какую-то смешную, неприличную историю.
Странно, но именно накануне семнадцатого мая и Лжедимитрий, и обычно чуткий, придирчивый Басманов, и несколько стрелецких начальников, которым благоволил «государь», совершенно опущенно слонялись по дворцу и вели себя крайне неосторожно.
В противоположность этому бессмысленному неверию в возможную беду, поляки не раз посылали к «царю» гонцов, чтобы он усилил многократно охрану и желательно закрыл кремлевские ворота. А стрельцам приказал бы тщательно сторожить всю Красную площадь. Поляки, например, донесли Мнишеку, что московские торговцы воинскими припасами не продают им ни пороха, ни свинца, ни какого-либо оружия. Мнишек тоже послал зятю гонца. Но тот отвечал со смехом: «Удивляюсь, почтенный отец, малодушию поляков. Однако для вашего спокойствия велю прислать вам стрелецкую стражу». Тогда пан Мнишек, видя такое непробиваемое самодовольство царственного зятя, приказал разместить в своем расположении всю польскую пехоту, находившуюся в Москве.
Немцев-алебардщиков, которых каждый день находилось во дворце не меньше ста человек, отпустили по домам. Якобы по приказу «царя». Ему будто бы надоела напряженная обстановка, бесконечные доносы и расследования. Стрелецкие караулы в воротах были уменьшены до предела. А польским послам Олесницкому и Гонсевскому Самозванец послал гонца с любезным письмом, уверяющим их, что ничего страшного в Москве быть не может, ибо он так хорошо принял государство и так надежно все обустроил, что без его монаршей воли никаких дел – хороших либо дурных – произойти не должно.
– Воистину, когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума, – сказал полковой ксендз польских гусар.
Солнце еще не взошло; в отуманенном предутреннем воздухе блестели шишаки, латы и оружие псковских и новгородских полков. Князь Скопин-Шуйский провел настороженных, хмурых ратников через Сретенские ворота в город. Приворотная стража не посмела возражать царскому меченоше.
В тот же миг ударил колокол на Ильинке, у Ильи Пророка, на Новгородском дворе.
– Что там? – спросил Самозванец, просыпаясь, и начал быстро одеваться. Какая-то стремительно нарастающая тревога охватила его. Вбежал, одеваясь на ходу, Басманов.
– Что случилось? – опять спросил «царь», удивляясь бледному лицу своего приближенного храброго воеводы.
– Встретил я во дворцовом переходе кого-то… не помню… Говорит: пожар… Ну в Москве пожары не новое дело, но…
И тут разом зазвонили колокола всех московских церквей. Медный ужасающий гул, возвещавший о необычайном страшном событии, поплыл над городом.
Толпы народа – и подготовленного, вооруженного, и ничего не знающего – хлынули по узким улицам на Красную площадь. Среди них оказалось немало выпущенных из тюрем противников Самозванца и просто воров, грабителей и убийц. На Красной площади уже сидели на конях бояре и дворяне числом около двухсот, в латах и шишаках, с мечами, саблями, некоторые с пищалями и пистолями.
Народ, обращаясь к князьям, кричал: «Что там деется, бояре? Чего вы оборужились? Где война?»
– Поляки хотят убить нашего царя, – ответил Голицын, – мы должны его защитить. Идемте в Кремль, ко дворцу.
Пораженные услышанным, люди начали метаться по площади. Одни бежали, чтобы найти оружие, другие присоединились к всадникам и их ближнему окружению. Не дожидаясь, пока на площади соберется слишком много черного люда, который мог бы помешать их замыслу, всадники въехали в Кремль. За ними устремились ватаги взволнованных москвитян. Среди мужских шапок и взлохмаченных голов замелькали повойники и кики москвитянок. К звону колоколов присоединился говор толпы. Одни ругали «царя» – это были подготовленные холопы и челядинцы князей. Другие желали ему здравия и поносили кого-то, кто намеревался его убить.
В окружении приближенных Шуйский въехал в Фроловские ворота, держа в одной руке золотой крест, в другой – обнаженный меч. Подъехав к Успенскому собору, он сошел с лошади. Поддерживаемый слугами, князь приложился к образу Владимирской Богородицы и сказал окружающим:
– Во имя Божие идите на злого еретика.
Толпы с рычанием и воем, потрясая оружием, бросились к дворцу. В это время из дверей дворца вышел Басманов. Он сразу оценил и понял, что происходит. Приказав страже никого не впускать и вернувшись в спальню к «царю», он крикнул в отчаянии:
– Ахти мне! Ты сам виноват, государь! Все не верил заговору… А вот вся Москва собралась на тебя…
Стража при входе оробела и позволила какому-то лихому (а то и пьяному) заговорщику из простонародья ворваться в царские комнаты.
– Ну, безвременный царь! Проспался ли ты? – завопил он. – Чего не выходишь к народу и не даешь ответа? Отчитайся за свои вины, еретик!
Схватив с лавки царский палаш, Басманов разрубил голову ворвавшемуся крикуну. Тут же и Лжедимитрий, взяв меч у одного из немцев-телохранителей, вышел на крыльцо к толпе.
Вид у него был непочтенный. Недавно любимый чернью, «добрый царь» выглядел низеньким растерянным человечком, в расстегнутом кафтане и с рыжими, торчком стоявшими волосами. Он хотел что-то сказать – может быть, торжественно и успокаивающе. Но голос перехватило удушье. Он поперхнулся, закашлялся и затоптался беспомощно на крыльце. Наконец вдохнул воздух и тонким голосом прокричал, махая мечом:
– Разойдитесь! Я вам не Годунов! Я вас…
Кто-то из толпы выстрелил в него, пуля просвистела мимо. Еще стреляли, и осколки облицовки, мелкая щепа от удара пули отлетели ему в лицо. Лжедимитрий попятился и скрылся в комнатах.
Сойдя с коней, бояре во главе с Шуйским стали подниматься на дворцовое крыльцо. К ним вышел Басманов. Он уже взял себя в руки и громким голосом стал просить бояр не допустить убийства «помазанника Божьего». В то же мгновение буйный Татищев выхватил отточенный кинжал, зайдя сзади, пронзил Басманову сердце. Прославленный воевода Бориса Годунова и близкий соратник Самозванца мертвый упал навзничь. Смерть Басманова возбудила разъяренную толпу, словно жаждавшую первой крови. Басманова тут же подхватили и бросили с крыльца под ноги толпе.
Лжедимитрий вбежал в большой переход деревянного дворца и остановился. Его настигло внезапное помрачение ума. Он бросил меч на пол и схватился за голову. Бледное обычно лицо Лжедимитрия еще больше побледнело. «Эх, Юшка, дела-то твои плохи, – пробормотал он. – Кажись, конец близок… Жаль, брат, мало поцарствовал…»
Самозванца окружили поляки-музыканты из роты Доморацкого.
– Ваше Величество, вскричал толстый литаврист с пышными белокурыми усами. – Как нам быть? Куда деваться от толпы варваров? – Его литавра висела у бедра на широком белом ремне. Остальные музыканты дрожали, слыша кровожадный рев бунтовщиков. Некоторые даже всхлипывали, понимая, что смерть их близка.
– Держитесь, ребята, – сказал Самозванец, с сожалением поглядев на своих верных слуг, так весело развлекавших его гостей на пирах. – Я постараюсь привести отряд стрельцов. Стрельцы меня любят. Они помогут справиться с холопами крамольных бояр. У, подлый предатель Безобразов! Куда он подевал мои пистоли?
Отрепьев побежал дальше по переходу, заглянув в женскую часть дома. Там растерянно пристушивались к шуму за окнами Барбара Казановская и другие полячки.
– Где Марина? – взволнованно спросил Самозванец и, не дожидаясь ответа, попросил Казановскую. – Спрячьте ее куда-нибудь… – Он бросился к концу коридора, где было открыто большое стрельчатое окно.
Молоденький паж Ян Осмульский закрыл ключом дверь в покои царицы. Казановская, Марина и ее фрейлины сбились испуганной стайкой.
– Ваше Величество, – сказал смело юноша, обнажая саблю, – к вам схизматики подойдут только через мой труп.
В дверь стали ломиться, стучать, требовать, чтоб открыли. Наконец замок отлетел, и страшные бородатые мужики, видно, те, кого неожиданно выпустили из тюрем, ворвались в комнату Марины. Осмульский сразу зарубил первого напавшего. В него выстрелили из пищали и мертвого уже тыкали саблями и ножами.
– Где царь? – рявкнул один из ворвавшихся к царице.
– Га! Ха-ха! Девки! Вот бы их прибрать-то к рукам, – загалдели распаленные, забрызганные кровью громилы. – А идите-ка сюда, суки!
И тут в комнату протолкнулись князья Василий Голицын и Дмитрий Шуйский со своими вооруженными челядинцами.
– Стой! – крикнули они. – А ну не трогать! Ищите царя и его приблудов. Если царь сбежит, всем нам быть на плахе. Вон отсюда, ищите.
Выгнав разбойников, грабивших царские покои, Голицын выставил у двери караул новгородцев – суровых латников с саблями, пиками и пищалями.
– Никого сюда не пускать, здесь одни женщины.
Из возглавивших свержение Самозванца князей и думских бояр никто не собирался чрезмерно осложнять отношения с Польшей; со времен Годунова с нею был заключен мирный договор. Поэтому разрешить взбунтовавшейся черни нанести сколько-нибудь значительный урон представителям польской знати, королевским послам и ясновельможному панству не входило в замыслы боярства. Им нужно было убить Лжедимитрия, захватить власть, и убрать из Москвы лишние отряды распоясавшихся шляхтичей и жолнеров.
На вопрос Голицына: где царица? Казановская ответила, что Марину еще вчера отвезли к ее ясновельможному отцу, пану Мнишеку. Ответ вполне удовлетворил князя. И он покинул женскую комнату. В действительности, при нахождении в покоях мужчин, Марина, худенькая и маленькая, спряталась под пышными юбками своей высокорослой подруги Казановской. И, разумеется, никому не пришло в голову там ее искать.
* * *
Немецкая стража с алебардами еще пыталась удержать бунтовщиков. Но их было слишком мало. «Зачем я отпустил Маржерета с его сотней на Кукуй? – невольно мелькнуло в сознании Отрепьева. – Ах, дурак, дурак! Зарвался, ополоумел, расстрига! Ну, судьба решена… Последнюю попытку надо сделать!»
Он пробрался в полуразобранный каменный дворец Годунова. Выбрался на подмостки, устроенные еще для брачного празднества, но пока так и недостроенные. Самозванец, уверенный в своей силе и ловкости, решил перепрыгнуть с одних деревянных подмостков на другие. Примерился, прыгнул… однако оступился и с высоты сажен в пять упал на двор. От удара он потерял сознание и, говорили позже, вывихнул ногу. Если бы не это внезапное невезение, Самозванцу, возможно, удалось бы ускользнуть из Кремля… И тогда история Московского царства могла бы пойти по несколько иному пути.
«Однако все в Божьем предрасположении, и любой случай по воле Его может полностью изменить течение событий», – прокомментировал бы любой летописец или, скажем, историограф того столетия.
Стрельцы, стоявшие на карауле поблизости от того места, где упал Самозванец, услышали стоны. Подойдя, они узнали царя, притащили бадью воды и отлили его водой. Постепенно «Димитрий» пришел в себя.
– Бунт боярский надо закончить, – сказал он, – мои верные стражи. Я уже для вас сделал немало и еще сделаю. Дайте только расправиться с этими кровожадными волками. Им-то все мало.
Самозванец дальше упрашивал стрельцов быть на его стороне. В награду все имения изменников и даже их жен и дочерей обещал он отдать стрелецким полкам «на поток». Стрельцам его обещания понравились.
– А и верно, разграбили всю Москву да всю Русь бояре, – говорили между собой стрельцы. – Государь-то дело знает. Власть начальникам стрелецких полков, а уж они только царю подчиняться будут. А бояр-то лжецов, хапуг – всех на плаху и в ссылку. Порешить этих Шуйских, Голицыных, Мстиславских, Воротынских, Колычевых…
Стрельцы внесли Самозванца снова во дворец, уже разграбленный и опустошенный. Алебардщики-немцы стояли обезоруженные, опустив головы. «Димитрий» даже заплакал при виде позорного состояния своих лучших телохранителей.
– Эх, Якова Маржерета бы сюда с его сотней… И схватить крамольников-бояр!
Дальше глаза Самозванца увидели трупы польских музыкантов, убитых, растерзанных, с отрубленными головами и руками. Поломанные музыкальные инструменты валялись повсюду.
Наконец стрельцы вывели хромавшего «царя» на дворцовое крыльцо. Толпа боярских челядинцев, размахивая оружием, бросилась было к «Димитрию», но стрельцы стали стрелять из пищалей в воздух. Толпа отхлынула от крыльца, рыча и ругаясь от злобного бессилия. Другие москвитяне, пришедшие в Кремль, стояли в стороне. Многие так и не могли толком понять: что происходит? Почему группа бояр в латах и шишаках с мечами и пистолями рвется к «государю», угрожая ему смертью? Стрельцы начали сзывать другие стрелецкие караулы, трубя в сигнальные рога.
Был момент, когда Шуйские, Голицыны, Одоевские, Мстиславские и остальные бояре дрогнули. Если бы отряды стрельцов, а также немецкая охрана с мушкетами окружили Самозванца и не отдали его боярской челяди с «думцами», вполне возможно, бунт был бы усмирен.
– Надо как-то напугать стрельцов, – сказал, трясясь от страха, князь Шуйский. – Придумай чего нито, Митрий – обратился он к брату. И тот завопил отчаянным, хриплым голосом:
– Пойдем все сейчас в Стрелецкую слободу. Истребим их жен и детей, если они не хотят выдать нам изменника, самозваного плута, расстригу беглого…
– Да развернем пушки и ударим по Замоскворечью, чтоб вся стрелецкая слобода сгорела, – присоединился еще кто-то из заговорщиков.
Княжеские приспешники снова прихлынули к крыльцу, размахивая пиками и пищалями. И тогда испугались стрельцы. Их около дворцового крыльца собралось немного. Остальные отряды пока не подходили. Стрельцы почувствовали страх перед толпой боярских наемников, вооруженных до зубов. А пушки?.. Если бояре прикажут пушечным полкам стрелять по Замоскворечью?..
Стрелецкий голова, прикрывая «Димитрия» от оскаленных в бешенстве бояр, все-таки пошел на попятную:
– Спросим царицу Марфу. Если скажет, что это ее сын, мы все за него головы свои сложим. А если она не признает его, то Бог в нем волен.
С досадой и руганью, но бояре согласились с таким решением. В ожидании ответа от Марфы думцы все рвались к «Димитрию», дергали его за рукава и полы кафтана.
– Кто ты? Кто твой отец? – будто только на свет родился, сипло спрашивал князь Шуйский. – Откуда ты родом? Ах, ты злодей!
– Вы знаете, я царь ваш, сын Ивана Васильевича. А тебя, Василий Иванович, я указом своим помиловал. Дайте мне выйти на Лобное место и объясниться с народом, – продолжал бесполезные попытки уговора бояр Самозванец. По его страшно бледному, искаженному лицу понятно было, что «царь» попросту беспомощно тянет время. Тут торопливо протолкался сквозь толпу боярских челядинцев князь Иван Голицын и вскричал отчаянно:
– Был я только что у Марфы и спрашивал: где ее сын? Марфа сказала: сын ее убит в Угличе. А это самозванец.
Толпа заревела, угрожая ножами, саблями, топорами. Посреди нее возник старый толстобрюхий монах с всклокоченной седой бородой. Он орал хриплым басом, размахивая суковатым посохом:
– Я предвещал тебе, Гришка-еретик, конец страшный. Не слушал меня, лжецарь, паскудник? То-то…
– Прости меня, отче Варлаам… – вымолвил еле слышно Отрепьев.
– Бей его! Руби его! – взвыла Ивановская площадь перед крыльцом.
Лихо и бойко выскочил к самому крыльцу веселый, разбитной боярский сын Валуев Григорий:
– Че толковать с еретиком? Я щас благословлю польского свистуна… – и он выстрелил в Самозванца.
И сразу все бросились его топтать, тыкать пиками, палками, бердышами. Челядь боярская содрала с трупов Самозванца и Басманова дорогую одежду. Схватив за ноги, поволокли тела через Фроловские ворота к Лобному месту, вокруг которого тесно стоял московский люд. Многие препирались, бранились, даже вступали в драку. Были и такие, которые плакали, поминая «царя Димитрия Ивановича, красное солнышко…» Особенно пригорюнивались женщины, оказавшиеся в бурлящей и опасной толпе.
Тело лжецаря вытащили к Лобному месту, бросили на землю.
– Вона когда тащили убитого Митрия мимо Вознесенского монастыря, еще раз потребовали Марфу. Она выглянула в окно. Тута ее и спрашивают: «Твой сын?» А она, дескать, дерзко так ответила: «Чего, мол, вы спрашиваете, когда он убитый. Надо было спрашивать, когда был живой…» – и заплакала, – рассуждали между собой стрельцы и простой люд.
– Ну да? Ей-богу, заплакала? Вот те и…
– А кто-то слыхал быдто инокиня прямо сказала: «Это вор».
От торговых рядов принесли дощатый прилавок и положили на него Самозванца. Потом сюда же вскоре приволокли труп Басманова. Положили рядом на скамье.
Вылезли некие добровольные бирючи. Скорей всего, из боярских холопов. Завопили на разные голоса:
– Православные! Люди добрые! Гляньте-погляньте!
– Вот вор Гришка Отрепьев, обманом захвативший царский престол! Господь покарал еретика-самозванца! Слава Богу, слава всему люду христианскому!
Между тем по Москве чаще затрещали выстрелы. Послышались боевые призывы, крики воюющих, звон колоколов. Начались сражения возле польских казарм. Поляки отвечали нападающим москвитянам густой стрельбой из мушкетов и пищалей. В осаду попал и Посольский двор.
Князь Василий Иванович Шуйский, уже чувствуя обретение высшей власти, принялся наводить порядок. Прежде всего вызвал племянника, Скопина-Шуйского:
– Миша, бери своих конников. Скачи к Посольскому двору, разгони чернь. Послам передай, что Лжедимитрий низвергнут. И еще скажи, что послов польского короля в обиду не дадим. Понял, Миша? Давай!
– Слушаю, князь Василий Иванович.
Шуйский тут же разослал посыльных во все концы: чтобы стрельцы остановили кровопролитие.
Боярин Воейков притащил из кремлевских мастерских страшную маску – «харю» и положил на истерзанное лицо лжецаря. Воткнул также в мертвый рот скоморошью дудку, в мертвые руки волынку.
– Ха-ха! Пущай теперь повеселится!
Толпа со всей Москвы прибывала, толпилась возле убитых – бывшего «Димитрия Ивановича» и Петра Басманова.
Некоторые негромко переговаривались:
– Ишь лицо-то «харей» Митрею закрыли…
– Полно, он ли это?
– Ты слухай, что я дознал от стрельцов… Вот они-то мовят: не царя застрелили-то, другого. А настоящему помогли: он и бежал.
– Да приходил тут один человек. Сам из поляков, но православный. А зовут поляка Хвалибог Николай. И был он комнатным слугой у царя Митрия Ивановича. То ись все за ним носил, когда чего нужно. И в баню когда… Уж он-то, Хвалибог, видел не раз царское тело.
– Уж ему ли не знать про все телесные особости царские!
– Да-к, он клялся Господним именем, что положили на доски какого-то толстого малого с бритым лбом. С волосатою косматою грудью. А у Митрея посадка была стройная, собою невелик, но оченно складен. Телом же бел и волосы на груди не росли. Потому как сам-то царь еще был молод для того косматого-то на грудях росту.
– Что говорить: и «харю» надели. Для ча им приперло харю-то надевать? Вовсе то непонятно. Нет, тут дело темнее темного. Одним словом-то говоря: сатанинское дело. Это бояре наши бесятся, власть да богатство никак не поделят.
Слух о том, что многие московские жители шли в Кремль спасать своего царя от поляков, а им был выкинут на Лобное место обезображенный труп с лицом, прикрытым маскою, распространялся. Все это не умещалось в понимании людей. И оттого бунты против поляков да и против бояр вспыхивали в разных местах Москвы.
А перестрелка и местами резня с поляками продолжались несколько дней. Многие, выпущенные из тюрем сидельцы с разбойничьими замашками, бросились грабить дома, где остановились поляки. Мужчин убивали, женщин тащили себе в наложницы, как бы мстя за наглое поведение некоторых гусар и жолнеров. А на самом деле, повторяя их бесчинства.
Воевода сандомирский пан Мнишек с сыном и князь Вишневецкий, имея под рукой довольно крупные и хорошо вооруженные отряды, успешно отражали нападение «черного» люда, пока, по приказу самовольно возглавившего Думу Шуйского, им в подмогу не пришел отборный стрелецкий полк.
XV
Никто из бояр не удивился, когда Думу в Грановитой палате возглавил князь Василий Иванович Шуйский.
Он велел заменить все стрелецкие караулы в Кремле на суровые, холодно-преданные законной власти псковские и новгородские отряды. Главное, за что бояре хвалили князя Шуйского: это то, что ввел в Кремль новгородцев, а сам натравил чернь на поляков, кликнув клич: «Поляки хотят убить государя!»
– Наконец-то мы сбросили с престола самозванца Гришку Отрепьева. Теперь можно вздохнуть без оглядки и страха попасть в немилость к еретику. Мы посылали тайно королю Жигимонту послание с предложением от всей Думы пригласить на Московский престол королевича Владислава… – начал рассказывать Шуйский. – Нам тогда главное нужно было сбросить Гришку. В случае чего, стали бы просить у короля воинской подмоги. Но Жигимонт отказался от нашего предложения, а теперь нам его согласия и вовсе не требуется. Однако ссориться с королем не след. Потому предлагаю послать нового посла. Пусть известит Жигимонта о нашей победе и подтвердит заверение о нашей честной приверженности миру с Польшей.
– Ну а как быть с резней поляков? – спросил угрюмо князь Григорий Волконский. – Как-то надо же объясниться. Посланник Гонсевский небось настрочил донесение с жалобой на зверство москвитян. Вроде бы их – и гусар, и жолнеров – убито до трех сотен. Ну, есть и подсчеты неких ярыг – будто убили поляков до тысячи. А то и больше.
– Этакие другие счеты нам ни к чему, – вмешался Шуйский, слегка помахав в сторону Волконского костлявой кистью. – Чем помене ляхов уложили, тем нам выгодней разговаривать с королевскими послами. Н-да, тем выгодней.
– Неизвестно только, сколько сотен… а то и тыщ русских православных людей положили свои головы для освобождения стольного града… – пробормотал Волконский. – А промеж прочего поляки Гришку Самозванца нам подсунули. Они смуту-заваруху начали и каких-то там «добровольцев» на шею нам накачали. Вот пущай теперь возместят убытки.
– Возмещать король и сейм ничего нам, Григорий Константинович, не станут, – резонно заметил Шуйский. – Они, вишь ли, с самого начала против поддержки «Димитрия-царевича» голос подавали. Тут зачинщики Мнишек и Вишневецкий. Вот и посидят они у нас в Посольском приказе вроде бы как в почетном плену. А потому немедля обложить и польское посольство, и гусарские казармы нашими караулами.
Словом, думцы – и «рюриковичи», и «гедиминовичи», и прочие – кряхтели на скамьях, крытых коврами, и помалкивали или поддакивали. А задавал тон обсуждения насущных дел и принимал конечные государственные решения все тот же незаменимый и знаемый всей Москвой князь Василий Иванович Шуйский. И всем уже было понятно: оговаривать это главное дело, либо посопеть, погундеть да покивать головой в горлатной шапке, а царем Дума (хочешь не хочешь) выберет его.
Вообще до вторых петухов главные решения надо было принять. И то, что приняли в Грановитой палате, исполнили в ближайшие дни.
Труп Самозванца (в той же страшной маскарадной «харе») окутали грязной мешковиной, привязали к хвосту лошади, проволокли по улицам и за Серпуховской заставой закопали при дороге. Могилу заровняли и затоптали. Трудились ногами два десятка боярских холопов, кто-то из кремлевских служак-стрельцов, кучка пьяных с утра, оборванных питухов да еще кто-то, злобно плевавший на место Гришкиной могилы.
Что касалось ближайшего сподвижника Лжедимитрия, воеводы Петра Басманова, то по просьбе князя Ивана Голицына, которому Басманов приходился сводным братом, Дума разрешила отпеть и похоронить его по-христиански.
– И где ты энтого ирода и изменщика положить хочешь? – подозрительно сощурившись, но тем не менее ликуя из-за столь гнусного «родства» для Голицыных, спросил Шуйский.
– На родовом подворье Басмановых. В церковной ограде.
– Ну ладно. Из почтения к «гедиминовичам», к Василию Васильевичу Голицыну, никто насчет Басманова возражать не будет.
А далее Шуйский настоял, чтобы из Углича привезли гроб с прахом Димитрия-царевича, убитого приспешниками Бориса Годунова. И чтобы мать его (ныне инокиня Марфа) снова поглядела на то, что осталось от ее семилетнего сына Митеньки, и снова признала прах этот давний своим сыном. Совсем истерзали за многие годы, а особенно за последние, бедную женщину. То для царя Бориса она должна была согласиться, будто дитятко ее сам напоролся на нож, играя, и это утвердил посланный Годуновым князь Шуйский. То она подтверждала позднее, будто народ видел убийц ее мальчика, в чем сознались перед смертью, за что и растерзаны были дворянин Битяговский с ватагой. И опять это утвердил с Лобного места на Красной площади князь Шуйский, верткий и языкастый, как черт из преисподней.
И вот подошло время, когда она (хоть отравись) должна была обнимать и целовать рыжего вора Гришку Отрепьева, признать его своим родным сыном и принимать от него знаки уважения и любви. И она принимала лживое преклонение и любовь чужого хитрого человека. А потом перед толпой осатанелых убийц отказалась признавать труп Отрепьева за своего сына и крикнула в монастырское окно: «Это вор!» – хотя ненастоящий сын, подлый Самозванец так ласково, так приветливо и добро к ней относился, что (понимая его корыстную игру, сама принимая в этой игре участие) она на краткое время ощутила в сердце мимолетную жалость к свирепо изрубленному, лихому проходимцу. И более того – трудно понять все-таки женскую суть, – на глазах ее показались слезы. Скрытно, тайно, конечно, но…
А Шуйский сипел и каркал: «Еретик, лжецарь, изменщик, расстрига…», хотя незадолго до того был прощен Самозванцем, облагодетельствован и вел с ним дружелюбные и шутливые беседы. Вот они – престолонаследники, искатели трона, звери кровожадные, бессердечные, мстительные звери, нелюди.
И теперь, когда привезли настоящий гроб из Углича, в котором иссох уже скелетик Димитрия-царевича, от нее опять что-то требовали, опять сипел ей в ухо этот низкорослый, горбоносый и тощий, со смрадным дыханием, зловредный старик.
Но в этот раз (и опять на Лобном месте) она больше не смогла исполнить предназначенную ей роль. Марии Нагой (в образе инокини Марфы) стало дурно, сердце защемило, голос пресекся…
Сообразив, что никаких нужных ему слов перед народом от Марфы он не дождется, князь Василий Иванович Шуйский решил сам вымолвить торжественную речь:
– Православные! У царицы-матери сердце зашлося при погляденьи на дитя свое, погибшее от руки злодеев. Вот он перед вами тот Димитрий-царевич, у которого украл его имя расстрига Гришка Отрепьев. Ныне нет на земле иного Димитрия, ибо он на небе у Бога пребывает. У нас же лишь святые мощи мученика…
Стояли и слушали нового «боярского» царя мизинные московские людишки, черный народ, чернь – ремесленники, торгаши-лоточники, разносчики, кровельщики, печники, грузчики, подмастерья кузнецов и ткачей, попы безместные, монахи расстриженные, женки гулящие, холопы беглые и небеглые, скрытые разбойники, калики перехожие по святым местам и нищие, нищие, нищие…
– Убили бояре доброго царя Митрея Иваныча…
– Натравили на него полячишек… Сами нам с ними резню состроили… Тыщу человек постреляли из проклятых мушкетей…
– Им-то, вятшим-то людям, што: как с гуся вода… Лишь бы злато-серебро в калите звенело… ненасыть…
– А у Серпуховской дороги закопали неурочь кого, лицо харей малеванной прикрыли, ногами затоптали – и в кусты…
– За Серпуховской-то заставой кажную ночь огни синие горят, не гаснут… Ей-ей, не совру… Сам с шурином своим на той седмице видел…
– А энтот черт безрогий все завирает… Кабыть у нас и памяти нет… То Митрей-царевич ножичком в падучей зарезался… То злодеи по приказу Бориски-царя его зарезали…
– То в Угличе схоронили Митрея, а он через пятнадцать годов из Литвы к нам заявился…
– И врали нарочь бояре, будто царь-то Димитрий Иваныч православие отменить хотел ради латинства… А чего ж он тогда почти всех поляков восвояси отослал… Это как? Да сам в православные церкви ходил и по-русски тамо молился…
Получалось совсем не то следствие от привоза углических мощей Димитрия, которого ожидал Шуйский. Только усилились необычайные и тревожные слухи, ползущие по Москве. И новое страшное для боярского царя дело. Появились в стольном граде подметные листки. В них крупно и четко было написано: «Я, Димитрий —государь всея Руси, – жив и скоро приду к вам, дабы освободить народ из-под власти Шуйских».
Кем-то подстрекаемая черная толпа сбежалась однажды в сумерки на Красную площадь. Потребовала на Лобное место всех, кто участие принимал в убийстве «доброго царя». Некоторые махали в полумраке чем-то вроде оружия и орали довольно дружно:
– Шуйского! Боярского царя к ответу! Шуйского на Лобное!
Царь приказал усилить охрану кремлевских ворот и в случае чего стрелять по «ворам и смердам» – беспощадно. Племяннику Скопину-Шуйскому велел выкатить пушки, зарядить, запалить фитили… А при надобности огонь открыть «пушешный», как на войне.
На бояр в Грановитой замахивался царским посохом. Грозил то опалу наложить на всех без разбору, то снимал шапку Мономаха и предлагал оставить трон всякому, кому вздумается его занять.
Потребовав «зачинщиков» смуты, Шуйский послал стрельцов на Красную площадь. Через малое время приволокли связанных пятерых молодцов казачьего вида. Они хлопали глазами и озирались на разодетых в шитые золотом ферязи надутых стариков и подстарцев с холеными бородами.
– Зачинщики, значит? – ухмыляясь, спросил царь Василий Иванович. – Ай-яй! Что ж вы, паршивцы?
Пятеро хмурились мрачно и ничего не отвечали.
– На плаху их, – встрял в расспросы царя и затопал ногами боярин Колычев. – Ах, воры, сукины дети! На плаху!
– Да ладно те шуметь, – остановил его царь. – Жаль рубить такие буйные кудрявые головушки. Пусть завтра им всыпят, как следует, «добрых плетей» и в ссылку, куда подале.
Пятерых «зачинщиков» увели. Бояре расселись по скамьям и казались разочарованными внезапной добротой царя.
Пресловутые голубые огни, которые видели многие над могилой Самозванца, а также утренний мороз летом, побивший зелень после захоронения, все-таки расстроили Василия Ивановича Шуйского.
По свидетельству русских дьяков и прибывавших для международного собеседования иностранцев, царь Шуйский был человеком весьма неглупым и довольно образованным, проницательным и скупым. Его дурные свойства заключались в том, что он охотно слушал доносы на свое окружение и любил тех, кто этими доносами занимался. А еще он подвержен был вере во всякие «волхвования», «предвестия», «чародейства» и прочие распространенные в те времена колдовские приемы.
Неубывающие толки о спасении Гришки Отрепьева, настойчивое распространение листков, уверяющих народ, что он жив и скоро объявится, а так же те самые обстоятельства вынудили нового «боярского» царя Василия Ивановича Шуйского применить к низвергнутому и гниющему в земле врагу крайние меры. Раздосадованный Шуйский призвал митрополита Крутицкого и Коломенского Пафнутия для совета.
– Что делать, отец Пафнутий? Чернь-то его, подлеца, того гляди, в святые произведет.
Владыка Пафнутий поразмыслил, подвигал рыжими с сединой бровями и посоветовал сжечь Самозванца вместе с «Адом».
Так называемым «Адом» москвитяне прозвали деревянный гуляй-город, построенный при Самозванце и разрисованный картинами мучений грешников на том свете. Гришку Отрепьева снова выкопали, проволокли по московским улицам, закинули в «Ад» и сожгли.
Да после того раздобыли в догоревших угольях гришкины останки. Кое-как забили их в пушку, повернув ее жерлом в сторону Литвы, запалили порох и выстрелили.
– Во, – смешливо сказал митрополит Крутицкий, – откуда объявился, туды и воротился, хе-хе…
Но царю было не до смеха.
Часть вторая
I
Как только 1 июня 1606 года Шуйский венчался на царство, подле нового царя немедленно явилось второе лицо в государстве – патриарх Гермоген. Бывший митрополит Казанский, известный своим сопротивлением неправославным поступкам Лжедимитрия. Это бесстрашное сопротивление показывало человека с твердым характером, готового страдать за неприкосновенность вверенного ему дела, то есть православия.
По природе своей патриарх Гермоген вполне соответствовал эпохе смут, заговоров и иностранных вторжений. Он соединял в себе справедливость и жестокость, непривлекательность в общении и неумеренную строгость. Слушая в то же время самые бессовестные наветы на кого бы то ни было, он худо отличал истинное от ложного.
Патриарха быстро сумели поссорить с царем. Для Шуйского такие отношения с патриархом оказались крайне невыгодны. Его власть, после того, как он не пользовался доверием ни у простого народа, ни у части боярства, выглядела довольно ограниченной. Современники прямо свидетельствуют в своих письменных показаниях, что с воцарением Шуйского бояре стали иметь гораздо больше власти, чем сам царь.
Не все бояре были в заговоре с Шуйским против Лжедимитрия. Некоторые, имевшие признание у населения, такие как Михайла Салтыков, князь Рубец-Мосальский, Богдан Бельский, оставались верны Лжедимитрию. Следовательно, враждебны новому правлению. Шуйскому не оставалось ничего другого, как подвергнуть их опале.
Конечно, решиться приговорить их к плахе он не посмел. Однако князь Рубец-Мосальский был сослан воеводой в Корелу, бывший исполнитель заочного обручения с Мариной Афанасий Власьев – в Уфу, Салтыков – в Иван-город, Богдан Бельский – в Казань.
Других стольников и дворян разослали также по разным городам. У некоторых приказано было отнять поместья и вотчины. А значит, в отдаленные области правителями и царскими наместниками были отправлены люди озлобленные, готовые принять участие в свержении существующего правления.
Уже в те дни, когда заговорщики убили Самозванца, Басманова, его ближайшее окружение и начали истребление поляков, дворянин Молчанов, задушивший жену Бориса Годунова, счел за благо сбежать из Москвы. Вначале он даже принял некоторое участие в разграблении дворца. Припрятал в большую суму выходной царский кафтан, саблю в золотой оправе с самоцветными камешками, еще кое-что по мелочи. Золотых и серебряных монеток пригоршню сунул в кошель за пазухой.
Рядом с ним князь Шаховской, пробравшись в царский кабинет, украл бессовестно государственную печать. Вначале даже и не знал чего ему с нею делать. Его было схватили заговорщики и хотели убить, но спас князя тот же Молчанов, вступившийся за именитого татя.
– Да ладно, чё лишний грех на душу брать, – сказал беспечно бывший опричник Ивана Грозного, а затем палач царицы Марии Годуновой, – посадим его пока в подвал на ночь. А завтра думцы-бояре разберутся.
Шуйский, став царем, сжалился над «рюриковичем»:
– Ну что ж ты, Григорий Петрович, печать-то стянул. Ей-богу, непочтенно как-то для княжеской крови. Поедешь воеводой в Путивль. Давай собирайся. Заслужи прощение.
– Заслужу, – пробурчал Шаховской, еле сдерживая ненависть к новому царю. «Лебезили перед Гришкой-расстригой равно, а уж Шуйский-то Васька особо расстилался перед еретиком, едва задницу не лизал. А теперь-то трон схапал, а меня в ссылку. Ну, погоди, старый хрен, горбоносый карла. Я те нос-то выпрямлю», – мстительно думал разъяренный князь Шаховской.
Молчанов, собираясь, пока не поздно, бежать из Москвы, решил все-таки посоветоваться с сидевшим под караулом Мнишеком. Караульным сказал с привычной строгостью бывшего стрелецкого начальника:
– Несу прокорм сидельцам. Велено пускать.
В корзине у него были хлеб, пироги, овощи. Для «Мариночки» доставил крынку с хорошим медом.
Уединившись с Мнишеком, Молчанов посвятил его в свои планы и просил у него письмо к королю Сигизмунду.
– Понимаете, пан Юрий, по всей Москве люди говорят: «Лица Димитрия Ивановича не узнать, да еще прикрыли маской… Пошто? К чему такое сокрытие? Что-то не так. Не он это. Царь спасся». И тут меня как в голову ударило: что если… а?
– Очень дельная мысль, пан Михаил. Впрочем, писать сейчас королю не особенно выгодно. Ничего веселого я ему пока сообщить не могу. Напишу лучше в Самбор своей жене… это моя вторая жена… Она весьма умная женщина, придумает что-нибудь. А вам я посоветую взять с собой двух гусар: Леха и Владека. Это мои доверенные люди. Они смелы, неглупы и преданны. Надо только, чтобы их отпустили из Москвы.
– Все сделаю, пан Юрий. Я договорился о пропуске поляков с приятелями, с которыми служил в стрелецком полку.
– Прекрасно, пан Михаил. Да помогут вам Езус Мария. Дерзайте.
В сопровождении двух польских гусар Михаил Молчанов помчался к литовской границе.
За Можайском, в харчевне, где они остановились перекусить, их обступили местные стражники:
– Кто такие? Откуда? Куда?
И Молчанов, больше обращаясь к своим спутникам, горько усмехнулся:
– Ну вот, они уже своего государя не узнают.
– Димитрий Иванович? – стражник отшатнулся, чуть на колени не пал. – А нам сказывали: забили царя бояре… эх!
– Верно, убили моего постельничего, а меня упустили. А ему-то, бедолаге, лицо все изуродовали, да еще маской-харей накрыли. Люди говорят: это не он, не наш царь-то… Ну, ничего. Скоро я вернусь в голове армии и с крамольными боярами поквитаюсь.
Мгновенно все узнали, что здесь сам царь Димитрий Иванович, живой и невредимый, счастливо ушедший от боярских холопов. Всем хотелось видеть «доброго Димитрия Ивановича», многие крестились, еле сдерживая слезы:
– Слава Богу, спасся сердешный.
Хозяин харчевни наотрез отказался взять плату за еду:
– Господи, государь, да для меня такая радость тебе услужить. Дай Бог здоровья и силы на супостаты, да настигнет их десница твоя. Бог тебе в помощь.
И Молчанов с ухмыляющимися гусарами поскакал дальше. По дороге он объяснил полякам:
– «Димитрий» шел к Москве от Северских городов. А по этому шляху на Путивль его никто не видел. В самой Москве-то многие его в лицо не знали. Так что давайте теперь строго: я ваш большой господин, бежавший из Москвы царь. А вы – мои усердные слуги. Глядишь, до польской границы прокормимся. Вам понятно?
– Еще бы не понять, пан Михаил!
И полетела весть впереди трех отчаянных всадников, о том, что едет царь Димитрий, чудом спасшийся от бояр. А противоположная дорога несла ту же весть на восток, к Москве.
– Жив Димитрий Иванович! Жив, уцелел! Слава Господу Вседержителю!
– Откуда слышали-то? – спрашивали на торге, на улицах, в переулках.
– Кум мой ездил в Можайск, там все его видали.
– А Шуйский-то со своими боярами толстобрюхими дурит нам головы. То убитого какого-то харей накроет, чтоб не узнали. То у дороги без креста закопает. То обратно откопает, да в гуляй-городе сожгет. А вдруг и пеплом из пушки пальнет. Ей-богу, скоморошье представление, игрище устроил! Тьфу, козел старый! Еще шапку Мономахову нацепил…
Князь Шаховской, прибыв в Путивль, собрал на соборной площади все городское население и объявил, что царь Димитрий Иванович жив. Шуйский с боярами хотели его убить, но Бог помог государю, и он спасся. Говорят, уехал к зятю своему в польский город Самбор.
После этого сообщения путивльцы единодушно отказались присягать Шуйскому, объявив себя подданными царя Димитрия. К путивлянам присоединились и другие северские города. Здесь ранее проходило наступающее войско Самозванца. Многие его тогда поддержали против Годунова, и сейчас тоже желали оказать ему помощь.
А Михаил Молчанов, оказавшись в Самборе, отпустил своих спутников Леха и Владека. Остановился в корчме. Хозяин корчмы, длинный еврей с войлочной бородой, в суконной шапке и узком черном халате встретил его поклонами и медовой улыбкой. Постояльцев в приграничном городке зазвать в корчму было непросто. Этот русский пан показался корчмарю мужчиной уверенным и состоятельным.
– Как изволили доехать, пан?.. – начал спрашивать еврей.
– Михаил.
– О, пан Михаэль! Какое прекрасное имя! Цо изволите заказать на обед?
– Так, – сказал Молчанов, – я подумаю. Тебя как звать, корчмарь?
– Мойше… Моисейко…
– Утром я видел, как ты брил какого-то мордастого пана. По-моему, ты его неплохо побрил… а?
– Я так старался, чтобы пан Гусиньский был доволен… – Моисейко даже закатил глаза и воздел руки к потолку. – Но пан Гусиньский очень привередливый пан…
– А сколько он тебе заплатил?
– Ой, вей, пан Гусиньский это такой пан, цо обещает дать за бритье злотый, а иногда и два злотых, но… Бывает, не дает ни одного.
– Да ну! Во хапужник, – засмеялся Молчанов. – Так сколь дал за бритву?
– Ползлотого, ползлотого… – обиженно заморгал красноватыми веками еврей. – Когда пан Гусиньский приезжает в свое село взимать подать с хлопов, то бедные хлопы прячут всех коров, овец и даже кур… И уж, конечно, молодых девок. Ибо пан со своей загоновой шляхтой забирает все, не оставляет даже торбочки проса или снопа пшеницы… Холопы потихоньку шепчутся, что лучше, если случается набег крымских татар, чем когда пан приезжает за податью.
Молчанов захохотал, найдя очень забавным поведение мордастого пана Гусиньского.
– Ну, у нас тоже хватает владетелей, что смерда в дугу гнут. А все-таки образом христианским прикрываются, оставляют кой-чего на прокорм. Не то все перемрут. Кто ж землицу орать и оброчное платить будет? А этому пану, видать, все нипочем. И впрямь, лучше татары. Мне вот чего требуется, Масейка. Вишь, какая у меня густая борода?
– Ой, то чудная борода! – расставив пальцы на обеих руках, вскрикнул корчмарь. – Це самая басотность[64] для мужа. Ой, как жалко резать такую бороду!
Молчанов еще посмеялся над возгласами корчмаря, потом сказал:
– Слушай сюда, Масейка. Меня не надо бритвой оголять, как пана Гусиньского. Требуется только укоротить бороду и усы, сделать их – какие бывают у совсем молодых людей. Это первое. А второе выкрасить бороду и волос в рыжий цвет. Можешь такое сделать?
– О! – простонал глубокомысленно еврей. – Сделать можно. На свете все можно. Но я должен посоветоваться с одним умным человеком. Зовут его Самуил Зельцер и умнее его нет никого во всем нашем воеводстве.
– Валяй, Масейка. Иди к своему умному человеку. И под вечер сделайте то, што мне нужно для дела. За это я вам заплачу пять… нет, шесть злотых. Пойдет?
– О Бог Авраама, Исаака и Иакова! Боже, отец наших! – корчмарь пришел в восторг от невиданной сделки и щедрого обещания московита. – Пан Михаэль, вы таки будете иметь цо хотите.
Вечером помолодевший и рыжий Молчанов был в замке Мнишека, явился к ясновельможной панне и передал ей письмо мужа.
– И что делать? – спросила жена Мнишека, прочитав письмо.
– Надо искать другого Димитрия, – отвечал Молчанов. – Я разве не подхожу?
– Но, конечно, что-то общее есть. И все же вы, пан, сильно отличаетесь от того царевича.
– Под именем Димитрия я проехал от Москвы до Самбора. И везде народ радовался, что Димитрий, в моем облике, уцелел. Чего еще надо?
– Я буду думать, пан Михаил, – пожала плечами жена Мнишека.
Полька была неприятная, сухопарая и, по-видимому, скупая до болезни. Не пригласила к ужину, не предложила чарку с дороги. Молчанов слегка поклонился ей и, выйдя за порог, плюнул.
В корчме он увидел в углу плечистого русого человека, одетого в добротный кафтан и высокие сапоги из вывернутой телячьей шкуры. Шапка польская с кистью лежала на столе. На поясе слева калита вышитая – видать, мужик при деньгах. За поясом заметна рукоять от ножа.
Опытным глазом Молчанов ширкнул по нему сверху вниз – понравился. Сам крепок, ручищи сильные, а лицо чистое, незлобное. Волос расчесан по-православному, лицо обрамляет небольшая плотная борода. Перед этим справным мужиком стояли глиняная корчага да кружка. Под закусь на блюде хлеб, огурцы, рыбина-копчужка, пощипанная.
Молчанов начал было подбирать польские слова, чтобы заговорить с неизвестным. Но тот, сразу заулыбавшись, ответил на чистом русском. Сказал: рад, мол, встретить земляка.
– Как звать? – подсел к столу бывший стрелецкий полголова.
– Иваном. А тебя?
– Михайла. Что ж путем да дорогой люди знакомятся.
– Масейка, – позвал Иван, – еще кружку. Да вели сковороду яичницы спроворить. – Заметно, что он, и правда, радовался встрече с русским человеком.
Разговорились сначала осторожно, потом вольнее. Выпили, поели опрятно. Молчанов, человек военный и придворный, постепенно все у собеседника выведал.
Зовут полным именем: Болотников Иван Исаевич, крестьянин князя Андрея Андреевича Телятевского. Дом был не бедный, на хорошем счету. Тиун княжеский всегда выражал довольство. И вот беда пришла, напали ночью татары. Кто сопротивлялся, посекли насмерть. Остальным арканы на шею, окружили верхами и погнали через степь в Крым. По пути сгинули и отец, и мать, и сестренка. Треть, пожалуй, самые молодые и здоровые добрели до Крыма.
В Крыму всех пленников купили турецкие купцы. Сильных мужчин приковали цепью к скамье, стали они гребцами на галерах.
– Погляди на мои ладони, Михайлушка, на мои руки… Несколько лет я ворочал тяжеленное весло, на жаре, под плетью, почти без еды и воды… – жаловался Болотников Молчанову, вспоминая тяжкие годы, проведенные на галерах. – С тебя пот валит, кнут свистит, барабан бьет, чтоб все вместе весло подымали и опускали… Люди мёрли, как мухи… И сразу цепь с мертвеца отклепывают, на его место нового мученика, а покойника за борт, рыбам на обед… Как я выдержал – сам не знаю, молод еще был, здоров… И как-то вдруг спускается надсмотрщик, а с ним железных дел мастер. Отклепывают мою цепь и говорят: «Ступай наверх, на свободу». Я не поверил сперва: вылез на палубу, а сам плачу. Гляжу: там люди стоят в красивых плащах, в шапках с пером, в башмаках желтых. А то были венецейцы. Оказалось, какие-то богатые русские купцы выкупили своих родных из галерного плена. А заодно и меня как русского православного. Дали денег еще. «Поезжай, – говорят, – в Веденец-град, а по-другому: в Венецею. Там позаработаешь, а потом гляди, как хочешь». Пожил я в Венецее, одним веслом греб на лодках с кабинками. Возил господ в бархатных одеждах и ихних милых девиц по каналам, меж островов. А островов там сотни. Везде дворцы стоят изукрашенные да церкви латинские с высокими колокольнями. И гребцы вроде меня на длинных лодках господ возят и сладкие песни поют им для ободрения. Там я и жил несколько годов.
– Что ж не остался в том Веденце-граде? – с интересом спросил Молчанов. – Ведь сколько лет там прожил…
– Да вот услыхал как-то, что у нас на Руси творится… Нет, думаю, надо к дому грестись. Хоть помереть да похоронят в родной земле. Может, к князю-хозяину своему податься, к Телятевскому Андрею Андреичу. Если он токмо меня признает… Где он сейчас, не знаешь?
– Я слыхал, воеводой на Черниговщине.
– Ну вот, поеду к нему.
Пока Иван Болотников про свою судьбину рассказывал, почти усидели новые знакомцы корчагу.
И тут Молчанов сказал:
– А теперь послушай меня, Иван. И сильно не удивляйся. Не думай, что с тобой в игрища играют или пустые байки расталдыкивают. Перед тобою сидит в этой еврейской корчме не какой-то там Михаил, а… царь Димитрий Иванович, государь всея Руси.
Болотников вытаращил глаза и долго не говорил ни слова.
Пришлось Молчанову довольно подробно растолковывать совсем не глупому, но ошарашенному Болотникову, что крамольные заговорщики бояре хотели его убить. Однако преданные люди, дескать, помогли бежать. Михаилом назвался, чтобы убийцы, которых наверняка послал к польской границе Шуйский, о нем не услышали.
– Я своей властью назначаю тебя моим воеводой, даю тебе письмо к князю Шаховскому в Путивль, – продолжал Молчанов. – Обожди немного. Сейчас я подымусь к себе в каморку и письмо тебе принесу.
Молчанов зашел в комнату, где сложил свои вещи. Быстро скинул повседневную одежду. Растеребил суму, в которой лежал украденный во дворце расшитый золотом царский кафтан. Быстро надел его, прицепил к поясу саблю в золотых ножнах с самоцветами и важно предстал перед Болотниковым.
У того от священного ужаса и счастья подогнулись колени.
И тут же раздался вопль корчмаря, пораженного богатством, которое оказалось на его загадочном русском постояльце.
– Ты готов мне служить? – торжественно вопросил Молчанов. – Я могу на тебя положиться?
– Как же, великий государь! Да как на себя самого. А мне и жизни для тебя не жаль.
– Значит, отвезешь мое письмо князю Шаховскому. Он ненавидит Шуйского и соберет армию по всей Северской земле. Только объявишь, что ты мой воевода, и ратников у тебя будет, сколько пожелаешь.
– Государь, батюшка! А, может, мы бы вместе поехали к князю и начали собирать войска?
– У меня здесь еще много дел. С королем предстоят трудные переговоры. Надо дождаться, когда пан Мнишек с моей женой прибудут из Москвы. С ними, надо думать, приедет и князь Вишневецкий. И польские послы скоро освободятся от пленения подлеца Шуйского. Ну, другие дела. А ты, царский воевода Болотников, поднимешь народ моим именем. Увидишь – как тебя станут встречать, когда ты только скажешь: «Я от царя Димитрия Ивановича».
II
В любимой своей темно-зеленой ферязи, легкой, не слишком изукрашенной, но как-то шедшей Василию Ивановичу и будто прибавлявшей ему росту, Шуйский собрал самых, по его мнению, умных и полезных бояр. Собрал, чтобы обсудить важные, не терпящие отлагательств дела. Горячий, скорый на любое действие или решение окольничий Татищев, думный дворянин, убивший на дворцовом крыльце Басманова, находился ближе других к царю. А одет был так просто и подтянуто, по-воински, словно явился не на государственный совет, а собрался в поход.
Сидел прямо, с суровым выражением на лице и нарочно подальше от царя, признанный глава Думы, в душе люто ненавидевший Шуйского и тоже претендовавший на престол, князь Мстиславский. Он поглаживал седеющую бороду красивой белой рукой в драгоценных перстнях и собирался рассказывать о своей весьма жесткой беседе с послами польского короля.
Близко от Мстиславского расположился худощавый, в бедном для царского совета кафтане, князь Григорий Константинович Волконский и думный дьяк Иванов. Их Шуйский собирался послать в Краков послами. Сейчас они внимательно читали какой-то помятый свиток. Это был случайно обнаруженный князем Михайлой Скопиным-Шуйским тайный договор Самозванца с королем Сигизмундом, так называемые «кондиции». В них (еще до своего воцарения) Отрепьев обещал передать Польше земли Северской Украйны, вожделенный для Сигизмунда Смоленск, а Марине Мнишек, как будущей царице, Псков и Новгород с прилегающими к ним областями северо-западной Руси.
– Ах, изменник, ах, сукин сын… – негромко бормотал Волконский, имея в виду уничтоженного Самозванца и не в силах смириться с такой откровенной продажей интересов государства. Дьяк поддакивал, кивая лысеющей головой. Его в Думе ценили за свободное владение латынью, польским, саксонским, нижнегерманским и даже шведским языками.
* * *
Совет шел уже больше часа, и царь наконец спросил Мстиславского:
– Что же ты сказал послу Гонсевскому про задержанных под стражей знатных поляков?
– Ну, сказал, что пока еще государь не видит возможности отпустить послов к их королю. И Его Величество Жигимонд, и его послы есть лица, благодаря которым подлый Самозванец, присвоивший себе имя царевича Димитрия, сумел приобрести воинские силы, чтобы захватить московский престол.
– А он чего? Сашка-то Гонсевский? – нарочно с особой язвительностью продолжил расспросы царь.
– Заталдычил, что ни король, ни тем более послы не виноваты. Польский государь и мы, говорит, всегда были сдержанны в отношениях с человеком, объявившим себя царевичем, сыном Ивана IV. Ну а я свое твержу: во всем виновата польская сторона, а именно: ваш король, снарядивший и благословивший Самозванца идти на Русь.
– Правильно сказал, князь. Да еще «кондиции»…
– Про «кондиции» я уж не стал в этот раз. Прошлый раз послам нос ими утерли. Я говорю: поляки наводнили Москву, осквернили столицу безобразиями, развратом, пьянством и поношением. А вы еще сетуете, что много убили поляков. Да если бы государь Василий Иванович не послал стрелецкий полк защищать Польский двор, московская чернь перебила бы вас всех до одного. Так злы были москвитяне на польских безобразников и головорезов.
– Это точнехонько, всех бы распотрошили хабарников-щеголей, – вмешался Волконский.
– А Сашка Гонсевский мне опять: «Все приграничные русские города сдавались царевичу без боя. А те, кто плохо себя вели в Москве, были не регулярные польские военные, а разбойничий сброд, который пан Мнишек навербовал в Польше, в Украйне и на русских землях. И если вы нас не отпустите, король может начать войну с Московией». А я ему: «Под королем Жигимондом сейчас трон и так еле держится. Сейм ваш волнуется, вот-вот смута-рокош между панами начнется. Да еще того гляди татары нападут, что-то они у себя в Крыму примолкли». Он, Гонсевский-то, обозлился и говорит: «Это на вас татары нападут. Они уже сжигали Москву до тла при царе Иване». Ах, ты, думаю, гад ползучий! «Ну, ничего, в этот раз Гирей, может быть, сожжет Краков…» – говорю я Гонсевскому…
Царь и бояре всплеснули руками от удовольствия остроумием князя Мстиславского и смеялись до слез.
– Да, так вот… – став серьезным, хмуро сказал Шуйский. – Всех незнатных поляков отпустить и под жестким конвоем гнать до литовской границы. А дабы у знатных поляков не явилось желания сбежать, Мнишека с дочерью и сыном сопроводить в Ярославль под охрану стрельцов. Другую часть поляков – Доморацкого и прочих – тоже под стражей в Кострому и в Ростов, пусть зимуют. Зима в тех местах суровая. Ну а послы Гонсевский и Олесницкий пущай тут у нас маются. Под немецким конвоем: во! Пущай похудеют малость. Мы им содержание и прокорм убавим за строптивость. А вы, – обратился царь к князю Волконскому и дьяку Андрею Иванову, – собирайтесь, поедете пререкаться с королем Жигимонтом… Без этого тоже не обойтись.
Между тем в Путивле после начала бунта против Шуйского требовался самозванец откуда бы то ни было. Зная, что Молчанов прежде других выдал себя за Димитрия, князь Шаховской звал его к себе. Бывший стрелецкий полголова из близких людей Басманова распространял в Сандомирском воеводстве слухи о спасении царя. Жена Мнишека поддерживала его в этом, уверяя панство, что возвратился муж ее дочери.
Однако сам Молчанов не хотел прилюдно играть роль самозванца. Он предпочитал действовать через панну Мнишек или рассылать по ближним русским городам «прелестные» письма против Шуйского от имени царя Димитрия Ивановича.
Когда удалой, сильный, приодетый соответствующе воинскому начальнику Болотников прибыл с письмом от «царя» в Путивль, князь Шаховской принял его как царского поверенного. Тотчас все окружавшие Шаховского бояре и дворяне, не зная происхождения Болотникова, выразили полное уважение новому воеводе. А Шаховской передал под его начало довольно большой и неплохо вооруженный отряд своих ратников.
В душе Шаховской надеялся, воспользовавшись именем самозванца и прибытием его воеводы, начать достаточно успешные военные действия, создать крепкое войско и получить помощь от Польши, если понадобится. Затем призвать казаков и двинуться к Москве. Под знаменем царя Димитрия разгромить и привлечь на свою сторону московские полки, скинуть Шуйского, этого горбоносого «лешего», и отобрать у него московский престол.
Шаховской пригласил Болотникова к себе, налил чаши.
– За твою, Иван, и за нашу общую удачу. Путивль всегда был предан Димитрию Ивановичу. И хотя в Москве сидит старый паук Шуйский, Путивль присягнул царю Димитрию. Да вся Северская Украйна против Шуйского. От первой же искры, от первой победы над его ленивыми ратниками вся эта земля загорится. И Москве каюк.
– Как же вышибить искру-то? – засмеялся Болотников.
– А очень просто. Надеваешь сейчас добрый кафтан с золотыми прошвами, папаху казачью с малиновым верхом и новые сапоги. Сабля, правда, простая, но крепко наточенная. Потом найдешь другую.
– А дальше?
– А дальше берешь у меня полторы тыщи конных ратников и скачешь на Кромы, которые осадил князь Трубецкой, полководец неважный. У него, правда, войско около пяти тысяч, но они не очень-то рвутся в бой. Это мне донесли лазутчики-казаки.
– Ого, разница-то немалая, – засомневался Болотников.
– Ты впереди себя пошлешь гонцов с «прелестными» письмами… Как ты с грамотой?
– Не особо, – признался воевода нового «Димитрия Ивановича».
– Плевать! Я тебе дам писарчука. Он тебе настрочит сколь хочешь грамот, успевай языком шевелить. А теперь пошли на крыльцо, я тебя казакам и моим ребятам представлю…
Площадь, переполненная вооруженными всадниками, узнав, что прибыл воевода Болотников от спасшегося царя Димитрия Ивановича, одобрительно загудела.
– Давно пора! А то засел в Кремле Шуйский, поставленный на престол одними думцами… Почему не пригласили ходоков от всех городов русских? Это шо за такой московско-боярский царек? Штой-та нам и невдомек. Короче, мужи-казаки, сабли наголо… и гоним прочь того хрена старого Шуйского, а сажаем обратно молодого Димитрия Ивановича… Гой!
– Где, воевода, сам царь Димитрий? – спросил кто-то.
– Он за межой. Ведет переговоры, закупает оружие. Сколь его надо-то!
– А как он, здоров ли?
– Здоров и крепок. Я с ним чарку пил и про все говорил.
– Какой царь из себя?
– Молодой, складный, ловкий… рыжеватенький.
– Точно так мы и слыхивали. В бою ловкий, а сам рыжий, на баб падкий.
– Го-го-го! – загоготала площадь. – Верно, про такого Димитрия Ивановича нам и рассказывали. Скорей бы он только сюда, к нам, прибыл.
– Не время ему сейчас тут появляться, везде посланные Шуйским убийцы рыщут. Все от нас зависит, мужики. Как только мы к Москве подойдем, тут он и объявится.
– Любо! Добро! – взревела площадь. – Веди нас, воевода Болотников, на прихлебателей Шуйского.
Князь Иван Воротынский осадил городок Елец, а стольник князь Юрий Трубецкой – Кромы. Однако ратники, посланные Шуйским, настолько лениво исполняли свои воинские обязанности, что надежда взять не подчинявшиеся царю города казалась призрачной. Да тут еще местные крестьяне, поддержанные казаками, валили толпой в войско Болотникова.
Придя на выручку Кромам, сильно пополненный пришлыми добровольцами-врагами Шуйского, отряд Болотникова неожиданно вылетел бешеной сланью из-за леса и ударил в спину осаждавшим. Началась паника. Воины Трубецкого бросились прочь от Кром, оставляя пушки и бросая прочее оружие. Конники Болотникова легко догоняли их и беспощадно полосовали саблями. Войско Трубецкого было разбито наголову. Победители-казаки насмехались над побежденными и называли царя Шуйского «шубником».
Служилые царские люди под Ельцом тоже не хотели сопротивляться войску «Димитрия Ивановича» и начали разъезжаться по домам. Все это длилось, пока их предводитель, князь Воротынский, остался, по сути, один с несколькими приближенными. Вынужденный скрываться и от местного населения, и от всадников Болотникова, он постарался скорее удалиться в Москву.
Московское войско и без того не усердствовало перед Василием Ивановичем Шуйским, а после победы Болотникова вообще потеряло волю к сопротивлению. Как только всяческие письменные сведения и просто слухи разнесли молву, что царское войско отступило, восстание на юге Руси охватило все (и ранее бывшие неблагополучными) земли. Возникло множество вооруженных конных шаек, занимавшихся грабежом.
Боярский сын Истома Пашков именем царя Димитрия Ивановича возмутил народ в Туле, Веневе и Кашире. Мужчины вооружились и встали против Шуйского.
Поднялось и Рязанское княжество, от которого к Болотникову привел большой отряд назначенный из Москвы воевода Сундулов и местные дворяне братья Ляпуновы. Они славились своей храбростью и враждовали еще с Годуновым.
Болотников, уже призабывший про «Димитрия Ивановича», с которым он познакомился в Самборе, распоряжался довольно уверенно своим войском. А оно росло не по дням, а по часам. Такие люди, как Сундулов и Ляпуновы, ополчились за Димитрия против Шуйского, хотя не особенно верили в то, что Димитрий, называемый Самозванцем, остался жив, а тот, чью власть осуществлял воевода Болотников, не какой-либо другой человек.
Восстание под знаменами Димитрия против Шуйского, то есть против московских бояр, привлекало людей, подобных Ляпуновым, Сундулову и Пашкову, чувствовавших в себе стремление быть впереди, но по происхождению не имевших на это прав. Думские бояре, князья «рюриковичи» и «гедеминовичи», местничество (предпочтение по знатности) в Думе и при назначении на гражданские и военные чины вызывало у таких людей раздражение и протест.
В Грановитой палате воздух был спертый, а настроение у бояр подавленное.
– Ишь какое против нас сборище стакнулось. И рязанские воры Ляпуновы, и Сумбулов с Пашковым. И никаких те поляков. А то ж за какого-то Митрия Иваныча… – скривив рот от злости, выступал князь Мстиславский и косился презрительно на Шуйского, сидевшего, уцепившись за подлокотники трона с мрачным, погасшим видом.
– Неизвестно за какого, – язвительно поддержал Мстиславского князь Голицын. – За того, что из пушки вылетел? Или за того, который в Самборе прячется в замке Мнишека у его жены? Меж прочего, есть слух, быдто энтот вор не кто иной, как сполнявший работу душителя годуновской жены, стрелецкий полголова Мишка Молчанов… ась? Не доказано? Зато доказано, что от него воевода послан был в Путивль к Шаховскому. Тот ему полторы тыщи казаков вручил да подарил атаманскую шапку с красным верхом. Зовут сего молчановского воеводу Ивашка Болотников. Он набрал вмиг еще несколько тыщ взбунтовавшихся смердов, беглых холопей, черкасов с днепровских порогов, всяких разбойников и головорезов… Да вдарил по нашим царским ратям так бойко, что князь Трубецкой… не в укор, князенька, будет сказано… убежал от Кром без порток. Вояк его – половину посекли, половину в полон взяли. А у князя Воротынского, потомственного нашего героя, внука победителя хана Гирея… Да-к у него вся рать еще до боя разбрелась: кто по грибы пошел, говорят, кто на рыбалку, а кто к жене на печку возвернулся… Оно теплее, чем в поле…
– А ты, Василь Василич, забыл, как ты от первого-то Самозванца без порток бег во все лопатки? – сердито закричал князь Трубецкой. – Память у тя короткая!
– Тихо, бояре. Чё так взъелдырились? Ей-богу, уши заложило, – с прежним мрачным выражением на лице вымолвил Шуйский. – Соблюдайте хоть немного царский обиход в Думе, выступайте прилична… А насчет порток потерянных князь Юрий Трубецкой на меня первого обижается. Так об чем решать будем, бояре?
– Государь Василий Иванович, позволь счету подлецов-самозванцев итог подвесть, – заявился с поклоном думский дьяк Карпов и развернул убористо исписанный свиток.
– Что жа, послушаем, кто там еще именем неизвестно какого Димитрия Ивановича наших бойцов гоняет, – разрешил Шуйский и опустил Мономахову шапку уж совсем низко, прямо себе на нос.
– Так вот, государь, окромя Рязани, еще двадцать городов в ближних землях от Орла, Калуги и Смоленска стали за того же царя, то ись второго Лжедимитрия. На восточной Украйне, в странах приволжских, так же как в Украйне Северской, подняли бунты и сбиваются в большие толпы смерды и холопы. А Нижний Новгород осадили крестьяне тамошние и мордва – под началом двух мордвинов-старшин ихних Моцкова и Вокорлина. И хотя огнепального оружия у мордвы почти нет, а только сулицы[65], топоры, рогатины и шестоперы, но из луков жильных стреляют очень метко. Наносят много вреда твоим верным стрельцам, государь. Биться с ними, воевода Бугаев пишет, весьма тяжко и хлопотливо оказалося. – Дьяк почесал перистой раздвоенной частью пера прыщеватый лоб и продолжил: – Помимо Петра Иваныча с терскими казаками, что, значит, оказался сыном царя Ивана, явилось еще много родственников-царевичей, желающих прибыть на Москву и занять царский престол.
– Ну, ну… – усмехнулся Шуйский. – Зачти всех царевичей… Хотя доподлинно известно, что Ирина Годунова родила Феодору Иоанновичу всего одну хилую девчонку, вскоре и умершую.
– Государь, остальных царевичей огласить? – сунув перо за ухо, спросил дотошный дьяк.
– Давай, посмеши нас, – буркнул Шуйский и поправил шапку Мономаха. – Но, право дело, мало смеху знать, что воры плодятся, грабят царские и купеческие обозы, убивают да вешают наших верных слуг… И все до одного требуют себе царского венца и трона.
– Я… то, значит, чту далее, – продолжил усердный дьяк. – Царевичи, стало быть, таковы: Федор, Клементий, Савелий, Василий. Есть даже и эдакие: Кропка, Гаврилка, Мартынка, хм… Но вот в Астрахани не чернь встала за Лжедимитрия нового, а сам назначенный царем воевода князь Хвростинин зверствовал и вешал твоему Государеву Величеству верных людей.
III
Желая поправить как-нибудь воинские дела, а также жалея совсем потерявшего уважение у бояр и народа царя-дядю Василия Ивановича, Михайла Скопин-Шуйский все хотел схлестнуться во главе своих конных отрядов с казаками Болотникова.
– Государь Василий Иваныч, пусти меня на воров, дай копье преломить… – говорил молодой воевода.
Глядя на высокого красивого юного племянника, царь чувствовал некое предательское увлажнение глаз.
– А не дай господь самого тебя переломят на побоище-то. С кем я останусь? – искренне опасался за племянника царь.
Но когда, после разгрома Воротынского с Трубецким, от бойцов Болотникова потерпел поражение многоопытный князь Мстиславский, ничего не осталось Шуйскому, как позвать Михайлу Скопина.
– Где у них сейчас передовые части стоят, знаешь? – спросил Шуйский племянника.
– К Пахре вышли, там пока топчатся. Надо их отлупить, а то ведь под боком у Москвы…
– Ну, ступай, Мишаня. Гляди, поосторожнее там. В случае чего сразу уходите. Давай, с Богом.
* * *
Осень уже устоялась основательно. Вода в Пахре ледяная, черная, по утрам дымилась. От резкого ветра лица всадников саднило, будто прошивало морозцем. Листья летели – желтые, бурые, вздымались с вихрем охапками. Птицы попрятались, даже синиц и воронья не видать.
Передовой полк Болотникова обнаружил на опушке леса пару туговатых стожков. Обрадовались, решили коней подкормить. Привыкнув за последние месяцы к боевым удачам, к лихим атакам, победам, казаки малость приустали и чувствовали приятную рассеянность.
Коней разнуздали. Растаскивали сено, некоторые прилегли. Дятел долбил усохшую сосну. Ветер подвывал, вздымая листья.
И тут один из отошедших поодаль молодых казачков, увидел, будто призраков в лесу. Среди первых был высокий воин в отблескивавшем сталью шлеме, в сияющем бляхами легком панцыре. Вороной конь его в богатой упряжи на корпус вырывался впереди других. Под стук дятла и завывание сиверка[66] еле слышен казался по подмерзшей земле гул сотен копыт.
Всадник на вороном коне поднял руку и резко опустил, давая, видимо, знак к нападению. Через секунду выхватил саблю. Сотник из войска Болотникова вдруг увидел сквозь деревья лавину всадников, выносящуюся к лужку. Он только успел крикнуть:
– Спасайся, братцы! На конь…
И тут же выстрел из пистоля его свалил. Скопин-Шуйский, сунув в футляр дымящийся пистолет, уже рубил наотмашь отточенной булатной саблей. Сотни его бойцов яростно догоняли разбегавшихся «болотниковцев» и секли, рубили, пронзали… Изредка звонко хлопал выстрел – и опять крик, визгливое ржание лошадей, вопли отчаяния и перемешанный стук копыт.
Менее чем в четверть часа закончили. Московские воины снимали с убитых оружие, ловили носившихся с пустыми седлами коней. Скопину принесли сумку убитого сотника, он посмотрел тщательно – нет ли каких бумаг. Ему сказали, что ускакать смогли не более двадцати бунтовщиков.
Царю Василию Ивановичу особый гонец принес весть о победе племянника. Впадавший последнее время в отчаяние от безысходности положения Шуйский обрадовался и воспрянул духом. Все, потерпевшие поражение от Болотникова, включая обоих братьев царя, Ивана и Дмитрия, угрюмо молчали, томимые завистью к «мальчишке». Разнежившийся царь при встрече обнял племянника и назвал по-родственному «чадунюшка». Московские полки торжествовали.
* * *
К большой избе, где остановился после взятия Коломны Болотников, подошел нестарый человек в простой, но крепкой одежде, в яловых сапогах. На нем накидка, вроде воинской епанчи, из грубого бурого сукна. За поясом тесак в деревянных ножнах и рукоять пистоля торчит.
– Кто такой к воеводе? – спросил стоявший на страже казак.
– Скажи Ивану Исаевичу, от Миши, из-за межи.
– Счас спросим, – произнес другой страж не в казачьем чекмене, а в стрелецком кафтане, с саблей у пояса, с пищалью. Он стукнул в оконце.
– Ко мне? А, так ты от Миши… Заходь.
– Оружие забрать у него, Иван Исаевич?
– Не надо. Я знаю этого путника, пусть зайдет. – Оба прошли в дальний угол избы, у нагретой печи сели на лавку.
– Сейчас вам принесут поесть, почтенный, и согревающего…
– Я не пью русскую водку или казачий пенник.
– Тогда медового сыта. Здесь нет романеи, к сожалению.
– Медового можно… немного.
Миловидная женщина в суконном сарафане, поверх которого накинут был пестрый шушун, а голова повязана по-казачьи цветастым платком, внесла деревянное блюдо с тарелкой и миской. В миске каша просяная с постным маслом – ложка торчит медная. На тарели кусок жареной свинины и рыбина-балык. На блюде хлеб простой, не крупитчатый, а корчага с Украйны, глиняная, расписная. Две чаши посеребренные, дорогие.
Женщина хотела прислуживать, принесла еще кувшин воды, деревянный таз, ширинку вышитую.
– Не надо, Домнушка, мы сами, – мягко сказал Болотников. – Ступай. У нас разговор сугубый, не для женского ума.
Женщина вышла. Воевода прошел за ней и сказал стражу с пищалью:
– Это лазутчик. Никого не пускать. Ежели кто из старшины – предупреди.
Мужчины снова сели перед подносом с корчагой и снедью. Болотников налил в чаши сыту.
– Доброго здоровья, падре.
– И вам того же, мессер Джованни.
Они выпили из чаш, и путник стал неторопливо насыщаться. Воевода молчал. Наконец пришедший закончил еду, вымыл руки, вытер их ширинкой.
– Что там в Самборе? – спросил Болотников.
– Он по-прежнему не хочет ехать на Русь. Боится, что для него это может закончиться так же, как для того.
– Они здесь уже начинают беспокоиться. Им нужен царь Димитрий Иванович, даже подставной. Пока, во всяком случае. Но у них возникают подозрения в отношении меня. Правда, если я разобью значительную часть царской армии, войду в Москву и схвачу Шуйского… Но это еще впереди. Опальный князь Шаховской в случае успеха явно намерен добиваться престола. То есть ему я нужен до Москвы.
– Если вы возьмете Москву и уберете Шуйского, мы примем самые решительные меры. Если Шаховскому удасться занять трон, мы поддержим его до нужного времени. Надеюсь, и вы тоже, мессер Джованни.
– Разумеется. Я не претендую на московский престол. Я выполню то, для чего послан. Я должен убрать эту боярскую власть.
– Наша великая задача заменить веру схизматиков на апостольскую веру. Поставить в Москве католического монарха.
– Это будет на Руси необычайно трудно, но это ваше дело, падре. Должен предупредить, я не вполне уверен в своем успехе. Мои соратники могут предать меня.
– Для чего?
– Чтобы выторговать себе жизнь у царя за счет моей жизни. Тогда вы причислите меня к лику святых мучеников? – засмеялся Болотников.
– Зачем вы так шутите, мессер Джованни? – Пришедший сказал несколько слов не по-русски, на певучем иностранном языке.
– Я не боюсь смерти, падре. Иначе я мог остаться в Венеции и выучиться для цеха стеклодувов. Эти волшебники накапливают от своего ремесла значительные деньги. Впрочем, здесь тоже можно приобрести немало ценностей. А вы, падре, будете ждать меня в Москве?
– Да, я очень надеюсь, что вам удастся в нее войти.
После окончания этого странного разговора Болотников проводил человека, именуемого им «падре», до порога. Он сказал сторожившему казаку:
– Позови-ка кого из молодцов-казачков. Пущай он гостя моего позади себя на коня посадит да отвезет подале от лагеря, куда ему надо.
К лагерю рязанцев, разбитому в полуверсте от Коломны, тем временем подъехал Прокопий Ляпунов. Приблизившись к шатру воеводы Сунбулова, бросил повод слуге, спросил:
– Воевода дома?
– Он, Прокопий Петрович, с вашим братцем трапезничают.
– Здорово, – воскликнул Сунбулов, увидев входившего Ляпунова. – Садись к столу. После охоты под вино дичь жареную грызем. Только спалили малость сверху, когда шкуру с лося сдирали… Ну, ничего, лось матерый, мясистый… Я больше половины отдал нашим робятам. Нам оставил два окорока да губы лосячьи.
Сунбулов протянул Прокопию Ляпунову обливную кружку, наполнил до краев пенником.
– Ну, догоняй. Какие новости привез от нашего старшего воеводы, холопьева предводителя Ваньки Болотникова? Где царь Димитрий Иванович, который послал во имя его брать Москву? А сам царь есть ли на самом-то деле?
– Да, времячко, – сказал Захар Ляпунов. – Воюешь на родной земле, кровь русскую льешь, а за кого и для чего? Непонятно.
– Тут мне Захар привез «прелестное» письмо, для москвитян писанное. И писанное от имени Ивана Исаевича Болотникова. Так вот в нем призывает Иван Исаевич холопам боярским побивать своих бояр и жен ихних, а вотчины и поместья брать на себя, а также гостей и всех торговых людей побивать и брать себе их имения и товары. Призывает он, Иван Исаевич, всех воров к себе, а он, кому сочтет достойным, давать будет боярство, воеводство, окольничество и дьячество…
– Так он, выходит, в воровские цари себя прочит и сам собирается править?.. А Димитрий Иванович это так, для отвода глаз, – догадался Прокопий Ляпунов. – Ловко! Для дурацких мозгов ковко – куй железо, пока горячо…
– Так кому же служить-то, братцы? – расстроился Захар.
– А служить отчине надо, – твердо сказал Сунбулов, наливая снова до краев кружки. – Решиться надо и ехать в Москву с повинной.
– Значит, все же к Шуйскому обратно?
– А что делать? Он какой-никакой, а царь. Вон и патриарх Гермоген, хоть упрекает его иной раз, но говорят: за него. Потому – помазанный царь Руси.
– Ну да, здесь-то кто над нами? Холоп, объявивший себя воеводой Димитрия, которого давно нету в живых.
Сунбулов и Ляпунов въехали в Москву свободно. Однако при въезде в Кремль, во Фроловских воротах стража их задержала. И уж начали было стрельцы над ними изголяться и говорить, что рязанцев надо бы в застенок да на дыбу, а не к государю пускать. Если бы не молодой красивый вельможа, назвавшийся Скопиным-Шуйским, вряд ли бы их и пропустили. Но, слава Богу, племянника царя стрельцы послушались. Разрешили даже взять с собой сабли.
Коней оставили у ворот, привязав к коновязи. Пошли за Скопиным, догадываясь, что это тот воевода, который внезапным нападением вырезал целый казачий полк в воинстве Болотникова. Следуя за молодым придворным, миновали пять дворцовых дверей – у каждых два стрельца с саблями, пищалями, алебардами. Скопин сказал подождать. Скрылся за шестой дверью, а вскоре распахнул ее настежь:
– Входите, – и подмигнул ободряюще.
Рязанцы вошли и, увидев царя, пали на колени, уперлись в пол лбами. Застонали, вскричали дружно:
– Всемилостивый государь наш, прости рабов своих, согрешивших пред тобою! – Затем они сняли сабли и положили впереди себя. – Вели, государь, казнить или миловать.
– Встаньте, – сказал тихо Шуйский. – Повинную голову меч не сечет. Возьмите ваши сабли и целуйте крест быть верным данному государю слову. – После крестоцелования царь указал на скамьи. – Что мыслит злодей далее творить?
– Хотел Москву брать до зимы, но после потери полка на Пахре решил укреплять Коломенское. А обозы со снедью не пропускать к Москве, – объяснил Сунбулов.
– Ну да, – вставил свой домысел Скопин, – цены на снедь, на хлеб подымутся. Черный люд начнет волноваться. Люди в Москве и так взболамучены из-за его «прелестных» писем, где он натравливает холопей на господ своих.
– Читал я его листки, знаю, – сердито произнес царь. – Сии бунтовские деяния непростительны, ибо покоя и крепости лишают государство. А что же новый Лжедимитрий? Он-то где обретается?
– Мы его не видали, государь. Болотников все твердит: он, мол, в Польше основное войско набирает. Вот-вот явится сюда. А мы уж давно сообразили, – рассуждал Сумбулов, – что нету никакого «Димитрия Ивановича». А головы нам и прочим людям Болотников морочит для большей привлекательности в войско смердов и казаков.
– Эх, видно, Жигимонт опять за старое принялся. Никак ему наш Смоленск покоя не дает. Вот он и сеет выдумки про царевичей, что на отцовский престол рвутся. Одного Димитрия не удержал, Бог нам помог. Избавились от еретика и его польских покровителей. Теперь небось нового разыскивает, а пока народ мутит, кровь невинную проливает.
– Ничего, государь Василий Иванович, у нас крепких бойцов, радеющих за Русское царство, пока хватает, – уверенно сказал молодой воевода Скопин. – Ни Смоленск, ни тем паче Москву мы ляхам не отдадим. Биться будем до последнего.
– Куда прикажешь, государь, вести нашу дружину? – спросил Сунбулов.
– Миша, укажи, чтобы верные рязанцы заняли подворья, где жили ране поляки, – сказал царь племяннику. – Поляков-то я кого выпроводил в Литву, кого расселил по ближним городам. Чтоб под присмотром были, но не в Москве. Кормить их здесь скопом больно накладно. Давайте, размещайтесь, воевода…
– Сунбулов Гришка, великий государь.
– И дворяне Ляпуновы – Захар да Прокопий, твоей милости по гроб жизни верные…
После ухода рязанских предводителей, царь раздумчиво произнес, советуясь со своим двадцатилетним племянником:
– Как думаешь, Миша, не предадут?
– Не должны, дяденька Василий Иванович. Рязанцы вроде разочаровались, ожидая несуществующего Димитрия. А к тому ж поняли малость, кто такой Болотников. Хитрый он мужик, ловкий, но непонятный. Кому служит? Димитрию? А его нет на земле. Значит, кому-то еще? Королю? Иезуитам? А может, о самом себе заботится? Почему при удачном промысле не попробовать прыгнуть из бывших холопов в цари? И такое быть может.
– Значит, зимовать злодей собрался в Коломенском? – прищурившись, снова спросил Шуйский. Подумал, собрав морщины на лбу, пожевал сухими губами, пошмыгал горбатым носом. – Ну, вот, Мишаня, тебе с ним под Коломенском и воевать. Ты первый зверя ранил, тебе его и добивать. Собирай своих конников и пушкарей, готовь войско к наступлению. А за тобой пехотные полки пойдут, братьев пошлю. Неча им у баб своих под подолом прятаться.
IV
Для правления Шуйского произошел счастливый поворот событий. Если в южных областях жители объявляли себя на стороне Самозванца (Димитрия, какого-нибудь еще), то в былом Тверском княжестве, во многом благодаря убеждениям архиепископа Феоктиста, люди служилые, посадские, торговые и даже крестьяне укрепились в своей верности царю Василию Ивановичу Шуйскому. Они споро вооружались, встречали отряды приверженцев нового Самозванца (в основном казаков и всяческую вольницу) как враждебные воинские силы. Решительно разгромили их и рассеяли. Многие служилые люди из Твери отправились в Москву помогать Шуйскому.
Жители Смоленска, которые издавна считали поляков и литву своими постоянными врагами, не могли поверить царю, который собирался прийти с территории Речи Посполитой и рассчитывал на поддержку поляков. Немедленно служилые люди из смолян, выбрав своим водителем воеводу Полтева, пошли в Москву на помощь царской рати, а по дороге очистили от воров (ожидавших Лжедимитрия) Дорогобуж и Вязьму. Воины из этих городов соединились со смолянами и вместе вошли в Можайск, куда пришел воевода Колычев со своими стрельцами. Перед этим он выгнал из Волоколамска и побил в поле приверженцев «царя Димитрия».
Шуйский весьма ободрился и даже послал Болотникову гонца с письмом, в котором убеждал его оставить надежду на победу неизвестного человека, претендовавшего на московский трон под именем Димитрия. Однако Болотников не прельстился, а может быть, не поверил обещанию царя дать ему боярский чин и назначить главным воеводой. В ответном письме Болотников отвечал будто бы с простодушной искренностью: «Всегда припадая сердцем к царской власти, я отдал душу свою Димитрию Ивановичу и сдержу клятву, – буду в Москве не изменником, а победителем».
И положение его вблизи Москвы действительно становилось опасным для царского войска. Братья Шуйского, оба бездарные полководцы, крайне недалекие люди, но жаждущие втихомолку престола, ненавидели брата. Он все-таки был умен и хитер, не в пример им, и заранее завидовали двадцатилетнему Михайле Скопину в связи с его военным везением.
Снег выпал свежий, чистый, словно бы нарочно готов был окраситься ярко-красной человеческой кровью. Ветер затаился, в темном небе тихо мигали звезды. Какие-то светлые облачка вдруг светились по темноте. Мило было, душевно-трогательно на Руси. И вот тебе на: готовилось убийство своих своими.
Ожидая с часу на час прихода смоленской дружины Полтева, князь Михайла Скопин-Шуйский проехал в сопровождении слуги Федора и Прокопия Ляпунова, рязанского переходчика на царскую сторону, вдоль всего расположения своего воинства у Данилова монастыря.
Вернулся в шатер, разбитый прямо на снегу. Накинув на плечи полушубок, Скопин склонялся при свечах над чертежом местности. Кто-то подскакал к шатру, спрыгнул с коня. Нетерпеливый рязанец Ляпунов бросился к входу. Стражник впустил ратника.
– Кто там?
– От воеводы Полтева гонец. Наши подходят к Филям.
– Добро.
Прокопий Ляпунов, как воин смелый и дерзкий, настаивал на немедленном нападении на стан Болотникова.
– Ночью захватили бы их спящими, князь, – говорил Прокопий, расхаживая по шатру и от нетерпения то вытягивая из ножен до половины саблю, то вбрасывая ее обратно. Он с досадой смотрел на красивого степенного юношу, все о чем-то раздумывающего и сверяющего что-то на чертеже. Ничего не поделаешь: Михайла Скопин родной племянник царя, который назначил его главным воеводой.
– В темноте можно побить и своих, Прокопий, – возражал рязанцу Михайла Васильевич. – Двинем по зорьке, когда хорошо все проглянется. Вот только дождемся смолян. Не шутка: три полка опытных бойцов.
К полночи появился еще один гонец. Едва разлепляя смерзшиеся губы, прохрипел:
– Кто есть князь Скопин-Шуйский? Я гонец от Пашкова.
– Ага, от Истомы Пашкова? – воскликнул Ляпунов. – Ты гляди, и его достало. Хочет уйти от Болотникова, молодец.
Прибывший молча достал из-за пазухи свернутую трубочкой грамоту. Скопин-Шуйский сорвал печатку, склонился к свету.
– Ну чего он пишет? – спросил Ляпунов, недолюбливавший Истому Пашкова, надменного, резкого земляка.
– Просится к нам. Не хочет больше под Болотниковым ходить.
– Ну пусть, чего там.
– Постой-ка, – остановил Ляпунова князь. – Надо бы примериться, когда ему переходить. Лучше бы во время боя и прямо к тебе. Вы рязанцы, сразу друг друга узнаете. А все равно надо бы какой-нибудь знак придумать, чтобы ошибки не было.
– Не дай бог, не дай бог, – пробормотал гонец от Пашкова, немолодой уже воин, переминавшийся рядом скромно, почтительно.
– Выпустить бы ратника вперед с рязанским знаменем, – придумал Скопин-Шуйский.
– А что? Здорово получится, – ухмыльнулся Прокопий. – Пустим моего брата Захара. Он парняга отчаянный, справится.
– Ладно, – сказал Скопин, обращаясь к гонцу. – Скажешь сотнику Пашкову, пусть переходит во время боя по оговоренному знаку – знамени. Понял? Всадник на белом коне с красным прапором[67].
Гонец кивнул, вышел в ночь. Близился рассвет, чуть заиграла розовая полоска за лесом. Засияли над лесом спавшие облака.Сорока застрекотала, гаркнул ворон.
Смоленская дружина под управой воеводы Полтева прибыла уже на свету. Где-то недалеко, в монастыре, прокукарекал несмело единственный петух. Остальных в окрестных деревнях давно съели.
Но одного петушиного сигнала и первых отсветов зари было довольно, чтобы заскрипели по снегу сани, зафыркали кони, забряцало оружие.
Примчались посланные заранее разведчики, нашли Скопина:
– Болотников идет на Котлы. Нам навстречу, князь.
– Хорошо, значит, встретимся в поле. Григорий, – обратился Скопин к воеводе Полтеву. – У тебя конных хватит, чтобы ударить, когда воры втянутся в бой?
– Хватит, – ответил кряжистый, с усталым лицом Полтев.
– Вели им обойти Котлы, а потом пусть налетят неожиданно. Скажи, я пришлю ратника на добром коне, когда час приспеет.
Войско Болотникова перегородило поле и медленно приближалось. Стрельцы Скопина отвечали на их стрельбу из пищалей. Пули жужжали с обеих сторон, почти не нанося никакого урона.
Пашков, получив согласие из Москвы, предупредил своих десятских:
– Когда надо будет начинать, явится с той стороны ратник на белом коне, в красном бешмете и с красным прапором. Не вздумайте по нему стрелять. Это будет наш рязанец Захар Ляпунов. Они уже перешли к царскому войску. Видать, Скопин воевода головастый, добро рассчитал. Переход наш во время боя сразу обессилит Болотникова.
Пашков мечтал захватить и связать Болотникова, чтобы доставить в Москву. Но такое удальство было рискованно. Михайла Скопин запретил это делать – как бы не получилось хуже. У Болотникова полно казачьей охраны, по сведениям лазутчиков. Охраняют его настороженно, будто матерые волки своего вожака.
И вот Истома Пашков повел рязанцев в сторону от «воровских» войск.
– Передавай поклон Ивану Исаевичу от меня, а заодно и Димитрию Ивановичу, если вы его когда-нибудь откопаете, – крикнул он посланцу Болотникова. Огрел плетью коня и пустил его в скок с места. Рязанцы хлынули за ним, взметывая ошметья снега из-под копыт. Они увидели в поле Захара Ляпунова на белом коне в красном балахоне и с красной тряпкой на древке.
– Знак, знак! – закричал Пашков и помчался к Захару Ляпунову.
Тот увел их на правое крыло москвитян, обогнул его и завел вновь прибывших с тыла.
– Здорово, Захар! – крикнул молодому красавцу Истома и не мог сдержать смеха. – Чего это на тебе за рвань какая-то непонятная… хоть и красного цвета…
– Да велено надеть было красный бешмет и взять красный прапор, – тоже смеясь, рассказал Захар. – Оказалось, нет ни бешмета, ни прапора. Что делать? – уж уговорились ведь. Хорошо, у кого-то в обозе нашелся старый персидский халат. Ну, натянули на меня прямо на шубу. А рукав оторвали, привязали к копью, вышел прапор – и смех, и грех… Вовсе чучело на огороде, ха, ха!
Уход рязанцев образовал дыру в боевом строе Болотникова. Туда сразу устремились московские конные стрельцы, а за ними пешие ратники с алебардами и пищалями. Клином войско воеводы Скопина-Шуйского врезалось в распавшиеся ряды противника, быстро расширяя прогал, гоня перед собой бегущих воровских ратников. Болотников с кучкой охранников-казаков носился на коне, лупя плетью, ругаясь отчаянно и пытаясь остановить позорный бег своих воинов.
– Измена! – вопили болотниковцы, бросаясь врассыпную и тем становясь легкой добычей, подставляя спины и головы конникам Скопина.
– Р-руби их, братцы-ы! Бей ворьё! В мать-перемать их, собак продажных! Руби слуг польского наймита и собачьего хрена Болотникова! – зверели от ярости москвитяне и рязанцы.
Несмотря на все усилия Болотникова и его помощников, остановить бегущее войско повстанцев было уже невозможно.
– Иван Исаевич, бечь надо! Гляди, в полон попадешь! – криком убеждали воеводу охранники-казаки.
Атаман Заруцкий, находившийся со своими донцами на левом крыле, мечтавший первым ворваться в Москву, но также вынужденный отступать, проклинал предателей рязанцев.
– Кому ты доверился, Иван Исаевич? – упрекал он Болотникова. – Надо было опасаться предательства. Ухо востро держать… эх! Проворонили…
– Поди их разбери, – отвечал почерневший от огорчения воевода «Димитрия Ивановича». – Пришли рязанцы, сказали, что будут драться за хорошего царя против плохого Шуйского. Да вот в самую нужную пору – бросили, переметнулись. Ничего, мы здесь хорошо окопались, укрепления надежные сделали. Отобьемся. Дождемся подмоги от Шаховского-князя, а то, может, и от… польского короля. Тогда поговорим с московским боярством по-другому. Еще вдругорядь попытаемся, соберемся.
Однако Скопин-Шуйский не собирался давать Болотникову передышки. Он подтянул пушки и мортиры к Коломенскому и приказал стрелять до тех пор, пока, как он выразился, «воры не побегут, как тараканы за печь». С невольным уважением смотрели опытные московские начальники стрелецких войск и смелые предводители рязанского ополчения на этого двадцатилетнего воеводу, поражавшего их спокойствием и умением точно спланировать действия всех родов войск: конницы, пехоты и «снаряда» – пушечных команд.
Трое суток пушки били по Коломенскому, не давая осажденным ни единой передышки. Сам Болотников оказался раненым, хоть и находился в избе, – отлетела из развороченной стены щепа, чуть глаз не выбила.
Обезумевшие от страха степные казачьи кони, не знающие почти пушечной стрельбы, срывались с коновязей. Перескакивая через изгороди и рогатки, уносились в заснеженное поле. Некоторых с удовольствием отлавливали конники Скопина.
Много изб горело, в сараях полыхало сено и необмолоченные снопы. Стонали и кричали раненые. Женщины и дети из местных крестьян плакали и молились, прячась в церквах. Заруцкий уговаривал Болотникова покинуть Коломенское и отступать на юг.
– Куда отступать? – спросил сердито Болотников.
– Лучше всего на Калугу, – ответил молодой атаман. – Москалей там нема, а дивчат красивых много.
– Ну да, как тебя увидят на лихом коне, так все сбегутся, – усмехнулся воевода «Димитрия Ивановича». – Раз такое дело, ночью тронемся. Днем уйти не дадут.
Наутро князю Скопину-Шуйскому доложили, что воры бежали из Коломенского – скорее всего, на полудень.
– Все конные полки вдогонку, – приказал Скопин. – Кто будет сопротивляться, рубить без пощады. Бросивших оружие взять в полон.
Через Серпуховские ворота конные и пешие полки вступили в Москву. Князь-воевода Михайла Скопин-Шуйский ехал на вороном высоком коне в золоченой сбруе, окруженный начальниками стрелецких полков. Над ним торжественно держали на лакированном древке хоругвь воинской победы – образ Спаса Нерукотворного. Звучали трубы, трезвонили церковные колокола.
Москва, измученная голодом (подвозу хлеба и другой снеди долго мешали воровские отряды), встречала победителей с радостью, надеждой на улучшение жизни, но и с сомнением.
– Уж теперь бояре совсем руки распустят супротив мизинного народа, – роптали многие, так и не смирившиеся с убийством боярами Самозванца и захватом трона зловредным стариком Шуйским. – Подати еще подымут, цены на съестное вздыбят, кругом только и рыскать будут сыскные ярыги да каты с плетьми… Ходи оглядывайся…
– Не допустили доброго царя Митрия Иваныча до отцовского наследства. Какого-то мертвеца с харей, дудкой и волынкой на Лобное подкинули – мудровать, народ путать. А потом закопали при дороге… Мало показалось, так обрат откопали, сожгли, аки падаль, да прахом из пушки стрельнули… И што жа? Вон дружины его, царя-то настоящего, чуть в Москву не вошли. Говорят, токмо из-за измены племяннику Шуйского удалося пока отбиться. Ладно, поглядим, чо дальше будет. Што Христос даст, чем наградит нас за муки мученические, да накажет за грехи наши тяжкие.
Отступивший из-под Коломенского Болотников подошел к Серпухову, собрал мир на площади и спросил, есть ли у них столько съестного, чтобы целый год кормить и себя и войско? Если есть съестные припасы, то он останется у них и будет дожидаться царя Димитрия, чтобы войти с ним в Москву. Если же нет, то уйдет. Серпуховские жители отвечали, что целый год не смогут кормить не только войско, но и себя, и детей своих.
– Добро, – сказал Болотников, – не буду вам беды чинить.
Войско Болотникова двинулось дальше к югу. Калужане приняли дружины «царя Димитрия» и объявили, что смогут прокормить войско: урожай-де в се лето оказался обильный.
А в Москве царь Шуйский и думские бояре обласкали Михайлу Скопина за его победу: хвалили, сравнивали с молодым князем Александром Невским. Но в ближайшие дни царь накричал на племянника, за то, что тот просил не «сажать на воду», то есть не топить в прорубях несколько сот пленных, захваченных после боя под Коломенским и позже, после погони, взятых в деревне Заборье.
Сначала Шуйский добровольно сдавшихся не наказывал. Велел взять их в Москву, поставить по дворам, кормить и никак не притеснять. Но спустя некоторое время (может быть, под влиянием кого-нибудь из самых алчных и жестоких думцев) потребовал, чтобы «воры», не вместившиеся даже в тюрьмы, были казнены.
– Ведь после того, государь, когда пленных на воду посадят, в другой раз никто сдаваться не будет, а биться станут с яростью до последней возможности, – пытался уговаривать царя племянник. – Сколько ж мы тогда лишних своих ратников потеряем…
– А мне до сего никакого дела нет, – оборвал Михайлу кривоносый старик. – Указ я подписал, значит, его должны исполнять. А у меня забот поболе твоего. Ступай и не серди меня своими уговорами, князь.
И застучали пешнями почти напротив Кремля по Москве-реке ражие мужики, каты-ледорубы. И повели к прорубям длинные вереницы русских ратников со связанными руками. Сопровождаемые по обеим сторонам стрельцами в красных кафтанах с бердышами в руках и саблями у пояса. Казнимые – кто плакал, причитая о горькой своей судьбе, кто ругал последними страшными словами боярского царя Шуйского и призывал на его голову кары и беды, небесные и земные, кто каялся в грехах, вольных и невольных, и молился, оглядываясь на ближайшие церковные главы… А усердные исполнители царского указа подхватывали под локти очередного «вора» и опускали его (иногда сопротивлявшегося, иногда смирного) в прорубь под лед.
V
Воспользовавшись успехом князя Скопина под Коломенским, царь решил продолжить наступление на Болотникова, затворившегося в Калуге. Со слов разведчиков, Болотников решил отсиживаться, пока не подойдут рати ярого приверженца Самозванца князя Василия Мосальского. У того было немалое войско с десятками пушек и обозом, везущим «снаряд»: ядра и порох в бочках.
Соединившись, Болотников и Мосальский могли бы разгромить имевшиеся у Шуйского войска и вполне рассчитывать на победное вторжение в Москву.
Тем временем брат царя, Иван Шуйский, завидующий и молодому Скопину, и каждому, кто хоть сколько-нибудь был удачлив в воинском деле, со всею армией осадил Калугу. Затратил много пороха и ядер, обстреливая укрепленный город. Несколько раз приступал к взятию «воровского гнезда», но только усеял крепостной вал и подходы к городу сотнями своих убитых бойцов. Не только взять Калугу, а даже подойти под стену ему не удалось.
Шуйский, преданно осуществляя покровительство своим братьям, ставил их от случая к случаю воеводами. Бояре, воинские начальники и простые стрельцы только плевались от бессильной злости и ругали царских братьев втихомолку тупыми баранами. Однако кровного единения князей Шуйских никакое разумное обсуждение не касалось. Это был спаянный клан, жаждущий престола.
Мороз усиливался, метель мела, не переставая. Зима сковала реки и озера, завалила снегом поля и дороги. Однако сухопарый старик в шапке Мономаха, скребя с досады редкую бороду, слал воевод с окоченевшими полками к неприступной Калуге.
Последнее, с усилием собранное, войско под началом первого думского боярина Мстиславского, при помощи прославивших себя конников и пушкарей Скопина-Шуйского и с пехотой князя Татева, остервенело рвалось к воротам Калуги. Пушки ревели с утра до ночи, бойцы царского войска упорно лезли на стены. Но Болотников отбил приступы и этих воевод. Так же неудачны были попытки захватить Венев и Тулу, где все население – от начальников и дворян до знаменитых кузнецов – не желало целовать крест царю Василию Шуйскому.
Правда, боярин Иван Романов и князь Мезецкий сумели перехватить подходящее на помощь Болотникову войско князя Мосальского. Жестокое сражение в свистящих вихрях метели закончилось жутким и трагическим эпизодом. Окруженный царскими войсками Мосальский бился во главе своих смельчаков, знавших, что в случае плена им нечего ожидать, кроме казни. Внезапно, рубившийся в гуще боя князь Мосальский пал, убитый случайной пулей. Тогда его пушкари и стрельцы, отстреливаясь уже без всякой надежды, уселись на пороховые бочки и подожгли фитили. Раздались слитные взрывы пороховых бочек, куски человеческих тел и части обозных коней взлетели в воздух. В клубах черного дыма и потоках крови погибло войско Мосальского, которого напрасно дожидался Болотников в осажденной Калуге.
За перехваченным свинцовыми полосами, замерзшим оконным стеклом падал снег, и светила сквозь клубящиеся тучи луна. Царь Василий Шуйский сидел на ковровой скамье у нагретой израсцовой печи. Он думал о тех немногих успешных воинских делах, которые удались его воеводам. Радовали вести, что взят Арзамас, присягнувший ранее Лжедимитрию. Нижний Новгород освобожден от осады восставших смердов, волжских разбойников и мордовских старшин, которых повесили его воеводы.
Но царь счел нужным совершить какие-то дополнительные меры, чтобы подействовать на сознание «черного» народа. Тем более, что общее положение в царстве было далеко не благоприятным, ибо все южные области упорно стояли за Самозванца, наивно дожидаясь его прибытия.
Но ведь, по приказанию Лжедимитрия и под тайным руководством самого Шуйского да Василия Голицына, убита семья Годунова. Значит, всю вину нужно свалить на расстригу Гришку Отрепьева и в какой-то степени поднять в умах простонародья самого царя Бориса, царицу Марию и сына их Федора как помазанников, как царственных мучеников. Это нужно, если часть черни не верит, что Самозванец мертв, а верит, что он спасся, и готова воевать за нового проходимца, назвавшегося его именем.
Была затеяна необычная скорбная церемония. Из далекого монастыря привезена инокиня Ольга (она же бывшая царевна Ксения). Вынули из гробницы Варсонофьевского монастыря гробы Бориса, удушенной жены его и сына, погибшего тою же смертью. После торжественной панихиды доставлены гробы в Кремль. Везли их в повозках на высоких колесах. Гробы, крытые черным бархатом, кропило из золоченых кадильниц одетое в черное облачение духовенство – архиепископ Пафнутий и иереи Архангельского собора.
Инокиня же Ольга в черной рясе и монашеском клобуке, поддерживаемая с двух сторон монахинями-постницами престарелых лет, ломая руки и проливая потоки слез, вопияла безутешно об отце своем, о матери своей и юном брате Федоре, погибших из-за жестокости Самозванца. Повозки с гробами Годуновых везли медленно, каждую по четыре вороных лошади. А в Кремле вышли им навстречу сам царь с боярами и почетным караулом стрельцов.
Царь и бояре скорбели о злодеянии, совершенном Самозванцем и еретиком Гришкой. И Шуйский даже смахнул слезу над прахом предшествующего ему царя Руси, заклятого своего врага.
После перезахоронения Годуновых (Ксению-то снова увезли в далекий северный монастырь), царь приехал неожиданно в гости к брату Дмитрию Ивановичу.
– Наконец-то, – хыкнул обрадованно Дмитрий, – дорогу нашел к родне, государь всея Руси. Сейчас пир закачу для старшого братца.
– Не время, Митя, – отказался Василий Иванович. – Позови-ка мне свою Катерину Григорьевну. Дело есть.
– Ишь ты, – удивился Дмитрий Шуйский, – ну, как прикажешь. Опять дело… когда же заживем-то без забот?
– Всех ее девок прочь, а сам постой у дверей, чтобы никто, не дай бог, нас не услышал. Она тебе потом сама расскажет, в чем суть.
Вошла сухощавая, в темное одетая женщина с уже увядшим лицом и пристальными, неприятно настороженными глазами.
Женой Дмитрия Ивановича Шуйского была дочь Малюты Скуратова-Бельского, самого приближенного человека Ивана Васильевича Грозного, его «недреманного ока», следователя по особым делам, мастера пыток и казней. Ходили слухи, что он владел (как многие интриганы и вообще темные личности той эпохи) особыми познаниями во всевозможных тайных снадобьях, особенно одурманивающих и отравляющих. Это была наука, отправившая в мир иной не одну тысячу известнейших людей в Европе и на Руси, на христианском Западе и мусульманском Востоке.
Вот к такой мастерице в составлении зелий и обратился царь Василий Шуйский.
Выслушав его просьбу, Катерина Григорьевна удалилась ненадолго. Покапавшись в своих шкатулках и склянках, она вынесла деверю крошечный сверточек в бересте.
– Для кого подарок, государь, коль не запретно слышать?
– Тебе не запретно. Для воеводы неизвестного «Димитрия Ивановича», для Болотникова.
– Трудно будет ему подарок доставить. Его воры, чай, как свой глаз берегут. Да и Болотников небось сам не дурак.
– Оно так, но все же время-то счас боевое, баломутное. Тут можно и попытаться.
– Кого посылаешь?
– Немца Каспара Фидлера. Он крещен в православие. Хорошо знает сыскное дело, по-нашему сильно грамотен. Сам же мне задумку сию предложил. Я согласился, потому как нашим такого дела никогда не доверю. Наш либо продаст, обозлившись с чего-нибудь, либо проболтается спьяну. А немцы за деньги все честно делают, у них тут разумение твердое. Я ему хорошее награждение пообещал.
– Да, тут ты прав, государь. Немец надежнее.
– А в чем ему это лекарство предложить?
– В чем угодно: и пиво хорошо, и вино, и просто вода.
Когда Фидлер получил особое средство для Болотникова, он после крестоцелования обязался перед царем особой клятвой. Преклонив колени, Каспар произнес торжественно:
– Во имя пресвятой и преславной Троицы я даю сию клятву в том, что хочу изгубить ядом Ивана Болотникова. Если же обману моего государя, то да лишит меня Господь навсегда участия в небесном блаженстве, да отрешит меня навеки Иисус Христос, да не будет подкреплять душу мою благодать Святаго Духа, да покинут меня все ангелы, да овладеет телом и душою моею дьявол. Я сдержу свое слово и этим ядом погублю Ивана Болотникова, уповая на помощь Божию.
Вот такие убедительные слова произнес в присутствии миропамазанного государя, согласного с его праведными намерениями, ревностный православный христианин Каспар Фидлер. После чего получил от царя сытую лошадь белой масти и сто рублей в кожаном увесистом мешочке. За совершение данного ему ответственного поручения Василий Иванович Шуйский обещал Фидлеру в случае успеха дела сто душ крестьян и триста рублей ежегодного жалованья.
С тем благоразумный Каспар сел на белую лошадь и неторопливо отправился в Калугу. Его вскоре перехватили рыскавшие вокруг осажденного города казаки Болотникова.
Фидлер заявил, что желает передать воеводе тайные сведения. Расчетливый немец про себя решил следующее: если он действительно сумеет отравить Ивана Болотникова, хотя бы для этого понадобятся несколько дней или даже неделя, то близкое окружение мятежного воеводы обязательно свяжут внезапную гибель своего предводителя, человека еще молодого и здорового, с подозрительным появлением Фидлера. Его поволокут на дыбу, устроют ему огненную пытку и кнутобойное дознание. Он, конечно, не выдержит, признается во всем, – и жестокие казаки либо сожгут его на костре, либо закопают по горло в землю и устроют мишень для стрел, по-ногайскому[68] обычаю, а скорее всего, привяжут к хвостам двух лошадей и разорвут его пополам. С другой стороны, если его здесь не тронут, по счастливой случайности, то скупой царь ни за что не выполнит своего обещания. Да и вообще, чтобы не оглашать рыцарские приемы в изживании врагов, постарается от Каспара Фидлера избавиться.
Поэтому, попав в Калугу, Фидлер открыл свое задание Болотникову. Единственно о чем умолчал, конечно, это про сотню серебряных рублей в кожаном мешочке. Яд он отдал Болотникову. Фидлера оставили в покое.
Впрочем, Болотников решил проверить действие яда на самом немце. Поручил он проверку своему писарчуку, которому Фидлер помогал готовить «прелестные» письма. Поразившись четкому и красивому почерку Каспара, писарчук Ермолай решил во что бы то ни стало сохранить такого бесценного напарника. Он отошел куда-то в сторонку и выбросил берестяный кулечек с ядом.
– Ну как, проверил на немце действие отравы? – спросил Болотников писарчука.
– А я ее выбросил, – признался Ермолай.
– Да как ты посмел, крапивное семя? – рассердился вначале Болотников. – Вот я прикажу тебе выдать плетей на память!
– А кто будет цельную сотню прелестных писем переписывать? – ехидно сморщил нос писарчук. – А кто послания к князю Шаховскому возьмется составлять? То-то, воевода Иван Исаевич. А промеж прочего, почерк у ентого немца – чудо. Я такого никогда не видал. Строчит, что печатает. Даже не верится, быдто се человек гусиным пером пишет.
– Да ну? – как всякий деловой, но неграмотный атаман, Болотников невольно испытывал уважение к грамотному и красиво пишущему человеку. – Дай глянуть… О, то и правда: чудеса, а не писарщина. Буковка к буковке – и все одинаковые. Ладно, прощаю тебя, Ермолай. Правильно сделал, что немца сохранил для нашего приказу. Теперь ты главный писарчук войска царя Димитрия Ивановича, а этот… Хвидлер… твой помощник. – И Болотников добродушно рассмеялся.
Однако положение Болотникова с его товарищами, с донскими казаками, которых возглавляли атаманы Федор Нагиба и Иван Заруцкий, было очень трудное. После того как погибло разгромленное войско князя Мосальского, дождаться подкрепления от кого бы то ни было требовалось до зарезу.
Слишком долгое ожидание «царя Димитрия Ивановича» угнетающе действовало на многих добросовестных его приверженцев. Тщетно князь Шаховской писал Молчанову в Самбор, умоляя его под именем Димитрия явиться в Путивль. Но Молчанов опасался участи Самозванца-Отрепьева и оставался в Польше, хотя перестал красить волосы в рыжий цвет и как-либо стараться быть на него похожим. Он снова отрастил свою черную бороду и стриг только голову коротко – на польский лад. Словом, он ждал, что предпримет король Сигизмунд.
Не зная, что делать дальше в своей борьбе против Шуйского именем Димитрия, Шаховской послал гонцов к другому самозванцу, «внуку» Ивана Грозного, Петру Федоровичу. Его выбрали терские казаки и хотели было присоединить к победоносному тогда «Димитрию Ивановичу» в качестве близкого родственника. Кто-то говорил подтихую, что он даже и не казак, а чей-то бывший холоп.
Но когда разнеслись слухи об убийстве боярами или поляками «настоящего», «доброго» царя Димитрия Ивановича, казаки с Терека, объединяясь частично с донскими казаками, пошли к Москве. Брали города и отдавали их на разграбление. «Царевич» Петр призвал еще запорожцев «добывать зипуны». Брали русские города не хуже татар. Стоял дикий вопль убиваемых и насилуемых жителей. Причем не обязательно это были бояре, дворяне или богатые купцы. Все центральные площади украшали виселицы, где висели трупы князей и бояр. Но могла лежать посреди улицы бедно одетая изнасилованная и задушенная девушка с посада. Или обезглавленный пьяным казаком ремесленник в луже застывшей крови.
«Его Величество царевич Петр Федорович» посылал впереди себя гонцов с грамотами, в которых для устрашения перечислял повешенных и убитых им: «Воеводу Сабурова, князя Петра Буйнусова, князя Григория Долгорукова, бояр Ефима и Матфея Бутурлиных, Алексея Плещеева, Савву Щербатова, Никиту Измайлова, Михайлу Пушкина и многих других кровопивцев, а моих изменников». И этот список настолько устрашал воевод, что они с легкостью сдавали города самозванцу. Но и те города, что не оказывали сопротивления, предавались разграблению, а люди избиению и резне.
Приблизившегося к Путивлю «царевича Петра» встретил мятежный князь Шаховской. «Царевич» был рослый, могучий мужчина с казачьими усами, золотой серьгой и золотой цепью на шее. На нем с трудом сходились борта боярского дорогого кафтана, туго перетянутого по отросшему животу парчовым поясом с саблей в золотых ножнах, усыпанных драгоценными камнями. Также разодеты были в бархатные кафтаны, вышитые жемчугом и самоцветными дробницами[69], царский атаман Бодырин, смуглый, горбоносый, с черной косой из-под бобровой шапки с золотой кистью, и молодой красивый синеглазый есаул Хмырь.
Князь Шаховской прочитал список знатных людей, казненных «царевичем» и позволил себе заметить:
– Ваше Величество, если вы лишите жизни всех воевод и бояр, то с кем станете управлять державой?
– А твое какое дело, князь? – грубо ухмыльнулся самозванец. – Я волен казнить и миловать кого захочу. Может, и тебя отправить следом за ними? – Он тяжко захохотал.
Шаховской побледнел. Угроза государя-холопа его взбесила. «Если войдем в Москву, – подумал смелый, самолюбивый князь, – я этого подлого хама обязательно убью. А если удасться занять престол, прикажу четвертовать».
Вечером, сидя при свечах над чертежами-картами Московии, князь Шаховской объяснял Петру Федоровичу обстановку. Военные перемещения, взятые и невзятые царем Шуйским города.
– Воевода Димитрия Ивановича Болотников в осаде находится, в Калуге, Ваше Величество. Дела его довольно плохи на нынешний день. – Князь ткнул пальцем в то место на чертеже, где кружком обозначалась Калуга.
– Болотников стоял уже у ворот Москвы, – сказал сердито самозванец. – Чего же он не взял ее? Сил у него вроде хватало.
– Его предали в самом начале боя рязанские предводители Ляпуновы.
– Ну вот видишь. А ты спрашиваешь, для чего я их всех вешаю? Иуды, христопрадавцы… Вешал и буду вешать. Помнишь, атаман, – обратился «Петр Федорович» к Бодырину, – как Ефросинья, дочь князя Бахтеярова, на коленях меня просила помиловать ее отца?.. А уж красива, слов нет. Темненькая, черноглазая, стройна, как тростинка… Они, Бахтеяровы-то, кажись, из крещеных татар… Словом, молит, просит… Я говорю: «Приходи ко мне в опочивальню, тогда и поговорим».
– Ну и как она? – сквозь зубы спросил Шаховской.
– Пришла. Хороша на перине-то оказалась, горяча, сладка… Ох, и отвел я душу, поиздевался над княжной, как хотел… А утром оделись, выходим из дома, а перед крыльцом ее отец смирно висит. Так эта гадючья порода вынимает откуда-то ножик наточенный и на меня – прыг… Я было опешил спросонья-то… Хорошо Хмырь рядом стоял, успел саблю выхватить да княжне голову смахнуть… Так и покатилась, ровно тыковка малая, прямо в грязь… Хо-хо-хо…
– Молодец есаул, быстро сообразил… – поощрительно сказал Шаховской. – А то достала бы Фроська Бахтеярова нашему царевичу-батюшке до горла, чтобы мы все делать-то стали бы?.. – лицемерно закручинился князь. Но «Петр Федорович» нисколько не смутился.
– Убила бы меня девка, сожгли бы ее на медленном огне. А вместо меня повел бы казаков на Москву атаман Бодырин, – спокойно пояснил он. – Лишь бы в Москву войти да всех московских бояр перевешать.
VI
Воеводы царя Василия Шуйского собрались в шатре князя Мстиславского под Калугой. Мстиславский расстроенно говорил Михайле Скопину-Шуйскому и Борису Татеву:
– Вот грамота от государя. Тебе, Михайла Васильич, велено идти под Серпухов. Усилить Ивана Шуйского твоим конным полком.
– Что ж, государю виднее кому куда идти.
– А мне сдается, князь, – желчно возразил Мстиславский, – Болотникова нужно из Калуги выкуривать, а не Серпухов укреплять.
Татев поднял брови, вздохнул, развел руками.
– Это как посмотреть. – произнес он. – Через Серпухов дорога ведет от Тулы до Москвы. В Туле изрядная армия. Царь бережется.
– Сейчас два главных воровских гнезда, – сказал Скопин, – Калуга да Тула.
За шатром послышался шум, вошел стрелец-разведчик. Доложил, что поймали «воровского» лазутчика. У него листок бумаги, донесение какое-то.
Мстиславский прочел его, еще больше обеспокоился и побледнел.
– Ну вот, к Болотникову от Тулы идет подкрепление. Навстречу им пойдут князья Татев и Черкасский с боярским полком. А ты, Михайла Васильевич, торопись в Серпухов, как царем велено.
Болотников и атаман Заруцкий наблюдали со стены за перемещением царских войск. Вскоре казаки взяли языка из лагеря Мстиславского. Он сказал, что князь Скопин ушел к Серпухову, а Татев с Черкасским на Тулу. Потом объяснил: поймали казака-лазутчика, при нем грамота. Оказывается, князь Телятевский шел на выручку Болотникову.
Боярский полк, ведомый Татевым и Черкасским, в тот же день встретил дружину Телятевского. Издали началась перестрелка. И одним из первых выстрелов через речку Пчельню убило Татева. Гибель предводителя расстроила ряды детей боярских.
А князь Телятевский уже перешел речку и, грозя саблей, кричал:
– Вперед! Руби изменников, хлопцы!
Казаки Телятевского, как обычно, с визгом и свистом бросились на боярский полк. Засверкали сабли, загремело железо о железо. Кони, хрипя и визжа от ужаса, вставали на дыбы, бросались в сторону. Люди в рубке зверели, не думая о пощаде, не рассчитывая остаться живыми, не разбирая кто-где, человек ли, конь ли перед ним. Князя Черкасского пронзили пикой, он с воплем схватился обеими руками за древко и сразу умер.
Оставшись без начальников, боярский полк бросился бежать, показав врагу тыл и тем самым воодушевляя его. Победители гнали боярский полк более трех верст, устилая дорогу трупами. Больше половины полка полегло на Пчельне. А уцелевшие, прискакавшие в лагерь под Калугой, кричали издали:
– Бечь надо! Там такая силища прет! Спасайся, братцы! Воевод убили и полполка в капусту порубали…
И тут в дружине князя Мстиславского в тот же миг распространился слух… Ясно, почему так плохо все получается… Войско-то против нас ведет природный государь Димитрий Иванович…
– А мы кому служим? За кого гибнем? За Шуйского, который хотел погубить настоящего царя? Сдаемся!
Неожиданно распахнулись крепостные ворота. Во главе с Болотниковым и Заруцким сотни казаков, размахивая саблями, вылетели из города. Помчались на лагерь Мстиславского. А из-за окоема показалась дружина-победительница князя Телятевского. И тогда полки Мстиславского стали бессовестно бросать оружие и поднимать руки. Сдавались вместе с начальниками.
Князь попытался было остановить своих воинов, крича с возмущением:
– Изменять? Государю своему? Сукины дети!
– Наш государь Димитрий Иванович! – ответили ему царские стрельцы. – А ваш – предатель и цареубийца Шуйский…
Понимая, что его сейчас возьмут в плен свои и отдадут «ворам», князь Мстиславский ударил коня плетью между ушей и поскакал вместе с Горским в Серпухов. «Старый дурак! – ругал он в душе Шуйского. – Снять конников Скопина накануне таких сражений. Ну, шелудивый пес, чтоб тебя Господь наказал!»
Примчавшись в Серпухов, Мстиславский доложил царю об измене войска, о гибели Татева и Черкасского.
– Царствие им небесное, – спокойно произнес седобородый низенький Шуйский и как-то лицемерно, наигранно перекрестился.
«Плевать тебе на всех, бараний помет», – подумал Мстиславский и отвернулся.
– Да, не справилися воеводы мои, не справилися, – словно бы рассуждая про себя, бормотал царь. – Не умеют воров побеждать…
– Может, не надо было забирать конный полк Скопина? – неуверенно спросил Мстиславский. – Тогда бы лучше получилось…
– А мне князь Скопин-Шуйский нужон будет в скорости как посаженный отец… Я ведь жениться собрался… Не знал, Федор Иванович? То-то…
Мстиславский от негодования и бессильной ярости чуть не заплакал. Опустил голову, не стал возражать царю. Сжимая кулаки, отошел в сторону.
Однако потеря под Калугой 15-тысячного войска, предавшего его, ох как сердила и волновала царя. Вот поганцы, лиходеи, изменщики… А ведь крест мне целовали…
– Все воеводы мои – кто погиб, кто драпака дал… И Мстиславский, и братцы мои… – жаловался Шуйский племяннику. – Я же под Серпуховым для Тулы войско собираю. В Туле теперя кой-то царь Петр сидит с войском, свирепый, говорят, ужасть… Сколько князей и бояр по всему севрюковскому да донскому краю перевешал, счету нет… Да еще в Стародубе очередной, значит, Димитрий вылупился. Где мне на всех них рук набрать? Ума не приложу, ей-ей. Однако в Туле и Болотников сукин сын, и все собралися. Ну, не знаю, чего мне с ними и делать-то…
– Ничего, возьмем Тулу, государь. Тогда и Стародубом займемся, – уверенно сказал Скопин, успокаивая дядю.
Однако, несмотря на все военные проигрыши и несообразности, Шуйский собрал под Тулой стотысячное войско. Русь все-таки была велика, народу для царского войска пока хватало. Царь заставил все посады и даже монастыри поставить ратников. Монастыри и посадские ремесленники пытались было отговариваться. Но царь пригрозил опалой, а в случае удачи и победы над «ворами» обещал великие милости.
Князь Скопин-Шуйский, стараясь блюсти тишину, выставляя дозоры и засады, почти крался по этому краю. Он высматривал возможные вспомогательные дружины «воров».
– Коням дать овса в торбах, седла не снимать. Выставить подале дозоры, а у лагеря сторожей. Ратникам спать вполуха, чтобы быть готовыми в любой миг.
Ночью появился гонец от его помощника Глебова.
– До Тулы дошли? – в нетерпении спросил князь.
– Нет. На реке Вороне большим отрядом казаки стоят.
– Много?
– Не мене тыщи, а может, две.
– Они вас не обнаружили еще?
– Пока нет.
– Вертайся к Глебову, пусть следит за ворами, глаз с них не спускает. А мы вскоре будем, на цыпках подкрадемся.
Конники Скопина выскочили из леса к казачьему лагерю, не готовому к сопротивлению. «Спали? Хорошо! Еще выспитесь сейчас», – думал князь и крикнул на скаку своему шурину Головину:
– Семен, отсекай им отход!
Сеча была ожесточенной. Казаки не выдержали. Отбиваясь, отступили к Туле. Потеряли много бойцов. У Скопина потери были минимальные.
К вечеру подошло с пушками и хоругвями основное войско. Узнав о случайной победе, царь обрадовался:
– Молодец, Миша. Дай нам Бог и дальше удачи, но с ходу брать город не буду. Не хочу людей даром терять. Пригодятся.
Тула была полностью окружена. Перед всеми воротами установили пушки, заряженные картечью. Войска были все время наготове.
Болотников, представлявший находившегося в Польше «Димитрия Ивановича», «царь Петр» с атаманом Болдыриным и есаулом Хмырем сидели крепко запертые в огромное воинское кольцо. Но, несмотря на тяжелое положение осажденных, к ним изредка перебегали ратники из московского войска.
В Туле к тому времени съели всех кошек, собак, голубей и ворон. Голод становился нестерпимым. Население стонало и рыдало, плакали круглосуточно маленькие дети. Казаки скрипели зубами, но лошадей все-таки не трогали. Пытались постреливать по царским войскам. Им приказано было лишь отодвинуться, одним пушкарям и конникам – быть наготове.
Иногда неожиданно выскакивали из ворот ватаги казаков, надеясь прорвать окружение. Не удавалось никак: пушки начинали беспрерывно хлестать картечью, и мало кому удавалось найти хоть малый прогал между плотно стоявшими войсками Шуйского. Конные стрельцы вылавливали всякого, кому чуть было выпала удача. Догоняли, рубили наотмашь или накидывали веревки, волокли в шатер к Мстиславскому на допрос.
– Будем ждать тебя, – сказал Болотников, видя ненадежность всех попыток пробиться, атаману Ивану Заруцкому, как самому смелому и ловкому. – Ты должен со своими хлопцами найти слабое место в окружении. За три-четыре перехода достичь Стародуба и застать там нашего царя Димитрия Ивановича. Он решит, как ему нас вызволить.
Осажденные по приказанию Болотникова усилили стрельбу из пушек по расположившемуся кругом Тулы царскому войску. Однажды одно из «воровских» ядер почти докатилось до шатра Шуйского. Царь встревожился за драгоценную свою жизнь. Велел отодвинуться от стены на более безопасное расстояние.
Тем временем, смазав маслом петли городских ворот, обвязав сеном копыта коней, сабли и всякие металлические части пищалей и пистолей, Заруцкий среди ночи пробирался, держась края чуть поредевших в иных местах стотысячных войск.
– Кто идет? Стой! – кричали ему в темноте начальники караулов.
– Вызваны к ставке государя Василия Ивановича. Есаул Заруцкий с малым отрядом.
Хоть и заметили его стрелецкие дозоры, но, по счастливому случаю, приняли за своего.
Словом, прошла неделя. Терпению голодающих в Туле настал конец. Казаки стали есть коней, тем более, что кормить их было нечем.
И все-таки осажденные еще сопротивлялись, ожидая своего долгожданного «Димитрия Ивановича». В общем-то, сидели, как в запаянном котле, казаки терские, донские и прочие пестрые ополчения, и предавшие Шуйского стрельцы. А с ними Болотников, ставший среди «воров» большим воеводой, и Лжепетр, вешатель и кровопивец редкостный, и упорный ненавистник Шуйского путивльский князь Шаховской. Да еще были слухи: якобы князь Телятевский бился с ратниками Шуйского до отчаянного изнеможения, пока не скрылся с остатками от своего четырехтысячного воинства. А еще говорили, будто Телятевский во время сражения перешел на сторону Шуйского и тем решил дело в его пользу.
Не знали что и думать. Продолжали рати Шуйского стоять вокруг Тулы. В Туле же простые воины и казаки уже ели лошадей, однако ни за что не сдавались. Еще явилась и распространилась молва будто город Стародуб, хоть и занял «Димитрий Иванович» с какими-то поляками пана Меховецкого и с мозырским хорунжим, литовским начальником Будзило, но собрали они дружину столь малочисленную, что идти освобождать Тулу никак не в состоянии.
Стояли, смотрели со стен. Другие упорно окружали стены упрямого города. И те, и другие постреливали друг в друга ядрами и картечью. Русская смута была в разгаре, ненавидели и стреляли, захлебываясь от ненависти. Даже к крымским татарам, полякам и немцам такой злобы не питали.
И вот тут среди полка Михайлы Васильевича Скопина-Шуйского явился некий человечек низкого росту. Однако повадка бойкая, глаза ясные, шустрые, движения скорые. Явился сначала к Михайле Скопину, рассказал, как за несколько дней – самое большее за неделю, – заставить осажденных смириться. Назвался муромским боярским сыном Кравковым. Предложил Кравков запрудить речку Упу и, затопив Тулу, принудить воров сдаться всенепременно.
Сначала смеялся Михайло Васильевич Скопин. Отмахивался: «Да ну тебя… Тут такие дела… Столько народу положили, а конца нет… А ты с какой-то запрудой…» Потом перестал смеяться, подробно расспросил, что именно эдакое Кравков обещает.
Пошел Скопин к царю, рассказал. Царь и бояре смеялись. Скопин привел пред очи Василия Ивановича Шуйского низенького шустрого Кравкова. Тот опять объяснял подробно уже царю: «Пусть каждый ратник набьет землей один мешок и сбросит в указанном месте в речку. А я нарежу длинных лозин, кору счищу, чтобы лучше видать было. И по несколько разов на день буду бегать – измерять: подымается вода али нет. Государь, Упа выйдет из берегов и зальет город. Деваться некуда ворам будет. Сдадутся они под твою волю, государь. Да разрази мя Бог!»
– Один мешок земли сбросить? – переспросил царь.
– В указанном мной месте. И кажный ратник без промашек.
– Значит, кажный ратник один мешок земли?
– Верно, государь. Зальем Тулу до крыш. Никуда не денутся.
– Позволь, Василий Иванович. Пусть Фома Кравков мерит свои лозины. А ратники пусть мешки с землей бросают.
– Возьмешься за это дурацкое дело?
– Возьмусь, – сказал решительно князь Скопин-Шуйский.
– Ладно. Но если выйдет смехота, я этому… эй, ты где?
– Тута я, Ваше Величество.
– Как тебя? Фома? Так вот, Фома Кравков, если зря устроишь суету, я прикажу всыпать тебе сотню плетей.
– Слушаюсь, Ваше Величество, сотню плетей, – сияя от счастья, повторил Кравков.
В тот же день князь Скопин-Шуйский разослал по полкам приказ государя: «Каждому воину всяких званий насыпать мешок земли, принести к реке и свалить туда, куда укажет муромский сын боярский Фома Кравков».
К вечеру плотина была готова. Кравков указывал всем и подгонял опоздавших. Весь промок, перемазался, клацал зубами. Но товарищи принесли ему полушубок и, хоть посмеивались, но посматривали на него – одни с уважением, другие с сочувствием… ведь если что не так пойдет… сто плетей… охо-хошеньки…
– Вода прибывает, князь Михайла Васильевич, – сообщил Кравков через два дня, прибежав к шатру Скопина.
– Когда подтопим Тулу? – спросил князь.
– Я думаю, через два-три дня.
– Ну, ну… поглядим.
– Пущай полки готовятся окружать сдающихся, – вдруг уверенно и даже с оттенком надменности посоветовал князю Кравков. Скопин поспешил к царю. Совещались уже серьезно.
Через неделю туляки полезли на крыши. Начали связывать плоты. Вынимать из сараев челноки. Город стал погружаться в мутные воды обычно совсем нестрашной Упы.
А к шатру Шуйского прискакал посланец с белым прапором на копье.
– Государь, меня послали воеводы и царь Петр для переговоров.
– Сколько раз отказывались, когда я предлагал, – усмехнулся Шуйский. – А нынче, видать, приперло. Что ж за причина?
– Голод, государь. Да еще вот водой затопило.
Первым из ворот Тулы выехал Болотников, за ним «царь Петр» со своими ближними – атаманом Бодыриным и есаулом Хмырем. Понурый и бледный выехал князь Шаховской. Некоторые предатели – полголовы стрелецкие, известные по войску пушкари. Остальные хлынули казаки, стрельцы, вольные ратники, смерды. Они отдавали оружие и шли под охраной в предназначенные для них места. Некоторые в тюрьмы, другие в ссылку или на поселение в удаленную местность.
В страшное время Смуты, всеобщего несогласия, беспокойства, разнузданности и преступности, человек, подобный Болотникову, не понимавший истинного положения в государстве, мог думать, что исполняет свой долг перед отчиной, народом и миропомазанным монархом. Он верно служил тому, кого считал истинным царем, кому начал служить с самого начала. Иные считали и Шуйского, и Лжедимитрия одинаково незаконными, а вместе с тем уравнивали свои отношения к ним, считая себя вправе переходить от одного к другому.
Все это военное движение, конечно, имело под собой разбойничью основу: грабежи и казни тех, кого тот или иной главарь считал «кровопийцей», то есть злостным притеснителем мизинного народа. Но часто страдало и обычное население, когда какой-нибудь город после взятия или даже добровольной сдачи отдавали на «поток и разграбление». При вторжении в захваченный город или село вся эта якобы воюющая за «царя Димитрия» вольница вела себя не лучше, чем крымские татары во время очередного набега. Особенно свирепствовали казаки – и донские, и запорожские, словно не считая русских мирян единоверующими православными христианами и единокровными братьями.
Итак, приехав к ставке царя, Болотников снял саблю, положил ее себе на затылок и опустился на колени.
– Государь, прикажи рубить мою голову или дай слово молвить, – произнес Болотников и склонил голову до земли.
– Говори, – разрешил Шуйский.
– Я честно служил Димитрию Ивановичу, как только встретился с ним в Самборе, в Литве.
– Ты, атаман Болотников, встретился в Литве не с царевичем Димитрием, который много лет назад почил в Бозе, будучи ребенком. Ты встретился с самозванцем Мишкой Молчановым, который выдал себя за другого Лжедимитрия – Гришку Отрепьева, еретика и злодея, которого убил народ в Москве. А Мишка говорил всем, будто он спасся и хочет вернуться на трон, мол, с помощью польского короля.
– Я не знал, государь, что он обманщик. Я верил ему, но теперь я вижу, что могу отказаться от своей роты[70]. Я, государь, готов честно служить тебе.
– Сам знаешь, атаман, повинную голову меч не сечет. Сего старого правила я не нарушу. Оставь себе саблю, пока Дума не решит твою участь.
– А ты, князь, тоже верил истинному царю Димитрию Ивановичу? – насмешливо спросил Шаховского Василий Иванович. – Или уж так не хотелось кланяться другому «рюриковичу» Шуйскому, что решил стать одним из главарей воров. А? Что скажешь?
Князь Шаховской молча отвернулся. Даже при таком рискованном для него испытании он не мог превозмочь злости и зависти к Шуйскому. И тот столь определенное чувствованье вполне понимал, не особенно и осуждал. Была эта обычная княжеская распря и борьба за престол.
На «царя Петра» Шуйский посмотрел холодно и покачал головой.
– Многих же моих служилых людей и родовитых потомков правителей Руси ты перевешал, как собак, беглый холоп.
– Я внук царя Ивана, сын Федора Ивановича… я сам царской крови, – нагло заявил «царь Петр» и надул почему-то небритые щеки. Одет он был сейчас в простой казачий чекмень. Его сподвижники тоже.
– У государя Федора Ивановича была одна только дочь, да и она померла в детском возрасте. Так что внуков у него никак не могло сыскаться. Так-то вот. И чего так скудновато ты нонче одетый, прямо глаз приласкать нечем. А говорят, и ты сам, удалец-молодец, и твои близкие робята-вешатели любили с чужого плеча шитые золотом кафтаны да ферязи напяливать, ась? Где ж оно все?
– Сейчас щегольское обранство ни к чему, – неожиданно поскучнел «царь Петр».
– Что верно, то верно, удалец-молодец. Под перекладиной-то особо роскошничать ни к чему. Под крепкий караул их, – обратился Шуйский к стрелецкому начальнику. – Головой отвечаешь.
Шуйский с торжеством возвратился в Москву, словно после завоевания сопредельного царства. Надо признать, этот поход Шуйского был важнее завоевания многих царств. Захват и поражение крепко спаянных и хорошо вооруженных отрядов Болотникова было большой поддержкой для наведения порядка в стране и для успокоения народа. Но этот действительно значительный подвиг остался неконченым, а потому и оказался бесполезен.
Главари же долгой кровавой междоусобной войны были приговорены к наказанию таким образом.
«Царь Петр Федорович», настоящего имени которого так никто и не смог от него добиться, как и его сотоварищи атаман Бодырин и есаул Хмырь, были повешены в Москве, посреди Красной площади. «Царь Петр», на этот раз в посконных портках и рубахе да босиком, вел себя спокойно, с большим достоинством. Он отвернулся от крестоцелования, не кланялся народу и вообще ни к кому не обращался. Сказал только, будто себе самому: «Ишь солнышко проглянуло середь туч… Видать, сегодня дожжа не будет».
Так же примерно держался Бодырин, хмуро посматривая черными глазами с презрением ко всему, что его окружало. Только молодой, синеглазый красавец есаул Хмырь дрожал, беспрестанно молился, истово целовал крест у священника и его руку, просил о чем-то палача, а уже с петлею на шее крикнул сдавленным голосом: «Прости, народ православный!»
Князь Телятевский то ли погиб в последнем сражении, то ли и правда перешел на сторону Шуйского. Тот его помиловал, но тайно и далеко куда-то упрятал. Князя Шаховского, «всей крови заводчика», по выражению летописцев, сослали на Кубенское озеро в пустынь, под очень строгий монашеский присмотр в отдаленном угрюмом месте. Для того, по-видимому, чтобы замаливал грехи свои.
Ивана Исаевича Болотникова сослали в Каргополь, отдаленный, укрепленный северный городок. Там о нем знали, но относились без издевок и поношений. Наоборот, даже с некоторым уважением. Во время долгого пути везли его в обшарпанном холодном возке, в цепях. На редких остановках Болотников замечал, что за ним на небольшом расстоянии следует такой же возок, запряженный одной чахлой лошадью.
По приезде в Каргополь, Болотникова поместили в подземную тюрьму и цепей не снимали. Скоро он с удивлением убедился: к нему привели и также приковали цепями соседа. Им оказался Каспар Фидлер. Тот самый кукуйский немец, которого Шуйский послал к нему с отравой.
Теперь скованные цепями они оказались в одном холодном подвале.
– Как думаешь, Каспар? Долго нас здесь продержат? – спросил Болотников Фидлера, как человека по письменным делам бывавшего при дворе и знавшего лично царя.
– Думаю, скоро казнят, – ответил со вздохом Фидлер. – Такое нередко устраивает хитрый старик Шуйский. Сперва жизнь будто оставит для слуха о его доброте. Сошлет куда-нибудь в захолустье, а воеводе тутошнему листок: поступить с преступником так-то и так-то: удушить, утопить, отравить или уморить голодом… Меня вот чего-то задержали. Видать, царь сперва обо мне призабыл. Да кто-то при розыске из твоих атаманов или слуг вспомнил…
– Может, Ермолай-писарчук?
– Возможно. «Кто письма “прелестные” писал?» И на дыбу. «Ты писал?» – «Я». – «А еще кто?» – «Немец Каспарка Фидлер». – «Как, он здесь?» И все. Царь велел меня на воду посадить да не просто. Четыре раза окунуть да достать… Только на пятый отпустить. Вот уж нахлебаюсь перед смертью досыта… – Фидлер невесело засмеялся. – Ну да мы с тобой, Иван Исаевич, люди отчаянные, могли для себя всякого ожидать… вот и дождались.
– А Ермолай-то где? Ты говоришь, по нему тоже сыск был?
– Ну как же. Стали старших опрашивать – атаманов, есаулов и прочих… Давай, кто близко, имать… и Ермолку схватили. Тебя он, конечно, обсказал и меня выдал, не выдержал… На дыбе душу Богу и отдал…
– Так-то по-людски думая… Сидючи в темноте, в цепях, да казни ожидая… Может, не самой лютой, но мокрой и холодной… Чумные мы с тобой людишки, Каспар! Куда полезли? Зачем? Это уж бес такой в душе нашей сидит и покою нам не дает… Заметными пожелали стать, людьми повелевать, а то – справедливость отстаивать… Настоящего царя на престол вернуть… Да к чему? Будет ли следующий-то царь милостивее, лучше прежнего? И когда такое бывало, чтобы цари, короли да князья к мизинному люду снисходили в доброте, законности, справедливости? Тьма одна и тьмой бесконечной покрыта земля наша. Ты-то чего полез царю гнилохвостому Шуйскому такую услугу гадкую оказывать – травить человека… А потом впопыхах вздумал весь замысел свой раскрыть… Кто тебя поймет? Хотел от царя кошелек серебра получить? Дальше што? Получил уже?
– Да говорю я, Иван, попросту: сдурил… Последние эти наши разговоры… Не стал бы благодарить меня Шуйский, даже если бы я тебя отравил… Так же любого похвалил бы сначала, а вдругорядь куда-нибудь упек да погубил… Бежать надо было отсюда, получив деньги, в Польшу куда-нибудь или еще подалее…
Помолчали в темноте, повздыхали, подумали.
– Я, знаешь ли, как меня от галеры выкупили… у турок?..
– А кто тебя выкупил, Иван Исаевич?
– Русские православные купцы. Сначала себя выкупили, а потом меня заодно…
– Ох, что-то не очень мне верится, что купцы просто так выкупят человека из рабства… Пусть и православного…
– Вот нашлись такие, сердобольные да тароватые. Слушай дальше. Привезли меня во Фряжскую страну, теплую, красивую… Море лазоревое плещет, церкви белые стоят на островах, а островов тех боле полусотни и все соединины каменными крутыми мостами. Кругом девицы миловидные гуляют в нарядах свободных… Вот и у меня там в Веденце-граде или называют его еще Венецея… Девушка нежная обрелась, Нинетта звали… Познакомились мы с нею на набережной морской, а набережная зовется Скьявони… Славянская, с их наречия ежли перетолмачить… А по Скьявони энтой славяне-далматинцы гуляют, себя в гребцы предлагают… Хлопцы сильные, рослые, приветливые… Я, справедливости ради, чуть не ополоумел сперва – как, думаю, в гребцы? В рабство? А у них другие гребцы на военных галерах. Работа тяжелая, но никто их не бьет, они свое дело знают… А за сие трудное дело – гребение на военной галере Венецейской страны – большие деньги тем долматинцам правители платят… Галеры-то принадлежат не злющему да алчному хозяину, а совету городскому. Потому и я поначалу решил наняться гребцом, да уж больно неприятно весло и цепи было вспоминать… Когда же научился понимать на фряжском-то, подошли ко мне тамошние люди и говорят: перенимай ремесло стеклодува. За хорошие стеклянные вещи станешь и почтенным, и состоятельным. Только веру латинскую прими, иначе нельзя. Ну, тут вспомнил я о родной сторонушке, о церкви православной…
– Ох, уж будто бы?.. – злым голосом перебил Фидлер. – Тут-то все друг другу крест целуют как раз плюнуть. Сперва Борисову сыну Федору и Дума, и народ целовали. Потом явился Димитрий Иванович из расстриг беглых, пришел с поляками да с боярами-предателями… И ему князья, думцы, народ православный снова давай крест целовать…
– А того? Чего же?
– Кого, Федора-то? Удушили вместе с матерью его. А душил тот бывший опричник Мишка Молчанов, который тебе в Самборе спасенным царем предстал… И ему ты на той его лже крест целовал. А первому Димитрию Ивановичу пулю свинцовую влепили да на лицо маску-харю мерзкую надели. Я это своими глазами видел. И тогда стала Дума, стрельцы и народ Шуйскому крест целовать… Мало?
– Ну, не все же Шуйскому крест целовали…
– Не все. Вот и случились на Москве смута, распря да мясорубка… И мы с тобой, Иван, по собственной глупости и, понадеявшись на удачу, в ту распрю попали… Теперь Шуйский с нами расправится. Не с поклонами да покаянными речами к Шуйскому идти нужно, не саблю перед его безжалостными клыками выкладывать…
– А что? Куда деваться?
– Переодевать одежду надо было, менять на мужицкое, самое посконное… и где поглубже в подпол…
– Там же вода, – напомнил Болотников.
– Значит, в челнок какой ни то… да огородами, сторонкой… Когда стали казаков выводить, попробовали бы улепетнуть… А ты – ворота настежь и саблю поперек свово горла да к Шуйскому кланяться… Мыслишь – простил? Никогда сей ворон зловонный тебе, смерду, не простит… И не надейся! Был бы ты князь или боярин, тогда простил бы… Вон Шаховского сослали и, думаю, не утопят. Светает, что ли? У, гремят бердышами… За мной пришли. Ты скорым делом тоже поплывешь.
– Может, встретимся с тобою, Каспар? Мы грешники… так хоть в аду…
– Ни в каком аду, Иван… Нигде мы не встретимся боле, прощай. Раньше соображать-мекать надо было…
Вошли четверо стрельцов, пятый с факелом. Ярыга хромой, задрипанный, достал бумажку трубочкой. Развернул, прочел сипато, по-утреннему:
– Немец… Ка…спар Хвиделер тута? Здесь. Берите его, ратники. Ведите его, по царскому указу, в реке мырять. На вервии держите крепко. Четыре раза чтобы живого вытянули, а пятый насовсем, хе… хе…
Ночью Болотников вздрогнул от стука подкованных сапог. Дверца низкая ржаво заскрипела. Опять факел, стража, ярыга с грамотой.
– По указу великого государя велено ослепить бунтовщика злостного Ваньку Болотникова на оба глаза…
– Выжигать будете? – спросил Болотников.
– Не, Иван Исаевич, – ухмыльнулся кат. – Легонько шильцем в зрак, в самую середку. Ты только не дергайся, а то больнее будет.
С двух сторон взяли бывшего воеводу под руки, факел приблизили к лицу. Острая боль дважды, и горящий факел пропал. А по щекам потекли обильно слезы и кровь. Застонал Болотников, проклиная жизнь свою боевую геройскую. Опустили его на солому.
– Отдыхай, – говорит ярыга, – пока.
Прошло еще две недели. Уж думалось: может, оставят жить хоть слепым. Побрел бы с поводырем от церкви к церкви, от села до села… Вроде бы воду приносят, хлеб, квас даже. Через день кашу с конопляным маслом Так что – жить буду или нет?
Застучали по сбитым ступеням шаги. Не еду несут. Тут другое. Ну что ж, молись, Иван. «Прости, Господи, грехи раба твоего, вольные и невольные».
Вошли, стоят и молчат. Слух о Болотникове среди простых ратников хороший. Ярыга пробормотал: … «по указу… за злостные его преступления… посадить на воду…»
– Пошли, Иван Исаевич, – сказал начальник караула. – Кончилось твое время.
– Иду, иду. Помогите подняться, я готов.
– Попа звать? – ярыга просипел. – Положено воще-то.
– Обойдусь, – даже усмехнулся Болотников. – Чего попов беспокоить? И так справимся. Мне мырять един раз?
– Един, един, – заговорили смущенно стрельцы. – Без всякой задержки. Царский указ верный. То прошлый был… с немцем-то… Во намыкались. Аж его жалко стало. Цельный час топили.
Поддерживали атамана под руки, когда шли к реке. Снежок выпал недавно. Река чуть взялась тонким ледком. У берега для удобства утопления плот приколочен.
– Вы, робята, как дойдем, меня в воду-то не толкайте. Поставьте на край и – все. А дальше я сам, – сказал казнимый бунтовщик.
– Добро, делай как знаешь. Мы те не повредим, – обещал караульный начальник.
И тут Болотников вспомнил, как пела голубоглазая, чернокудрая веселая Нинетта в Венецее. Эх, жаль ее боле не увидать…
– Пошто ты поешь чой-то тако не по-нашему? – удивился его пению ратник.
– Се во Фряжской земле я слыхал от девицы одной…
– Ишь ты… Ну вот, пришли. Стоишь у самого края.
– Дай вам Бог, робята… – Тут Болотников выдохнул воздух, подпрыгнул и колом пошел в глубь реки. Только несколько мелких пузырьков появились в черной полынье…
Постояли стрельцы у реки, посмотрели в полынью. Оглянулись на побелевший Каргополь.
– Ну, теперя наш Иван Исаевич идет глубью, река тута шустрая до самого озера Лачи… – Вроде пригорюнились слегка, пошли на службу.
* * *
Двое путешественников, приехавших в Каргополь в закрытых санях, похожи были на иноземцев, что появлялись изредка по меховому промыслу: нельзя ли купить белку, лисицу красную и бурую?.. Может быть, куницу? Про соболя спрашивать боялись, – царский запрет. Ну, приехали, остановились на время. Перекусили у вдовы одной, которая стол держала для приезжающих. Да зачем-то послали к тюрьме возчика своего – поспрашать про сидельцев. А стражники все и рассказали.
Были, мол, в подвале-то важные птицы: немец один и воевода воровской Болотников. Немца-то давно уж на воду посадили, а Болотникова сперва ослепили по указу самого царя, а спустя две недели, вчера только, ранним утречком ушел и Иван Исаевич Болотников насовсем, тоже водой.
Когда иноземцы узнали такое, головами покачали, перекрестилися всей ладонью – да не на правую, а на левую сторону – и отбыли из Каргополя в неизвестном направлении.
Ехали припорошенной уже, основательно занесенной молодым снегом дорогой и говорили на непонятном наречии. Если же перевести, то получался такой странноватый смысл.
– Наша вина, падре Луччино Собинетти. Мы не обеспокоились заранее освободить мессера Джованни… Это вполне возможно было осуществить, подкупив стрельцов и даже какого-нибудь их начальника.
– Но они очень страшатся гнева… как они говорят «опалы» царя Шуйского.
– Вздор. Сейчас в Московии такая «ропша», если изъясняться по-польски, такая неразбериха, что хорошие деньги – несколько сот, ну, тысяча рублей – заставили бы их позабыть свой долг и даже царскую расправу. Придумали бы запутанную историю и помогли создать условия для побега. А вместо Джованни выслали бы в Каргополь другого человека и побыстрее его казнили. Здесь такие замены нередки. Э… не сумели забрать такого нужного удачливого предводителя, падре Луччино…
– Признаюсь, я впал в некоторую беспечность, когда мессер Джованни вот-вот должен был взять Москву и схватить Шуйского. Виноват мерзавец Молчанов. Джованни поверил, что он появится вблизи Москвы… О, тогда весь народ, все войско бросилось бы за Димитрием Ивановичем, то есть за Молчановым… С Шуйским было бы покончено в одно мгновение. И Джованни, и князь Шаховской умоляли его, писали одно письмо за другим… Но этот трус и обманщик только обещал.
– Он еще ответит за это, – мрачно предрек тот, кого называли падре Луччино.
– А ведь уже возник новый Димитрий Иванович… Чей он человек? Кто он? И с кем нам придется соперничать для того, чтобы выставить в свет своего претендента на московский престол? И кого предложить? Королевича Владислава? О, это очень ненадежно.
Часть третья
I
Изгнанный при Самозванце, престарелый патриарх Иов приехал в Москву в царской каптане, обитой изнутри соболями. Там, откуда он возвратился, была земля, покрытая болотами, мхами, овеянная жестокими ветрами льдистых морей, а здесь житная хорошо мощенная улица. Остановился он со всякими льготами и почестями на Троицком подворье.
А вскоре два патриарха с архиереями сочинили грамоту, обращенную к православному народу.
«Царь Иван Васильевич, – говорилось в грамоте, – повелел царствовать сыну своему Федору Ивановичу, а второму сыну своему, царевичу Димитрию Ивановичу, дал в удел город Углич. Но царевича Димитрия в Угличе не стало – принял бо заклание неповинное от рук изменников своих. По отшествии к Богу царя Федора Ивановича люди всего Московского государства целовали крест царю Борису Федоровичу.
Во времена царства его огнедыхательный диавол, лукавый змей, поядатель душ человеческих воздвиг на нас чернеца Гришку Отрепьева. Когда же царя Бориса Федоровича не стало, православные целовали крест сыну его, Федору Борисовичу. Но расстрига прельстил людей именем царевича Димитрия Ивановича, якобы живым оставшимся.
Не зная о нем подлинно, православные христиане приняли этого вора на Российское государство, а царицу Марью и царевича Федора злою смертью уморили. Множество народа вошло в соборную церковь с оружием во время божественного пения и меня, Иова патриарха, взяли и позорили многими позорами, а подобие Христова тела, Богородицы и архангелов, что приготовлено было для плащаницы, раздробили, воткнули на копья, на рогатины и носили по городу, оскаляясь, позабывши страх Божий.
Потом враг расстрига приехал в Москву с люторами[71], ляхами и римлянами, с прочими оскверненными языками и, назвавши себя царем, владел ею мало не год. И каких только злых бед не сделал и какого насилия не учинил – описать неудобно: церкви христианские осквернил, привез из Литовской земли невесту люторской веры[72], венчал ее царским венцом и святым миром помазал».
Далее грамота содержала то обстоятельство, что Бог, видя достояние свое в такой погибели, воздвиг на него обличителя, «воистину святого и праведного царя Василия Ивановича», а он был избран на Российское государство, потому что «суть от корени прежде бывших государей, от благоверного великого князя Александра Ярославича Невского».
Однако грамота иерархов отмечает, что Сатана восстановил плевелы зол.
«Собрались Северской Украйны севрюки и других рязанских и украинских городов стрельцы, казаки, разбойники, воры и беглые холопы, прельстили преждеомраченную безумием Северскую Украйну. И от нее многие города прельстились, и кровь православных христиан проливается, как вода, и называют мертвого злодея расстригу живым, а нам и вам всем православным христианам смерть его подлинно известна».
* * *
В заключении патриаршей грамоты прощались православным их многократные крестоцелования занимавшим престол (включая и Лжедимитрия Гришку Отрепьева). А по указу государя созвали в Успенский собор многих людей посадских, мастеровых и всяких прочих, а также стрельцов и других ратных людей, и купцов, и богатых московских гостей. Выслушав грамоту, все они просили устно о прощении содеянных за минувшие годы грехов и подали челобитную о том же. Словом, православные москвитяне радовались и даже плакали, благодаря о прощении. И хотя распространилась молва будто народ радовался, что получил разрешение от патриарха, но радость эта была непродолжительна. Ибо через несколько дней понесся по городу ужасный слух.
Сторожа, караулившие ночью на паперти Архангельского собора, то есть в месте, где захоронены гробы царствовавших царей и цариц, подтихую рассказали. В ту же ночь, после чтения народу святой грамоты прощения патриарха, возникли возле запертого, погруженного во тьму собора странные фигуры.
Спустились они сверху, из-за подсвеченных месяцем черных туч. Даже в ночной мгле видно было, что лица у них бледнее снега, тела окутаны одеждами сумрачными и видны пепельного цвета большие крылья. Существа эти стали ходить вокруг собора, а некоторые взлетали временами к самым куполам и присаживались там на выступы капителей. Затем крылатые фигуры исчезли, но оставили на снегу следы, похожие на людские. Засвидетельствовал некий святой провидец, что сии были Ангелы Печали.
Сторожа едва перевели дух со страху, как неожиданно в соборе послышались мужские, женские и детские голоса. Собор осветился, будто одновременно зажгли множество свечей. Говор стал оживленнее, как при спорах, раздался даже смех, а потом плач. Завыл женский голос, причитая подобно причитаниям на похоронах. Но вскоре все умолкли, кроме одного толстого, то есть низкого, басистого голоса, который беспрестанно читал заупокойное «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас…» Освещение чудодейственное померкло, а голос, читавший заупокойное, стих к утру, когда от Замоскворечья начали кукарекать по сараям стрелецкие петухи…
Еще при осаде Тулы до царского шатра докатилась тревожная весть: в Стародубе якобы тоже засел воровской отряд, да там же объявился новой «царь Димитрий Иванович». И это не был сидевший в польском Самборе Михалка Молчанов, которого воры звали и в Путивль, и в Калугу, и в Тулу. Но тот так никуда и не приехал. Новый самозванец оказался совершенно неизвестным человеком.
О нем передавали самые разные сведения. Одни клялись, будто это сын князя Курбского, бежавшего в Литву еще при Иване Грозном. Иные утверждали: это попович из Москвы, от церкви Знаменья на Арбате, либо учитель из города Сокола, либо царский дьяк, либо попов же сын из Северской Украйны.
Лазутчики Шуйского пытались расспрашивать бывалых местных людей о самозванце. Однако получали ответ такого рода: мол, внешним видом «Димитрий Иванович» не похож на того, которого видели прежде, но он грамотный, сообразительный и в Священном Писании знаток. Последнее вызывает догадку о его духовном звании. Из поступков же видно, что это человек, вполне освоившийся со своим положением и дерзко использующий обстоятельства, в которые попал.
Страна разорена, идут ратные столкновения между войском царя и отрядами его противников. Кругом шайки разбойников, грабивших слобожан, купцов, дворян и вплоть до калик перехожих, лишь бы возможно было хоть что-нибудь отнять. А сторонкой – от села к селу – пробираются нищие, беглые монахи-расстриги и беглые холопы. Словом, шатаются «меж двор» всякие бездомные, гулящие люди.
К таким, не имевшим ни дома, ни хозяйства, даже угла для ночевки, причислялся и некто Григорий Кашинец. Присоединился к нему еще один бродяга – бывший московский подьячий Александр Рукин. Брели, крались задами деревень, воровали кур, пытались рыбу ловить в реке мешком или вершью. Однажды лошадь хотели увести – неудачно вышло. Да и дело опасное. За лошадь, если местные мужики поймают, могут забить насмерть.
Сумели уволочь как-то гусыню: клюв зажали, не дали ей звонко заскрипеть. Крылья смяли, сунули добычу под зипун[73] и, озираясь, убежали в лес. Там развели костер, свернули гусыне голову, ощипали, выпотрошили, изжарили в каленой золе. Пир устроили на славу. Жалели только, что нету хлеба и хмельного: водки, медовухи, хотя бы браги.
После долго отдыхали, радуясь сытному ужину. А на другой день подошли к большому селению, похожему на городок. И звалось селение Чечерск. Это по понятию чечерских жителей, считалась Белая Русь, а порядки тут были польские. Ездить отсюда в Литву или Польшу никто не мешал. Но с царством Шуйского местные власти находились во вражде.
Оставил Кашинец Рукина за околицей, в кустах. Сам же, зорко поглядывая, опираясь на суковатый посох, притворно заковылял по главной улице. Дома были приглядные, огороды ухоженные. Из-за плетней тут и там мычали молодыми дьяконами телята, слышался обильно поросячий визг. А, главное, в кучах мусора копались во главе с петухом разноцветные куры. Кашинец все это примечал на случай нечаянной добычи.
Внезапно на его плечо властно опустилась дюжая ручища.
– Стой! Кто таков? Московитский лазутчик?
Со страху Кашинец лишился голоса, едва пробормотав:
– Никакой я не лазутчик…
– А кто же ты?
– Просто прохожий… путник…
– Вот сейчас узнаем, шо ты за путник такой.
Урядник Рагоза, здоровенный детина с бердышом потащил бледного Кашинца к избе, где восседал за столом представительный староста Зенович.
Узнав, что урядник в который раз привел к нему «лазутчика» Шуйского, Зенович поморщился:
– Что он мог высмотреть у нас в Чечерске?
Пока его толкали к старостатской избе, Кашинец избавился от страха и придумал очень обстоятельный ответ.
– Кто ты? И что делал в наших местах? Может быть, требуется поднять тебя на дыбу и всыпать плетей?
Вопрос пана Зеновича звучал грозно. Кашинец с трудом удержал на своем лице усталое, грустное и спокойное выражение.
– Я родственник царевича Димитрия, панове. Меня зовут Андрей Андреевич Нагой. Мне пришлось бежать из Москвы всего с одним слугой. Шуйский преследует всю нашу семью. Мне ничего не оставалось, как…
– Ваш слуга, пан Нагой, находится с вами?
– Я оставил его за селом подождать, пока я сниму какое-нибудь жилье. Вообще я пробираюсь в Стародуб. Там Димитрий назначил мне встречу. Там же место для сбора войска, которое он поведет на Москву. К сожалению, нас ограбила в пути шайка разбойников. Отобрали одежду, лошадей, деньги и оружие. Их было слишком много. Хорошо хоть оставили жизнь.
Ответ Кашинца привел старосту в совершенный восторг.
Пан Зенович послал урядника Рагозу принести для пана Нагого свой собственный запасной кунтуш: «хоть и не новый, но вполне приличный». Кроме того, он тотчас предложил «пану Нагому со слугой» подводу до Стародуба, однако вооруженную охрану не обещал.
Таким образом Кашинец с Александром Рукиным, которому он быстро объяснил их положение, свирепо приказав называть себя господином, иначе… Как человек сообразительный, Рукин понял, что только предлагаемый розыгрыш может их спасти.
Прожив недолго в Стародубе, мнимый родственник «Димитрия Ивановича» послал своего товарища Рукина по северским городам разглашать, что царь Димитрий жив, скрывается от лазутчиков и убийц Шуйского и находится в Стародубе. Эта благая весть, разносимая Рукиным, бесперебойно кормила его в дороге. Так же старался создать и Кашинцу хороший стол и прочие условия староста Стародуба.
В разных местах, а особенно в Путивле (хоть и без своего мятежного воеводы князя Шаховского), собралась немалая группа местных детей боярских с челядинцами, потребовавшая от Рукина, чтобы он показал им царя Димитрия. Шаховской уже сидел к тому времени в осажденной Туле.
– Да гляди, – сказали путивляне Рукину, – если лжу мовишь, не миновать тебе пытки. Так и знай, молодец.
Рукин содрогнулся, однако уклониться было нельзя. Его усадили в оставшуюся в Путивле княжескую карету, запряженную тройкой, и помчались. В Стародубе он привел путивлян и многих присоединившихся стародубцев, собрав их у жилища.
– Он там… – простонал Рукин и указал на дом.
Кашинец вышел на крыльцо, стараясь соблюсти важный вид и опираясь на палку, будто на царский посох. Он еще не вполне сообразил, кого ему следует изображать: родственника царя Нагого или… Этого он окончательно еще не решил.
Хорунжий, приехавший из Путивля, мужчина решительный и, по-видимому, жестокий, спросил у старосты:
– Этот, что ль, царь?
– Какой царь? – не понял староста Бугрин.
– Ты что ж, вздумал нас обманывать, сукин сын? – разозлился хорунжий из Путивля и бросился на Рукина, а заодно и на стародубского старосту Бугрина. – Обманывать?
Сбитые с толку стародубцы прихлынули к крыльцу. Взметнулись дубинки, блеснула сабля… Оставались мгновения, чтобы решиться.
– Ах вы, б… дети! – возмущенно вознес свой голос Кашинец и грозно стукнул палкой об пол. – Меня не признавать? Я государь!
Толпа повалилась на колени. Находящиеся вблизи от крыльца ползли к ногам.
– Виноваты перед тобою, государь! Прости!
– Прощаю, отдаю вам вину, дети мои.
Путивльский хорунжий, видя что царь нашелся, убрал саблю в ножны, протолкнулся к государю, поклонился бойко:
– Ваше Величество, соблаговолите ехать с нами в Путивль. Наш воевода в отлучке, воюет с Шуйским, но для вас все приготовлено заранее.
– Нет, государь у нас останется! – протестовали местные.
– Верно, дети мои, я останусь с вами, – милостиво произнес Кашинец. – Мне нужно войско собирать. Деньги нужны, оружие, табун хороший для конницы. Хорунжий, если увидишь князя, передай: я жду его под свою руку с ратными людьми. Вместе пойдем на Москву, понял? Передай.
– Слушаюсь, Ваше Величество.
Сопротивление против «неправедного» царя Шуйского, против боярского правления уже снова пошло полыхать по северским областям Руси. Имя Димитрия по-прежнему притягивало не только обиженных смердов и холопов, лихих казаков, ищущих воли, но и проходимцев всех возможных оттенков, особенно из сопредельных с Московией Польши и Литвы.
Стародубцы стали собирать для своего государя деньги. Тщательно считали, сдавали старосте Бугрину, а тот с поклоном вручал Александру Рукину, который получил от «Димитрия Ивановича» звание окольничего. Слали грамоты в другие ближние города. Там тоже старались не ударить в грязь лицом: отсылали собранные «царские» деньги в Стародуб.
Всякими хозяйственными делами при «царе» занимался Рукин. Да тут очень вовремя возник приглядный и ловкий поляк в хорошем кунтуше, шапке с куньим околышем и гусарской саблей у бедра. Он был не очень молод, но опытен в воинских делах. Усы у него закручены лихо кверху, манеры почтительно-мужественные. Фамилия Меховецкий.
«Государь» назначил его начальником постепенно собиравшейся дружины. Меховецкий стал утверждать воинский порядок среди случайного сброда. А к концу августа пришел из Литвы бывший мозырьский хорунжий Будзило во главе довольно воинственной оравы литовцев, которые только и зыркали кругом, где бы что сцапать. Поляки косились на них неприязненно:
– Потише тут гаркайте, еще ничего из себя не показали. Мы шляхта – рыцари, а вы сельское ополчение, пся крэвь.
На русских из Московии и Северской Украйны махали рукой:
– Необученные хлопы, ничего не умеют. Разве что на подхвате держать.
Красивый, стройный, молодой атаман Иван Заруцкий, сумевший выскользнуть с тремя сотнями донцов из осажденной Тулы, только вздыхал. Понятно было после беседы с «государем», воеводой Меховецким и литовским начальником Будзилой, что ничего значительного стародубское сборище совершить пока не может. Еле-еле набралось до трех тысяч ратников. Да мало того, что опыта никакого и вооружены кое-как, еще с требованиями о предварительной плате за службу.
– Если Шуйский двинется на нас, то… – Заруцкий качал головой.
– Что же будет? – удивленно поднимал брови «царь».
– Он нас просто раздавит. Нужно звать казаков с Дона, а иначе ничего не получится.
– Давай, зови казаков, Иван Мартынович. Ты прав, без казаков никуда. Возьмем Москву, расплачусь с казаками щедро. Даю тебе мое царское слово.
Заруцкий с небольшим сопровождением отправился в донские станицы звать казаков к Димитрию Ивановичу, чудесно спасшемуся от преступника и обманщика Шуйского, чтоб ему сгнить, старому грибу.
А к «государю» в Стародубе приходили Меховецкий с Будзило и разводили руками:
– Войско требует оплаты, Ваше Величество.
– Но я их кормлю, черт бы их драл. Вот и будет литве пожива.
– Нужно платить деньги.
– Они еще ничего не сделали.
– Давайте возьмем какой-нибудь город.
– Ну… хорошо, – согласился «царь». – Брянск?
– Что вы, Ваше Величество! Брянск нам не взять, – сказал грамотный в войне Меховецкий. – Куда нам!
– Давайте попробуем… Козельск, а?
– Козельск можно попробовать при полном молчании в войске. Только неожиданное нападение может иметь успех. Извольте приказать, государь.
Осторожно обойдя Брянск, войско «Димитрия Ивановича» неожиданно напало и взяло Козельск. Но грабить в этом городке было нечего: тут побывало и царское войско, и кто-то из самозваных «воров», которых расплодилось достаточно. Литовцы взбунтовались, опять требовали денег и пошел между ними говор: от такого «царя» следует избавляться.
С литовцами во главе отряда польских гусар поехал ругаться пан Меховецкий.
– Вы не воевали толком, а вже требуете злотых. За цо вам? За то цо бардзо жрете?
– А зачем нас позвали? – сопровождая вопрос грубой бранью, орали люди из ополчения Будзило.
Оставаться в таком воинском лагере было опасно. «Царь», Рукин и хорунжий Будзило потихоньку отъехали за кустами и помчались во весь дух в Орел.
II
Один из разумных и осмотрительных летописцев того времени не без удивления написал в своей хартии, имея в виду второго Лжедимитрия: «Все воры, которые назывались царским именем, известны были многим людям, откуда который взялся. Но кто опять назвался Димитрием Ивановичем и создал в конце концов такое тяжелое бедствие для правления Шуйского, так и остался неизвестным. Обиходившие его и воевавшие его именем русские и поляки называли “царя” государем Димитрием Ивановичем, хотя знали: это не тот Самозванец, что и вправду короновался в Москве; тот звался по-настоящему Отрепьевым. Этот же даже для близких своих сподвижников до конца пребывал в тайне».
После взятия Тулы Шуйскому не следовало возвращаться в Москву. Надо было воспользоваться успехом, двинуться на нового самозванца и его истреблением упрочить себя на престоле. Но надвигалась поздняя осень, а это время года не позволяло долго удерживать войско под оружием, его требовалось распустить по домам. Таков был незыблемый с древности обычай.
Когда у себя в шатре царь Василий Иванович объявил о роспуске войска, и воеводы с боярами согласно склонили головы, раздался один молодой голос, возразивший:
– Сейчас нельзя распускать полки, государь.
Это был любимый племянник, Михайла Скопин-Шуйский.
– С чего бы это? – несколько удивился царь.
– Покончить бы немедля с самозванцем из Стародуба.
– Да зима подходит. Дождемся уж лета, авось виднее будет.
Но еще на пути в Москву раздался среди мерного движения огромного войска торопливый скок гонца. Его послал начальник конной разведки. Новость оказалась неприятной: «Самозванец Димитрий взял Козельск, разграбил его. Есть слух, что его шайка промышляет Брянск».
Пришлось собрать воевод. Царь сообщил о захвате ворами Козельска и спросил мнение своих полководцев.
– Идти надо к Брянску, – первым предложил Скопин.
– Да, – поддержал его князь Куракин. – Пожар занялся, вовремя тушить надо.
– Тогда и ступай под Брянск, Иван Семенович. Достань нам этого шустряка. И в подмогу тебе князь Литвин-Мосальский. Давай, Василий Федорович, собирайся. Только идите к Брянску разными дорогами. Чтоб по пути не очень деревни-то обчищать. – Заботливым, жалостливым к народу показал себя Шуйский.
Все встали, поклонились царю, разошлись. Куракин и Литвин-Мосальский торопливым шагом. Надо явить государю свое усердие да и на деле – отдать младшим подчиненным первые приказания.
Скопин-Шуйский обиделся. Задержавшись, спросил дядю, отчего тот обошел его назначением.
– Тебе другое дело. Будешь на свадьбе у меня посаженным отцом.
– Да я еще не… И вроде как дело-то очень уж почтенно для меня… Кого подостойнее, постарше…
– А вот я тебе поручаю это почтенное и достойное задание, Мишаня.
* * *
В Орле, куда уехал «Димитрий Иванович» с окольничим Рукиным и хорунжим Будзило, они остановились на посаде в доме, который подсказал пан Меховецкий.
Ночью попутчики долго совещались, не в силах решиться на что-нибудь определенное, и опасались дурных последствий. Утром хорунжий Будзило верхом поехал на торжище. Рукин с престарелой хозяйкой готовили к обеду, что Бог послал. А «Димитрий Иванович» пребывал в тревоге и сомнениях.
Будзило приехал с торжища, доставив переметные сумы, полные снеди: свежие калачи, вяленую рыбу, яблоки и груши из местных садов. Захватил и расписную корчагу хмельного пенника. Кроме того, рассказал, что в народе только и разговору о природном, хорошем царе Димитрии, который скоро соберет большое войско и замирит Русь.
Однако долго отсиживаться в Орле «Димитрию» не пришлось. Тем более, что ночью кто-то ломился в дом – не то с пьяну, не то кем-то подосланные громилы затевали непонятную склоку. Добивались свары, драки. А может быть, хотели убить?.. Кого? Димитрия Ивановича? Всех троих? Хорошо, орловская городская стража вмешалась. Разогнала неизвестных смутьянов, пригрозив им тюрьмой.
Чуть свет прискакал от Меховецкого посланец с просьбой вернуться, «бо без царя войско может совсем развалиться».
– А литва все требует денег?
– Та вроде утихла.
На другой день все началось сначала.
– Привез злотые? – орали литвины без всякого уважения к царственной особе. – Мы даром воевать за тебя не будем!
«Димитрий Иванович» плюнул, снова сел на коня. Позвав с собой Рукина, выехал на дорогу к Путивлю. Он рассуждал про себя, что в Путивль его звали и будут ему рады. Самозванец взял с собой нескольких верных ратников-сердюков. Одного послал вперед, на случай непредвиденной встречи.
Передовой скоро прискакал обратно.
– Там войско идет к тебе на подмогу, государь.
Показались всадники на сытых конях, кто в хорошем кунтуше и шапке со шлыком, кто в панцире, меховой накидке и шлеме с пером. Это явно был отряд польской кавалерии, отборной ее части, о чем говорили и высоко поднятые пестрые прапоры.
К остановившемуся в недоумении самозванцу подскакал на красивом жеребце щегольски одетый лихач с закрученными усами. За широким поясом торчали рукояти короткоствольных немецких пистолей, блестели дорогие, с золотой гравировкой, ножны турецкой сабли.
Подъехав, щеголь коснулся двумя пальцами околыша шапки и чуть склонил голову.
– Пан Валавский, Ваше Величество, – представился он, играя ямками на румяных щеках. – Послан в ваше распоряжение князем Романом Ружинским.
– Очень рад, – довольно хмуро ответил «царь». – Сколько вас?
– Тысяча сабель к вашим услугам.
– Из каких мест движетесь, пан Валавский?
– С Киевской Украйны. Должен с удовольствием сообщить, Ваше Величество, что скоро под ваше распоряжение подойдет отряд пана Тышкевича. Тоже тысяча сабель.
– На поляков всегда можно положиться, – приняв довольный вид, одобрительно произнес самозванец. – Прошлый раз благодаря им я взял Москву. Думаю, поляки и этот раз мне помогут.
– Обязательно поможем, Ваше Величество.
– Кто еще хочет приложить усилия, чтобы установить в моем государстве справедливость? Известны ли эти благородные рыцари?
– О да, Ваше Величество. В ближайшее время к вам должен прибыть полковник Лисовский.
– Мне приходилось слышать о нем. – «Димитрию» и правда что-то рассказывали о главарях рокоша[74] против короля Сигизмунда. – Что у него произошло с королем?
– К сожалению, Лисовский и его единомышленники проиграли. Лисовский осужден на изгнание. Но он решил восстановить на московском троне истинного монарха вопреки засилью бояр.
«Димитрий Иванович» со своей свитой и конниками Валавского повернули в Стародуб. Он был весел и щедр на обещания. И пану Валавскому и другим польским начальникам он обещал в будущем высокие должности при царской особе.
В Стародубе уже оказались кавалерийские полки Лисовского и Тышкевича.
При обсуждении ближайших военных планов Лисовский сказал:
– Солдаты собраны в единое войско, и они хотят драться. Мы должны выступать, не теряя времени. Мы уже потеряли его в Польше, черт побери!
– Но здесь довольно суровая зима, – возразил «царь» осторожно. – Принято начинать военные действия после таяния снега и подсыхания дорог. Иначе невозможно передвигаться большими отрядами конницы и пехоты. Особенно с пушками.
– Пустяки, Ваше Величество, – бесцеремонно заявил Лисовский. – Это устаревшие понятия. Нужно действовать стремительно и неожиданно для врага. Кстати, вы свободно говорите по-польски. Это приятно и удобно.
– С чем же вы предлагаете приступить? – пропустив мимо ушей замечание о знании им польского, спросил «царь».
– Надо взять Брянск. Далее Калуга. А там и Москва.
– Ну что ж, раз опытные военные считают такой поход возможным… – призадумался вначале, но потом согласился «Димитрий».
– Хорошо бы дождаться Вишневецкого, – предложил Тышкевич. – Ведь вы его знаете, государь…
– Да, конечно, – закивал с внешней благожелательностью самозванец, чувствуя как все внутри него похолодело. – Вы имеете в виду Адама Вишневецкого?
– Да, да, Адама. Вы же помните? С него все и началось.
«Он был знаком с тем, первым Димитрием, – думал, подавляя в себе страх и волнение, самозванец. – Что если он откажется признать меня Димитрием Ивановичем, сыном царя Ивана? Впрочем, тот Димитрий был на самом-то деле Отрепьев. Что делать?» Внутренне страшась времени, когда должен был появиться знавший «первого Димитрия» князь, «второй Димитрий» утешал себя тем, что и «первого» признали по причине общей выгоды для многих представителей польской знати и даже для короля Сигизмунда.
В конце ноября прибыл с небольшим отрядом Адам Вишневецкий. Он вошел в избу, где находился царь, внимательно посмотрел на него и слегка приподнял густые брови. «Сейчас выдаст, – помертвев, решил Кашинец. – Ну вот и все кончено».
Польские воеводы и литовский хорунжий Будзило тоже приподняли брови, удивляясь молчанию вошедшего князя Адама.
– Ваше Величество, я рад, что вам удалось спастись из лап Шуйского, – несколько печально, имея в виду пережитое «Димитрием», сказал Вишневецкий.
– Я тоже рад вас видеть, пан Адам, – улыбаясь, подтвердил приятность встречи самозванец.
С прибытием князя Вишневецкого и подошедшего с остатками дружины из-под Орла Меховецкого стали готовиться к походу на Брянск.
– Вот возьмем Брянск, там и перезимуем, – говорил, стремительно расхаживая по горнице и похлопывая по рукояти сабли, Лисовский. – Если же повезет, дойдем до Калуги.
Почти с четырехтысячным войском «царь Димитрий» и его польские сподвижники устремились к Брянску.
Туда же шли от Тулы по приказанию Шуйского значительные конные и пешие отряды во главе с князем Куракиным и Литвиным-Мосальским. Под Брянск воеводы Шуйского прибыли, когда город уже находился в осаде. Несколько попыток самозванца преодолеть дубовые стены Брянска были отбиты.
Десна, протекавшая возле Брянска, только начала замерзать, но еще не встала. Моста не было – либо его сняли заранее, либо унесло: мост был наплавной. Возможности перейти по льду и ударить по осаждавшим у царской рати не предвиделось. А со стен Брянска, увидев пришедших москвитян, кричали отчаянно:
– Спасите, православные! Помогите избавиться от врагов! Погибаем!
К князю Мосальскому подскакали сотники, стали говорить хмуро:
– Надо выручать своих, княже… Ратники бают, реку можно переплыть…
– Больно вода-то холоднющая, не потонули бы наши мужики, – растерянно молвил Мосальский.
– Великий грех оставлять люд русский в беде. Попытаемся по-татарски, у них так: коня вперед, а сами, держась за хвост… В другой руке оружие…
– Ладно, – согласился князь, – начинайте переправу. А мы отсюда по ворам стрелять будем.
– Лучше нам всем помереть, чем видеть свою братию в погибели. Коли сгинем за православную веру, то получим у Христа венцы мученические, – сказал пожилой, с сивой бородой, ратник в шишаке и с большим крестом на груди поверх панциря.
Взяв прощение друг у друга, москвитяне стали толкать в воду коней, а сами поплыли, держась крепко за конский хвост. Ни лед, который трескаясь на куски, мешал плыть, ни стрельба с противоположного берега не остановили их.
Ни один человек, ни одна лошадь не погибли. Ратники вылезали на берег разъяренные, обмерзшие, пылая в сердце ненавистью к захватчикам. Вскакивали на коней, бросались в бой.
Когда Меховецкий увидел, как с того берега ринулись, кидаясь в реку, воины Шуйского, он понял, что их не удасться остановить. Он обратился к самозванцу:
– Ваше Величество, надо уходить. Мы окажемся зажатыми, как в клещах. Они нас перебьют с двух сторон. (Радостные крики и стрельба со стен Брянска усилились.)
Но Лисовский не желал отступать. Бешено носясь на коне по берегу, он неистово вопил на своих гусар:
– Куда вы пятитесь, трусы? Стреляйте по тем, что в реке… Черт вас возьми, болваны! Стреляйте!
Однако со стен Брянска такой лавиной полетели в осаждавших бревна и камни, настолько усилилась прицельная стрельба из пищалей и тугих луков, что польские кавалеристы поняли: надо спасаться. Из реки лезли озверевшие москали, и пощады ждать от них не приходилось.
Рать самозванца, как всякое воинство грабителей, не желало проявлять самоотверженность и храбрость. Она дружно побежала прочь.
Брянск открыл ворота своим освободителям. Брянцы, обнимая, зазывали ратников, промокших, заледеневших, но торжествующих. Торопливо топились баньки, чтобы скорее согреть москвитян, избавить их от возможной простуды. Тащили ендовы и баклаги с крепкой, перченой водкой, медовухой; поили горячим молоком. Развешивали в избах у печи одежду, от которой шел пар. Город Брянск ликовал, и ликовал дух русских людей, не пожалевших себя, чтобы прийти с братской помощью, спасти своих от иноземного нашествия.
Князь Куракин со своими ратниками более спокойно, на плотах, а вскоре и по окрепшему льду подошел к Брянску. Он подвел к городу обозы и снабдил население продовольствием. Затем сделал быстрый переход и занял город Карачев.
Самозванец попытался взять этот город, но получил отпор. Не надеясь на успех, воинство «Димитрия» отступило и ушло на зимовку в Орел.
III
Неудачам полковника Лисовского под Брянском и Карачевом радовался втайне Меховецкий. Он был первым назначен «царем» возглавлять войско и не желал уступать свое место полковнику, который присвоил себе звание полководца самовольно.
Как бы между прочим Меховецкий говорил «царю»:
– К чему было накануне зимы затевать это бедство?.. Просто некоторые выскочки учитывают только свое мнение, Ваше Величество. (Он имел в виду, конечно, Лисовского.) Что мы получили? Под зад у Брянска и по носу у Карачева. Имеем потери, пусть и небольшие.
В Орле самозванец заставил всех вятших людей города ему присягнуть. Начали обустраивать войско, подготавливаться к зимовке. Тем временем распространились слухи в Литве и Польше о победном шествии «царя Димитрия Ивановича» по Северской Украйне. И многие, свободные от воинских дел паны, шляхтичи и просто удальцы, по природе своей разбойники, решили присоединиться к разграблению Руси.
Князь Роман Ружинский, так же как полковник Лисовский, вынужденный по решению сейма покинуть Польшу, решил, что свара, круто заварившаяся в Московии, очень удобна для него – учитывая сложившиеся обстоятельства. Он собрал четыре тысячи головорезов и, после проверки дел и разведки пана Валавского, сам двинулся на Русь. С ходу он без особых боев захватил Кромы.
Затем Ружинский решил диктовать этому сомнительному «царю Димитрию» свои условия. Он послал в Орел послов для заключения военного договора.
Подготовленный Меховецким в том, что князь Ружинский необычайно властный и надменный человек, «Димитрий» встретил послов князя холодно:
– С каким поручением прибыли, панове?
– Ясновельможный пан и князь Роман Ружинский предлагает вам свою службу, подкрепленную четырьмя тысячами опытных бойцов. Он уже занял Кромы. Князь хотел бы знать, какова будет оплата.
– Мне не нравится, когда, не прослужив ни дня, говорят об оплате, – ответил «Димитрий» неласково и на московском наречии. – Я не звал Ружинского. Передайте, что он может возвращаться обратно.
Послов явно возмутили грубые слова, сказанные по отношению к их ясновельможному господину.
– Мы видим, Ваше Величество, – в свою очередь, дерзко сказали послы, – что вы не тот царь Димитрий, который был прежде. Тот умел уважать рыцарское обращение и говорить с достойными людьми. А в этот раз мы подобного обращения не увидели. Что ж, мы перескажем ваши пожелания князю. – С тем поляки Ружинского без поклона удалились.
– Государь, – взволнованно заговорил Валавский, обидившись за своего патрона, – вы напрасно ссоритесь с ясновельможным паном, князем Ружинским. Его войско не меньше нашего. Да и многие из нас оскорбятся, узнав о вашем ответе князю. А ведь он истинно желал бы оказать вам поддержку в вашем противостоянии с Шуйским. Вы унизили Ружинского, и он может пойти против вас.
«Царь» слегка растерялся, не зная, как ему исправить свою опрометчивую выходку.
– Лучше будет, если вы вернете послов. Скажите им, что вы погорячились и извинитесь.
– Царю – извиняться? Ну это уж чересчур.
– Ваше Величество, вы назначили меня канцлером, – продолжал настаивать Валавский. – Умоляю вас прислушаться к моему совету. Верните послов. Это нужно для дела.
– Ладно, – сказал сердито «царь» и повернулся к спутнику. – Окольничий Рукин, пойди за ними. Скажи, что я извиняюсь и прошу их со мной пообедать.
Александр Рукин ухмыльнулся, зная как трудно сделать этот шаг человеку, который с невероятной быстротой обрел надменную властность прирожденного монарха. Кстати, именно эти проявления его натуры являли для многих истинность его царского происхождения.
Послов вернули. Они вошли, недоверчиво глядя на «Димитрия Ивановича».
– Панове, – улыбнувшись, заговорил «царь» по-польски, – не гневайтесь на мою грубость и не оскорбляйтесь за унижение достоинства высокородного и ясновельможного князя Романа Ружинского. Забудьте мои слова. Дело в том, что мне недавно донесли: моя коханая, моя дорогая жена Марина все еще в лапах Шуйского. Из-за этих известий я был очень огорчен. И потому раздражение испортило мое любезное обращение к представителям рыцарства.
– О, Ваше Величество, мы теперь понимаем вашу раздражительность. Поневоле выскажешь огорчение от такого бедства. Мы глубоко сочувствуем. Конечно, Ваше Величество, мы не можем более сердиться на вас.
«Царь» пригласил послов за обеденный стол, где уже рассаживались его польские полководцы. Послы согласились и были удивлены обилием искусно приготовленных кушаний. И безгранично (кроме медовухи, водки, пенника, вишневой наливки) послов поили прекрасным рейнским вином. После обеда, в виде царского поощрения, «царь» вручил им по пять золотых талеров.
– Панове, я надеюсь вы уже забыли о начале нашего знакомства.
– Ваше Величество, вы можете быть совершенно в этом уверены.
Однако, приехав в Кромы, послы рассказали Ружинскому все подробности их приема у «Димитрия» – и начало, и конец.
«Ага, вернуть моих послов царю посоветовал Валавский, который, как выясняется, назначен московитом канцлером, – размышлял наедине с собой князь. – Но кто его накрутил с самого начала? Кто не желает моего сближения с этим подозрительным царем? Надо бы узнать».
На другой день князь Ружинский с отрядом самых преданных и отчаянных гусар въехал в Орел, чтобы выразить царю сочувствие по поводу пленения его жены.
Подъехали к простому, но просторному дому, который временно был царским дворцом. На крыльце обиталища царя охраняли четверо гусар из отряда Валавского. Вокруг дома расхаживали севрюки с бердышами и саблями. Поодаль виднелась коновязь. Возле коновязи стояли, опираясь на копья, несколько казаков.
На вопрос «где царь?» Ружинскому ответили: «В бане парится».
Князь знал, что московиты парятся в бане по субботам. «Почему “Димитрий” делает это ежедневно? Непонятно. Или это устроили нарочно, чтобы издеваться надо мной?»
Ружинский безумно разозлился. Его польский гонор, княжеская и гетманская спесь (а гетманом он назначил себя сам) не давали ему покоя. В сопровождении двух десятков преданных гусар он ввалился в дом, служивший дворцом, и дальше в горницу, где стояло кресло с позолоченными завитушками и бархатной подушкой, заменявшее трон. Гремя саблями, громко переговариваясь и позволяя себе хохотать по разному поводу, поляки Ружинского расселись на лавках вдоль стен. Сам Ружинский занял место, наиболее близкое к «трону».
Через полчаса вошел «Димитрий» с красным, потным лицом. Его сопровождали окольничий Рукин и Меховецкий, бывшие с ним в бане.
Кто-то из русских приближенных «Димитрия» стал требовать, чтобы поляки вышли из помещения, а вошли снова, когда «царь» займет место на троне. Но поляки решительно отказались. «Царю» пришлось пройти на свое место, почти проталкиваясь среди них.
Наконец он сел в кресло, принял надменный вид, положив ладони на подлокотники. Одет он был в полосатый из дорогой бухарской ткани халат, отороченный лисьим мехом. На голове серебристая, шитая красным узором, тюбетейка. За поясом торчит рукоять кинжала, украшенного золотым гербом. Позади стали русый, прилизанный маслом, как дьяк, Александр Рукин, пан Меховецкий в военном польском кунтуше и широкоскулый, широкоплечий громила сердюк в малиновой рубахе и таких же шароварах, в белой овчинной безрукавке. Он стоял как идол, весь увешанный кривыми метательными кинжалами, у бедра татарская сабля, в правой руке огромная алебарда, острием почти подпиравшая потолок.
– Ваше Величество, позвольте благодарить вас за прием и за то, что могу выразить сочувствие вашему горю, а именно продолжающемуся пленению вашей жены захватчиком престола Шуйским. Благоволите допустить меня до вашей монаршей руки. – Ружинский подошел к трону и, склонившись, поцеловал «царю» влажную после бани руку.
И самозванец, и все присутствующие в горнице были явно озадачены поведением гордеца, потомственного польского князя Ружинского. А сам князь, человек проницательный и в глубине души стремящийся к манящим лучам высшей власти, прекрасно понимал: этот молодой, довольно благообразный лицом и почему-то по-татарски одетый «царь», конечно, никакой не сын Ивана IV, и не «первый» самозванец Лжедимитрий, но это человек бесспорно отмеченный лучами той самой власти. Судьба его такова, что на него указал перстом некто (Бог или дьявол?) – и совсем не чудо, если через неопределенный срок он будет под колокольный звон в Московском Кремле. Были такие же в давно прошедшие и будут в будущие века явившиеся ниоткуда люди, которым суждено становиться королями, царями, императорами, великими завоевателями мира.
– Ясновельможный князь, благодарю вас за сочувствие. И за то, что вы готовы поддержать мою войну с Шуйским за отеческий престол. Прошу вас и ваших людей к столу. Окольничий сейчас распорядится. Мы поговорим за приятным угощением о важных делах.
Вскоре стол во всю обширную горницу был уставлен снедью и хмельными напитками. «Димитрий» и князь Ружинский уселись друг против друга. Гладко причесанные отроки в чистых рубахах подносили гостям еду на деревянных подносах, ставили новые баклаги и кувшины, заменяя порожнии.
– Ваше Величество, позвольте поднять чашу за ваши будущие победы, – провозгласил князь, поднимая объемистый, из тяжелого серебра, кубок с романеей. Он хотел даже встать и жестом поднять своих шляхтичей.
– Не вставайте, князь, и не тревожьте усталых воинов. Будем пировать, как союзники, заключившие содружество, – радушно сказал «царь». Они пили и ели, продолжая беседовать.
– Что там за рокош в Кракове? – спросил «Димитрий», он говорил по-польски свободно.
«Вот еще задача, – быстро подумал князь. – Откуда такое владение польским? Жил у нас, что ли?»
– Это мятеж против правления нынешнего короля, – пояснил Ружинский. – Так сложилось, что я оказался одним из возглавивших тот самый рокош. Вместе с паном Лисовским.
– Оказывается, королю в Польше тоже не сладко.
– Да, во всякое время у него могут быть тревоги.
– И мне нелегко, – вздохнул «Димитрий». – Мои права на наследственный трон захватил выскочка.
– Сигизмунду повезло больше, Ваше Величество. Мы, участники противостояния королю, потерпели поражение. Большинство сейма оказалось за него. А меня и еще нескольких несогласных с Сигизмундом приговорили к изгнанию.
– Не хотел бы я оказаться на месте короля. Ведь всякий арцыбискуп[75] может ему перечить. Всякий пан, имеющий влияние, может с ним не соглашаться.
– Что ж, такова жизнь. Польша, а собственно – Речь Посполитая, есть республика. Король выборное лицо.
– К сожалению, не всегда. Вот сейчас на русском троне Шуйский, он не царского рода. А до того, после смерти брата моего Федора, был вовсе худородный Борис Годунов. Он послал убить меня, бывшего еще в семилетнем возрасте. Вот с того все у нас и началось.
– Я знаю об этом злодеянии. Счастье, что вас спасли милосердные люди. Бог все равно, несмотря на происки захватчиков престола, на вашей стороне, государь. Вы коронованы, вы спаслись от заговорщиков, и теперь с войском, с преданными вам друзьями, отстаиваете отеческий трон, принадлежащий вам по праву.
Застолье в «царском дворце» закончилось благополучно. И «царь», и князь Ружинский остались довольны своим разговором. Даже шляхтичи, изрядно набравшиеся хмельного, не устроили свары между собой или с кем-нибудь из присутствующих московитов. Хотя, по их тогдашнему правилу и разумению, любое не понравившееся соседу слово или косой взгляд могли расцениваться как попрание чести. Сабли выхватывались молниеносно. Всякие споры и веселые застолья нередко кончались поединком, кровью, а то и смертью кого-нибудь из удалых задир.
Прощаясь, Ружинский сказал с поклоном:
– Нам бы поговорить без свидетелей, государь.
– Всегда буду рад вам, князь Роман. Приезжайте в любое время.
Так любезно, почти по-приятельски, они расстались.
После чего «царь» мрачно рявкнул на оставшихся с ним наедине Рукина, Меховецкого и Будзило:
– Если Ружинский запросит встречи со мной, отвечать уклончиво. Я знаю, о чем он будет договариваться – об оплате и его главном командовании войсками.
– Да, да, Ружинский хочет захватить всю власть, – подхватил, очень недовольный появлением Ружинского пан Меховецкий. – А вас, государь, он собрался постепенно оттеснить от правления.
– Что же вы напустили полный дворец разбойников этого Ружинского? У нас никакой охраны нет, что ли?
– Да не хотелось затевать свару, – пряча глаза, буркнул Будзило; он изрядно перетрусил, когда ввалились гусары князя, явно настроенные на драку.
– Попробовал бы ты, государь, их не впустить, – обидившись, проговорил тоже струхнувший «окольничий» Рукин.
– Для него я занят, – имея в виду Ружинского, отрезал «Димитрий». – На всякий случай, потолкуйте с нашими сотниками. Пусть подтянутся, ратников пошпыняют, чтобы были готовы к бою. Скажете – я приказал.
«Димитрий» действительно опасался князя Романа, имевшего более многочисленную дружину, чем его собственная. Чтобы быть увереннее в своей власти, требовалось еще одно сильное войско. Таким войском мыслились донские казаки Ивана Заруцкого. Поэтому «Димитрий Иванович» и отодвигал встречу с князем Ружинским. Он надеялся на скорое прибытие казаков. Тогда можно будет поговорить с высоты своего «царского» положения. И указать ему на то место в войске, которое для него оставлено.
Князю Ружинскому дважды отказали в приеме у царя. Кто-то намекнул, что он подозревается в измене, в намерении захвата власти. Были то прежде всего убеждения Меховецкого или нет, однако явился повод отказывать князю в приеме.
Ружинский пришел в ярость. Его гусары взвыли от злости.
– Он намеренно меня оскорбляет, обвиняя в измене! – орал князь, потрясая кулаками и поминутно хватаясь за саблю. – Немедленно соберите коло[76]. Пусть «Димитрий» ответит перед коло.
Опасность положения оценил Валавский, которому нравилось быть канцлером у самозванца. Не совсем ясно, почему русский царь должен был отчитываться перед «коло». Очевидно, потому, что большинство его ратников были нанятые поляки. Коло могло закончиться убийством вызванного ответчика.
– Надо ехать, государь, – осторожно посоветовал Валавский. – Коло сердить опасно. – Он знал: коло – почти неуправляемая стихия, буйная, наглая, вооруженная толпа.
Выпив для бодрости большой кубок вина, «царь» надел богато расшитый золотом, лучший кафтан, горлатную соболью шапку. Он сел на коня с высоким седлом, серебряными стременами и золотой бахромой. На поясе висела сабля в красных бархатных ножнах. Он выехал на середину площади и упер правую руку в бок.
На площади собрались представители почти восьмитысячного польского войска. Все верхом на конях, при полном вооружении. Они окружили «Димитрия» плотным, угрожающе галдящим кругом. Несколько бояр, бывших в приближении к нему, и около полусотни пехотинцев с пищалями оказались оттесненными от своего государя.
Враждебные выкрики и общий ропот не прекращался.
Тогда «царь» неожиданно взмахнул сжатой в кулак рукой и грубо выругался по-польски. И тотчас же еще более зло по-русски. Это воздействовало на раздраженных удальцов Ружинского. Постепенно они умолкли, продолжая свирепо мерить глазами надменного человека в горлатной московитской шапке.
– Ваши упреки мне и ваши просьбы. Говорите, – отчетливо, так что услышали все, произнес «царь».
Из массы всадников в кунтушах выехал адъютант Ружинского.
– От имени всего коло мы требуем указать тех ваших придворных, которые назвали князя Ружинского изменником.
– Вы хотите, чтобы я выдал вам верных слуг моих, которые меня предостерегают от беды? Никогда не велось такого: государи московские верных слуг своих не выдавали. И я этого не сделаю, даже если бы мне указал Бог.
Самозванцу нагло кричали:
– Ты хочешь оставаться с теми, кто по углам языком прислуживают? Или тебе нужно войско, которое пришло служить жизнью и саблей?
– Думайте, как угодно, мне все едино. Если вы недовольны, можете убираться прочь, – не теряя хладнокровия, ответил «Димитрий». – Я вас к себе не звал.
Коло заревело от бешенства, многие гусары потянули из ножен сабли. Нашлись такие буяны, которые скрежетали зубами и требовали немедленно убить оскорбившего их схизматика.
В общении второго Лжедимитрия с поляками не возникало обсуждения веры, каких-либо требований, с одной стороны, и обещаний с другой. Поскольку он не встречался ни с папским нунцием, ни с королем, ни с иезуитами, а тем более, не переписывался с папой римским, как это делал первый Лжедимитрий, то религиозных обострений в его лагере не происходило.
«Царь» заведомо воспринимался всем своим окружением как православный государь. А за помощь против Шуйского он никому не обещал вводить на Руси католичества, считая все отношения с поляками чисто военным делом.
Крики «Убить его! Рассечь! Схватить! Зарубить! Он привел нас сюда, пусть отвечает!» самозванца нисколько не смутили. Он заявил спокойно, что в случае, если до него, самодержавного государя, дотронутся хотя бы пальцем, все участники коло станут мишенью для его ратников, которые окружили поляков с тыла и откроют огонь из пищалей и пушек. А кого не застрелят, те будут изрублены казаками.
С тем он поехал прямо на тесно стоявших гусар Ружинского.
– А ну! Расступись! – крикнул «царь».
И они перед ним расступились, сверля его ненавидящими взглядами.
Наблюдавший за происходящим издалека Ружинский почувствовал правильность своего впечатления от этого явившегося из неизвестности предводителя бунтовщиков, прикрывающегося личиной давно не существующего потомка царской династии.
Приехав в свой «дворец» и стремительно войдя в горницу, «Димитрий» потребовал вина или горилки. Затем выпил подряд две большие чарки, думая себя успокоить. Однако его трясло от бешенства или пережитого страха. Он еще пил и расхаживал от стены к стене. Время от времени бранился по-русски.
В дверь всунулся Валавский, потеряв на время свой румянец и самоуверенный вид.
– Ну что, государь? Они удовлетв…
– Да плевал я на это стадо. Мне бы казаков Заруцкого или стремянных стрельцов… Я устроил бы этим псякревьцам баню, мать их, сволочей… Ну, погодите, вы еще спляшете у меня шляхтянку… – После этого «царь» продолжительно выругался по-польски. – Надо гнать Ружинского с его сбродом.
Валавский сначала удивился, но понял: «Димитрий» пьян. И лучше с ним больше не обсуждать происходившее на коло. Он выскользнул в приемную горницу.
Там Валавский увидел бледного Рукина, хмурого хорунжего Будзило (он был в панцире, литовском тяжелом шлеме, с прямым мечом у бедра и пистолем за поясом). Рядом находилось пятеро сотников из войска «Димитрия», тоже тщательно вооруженных. Был еще один недавно назначенный придворный государя, маршалок Харлинский. С удрученным видом сидел на скамье князь Адам Вишневецкий.
– Ну что? – спросил князь. – Как он?
– Он взбешен до крайности. Там его оскорбляли.
– Хорошо, что они ограничились оскорблениями. Они ведь и убить его могли. На нас, поляков, поднялась бы вся Северская Украйна. Нас бы преследовали повсюду – и хлопы, и боярские дети, и стрельцы, и горожане. Доволен был бы один Шуйский.
– Не надо было государю ехать на коло, – вмешался Рукин. – Он не пан, не шляхтич и вообще не поляк.
– Как не ехать? Показать, что испугался, обделался? Позор! – Валавский схватился за голову. – Он хочет гнать Ружинского с его гусарами!
– Что же делать? – Вишневецкий встал, подошел к Валавскому. – Все может рухнуть… Он в ярости? Надо ехать к Ружинскому. Пусть он тоже улаживает.
Весь оставшийся день и всю ночь канцлер «царя Димитрия Ивановича» Валавский, маршалок Харлинский и князь Адам Вишневецкий (официально «конюший» – по раскладу европейских дворов) скакали от дворца к стану польского войска и обратно. Наконец примирились, самозванца умолили извиниться перед коло. Он извинился с небрежным видом. Ружинский, «сохранив честь», уехал в Кромы, которые считал своей ставкой.
К этому времени прибыло пополнение «воровского» воинства. Союзниками «царя Димитрия» предъявились три тысячи казаков-черкасов из Запорожья и пять тысяч донцов под начальством Заруцкого.
Самозванец необычайно рад был Заруцкому и его удалым казакам. Так же радушно он встретил «хохлачей» из Запорожья. Воинская жизнь в городах Южной Руси кипела. Упражнялись в рубке и скачках, пировали, кричали: «Царю Димитрию – слава!»
А Москва продолжала волноваться страшными слухами. Тотчас по взятии Тулы, когда царь Шуйский еще не въехал в столицу, Москва была напугана тем, что повсюду рассказывали среди черного народа, среди купечества, служилых низших людей и даже бояр.
– Слыхал ли, какое видение предстало одному праведному духовному мужу? – спрашивал знакомого купчика известный москвитянам богатый гость Трифон Карпович Тусенев. Он был в бархатной рыжей однорядке[77] и наброшенной поверх черной овчинной шубе. Шапка на седеющих кудрях – мурмолка[78] с куньим мехом.
– Не, не слыхал доподлинно, Трифон Карпович, – отозвался купчик, благовидный, с круглой рыжей бородкой, в узком тулупе, опоясанном красным поясом. – То ись бают-то много, да што сказано верно, а што неверно… Поди-ка, пойми…
Раскупавшие рядом пироги с вязигой, с сомовиной мужики из кожевенной слободы навострили уши, перестали жевать. Баба поперек себя шире, в шушуне на душегрее, в круглой заячьей шапке, а поверх цветастый платок, – прикрыла деревянной крышкой кадь с пивом. Кадь на санках-салазках… Тяговая сила – мужик молодой, мордатый, в полушубке, дырявом на локтях. Тоже слушает, рот разинул.
– Ох, батюшка ты мой, Трифон Карпыч, – встряла торговка пивом, оказавшаяся рядом с купеческой избой. – Я, грешная дурища темная, и то слыхала… О-осподи помилуй! Спаси и сохрани…
– Откеда слыхала, Мавруха? – вылез из-под чьего-то локтя старикашка с бороденкой реденькой и сам щуплый, на Торге таскается, предлагает бабам и мужикам гребни костяные.
– Я те не Мавруха, а Маврена Федоровна, дочь стрелецкая, – обиделась толстая, как кадь пивная, торговка в цветастом платке. – А сказывала мне жена дьякона из храма Благовещения из Замоскворецкой слободы, што на Ордынской улице… Ды-к вот дьячиха-то мне и сказывала…
– Што жа? Токмо лжой не задушися, правду доноси, кума…
– Тьфу, штоб те треснуть, хрыч ненадобной…
Проходит через Торг стража обходная – стрельцы без бердышей с батогами, с саблями у бедра. Выпили слегка от холода – много нельзя: узнают, взашей насуют начальники. Но стрельцы веселые смотрят, нет ли где беспорядка, покрикивают:
– Народ, не густись кучей! Кошели береги!
– Купцы, калиту свою охраняй, а тати задницу! Ха-ха!
Старик, торгующий гребнями, блеет козелком сиповато:
– Эй, кому башку заело? Гребешки-то мои не то вшу, гниду цепляют… Покупай, пока все не разобрали!
– Да-к чего купец Трифон Тусенев баял про видение духовного мужа? Чё сказал-то?
– А я и не понял толком… Ушами скорбен – не слышу!
Трифон Карпович говорит знакомому купчику, но вблизи проталкиваются послушать про страховитое. Слушают, оттопырив ладонью ухо. Ойкают, крестятся. Но продолжают постигать новое на Москве речение.
Многие на Торгу с лукошками. А покупатели удержаться не могут: пиво из кади у толстой бабы пьют ковшом, пироги трескают, а шапку подмышкой держат: в шапке вкушать еду – грех.
– …И было ему во сне видение… Явился ему, мужу-то праведному, сам Христос – и будто бы в Успенском соборе, – а грозил страшною казнью московскому народу, энтому, мол, новому Израилю, который поругание творит Господу лукавыми своими делами, праздными обычаями да сквернословием… – продолжает купец. – Многие приняли мерзкие обычаи от иноземцев – бороды стригут, женщины в домах своих без головного покрытия ходят… И во всяких, мол, сословиях содомские дела творят да суд неправедный: бедных-де насилуют и грабят чужие имения… Нет истины на Москве ни в царе, ни в патриархе, ни в церковном чине, ни в целом народе. Вот што Христос сказал…
– Ахти мне, батюшки-светы, выносите святые угодники, просите Спасителя, Христа Бога нашего… – крестится и тут же, на грязном растоптанном снегу, кладет земной поклон некто из церковного сословия. А кто – не разберешь: шапка драная, из-под полушубка засаленного подрясник черный обтрепанный, сапоги разбитые… Когда шапку снял, – волосы длинные, аж до плеч, борода узкая, длинная… Не то дьякон, не то монах.
Люд слушает дальше Трифона Тусенева.
– Видевший сей страшный сон сказал благовещенскому протопопу Терентию. Тот же записал грамотку с его слов и подал запись патриарху. Дали знать царю Василию Ивановичу. Скрыли, однако, имя человека, видевшего сон, потому как он заклял протопопа Терентия именем Божиим не говорить об нем. А патриарх приказал видение, записанное протопопом, читать в Успенском соборе вслух всему народу, так-то.
Это говорилось повсюду, не только на торгу или на других торжках. Или на папертях церквей после обедни. Народ ужасался, плакал, бил земные поклоны, свечки ставил в храмах и зажигал лампады на голубцах[79] при кладбищах да на каждом перекрестке.
Несмотря на недобрые предвестия, на смуту и войну в Северской Украйне, Шуйский поспешил воспользоваться зимним временем, относительно спокойным.
17 января царь праздновал свою свадьбу с княжной Марией Петровной Буйнусовой-Ростовской. И посаженым отцом на царской свадьбе был Михайла Васильевич Скопин-Шуйский.
IV
Князья Василий Голицын и брат царя князь Димитрий Шуйский снаряжены были по приговору Думы и с согласия государя возглавить войско, которое направлялось освободить Орел от нового самозванца.
Известно, что войско его тысяч в пятнадцать ратников-конников и пехоты. Имеются и пушки. А большинство составляют, кроме смердов с Северской Украйны, всякого разбойничего сброда, а также дружин бояр-предателей, казаки и поляки.
– Не помогут ему поляки, – говорил Голицыну Димитрий Шуйский при выступлении из Москвы. – Эти ведь не из королевских войск, а так, наемные грабители и литва всякая дремучая. Надо неожиданно к Орлу подойти и сразу брать приступом, не давая им расчухаться. Вон у нашего Мишки Скопина такие внезапные нападения хорошо получались. Нешто у нас хуже получится, чем у мальчишки?
– Ну да, надо стрелецким головам приказать грозно: чтоб без всякого роздыха готовили лестницы, крючья и прочее. Неча там каши варить, да месяцами у стен дерьмо месить, порох да ядра переводить непомерно. Сразу – подкрадемся и на стены. А ворота подорвем: у меня от наших лазутчиков и план есть. Прикажем выкатить пушку супротив самых слабых ворот, вдарим ядрами несколько разов и… сразу пустим стремянных стрельцов и конницу детей боярских. Пусть рубят там безо всякой пощады всех подряд и пленных не берут… – Голицын даже рукой взмахнул мужественно.
Войска шли быстро, бодро и тихо, намерившись внезапно подойти к Орлу. Неожиданность – вот что главное, твердили ратникам младшие начальники и стрелецкие головы, и бывшие во главе полков… а шло настроение боевое и смелое от князей-воевод. Готовились напасть неожиданно и…
За семьдесять верст до Орла под городком Болховом шайка самозванца стремительно появилась из-за бугра в чистом поле. Казачьи сотни запорожцев и донцов с таким визгом, свистом и воем бросились на московских стрельцов, что они невольно попятились. Никак не могли понять: почему так случилось, что неожиданно напасть собирались они, а тут на совершенно неготовые к сражению полки налетели бешеные казаки и яростные польские гусары гетмана Ружинского.
Князь Голицын побледнел от этой непредвиденной жути. Ну не дал ему Бог сдержанного и отважного нрава, не имел он предвидения полководческого – хоть ты умри. Однако знатность происхождения заставляла его быть полководцем. Вот и пришлось умирать под вражескими саблями многим неповинным и преданным царскому военному укладу москвитянам. Они бились, конечно, упорно и смело поначалу. Однако до самого простого ума доходит постепенно: почему начальники не послали заранее разведку, не продумали искусного построения полков, не предвидели возможности внезапного нападения врага?
Они сражались, они не побежали от «воровских» казаков. Но они не могли решить все, хотя, возможно, каждый из них был хорош на своем месте. А про них потом, выгораживая себя перед царем Шуйским и брюхатой, бородатой боярской Думой, говорили их большие начальники:
– А что мне оставалось делать? Голицын оголил мне правое крыло, мои ратники струсили. И все врассыпную. – Это оправдывался Дмитрий Шуйский.
Словом, неудачливый, неумный, хотя и страшно честолюбивый, завистливый Дмитрий Шуйский, да такой же бездарный, слабодушный, но жаждущий престола Василий Голицын, проиграли эту кровавую военную игру. Сражение длилось 10 и 11 мая. Первым, прикрываемый личной охраной, с поля ускакал князь Голицын. А тогда уж «Братцы, спасайся!» побежало его воинство. Не выдержал, не смог распорядиться, не показал личным примером самоотверженной храбрости брат царя Шуйского. Сотни убитых, раненых, взятых в плен своими же, единокровными, православными людьми и надменными, безжалостными поляками. Впрочем, и казаки не считали москвитян братьями, единоверцами, «рубили в капусту» не хуже, чем в битвах с крымчаками и турками.
Болхов сдался победителям. Казаки и поляки собрали коло. Будучи уверены, что они скоро займут Москву и посадят на московский престол того царя, которого сочтут нужным, они требовали от самозванца клятв и обещаний.
Стоя в центре коло уже не таким важным, как прежде, он говорил:
– Господа гусары! Господа казаки! Панове! Я клянусь вам, как токмо будем в Москве, заплачу вам все оговоренные деньги сполна и отпущу домой. – Но тут же, прижимая руки к груди, заклинал этих бесшабашных, жестоких рубак со слезами на глазах. – Я без вас не смогу быть паном на Москве. Я бы хотел, чтобы поляки были всегда при мне. Пусть на всей Руси одним городом правит поляк, а другим москвитянин. Я от сердца хочу, чтобы вы, победители, забрали себе здесь все серебро, все золото. Я буду доволен одной славой, какую получу благодаря вам, панове. Если же вы все-таки захотите покинуть Московию и уехать в Польшу, то подождите. Побудьте со мной, пока я не приглашу других польских рыцарей.
«Он так благодарен полякам, что с радостью готов отдать нам свою отчину, не испытывая угрызений совести или хотя бы малейшего сожаления? – думал во время коло гетман Роман Ружинский. – Или он притворяется, как скоморох на ярмарке, этот внутренне надменный, загадочный человек? Он и впрямь мечтал с юных лет о царском троне? Или это неожиданный и случайный поворот в его судьбе?»
Беглецы с Болховской битвы, может быть, пораженные страхом, а скорее для своего оправдания пугали всех в Москве огромным числом ратников в войске самозванца. Но пять тысяч воинов-москвитян, сдавшихся в Бохове и присягнувших Димитрию, быстро изменили ему. Когда воровское войско двинулось к Москве, они (эти пять тысяч хитрецов) первыми переплыли Угру. Ночью ушли из-под стражи поляков и прибежали в Москву.
Войдя в Кремль, стали кричать, чтобы вышел к ним государь. Конечно, то были не простые ратники, а стрелецкие головы и полковники. Шуйский вышел на крыльцо. Сдавшиеся, а затем ушедшие из плена заверили царя, что в войске Лжедимитрия ратников совсем немного. И держатся они порознь: поляки гетмана отдельно, остальные поляки отдельно – от гетманских гусар, литва отдельно, казаки отдельно – донцы и запорожцы сами по себе. Да еще в стороне стоят табором всякие беглые холопы, смерды, разные слобожане и горожане, а дружины бояр и князей-изменников держатся скопом, но подальше от поляков.
– Что ж, детушки, я на вас зла не держу, – сказал царь. – Молодцы, что так лихо обманули воров и нас известили про их шайку. Расходитесь по домам, стрельцы по полкам своим предъявитесь. Готовьтесь биться, когда воры с поляками пойдут на Москву.
– Благодарствуй, великий государь, а мы всегда за тебя, за Москву да за отчину.
Однако лазутчики московского войска скоро принесли неприятную весть.
Чтобы увеличить численно отряды, самозванец велел объявить по всем городам следующее.
Крестьяне, господа которых служат Шуйскому, брали бы себе их терема со всем достоянием и женились бы на их дочерях. Повеление «Димитрия Ивановича» понравилось многим из простых ратаев[80] и закупных холопов. Вооружившись косами, вилами и топорами, они нападали на господские поместья, изгоняли своих хозяев и захватывали их вотчины вместе с дочерьми, да иногда прихватывая жен, сестер и племянниц.
Один иноземец из Датского королевства, остановившийся по торговым делам в Немецкой слободе на Кукуе, писал своему доверителю о московских событиях, сообщая, что из-за такого «прелестного» заявления Димитрия многие слуги стали господами, а господа, убежав к Шуйскому в Москву, терпят голод.
Тем временем самозванец двигался, не встречая сопротивления, через Козельск, Калугу, Можайск и Звенигород по направлению к столице. В Звенигороде к нему явился пан Петр Борзковский из Кракова.
Это был молодой человек, одетый как гражданское лицо, но имевший документы и приказания от королевских послов Олесницкого и Гонсевского. Показав самозванцу документы, Борзковский попросил «ясновельможного пана командующего» пригласить всех поляков, возглавлявших польские отряды в его войске.
Лжедимитрий мрачно пожал плечами и послал слуг за панами командующими. Через недолгое время вошли гетман Ружинский, полковник Лисовский, пан Кернозицкий, князь Адам Вишневецкий. Борзковский представился, еще раз предъявил документы.
– Ясновельможные панове, – обратился к воеводам молодой посланец, – я представляю сейчас королевских послов, панов Олесницкого и Гонсевского. Они находятся в Москве не на свободе, но под караулом, хотя и в сносных условиях. Их освободят, когда будет заключен договор между Его Величеством королем Сигизмундом и царем Василием Шуйским. Сейчас из Кракова приехали новые послы: паны Витовский и Друцкий-Соколинский. Они уже подготовили мирный договор с царем Московии на три года одиннадцать месяцев.
– Причем тут мы? – раздраженно спросил полковник Лисовский.
– Вы, пан Лисовский, как возглавлявший рокош против короля, объявлены его врагом и изгнаны из Польши, – резко произнес представитель послов. – К вам это отношения не имеет. Но остальные поляки, не участвовавшие в рокоше, обязаны выполнить условие, записанное в договоре. Заключается оно в следующем. Все поляки должны покинуть земли Московского царства в ближайшее время и проследить выполнение договора среди своих подчиненных. Невыполнение условий договора делает такого человека ослушником королевского указа и преступником законов Речи Посполитой. Я вас слушаю, панове. Ваш ответ, князь Ружинский.
– Я тоже имел отношение к рокошу, – с усмешкой сказал Ружинский. – Кроме того, я не только князь, но и гетман.
– С каких это пор? – удивился Борзковский.
– С тех пор как я возглавляю восемь тысяч гусар в войске Его Величества царя Димитрия Ивановича.
– Но король Сигизмунд не имеет дипломатических отношений с царем Димитрием Ивановичем. Он признает царя Василия Ивановича.
– В свое время король общался с Димитрием Ивановичем, ссужал ему деньги и даже подписал с ним тайные кондиции, – сказал сердито князь Вишневецкий.
– Об этом в договоре, составленном теперь, ничего не сказано. Может быть, прежние отношения короля были с другим человеком?..
– Как вы смеете! – воскликнул Ружинский. – Вы хотите сказать, наш государь присвоил имя другого человека?
– Нет, этого я не говорю, – смутился Борзковский, почувствовав, что разговор может стать для него опасным. – Я не могу это утверждать. С моей стороны было просто предположение. Однако, панове, как мне объяснить ваше решение послам – и прежним, которых пока удерживают, и вновь приехавшим из Кракова?
– Я, князь и гетман Роман Ружинский, остаюсь в войске государя Димитрия Ивановича.
К нему присоединился князь Вишневецкий:
– Я с давних пор не только нахожусь на службе у государя Димитрия Ивановича, но и являюсь его личным другом.
– То есть вы отказываетесь выполнять указ короля Сигизмунда?
– В этом отношении… да, отказываюсь.
– О, панове, – покачал сокрушенно головой Борзковский, он встал, поправил пояс на своем изящном кафтане, всем видом показывая, что визит его заканчивается. – Подумайте о своих семьях, о своих замках в Польше. Вы отвергаете указ короля, подтвержденный сеймом.
– И тем не менее я остаюсь здесь.
– А вы? – поверенный польских послов повернулся к Кернозицкому.
– Я тоже.
– Мне остается заверить вас, панове, что ваш ответ я передам послам Его Величества Сигизмунда. – Борзковский слегка наклонил голову, вышел из дома, где обосновался Лжедимитрий, и сел на коня. Отряд польских гусар, который сопровождал Борзковского, поскакал за ним.
– Не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас, панове, – дрожащим голосом сказал самозванец. Он сделал шаг, словно для того, чтобы приблизиться к Вишневецкому. Однако князь остановил его сдерживающим жестом. Лжедимитрий растерянно оглянулся. – С такими рыцарями я без сомнения скоро буду в Москве и сяду на трон своего отца, – закончил он короткую благодарственную речь.
Поляки насмешливо переглянулись.
– Надеюсь, государь, ты объявишь всему войску о продолжении наступления на Москву? – довольно небрежно предложил самозванцу Ружинский.
– Да, да, конечно. Как только вы, князь и гетман, сочтете нужным. Завтра?
– Да хоть завтра.
– Я прикажу канцлеру составить приказ.
Все, кроме самозванца, вышли из дома.
– Ух, как возгордился сей зарвавшийся холоп, – произнес Лисовский. – Москву-то мы возьмем, а вот насчет трона… Мы еще подумаем, кому его предложить.
Самозванец за дверью расслышал сказанное Лисовским.
– Погоди, дай мне силу взять под свою руку стрелецкие полки, пушечный двор и государственную казну, – пробормотал мстительно Лжедимитрий. – Я еще с вами сочтусь.
V
В июне отправлены были из Москвы к королю Сигизмунду посланники – князь Григорий Волконский и дьяк Андрей Иванов. Посланникам царь дал наказ объяснить недавние события и причину успеха первого самозванца. Они объясняли это шатанием в народе из-за несправедливостей и согрешений царя Бориса.
Когда же паны из сейма спросят, каким образом вор-расстрига был убит, указывалось послам говорить так:
«Изо всех городов Московского государства дворяне и всякие служилые люди съехались в столицу. И тогда царица Марфа, которую расстрига выдавал за свою мать, также бояре и многие люди всякого звания, и присутствовавший там же наш ныне великий государь Василий Иванович обличили вора-расстригу Гришку Отрепьева. И за те его злые богомерзкие дела осудя истинным судом, весь народ Московского государства его убил».
Король Сигизмунд или кто-то из сенаторов сейма удивлялись на эту несуразицу в объяснениях московских посланников:
– Как это весь народ может убить одного человека?
Еще при переезде польской границы полицейский пристав, задавая обычные вопросы о причинах приезда московитов и слушая их ответы, спокойно заявил посланникам Шуйского:
– Ваш царь Димитрий из Москвы убежал. Он жив, здоров и живет у сандомирской воеводши, панны Головинской, второй жены пана Юрия Мнишека.
– Это неправда, – рассерженно сказал приставу князь Волконский. – Когда убили вора-расстригу, убежал из Москвы один из его ближних, занимавшийся чернокнижием и не единожды битый за то кнутом в пытошной, злодей Михалко Молчанов. Он после погибели вора Гришки стал выдавать себя за царя Димитрия, то есть за Самозванца, оставшегося будто бы в живых.
– Ну уж не знаю, – пожал плечами польский пристав. – Я сам его не раз видел.
– Каков же он рожей и волосом?
– Ростом не мал, лицом смугл, брови черные нависают, глаза небольшие, темные. Волосы на голове черные курчеватые, усы черные, бороду стрижет, на щеке бородавка с волосами. По-польски говорит, грамоте польской горазд и по-латыни говорить умеет.
– Это вы, пан пристав, описали перед нами сподвижника расстриги – Михайлу Молчанова, он же стал тогда убийцей жены Годунова царицы Марии. А прежний вор Гришка Отрепьев ростом был невелик, лицом не смугл, волосом рус с рыжиной.
Принимали посланников Шуйского скверно. Простой люд повсюду в Литве – и по городам, и в посадах, и в панских имениях – бесчестил их, называл изменниками царю Димитрию, браня непристойными словами. В Минске следом за их каретой бежали со злобными криками. Бросали камни, хотели драться с охраной, а посланников грозили убить.
В Кракове король не только не пригласил дипломатов Шуйского к обеду, но и не прислал никакого возмещения – другого достойного их звания продовольствия. Что раньше полагалось по статусу.
На объяснение их в письменном виде всей истории с Самозванцем, король Сигизмунд при аудиенции пенял им:
– Во время убийства царя Димитрия, случились многие разбои и нападения на поляков, прибывших с ним. Резню поддержали те, кто захватил власть в Москве. А теперь многие люди разыскивают Димитрия, чтобы его поддержать и снова отправиться с ним к Москве.
– Но сие есть злодеи и нарушители договора, – с укоризной в голосе сказал Волконский. – А они имеют поддержку в Польше у знатных панов и князей, а не только у черни.
– Сами люди Московского государства делают у себя разруху и затевают войну, на нас же сваливают, – раздраженно заявил король. – Если государь ваш отпустит воеводу сандомирского с сыном и дочерью, так же как многих других польских и литовских людей, удерживаемых в Москве, то и мы ответим возвратом русских пленных.
Паны сейма возмущались тем, что появление «второго Лжедимитрия» Москва опять сваливает на них. Посланники грозили панам: мол, если король не остановит поддержку самозванцев со стороны поляков, то царь Василий пошлет на Ливонию королевича Густава[81] и шведских рейтаров. Толку в этих переговорах было очень мало.
Для Сигизмунда грознее был очередной рокош, а не королевич Густав. Он совсем не желал войны с новым московским царем, но не отказался бы от давно желаемого Смоленска, а также Пскова и Новгорода, которые обещал ему первый Димитрий.
После посещения в Звенигороде паном Борзковским знатных поляков, войско «царя Димитрия Ивановича» немедленно двинулось к Москве.
Шуйский хватался за голову, падал перед иконой и молил о помощи Господа, Богоматерь и всех святых. Молил со слезами: «Что делать? Что делать, Господи? Спаси, сохрани и помилуй»… А тут принесли тяжкую весть: Псков… уже не южные северские города… оплот державы вместе с Новгородом на северо-западе… присягнул Вору-самозванцу. Новгород тоже ненадежен. А в самой Москве заговоры один за другим. Хватают изменников, головы рубят – да что толку.
Вот и послал навстречу Вору сильное войско. Во главе поставил молодого племянника Михайлу Скопина.
– Даю тебе, Михайлушка, полк Романова да полки князей Трубецкого, Троекурова, Катырева. Князья в прошлые разы неплохо себя показали. Думаю, сил достанет вам разбить воровское войско. Да самого самозванца бы пленить.
– Знаю, государь Василий Иванович, он, Вор-то, от Калуги идет прямиком на нас.
Вышло войско под главенством Скопина через Серпуховские ворота. Выйдя, послал Михайла Васильевич передовые дозоры. От князей Троекурова, Трубецкого, Катырева потребовал лазутчиков ему предоставить. Предоставили. Все прекрасно, все справно. Они ушли и не вернулись. Подозрительно. Пришел один. Плел, плел что-то невразумительное, а потом и покаялся.
Сказал, что князья Катырев, Трубецкой да Троекуров сговорились учинить измену. Хотят переметнуться к Вору вместе со своими помощниками, стрелецкими сотниками и со всеми полками. С ними, простыми-то ратниками, уже разговоры велись. Большинство согласилось изменить Шуйскому.
«Да, ну и князья, ну и воеводы русские… – думал, едва сдерживая возмущение, Михайла Скопин, главнокамандующий. – До какого позора можно дойти, ежели мыслишь только о своем чванстве, своем богатстве… И главное для тебя не отчина, не Москва, не народ православный, а брюхо, честолюбие, корысть… Эх, Иуды Искариотские… Ну ладно, не нравится вам Василий Иванович Шуйский… И впрямь он не мед. Сам на Самозванца греб, когда хотел Годунова сбросить, на его место залезть. А потом устроил заговор на Лжедимитрия и его убил. Сам стал царем, – только не нравится дядя ни мизинным, рваным да голодным людишкам, ни вятшим, знатным да богатым… Предают изменники свою столицу, свои златоглавые церкви, своего ими же избранного да коронованного государя. Им теперь подавай “царя Димитрия Ивановича”, хотя знают все князья и бояре, что никакой он не “Димитрий”, ни сын Ивана Грозного и даже не Гришка Отрепьев, расстрига, самозванец и лжец, хотя человек был неглупый и поворотливый, – может, хотел добра сделать больше на Москве – да куда там, связался с поляками, с литвой, с католиками-иезуитами – с исконными врагами… И в других многих городах царства Московского воеводы – те же князья да бояре, да дворяне из старых служилых родов присягают Вору, как истинному государю… Будто не видят: в войске у него больше половины поляки, литва, казачье безжалостное… Им русских людей резать, грабить, убивать да насиловать, русскую кровь лить – что воду… А простой народ доверчив, темен, беспонятлив да беспамятен… Ежели ему нынче плохо – надобно царя менять на “справедливого”, “истинного”, будто бы пройдоха им двери райские отворит да жизнь безмятежную устроит…»
Наутро вызвал Катырева, Трубецкого, Троекурова в свой шатер. Резко, холодно сказал об их измене. Не обращая внимания на оправдательные восклицания и кудахтанья, пояснил:
– Ваши уговоры подслушаны, ратники опрошены. – И своим стрельцам: – За караул их немедля. К царю, к думцам, на расследование.
Князей и их приближенных разоружили. Кто хотел сопротивляться, связали. Окружили отрядом верных стрельцов и повезли в Москву – к дыбе, кнутам, огню. К плахе посреди Красной площади.
Михайла Скопин написал царю грамоту. В ней указал вину князей-изменников. Присовокупил: «Отправляю их к тебе для розыску вместе с их сообщниками. А Вор, по сведениям лазутчиков, идет на Москву. Полагаю, хотят ударить на нас: Вор – от Звенигорода, Лисовский – от Коломны. Жду твоего указания, государь».
В Москве заговорщиков пытали, вину подтвердили. Дума сначала приговорила всех к топору. Но Шуйский сказал, кряхтя:
– У князей-то родственников в Москве полным-полно. Потом подлостей от них не оберешься. А прочих казнить.
Предложил знатных разослать в дальние города по тюрьмам, незнатным отрубить головы. Дума, конечно, с царем согласилась. Покивали горлатными шапками, пошевелили длинными бородами – с кем греха не бывает. Вон самого нынешнего государя Василия Ивановича Шуйского трижды на плаху клали. Еще при Иване Грозном, при Годунове и при Самозванце. И все три раза в последнюю минуту удавалось ему выскользнуть из-под топора. Знать, судьба его была воссесть на царский престол.
– А войско со Скопиным-Шуйским и Романовым возвернуть. Какое уж сражение, когда полвойска согласны передаться Вору. Надо новое собирать да перелопачивать.
– Да, да, право слово, государь, Скопина возвернуть! – открыл гортань громогласно и вылупил глаза Дмитрий Шуйский, отчаянно боявшийся, что молодой удачливый племянник разобьет Вора и падет на него свет воинской славы.
А по Москве в народных толпах слышалось:
– Если б он не был настоящим Митрием, то князья и бояре, што к нему отъехали, небось воротились ба… Значит, он и есть истинный, тот же самый.
– Да што ж нам-то? Ведь князья да бояре перебили тута по всей Москве поляков. И его самого, Митрия-то, хотели убить. Да не вышло, убег он от них. А теперь вот внове идет и опять с ляхами своими. Придет – разберется: кто перед ним виноват.
– Ну, мы-то об всем таком ничего не знали.
– Мне один праведный муж толковый баил: он ведун, по глазам узнает, кто виновен, кто нет.
– Ахти мне! Никогда нельзя мне ему показываться! Я этим самым ножом зарезал пятерых поляков, ей-ей…
Не встречая по-прежнему ни малейшего сопротивления, войско Лжедимитрия приблизилось к столице и остановилось над Москвой-рекой.
– Я думаю, Ваше Величество, – обратился к «царю» канцлер Валавский, – следовало бы перейти реку и перекрыть дорогу на север. По ней, если учитывать сведения разведчиков, в Москву привозят продовольствие, а также подходят ратные люди из незанятых городов.
– Что ж, если есть веские причины, пожалуй, так и сделаем. Вот перед нами Москва, моя столица. Теперь мне остается восстановить справедливость, изгнав старую лису Шуйского, и сесть на престол.
Князь Ружинский скривил губы в иронической усмешке.
– Сначала нужно разгромить семидесятитысячную армию, которая стоит на Пресне. Кстати, у них там, кажется, хватает пушек с картечью.
Войско Лжедимитрия переместилось в Тайнинское. Но из этого места очень легко было сбежать в Москву. Кто-то среди русских отрядов решил так и поступить. Несколько человек стали пробираться к Москве, но были пойманы на постах сторожами.
Утром беглецов приволокли к «царю».
– Хотели сообщить о расположении моих войск воеводам Шуйского? Всех казнить. Сколько их? Десять? Пятерым головы долой. Пятерых-зачинщиков – посадить на кол, чтобы другим неповадно было. Кто у нас умельцы сажать на кол? Запорожцы? Литовцы? Ах, все-таки поляки… Ну да, они привыкли усаживать на колы восставших хлопов в Украйне.
– Что-то уж слишком жестоко, Ваше Величество, вы начинаете свой «въезд во Иерусалим», – заметил князь Вишневецкий, может быть, вспомнивший про своего деда-запорожца.
– Ничего, пусть привыкают, – сказал, фыркая, Лжедимитрий.
Вопли усаживаемых на колы, кажется, вызывали у него приятные ощущения.
– Разве вы не знаете, что московиты особенно жестоки к своим соплеменникам? – спросил князя гетман (его теперь чаще называли так) Ружинский. – Это у них пошло то ли от татар, то ли после царствованья Ивана Грозного.
– Очень может быть, – почему-то печально сказал Вишневецкий.
Но в следующую ночь в Москву сбежало еще больше русских, перебив на пути сторожей-поляков, пытавшихся из схватить.
Придя в Тайнинское, Лжедимитрий перекрыл северную дорогу. А войско Шуйского перерезало обозные пути с юга.
– Что мы выиграли этим тяжеловесным перемещением? – язвительно осведомился у Вишневецкого гетман. – К нам нет поступлений продовольствия с юга.
Вишневецкий промолчал. За него ответил Валавский:
– Да, мы проиграли в маневре. Надо исправлять.
– А что ты думаешь, Иван Мартынович? – спросил «царь» Заруцкого.
– Гетман прав, здесь место во всех отношениях неудобное. Чтобы создать большой укрепленный табор, лучше всего село Тушино. Оно находится между реками Москвой и Сходней. Реки могут служить защитой от внезапного нападения. Также будут преградой для перебежчиков.
Войско Лжедимитрия перешло на землю между Москвой-рекой и Сходней, называвшуюся Тушино. Начали строить избы, подобие казарм, коновязи, хозяйственные постройки. Поставили шатры для знатных поляков и большой роскошный шатер из ткани с золотистым отливом для «царя Димитрия Ивановича». Задымились костры, забурлили походные котлы с похлебкой и кашей. По краю всей занятой войском земли установили пушки, повернутые жерлом к Москве.
Однажды показался всадник в окружении небольшого конного сопровождения. Это были явно поляки на сытых ухоженных конях, в летних кафтанах и изящных головных уборах европейского вида с дорогими перьями. Они переехали уложенный через Сходню наплавной мост. Спросили у примостной стражи, вооруженной алебардами и пищалями, – где найти гетмана Ружинского. Им указали деревянный дом, рядом с которым был установлен прапор, сиявший на солнце золоченым навершием. При входе в дом гусары с саблями у бедра, с пиками и пищалями.
Появился гусар более высокого чина, спросил, кого имеет честь видеть.
– Я посланник от королевских послов Доморацкий.
Через короткое время вышел гетман, кивнул приехавшему незнакомцу.
– Я посланник от… – снова начал поляк в легком кафтане.
– Я слышал ваше представление моему адъютанту. Что вы хотите мне сообщить, пан…
– Доморацкий.
– Кого вы представляете?
– Королевского посланника ясновельможного пана Гонсевского. Пан гетман, я довожу до вашего сведения, что между королем Польши Сигизмундом и царем Московского царства Василием Шуйским заключен договор, согласно которому…
– Но простите, пан Доморацкий, ко мне лично и ко всем начальствующим в этом войске польским панам уже обращались по поводу выполнения этого договора.
– Договор о мире между Речью Посполитой и Москвой заключен на три года одиннадцать месяцев. По заключении его все находящиеся здесь поляки должны покинуть Московское царство и вернуться за границу Речи Посполитой. Таким же путем будут освобождены все поляки, задержанные до этих пор. Уже отпущены, например, сандомирский воевода пан Юрий Мнишек с сыном и дочерью. Как и все польские полководцы, вы, пан гетман, должны немедленно увести всех поляков, пришедших с войском человека, названного Димитрием. В договоре твердо установлено следующее: Польша не должна вмешиваться во внутренние дела Русии.
– Это все, что вы хотите мне сообщить?
– Все, пан гетман.
– Тогда скажите послам, что я стою на пороге Москвы и не намерен терять город, который почти находится в моих руках. Вам ясно, пан Доморацкий? Вы говорите, что царь Шуйский отпустит всех поляков. А что будет нам? Нам, которые уже столько времени провели в сражениях и тревогах?
– Я думаю… – Доморацкий замялся и пожал плечами. – Я надеюсь, король оценит ваши военные действия по достоинству.
– Он уже оценил после рокоша лучших благороднейших рыцарей Польши и наградил нас изгнанием. А договор короля с Шуйским нас не касается. Мы будем продолжать войну.
Доморацкому пришлось удалиться ни с чем. Власть польского короля и сейма не распространялась на Тушинский табор.
А Ружинский отправился к «царскому» шатру и, заглянув в него, весело произнес:
– Государь, я пришел сообщить вам радостную весть.
– Какую, пан гетман?
– Ваша жена отпущена вместе с остальными Мнишеками – Юрием и Владиславом. Мы должны остановить ее на пути в Польшу, и она предстанет перед вами.
– О, я давно мечтал об этой встрече, – искусственно улыбаясь, заявил слегка побледневший «царь Димитрий».
– Но Шуйский наверняка отправил их с охраной. Надо послать наших людей, чтобы они разогнали охрану и освободили вашу жену… Ее зовут Марина?
– Д-да, – ответил «царь», еще сильней побледнев.
– Я пошлю Валавского и дам ему конный полк. Думаю, этого хватит. Дело стоит усилий, не только потому, что это ваша жена, государь. Прежде всего, она полячка знатного рода и, говорят, красавица. Наших гусар воодушевит ее присутствие.
Отправившись спать в избу, выделанную ему под опочивальню, самозванец беседовал с Рукиным.
– Что если эта стерва при всех скажет, что я не ее муж? Да там еще отец, который все дело устроил с тем, с прошлым Митькой… Может, поговорить с Будзило, чтобы он их убрал, а? Литвин, по-моему, мастак на такие дела.
– Ты совсем ополоумел? – взвился Рукин. – Да Будзило нас тут же выдаст. Все поляки, весь табор встанет на дыбы! Нас с тобой растерзают, как волки зайца…
– Ну хорошо, хорошо, не визжи. Что придумать-то?
– Прежде чем они появятся здесь, надо и ее, и Мнишека подготовить. Пообещай отцу тысяч триста, ведь их наверняка обобрали до нитки. Ну а ей скажи: ты снова станешь царицей. У тебя будет все: драгоценности, наряды, слуги… Я думаю, не устоит.
– А вдруг упрутся?
– Вот тогда и показать им – или соглашаются, или… – Рукин черканул себе большим пальцем по горлу.
– С другой стороны, приезд жены поднимет к нам уважение поляков. Она полька, да еще коронованная царица. А то некоторые паны-воеводы на меня что-то фыркать стали. Только бы Адам Вишневецкий не проболтался… или нарочно…
– Эх, надо было сразу, как он объявился, Будзилу натравить на него… Вот бы тут все и утихло…
– Опасно, ой опасно… Маленькая промашка – и нам не жить. Даже если бы Будзило согласился и сделал с Адамом-то, ну…
– Че «ну»?
– Он бы тогда нас с тобой на аркане держал, как жеребят. И никогда бы не отпустил. Пришлось бы его самого как-нибудь… А как?
– Надо поговорить с Вишневецким. Пойди к нему тихо, Сань, и все объясни. Ну, он человек умный, он найдет способ выйти из этой западни. Давай, тихонько прокрадись.
– Ох, боюся, что не выйдет… Давай сам…
– Тьфу, дурак! Я же царь… За каждым моим шагом следят.
Через полчаса Александр Рукин пробрался к шатру Вишневецкого и попросил его выслушать.
На другой день Вишневецкий оказался у палатки канцлера.
В тот же день Валавский собирался ехать на перехват кареты Мнишека. Гусары седлали коней. Поодаль с полковником о чем-то оживленно беседовал гетман Ружинский.
А рядом с паном Валавским, как всегда, нарядно одетым, румяным и свежевыбритым, стоял князь Адам Вишневецкий.
– Так вы все уяснили, пан Валавский, в чем ваша задача?
– Да, конечно, князь Адам. Но что я скажу не только царю, но и, например, гетману Ружинскому, воротившись без Мнишека?
– Скажете: не догнал, не успел.
– И что?
– Да ничего. Царь с виду расстроится, хотя в душе обрадуется. А Ружинский разозлится. Но мы это потом уладим. Главное, что вы, пан Валавский, останетесь канцлером.
VI
Гетман Ружинский предполагал вступить в Москву после решительного сражения.
Царское войско числом в семьдесят тысяч ратников стояло на реке Ходынке. Сам царь с двором и отборными полками выбрал берег Пресни, готовый поддерживать основную рать. Кругом вóйска были расставлены караулы и засады. А в том месте, откуда возможно было внезапное появление врага, пылали ночью сменные факелы. Пушки, заряженные и установленные в нужном направлении, готовились в любое время открыть огонь ядрами и картечью. Все были начеку. И все-таки проспали внезапное нападение гетмана Ружинского.
Поляки сумели ночью подобраться почти вплотную. Они напали на царское войско, стреляя на ходу из мушкетов и пистолей. Со свистом и воем в промежутки между полками ворвались казаки Заруцкого, сверкая на факельном свету голыми саблями. И все это случилось так неожиданно и страшно, что московские полки испугались. Пытались отмахиваться, но попятились, а потом и побежали, подвывая: «Ой, робяты, спасайси-и, ой худо-о…»
Ружинский захватил весь обоз, где спали, ожидая ясного утречка, припухшие от уютного сна, бородатенькие мужички. И поначалу никак не могли сообразить, чего это по ночам-то пика польская во чрево вонзилась, а у соседа голова отвалилась после казачьего сабельного удара. Катится голова в потемках и глазами от удивления хлопает. Даже полковники иные, попивая накануне медовую сыту из походных чаш, вскакивали ночью от стрельбы и крика и сталкивались со своими помощниками лбами.
Одно слово переполох и «беспортошное» убегание постигло среди ночи семидесятитысячную громадину московского войска. Так бы они и мчались спасаться неизвестно куда, если бы не натолкнулись у Пресни на бдительные, ощетиненные копьями полки воеводы Михайлы Скопина-Шуйского и Ивана Романова.
– Стой! Куда серить спешите, ушканы[82] хреновы!
И, может быть, от такой знакомой ругани и от ударов палками по башке стали останавливаться и оборачиваться многие из семидесяти тысяч. А, проснувшись окончательно, заорали: «Ах это вы-и нас, ляхи проклятые?! И не предупредя да по ночному времени?! Ах, вы мать-то вашу распротак-то! Ну-ка поворачивайте, робяты… Бей их со всего плеча сукиных детей, окаянных…»
Ну, развернулись семьдсять тыщ вояк да как поперли на коварных ляхов и хитромордых казаков: «Ах, вы изменщики рода православного!»
И с ревом семидесяти тысяч медведей пошло войско Шуйского на поляков. И те их не удержали и потекли назад. А москвитяне с хряпом рубили их бердышами, пронзали копьями, рассекали мечами. Теперь поляки, погибая и стараясь убежать, взывали под напором русских: «Езус Мария, до пумощь! Ратуйте!» И тут рявкнули московские пушки. Явно воинству Ружинского стало невмоготу. Потери поляков росли, трупы заносчивых жолнеров и всадников лежали грудами.
Скопин повел конное войско, выходя тушинцам в тыл. Он несся впереди с обнаженной саблей и первый снес голову, вылезшему из-под воза грабителю. Его конники молча рубили впавших в панику мародеров. Тут и князь Мстиславский двинул пехоту со стороны Пресни, и она полностью овладела Ходынским полем. Скоро вернули москвитяне обоз, заваленный окровавленными телами своих и врагов. И гнали поляков вроде бы уж безостановочно.
Заготовленные Ружинским за рекой Химкою запасные полки налетели с одного крыла и смяли ответное наступление москвитян. А те от неожиданности – чего это сбоку стреляют да лупят? Остановились. Повертели головами, попятились и побежали от поляков обратно. И отступали вновь до Ходынки, где их остановили неколебимые рати недремлющих воевод Скопина и Романова да самого Василия Ивановича Шуйского. Там остановились было, чтобы снова навалиться на поляков, но те не продолжили сражение, а возвратились в Тушинский табор.
Большинство поляков, не получивших серьезных ран, были довольны, что дело кончилось. Некоторые из них во время ответного наступления русских настолько перепугались и почувствовали такую неуверенность в дальнейшем развитии войны, что начали запрягать возы с награбленным. А многие решили: битва и война проиграны. Надо покидать Тушинский стан и спешить к литовской границе.
– Пан гетман, я думал вы уже входите в Москву, – горевал Лжедимитрий, встречая возвращавшихся польских воинов, понесших значительные потери.
Ружинский был мрачен. Его внезапное ночное нападение на москалей, так блестяще начавшееся, захлебнулось, было остановлено и отброшено. Если бы не заготовленные им сбоку в густой рощице два конных полка, вояки Шуйского так и гнали бы войско «Димитрия Ивановича» до Тушина, а может быть, и дальше. Или, как считали некоторые его соратники, – до самой польской границы.
– Нет, государь, в Москву мы не прорвались, – угрюмо отвечал Лжедимитрию Ружинский. – Но все-таки мы наступали на москалей последними. Они уже не преследовали нас из-за Ходынки. Однако резня получилась жестокая. Это сражение дорого нам стоило, я не ожидал. Если они еще пополнят свое войско и попробуют напасть…
Гетман приказал окопать весь лагерь рвом, поставить на валу частокол, возвести сторожевые башни и сделать прочные ворота.
Полковник Лисовский с запорожскими казаками, действуя отдельно от основного войска Лжедимитрия, взял в Рязанском княжестве Зарайск. Город подвергся огню и разорению, напомнивших грамотным людям летописание о вторжении в Рязанскую землю кочевых орд хана Батыя.
Из Рязани к Зарайску пришло ополчение с воеводой Захаром Ляпуновым. Сражение длилось ожесточенно и упорно. Уступавшая в числе ратников и вооружении, дружина Ляпунова была наголову разбита. Рязанский воевода ускакал с небольшой кучкой ближних людей.
После этого, грабя и сжигая по пути деревеньки, Лисовский вышел к Коломне, взял ее приступом, разорил и обезлюдел.
Но на дороге к Москве его догнали конные дружины князей Куракина и Лыкова. Тут уж Лисовскому едва удалось избежать гибели или плена. Лишь с немногочисленным отрядом казаков он ускакал к Тушину. Остальные были нещадно перебиты.
Затем Куракин и Лыков вернулись к Коломне. Истребили ставленников Лисовского. И провозгласили в городе власть царя Шуйского, поставив новых вятших людей, присягнувших Москве.
Так война велась с переменным счастьем. Но для Шуйского впереди не было ничего утешительного.
Вор укрепился под Москвой. Вопреки договору, заключенному с королевскими послами, ни один поляк не оставил тушинский табор. Наоборот, один за другим прибывали новые отряды: Бобровский с гусарами, Млоцкий с гусарами и запорожскими казаками, дальше Збровский и Выламовский – каждый привел по тысяче наемных ратников из Польши и Ливонии.
К осени появился Ян Сапега, впоследствии известный своим искусным водительством полков и звериной жестокостью по отношению к мирным жителям. После него в селах и городах оставались только пепелища, раскачиваемые печально холодным ветром повешенные да изрубленные трупы женщин и детей на истоптанных копытами улицах.
Проезжая путями его походов, иной ратник-москвитянин горевал, глядя на сожженные жилища, на истерзанные тела русских светлокосых девушек, на казненных и замученных крестьян, и поминал бормотания Спирьки-юродивого у церкви Покрова на Красной площади: «Скоро враг придеть… Настанет темень темныя, тьма непроглядная… Ой, быть горю на Руси, плачь русский люд, голодный, посрамленный да убиенный люд…» Тогда многие юродивого корили и прогоняли:
– Че скулишь-то, уродливый? Че зря беду-тугу[83] накликаешь?
Ан и впрямь не зря плакал сам да и прочий бедный люд плакать звал блаженный, человек Божий.
Так Ян Сапега истязал и свирепствовал, хотя личный приказ короля Сигизмунда был ему вручен и гласил: не идти на Русь. Но для ясновельможного пана такой приказ явился оскорблением. Он плюнул на приказ короля и растоптал его рыцарским сапогом. И пошел на Русь добывать себе славу, страшную и кровавую.
Под знамена Тушинского вора стекались и русские воеводы, не только простонародье, надеявшееся на приход «истинного», «доброго» и «праведного» царя. Разочаровавшись и презирая хитрого жестокого старика Шуйского, а также и его туполобых, чванливых, престола жаждавших братьев, в Тушинский стан явились князь Дмитрий Трубецкой, Алексей Сицкий, Дмитрий Черкасский, Василий Мосальский. Многие из них надеялись, что лжецарь займет московский трон, и спешили обеспечить себе его благоволение.
А тем временем пан Валавский, канцлер Вора, использовал тайный совет Адама Вишневецкого – не найти или не догнать отпущенных Шуйским Мнишеков.
Но самозванец уже переменил свое отношение к встрече с женой бывшего Лжедимитрия. Он решил заставить коронованную царицу Московии, «эту гордую, упрямую сучку», как описал ее кто-то из знавших ее поляков, признать его своим настоящим мужем. Появление царицы Марины подтвердит его царское происхождение, если удастся разыграть трогательную сцену.
«Царь» наорал на Валавского, считая, что он недостаточно усердно искал Мнишеков. Он даже разжаловал его из канцлеров, но, впрочем, скоро восстановил. Гетману Ружинскому велено было устроить новую погоню.
Сам же пан Юрий Мнишек не торопился в Тушинский лагерь. Не спешил он и в Польшу. Все тысячи золотых монет, драгоценности и меха при пленении были у него отняты. Кое-что сперли свои, освободители-поляки, остальное выгребли грубияны-московиты из окружения Шуйского. Словом, сандомирский воевода вновь остался гол, как сокол, и даже более гол, чем был, став тестем первого Лжедимитрия.
Он ехал, глядя на унылые русские поля, и вздыхал с грустью, вспоминая прежнее роскошество и неожиданный трагический конец. Проклятый Шуйский! Проклятая шайка толстомордых толстозадых бояр, устроивших внезапный переворот! Будь проклято это дикое, взбесившееся московское быдло, нападавшее с упорством разъяренных быков! Что-то ждет пана Мнишека впереди… Попреки короля? Суды? Требования остервеневших кредиторов? О, Езус Мария! А каково Марине? Из коронованной царицы сказочно богатой Московии стать обычной да еще обедневшей панной. Не то вдовой, не то жертвой политического заговора.
Но позади вдруг послышались стрельба, крики на польском и на русском. Сопровождавшие их стражники разбежались.
– Что такое? – встревожилась Марина.
– Молчи, дочка, не наше дело. Пусть там сами разбираются.
Карета остановилась. Дверца распахнулась, и Марина увидела красивого польского гусара, радушно восклицавшего:
– Ваше Величество, вы свободны.
– Вы от царя Димитрия? – радостно спросил Мнишек, сразу приободрившись.
– Да, пан Мнишек.
– Так мой муж жив?! – воскликнула Марина, не веря своим ушам.
– Ваш августейший муж жив и с нетерпением ждет вашего появления.
– Какое счастье! – одновременно вскрикнули отец и дочь Мнишеки.
Карета развернулась и в окружении удалых всадников помчалась в обратном направлении.
– Мы едем в Москву? – спросила Марина офицера, скакавшего рядом.
– Не совсем. Мы едем в Тушино, это возле Москвы.
* * *
Итак, убегая от королевского войска, Ян Сапега пошел через русскую границу, как участник рокоша. Узнав о походе Сапеги, Самозванец послал ему письмо, в котором, свободно владея польским, просил не грабить по дороге жителей городов, присягнувших ему. «Димитрий» выражал новому воеводе свое высочайшее благоволение и заключал письмо словами: «А как приедешь к нашему царскому величеству и увидишь наши светлые очи, то мы тебя пожалуем жалованьем таким, какого у тебя и на уме нет».
А Зборовский, прибывший в Тушинский табор недавно, чтобы выслужиться перед «царем» вызвался превезти ему жену с тестем во что бы то ни стало. Когда пан Мнишек пересел на коня и, тряхнув стариной, решил продолжить путешествие верхом, беседуя с паном Зборовским, к карете подъехал князь Мосальский.
– Марина Юрьевна, кого, Ваше Величество, вы собираетесь встретить в Тушино?
– Что за вопрос? Своего мужа, царя Димитрия.
– Да, его по-прежнему называют «Димитрий Иванович» и «государь», но это совсем другой человек.
– Как? Не может быть! Вы лжете, – растерялась Марина.
– Вот вам крест святой, там вас ждет другой. А ваш муж действительно погиб в Москве, во время заговора, – сказал Мосальский и отъехал, смешавшись с конниками Зборовского.
– Отец! – крикнула в открытую дверцу Марина. Мнишек подъехал с озабоченным видом:
– Что стряслось, дочка?
– Я не поеду в это… Тушино. Там не мой муж ждет меня, а неизвестно кто. Какой-нибудь самозванец или разбойник.
– Ты сошла с ума. Ты хочешь жуткой истории с очень печальным для нас концом, – грустно сказал Мнишек.
– Они с вами все это подстроили! – крикнула в ярости коронованная панна Марина. – Я вам не потаскуха – подкладывать меня разным проходимцам.
– Замолчи, дура, – еле сдерживаясь, произнес пан Юрий, стискивая руки дочери. – А ты забыла, какую бучу ты закатила, когда тебя уговаривали выйти за того Димитрия… которого уже нет на свете. Хорошо, я поеду один, посмотрю на него. А потом вернусь, и мы с тобой еще раз поговорим.
– Да, да, езжай. И скажи, что я не желаю с ним встречаться.
Зборовский остался у кареты, а Мнишек с небольшим отрядом поехал в Тушино.
Мнишек уже знал все подробности. Все-таки он хотел посмотреть на замену прежнего зятя и решил попробовать добиться от него значительного денежного пожалования. Когда его ввели в шатер «царя», он не подал вида, что перед ним другой человек.
Довольно высокий и приглядный молодой мужчина в дорогом кафтане обернулся и воскликнул:
– Боже мой, как я рад вас видеть, отец!
Мнишек тут же принял предложенную игру и ответил со сдержанной радостью и одновременной печалью:
– А как я рад, что вы спаслись тогда от этих негодяев. Они ведь пленили меня с детьми, клевреты Шуйского… Они ограбили меня… Отняли у меня все, чем я был вами награжден… – и Мнишек, изобразив на лице величайшую обиду, всхлипнул совсем по-стариковски.
Новый царь оценил слова гостя, почувствовав, что с ним осложнений не будет. Он обнял Мнишека, как родного, и утешил:
– Дорогой отец, я все вам верну. Вы ни в чем не будете нуждаться. Сколько они у вас отняли?
– Триста тысяч, – опять всхлипнул Мнишек и даже присел слегка, как бы боясь получить подзатыльник за такую дерзость.
Но «царь» только рассмеялся.
– Вы сможете иметь эти деньги в любое время. А лучше, когда привезете мне мою дорогую жену.
Надо было что-то ответить на откровенную сделку, которую предложил «царь». Все присутствующие в шатре – и польские паны, и русские князья-предатели – стояли, приоткрыв рты и вытаращив глаза. Они понимали все, что перед ними происходило.
– Видите ли, она не хочет въезжать в Тушино, как простая, обыкновенная женщина. Она желала бы въехать царицей, государь, – объяснил пан Мнишек.
Именно такой поворот вполне закреплял представление самозванца. Встреча царицы всем Тушинским лагерем – это то, что полностью укрепило бы его положение, даже на взгляд тех, кто в нем сомневался, и тех, кто вообще знал все, как, например, князь Адам Вишневецкий.
– Где она сейчас? – спросил «Димитрий Иванович».
– Здесь, недалеко. Кажется, место называется Раздоры.
– Для встречи царицы я назначаю лучшего воеводу в моем войске. Пан Сапега, – сказал «царь», – я поручаю вам сопровождать мою жену, царицу Марину Юрьевну.
– Благодарю вас, государь, за честь.
С Сапегой и Мнишеком поскакали лучшие гусарские отряды. Развевались знамена, пестрели прапоры. Музыканты, не слезая с лошадей, готовились грянуть марш.
Мнишек по пути посвятил Сапегу во все затруднения, откровенно объяснив, почему Марина уперлась и ни за что не хочет ехать в Тушино. Статный, широкогрудый красавец Ян Сапега только смеялся:
– Пан Мнишек, еще никогда ни одна женщина не отказывала мне в моих просьбах. И Марина не откажет.
Перед Раздорами Мнишек попросил Сапегу:
– Позвольте, ясновельможный пан, я сначала поговорю с нею сам.
– Пожалуйста, пан Юрий, как хотите.
Пока Мнишек отсутствовал, царице уже поставили шатер по приказанию Зборовского. Горели костры, на которых готовился обед для Марины и всех гусар. Слышался веселый разговор Марины, Барбары Казановской, молоденьких служанок и офицеров Зборовского.
Подъехав, Мнишек решительно вошел в шатер.
– Прошу вас, паненки и господа, оставить на малое время нас наедине.
Все вышли из шатра на лужок.
– Ну что? – спросила Марина, поднимаясь с походной кровати. – Это он?
– Нет, не он, – ответил Мнишек, – но…
– Я не хочу ничего слышать. Я не поеду. Я уезжаю в Польшу и не желаю ничего знать.
– Марина, послушай меня внимательно. – Мнишек говорил почти шепотом. – Разве я, как отец, могу желать тебе зла? Он лучше того, который был, выше, красивей, статней. Сама увидишь: это настоящий царь. Дальше. Как только мы въезжаем в Тушино, я получаю от царя триста тысяч. Ты понимаешь? А сейчас мы с тобой нищие. Если я вернусь в Польшу сейчас, кредиторы посадят меня в тюрьму. У меня конфискуют замок. Ты и моя жена, панна Головинская, останетесь просто на улице.
– Но, отец, пойми и ты. Я же не походная потаскуха, которую возят в обозе и передают друг другу.
– Что ты говоришь! Это вздор. Ты царица! Тебя будут встречать тысячи людей – поляков и русских – как царицу Московского царства. Понимаешь? Ты провозглашенная и коронованная царица, а он… никто. Если ты встанешь рядом с ним, тогда его по-настоящему признают царем. Ты снова будешь одета в парчу, бархат и шелка. Ты будешь осыпана драгоценностями. А он, этот неизвестный мужчина, будет тебе век обязан. Державой будешь править ты, а не он. Ты понимаешь, какое счастье плывет тебе в руки?
– А если я все-таки не соглашусь? Если я заявлю: это не мой муж. Это холоп и самозванец.
– Тогда… – пан Мнишек помрачнел. – Тогда при случайных обстоятельствах нас с тобой лишат жизни. Да, да, это совершенно определенно. Стоящим во главе войска гетману, панам и боярам нужно, чтобы в Москву вошел победителем и сел на трон царь Димитрий Иванович. Это нужно даже простонародью, которое заочно любит его и хочет видеть его царем. Именно Димитрия Ивановича, а никого-либо другого. А произойти это может, если ты, царица, коронованная и провозглашенная, скажешь: «Здравствуй, мой дорогой муж». Ты понимаешь? Или ты срываешь всем воеводам, всему войску – их победу. Мы будем просто уничтожены.
– Я согласна, я все поняла. Хорошо. Но одно условие. Сейчас я буду находиться от него отдельно. А в мою спальню он войдет после взятия Москвы. В Кремле, во дворце.
– Но, Мариночка, он же мужчина… И всем будет странно: после такой длительной разлуки и вдруг… порознь…
– Все, я все сказала. Я царица и спать с мужем буду только на царском ложе.
Мнишек встал красный, даже вспотевший…
– Ну, стерва же ты, дочка… Столько гонора! Вся в покойную мать.
Мнишек подошел к Зборовскому и Сапеге, отдуваясь, как после пробежки. Оба пана, взглянув на него, хохотнули.
– Так как, пан Юрий? Крепость сдалась? – спросил Сапега.
– Сдалась, слава Езусу Марии. – Мнишек перекрестился и вытер лоб рукавом. – Сказать вам по чести, панове… Если бы она не была моей дочерью… Такой упорный нрав, такой гонор!
– Так вот потому она и царица, ясновельможный пан, – усмехнулся Зборовский. – Надеюсь, наша дорогая повелительница не выкинет какой-нибудь неожиданный кунстштюк? Это было бы крайне нежелательно.
– Что вы, уважаемый пан воевода. Все произойдет как по маслу, кхм, кхм… – Мнишек еще раз перекрестился, на всякий случай.
Встреча в Тушино состоялась с музыкой, криками «Слава!» и «Виват!». Потом был пир в царском шатре, где поляки пили за «свою» царицу, красавицу Марину, а русские за царицу и царя Димитрия Ивановича. Закончился пир поздно, и Марина отправилась в маленький домик, выделенный ей под спальню. Как и договаривались, она здесь ночевала одна.
Когда торжество утихло, все разошлись по своим шатрам, постелям, возкам, телегам, попонам и подстилкам. Только стража прохаживалась в установленных местах.
За полночь из своего шатра вышел «царь». Постоял, немного подумал и, чуть покачиваясь, пошел к тому месту, где находилась спальня Марины. Неподалеку стоял дом, в котором ночевали Казановская и служанки. Если бы «Димитрий» находился здесь немного раньше, он бы увидел, как к Казановской, тихо постучав, вошли три молодых гусара из хоругви пана Зборовского. Сначала слегка поспорили, потом угомонились и затихли.
Светила луна, слышно было, как фыркали у коновязей лошади. Кроме выставленных постов, ни единого человека не видно между палаток и бревенчатых избушек. «Царь» подошел к спальне своей венчаной супруги. Внезапно он с силой толкнул дощатую дверь, сорвал медный крючок и ввалился в домик.
– Кто? Кто это? – всполошилась на постели Марина.
– Это я, твой муж Димитрий, – довольно наглым тоном сказал «царь». Он пошарил в темноте и, споткнувшись, упал на хрупкую Марину.
– Ай! – приглушенно пискнула царица. – Как вы смеете! Я позову стражу!
– И объявите ей, что муж пришел почесать свою жену… ха, ха…
– Но вы же обещали, что до Кремля…
– До Кремля еще так далеко, как до Царства Небесного, – заявил «Димитрий», сбрасывая кафтан, сапоги и портки.
– Нет, нет… – стонала молодая женщина, задыхаясь и теряя последнюю волю к сопротивлению. – Негодяй…
И когда этот сильный, полупьяный грубиян задрал ей рубашку, провел ладонями по грудям и, навалившись, начал с рычанием свое мужское нападение, она сдалась. А через некоторое время поняла, что давно истосковалась по мужской ласке. Глубоко ублажив царицу и кое-как добравшись до конца, он тут же, у стенки, заснул.
Марина долго не могла прийти в себя, она все вспоминала мгновения яростного наслаждения. Лишь только стала дремать, как он очнулся и с новой, уже властной силой схватил и подмял маленькую полячку.
– Я не могу больше… – слабо защищалась она. – Вы нарушили данное вами обещание. Вы… вы… о, нет…
И, чувствуя его звериное желание, не могла больше сдерживаться. Взвизгивая и бормоча бессмысленно страстные слова, она сопрягалась с ним до изнеможения еще несколько раз.
В окошке стало светлее и на чисто вымытый пол упало золотистое пятно от первых лучей. «Царь» сел рядом на край постели, стал одеваться.
– Как вы могли так… – с тихим упреком сказала Марина. – Вы же обещали…
– Но мы ведь живые люди, – возразил «Димитрий». – Что я должен, имея жену, рыскать по обозам за девками? Разве не понравилось? А сама так в меня вцепилась, так верещала…
– Пошел вон, – рассердилась Марина, чувствуя себя униженной. – И не приходи больше…
– Ладно, – с усмешкой сказал «царь», – до темноты. А там видно будет.
VII
По прошествии двух недель все постепенно стало улаживаться в отношениях «Димитрия Ивановича» с Мариной и паном Мнишеком. Тем более, что долгие предварительные переговоры с ними были вредны для Лжедимитрия. Их колебания в признании его прежним самозванцем, к счастью для него, прекратились, когда он дал Мнишеку запись, что тотчас по овладении Москвой выдаст ему триста тысяч рублей. К этой огромной по тем временам сумме Лжедимитрий присовокупил пожалование ему во владение Северского княжества с четырнадцатью городами.
В начале сентября в стане Сапеги происходило тайное венчание Марины и второго Лжедимитрия, совершенное иезуитом Мартином Стадницким, духовником царицы. Он убедил ее, что это католическое венчание безусловно будет только благом для нее и особенно для римской церкви.
В Польше и вообще в Европе казались искренне убежденными, что «Димитрий» (тот самозванец, который был им особенно благоприятен) жив. Они то ли верили, то ли притворялись, отождествляя нового «Димитрия Ивановича» с первым. Один из столпов католицизма кардинал Боргезе писал папскому нунцию в Польше: «Если справедливо известие о победе Димитрия, то должно быть справедливо и то, что он настоящий Димитрий».
Однако, как выяснилось позже, Лжедимитрию не удалось взять Москву и всем его сподвижникам нужно было думать, как зимовать в Тушине. Зима приближалась, ударили первые морозы. Снег начал набиваться в их летние палатки.
В это время военная сила самозванца состояла из восемнадцати тысяч конного польского войска и двух тысяч жолнеров-пехотинцев. Служило Лжедимитрию примерно по пятнадцати тысяч запорожских и донских казаков, еще более рьяно, чем поляки, истязавших и грабивших мирное население. Собственно русских воров держали в Тушинском лагере немного. Им не доверяли, потому что время от времени они десятками перебегали в Москву. Зато польских купцов (немалую часть из них составляли скупщики трофейной добычи) находилось временами до трех тысяч.
С наступлением зимы в Тушине начали рыть землянки, для лошадей делали стойла из хвороста и соломы. Завоеванные волости Московского царства поделили между отрядами. Они постоянно собирали дань с деревенского люда, как во времена владычества золотоордынских ханов. Огромные обозы потянулись к Тушину по всем дорогам. На каждую роту приходились тысяча и больше возов.
«Богатая страна! Чего они тут постоянно голодают? – смеясь, говорили между собой поляки. – Нам везут из сел и городов любое яство, которого только душа пожелает».
Наскучило жить в землянках, стали в ближних деревнях забирать избы, выгоняя крестьян на мороз. Избы ставили при обозах. У иного пана во владении оказалось по две-три избы, а в землянках устроили погреба.
Среди Тушинского табора возвели хоромы царю, царице и Мнишеку. Табор превратился в город.
Толстые стены и дубовый частокол вокруг достигал в высоту свыше трех сажен, а то и выше. На прочных возвышениях с накатом установили пушки. А на башнях развевались польские знамена, будто издали грозя Москве вышитыми на них католическими крестами.
Шведский король Карл IX неоднократно посылал гонцов в Москву с предложением оказать военную помощь против поляков и против вышедших из повиновения изменников. Однако Шуйский под разными предлогами вежливо и с благодарностями от помощи отказывался. Даже когда царь был еще под Тулой, он велел огорчить шведского представителя отказом, впрочем, по возможности ласково.
Бояре отвечали длинным письмом с разными объяснениями и нудными хитросплетениями неглубоких умов, а кончалось оно таким изречением: «… и прежде мы тебе писали и теперь объявляем, что недруга у нас никакого нет. А тем, что ты хочешь против недругов наших помогать, то наше царское величество в том тебя похваляет. Но помощи просит от единого всемогущего Бога, да и самому тебе известно, что у нашего царского величества многие несчетные русские и татарские рати».
Скоро Шуйский вынужден был сменить свой самоуверенный тон на более податливый, когда его «несчетные рати» оказались не раз побитыми, а самозванец выстроил себе столицу под самой Москвой.
Теперь он счел необходимым направить своего племянника Скопина-Шуйского в Новгород, чтобы оттуда завести благоприятные сношения со шведским королем для договора по поводу совместных военных действий против поляков.
Князь Скопин-Шуйский с небольшой дружиной прибыл в Новгород и сразу отправился к воеводе Михайле Татищеву. Воевода был человек во всех отношениях решительный. Осуществляя избавление от Лжедимитрия I, он начал с того, что на дворцовом крыльце пронзил кинжалом сподвижника самозванца Басманова прямо на глазах боярской Думы и толпы, заполонившей Кремль.
Встретив Скопина радушно, «с честью», Татищев тем не менее намекнул:
– А не устроит ли государь тесноту в Великом Новгороде, послав племянника к строптивому воеводе? Двум медведям-то тяжко в одной берлоге.
– Теснить хозяина да еще в медвежьем виде ни за что не буду, – засмеялся молодой князь, приветливо посматривая на настороженного Татищева.
– Тогда какие дела заставили молодца оставить красавицу молоду жену и пуститься в дорогу дальнюю?
– Вот приказал государь нащупать дверь, как бы открыть ее для переговоров со шведским королем…
– Да ну! – удивился Татищев, усаживая Скопина на лавку, крытую пушистым ковром. – Нешто своих сил не хватает управиться с Вором-самозванцем?
– Его у нас теперь Тушинским вором кличут.
– Что так-то?
– В Тушине, меж Москвы-реки да Сходни табор отгрохал, да не простой, а с частоколами, башнями, пушками и с царским дворцом посередке. Кругом же избы его воевод-поляков, шатры иноземных купцов, казачьи коновязи да казармы жолнеров.
– Ишь ты! Одна столица была, а теперь другая рядом выросла.
– То-то и оно, Михайла Игнатьевич. Время от времени полки воровские на нас наступают, только успевай отбивайся. Ну а ежели об Северской Украйне повести речь, то там его ставленники хозяевами себя чувствуют. Двадцать два города Вору присягнули. Уже слышно в Срединную Русь польские воеводы налеты делают. Людишек рубят-побивают, коли што не так, подати собирают, города под присягу Вору приводят.
– Н-да, невеселые времена на Руси, вовсе не веселые.
– Куда уж?! Из значимых исконных-то русских городов остаются верными государю Смоленск, Нижний Новгород да Новгород Великий. Слыхали уж и Псков, сосед твой, к Вору отпал. Уж никак не ждали, хоть плачь!..
– Да и Великий Новгород-то, говоря не облыжно, тоже колеблется, Михайла Васильевич.
– Неужто?! Ох, совсем дело плохо. А ты говоришь: чего самим сил не хватает? Да, не хватает, когда не только пришлые поляки, литва, черкасы да донцы, а и свои люди отчину воюют. И все бы только мизинные черные людишки, што упование имеют: истинный царь Димитрий Иванович воли даст, корму сколь хошь, умирит народ, и Господь на Русь тогда милость свою сподобит, бо царь-то будет истинный, безгрешный. А и князья, бояре, воеводы к нему бегут, блага для себя думают у Вора достать. Так, ладно. Надо царское дело править. Шурина свово Семена Головина наряжу к королю Карлу. Пусть войско дает.
– А чем расплачиваться-то будем? чё государь-то наш велит обещать?
– Сразу даем Корелу. Мало будет, Орешек прибавим.
Но посылая Головина, Скопин наставлял:
– Скажешь, великий государь челом бьет Его Величеству, потом передашь грамоту… На вот, гляди, печать, все на месте. Еще скажешь: просит, мол, оказать помощь против поляков. Пусть шлет доверенного человека в Новгород. Я буду тут его ждать.
– Обещать что за помощь?
– Плату хорошую. Какую? Обговорим. Не заикайся про Вора-самозванца. Говори: поляки ожесточились, житья не дают. И пока про города, которые шведы давно в мыслях лелеют: Корела, Орешек – молчи.
– А если король слышал про наши дела с Вором?
– Ну, не знаю. Поляков прогоним, самозванец сам по себе исчезнет. У Карла с Жигимонтом давно счеты. Вот на поляков его и натравливай. Новгородцев-то король Карл уведомлял, что по просьбе их слал и ранее ратную силу. Примите, мол, пока вам подмогу дают. Если-де поляки и литва над вами силу возьмут, то не пощадят ни патриарха, ни митрополитов, ни игуменов, ни воевод, ни дьяков, ни дворян, ни торговых людей, ни детенков в пеленках, доколе не изведут русский народ.
– Крепко сказано и верно, – закивал Семен. – Что ж, теперь у нас на шведов вся надежа.
– Э, как говорится, на шведа надейся, а сам не плошай, – усмехнулся Скопин. – Наши-то многие и вятшие люди отчины своей не почитают, а мизинные все ждут, когда некий царь к ним придет – тоже готовы с ним иноземных правителей принять. Гляди, у меня грамота есть от шведского воеводы Исаака Бема на нашем речении славянскими буквицами писана: «Вы так часто меняете великих князей, что литовские люди всем вам головы разобьют, бо они хотят искоренить греческую веру и покорить Русскую землю. Как вам не стыдно слушать глупый бред и брать себе в государи всякого негодяя, какого вам приведут поляки и литовцы!» Что и возразишь на се, правильно писано. Ну, в дорогу, Семен, с Богом!
Головин уехал с подарками, с хорошей охраной. Скопин написал об этом в Москву и также объяснил, кто привел Псков к присяге Тушинскому вору. В конце письма Шуйскому он написал, не скрывая: «…те псковские люди, что приезжали к тебе с челобитной и деньгами, были перед тобой оговорены воеводой Петром Шереметевым и ныне, по моим сведениям, сидят в московской тюрьме. Оттого во Пскове началась замятня[84]. Мизинные, увидев от Москвы несправедливость, захватили на вече власть и заставили всех присягнуть Тушинскому вору. Посему прошу тебя, великий государь Василий Иванович, незамедлительно тех людей освободить и отправить во Псков, а Петра Шереметева отозвать в Москву и учинить следствие по его делу».
Вызвав Глебова, Скопин вручил ему грамоту.
– Скачи в Москву, к государю. Возьми заводного коня, быть тебе у Кремля надо возможно быстрее.
Но спокойного ожидания не выдалось. Еще не воротился из Швеции Головин, а из Москвы Глебов, как новгородцы, сбежались на вече – к какому царю пристать: Шуйскому или «Димитрию»? Оба на Москве, оба денег требуют на ратные дела, да и самих ратников.
Рев стоял сперва сплошной, гогот и срамные звуки. Иной раз визг бабий да матерный лай. Основной толпой пришли на вече мизинные люди с мастеровых слобод, с верфи ладейной, с лесопилен, с каждодневных торгов. Вятших – бояр, гостей именитых, воинских тысячников, сотников, даже и простых купцов – мало явилось, хотя некоторые привели родню, челядь, захребетников[85]. Выступали сперва стройно, в очередь. Потом мизинные, черный люд, стали перешибать.
Вылезали на возвышение, орали, рвали на груди рубаху, распахнув зипуны.
– Орешек да Иван-город присягнули Димитрию Ивановичу! А цего мы ждем?
– Они малые города, а мы Новгород Великий, нам торопиться ни к цему. Думать надо, не свару устраивать.
– А поцему Псков решился, признал царя Димитрия? (Новгородцы и псковичи при разговоре «шипели» и «цокали».) Он цто, пошмекалистей нас?
– Пскопские шуштрые, собрались в куцу и признали!
– У Софии вон дожидается посол царя Шуйского из Москвы. Шуйский нас под свою руцу зовет.
– Цо на его оглядываться? Укажите ему путь и годи.
– Верна-а! Не любо Шуйского! Путь князю Скопину!
Обычно решительный, вспыльчивый и смелый, воевода Татищев встревоженно молчал. Уж он-то, все знали, давний сторонник и любимец Василия Ивановича Шуйского. Недаром во время заговора против самозванца Гришки Отрепьева заколол кинжалом под лопатку Басманова, Гришкиного друга.
– Опасаешься перечить новгородцам, Михайла Игнатьевич? – спросил Скопин с усмешкой, невесело. – Тут те не Кремль. Боярской челяди да стрельцов нету. Так что на торговой-то площади Новгорода ты скажешь?
– А че? – угрюмо заговорил Татищев. – Мизинные здесь зверье. Попробуй с ними поспорь. Знати да гостей мало, а тех – море. И оно сейчас бурливо, голову потерять легко.
Скопин призвал к себе дьяка Сыдавного, многомудрого, знающего немецкие языки. Сказал ему спокойно, раздумчиво:
– Я с дружиной из города пока уйду. Прогуляюсь к Нев-скому истоку. А ты за меня побудь. Сюда должен воротиться Головин со шведскими переговорщиками. Будешь ему помогать.
– А ты надолго ли, Михайла Васильевич?
– Пока не знаю. Вот новгородское вече угомонится… Услышу, вернусь.
– Трудно тут будет сыскать поддержку, – уныло сказал дьяк Сыдавный. – Да и кругом что творится, Михайла Васильевич! Почему от твоего дяди, государя Василия Ивановича, все города отшатываются? Только Смоленск да два Новгорода пока за него. А возьми самую исконную Московскую Русь: Суздаль, Владимир, Вологда, Кострома – все за Димитрия. И ведь знают же воеводы, князья, бояре, иерархи, дьяки, гости велеумные, что никакой он не сын Ивана Васильевича, и даже не Григорий-расстрига, коронованный под охраной поляков. А все равно к Тушинскому царю пристают. Почему? Любят его? Да потому что ненавидят твоего дядю Василия Ивановича. Как ты думаешь, князь Михайла Васильевич?
– Думаю, о своем богатстве да месте теплом заботятся. Мыслят, хуже чем при Шуйском, мол, не будет. А при Димитрии – может быть и лучше. Только зря надеются. Если государство захватят польские паны да папские нунции, им кусок жирный не достанется. Те все сами сожрут. А затрепыхаешься – иезуиты тебе такие костры, колы, темницы да застенки устроют, что наши бледны покажутся. А служить надо отчине своей многотерпеливой, люду своему обманутому. Коли царь плох, но венчан на царство, помазан, куда деваться?
Скопин уехал на пустынные берега, где редко ступала нога человека, даже предприимчивых новгородцев. Чухна[86] местная в долбленых своих челноках гребла у берега узким веслом, закидывала плетеный невод.
Кругом леса, тишь, крики непуганой птицы. Рев сохатого иной раз слышится. Медведь через бурелом пробирается. Тут, у истоков Невы, на острове Ореховом, крепость укромная Орешек.
Крепостца небольшая, но трудная, с ходу не возьмешь. Вот и прозвали Орешек, а по шведско-немецки Нотебург. Построили давным-давно упорные славяне для охраны водного пути в Варяжское море. Тут и кончался северный прикол древнего ладейнего хода «из Варяг в Греки».
В крепости сидел воевода Салтыков, старого известного рода, происхождения татарского. Человек пожилой, умный, откровенный. Сразу сознался, что присягнул самозванцу. На вопрос «почему?» ответил:
– А чтоб в дела мои не совались. Грабить тут нечего. А отвязался, – может, покой дадут. Все «рюриковичи» переметнулись, я сведения имею. А мне что – белой вороной быть?
– Ну а если, паче чаяния, самозванца скинут, а литву вон погонят? Тогда как?
– А тогда каяться буду. Лбом об пол стучать. По глупости, мол. Смилуйтесь Христа ради. Авось отстанут. А я снова крест поцелую.
Скопин хотел было взять воеводу Салтыкова «за караул». Но потом махнул рукой: не до него теперь. К тому же Салтыков сказал, что знавал отца Михайлы и отзывался о нем, как о человеке душевном и честном.
VIII
Тысяцкий Мишинич с новгородским отрядом едва отыскали на Неве дружину Скопина.
– На вече приговорили звать тебя, Михайла Васильевич, – сказал тысяцкий. – Мятеж на вече потушен. Главных крикунов за Димитрия с моста в Волхов скинули. Митрополит Исидор пригрозил отлучением. Новгородцы испугались. Из Москвы пришел с полком воевода Вышеславский в твое распоряжение. Прибыли шведы с твоим посланцем Головиным и с королевским секретарем для переговоров.
В Новгороде Скопина с нетерпением ждал Головин. Он представил князю королевского секретаря Монса Мартинсона. По-русски произносилось: Монша Мартыныч. Впрочем, дьяк Сыдавный называл секретаря по-шведски правильно.
– Мой король готоф вам помогайль, – поклонившись Скопину, произнес Мартинсон.
– Какие силы обещает Его Величество? – спросил князь.
– Как только ми с вами заключайль договор, прибудет генераль Делагарди с пьят тышч зольдат.
– Это хорошая новость.
– За эту новость, – сказал Головин, – с нас потребуется тридцать две тысячи рублей.
– Ну что ж, заплатим, – пообещал Скопин. – Это все?
– Еще разведка дальняя донесла: идет на Новгород от Вора полковник Кернозицкий с многотысячным войском черкасов. По дороге они уже заняли Торжок и Тверь. Доносит разведчик Третьяк Шелонич разное. Одеты, мол, черкасы из Запорожья в овчинные шапки и красные широкие шаровары. Говорят, такие же у турок. Пищали и пистоли у многих, а сабли сильно кривые и клинок широкий – тоже с турок взят. Города и деревни грабят и жгут. Людей рубят нещадно, не глядя старый ли молодой, и даже детей на пики подымают. Ну и чего, шведов ждать будем?
– Шведов когда еще дождешься… Федор, – повернулся Скопин к слуге, – добеги до воеводы. Позови ко мне, не мешкая чтоб.
Скоро вошел воевода Татищев, за спиной его маячил запыхавшийся Федор.
– По здорову будь, Михайла Игнатьевич, – поднялся навстречу воеводе озабоченный, суровый Скопин. – Слыхал про Кернозицкого?
– Вот Федьша сказал. С черкасами биться тяжко. Рубаки сильные.
– Ничего, как-нибудь справишься. Люди все же, не дьяволы. Надо идти навстречу, в Бронницы. Там перехватить.
– Я готов. Только тысяцкому попеняй, от рук отбился. А на рати слушать воеводу должен без прекословья.
– Я все улажу. Сам бы пошел с тобой да шведов ждать приходится. Ну еще полк Вышеславского прилагаю. Думаю, хватит.
Татищев ушел. Скопин долго совещался с дьяком, опытным переговорщиком. К вечеру на крыльце увидел тысяцкого Мишинича. За ним переминались еще несколько новгородцев. Они донесли, будто Татищев собирается изменить и в Бронницах передаться Кернозицкому.
– Средь ратных говорок: пойдем с воеводой – в измену угодим, – почти шепотом рассказал Мишинич.
– Что предлагаешь?
– За караул его. Или отстранить хотя бы…
– Ладно, ступайте. Соберу вятших людей и старост.
Скопин мрачно размышлял. Трудно было представить, чтобы Татищев, окольничий царя, дерзко споривший с поляками и с самим первым самозванцем, один из ревностных заговорщиков, убивший при народе Басманова, решил передаться второму самозванцу.
– Ты веришь, что Татищев изменит? – спросил Головин.
– Не хочу верить, а… мню всякое. Такое нынче время преподлое. Чуть ни каждый готов отчину врагам продать. Не царя Василия даже, а свою землю. Собирай ихнюю верхушку и ратных людей.
Вятшие новгородцы подумали и сказали: надо вече собрать. Войсковое хотя бы.
Собрали ратных людей, в первых рядах знать местная, старосты концов. Перед ними на возвышении – «степени» бледный воевода Татищев в кафтане с серебряным шитьем, в собольей шапке, с посохом.
Тысяцкий поднялся на «степень» и объявил, что ведомо ему и многим новгородцам. А знают, будто воевода собирается предать полк в походе и переметнуться к ворам.
В рядах ратников взревели. Зазвенели, стукаясь, налокотники и кольчуги. Кто-то из толпы стал воеводу лаять похабно. Вспыльчивый Татищев замахнулся на дерзкого. Тоже заругался. «Стойте!» – хотел крикнуть князь Скопин-Шуйский, но опоздал. Воеводе не дали оправдаться. Его столкнули со «степени» и, когда он упал на мостовую, затоптали.
Многие тут же попятились, шарахнулись в сторону от трупа. Понимали: совершилось беззаконие. Не расследовали, не опросили свидетелей. Убили по одному доносу царского воеводу.
Скопин был в большом горе; дело было даже не в том, справедлив донос тысяцкого, или новгородец сам метил на место Татищева, воспользовавшись шатким царским правлением. Главное, князь не удержал донос в пределах закона, следствия, а отдал воеводу на растерзание толпы. С другой стороны, доносчики, может быть, и не хотели своим доносом сделать большой вред Татищеву, но вышло иначе…
Однако долго горевать и упрекать себя не давали обстоятельства. Передовой отряд из-за смерти Татищева расстроился, развалился и не смог выйти навстречу врагам. Кернозицкий беспрепятственно подошел к Новгороду, стал возле Хутынского монастыря.
Монахи ударили в набат. Тревожный, воющий звон тяжело поплыл над новгородской округой. Кернозицкий ездил с кучкой адъютантов, но не решался приблизиться к городу слишком близко. Запорожцы скакали, мелькая красными шароварами, шарили по окрестным погостам. Все селения были оставлены жителями, потому поживы им здесь не случилось.
Монахи кричали со стены черкасам:
– Басурмане! С католиками пришли на православную Русь! Бог вам то не оставит, поплатитесь!
Казаки на скаку стреляли в них из пищалей, иногда удачно. Инока уносили к братской гробнице. Потом взяли монастырь приступом, разграбили. Монахов убили.
Поскольку большой полк стал ненадежен, Скопин оставался с одной своей малочисленной дружиной. Однако явились тихвинцы с воеводой Горихвостовым числом в тысячу человек. За ним пришло ополчение из заонежских погостов. Крестьяне здесь все оказались за Шуйского. «Хорош ли, плох ли, – говорили они, – а все царь настоящий, помазанный, московский. Мы за порядок и тишину в державе, против иноземцев». Сведения о Тушинском воре у них откуда-то были.
Нескольких крестьян черкасы поймали и под пыткой требовали сказать: много ли в Новгороде рати. Пытаемые, хоть и плакали от огня, однако объявили, что в село пригородное Грузино пришло много войска, а за ними идет еще большая сила. Посланный из Грузина гонец прибежал к князю Скопину, крича радостно:
– Ушли, ушли басурмане-то! Испугались, цто народ собирается, и поперли отцедова, идолы бецжалостные!
Шведское войско прибыло весной 1609 года.
В большой палате возле храма Святой Софии состоялось повторное заключение договора. Главным договорщиком кроме Монса Мартинсона направлен вместе с региментом генерала Якоба Делагарди некто Деметриус. Говорил и читал по-русски свободно, ибо происходил из рязанского дворянства. Но как-то в детстве оказался в неметчине, долго проходил обучение и знал немецкий северный диалект, шведский, датский, на удивление даже королевских сановников. Человек лет тридцати, светловолосый, с усами концами вниз и бородкой лопатой. При нем еще секретарь с унылым носом, державший бумаги с печатью, чернильницу на серебряной цепочке и пучок гусиных перьев.
У двери стояли кроме русских ратников в бехтерцах, железных шишаках, с бердышами, саблями и турскими малыми пистолями шведские королевские кнехты[87]. У тех каски, панцирь без зерцала, наручник, поручи, налядвенники и прямой тяжелый палаш. Правой рукой приставили к ступне алебарды с отточенным до синевы лезвием.
Генерал Делагарди был высокого роста, молодой, с русыми волосами, без бороды. Лицо приятное, а серыми глазами и свежим цветом щек – словом, общим обликом, так же как ростом и сложением, весьма напоминал главного представителя московитов князя Скопина-Шуйского. Они и правда походили друг на друга. Посмотрев, слегка улыбнулись.
Так решили и шведские офицеры. Эти, тоже как на подбор, рослые, плотные, с бритыми подбородками, усами. Волосы у всех коротко, по-пуритански[88] срезаны. Волосы русые, светлорусые, один белесый, как пакля, и один рыжий. Именовались: Бойе Андреас, Горн, Йоган Мирцель и Олафсон. Ведали разведением по местам стражи ротмистр Христофор и капитан Маас.
Князь Скопин-Шуйский вышел в темно-красном кафтане с золотыми наплечниками и поясом с золотой бляхой. Шапку, как боярин и окольничий царя, носил горлатную из черного соболя. Вот он в родную землю призвал немецко-шведскую рать. Побить поляков, Литву, уничтожить Тушинского вора и прочих самозваных «царьков» и «царевичей». А еще разобрать: с какой корысти князья «рюриковичи», бояре чинные, служилые люди-дворяне, боярские дети, стрелецкие начальники полякам и Самозванцу служили, зная о нем правду.
При князе находились по чину посол Московский Семен Васильев сын Головин. И второй посол великого государя думный дьяк Сыдавный, и стольники Чеглоков, Коробьев, Яков Дашков.
Его Величества короля Швеции коронный посол Вильдман, он же благородный рыцарь и судья провинциальной Карелии, и военный советник Мернер, наместник губернии Або, и посольства секретарь, тайный советник Олаф Олафсон.
Вот лица, присутствовавшие при обмене договорными грамотами.
Шведы в черных, наглухо застегнутых камзолах, узко отороченных мехом, панталоны прорезные в серебряном шитье. Все в бархатных беретах с перьями заморскими. Русские в кафтанах цветных, златотканых, на пушистых мехах лисьих, в собольих шапках.
Шведы совершали дипломатическую церемонию без оружия, русские – с кривыми саблями, у которых золоченые рукояти, сабли в бархатных ножнах. По старому порядку еще золотоордынскому: хан и его темники[89] не могут быть без оружия.
Думный дьяк Сыдавный, развернув грамоту за царской подписью и красной государственной печатью, прочитал отчетливо, с почтением, занижая голос:
«Великий государь и всея Руси самодержец, владимирский, московский, новгородский, государь казанский, также и астраханский, псковский и великий князь смоленский, тверской, югорский, пермский, вятский и вся Сибирския земли повелитель и иных многих земель государь из великой любви к брату нашему Карлу, королю Шведской земли, государю Колы, Биармии Малой, Суоми Заозерной и иных разных земель: Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и остальных островов и берегов Варяжского моря…»
Когда грамоту прочитали и утвердили на шведском и русском языках и произнесли клятвенные слова с поминанием Бога, вышли на высокое крыльцо перед площадью, заполненной новгородцами.
Толпа новгородская отличалась вольностью и громкоголосостью, даже в сравнении с буйной и гордой толпой московской. Вечевые порядки хоть и отменил царь Иван Васильевич Грозный, а Федор, сын его, и хитроумный, иностранцам потакавший Годунов, для удобства последних, многие свободы и льготы Новгороду вернул. Потому мизинный, простой люд позволял себе непотребства, а иной раз и смертоубийства самовольные. Чуть не по нраву – кидали с моста в Волхов.
Увидев князя Скопина-Шуйского и молодого шведского генерала Делагарди, гыкали, хохотали, свистнули пару раз, пальцами стали тыкать. Баба некая хихикала, верещала: мол, право дело, родня они.
– Уж нету ли у тебя, князь Скопин, братца двоюродного посередь свеев?[90]
– Может, ты потому руцы свои к свейскому королю тянешь? – кричал какой-то лихой мужик с торгового конца.
Скопин вышел вперед и поклонился, достав двумя пальцами каменного пола.
– Господин Великий Новгород! По указу государя московского и всея Руси послан я был, чтобы составить договор о военной помощи нам супротив поляков с литвой, хозяйничающих на земле нашей. Вот она помощь. Пришла. Вместе с королевскими ратниками мы начинаем поход супротив панов для очищения нашей отчины. Но и ты помоги, Господин Великий Новгород. Всем известно, каковы сильны новгородцы на рати… Поможете?
– Поможем! – дружно заревела толпа, и Скопину сверху показалось, что среди толпы не было ни одного недовольного.
Тем более что до того крестьянское ополчение из окрестных деревень и погостов, разъярившись на бесчинства казаков Кернозицкого, под водительством Чулкова в ночь ушло к Хутынскому монастырю. Напали на охрану Кернозицкого внезапно и дрались отчаянно. Однако, конечно, гибли во множестве, не выдерживая сравнения с опытными рубаками из южных земель. Половина крестьян погибла, остальные отступили пока. Но собирались продолжать назавтра биться до последнего. И хотя мщение, клокотавшее в сердцах смердов, вело их на бесстрашную, жестокую резню, однако воинское умение черкасов с поляками, их отличное вооружение, в том числе и огнестрельное, не оставляло надежды на победу.
Узнав от истязуемых пленников, что в Новгороде еще есть хорошо вооруженная рать, что скоро подойдут шведы, захватчики ушли из монастыря. Спалили все, что можно, осквернили и ограбили церкви.
Тем же временем в Ростов Великий примчался гонец на взмыленной лошади. Еле сполз с седла и направился, пошатываясь, к приказной избе.
– Что, брат, упарился на коне-то? – спросил гонца стражник в сером азяме[91], а поверх кольчужка неважная, на поясе сабля в деревянных ножнах. Хоть и было в руке древко бердыша, поддержал под спину свободной рукой молодого парня, с утомленным шадроватым[92] лицом. Тот, спотыкаясь, поднялся в избу.
– Ох, растрясса, аж кишки разболтались… Пить хочу… Воевода-то здеся? – толкаясь в дверь, спрашивал гонец.
– А где же ему быть. Давай заходи. Князь у себя.
За столом сидел князь Третьяк Сентов, невысокий, но кряжистый.
– К твоей милости, княже.
– Откуда гнал-то?
– С Переяславля я, послан предупредить. Полковник Лисовский к вам идет.
– А переяславцы-то долго держались?
– Как только подошли поляки, наши ратники оружие положили.
– Что так-то? – нахмурился с досадой Сентов.
– Воевода с тысяцким заранее договорились. Ну и простых уговорили: присягаем царю Димитрию Ивановичу.
– Да-а, хороши переяславцы-изменники… Небось вместе с поляками к нам идут. Переяславль издревле зуб на Ростов точил. Уж никто и не помнит, из-за чего свара случилась, в кои-то еще веки. А с тех пор ненавидят нас хуже, чем любых басурман-иноземцев. Будто и не русские люди, православные. Ну что ж, я встречу их в поле… Счас скликать ратников пойду. А ты, брат, что? Почему не с ними?
– Нас, и дворян, и боярских детей, и простых бойцов человек тридцать несогласных.
– Спаси тя Бог, за то что поспешил, предупредил. А сам назад ворочаешься?
– Нет, остаюсь. Не хочу служить Вору и изменщикам. Помирать буду с вами.
– Ну, отдыхай, пока еще жарко не стало. Эй, Лука, – приказал князь холопу, – устрой-ка ратника, напои, накорми.
Воевода Сентов заторопился к ростовскому митрополиту Филарету. Митрополит, высокий, нестарый, красивый мужчина с окладистой бородой, встретил сообщение о близости поляков вкупе с переяславцами спокойно.
– Все в руках Господних и святой воле Его. Каждому свой удел в жизни сей бренной. – Митрополит похлопал сильными ладонями. Заглянул служка, широколицый, быковатый, плечистый, глянул преданно:
– Чего изволишь, владыка?
– Давай-ка, Савелий, на колокольню. Самый сильный, самый соборный звон сотвори. Набат. Враги идут, рать скликать надо.
Вот тревожный, гулкий набат забился, будто взволнованное бедой сердце города. На Соборную площадь бежали люди. Скоро бурлящее месиво споривших, призывающих, негодующих, ропщущих скопилось у высокого места, вечевого помоста.
– Бяжать… В ляса дрямучие, упрятаться, – галдел какой-то перепуганный купчик. – За болотины, за буреломы, пущи темные…
– Не, надо бы к Ярославлю податься, град сильный и народу много. Вместе управились бы…
– Прямо, ждут тя вельми ярославцы. Держи калиту настежь.
Когда всякие путаные речи и споры стали угасать, к помосту подошли воевода князь Сентов и владыка Филарет. Поднялись на помост. Князь поднял руку, требуя тишины. И, дождавшись ее, начал говорить:
– Что ж, господа ростовцы, не стыдно ли вам будет бежать от старого недруга – переяславцев? Да еще предателей, перекинувшихся на сторону ляхов хвастливых и литвы жестокой?..
– А с ними войско царя Димитрия Ивановича, ратующего с Шуйским за Москву… – громко произнес какой-то приказный в чуйке из бурой шерсти.
– Не царя Димитрия Ивановича, а вора Тушинского, самозванца, приведшего с собой наших недругов ляхов. Не стыд ли мужам ростовским вора признавать, а ляхов бояться? Может, вы призабыли, зачем есть воевода в вашем городе? Только что преславный митрополит Филарет благословил нас на ратоборство с врагами града нашего, отчины нашей. Мы встретим чужое войско в чистом поле и победим. Либо умрем с честью, как и должно православным мужам. Завтра веду вас на наше дело честное, а владыка Филарет крестом святым осенит наш подвиг. Завтра выступаем. Тысяцкому и сотникам промыслить и снабдить ратных людей оружием.
Утром следующего дня, после торжественного молебна, ростовская рать выступила в сторону Переяславля-Залесского. Утирая скорбные слезы, женщины провожали мужей, отцов, братьев. Мальчишки бежали за полком до самой околицы.
Через несколько верст ростовское войско остановилось. Князь отправил по переяславской дороге разведчиков:
– Я думаю, сильно отдаляться не следует. Они могут сделать обходной крюк. Кто тогда защитит город?
Стали ждать. День и ночь прошли в ожидании. Костров не зажигали, поели кое-как всухомятку. И когда на другой день ждать уже почти перестали, прибежал парнишка-разведчик:
– Идуть, идуть! Пешие идуть – и переяславцы, и ляхи. «А где же конница? – с тревожным удивлением подумал Сентов. – Куда она могла подеваться?» Он приказал зарядить единственную с трудом притащенную сюда пушку. И когда вражеские ряды приблизились, пушка рявкнула картечью, тотчас затрещали ружейные выстрелы. Но заряжались пищали и пушка медленно, и бойцы, схватив топоры, сабли, копья, устремились в рукопашную схватку.
Завалы из бревен, издавна служившие «засеками» от татарских набегов, в этот раз помешали пешему бою. Они наоборот – прикрыли нападавших и стали помехой для поджидавших ростовцев. И тут внезапно раздался свист, вой, гиканье и топот сотен копыт.
Хитроумный полковник Лисовский послал конницу в обход, чтобы, свернув в лес, обойти препятствие.
– Братцы, братцы! Сзади-то конные!
И, оглянувшись, ростовцы увидели, как на них с тыла летит, занеся над головой сабли, лавина казаков и гусар.
Князь Сентов развернул свою дружину и бросил ее навстречу конникам, и она сумела прорваться к городу, потеряв едва не половину состава. На окраине Ростова воевода, раненный в шею пулей, обливаясь кровью, собрал уцелевших и прохрипел отчаянно:
– Бьемся до последнего… С нами Бог!
Ростовцы продержались еще три часа, сражаясь с далеко превосходящими их силами поляков, казаков и исконных врагов – переславльских изменников. Они погибли все до единого. Тело бесстрашного воеводы князя Третьяка Сентова было изрублено и прострелено во многих местах. Он вдохновлял своих ратников и погиб, сопротивляясь до последнего вздоха.
Женщины и дети Ростова бежали в последнее прибежище – в толстостенные каменные храмы. Но тяжелые двери трещали и падали под напором победителей. Раздавались вопли, визг и рыдания женщин и детей, умиравших под саблями и топорами разъяренных воителей. Причем поляки в этом случае меньше отличались свирепостью по сравнению с казаками и переяславцами.
В главном храме митрополит Филарет, одетый в праздничные ризы и митру, протянул ворвавшимся убийцам хлеб с солью, как бы в знак примирения. Он умолял пощадить женщин и детей. Однако переяславцы (именно они) сорвали с владыки ризу и митру, натянули драный татарский халат и драную же клочковатую шапку. Они уже хотели убить владыку, но его спас «тушинский» хорунжий Будзило.
– Этот поп дальний родственник нашего царя, – почему-то заявил он и оттолкнул разочарованных убийц. Поляки, посмеиваясь, стояли в стороне от алтаря и высматривали среди толпы женщин тех, кто покрасивее.
Однако пришло приказание ясновельможного пана Яна Сапеги: за сопротивление войскам «царя Димитрия» утопить всех оставшихся в живых жителей в озере Неро. И долго еще тянулась к озеру вереница связанных по двое мужчин и рыдающих женщин с младенцами на руках. Если кто-нибудь из мальчишек вырывался из обреченной толпы и пытался убежать, поляки, споря на пари, стреляли в них из мушкетов.
IX
В Тушинский табор съезжалось все больше иноземных вояк-грабителей, узнавших, что Русия ослабла, что в ней двоецарствие и смута, народ разобщен и обманут. Будто бы шли воевать за «истинного» царя с царицей, на самом деле терзать и обчищать до последнего зернышка, до последнего гроша население. Те русские, которые тоже набежали воевать за «Димитрия Ивановича», вынуждены были угождать польским захватчикам и разбойничьим казакам. Некоторые и верно думали: сражаются за честное и святое дело, за «правильного» царя.
Военная верхушка тушинцев на людях, для вида, выказывала почтение самозванцу, хотя между собой говорила о нем с пренебрежением. А наедине с «его величеством» могли и нагрубить самым хамским тоном.
Среди панов были частые разногласия, вражда между отдельными группами. Несколько польских отрядов решило на своем сборище провозгласить гетманом Меховецкого, как самого раннего полководца в войске «царя Димитрия».
Гетман Ружинский, узнав об этом, пришел в бешенство. Кликнув своих преданных шляхтичей, он бросился искать по Тушину Меховецкого.
– Пан, пан! – испуганно вскрикнул слуга Меховецкого, услышав об этом. – Гетман хочет вас убить!
Не зная, что предпринять для спасения своей жизни, Меховецкий бросился к «царю».
– Ваше Величество! – Меховецкий вбежал во «дворец», растолкав стражу. – Ваше Величество, Ружинский угрожает мне!
– Успокойся, друг мой, я не дам в обиду старых соратников. Ты здесь в безопасности, – заверил «царь» Меховецкого с самодовольным и уверенным видом.
Но в то же мгновение к нему ворвался Ружинский с оравой прихлебателей.
– Я тебя предупреждал, мерзавец! – скрежеща зубами, сказал он Меховецкому и кивнул одному из своих шляхтичей. – Кончай с ним…
Меховецкий не успел схватиться за рукоять сабли, как ражий гусар полоснул его наискось отточенным лезвием.
– Что ты сделал, гетман?! – закричал «царь» на Ружинского. – Кто тебе позволил? Да я сейчас вызову казаков…
– Заткнись, свинья! – оборвал «Димитрия» гетман. – Не то я сам отрублю тебе голову, пся крэвь!
«Царь» замолчал и попятился к стене, расширенными глазами глядя на истекавшего кровью, умирающего Меховецкого. Это был его ближайший соратник, первый руководитель и вдохновитель в начале «царского» пути. Но грозный, яростный гетман уничтожил его, и «царь Димитрий» не мог ему помешать. Тогда он понял окончательно: надменным панам он нужен только как предлог для войны на земле Московии, приманка для простодушного «быдла» и для алчных головорезов. Он вполне осознал, что его жизнь может быть оборвана также внезапно и жестоко, как жизнь Меховецкого.
К вечеру «Димитрий» напился и орал по-русски и по-польски непристойные песни. Марина решила успокоить его и попыталась войти в его горницу.
– Вон! – заревел самозванец на свою католическую жену. – Прочь отсюда!
– Как ты смеешь, негодяй! – возмутилась Марина, с ненавистью вперив глаза в лицо русского проходимца, своего венчаного мужа. – Как ты смеешь? Я царица!
– Ты – царица? Ты продажная подстилка, вот ты кто!
Выскочив за дверь, трясущаяся от злости Марина Мнишек хотела бежать с жалобой к отцу и к гетману Ружинскому.
– Пусть они изобьют его палками, этого пьяного хлопа!
– Ни, ни, Мариночка, – умоляла ее Барбара Казановская. – Не жалуйся никому. Он им сейчас нужен, они ничего ему не сделают. Они убьют его потом, когда он больше им не понадобится. Разумиешь?[93]
– Я скажу атаману Заруцкому. Он зарубит пьяницу своей казацкой саблей.
– Заруцкий такой же, как они все, – усмехнувшись, сказала Барбара. – Тебе про Яна Заруцкого пока лучше не упоминать при посторонних. Даже при почтенном пане Мнишеке. Он о твоих встречах с Яном не знает еще… Пожалуй, он тебя не похвалит…
Марина задумалась. Потом положила черноволосую голову на плечо рослой подруги и запела польскую песенку про дивчин, которым пришла пора целоваться, однако…
Не давайте хлопцу губы, Хоть он очень просит…—подхватила весело Барбара Казановская.
Убийство Меховецкого постепенно замяли. Его тихо похоронили где-то в стороне от табора.
– Бедный пан Меховецкий, – ухмыльнулся не без злорадства полковник Лисовский, идя на военный совет к Ружинскому.
На совете Ружинский, не терпящий никаких сильных личностей в войске, которые могли бы его потеснить, предложил панам:
– Я считаю, что надо незамедлительно идти к Троицкому монастырю и взять его. Это признанный оплот православия. В монастыре хранится рака русского святого Сергия Радонежского… так, кажется, он прозывался. Это наиболее почитаемый москалями святой, когда-то заложивший и построивший Троицкий монастырь. Он благословил на битву с татарами московского князя Димитрия… ха-ха… тоже Димитрия… И московиты разгромили огромную орду с его святой помощью, черт побери…
Ян Сапега вмешался.
– Я тоже слышал про этого святого и про ту битву где-то вблизи Дона. Мой далекий предок, – продолжал Сапега с гордой иронией, – тоже участвовал в битве с татарами на стороне московской рати и погиб на поле сражения. Он был сын великого князя Ольгерда и исповедовал православную схизму.
– Вы должны исправить заблуждение своего дальнего предка, пан Сапега. Я предлагаю вам взять монастырь штурмом, а раку Сергия выкинуть на помойку. Таким образом вы получите прощение за вашего предка у нашей апостольской Римско-католической церкви.
– Что ж, я согласен. Можно даже сказать: это мой долг, – заявил Сапега.
– Когда вы возьмете монастырь, Шуйский со своей армией окажется в наших клещах, – уточнил цель предприятия Ружинский.
Чувствуя и в Лисовском возможного соперника, гетман ему также предложил военный план:
– Взять Суздаль и Владимир, древние столицы русских, я поручаю вам, полковник.
– Очень содержательный поход, – заинтересовался Лисовский. – Это развитые в торговом смысле города?
– О, это очень богатые города, – обнадежил его Ружинский. – После Москвы, Новгорода и…
– Смоленска, – подсказал Сапега.
– Да, Смоленска… О, Смоленск! – саркастически воскликнул гетман. – Золотая несбыточная мечта нашего короля Сигизмунда. Если он когда-нибудь возьмет Смоленск, ему можно будет спокойно умереть.
– Между прочим, Шуйский, по моим сведениям, собирался попросить помощи у дяди короля Сигизмунда Карла Девятого Шведского[94].
Военный совет проходил в присутствии «царя». Но никто к нему не обращался и не спрашивал его мнения. Если он пытался что-то сказать, от него откровенно отмахивались: «Вы не военный человек, Ваше Величество». И царь смущенно умолкал.
Он сидел, мрачно слушал и мечтал взять их всех «за караул», а потом повесить или посадить на кол.
В то же время «царь Димитрий», конечно, сознавал, что без их помощи он ничего не добьется. Никогда не победит войска Шуйского, не войдет в Москву и не воссядет на престоле русских царей. Да, бесспорно, это так. А с ними? Даже если они разобьют Шуйского, и он въедет в Кремль… Сможет ли он занять трон? Вернее, позволят ли ему занять трон? Или как в случае с Меховецким?.. Мгновенный блеск сабли, и его голова покатится по зашарканному грязному полу…
Впрочем, кроме открытого устранения существуют разные виды ядов. Веселый пир, чаша с мальвазией или рейнским вином и… Гетмана Ружинского «царь» откровенно боялся. Потому что Ружинский также откровенно не скрывал презрения к самозванцу. А тот день, когда Ружинский поцеловал его мокрую после бани руку? Ведь бешено самолюбивый князь Роман никогда не забудет этот случай… Не забудет, пока не увидит окровавленный труп «Димитрия Ивановича».
«Царь» дожидался окончания военного совета и с облегчением покидал его. Может быть, лучше будет, если он под каким-нибудь предлогом сбежит из этого проклятого Тушина, пока не поздно?
Однажды он небрежным тоном приказал слугам седлать коней себе и нескольким приближенным: «окольничему» Рукину, своему шуту («царь» завел себе такого комического собеседника) и еще троим русским, прилепившимся к нему еще со Стародуба.
Шут Петька Кошелев был весьма сообразительным и расторопным слугой, хотя и прикидывался дурачком. Он нередко становился как бы постельничим «Димитрия Ивановича», если тот не уходил ночевать к «царице» или к какой-нибудь запримеченной им в лагере смазливой бабенке.
Приглянувшаяся царю бабенка оказывалась не обязательно из простого сословия. Она вполне могла быть родственницей, а то и женой московского боярина-изменника и не осмеливалась отказать «царю» в приятной близости. Тем более «Димитрий Иванович» нравился женщинам всех сословий – он одевался в дорогие кафтаны, телом был крепок, ростом не низок и весьма охоч до женских ласк.
Но когда он оставался ночевать во «дворце» и не слишком налегал на спиртное, шут Кошелев позволял себе вести с ним откровенные, почти приятельские разговоры. Словом, «государь» доверял ему даже больше, чем московскому подьячему Алексашке Рукину, который, хоть и делил с ним давно головокружительный взлет судьбы, но мало ли что мог замыслить.
Итак, «царского» коня оседлали. На неплохих скакунов сели Рукин, Кошелев и трое «стародубцев». Самозванец и его «близкие» подъехали к одной из застав Тушинского табора. Там дежурили польские жолнеры с мушкетами, саблями и алебардами.
Увидев «царя» с сопровождением, они подтянулись и стукнули древками алебард. Старший жолнер поднес к каске два пальца и спросил его по-польски:
– Куда вы едете, государь?
– Я должен отвечать на вопросы стражника?
– К сожалению, приказ гетмана запрещает мне выпускать вас из расположения военного лагеря.
– Но я царь, я распоряжаюсь всеми, находящимися здесь людьми. Это мое войско и мой лагерь. Как ты смеешь преграждать мне дорогу?
– Прошу прощения, но я только выполняю приказ. Я не могу нарушить указание ясновельможного пана гетмана. Если я ослушаюсь, меня повесят, – слегка растерявшись, доложил жолнер.
– Я плевать хотел на чьи-то приказы! – обозлившись, крикнул «царь». – Я все равно поеду куда мне надо!
– Тогда я вынужден буду применить силу, – решительно заявил поляк. – Для меня приказ гетмана закон.
Стражники заставы скрестили алебарды, загородив выезд. Другие взяли мушкеты на изготовку.
– Ах вы, мразь поганая! – в ярости завопил «Димитрий», хватаясь за саблю. – Притащились черт вас знает откуда и прекословите русскому царю! Я вызываю отряд казаков! Они изрубят вас на куски!
От караульной будки уже бежали два польских офицера. Издали они повторяли, что есть приказ гетмана: царя из Тушинского лагеря не выпускать! Бежал еще десяток жолнеров с ружьями наперевес.
– Ради Христа, государь, не связывайся с Ружинским, – вмешался Рукин, бледный и перепуганный. Трое «стародубских» сначала роптали, потом, понимая, что свара усиливается, и в дело может пойти оружие, надулись, напыжились, но умолкли.
Самозванец развернул коня и поскакал вдоль изб, казарм, коновязей и обозов.
– Где Ружинский? – спросил он на ходу у случайно встретившегося гетманского адъютанта.
– Ясновельможный пан гетман у себя, беседует с паном Бобовским, – отвечал адъютант, насмешливо глядя на этого подозрительного московита, изображающего самодержавного владыку.
«Царь» подъехал к дому гетмана и, оставив свое сопровождение у крыльца, крупно шагая, вошел в комнаты.
Ружинский и Бобовский сидели, удобно развалясь и попивая венгерское вино. Они рассматривали какие-то бумаги с чертежом фортификационных сооружений.
Самозванец резко открыл дверь.
– Князь Ружинский, почему твои холуи не выпускают меня из лагеря на прогулку? – с порога грубо выкрикнул он, глядя в упор на Ружинского и намеренно не называя его «гетманом».
– Потому что я приказал не выпускать мошенника, которого давно пора вывести на чистую воду, – хмуро кинул ему гетман и неожиданно разъярился: – Кто ты такой? Димитрий Иванович? Сын царя Ивана Васильевича? Или, может быть, ты Отрепьев, которого застрелили, растерзали и сожгли? Никто не знает, кто ты на самом деле. А ну пошел отсюда, сукин сын! Убирайся и сиди тихо у своей Маринки, пока я не посадил тебя в клеть с часовыми. Мы тебя еще терпим, иначе я бы давно отрубил тебе голову своей собственной саблей!
«Царь» неожиданно улыбнулся, приложил руку к груди и произнес ласковым голосом:
– Не сердись на меня, ясновельможный пан гетман. Прости меня, я немного погорячился. Я все понял и, если буду что-нибудь спрашивать у тебя, ясновельможный пан гетман, то тильки осторожно. До видзенья, проше пана не гневиться.
– Ишь запел, когда вы, пан гетман, как следует его осадили. Какой верткий малый! Сразу заулыбался, попросил прощения у пана гетмана, поклонился как перед иконой, хе, хе… – сказал Бобовский.
– Это означает только, что теперь он будет делать все возможное и невозможное, лишь бы сбежать от меня… Надо усилить стражу на всех заставах. Как бы не упустить этого бессовестного подлеца, чтоб ему околеть.
– Однако, пан гетман, он, кажется, нужен вам еще живым…
Стража на всех заставах Тушинского лагеря была значительно усилена. Особенно тщательно проверяли скромные возки, легкие каптаны и неуклюжие колымаги, на которых то выезжали бояре, спешившие в Москву или другой город с поручением от высшего военного командованья, то направлялись к польским отрядам иностранные купцы с целью поживиться при взятии очередного города – подешевле скупить награбленные ценности. Внимательно всматривались патрульные в лица всадников – даже если они были в кунтушах польских гусар. Казалось бы, все мыслимые меры соблюдались.
И все-таки «царь» исчез из Тушинского табора. Гетман Ружинский готов был собственными руками задушить начальников застав и тех жолнеров, которые охраняли «дворец». Гнев Ружинского почти разразился над головами самых близких людей «государя». Однако ни «царица» Марина Мнишек, ни ее достопочтенный отец, ни «окольничий» Александр Рукин и всегда сопровождавшие «царя» стародубские дворяне… Даже сочувствовавший положению «Димитрия Ивановича» ясновельможный князь Вишневецкий или хорунжий Будзило оказались в полном недоумении.
«Государь» бросил всех на произвол судьбы и сбежал, взяв с собой только шута Петруху Кошелева.
Гетман Ружинский рвал и метал, ругаясь самыми скверными ругательствами и часто хватаясь за рукоять сабли. Определить, как ухитрился скрыться «царственный беглец», никто не решался. Правда, при подробном расследовании выяснились два обстоятельства.
Однажды лагерь покинула груженная тесом длинная телега, направляясь по какой-то военной надобности – строили временные казармы, что ли. На середине ее сидел здоровенный казачина в замурзанном кожухе[95]. Лошадью правил невзрачный малорослый мужичонка. Ни тот, ни другой не походили на «Димитрия Ивановича» ни коем образом. Если только «государь» не находился где-нибудь под грудой тесовых досок…
Или другой возможный случай. Напялив драный крестьянский армяк, надвинув на глаза шапку, царь пробрался к отхожему сараю и спрятался там. Послышался скрип полозьев и фырканье лошади. «Царь» выскочил, упал на сани и приказал:
– Петька, гони в Калугу.
Правил низенькой мухортой лошаденкой тот же малорослый возница, то есть царский шут Кошелев.
Словом, когда эти случаи стали известны и описаны гетману Ружинскому, тот задал один вопрос:
– Что было во вторых санях?
– Извините, ясновельможный пан гетман, в санях вывозили навоз, – заикаясь, ответил испуганный начальник заставы.
– Ну, если «царь» уехал, сидя по шею в дерьме, то, разумеется, никаких нареканий к охране лагеря быть не может, – неожиданно успокоившись, заявил Ружинский и поморщился. Но морщился он оттого, что в одной из последних стычек с войсками Шуйского он получил пулевое ранение в плечо. Говорили еще, что ему в сражении чуть не отрубили руку.
Когда слух об исчезновении «царя» пронесся по Тушинскому лагерю, начались волнения ратного люда.
У польских жолнеров все настойчивее стали слышаться призывы идти к Смоленску, куда наконец, решив нарушить договор с Шуйским, явился король Сигизмунд с частями регулярной армии.
– Хватит бестолку торчать под Москвой, пора присоединяться к королевскому войску, – рассуждали поляки, надеясь на одобрение монарха, на награды и победоносную войну с московитами.
– Что мы подчиняемся бунтовщику-рокошанцу Ружинскому? Его не любит наш король. Надо уходить! – нисколько не боясь грозного гетмана, говорили его верные жолнеры. Они начали укладывать имущество и оружие на подводы. Некоторые уже выступили на смоленскую дорогу, несмотря на запреты гетмана.
Собрался казачий круг донских казаков. На кругу выступили есаулы и сотники.
– Ляхи выжили государя! – кричали они сердито. – Они бранили его и поносили, а мы ничего не делали. Не защитили своего царя. Позор и стыдоба! Собираем обозы, седлаем коней и уходим в Калугу до государя Митрия Ивановича.
Присутствовавший на кругу атаман Заруцкий не возразил казакам ни единым словом.
Ружинский, узнав о решении казачьего круга, бросился к нему.
– Ян Мартынович, останови же их! Они оголяют крылья нашего войска.
– Что я могу сделать? Казаки хотят воевать за своего царя, а не за польского гетмана.
– Ну, скажи им, что я прикажу расстрелять их из пушек.
– Казаков этим не запугаешь, пан Ружинский. Они сделают перестроение, нападут на вас с тыла и порубают ваших канониров.
– Как же быть?
– Надо было хорошо хранить царя. Соблюдать почтение и приличие. А вы сочли, что он вам больше не нужен. Вот и получилось: поляки уходят к королю, казаки – к царю.
Привыкший иметь в своем полном распоряжении всех воевод, находившихся в Тушине князей и бояр и, уж конечно, царя-самозванца, гетман Ружинский не мог понять, почему с побегом этого бездельника армия стала разваливаться. Он впал в растерянность, совершенно несвойственную этому опытному и жестокому человеку.
Русская знать, не желавшая признавать Шуйского на московском престоле, сговорилась послать посольство к королю Сигизмунду. Они решили просить у него сына Владислава, чтобы короновать его в русские цари.
Во главе стал патриарх Филарет (вне церкви боярин Романов). В состав посольства вошли Михаил Салтыков, бывший воевода Орешка на Неве, князья Рубец-Мосальский и Хворостинин, также известные бояре Плещеев, Вельяминов и несколько думных дьяков. Присоединился к ним и некогда близкий первому самозванцу, убийца годуновской жены, царицы Марьи, и бежавший затем из Москвы в Самбор Михаил Молчанов. Как старый противник Шуйского, он вошел в посольство к королю Сигизмунду.
X
Троицкий или Троице-Сергиев монастырь защищался от грешного мира и от иноземных захватчиков мощными крепостными стенами и сторожевыми башнями, являвшимися надежной преградой на пути к Москве.
Постепенно, по прошествии веков, монастырь из глухого, сугубо молитвенного места превратился в оживленный городок с теснящимися в небольшом отдалении деревнями. Между лесистыми возвышенностями от монастырских ворот вились хорошо утоптанные дороги, как в сторону столицы, так и в другие близкие и дальние города. Еще при жизни «игумена всея Руси» Сергия Радонежского он стал бесспорным оплотом православия в северо-восточных областях русской государственности.
Небо осенью 1609 года уже слегка побледнело по сравнению с чистой летней лазурью. Чаще приплывали облака, предвещающие дожди. Леса притихли, тронутые желтизной да багряной листвой осин, темнели хвоей стрельчатых елей вперемежку с печальной бледностью полуоблетевших, свесивших ветви, берез.
Синицы уже позванивали ближе к человеческому жилью. Трещали безбоязненно белобокие сороки, покидая на день лесную глушь. Угрюмо пролетал над золочеными куполами церквей сумрачный ворон. Галдели наперебой многочисленные стаи галок.
Небесным простором летели к югу гуси, громко восклицая прощальным хором. И изредка, собравшись убористым походным треугольником, курлыкали журавли, проливая с высоты чистые, завораживающие звуки. Покидали свои болота, хотя сиверко не завершил еще начавшийся листопад, а заморозки не прихватывали сединой полегшие травы. Значит, ожидались ранние холода.
Природа тихо грустила. И, несмотря на далекий рев растревоженного гоном лося и редкий пока тонкий и протяжный ночной голос волка, везде на этой холмистой равнине царил умиротворяющий, завершающий летний пир, духовный покой.
Но в людском проживании среди отчей природы покоя не было и в помине.
Шла отчаянно-жестокая, упорная, иной раз бестолковая и всегда полная бедствий для русских кровавая война. В ней перемешались и борьба отдельных кланов знати за царский престол, и бунты черного мизинного народа, часто воспринимавшего свое угнетение и ограбление, как вину «дурного», «незаконного» царя. И вмешательство иноземных захватчиков, вначале изображавших помощников того или иного «истинного» государя, призвавшего их для совершения справедливого его воцарения, но перераставшее в грабительское завоевание ослабевшей страны. Да добро бы боролись только два претендента, оба считавшие себя коронованными. Но плодилось еще множество откровенных самозванцев, которых также поддерживали кое-где местные начальники и толпы простого народа, настолько темного, что верили просто на слово любым проходимцам.
В то время как шведы только собрались в Новгороде пособить Шуйскому против Речи Посполитой, поляки самозванца, имевшие постоянный лагерь в Тушине, действовали и под Москвой, и на севере русских областей. Якобы ради воцарения совершенно безразличного им «Димитрия Ивановича».
А пока пан Сапега, по поручению и договоренности с гетманом Ружинским, двинулся со своим войском (преимущественно поляками и черкасами из Запорожской Сечи) к Троицкому монастырю.
Узнав об этом, Шуйский послал против него младшего брата Ивана, не менее бездарного (одновременно нерешительного и самодовольного), чем средний брат, злосчастный Дмитрий, не победивший ни в одном сражении. Иван повел своих ратников, чтобы перехватить движение Сапеги. Сделал он это настолько прямолинейно, непредусматрительно, не соблюдая простейших приемов разведки и перемещения полков, что попал в окружение и был наголову разбит.
Иван Шуйский вернулся в Москву после своего неуклюжего похода с очень немногими людьми. Часть из них напрасно погибла в столкновении с всадниками Сапеги. Остальные рассеялись по домам, ожидая, чем закончится военное противостояние Шуйского и второго Лжедимитрия, и не желая проливать кровь ни за царя московского, ни за царя тушинского.
В один из дней после этого сражения к воротам Троицкого монастыря примчался казак. С коня его белыми хлопьями капала пена.
– Есть у вас воевода? – спросил казак стражника с бердышом, стоявшего в воротах.
– Я тя к нему провожу, – вызвался молодой монашек, бывший поблизости.
Казак слез с седла и, шагая за монашком, повел коня в поводу.
– Кто тут воеводой? – спросил он, вытирая рукавом пот с лица.
– Князь Григорий Борисович Долгорукий, – уважительно произнес монашек.
У воеводиной избы казак привязал своего скакуна к коновязи. Поднявшись по ступенькам, вошел в большую горницу, перекрестился на образа и поклонился сидевшему за столом осанистому, мужественного вида человеку лет сорока.
– Ты ко мне? – Сидевший за столом человек в кафтане воинского начальника встретил казака внимательным взглядом.
– Мне до воеводы, до князя Долгорукого.
– Я воевода, слушаю тебя. Ты откуда?
– Скакал от самой Москвы, от Тушина.
– Пошто торопился?
– Предупредить. Князь Григорий Борисович, остерегись. На Троицу идут воеводы царя Димитрия – Сапега и Лисовский.
– Откуда ты узнал? – нахмурился Долгорукий.
– Наш курень у них в войске. Вместе с черкасами из Запорожья и польскими гусарами.
– Ты-то с Дона? Значит, донцы против московского государя?
– Да, князь, все присягали Димитрию Ивановичу. И я тоже. Но меня сотенный наш послал предупредить. «Недаром, – гутарит, – тебя Серегой кличут. Гони в Троице-Сергиев монастырь. Скажи там, что есть слух, будто бы Сапега с Лисовским хотят мощи святого Сергия осквернить. Рази мы, православные, можем терпеть такое? Скачи, Серега, предупреди. Пусть ворота закроют и к бою готовятся».
– Побудь здесь. Я пойду к архимандриту доложить твою весть, – озабоченно сказал князь Долгорукий, вставая.
Седой старец, уже согнувшийся от преклонных годов, архимандрит Иосаф, выслушав, в чем дело, позвал служку и велел пригласить к нему второго воеводу, дворянина Голохвастова, казначея и дьякона отца Гурия.
– Жаль отца Авраамия Палицына нету. Он в Москве при государе, келарь-то наш, – напомнил архимандрит Долгорукому. – Ну, как готовиться ратным людям к приступу неприятелей, тебе, Григорий Борисович, лучше знать. А что еще присоветуешь?
– Я думаю, надо послать к жителям ближних сел, чтобы бежали поскорее сюда, укрыться за монастырскими стенами.
– Верно, сын мой, верно. Спасти надобно православных от грабежа, а то и от смертей лютых.
– Куда денется столько народу? – сказал казначей Иосиф Девочкин. – И опять же прокормить скольких надо.
– Да ничего, Осип, – махнул на него старчески-слабой рукой отец Иоасаф. – Потеснимся, поделимся хлебом. В свободные кельи семейных пустим, особенно тех, что с младенцами. Что ж поделать! Страждет народ от воров, а мы, молебщики Господни, чем можем им пособим, Христа ради.
– Надо, чтоб всю свою живность и всякую еду, заготовленную на зиму, сюда доставили. И хлеб, даже и необмолоченный, пусть сюда везут. И всякую теплую одежу. Тулупы там, шушуны, душегреи, сапоги валеные, платы шерстяные вязаные, вобчем всяку теплоту. Дело ждет нас всех затяжное помимо прочего. Так что пусть Богу молятся и терпения набираются. Ничего нельзя оставлять врагу, – посоветовал Голохвастов.
– Вот и займитесь, отец архимандрит, людьми страждущими. А я пушками да ратниками, – заключил князь Долгорукий.
– Ратных-то у нас немного? Или как? – спросил старец нахмуренного, посуровевшего воеводу.
– Человек семьсот. Еще приложить столько же паломников да ратников из разных городов с начальниками из детей боярских. Ну, приложим еще монахов, способных нести воинские труды. Маловато все же. У ворога в десять – пятнадцать раз поболе, я думаю. Ну что ж, будем обучать, ставить на стены крестьян. Научим из пищали стрелять, дело нехитрое. И к пушкам их же поставлю. А бросать в осаждающих камни да рубить дерзнувших подниматься на стены топором – они сами сообразят. Так-то, владыка, примем бой за мощи святого Сергия.
– Так-то, сыне, так-то. Святый Сергий поможет. Ему не впервой ратникам помогать. Верно, отец Ефимий? – удостоверился Иоасаф у рослого широкогрудого монаха с такой же широкой густой бородой и буйным волосом, как вся его мощная богатырская фигура. Инок Ефимий отвечал и ранее за порядок и безопасность в обители со стороны монастырского началия.
– Паки и паки[96] придем к ратным людям и мы, смиренные, припадем с усердием к топору, сулице и палице! Благослови, душе моя, возлюбить ярость народную ко врагу! – молитвенно и торжественно произнес он.
Не успели последние возы из ближних сел с мешками зерна, немудреным крестьянским скарбом, с бабами, державшими на руках младенцев, а также и немощными стариками въехать в распахнутые ворота монастыря, как на московской дороге показались первые всадники в кунтушах, с саблями у бедра, с пищалями и мушкетами. Над всадниками на длинных тростях трепетали при легком ветерке яркие прапоры.
Войско в пятнадцать тысяч бойцов подступило к стенам Троице-Сергиева монастыря. Сапега и Лисовский разъезжали в сопровождении адъютантов вдоль крепостных стен, примериваясь к позициям, где бы можно было установить осадные пушки, и выискивая места, удобные для взятия стен приступом.
На возвышенности против главных Святых ворот польские воеводы остановили коней.
– Надо признать, этот монастырь весьма трудная крепость, – сказал Лисовский. – Стены сажен пяти, не меньше. А кое-где и до семи доберут. Наверно, и достаточно большой толщины.
– Придется, скорее всего, брать штурмом. Значит, часть стены – вон там, например, надо будет разрушить. Для этого следует сделать подкоп. Гарнизон тут наверняка небольшой. Так что мы его легко одолеем. Главное, проломить стену. А пока обстреливать из пушек внутренние постройки и дворы. Вон на площади перед собором толпится народ. Очень удобная мишень для обстрела. Чем больше погибнет от пушечного огня, тем больше страху мы на них напустим, и тем слабее будет сопротивление.
– Я думаю, надо приказать Будзиле взять отряд конных и объехать окрестные села, – продолжал рассуждать Лисовский. – Где есть продовольствие, пусть везут в наш лагерь. Если будут прятать, таких хозяев вешать на воротах для острастки. И вообще пусть забирает весь скот, птицу, все съестное.
– Ружинский обещал в ближайшее время отправить к нам большой обоз с продовольствием, – напомнил Сапега, продолжая разглядывать монастырь.
– Э, знаете ли, Ян… Как говорится, на Ружинского надейся…
– А сам не будь простофилей, не то придется щелкать зубами, – засмеялся Сапега, пребывая в хорошем настроении. Вести осады крепостей, руководить сражением, надеясь на победу и будущую добычу, – это было его жизнью, его призванием.
Осаждающие рискнули сразу приблизиться к стенам монастыря. В них тотчас же стали стрелять из пищалей и тугих луков. Некоторые защитники Троицы целили удачно. Прибывшие под стены враги понесли потери и вынуждены были торопливо отступить.
Забравшись на верхнюю площадку Пятницкой башни, князь Долгорукий вглядывался в картину осады. Смотрел зорко на пушечные батареи, устанавливаемые рослыми канонерами, на роты жолнеров и группы казаков, стрелявших в защитников с разных положений и даже наскоку, с седел коней.
– Готовятся, сукины дети, – сказал князь Голохвастову, стоявшему рядом. – Следить надо во все глаза, чтобы не прозевать какого-нибудь подвоха. Ты спрашивал сельчан, Алексей? Хотят ли мужики ежедневно дежурить на стенах и, в случае приступа, принять бой?
– Все, как один, Григорий Борисович. Народ у нас хороший. Когда враг приходит с войной, мужики готовы сражаться, не щадя жизней своих, за отчину, за семьи свои, за веру православную.
– А за царя? – усмехаясь, спросил князь.
– Ну, за Шуйского небось не очень-то, – засмеялся Голохвастов. – А вот за мощи святого Сергия Радонежского уж твердо постоят, до конца. Я верю и в ратников наших, и в простых смердов – тут они едины. Шуйский ли? Али Димитрий Иванович, посылающий нам под стены ляхов, казаков, черкасов и всякий сброд? За них вряд ли стали бы особо стараться.
Скоро начался обстрел монастыря. Ядра падали по большей части на площадь возле Успенского собора, разбивая телеги и возы с сеном. Люди вместе со своими лошадьми, коровами и прочей живностью прятались в кельях каменных монастырских строений или прижимались к стенам. Коровы мычали, лошади тревожно всхрапывали, блеяли козы, собачонки, проникшие вместе с остальными деревенскими беглецами, сердито лаяли. Плакали маленькие дети, те что постарше прижимались испуганно к матерям. Мужики осторожно выглядывали из узких окон на падающие и вертящиеся раскаленные шары.
От грохота ядер и гула пушечных выстрелов дрожали крепкие каменные стены храмов и монастырских келий.
Службы в церквах не останавливались ни на один день, священники молили Бога, Пресвятую Богородицу и святого Сергия об «избавлении от врагов немилостивых, от поганых католиков-басурман».
Поляки стреляли по Троице с разных сторон, но чаще всего с Красной горы, самой большой высоты вблизи монастыря. Палили, пока не опускалась ночь, и яркие звезды не приплывали на черное осеннее небо.
Ночью осажденные выходили из тесных келий на площадь, на улочки, во дворы. Дышали холодным свежим воздухом, разжигали костры. Варили кашу или похлебку. Для дальнейшего пропитания резали скот, обмолачивали снопы, завезенные в монастырь. Запасали воду из колодцев, питьевую и в случае пожаров – для погашения огня. Хоронили скорбно на монастырском кладбище погибших от ядер или случайной пули.
Через несколько дней монахи принесли архимандриту подарок от осаждавших.
На площадь упало ядро, полое внутри. Там оказалась грамота тушинских начальников, в которой они ругали осажденных за их нежелание признавать государя Димитрия Ивановича и царицу Марину Юрьевну. Требовали открыть ворота и присягнуть «истинному» царю, сыну великого государя Ивана Васильевича. От архимандрита Иоасафа желали запрета учить воинство и народ не покоряться царю Димитрию. Сапега и Лисовский обращались и к воеводам, и ко всем ратным людям, убеждая их к сдаче монастыря; в противном случае грозили всем злою смертью. Грамоту прочитали воеводам и другим начальникам.
Убеждения и угрозы вражеских предводителей остались тщетными. Монахи и ратные люди видели перед стенами обители святого Сергия не того, кто называл себя сыном царя Ивана Васильевича, хотя и это было бы очень сомнительным доводом. Они видели войско иноверцев, поляков и литвин, пришедших расхитить и осквернить православную церковь, и предать поруганию гроб великого чудотворца.
Поразмыслив и посоветовавшись с воеводами, отец Иоасаф продиктовал своему помощнику, иноку Осипу Селевину:
«Да ведает ваше темное державство, что напрасно прельщаете Христово стадо, православных христиан. Какая польза человеку возлюбить тьму больше света и переложить ложь на истину. Как же нам оставить вечную святую истинную православную христианскую веру греческого закона и покориться новым еретическим законам, которые прокляты четырьмя вселенскими патриархами? И какое приобретение оставить нам своего православного государя и покориться вам, латыне иноверной? Никак не можно свершить подобного святотатства».
Накануне штурма Ян Сапега говорил своему воинству о накопленных в Троице сокровищах от приношений богатых паломников: русских купцов, бояр и даже царей.
– Все зависит от вашей смелости и сноровки, – подбадривал наемных грабителей литовский воевода. – Если вы овладеете монастырем, вам достанутся невиданные богатства. Да еще вы получите награды от государя Димитрия Ивановича.
Многие из войска Тушинского вора надеялись на быстрое обогащение. Две тысячи солдат подготовили лестницы, достигавшие высоты стен, и бросились к твердыне. Их встретили пушечными и ружейными выстрелами.
Немало искателей легкой добычи осталось под стенами, еще не успев подставить лестницы к ним. На карабкающихся по лестницам падали камни и песок из перевернутых носилок. Ослепленные и оглушенные, они срывались и летели головой вниз. Наиболее удачливых, кому повезло добраться до верха, ждали защитники Троицы, готовя копья, рогатины, дубины и топоры.
С воплями боли и бессильной ярости, с руганью и последними в их жизни угрозами враги валились к подножию стен, сметая своих товарищей, находящихся на лестницах. Курени донских казаков вели себя на этот раз вяло, явно не желая победы своим союзникам в нападении на обитель святого Сергия.
Наконец, понеся немалые потери, поляки, литовцы и черкасы отступили, побрасав лестницы и оставив у стен искалеченные трупы и своих стонущих раненых. Стреляя со стен, их добивали защитники монастыря из пищалей и тугих луков, которые еще успешно применялись в то время. Веревками с крючьями цепляли и затаскивали на стены лестницы, пригодные на дрова.
Из тех, кто все-таки достиг верха стены, удалось захватить пленных. Их притащили в воеводскую избу. После короткого и не особо пристрастного допроса выяснилось, что Сапега приказал вести подкоп под Пятницкую башню.
– Думаю, надобно сим подкопом воспользоваться и их упредить, – сказал Долгорукий. – Немедля разыщи, Алексей, людей, желающих пособить нам в таком важном деле. Лучше, чтоб то оказались не стрельцы, а кто-нибудь из деревенских мужиков. Смерды хоть и попроще, да при этаком случае надежней.
– Ты думаешь, князь Григорий Борисович, среди ратников наших может завестись измена? – прямо спросил Голохвастов.
– Я ничего не думаю. Но в жизни всяко может быть, сам понимаешь. Особенно видно то на многих примерах нонешних. Попробуй-ка разыскать мне хоть пару верных людей. И, главное, никто другой чтоб ни о чем не знал.
Нашел воеводе Алексей Голохвастов двоих мужиков из деревни Клементьевской. Шуряки, друг к другу относятся братски. Не молоденькие уже, лет по тридцати пяти.
Воевода, прищурив правый глаз, внимательно к крестьянам приглядывался. Спросил то да се. Покряхтел, еще подумал. Видно, не бахари, не хвастуны, не лентяи. Силушка есть немалая в плечах. Люди истинно православные, чтут святую память «игумена земли Русской».
– Ну, так, – произнес наконец воевода. – Тут у меня к вам разговор об очень нужном упреждении врагов.
И князь объяснил крестьянам: требуется сидеть в подвале Пятницкой башни круглые сутки. Спать по-очереди. И прислушиваться, когда воры подкопаются к башне совсем близко.
– Мы им встречный взрыв устроим и подкоп обрушим, чуете?
– Добро, княже, – сказали мужики, – славно эдак придумано. Мы с шуряком согласные. Когда начинать-то слухать?
– Да хоть с сегодняшней ночи. И приходите ко мне каждый раз с доносом – слышно ай нет? И как слышно: далеко али ближе? Получать будете у кашевара кашу, другого какого варева и хлеба на четверых. Там в подвале-то холодно, так чтоб у вас в чреве-то тепло было. Уразумели?
– Кабыть все нам понятно.
– И чтоб ни единый человек про то не знал.
– Да-к, князь-батюшка, само собой.
– Ну, ступайте.
А за стенами Троицы, в некотором отдалении, в вольготном и теплом шатре пана Сапеги уже решалось главное.
– Взорвем башню, ворвемся и устроим им баню.
– Кровавую? – с добродушной усмешкой уточнил полковник Лисовский.
– Разумеется, пан Александр. Хрыча-архимандрита за его оскорбительный ответ я прикажу повесить на воротах. А воеводу Долгорукого либо отошлю в табор к Ружинскому, либо сам посажу на кол. По настроению.
– Его настроению?
– Нет, по моему. Вы же, полковник, можете следовать на Переяславль и далее на Ростов. Тут я с этим вшивым монастырем сам управлюсь. А то – чего нам топтаться вдвоем на одном месте. Так мы очистим от съестного все окрестные деревни, и наши подчиненные начнут роптать. Ведь от гетмана обещанного обоза ждать придется до Судного дня, пожалуй.
«Ох, честолюбив, хитер и дальновиден этот литвин, – подумал рокошанец Лисовский, изгнанный королем Сигизмундом. – Но не буду ему прекословить, черт с ним. Пусть берет монастырь и грабит церковную утварь. А я отправлюсь в Переяславль и далее – поищу там тоже что-нибудь подходящее».
Полковник со своим отрядом гусар и черкасов ушел на Переяславль. А Сапега отдал приказ копать ход к башне беспрерывно, круглосуточно.
Довольно продолжительное время мужики, сидевшие в подвале Пятницкой башни, раз в день отыскивали в Троице князя. Они загадочно говорили ему, поклонившись:
– Пока ничего нет.
– Ждите, – также загадочно приказывал воевода.
Наконец пришли в воеводскую избу оба мужика с торжествующим видом.
– Князь-батюшка, Григорий Борисович, слышно, – сообщили «слухачи», готовые пуститься в пляс от радости.
– Хорошо слышно? – сразу поднялся и обеспокоился князь.
Он пошел за упорными смердами и спустился в подвал. Там явно прослушивался скрежет лопат.
– Как думаете, сколько им еще?
– Да немного.
– Я вам к ночи подкину еще пять человек, обученных подрывным работам. Понятно?
– Понятно-то понятно. Да можно бы, дождавшись, прирезать копателей и рвануть по подкопу. А уж там-то… – начали предлагать мужики.
– Нет, не надо. Мы их взорвем ихним собственным порохом, – сказал Долгорукий. – Все у них обвалится и придется ворам начинать сначала, еще на месяц.
Однако подкоп был закончен посреди ночи. Главный «слухач» крестьянин Шипов бросился в него, выхватив широкий нож и увлекая за собой остальных. Копавшие растерялись, они не имели даже оружия. Защищаться в такой тесноте лопатами было бесполезно. Их быстро убили троицкие. Потом, пригнувшись, побежали «в гости» к полякам.
Выскочив, мгновенно зарезали сторожа. Они были посреди пушечной батареи, приготовленной для стрельбы по башне. Здесь оказались сложены одна на другую бочки с порохом.
Тут же сунули в одну из бочек тлеющий фитиль.
– Сейчас и на другом конце пушки взорвем, – рванулся в темноту с фитилем Шипов.
Среди ночи раздался оглушительный взрыв, взметнулся огонь. Батарею заволокло дымом. Пушки разметало, а все спавшие поблизости поляки погибли. Вслед затем бухнуло под землей, и подкопа не стало. В подвал Пятницкой башни вернулось трое закопченных ратников.
Воеводы Долгорукий и Голохвастов с десятком стрельцов спустились под башню.
– Ну и разгром вы там устроили! – восхищался князь, глядя с довольным видом на вернувшихся. – А где остальные? Где мои слухачи?
– Видать, все преставилися, Григорий Борисович, – глухим голосом произнес один из вернувшихся. – Кто в подкопе, кто на горе от взрыва, царствие им небесное.
– Да, жаль мужиков, – помрачнев, сказал князь Долгорукий. – Не пощадили жизни свои радя святого Сергия, ради свобожденья отчины от врагов… Панихиду закажу в храме, поминальный список подам священнику… Что ж – наше дело ратное…
Все перекрестились, постояли, опустив головы.
– Ну, – оглянувшись на заваленный землей выход из подкопа, вздохнул второй воевода, – здесь пока все закончили.
Выскочившие на стены осажденные, торжествуя, долго еще наблюдали переполох в польском лагере, слышали ругань начальников, стоны раненых. Долго еще тлели красными головнями остатки деревянных пороховых складов, и черный дым заволакивал окрестности.
После некоторого замешательства Сапега снова погнал свое войско на штурм монастыря. Возобновились и подкопы в разных местах крепостной стены.
Однако стрельцы, казаки, дети боярские, некоторое число дворян, а также находившиеся здесь крестьяне ближних деревень и многие из монашеской братии (среди них встречались бывшие служилые люди) с отвагой, с твердой решимостью выстоять и спасти мощи святого Сергия отражали приступы тушинцев, не щадя собственной жизни и нанося урон неприятелю.
По этому преобладанию сильного чувства у осажденных измена не могла пересилить верности в Троицком монастыре, хотя отдельные ее случаи проявились и здесь.
Если в стане осаждающих нашлись казаки, мучившиеся совестью, что принимают участие в нападении на обитель святого Сергия, и перебегавших к осажденным. То нашлись перебежчики и между монастырскими служками, даже между детьми боярскими, которым не хватило терпения сидеть в осаде, особенно в зимнее время.
Осенью, когда было еще довольно тепло, толпы людей жили на открытом воздухе, прячась временами от пушечного обстрела. Когда начались морозы, все старались устроиться в кельях. Началась страшная теснота и, как следствие ее, болезни разного рода, тем более стало недоставать топлива. Ломали сараи и прочие хозяйственные постройки, разбирали даже избы. Все равно не хватало всем тепла и стало скудно выдаваться съестное. Ограниченно распределялись выдачи хлеба, не говоря о горячей пище.
При всей настороженности и упорстве осады, все-таки происходили редкие случаи, когда удавалось ночью или днем – во время кратковременной вылазки миновать врагов и ускользнуть подальше от табора Сапеги в Москву. Так послания разных людей достигали тех, кому были посланы.
Стрельцы и некоторые сварливые монастырские обитатели жаловались келарю Палицыну, находившемуся в Кремле, при Боярской думе, что их совсем плохо кормят. Нудно перечисляли и, возможно, лгали на соборных старцев и архимандрита, которые, по их мнению, «едят и пьют по келиям по-прежнему во все дни».
Архимандрит Иоасаф в оправдание писал царю: «Мы говорили ратным людям: ешьте в трапезной, что братия ест, да возьмите мое архимандричье себе, а свое передо мной поставь. Но они братские кушанья уносят по кельям, где у них жены и дети, а у иных жонки. А нам смирить себя больше уже не знаем как? Едим с братиею с Филиппова заговенья сухари с хлебом. В осаде нам теснота и нужда великая. По дрова вражьи ратники ведь не выпустят, и так от келий кровли, задние сени да чуланы уж пошли на обогрев, теперь жжем житницы».
Обнаружилась измена казначея Девочкина, якобы писавшего кому-то из лагеря Сапеги с предложением помочь в овладении монастырем. Воевода князь Долгорукий, узнав от своих послухов о намерениях казначея, возбудил расследование и применил пытку. Девочкин оговорил под пыткой второго воеводу Голохвастова. Но тот решительно отрицал обвинение и перед князем с гневом и яростью «запирался».
Князь Долгорукий написал келарю Палицыну в Москву, чтобы он тайно известил об этом царя. Видимо, Голохвастов имел в кремлевских палатах большие связи или какие-то договоры с кем-то из «верхних» бояр. А поскольку Шуйский уже не пользовался решающим влиянием в Кремле, и, может быть, готовилось подспудно его низложение думскими главарями Мстиславским, Голицыным и другими, то дело об измене в осажденной Троице замяли.
Измена заключалась в наущении Девочкиным дворянина Голохвастова как-нибудь «промыслить» городовые ключи у князя Долгорукого, чтобы ночью впустить в монастырь поляков. Однако решительный поступок воеводы с одним из главных лиц в монастыре возбудил негодование архимандрита и соборных старцев. Они ругали при свидетелях князя и его подчиненных ратников, которые тоже каким-то образом переправили в Москву свою жалобу на архимандрита и старцев в том, что они «ратных людей, дворян и детей боярских и слуг монастырских, участвовавших в отражении вражьих приступов, очень оскорбили».
Осада продолжалась. Защитники обители святого Сергия, потеряв часть своего состава убитыми, ранеными и больными, отбивались от многократно штурмующих крепостные стены воровских войск с прежней отвагой. Хотя в Москве и в самой Троице считали, что положение у осажденных крайне шаткое, что топливо и еда на исходе, что присутствует (кроме недоказанного Девочкина и Голохвастова) скрытая, но постоянно мешающая ратоборцам измена. Правда, двое соучастников Девочкина, Гриша Брюшин и Худяк, умерли под пыткой, не объяснив ничего.
Уже почти полгода Сапега безуспешно топтался под стенами Троицы.
Однажды, при особо упорном приступе ратников Сапеги, когда отражение их требовало от защитников крайнего напряжения, один молодой стрелецкий десятник настолько смело и ловко рубил своей саблей сумевших добраться до верха стены жолнеров, что его заметил находившийся неподалеку Долгорукий.
– Вот отчаянный детина! – воскликнул князь, повернувшись в его сторону. – Ну, молодец! Гляди: одного сшиб, второго зарубил… Ну-ка? С третьим схватился, ай ловок!.. Что-то товарищей возле него мало. А помогите-ка ему, робяты, – приказал он своим телохранителям, их было трое. Они бросились с пищалью, секирой и шестопером, чтобы поддержать стрельца.
Тут возникла овчинная шапка какого-то черкаса, уже почти влезшего на стену. Молодой десятник схватился с ним… Звон скрестившихся кривых лезвий среди разноголосого крика, ругани, воплей пораженных оружием звучал недолго. Стрелец оступился, черкас в овчинной шапке перенес вторую ногу на стену. За ним лез жолнер в каске, держа наготове пистоль, а в зубах стиснув лезвие сабли.
Жолнер выстрелил в защитника Троицы, попал ему в левую руку. Но стрелец успел дотянуться до черкаса, и сабля его вонзилась тому в живот. Падая навзничь со стены, черкас тоже выстрелил. Его выстрел снес стрельцу шапку и опалил волосы.
А к жолнеру подскочил уже крестьянин в порванном зипуне и ссадиной на лбу. Топором на длинной рукояти он хотел с маху зарубить тушинца. Опытный жолнер увернулся и, схватив из зубов саблю, ударил мужика в грудь. Деревенский воин не выпустил из рук топор. Теряя сознание, он донес свой размах до завершения и разрубил шлем поляку. Кровь хлынула, заливая лицо жолнера. Он, еще в сознании, пытался применить свою саблю, а сразу за ним, держа впереди себя пику, лез еще один черноусый тушинец…
Посланные князем подбежали вовремя. Они добили жолнера, оглушили шестопером поднимавшегося следом за ним черноусого тушинца и, схватившись за прислоненную к стене лестницу, могучим усилием оттолкнули ее. Внизу осаждающие успели отпрянуть в стороны. Остальные упали вместе с убитым троицким крестьянином, жолнером и черноусым. Осада продолжалась: выстрелы, рубка саблями и топорами, богатырские удары дубьем и коваными палицами… Приступ постепенно терял свой напор, свою ярость. Все меньшее число тушинцев стремилось на стены Троицы. Осажденные усилили стрельбу из луков, пищалей и фузей.
Молодой стрелец пошатнулся, ослабев от потери крови. Левая рука была прострелена. Он еще пытался сопротивляться слабости. Но силы уже оставляли его.
Тут поддержал его пожилой монах с толстой, обитой железом палицей спешивший на стену.
– Держись, сынок… – сказал монах, помогая ему спуститься с внутренних уступов стены. – Пришлые инокини тебя перевяжут… Уложат в келье на соломе… Сестрицы, примите раненого, сотворите-ка ему помощь…
Две монахини, одна постарше, другая молодая, высокая, с красивым бледным лицом, придерживая стрельца, отвели его к ближайшему месту для перевязки.
Он едва сдерживал стоны, левый рукав кафтана промок, напитался кровью. Подошел старик ратник. Разрезал рукав, снял рубаху с молодца, осмотрел руку.
– Ничего, пройдет язва, – успокоил он раненого десятника. – Мякоть пробило. Заживет, затянется. Надо быстрее кровь становить. Что у вас тут есть из лекарства, сестры? Давайте накладайте какую-нито мазь. Перевязывайте крепко. Главно дело – кость у него цела.
– Есть, есть у нас средство, обороняющее от гнили, кровь становящее. – Старшая инокиня достала из сумы деревянное долбленое суднышко с круглою крышечкой. Сначала обмыли, как могли, кровь с руки, с тела стрельца. Потом мазала монахиня рану темной, пряной, горчинкою пахнущей гущей. Далее прочитала «Отче Наш», «Богородице Дево», тропарь святому Сергию, благо находились в его обители. Кровь течь перестала. Перевязала с умением: крепко, плотно, а без жесткости.
Стрельца трясло от холода, из-за потери крови. Кто-то пожертвовал рубаху, чуть истлевшую кое-где, но чисто стиранную.
– Олюшка, – обратилась старшая монахиня к молодой, – принеси овчинный тулуп покойного старца отца Игнатия. Да треух его бараний тоже прихвати. Вишь, у молодца шапку-то пулею сдуло.
Молодая инокиня Ольга принесла стрельцу теплые вещи. Укрыли, расположили его на сухой соломе ближе к печуре, где варили кашу и сочево.
– Теперь пойду промышлять у старцев долю на вечер – нам и болезному молодцу, – удовлетворенная своей целительной заботой молвила монахиня.
– А мне ратное положено, матушка, – приоткрыв глаза, напомнил стрелец. – Скажи: десятник стремянного полка у самого воеводы Григорья Борисовича Долгорукого. Он меня помнит. Вот и поделимся.
– Да как тя кличут-то?
– Мирон Юшин я, – он снова закрыл глаза, потом открыл и неожиданно, будто через силу, улыбнулся. – Хлеб не забудь… как тя…
– Сестра Ефросиния, Старицкого монастыря бывшая ключница, – отозвалась деятельная монахиня.
– Бывшая… – повторил Мирон, перевязанный теплыми искусными руками сестры Ефросинии. – Я мекал, ты не ключница, а целебница. А как здесь оказалися? На поклонение, что ль, пришли?
– Через всякое я прошла, разное в моей долгой жизни-то бывало. Бывшая… Мы тута все бывшие, – с каким-то особым смыслом произнесла пожилая монахиня и почему-то покосилась на бледный, склоненный лик сестры Ольги. – Ну, ладноть, пошла я. Пока живы, не помрем. А помрем… Господь нас рассудит. Лишь бы здесь устоять, не пустить басурман латыньских мощи чудотворца нашего Сергия охаять да разорить. И нас, грешных, спасти от смерти лютыя, от позорища ихнего. Аминь.
Нашли Юшина товарищи из полка. Много, говорили, сегодня наших ратных убито: не мене двадцати. Да столько ж детей боярских и со сборной рати. И от охотой шедших смердов и прочих людей. Всего человек сто. А уж сколь раненых! Некоторые вряд ли выживут. Ну и есть легкие – вроде тебя. Руды много, крови потерял. А так – повезло. И сам воевода, мол, хвалил его, Юшина, удаль.
– Харчи принести, ратную долю? – спрашивали стрельцы.
– За ястем инокиня пошла, сестра Ефросиния. А я вот полежу ден трое-четверо, и на стену. Хорошо, прострелили шуйцу[97], а не боевую десницу.
– Ну и, Господь с тобой, Мироша… Лихой рубака… Вот и соседушка твоя баска собой, что ангел во плоти… Токмо суть бледненька… Как звать-то? Олюшкой? Помоги тебе вынести бедствия святая равноапостольная княгиня Ольга…
– И вас спаси Христос от смерти в бою с ворами… – тихо сказала инокиня, вскинув длинные ресницы.
– Мы-то люди ратные, наша доля такая… Кто жив останется – скажи: Бог с тобою.
Когда ушли стрельцы, через малое время явилась с глиняной мисой и хлебом бывшая ключница Ефросинья.
– Вот и ужин готов… – проворковала она с облегчением. – Слава Спасителю, харчи еще не окончились. В харчевной-то из подызбища свежим хлебом пахнет. Поживем, а там, глядишь, отобьют воров. Придвигайся, милушка Олюшка, я тебе в отдельну чашечку чистеньку положу. – И шепотом: – Ты жа у нас истинная царевна.
– Да ничего, матушка, не хлопочи. Я могу со всеми, мне все одно.
Когда закончили трапезничать (и другие монахини, простые миряне, да деревенские сельники – кто с ребятами, кто без) в сумерках лишь слегка пятнисто подсвечивали от деревяшек, в печурке тлеющих. Круглолицая девица в большом плате вязаном, в столбунке[98] черном шерстяном, мехом-белкой обшитым, попросила сестру Ольгу спеть потихонечьку не духовное, а мирское.
– Грех во обители мирское петь, – сказала Ефросинья, подогрев воды с целебной травкой для питья раненому. – Ну да Олюшка так сладко и тихо поет, кабыть в образе духовного. Ну, потяни голоском бережно… Наш грех, наш грех… Такая песня, хоть и проста, – страсти будит, вот што…
Ольга привстала и запела чистым, будто бесплотным голосом:
Исходила младешенька все луга и болота, Все речные откосы да и все сенные покосы… Истоптала младешенька, исколола я ноженьки — За милым другом рыскаючи, а и вида его не имаючи. Отыскала младенька то жилище желанное… Уж я шасть на крылечко, уж я бряк во железно колечко… Выйди, выгляни, друг мой, неизбывный, неласковый… Позабыл ты младеньку, позабыл ты приглядную, Бросил, кинул не знающе, только слезы про тя проливающу…Тесно приткнувшиеся в кельях близ от печурки, осажденные люди слушали, не шелохнувшись, тихо вздыхали. Одна старушка иссохшая, вспомнившая, видать, жаркую молодость, чуть слышно проговорила:
– Спаси тя Богородица, дитятко. Дай те мир и пристанище святое, боголепное.
Инокиня Ольга, закончив пение и не отвечая на еле слышные похвалы, достала четверток бумаги. Взяла со спросом у близ сидевшего белобородого старца чернильницу и чиненое гусиное перо, стала писать, уловив пятно красноватого света от чела печного.
– Кому пишешь-то, Олюшка? – тишком вопросила матушка Ефросинья.
– Тетушке Евдокии Федоровне Беклемишевой из батюшкиной родни… Не знаю, выдастся ли удача на сей раз… Вот сказали мне, ночью казак один повезет письмеца-то… Собрали ему кто, что мог. Я цепочку серебряную дала, боле ничего у меня нет, окромя перстенька заветного… Даренного женихом моим умершим…
– Что ж поделаешь, на все святая воля Господня. Ты теперя не прынца иноземного, а сладчайшего Иисуса Христа невестушка, Ксюша…
«Ксюша?» – уловил не сонным слухом Мирон Юшин. И вспомнил, что стоял в кремлевском карауле поодаль, когда перезахоранивали из Варсанофьевского монастыря в Архангельский собор гробы царя Бориса Федоровича, да еще жены его и сына, убиенных по приказу самозванца Гришки Отрепьева. А при положении их в гробницу царскую Архангельского собора приказано было оставшейся дочери царя Бориса инокине Ольге вопиять, рыдать и проклинать злодея Лжедимитрия… Так вот кто теперь помогал перевязывать ему рану бывшей ключнице Ефросинье! Сама царевна Ксения Годунова, ныне же страждущая инокиня в осажденной Троице.
Ксения, – видно Мирону в полумраке истомленное бледное лицо, – писала, держа бумагу и чернильницу на коленях: «…в бедах своих чуть живая я, совсем больна вместе с другими старицами, и вперед ни одна из них себе жизни не чает, а с часу на час ожидают смерти, потому что у них в осаде шатость и измена великая. А еще я узнала здесь, что в Суздале засел Лисовский и пустошит окрестную землю. А Владимир теперь под началом Ивана Ивановича Годунова. Прошлые года он крепко стоял против самозванца Отрепьева за родственника-царя, батюшку моего Бориса Федоровича. Теперь же не захотел быть за Шуйского, ослушался его приказа воеводствовать в Нижнем. Остался Иван Иванович во Владимире и привел жителей к присяге второму самозванцу, Бог ему судья…»
Ночь наступила. Осажденные ждали последующего дня с тревогой и страхом. Сколько же будет длиться осада Троицы? Неужели при всем самопожертвовании и отваге защитников Сапега добьется своего, сумеет взорвать стену, и огромная безжалостная шайка поляков, литовцев, черкасов и русских воров, которые еще беспощаднее иноземцев, ворвутся в обитель святого Сергия Радонежского?..
На рассвете ночной страж северной стены монастыря, что супротив Красной горы, Сенька Пешнев, стуча старыми сапогами бежал по каменной лестнице вниз, а потом по улице к дому воеводы, князя Долгорукого.
У крыльца его остановили стрельцы с бердышами:
– Куда тя несет? Белены объелся? Воевода еще спит поди. Небо чуть побелело, обождешь…
– Пуститя! Ей-ей, пущайте меня к воеводе! Вона и они скажут… – За Сенькой бежали еще двое сторожей, тяжело дыша, запрокинув бородатые лица.
– Да-к, бес тя возьми, что стряслось? Подкоп взорвали? А где шум и дым?
Услужающий холоп князя, выглянув, тотчас скрылся. Послышались быстрые шаги со звонкими ударами каблуков. Воевода, полуодетый, с взлохмаченными волосами и бородой на сторону, распахнул дверь. Из-за плеча его маячили еще чьи то глаза, бороды, открытые рты.
– Ну?!
– Княже! Григорий Борисович, нету!
– Чего нету, мови толком? – вдевая руку в рукав воеводского таусинного[99] кафтана, спросил Долгорукий.
– Пустой табор, княже! Ушли!
После полуторогодовой упорной осады, после многих десятков штурмов и подкопов, после постоянного пушечного обстрела Ян Сапега, выругавшись самыми черными ругательствами, какие он только знал, приказал своему войску выйти на южную дорогу, к Тушину.
XI
Царь Василий Иванович Шуйский рассчитывал после договора со шведами на перелом в войне с Тушинским вором. Вернее, с польско-литовским войском и многочисленными казачьими и прочими смешанными отрядами, «шаталыми» разбойниками, как он их называл. Шуйский думал о помощи прославленной в Европе, обученной и закаленной в боях шведской армии. Она должна быть гораздо лучше вооружена, чем поляки, более управляема и сплоченна.
Однако король Карл IX не желал бросать в огонь войны свои лучшие полки. Взяв с русского царя огромные деньги и условившись в случае успеха получить Нотебург (Орешек) на Неве и Корелу с прилегающим землям, он схитрил.
Вербовщики короля бросились искать наемников и обшарили всю Северную Европу. Они нанимали брауншвейгских немцев, французов-эльзасцев, более похожих на блондинистых северян, чем чернявые парижане или смуглые гасконцы. Они находили обнищавших английских крестьян, согнанных с земель жестокими биллями[100] своих лордов, и рослых, суровых шотландцев, которые давно стали постоянными наемниками, покидая свою бедную горную страну. Лишь небольшие отряды природных шведов возглавил главнокомандующий Якоб Понтус Делагарди.
Первый шведский отряд, прибывший в Новгород, был невелик – всего пять тысяч. Скопин опечалился и сказал своему шурину Семену Головину:
– Деньги при тебе? Давай наскребай для шведов.
– А потом?
– Где хочешь бери – у богачей Строгановых[101], что ли. А остальное соболями. Хватит?
– Да, – подтвердил присутствовавший на военном совете Делагарди. – Еще наш опытный полководец Зомме приведет не менее десяти тысяч солдат.
Делагарди говорил на ломаном русском довольно бойко. Когда слов не хватало, дьяк Сыдавный, знавший щведский свободно, ему помогал.
– Ну, за союз воинский, – сказал Скопин, пригласив Делагарди к своему столу накануне выступления в первый поход.
– За союз, – охотно согласился Делагарди, поднимая серебряную чарку с крепкой, приятно пахнувшей медовухой. Они выпили, закусив источавшим жир балыком. Слуга принес еще жареных кур, вареную белорыбицу и поднос с румяными пирогами, начиненными мясом, луком, грибами и моченой брусникой.
– Я постарше тебя, князь Михель… то есть Михайль… Можно, я буду так тебя называть?
– Мне двадцать три. А тебе, Яков?
– Мне двадцать семь. Из них я четыре года был в польском плену. Самое плохое время моей жизни. Меня выкупили родные. Потому я имею к полякам свой счет. Ладно, продолжим нашу приятную… э… разговор… А про войну будем говорить на… чистую… или как по-русски?..
– На свежую голову, – засмеялся Скопин.
– Да, на свежую голову будем говорить завтра.
На следующий день, собрав у себя шведских начальников и предводителей прибывших недавно русских отрядов, Скопин расстелил чертеж северной части Московского царства.
– Позвольте мне начать, – проговорил Скопин, вглядываясь в карту, – потом скажете, если пожелаете, ваше мнение.
Он обстоятельно пояснил – кому и с кем каждому водителю союзного войска придется сразиться. Генералу Эверту Горну, возглавившему шведский отряд тяжеловооруженных всадников и несколько команд пехоты, а также Федору Чулкову с войском стремянных стрельцов и пеших ратников-новгородцев. Надо было догнать полковника Кернозицкого. Отряды Кернозицкого состояли из польских гусар и запорожских черкасов, не считая русских воров всевозможного звания. Их следовало разгромить и гнать, освобождая присягнувшие самозванцу города. Да не забывать при этом требовать присяги законному царю.
Еще на военном совете Скопин сказал воеводе Федору Чулкову:
– Придется тебе, Федор, остаться с частью отряда за городского воеводу. После чего вы идите, господин Горн, на Торжок, Порхов, Орешек-Нотебург. Воевода Салтыков из последнего бежал в Тушино, к вору, и лижет там пятки полякам. А Чулков должен, выезжая стремительно из Торопца, пресечь приток разбойных шляхтичей в лагерь Тушинского вора. Виновных в таком преступном намерении брать в полон, сопротивляющихся рубить на месте. К тому же ты должен помочь окрестным крестьянам уничтожать отряды фуражиров-грабителей. Вот такие мои вам пожелания, господин генерал Горн и господин воевода Чулков.
Горн и Чулков тотчас выступили и догнали довольно многолюдное воинство Кернозицкого. От неожиданности и удивления, увидев среди русских бехтерцев, кольчуг и тегилеев[102] зерцала шведских панцирей, их тяжелые каски и граненые эспадроны, услыша слаженные ружейные залпы, всадники Кернозицкого дрогнули.
После коротких кровопролитных боев они начали отступать, а затем ударились в бегство. Союзные войска выгнали оккупантов из Старой Руссы, разбили при селе Каменках и взяли Торопец. Поскольку Торопец стоял на пути из Польши в Москву, здесь мало было заставить присягать царю Василию.
Князь Мещерский с большим отрядом московских ратников был направлен на Псков. «В городе власть захватили главари черни, которые грабят торговые склады, бесчинствуют, пьянствуют и сразу присягнули Вору, – говорил перед походом Скопин. – Вятшие недовольны. Вам бы заранее связаться с самыми почтенными горожанами и согласовать бы с ними взятие города».
Однако у Мещерского взятие Пскова не получилось.
Казачий атаман Корсаков дал знать в Псков о приближении московского войска. Взбунтовавшиеся против городских властей и царя Василия Шуйского стрельцы, казаки, мелкие городские жители, подгородные крестьяне узнали о сношении подошедшего к Пскову князя Мещерского с местной знатью и обвинили «вятших» в измене.
Все перемешалось. Часть горожан, не предвидя ничего плохого, вышли из города навстречу иконе Богородицы, приносимой из Печерского монастыря. В это время раздались пушечные выстрелы, и москвичи ринулись к стенам для взятия города. Начался страшный пожар, который почти полностью опустошил Псков. Две стены были взорваны. Несмотря на это, псковские стрельцы отбились в своей слободе от московского войска.
Мещерский вынужден был стать боевым лагерем неподалеку от Пскова. В городе захватили полную власть «мизинные» люди особо свирепого и беспощадного нрава. Предводительствовал ими взявшийся неизвестно из каких краев простой смерд Тимофей, прозвищем Кудекуша Трепец. Ему удалось собрать таких же жестоких от рождения людей, которые бросились «выжигать» измену, проводить следствия, пытки и казни, жертвами которых стали в большинстве случаев представители городской знати. С ними сводили счеты недовольные своей жизнью, обедневшие торговцы, разорившиеся ремесленники, потерявшие хозяйство крестьяне и просто постоянно пьяные, склонные к грабежу и сварам бродяги.
Мещерский еще раз попытался овладеть городом. Стрельцы с помощью городского населения яростно отбивались и успели на месте взорванных возвести новые стены.
«Неужели вы столь отважно и безумно сражаетесь, чтобы иметь государем своим не московского царя, а самозваного Димитрия, разорившего государство с помощью пришельцев-поляков латыньской веры?» – писал в своей грамоте, обращаясь к псковскому вечу, князь Мещерский.
«Не хотим ни польского ставленника, ни какого московского лиходея, а желаем жить по справедливости старым вечевым обычаем. Но коль выбора только два, то лучше Димитрий Иванович и литва, чем московское палачество…» – отвечал от имени всех городских простолюдинов какой-то безымянный монах Печерского монастыря.
Однако «вятшие» люди писали к московским воеводам и припадали к милости царя Василия:
«И бояр многих мучили, жгли и ребра ломали щипцами калеными, и часто приходили новгородцы со злобою, с немцами и казаками, и дети боярские, новгородские и псковские с требованьями своими, и много было кровопролития, крестьянам и пригородам грабежа, и много всякой беды псковичам».
Скопин отозвал Мещерского от Пскова.
Семен Головин, вернувшись из похода, пришел к Скопину и устало доложил:
– Орешек наш, как ты приказывал, князь Михайла.
– А смурый чего? Трудно было?
– Да нет, обидно. Салтыкова, мошенника, упустил я. Успел он, сукин сын, сбежать в Тушинский табор.
– Да знаю. Черт с ним, с Салтыковым. Их вся порода такая: хитрая и продажная. Тут вот князь Мещерский так и не взял Пскова. Что за город воровской! Говорят, и прадеду у царя Ивана Васильевича, великому князю Московскому Ивану еле удалось овладеть Псковом. А то уж они хотели перейти в подданство литовцев, потом поляков. До того додумались, чтоб стать подвластной землей немецких торговых городов, а подчиняться их бургомистрам и купеческим советам. А православие заменить на латинство либо на веру жидовствующих, которую тоже привезли из немецких земель.
– Ну и поганцы! Много воли на своем вече взяли.
– И ведь сколько крови пролил царь Иван Васильевич Грозный, чтобы вернуть Псков в Московское царство. А они теперь не желают служить законному царю, а присягнули Вору и упорствуют. Хорошо хоть с Новгородом уладилось. Только зря Татищева растерзали, эх…
– А, может, и не зря, – пожал плечами Головин. – Один Бог знает, что замышлял Татищев. А вдруг бы тысяцкий прав оказался?
– Все равно, нельзя было воеводу толпе обезумевшей отдавать. Расследовать следовало. Я виноват, не успел его оградить от обозлившихся ратников…
Скопин снова собрал на совет Делагарди, Горна и своих – Головина, Чеглокова.
– Брат Федора Чулкова Гаврила захватил внезапно Торжок, проворонили поляки. Гаврила ворвался в город, а теперь срочной помощи просит. Торжок-то недалеко от Твери. Там с большими силами польский воевода Зборовский и мятежник князь Шаховской, которого князь Василий помиловал, не казнил за его воровство еще с Болотниковым. Вот он и платит за милосердие царское новой изменой. Присягнул второму Самозванцу. Сейчас с поляками вместе во всю старается. В случае их победы, думает небось, как бы ему этого Димитрия погубить, да самому на трон московский взобраться. Писал об своей задумке брату, а письмо-то перехватили. Ну, Шаховской, конечно, отпираться… «Зачем мне престол, мне бы царем посадить королевича Владислава…»
– Да кто ему престол свободит в любом эдаком случае? – засмеялся Головин. – Слышно, и сам Жигимонт не откажется. Все хотят царствовать.
– Окромя меня, незадачливого, – без усмешки сказал Скопин. – Я царствовать не желал бы. Мнится, лучше государство Русское от иноземцев и воров очистить. А после и выбирайте себе государя. Так вот, господа, – продолжил Михайла Васильевич. – В Твери у Зборовского и Шаховского более пятнадцати тысяч жолнеров и казаков. Они Гаврилу Чулкова сомнут. Так что генерал Горн и ты, Семен, выступаете немедленно.
Лес шумел молодой листвой, веял свежестью. Заливались птицы на разные голоса. Дождички кропили, но изредка. Воевать приходилось не в лихое ненастье, не в мороз, либо при изнуряющем нестерпимом зное, а при вполне приятной погоде. Может быть, поэтому Головин и Горн не особенно осторожничали, не послали гонца в Торжок о своем приближении.
И внезапно увидели выходящих из леса им навстречу ряды польских жолнеров. В середине готовящихся к сражению густых отрядов пехоты ехал на коне осанистый полковник в окружении своих адъютантов, это и был пан Зборовский. Сиял панцирем с золочеными накладными головами львов, каской с белыми заморскими перьями. Перчатки с раструбами, сапоги с горящим на солнце глянцем. Он вынул саблю, бросившую от солнца сверкающую дугу.
– Поляки, вам предстоит разгромить тупых москалей и угрюмых шведов! – громко крикнул полковник. – Это будет нетрудно. Они пришли, как видно, на гуляние. Мушкеты к прицелу, сабли наголо. Вперед!
На левом крыле стройно двигавшегося войска жолнеров, рыскали, хищно пестрея красными шароварами и кушаками, рассыпаясь по полю, запорожские казаки. Это были всадники князя Шаховского.
Русские невольно попятились и, прячась в кустах, начали стрелять из пищалей. Подоспевшие шведы тоже открыли огонь из мушкетов слаженно и точно, дружными залпами. Главное их достоинство, по сравнению с русскими и поляками, заключалось в том, что шведы гораздо быстрее перезаряжали ружья. Однако бой заварился упорный и кровавый. Московская дружина Головина отступала, с ожесточением отстреливаясь. Шведы, стреляя залпами, залегли. Поначалу казалось, что поляки выиграли сражение.
Услышав залповый огонь шведов, крик, гвалт и разрозненную, но множественную стрельбу поляков, Гаврила Чулков понял, что передовые отряды князя Скопина ввязались в бой с войском Зборовского. Он послал разведку выяснить положение. Вывел свою дружину из Торжка в тыл полякам и черкасам Шаховского. «Ну, вдарим Зборовскому по затыльнику», – заявил своим бойцам Гаврила и первый рванулся в бой.
Догадавшись о нападении Чулкова со стороны города, Горн повел шведский отряд в наступление. Скоро к нему присоединились ратники Головина. Левый «казачий» край польского войска не выдержал метких залпов шведских стрелков. Черкасы стали заворачивать коней и припустились бешеным наметом прочь, не желая погибать за «Димитрия Ивановича» от безжалостных шведских пуль.
Обнажив левое крыло польского войска, Шаховской вынудил и жолнеров к отступлению. Яростно ругая конницу князя, полковник Зборовский послал разведку кружным путем и выяснил: следом за передовыми отрядами движется большое русско-шведское войско Скопина.
Тут уж поляки стали торопливо отходить к Твери, где соединились с недавно разгромленными казаками Кернозицкого.
Скопин подошел с основным войском к Торжку. Здесь кроме его передовых отрядов дожидалось прибытия основных сил смоленское ополчение. Теперь русско-шведское войско вполне могло дать решительное сражение полякам.
Началось это большое сражение с ружейного и пушечного огня. Потом стали сближаться пехотные полки, продолжая на ходу стрелять, и уже вступили в рукопашное столкновение. Однако польские гусары с одной стороны, а черкасы с другой смяли на обоих крыльях и стремянных стрельцов, и тяжелую шведскую кавалерию. Однако польская пехота в середине не выдержала совместный удар шведов, московской пехоты и смоленского ополчения. Жолнеры обратились в бегство. Опомнились они, только пробежав несколько миль.
Затем жолнеры возвратились, подбирая своих раненых и убитых. Их встретили победившие на своих позициях конники. Казаки уже успели ограбить шведский обоз. Решив, что бойня закончилась в их пользу, они принялись выискивать способ раздобыть хмельного.
Зборовский на кратком полевом совете предложил все-таки покинуть Тверь.
– Отступать надо немедленно, – как и Зборовский, советовал полковник Кернозицкий. – Вы напрасно думаете, князь, – обратился он к Шаховскому, – что Скопин на этом успокоится и отойдет. Его войско сейчас числом превосходит наше. К тому же шведы ни за что не простят свой разграбленный обоз. Уж я-то знаю этих скупердяев. За всякий обыденный хлам и хоть какое-нибудь достояние они будут драться до последней капли крови.
Однако большинство поляков, особенно те, кто бежал от русских в середине сражения, и подгулявшие уже казаки не желали слушаться начальников.
Зборовский требовал, чтобы войско расположилось в одном месте и приготовилось к обороне. Но войско вышло из подчинения. Одни (в основном поляки-жолнеры) расположились в поле. Другие (казаки и всякий пришлый люд) расползлись по всему обширному посаду[103], устраивая пирушки, затаскивая в помещения женщин и не соблюдая никакой осторожности. Не выставили даже ночные посты. Поскольку у местных крестьян давно уже не было ни гроша, казаки спускали все награбленное в шведском обозе за «горилку», которая кое у кого находилась.
Зборовский пререкался с Кернозицким, требуя восстановления дисциплины.
– Э, пан полковник, вы следите лучше за жолнерами. А казаков сейчас ничем не проймешь, они загуляли, – отвечал Кернозицкий.
Поляки тоже плохо выполняли приказы. Они обижались, что казаки их опередили и в ближних деревнях вычистили все погреба и подполья.
– Мы дрались, а за нашу пролитую кровь казаки теперь веселятся! – возмущенно кричали жолнеры.
Гвалт, ругань и пьяные песни длились почти всю ночь и стихли лишь к утру.
А на рассвете Скопин и Делагарди напали на Тверь. Озлобленные вчерашними неудачами, досадуя из-за разграбленного обоза, шведы яростно убивали поляков и казаков. В плен не брали. Шведам не уступали в ярости и стремянные стрельцы.
– Я увожу оставшееся войско, пока его полностью не вырезали, – заявил Зборовский, боясь оказаться без единого жолнера. – А вы прикрывайте отход конницей, пан Кернозицкий.
– Кем я буду прикрывать? – вопил Кернозицкий в бешенстве и потрясал кулаками перед Зборовским. – Они же лыка не вяжут! Все перепились!
Князь Шаховской сообразил, что силы польско-казачьего войска почти полностью уничтожены. В сопровождении нескольких слуг он сел на коня и поехал в сторону Москвы с видом оскорбленного достоинства. Когда началось стремительное русско-шведское наступление, Шаховской решил не дожидаться окончания этого печального для него события. Он понимал: если окажется в руках Скопина, тот не простит ему повторной измены. Не дожидаясь решения царя Шуйского, племянник может приказать его повесить.
Вскоре воровского князя стали догонять группы поляков, со страхом оглядывавшихся и кричавших:
– Скопин сзади! Скопин догоняет!
Шаховской свернул с московской дороги и поскакал напрямик через поля и перелески, только бы не оказаться случайно в руках Скопина.
Русско-шведское войско могло торжествовать победу. Князь Скопин-Шуйский уже предполагал дальнейшее развитие изгнания поляков и разгрома Тушинского лагеря. Он мечтал о скором освобождении Москвы.
Войско двигалось к Москве бодрым шагом, когда князя догнал Семен Головин и, тяжело дыша от возмущения, сообщил новость. Скопин был поражен: шведы отказываются воевать! Они требуют оплату за прошедшие месяцы.
Скоро появились Делагарди, Горн и остальные офицеры. Они предъявили ультиматум: или деньги, или они собираются на родину. От имени шведского командованья плотный высокий капитан Гесь сказал:
– Шведские солдаты не сделают больше ни одного шага, пока русские полностью не рассчитаются звонкой монетой. И еще не оплатят ограбленный поляками обоз.
– Я выплачиваю деньги, господа, по мере их поступления.
– Это нас не интересует, господин главнокомандующий, – продолжал злиться Гесь. – Скорее пишите своему царю или мы уйдем.
– Хорошо. Я обещаю, что первый же захваченный у врага обоз будет ваш.
– Этого мало, князь Скопин. Шведская храбрость стоит больших денег.
Когда шведские офицеры вышли из шатра князя Скопина, Делагарди остался.
– Мне не хотелось тебя огорчать, Михайль, но ничего не поделаешь. Везде такие правила. Если нанимаешь солдат, плати вовремя. И кроме того, – продолжал Делагарди, – наш король Карл требует выполнения договора по поводу обещанных за воинские труды и потери Корел.
– Я выполню все условия, прописанные в договоре. По поводу Корел завтра же направлю туда дьяка Сыдавного, Собакина и Чулкова, – сказал Скопин. – Пусть на месте посланцы попросят у ваших королевских чинов еще солдат. А сам я пишу сейчас письмо царю про деньги. Пусть он и думные бояре быстро решают, как расплачиваться.
После этого Скопин перешел Волгу под Городнею, чтобы соединиться с ополчениями северных городов, которым надоели грабежи поляков и казаков.
По левому берегу Скопин дошел до Калязина. Против него выступили Зборовский и взявший пять тысяч жолнеров от осажденной Троицы Ян Сапега. Они хотели нанести Скопину неожиданный упреждающий удар. Однако битва сложилась не в их пользу. Поляки потерпели поражение и, неся значительные потери, вернулись осаждать Троицкий монастырь.
Стоя в Калязине, Скопин занимался обучением новобранцев из северных городов, ему ревностно помогал шведский генерал Сомме. Рекомендовал его Яков Делагарди. Он к тому же вел переговоры о восстановлении совместных воинских дел и писал об этом королю Карлу.
Царь Василий Иванович разослал служилых людей, направив письма воеводам нескольких городов и архимандритам монастырей с просьбой о займе денег в уплату за шведскую помощь.
Некоторые воеводы быстро прислали деньги – кто сколько мог; были и такие, что вяло отвечали на царские письма. Высылку денег тянули, например, в Перми. Напрасно устюжане, вычегодцы, вятчане и купцы Строгановы призывали пермяков усовеститься, последовать их примеру: помочь царю Василию деньгами и ратными людьми. Пермь отмалчивалась. Зато, не мешкая, прислал крупный взнос из монастырской казны Соловецкий монастырь.
Тем временем один из отрядов, посланных Скопиным, занял успешным приступом Преяславль-Залесский. С другой стороны рать под водительством боярина Федора Шереметева беспрепятственно вошла в Муром и приступом взяла Касимов. Шереметев после некоторого перерыва без особых затруднений вошел во Владимир.
Север страны постепенно очищался от власти тушинских ставленников. Главные рати с востока и запада сходились к Москве, чтобы под ее стенами дать решающий бой самозванцу, его основным польским вельможам и окружавшим его казачьим и жолнерским отрядам.
После победы войска Скопина над Зборовским полетели встревоженные письма Зборовскому и Сапеге – чтобы бросили осаду Троицы и шли бы к Тушинскому становищу. Письма были от имени «Димитрия Ивановича» и даже некоторые с его личной припиской: «Неприятель вошел в Тверь почти на плечах нашего войска. Мы не раз уже писали вам, что не должно терять времени за курятниками, которые без труда будут в наших руках, когда Бог увенчает успехом наше предприятие. Теперь же, при перемене счастья, мы тем более просим оставить там все и как можно скорее со всем войском вашим спешить к главному стану, давая знать и другим, чтоб спешили сюда же. Просим, желаем непременно и подтверждаем, чтоб вы иначе не действовали».
Однако кроме рати Скопина над Тушином гроза занималась и с другой стороны.
XII
Польский король Сигизмунд III был по рождению и воспитанию швед. Но занял польский трон, будучи наследником шведской короны.
Поляки старались приглашать на свой престол иностранцев, чтобы паны не начали грызню, ибо каждая группировка предлагала своего претендента. Отчаянная междоусобица могла довести страну до кровавой и бесконечной гражданской войны.
Однажды поляки пригласили французского принца из династии Валуа. Но религиозная война во Франции помешала этому событию, и французский принц, уже выехавший в Польшу, небрежно пожал плечами и возвратился в Париж. Затем поляками долго правил суровый, умный венгр Ян Баторий, которого в войне за прибалтийское побережье так и не одолел русский царь Иван Грозный.
И вот сейм пригласил Сигизмунда, который мечтал создать унию между Речью Посполитой и Швецией, стать монархом сразу двух прибалтийских стран. Но после смерти его отца Юхана III дядя Сигизмунда Карл IX совершил дворцовый переворот и занял престол.
Началась польско-шведская война за Ливонию. Она закончилась победой шведов. Вражда между двумя государствами, которыми правили близкие росдственники, была очень напряженной.
Когда в Польше возник дворянский мятеж (рокош), Сигизмунду было не до Москвы. Однако король вышел победителем. Каких-то мятежников он казнил, каких-то, слишком известных, вроде полковника Лисовского или князя Ружинского, изгнал из страны.
Пока Шуйский исподволь боролся с Самозванцем, и тот в конце концов был убит, король Сигизмунд внешне находился в стороне. Его бывшие политические враги-рокошанцы действовали в Московии, снова завоевывая трон для следующего Лжедимитрия. Боярское посольство предложило Сигизмунду отдать на русский престол сына Владислава. Это вроде бы казалось заманчивым, но и очень рискованным. Сигизмунд отказался от предложения бояр.
Когда же на престол Руси без особых оснований втерся Шуйский и, начав войну с поляками, служившими второму Самозванцу, заключил союз со Швецией, Сигизмунд встрепенулся. Зачем посылать на московский трон отрока Владислава, когда есть основание свергнуть Шуйского, разогнать всех Лжедимитриев и поддерживающих их рокошанцев, а самому занять престол русских царей, оставаясь королем Польши.
Это уже оказывалось не какими-нибудь династическими играми. Это было для Польши выгодно и почетно: завоевать Московию и присоединить ее к Речи Посполитой. Король решил начать поход в Русию со взятия Смоленска, который некогда со всеми своими землями находился в пределах Польского государства, вернее, Великого княжества Литовского.
Сигизмунд объявил, по сути дела, войну союзу московитов со Швещией. Он заявил, что каждый польский воин-патриот должен оставить службу у самозванца и прийти под его знамена. Когда эти вести донеслись до Тушинского табора, до других захваченных поляками городов, многие паны и шляхтичи, а особенно простые жолнеры решили бросить мутную возню под командованием бывших главарей рокоша и проситься в королевскую армию.
Польские послы, вернувшиеся из Москвы, уверяли короля, будто самые знатные бояре (противники Шуйского) готовы передать ему царский трон.
Осенью 1609 года Сигизмунд III и канцлер Лев Сапега подошли к Смоленску. Королевская рать под Смоленском насчитывала всего двенадцать тысяч солдат. В ней было больше кавалерии, чем пехоты. Для осады приготовили не многим более полутора десятка пушек.
Король Сигизмунд готовился к взятию Смоленска, как к не слишком тяжелому военному предприятию. Впрочем, он знал, что Смоленск служит основой обороны русских на западе.
В правление Годунова город был обнесен мощными каменными стенами. Они имели протяженность в шесть верст, а толщина их превышала стены Троице-Сергиева монастыря или даже Московского Кремля. Возведено было тридцать восемь башен, на них находилось двести пушек. Состав защитников Смоленска насчитывал полторы тысячи стрельцов. Здесь проживало тысяча двести служилых военных людей-дворян. Днем и ночью караулы на стенах города несли до двух тысяч стражей из городского ополчения, вооруженных саблями и пищалями.
Польский король повелел смолянам отворить крепость и встретить его хлебом-солью.
Он получил ответ от всего населения города и от воевод Шеина и Горчакова: «Скорее мы все сложим свои головы, чем сдадим Смоленск врагам».
– Ну что ж, Смоленск более ста лет находится за нашей границей, у московитов, – размышлял Сигизмунд, советуясь с коронным гетманом Жолкевским. – Пришла пора снова сделать его польским городом.
– Однако, Ваше Величество, я не думаю, что взять столь укрепленный город возможно быстро. Следовало бы подготовиться более основательно и увеличить армию, особенно уделяя внимание осадным пушкам. А неподготовленная осада такой мощной крепости будет длиться бесконечно.
– Посмотрим, – подкрутив светлые усы, произнес король. Он был в хорошем настроении. Имелись сведения – многие гусары и жолнеры, руководимые изгнанными главарями рокоша, оставляют свой подмосковный лагерь в Тушине и устремляются к Смоленску. «Возьму Смоленск, а там начну крупные военные действия против войска шведов и московитов, – думал Сигизмунд. – А уж потом рассчитаюсь с наглыми мятежными панами, собиравшимися лишить меня трона».
Между тем Скопин, разгромивший у Калязина Зборовского и Сапегу, соединился опять с отрядами Делагарди и двинулся на Александровскую слободу. Его передовой отряд, под начальством Валуева и расчетливого, опытного шведа Сомме, вытеснили и отогнали поляков. Скопин все еще дожидался в слободе новых подкреплений от шведов.
А в Москве свирепствовал голод. Тушинские отряды и большие скопления разбойников на Коломенской дороге перекрыли ее. Главарем их оказался простой крестьянин Сальков. Он не пропускал в Москву ни один хлебный обоз из Рязани. Царь Шуйский послал против Салькова одного за другим двух воевод. Воеводы объявили, что шапками закидают проклятых смердов, лишивших столицу подвоза продовольствия.
Народ сбегался на Красную площадь. Сметая стрелецкую охрану, врывался в Кремль.
– Наши жены и детишки с голоду мрут! – кричали москвичи из ремесленных слобод, размахивая колами и топорами. – Шуйский, ты где там затрапезничался со своими боярами?!
– Не царь, а хвост поросячий! – дерзил какой-то ярыжка из тех, что составлял челобитные в Китай-городе. – На кой эдакий нужен? Где твои сраные воеводы? Они че, мужичье разбойничье разогнать не могут? Салькова, ратая деревенского, никак не одолеют! Может, нам к Тушинскому вору с челобитьем пойти? Скажем: наш царь не в силенках, так хоть ты люду московскому помоги, польский приблудень! Выходи, Шуйский, сын любодейный, мать твою! Хлеба давай голодным!
От разных уличных концов, от всех церквей выл и ширился, доходя до Кремля, набат.
Царь не выходил, боялся – стрельцы не удержат взбунтовавшуюся толпу, и голодная чернь его растерзает. Он хватался за голову, бежал из Грановитой палаты по коридорам дворца. Бояре, оставшиеся с Шуйским и не умотавшие в Тушино, лаялись между собой. Потом скапливались кучками, качали бородами, оглядываясь, бормотали:
– Ну, все! Силов нет! Пора его с трона сталкивать, пора…
Наконец зарайский воевода, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, будущий освободитель Кремля от поляков, разогнал разбойничью шайку на коломенской дороге, а самого главаря их Салькова взял в плен и в колодке отослал в Москву, к Шуйскому.
Ну, думали, сейчас царь прикажет пытать мужика самыми ужасными пытками, а потом истерзанного обожженного велит четвертовать на Красной площади. Но царь Шуйский долго разговаривал о чем-то со стоявшим перед ним на коленях, связанным Сальковым. Думал о чем-то, свесив свою седую голову, морщил темное горбоносое лицо и вдруг… позвал рынд, чтобы развязали и освободили атамана. Что-то сложное и необычное шевельнулось в очерствевшем сердце царя… Чем-то тронул Сальков, ограбленный поляками, потерявший семью – жену, дочь малую, родителей, – обиженный жизнью пахарь. Приказал царь определить Салькова в Чудов монастырь на черные работы: дрова рубить, воду таскать, грехи замаливать. Оставил такому злодею жизнь. Велики чудеса твои, Господи!
Голодно и холодно жилось Москве в эту зиму. С великим трудом, с великими жертвами отбиваясь от тушинских приступов, только и жила столица надеждой: придет молодой князь Скопин и уничтожит Тушинский табор, разгонит обнаглевших жестоких иноземцев. В Москве было скудно, неустроенно, страшно. Кругом рыскали отряды поляков и казаков.
Захватывая какой-нибудь город, да если он еще и сопротивлялся, поляки рубили, вешали, топили, насиловали, сжигали избы дотла. Отбивая свой город или вернувшись на его пепелище, русские случайно захваченных поляков вырезали поголовно, зверея от ненависти и крови. Жители, кто успевал, прятались в леса, в дебри, за болота – как некогда от набегов татаро-монгольской орды. И не знали: чего ожидать дальше? Когда все это кончится?
А в Тушинском лагере после побега «Димитрия Ивановича» в Калугу, стал вопрос для русских воров – как быть? Ехать в Калугу к самозванцу? Давно уж разобрались, что это за царь. Возвращаться в измученную голодную Москву, к беспомощному и коварному старику Шуйскому, тем более не хотелось.
Посовещавшись у патриарха Филарета, тушинские бояре и прочие бывшие придворные Лжедимитрия решили идти посольством к королю Сигизмунду и опять просить у него на московский трон королевича Владислава.
Во главе уговорили стать патриарха. Затем опять чередом вошли в посольство бывший воевода Орешка, старый изменник Салтыков с сыном, князь Мосальский да князь Хворостинин, далее Плещеев и Вельяминов, пятеро думских дьяков и Михайла Молчанов, бывший приятель первого Самозванца, убийца жены Бориса Годунова и лжец, представившийся Болотникову спасшимся от смерти царем «Димитрием Ивановичем». Из-за него Болотников, князь Шаховской и еще разбойничий «царь» Петр Федорович вынуждены были выйти и сдаться Шуйскому. А ведь были дни, когда бы только предстать перед побеждающим и ликующим воровским войском – и столица, скорее всего, была бы взята.
Даже не спросив разрешения у Ружинского, это посольство в количестве более сорока человек бояр и дворян Московского царства выехало к польскому королю под Смоленск.
Тем временем Ружинский вынужден был искать соглашения со своим ненавистником-королем. Часть поляков и русских все-таки хотели переместиться в Калугу и по-прежнему помогать «Димитрию» добиваться московского престола. Ружинского же «Димитрий Иванович» объявил своим врагом, требовал его осуждения и предания наказанию на общем коло.
И все-таки, когда «царь Димитрий» пропал, а затем заявился в Калуге в окружении достаточного числа приверженцев, презиравшая его панская компания Ружинского, а также семья Мнишеков остались у разбитого корыта.
Марина еще находилась в Тушине. Бродя по лагерю, коронованная полячка умоляла ратных людей идти в Калугу, к ее мужу «Димитрию Ивановичу». Бледная, с распущенными волосами, она была в отчаянии. Сидевшая недавно на царском троне Грановитой палаты, имевшая в своих руках сундуки, набитые драгоценностями, двор – родовитых московских бояр, сотню польских щеголей, преклонявшихся перед ней, и тысячи покорных слуг, она вдруг оказалась не царицей, а пленницей.
Но судьба снова стала к ней милостива. Ей пришлось разыгрывать комедию – признать второго Самозванца за первого и терпеть его грубый, страстный, иногда бешеный нрав, но она опять чувствовала себя царицей. Пусть она жила в простом доме, в Тушине, уже не в таком великолепии, не в такой роскоши… но была надежда: все еще может вернуться! Она еще въедет в золоченой карете в Кремль, если победит войско ее мужа. Но эти спесивые, наглые, польские паны оскорбляли его, пренебрегали им, сделали из него почти заключенного в Тушинском таборе и – все оказались в дураках… Правда, и она недостаточно осторожно вела себя по отношению к мужу, – сошлась с горячим казачьим атаманом, красавцем Заруцким… Да были еще и стройные белокурые гусары-поляки…
Конечно, муж ее оскорблял, даже бил и изменял, не собираясь скрывать этого ни от нее самой, ни от кого-либо другого. Ее отец пан Юрий Мнишек уехал в Польшу, будучи крайне недовольным ее поведением и тем, что все его великолепные планы рухнули. Марина, после побега «Димитрия» от Ружинского, часто в непристойной расхристанности переходила из палатки в палатку – от польского лихача с усами стрелками до бородатого статного московита в кармазинном кафтане. Слышался смех, любезничанья, звонкие чоканья винных чарок… Не всегда она возвращалась в свою спальню в приличиствующее царице время, а иногда это вообще было утро.
В письме к отцу, пану Мнишеку, она пишет: «О делах моих не знаю что писать, кроме того, что в них одно отлагательство и никакого исполнения – словом, ничего обещанного при отъезде. Я хотела послать к вам своих людей, но им надобно дать денег на пищу, а денег у меня нет».
При встрече гетман Ружинский довольно откровенно заявил Марине:
– Панна Мнишек, пожалуй я вынужден называть вас именно так, а не «Ваше Величество». Оба ваши супруга, будто бы коронованные цари, – подчеркиваю оба, когда якобы должен быть один… Так вот скажу вам прямо: первого нет на свете, а второй не коронован и сбежал, как последний проходимец, в навозных санях.
– Вам бесчестно глумиться надо мною, – гордо заявила Марина. – Если счастие лишило меня всего, то осталось при мне право мое на престол московский, утвержденное моей коронацией, признанием меня законной наследницей, признанием, скрепленным присягой всех сословий и провинций Московского государства. А в ваших изъяснениях, пан Ружинский, я не вижу и доли рыцарства.
Ружинский позеленел от злобы и невольно сделал в ее сторону шаг, исполненный угрозы.
– Может быть, вы вызовите меня на поединок? – с интересом спросила Марина Мнишек.
– У меня сильно болит плечо от раны, а то бы конечно… – неловко отшутился гетман и поспешил уйти.
Димитрий же, убежав от принудительного удержания Ружинским, приобрел для себя в народном мнении выгодную сторону, ибо главный упрек ему всегда был в том, что он с ляхами разоряет Русскую землю.
Приехав под Калугу, он объявился архимандриту подгородного монастыря. Тот бросился благословлять царя и предлагать услуги.
– Пошли, честной отец, монахов в кафедральный собор и к воеводе с моим извещением, – сказал «Димитрий Иванович». – О том, что я выехал из Тушина, спасаясь от гибели, которую готовил для меня король польский. Он возненавидел меня за отказ уступить Польше Смоленск и Северскую Украйну. А я готов голову свою сложить за православие, отчину и народ.
Воззвание Лжедимитрия заканчивалось дерзко и лихо: «Не дадим торжествовать ереси, не уступим королю ни кола, ни двора».
Калужане – воевода-поляк Скотницкий со старшими командирами войска, дворяне, казаки, стрельцы и весь обрадованный люд поспешили в монастырь с хлебом-солью. Радостно восклицавшая толпа предоставила своему «государю» лучший дом в городе. Довольно значительный отряд стрельцов и калужских ополченцев составили войско, достаточное для любого отражения осаждающих – на всякий случай. У «Димитрия Ивановича» снова появились почтительные придворные и слуги, надежная охрана и боеспособное войско. Сама Калуга и ближние города собирали деньги для «царского» обихода и прокормления.
Впрочем, среди ближних людей самозванца опять крутились и поляки, и немцы, и даже касимовские татары, мечтавшие вольно жить при «Димитрие Ивановиче». Тем временем «государь» написал письмо Марине, в котором звал ее к себе. «Уже прибыли князь Шаховской, некоторые смышленые поляки и казаки. Я пошлю приказ преданным мне людям арестовать Ружинского и привести его ко мне, на мой суд. Также следует вернуть все мое войско. Я намерен снова идти на Москву, скинуть Шуйского и занять трон».
Письма к Марине Мнишек и кое-каким влиятельным людям с приказом арестовать Ружинского «Димитрий» послал в Тушино с неким паном Казимирским из «своих» поляков. По приезде в Тушинский табор Казимирский передал письмо «царице», а остальные не успел разнести адресатам. Его выследили шпионы Ружинского.
Гетман ворвался в спальню Марины и потребовал от нее послание ее мужа. Она, разумеется, заявила, что никакого письма не получала. Здесь присутствовала Барбара Казановская, еще несколько шляхтянок, служанки. У дверей дежурили казаки атамана Заруцкого. Ружинский, хоть и требовал, и дерзил царице, но лично обыскивать ее все-таки не посмел.
Остальные письма он перехватил у Казимирского и приказал своим гусарам посадить его в темную «за караул». Читал письма, призывавшие к его аресту, кусая в бешенстве губы. Походил по комнате, морщаясь от досады и боли в плече. «Ладно. Я тебя проведу, безмозглый москаль», – подумал гетман и сел к столу.
Он написал калужскому воеводе Скотницкому (все же это был поляк), что властью данной ему (гетману) от Войска, приказывает взять так называемого Димитрия, выдающего себя за русского царя, и доставить его под конвоем в Тушино, где тот должен ответить за свои деяния и пр. Затем расписался размашисто и даже изящно: «Князь, полковник и гетман всего Войска Роман Ружинский». Шлепнул золоченую войсковую печать и свою княжескую, синюю, сверх того. Ружинский решил отомстить самозванцу его же монетой. Он вызвал арестованного Казимирского и спросил его, читал ли он письма, переданные ему самозванцем.
– Что вы, пан гетман, как я мог посметь такое! – уверял перепуганный Казимирский, боясь, что гетман от злобы и досады может с ним расправиться. – Я вообще никогда не читаю чужих писем, тем более таких знатных лиц. Так что я ни в чем не виноват.
– Я тут подумал, что мне с тобой сделать, казнить или помиловать, – продолжал запугивать Казимирского Ружинский.
– Помилуйте, пан гетман, ради Езуса и Чентсноховской Божьей Матери, я только передал письма, – чуть не плакал Казимирский. – Я даже краем глаза не заглядывал в них…
– Мы же все-таки поляки, – словно размышляя вслух, произнес Ружинский. – Мы должны помогать друг другу, а не наносить ущерб и не предавать, как это сплошь делают бессовестные московиты.
– Да, ясновельможный пан гетман, мы поляки и должны друг другу… – забормотал Казимирский, почувствовав надежду на помилование. – Я готов, ясновельможный пан, в лепешку расшибиться для вас… Только прикажите, только одно слово…
– Хорошо, – пришел к окончательному решению гетман. – Я решил дать тебе очень важное… более того, тайное поручение. Выполнишь его – будешь жить и будешь награжден, ну а если нет…
– Ой, что вы, ясновельможный пан, да я для вас…
– Ты сейчас же возвращаешься в Калугу. Вот письмо воеводе Скотницкому – отвезешь лично ему в руки. Сделаешь – и все: ты прощен и получаешь награду. А если нет…
– Да что вы, пан гетман! Ваше поручение такому незначительному человеку, как я, это уже величайшая награда!
Отъехав верст тридцать от Тушинского лагеря, Казимирский сломал печати и вскрыл письмо.
– Ой, ой, ой! – чуть не закричал он. – Передать воеводе, чтобы он арестовал и прислал Ружинскому царя… Да осмелится ли воевода Скотницкий сделать такое?! Кругом царские казаки и стрельцы, а вокруг Скотницкого только горсточка поляков… Он не решится, но скажет царю, что это письмо от Ружинского доставил я. Ой, ой, ой! Петля! В таких случаях Димитрий Иванович думает очень быстро. Нет уж, Тушино далеко, а Калуга приближается с каждым часом.
Въехав в Калугу, Казимирский без сомнений направил коня к царскому дому. У крыльца стояли стрельцы (воровские, конечно) в красных и синих кафтанах. Опершись на бердыши и положив левую руку на рукояти сабель, они подозрительно взглянули на него. Дальше в широких ступенчатых сенях сидели и прохаживались казаки из отряда князя Шаховского. На них были черные чекмени, высокие шапки с кистями до плеча и алыми шлыками. Вместо стрелецких бердышей – острые пики, а сабли у бедра круто изогнутые, татарские.
«Димитрий Иванович» прочитал послание гетмана и похвалил Казимирского:
– Молодец! Я этого не забуду. А мои письма передал?
– Ваше Величество, из ваших писем я успел передать только царице Марине Юрьевне. А потом, как я из ее дома вышел, меня сразу повязали и – к Ружинскому.
– Эх, досада! Но она-то все-таки получила мое письмо? Прочитала?
– Конечно, это я успел. И она спрятала. Но вот потом Ружинский грозил меня повесить. Я еле отговорился – знать, мол, ничего не знаю. Посадили все равно в сарай до утра. А утром меня снова к Ружинскому. Ладно, говорит, отвезешь сегодня мое послание воеводе Скотницкому и – прощен. Я конечно: «Слушаюсь, пан гетман. Весь к вашим услугам». Письмо в сумку – и на коня.
– Все равно молодец, Казимирский. Главное, Марине передал. А ну налейте славному пану Ясю в хрустальный кубок самого дучшего вина. Мальвазеи. Ты слышишь, Петруха? Самого лучшего вина! – распорядился радушно «Димитрий Иванович» и даже хлопнул в ладони.
Тут Петька Кошелев вынес на расписном подносе высокий, переливающийся гранями, хрустальный богемский кубок, полный красного вина.
– Моему верному посланцу за проворство и верность, – сказал «царь». – Выпей, Ясь, за мое здоровье. Остальные награды от меня чуть позже.
Сияя от радости, Казимирский осторожно взял кубок.
– Ваше Величество, за ваше здоровье! Виват!
– Спасибо, Казимирский.
Удачливый посланец медленно выпил красное благоухающее вино. Напиток был великолепный. Однако через минуту Казимирский побледнел, пошатнулся и, цепляясь рукой за стену, сполз на пол.
– Петька, быстро своих парней сюда. Обухом по голове, в мешок и в отхожее место, в самое глубокое. Ну? Через задние сени!
Зыркая разбойничьими глазами, вошли двое верзил, нахмуренные, в затасканных армяках. Подхватили обмякшего Казимирского и уволокли.
Тут же заглянул Александр Рукин. Он уже несколько дней как перебрался из Тушина.
– Теперь тебе задание, Алексашка. Ступай к воеводе Скотницкому. Скажи, царь приглашает вечером на ужин для разговора с глазу на глаз. Надо это дело закончить, – твердо сказал «царь».
Обговорили все подробности предстоящего «ужина». «Димитрий Иванович» уточнил:
– Ребята те же будут? Надежные?
– Очень надежные, государь. Но другие. Так-то получше.
– Добро. Ты, наверное, прав.
Воевода Скотницкий прибыл на ужин к царю в самом лучшем своем кунтуше. Он был польщен приглашением царя: «Ценит государь способных людей. Ему нужны опытные, умные воеводы. Тем более, сейчас, пока везде смута. А вот скинут Шуйского, государь займет свое место на троне, в Кремле. И, может быть, вспомнит сообразительного и обходительного поляка Скотницкого, подсобившего ему в трудное время. Очень может быть. Бывало такое. И приглашали таких способных людей из небольшого города в государственный совет, рядом с князьями и боярами. А это уже и положение в государстве другое, и доходы, само собой… В конце концов можно будет, если очень понадобится, и греческую веру принять, схизму эту московитскую, черт бы ее побрал…»
Воевода подкручивал нафабренные усы, пока у него почтительно принимали шубу, шапку и чуть ни под руки провожали в царскую трапезную горницу. Там стол ломился от всевозможных закусок, от корчаг и бутылей с хмельными напитками.
– О, очень приятно, Ваше Величество, – расплылся от удовольствия Скотницкий. – Весьма польщен вашим гостеприимством.
– Я решил посидеть с вами наедине, пан воевода. Скромно попировать и в то же время поговорить о важных делах. Всегда полезно узнать мнение умного, многое повидавшего человека.
– Ваше Величество, даже самый маленький и скромный совет, исходящий от меня… если он вам чем-то поможет, это будет для меня праздником.
– Ну, пан Скотницкий, поднимем чары за…
– Ваше Величество, только за ваше здоровье, за вашу доблесть и удачу!
– Благодарю вас, пан Скотницкий.
Пир начался с взаимных приветствий, радушных угощений, всевозможных любезностей. Когда воевода, любивший смачно покушать, увлекся после нескольких чарок жаренной в сметане рыбой и наклонился над блюдом, плечистый слуга высоко поднял обливной ковш и ударил Скотницкого по лысеющему темени. Пан воевода беззвучно повалился со стула.
– Давай, давай, живее, – сказал Рукин парням, явившимся с большим мешком.
Мешок был похож на тот, в который днем затолкали Казимирского. Но парни оказались другие, хотя с одинаково жестокими разбойничьими глазами. Воеводу засунули в мешок, молча и сноровисто вытащили из горницы.
Самозванец сел к столу, наполнил бокал из хрусталя водкой и медленно выпил. Отдувшись, повертел головой и взял со стола кусок копченого мяса.
Возник Петька Кошелев, перекувырнулся перед «царем» и влез на стул, где сидел в начале ужина воевода. Он налил себе водки, ловко вылил в гортань и сипловато запел:
Тук да тук, Деревянный стук, Зять рубил на половину Все для тещи домовину. Затопили печку, засветили свечку, Домовина-то ладна, Видать даже из окна.Вернулся Рукин. Подошел к столу, налил чарку, выпил с мороза.
– Чего долго-то? – спросил «царь».
– Да здоровый очень, в прорубь не пролезал. Пока пешней поддолбили. Потом уж все хорошо стало.
– Хорошо говоришь, Рукин, сукин сын? – пьяно переспросил «Димитрий Иванович». – Ха-ха! Ну и ладно… И концы в воду…
Такой же участи подвергся и «окольничий» самозванца Иван Иванович Годунов.
А в Тушине металась по своему скромному дому Марина Мнишек. Все письма от «Димитрия» к его нужным людям оказались в руках Ружинского. Хорошо хоть она успела спрятать адресованное лично ей у себя на груди. Распоясавшийся самовластный гетман все-таки не решился запустить свою лапу ей под рубашку.
Но она находилась в состоянии постоянной тревоги, даже страха. Что если Ружинский прикажет ее арестовать? Тогда уж все пропало! Что сделает злобствующий гетман против нее? Неизвестно, все что угодно. Ей же нужно немедля мчаться в Калугу. Там ее муж, царь «Димитрий Иванович», с которым она (пусть не с ним именно, а с его первоначальным подобием) венчалась в Успенском соборе московского Кремля, когда еще и не пахло никаким выгнанным из Польши Ружинским. Что же предпринять? На что решиться ей, женщине?
Ранним утром, едва одевшись, Марина побежала в стан, где располагались тысячные отряды донских казаков. Она шла между коновязей, кибиток, кое-как сбитых домов и шалашей. Она увидела, как со всех сторон на нее оглядываются и к ней направляются бравые усачи с саблями и пиками.
– Братцы, казаки! – закричала отчаявшаяся «царица». – Помогите! Спасите меня! Только на вас, дорогие мои, вся моя надежда!
Вокруг «царицы» мигом образовалась возмущенная, мгновенно накаляющаяся яростью толпа казаков.
– Кто посмел обидеть нашу православную царицу? Да мы того в куски порубаем и кишки выпустим! Говори, государыня-царица!
– Казаки, донцы! – снова воззвала маленькая женщина с распущенными волосами и горящим взглядом. – Гетман Ружинский не выпускает меня отсюда к моему мужу, царю Димитрию Ивановичу. Он в Калуге и прислал мне вчера письмо. Вот оно, подписано его собственной рукой: Димитрий. – Она размахивала письмом самозванца.
К ней подошли есаулы, сотники, кто-то еще из казачьей старшины. Они взяли у Марины письмо, доставленное Казимирским. Прочитали. Потом стали читать громко всей казачьей распаленной толпе. В письме к жене «Димитрий» повторил свои слова из воззвания к калужанам: «Я готов голову сложить за веру православную, за отчину и народ!»
Услышав такие слова, толпа донцов заревела. Некоторые выхватили сабли и завопили: «Кто смеет лишить воли царицу и не отпустить ее к государю?!»
Марина поняла, что достаточно привлекла внимание и накалила казаков.
– А что вы делаете здесь, как жалкие бездомные слуги гетмана? У вас есть царь! Он ждет вас в Калуге. Седлайте коней, казаки, уходите к своему государю!
Узнав, в чем дело, увидев и услышав, что происходит в донских куренях, атаман Заруцкий поскакал к Ружинскому, рассказал о бунте Марины.
– Ах, сучка! Ах, гадюка! – бесился Ружинский. – Как это я до сей поры ее не арестовал? А ты, Заруцкий, не можешь навести у себя порядок?
– Подите-ка, суньтесь к ним сейчас, пан гетман, – обиделся красавец атаман, сверкая глазами.
– Ну да, эта панна ведь, кажется, и твоя коханечка… Вот и взбесилось все казачье быдло! – неистовствовал Ружинский.
– Казаки возмущены не потому, что она чья-то «коханечка», а потому, что Марина Юрьевна венчанная русская царица! – тоже начал кричать Заруцкий. – И надо не забываться в чванстве, а помнить об этом!
– Езжай к Трубецкому, пусть поднимает своих ратников против казаков!
Заруцкий поспешил к князю Трубецкому, изложил происходящее, услышал:
– Я ухожу с полком в Калугу, а твоего Ружинского, я… в гробу… и в мать… и в душу…
– Ружинский прибегнет к военной силе, – предупредил Заруцкий.
– Что? Пусть только сунется, – обозлился Трубецкой. – Все! И тебе, Заруцкий, пора бы решить: ты с кем? Казаки уйдут, кем останешься у поляков? Конюхом?
Беготня Марины по лагерю казаков, ее вопли о засилье Ружинского, предъявленное письмо «царя Димитрия Ивановича» и призыв идти к Калуге возымели действие.
Донцы седлали коней, заряжали ружья. Грузили своими вещами и припасами обоз. С ними уходили полки князя Трубецкого и Засекина. Для охраны царицы выделили триста отборных конников Плещеева.
Длинная вереница всадников, обозы, пушки на полозьях, снова всадники – русские стрельцы и донцы – двинулась через заснеженное поле. Оставляли от Тушинского табора широкий, вскопыченный, перепаханный и унавоженный след.
Гетман Ружинский с искаженным от злобы и боли лицом кинулся к гусарам.
– Панове, надо вернуть в стан казачье быдло! Пан Александр, – обратился он к Зборовскому, – я поручаю это дело тебе. И не щадите их, хамов-схизматиков! Рубите изменников!
Гусары с разгона налетели на хвост вереницы уходящих казаков. Но те открыли по ним пальбу из пищалей, рубили саблями. Бились яростно и ожесточенно.
Когда Марина Мнишек, одетая в гусарский кунтуш и шапку, услышала стрельбу и спросила Плещеева: что происходит? – он ответил:
– Там идет сражение.
– Из-за чего?
– Из-за вас, Ваше Величество.
– То есть как?
– А так. Ружинский не хочет выпускать из лагеря ни вас, ни казаков.
– Вот мерзавец! – заявила Марина, потом задумалась и сказала: – Между прочим, меня приглашал навестить его пан Сапега. Он сейчас, кажется, в Дмитрове. Поехали туда, только запрягите сани для моей Барбары и служанок. Я отправлюсь верхом. Триста ваших молодцов смогут нас защитить в случае чего?
– Может быть, – ответил Плещеев и приказал запрячь сани для девушек. – Мы отправляемся в Дмитров, – напомнил он своим подчиненным. И триста всадников, сани, в которых сидели полячки, а также статный Плещеев, а рядом с ним на высоком коне маленький изящный юноша в гусарской одежде, – именно так выглядела Марина Мнишек, – покинули Тушинский лагерь с конца, противоположного тому, где гремела стрельба и происходила сабельная потасовка, если так можно назвать резню между казаками Заруцкого и гусарами Ружинского.
Сражение с южной стороны табора шло до темноты. В нем погибло две тысячи человек. Казаки все равно ушли к Калуге, а гусары воротились, неся своих раненых и волоча мертвецов. Ружинский бросился разыскивать «царицу», но ее уже не оказалось в Тушине.
Сапега был несказанно удивлен, когда к нему пожаловала Марина Мнишек в сопровождении Плещеева с тремястами отборных конников.
И почти одновременно началась осада Дмитрова отрядом воеводы Куракина, которого послал главнокомандующий русско-шведского войска князь Михайла Скопин-Шуйский.
– Вы приехали немного не вовремя, – осторожно сказал Марине Ян Сапега. – Хорошо еще, что успели проскочить перед носом князя Куракина. Вообще я бы посоветовал вам вернуться в Польшу и там переждать всю эту кутерьму. Там, между прочим, ваш отец… а неподалеку сейчас король… Зачем женщине рисковать на войне?
Марина нахмурилась и надменно взглянула на самоуверенного красивого литвина.
– Вы забыли, что я не просто женщина, пан Сапега. Я царица всея Руси. И мне нужно срочно попасть в Калугу к своему мужу, царю Димитрию Ивановичу, несмотря ни на какие бои и передряги.
– Не смею прекословить, Ваше Величество. Но вряд ли я смогу сейчас помочь вам. Начинается штурм Дмитрова войсками Шуйского и его племянника Скопина. Присядьте, выпейте чарку подогретого вина с дороги, Ваше Величество. Простите, но у меня сейчас начнется сражение с москалями. – Сапега кликнул адъютанта, надел панцирь и шлем, сунул за пояс два пистолета и вышел из дома.
Куракин с ходу, без подготовки, бросил свои отряды на приступ городских стен. Стрельцам удалось под огнем из крепости забросать ров бревнами, плетнями, натасканными из посада, и почти ворваться в город. С огромным трудом ратникам Сапеги удалось сдержать, а потом и отогнать москвитян. Князю Куракину не посчастливилось взять Дмитров с ходу. Он принужден был отойти, поскольку в его войске не было достаточного запаса пороха для пищалей и пушек. Кончалось и продовольствие. Куракин послал гонца к Скопину и стал ждать подкрепления.
Во время приступа стрельцов Куракина Марина спокойно подходила к стенам, по-видимому не оценивая опасности такого поведения. Она даже подбадривала защитников, ругала проявлявших робость и собиралась непосредственно участвовать в сражении.
Плещеев, вынужденный сопровождать царицу, каждую минуту ожидал ее смерти или своей собственной. Пули свистели повсюду, поблизости разрывались ядра. Марина совершенно не обращала внимания на угрозу гибели. С настойчивыми уговорами Плещееву удалось почти оттащить Марину от места, где шел бой. Наконец ее увела Казановская и уложила в постель.
Но рано утром Сапега увидел в окно, что Плещеев, уже одетый в кафтан и епанчу, распоряжается во дворе служанками царицы, а казаки седлают коней. Во двор въехали сани, запряженные тройкой лошадей. Один казак держал в поводу статного серого коня с укороченными (видимо, для малорослой Марины) стременами.
Сапега, накинув кунтуш, без шапки вышел на крыльцо. Тут же появилась Марина в мужском платье с саблей на боку. Ей подвели коня.
– Ваше Величество, позвольте узнать, куда вы собрались? – спросил с беспокойством Сапега.
– В Калугу.
– В Калугу? Но ведь у стен враги, – растерялся даже всегда уверенный Ян.
– Ну и что же! Я еду к мужу.
– Ехать сейчас крайне опасно. Я не советую вам это делать, Марина Юрьевна.
– Ничего. У меня триста казаков и доблестный пан Плещеев, – усмехнулась царица. Она выпрямилась в седле и подобрала поводья.
– Я вынужден буду задержать вас, Марина Юрьевна, – попытался противодействовать Сапега.
– Задержать царицу? Вы, полковник, в своем уме? Я прикажу сейчас своим казакам зарубить всех здесь, во дворе. И пробиться к воротам.
Ян Сапега опешил. Он всякое видывал во враждебных разборках, и в поединках, и в сражениях. Но чтобы женщина имела такую смелость, такое присутствие духа… или это было невероятно дерзкое легкомыслие.
– Видит Бог, я предупреждал вас, Ваше Величество, – вздохнул, разводя руками, Сапега. Он выразительно посмотрел в глаза Плещееву. Тот поднял брови, тоже вздохнул и тронул коня. «Чертова кума, взбесившаяся дура…» – пробормотал он себе под нос.
– Счастливый путь, – только и оставалось сказать Сапеге.
Часть четвертая
I
Ружинский послал письмо королю Сигизмунду, в котором призывал его бросить осаду Смоленска и идти в Тушино. Он обещал скорую победу над Шуйским и взятие Москвы. При этом гетман лгал, что у Шуйского испортились отношения с его племянником Скопиным, что москвичи с радостью встретят Его Величество.
Но король не трогался из-под Смоленска и не направлял никого из своих приближенных для переговоров со «свободным рыцарством».
– Этому самовлюбленному головорезу нельзя верить, – сказал пан Потоцкий Сигизмунду. – Ни единому его слову.
– А я и не верю, – пожал плечами король. – Кстати, я не забыл наглое послание, в нем тушинцы требовали моего ухода назад в Польшу. Под этим посланием первой стояла подпись Ружинского.
Между тем нападение гусаров Ружинского на казаков, уходивших в Калугу, имело свое продолжение. Мстя полякам за убитых собратьев, донской атаман Беззубцев напал на отряд Млоцкого, стоявший в Серпухове. Жители города подняли восстание и присоединились к казакам. Отряд Млоцкого подвергся поголовному истреблению.
А в Тушине ненавидевшие гетмана паны Тышкевич и Мархоцкий требовали объявить «коло». Они собрали самых отъявленных и отчаянных горлопанов, обиженных когда-то Ружинским, привели их к ставке гетмана и стали кричать:
– Коло! Гетмана к ответу! Ружинский, не прячься, выйди к войску! Коло требует!
От войска в Тушине оставалось едва ли половина. Остальные ушли – либо в Калугу к «Димитрию», либо под Смоленск к королю.
Сторонники Ружинского сбежались к его дому. Гетман, бледный, измученный раной, вышел на крыльцо. Рядом стояли его гусары, держась за рукояти сабель, готовые защищать своего вождя.
Напротив толпились жолнеры, польские конники, даже кое-кто из оставшихся казаков.
– Зачем ты выжил из Тушина царя с царицей, пан гетман? – орал какой-то жолнер. – Ты хотел сам править, как будто тебя уже короновали? Из-за тебя развалилось наше непобедимое войско!
– Правда! – кричал рядом гусар, подосланный Тышкевичем. – Для чего ты избавился от царя Димитрия и от Марины Юрьевны? Говори! Пусть все услышат!
Из-за спины Ружинского явился Заруцкий и зычно гаркнул:
– Тише, смутьяны! Дайте ответить гетману! Он недужен, у него тяжелая рана.
– Ах, у него рана? – взревел какой-то полупьяный казак. – А наши раны он считал? Он нас жалел, когда мы бедовали после сражений с москалями?
– Тише! – опять крикнул Заруцкий.
– Я не выживал царя с царицей, – сказал гетман и, слегка пошатнувшись, оперся на перила крыльца. – Они сами ушли, по своей воле.
– Врешь! – визгливо завопил высокий жолнер с повязкой на голове. – Я сам был в карауле, когда по твоему приказу не выпускали из лагеря царя Димитрия. Я сам видел! И я тоже ранен, но всем на это плевать…
– А почему ты, гетман, не пускал нас к царю Димитрию? Почему ты велел стрелять в нас, гад? – Казак схватился за свое ружье и хотел направить его на гетмана. Его с трудом уломали, временно утихомирили.
– Надо идти до короля! – требовали жолнеры. – У него настоящая служба, он платит солдатам жалованье.
– Ага, отвори свой кошель. Король тебе заплатит за твое мародерство, бродяга! Ты когда-нибудь видел что такое воинский порядок? До короля он пойдет…
– В Калугу надо до Димитрия Ивановича, он зовет. А Ружинского он приговорил к казни на плахе за измену царю.
Ружинский невольно дернулся в сторону кричавшего и побледнел еще явственней.
– Нет, надо до короля. Воевать, так воевать как положено. А не рыскать по хатам, не тащить все подряд, как татары.
– А кто заплатит за прошлые сражения? Гетман? У него нет ни злотого в кармане.
– Ну да, у него в кармане вошь на аркане!
– Государь велел прикончить гетмана! – крикнул кто-то из стоявших позади всех.
Грохнул выстрел, пуля пролетела над головой Ружинского и впилась в доску над дверью. Тут же ответил выстрелом кто-то из окружения гетмана. Выстрелы затрещали с обеих сторон. Народ, собравшийся на «коло», бросился в стороны, заряжая пищали, выхватывая сабли. Площадь быстро опустела. В середине ее лежал убитый жолнер и корчился раненый казак. К нему подбежали двое донцов и уволокли товарища.
– Кончай коло! – громко прокричал кто-то, Ружинскому показалось: пан Тышкевич.
Когда Ружинского, поддерживая, увели в дом, он сказал хрипло:
– Это Тышкевич устроил. Негодяй! Хочет выслужиться перед королем…
– Уходить из Тушина надо, пан Роман, – проговорил глухо Зборовский. – Тут все кончено. Или мы перестреляем друг друга. Или попадем в плен к Скопину. Он уже близко.
– Стрелял кто-то из ваших казаков, – сказал Ружинский Заруцкому.
– Пан гетман, я предупреждал вас, если помните, что угрожать казакам, а тем более применить к ним силу – ничего хорошего не даст. Они все равно ушли в Калугу. А сейчас остальные возы запрягают.
– Все уходят к самозваному царю? – с иронией спросил Ружинский.
– Все. Или почти все.
– Есть ли у тебя хоть полсотни преданных казаков, Иван Мартынович?
– Мои станишники мне верны, – ответил уверенно Заруцкий.
– Тогда выполни сегодня мою просьбу.
– Слушаю, пан гетман.
– Прикажи им сегодня в ночь поджечь табор со всех сторон. Уходим, так не оставим после себя ничего.
– Все сделают, как вы сказали, пан гетман.
Остатки польского войска уходили на запад, под Смоленск. Ружинский надеялся присоединиться к королевской армии и этим заслужить прощение Сигизмунда.
В обозе скрипели немазаные телеги, груженные последним награбленным добром. Кое-как укрытые, стонали раненые, когда возы подпрыгивали на ледяных колдобинах или заваливались в раскисшие промоины. Снег почернел, но по ночам еще прихватывал сильный мороз.
Атаман Заруцкий, исполнив приказ гетмана со своими станичниками, уехал вперед от медленно тащившегося польского войска.
– Подожди меня в Волоколамске, Иван Мартынович, – слабым голосом сказал Ружинский вслед атаману.
Ничего не ответив, Заруцкий хлестнул плетью коня и умчался во главе своего отряда. Пешие жолнеры и гусары, сопровождавшие гетмана, с завистью смотрели им вслед.
В Волоколамском монастыре, где решено было сделать привал, Ружинский Заруцкого не застал. Монахи рассказали, что казаки уехали, накормив коней и выгребя из закромов последнее жито.
Ружинский прилег в одной из келий. Однако вскоре прибежал адъютант и сообщил, что войско бунтует. С помощью адъютанта Ружинский добрался до трапезной, где слышались ругань, резкие выкрики и общий шум.
Зборовский, забравшийся на длинный «братский» стол, пытался перекричать сборище гусар и жолнеров. Адъютант помог гетману влезть на лавку, а затем на стол, чтобы его всем было видно. Один из офицеров, молодой капитан Руцкой, неожиданно закричал:
– Нам надо знать, кто оплатит нам прошлые труды, походы и сражения? Король? Но он нас не приглашал в Московию. Это ты, гетман, сказал тогда, что обязуешься наградить нас за участие в войне за трон царя Димитрия Ивановича. Так? Было такое? Так плати, Ружинский, раз ты нанял нас на эту войну.
Поднялся шум и гвалт, от которого, казалось, вот-вот рухнет потолок в трапезной. Ружинский пытался перекричать рев пришедших в ярость польских вояк. Они уже не смотрели на него, а некоторые разбирались между собой. Гетман, каждого слова, даже взгляда которого они так прежде боялись, перестал для них существовать.
Они уже оскорбляли и поносили всех: короля, гетмана Ружинского, полковника Лисовского, полковника Зборовского, князя Вишневецкого, Сапегу и друг друга. Уже сверкнули сабли, щелкнули взведенные курки пистолей. Ну, сейчас начнется…
Гетман плюнул с досады и шагнул вниз, на лавку, но промахнулся. Он рухнул со стола под торжествующий рев бунтовщиков. Ударившись раненым боком, потерял сознание. Зборовский и двое гусар отнесли гетмана в келью, зажгли свечу. Гетман лежал неподвижно, закрыв глаза. Дыхание его еле угадывалось.
Адъютант сбегал за архимандритом. Пришел еще молодой, темнобородый мужчина в клобуке и черной широкой одежде.
– Умирает наш начальник, – сказал Зборовский. – Святой отец, дайте ему глухую исповедь. Прочитайте отходные молитвы.
– Но он же католик, – печально удивился архимандрит.
– Бог один для всех, тем более Бог христианский.
В это мгновение Ружинский перестал дышать.
– Господи, прости рабу Божьему…
– Роману, – подсказал Зборовский.
– …все грехи его вольные и невольные. Водвори его в селениях Твоих. И приими дух его с миром. Аминь, – закончил архимандрит и перекрестился.
* * *
Василия Ивановича Шуйского разбудили посреди ночи.
– Че? Ась? – Царь никак не мог очнуться от сна.
– Тушино горить, государь!
– Горит? – все не вникал Шуйский. – Как так? Почему?
– Горить, аж пластает, до неба пламя-то!
– Да ты че – горит гнездо воровское? Где?
Шуйский кинулся к западным окнам дворца. Стекла отражали зарево в тушинской стороне. Горел наконец-то проклятый вражеский табор, но на душе было тревожно.
– Кабы на всю Москву не перекинулось… – беспокойно проговорил царь.
– Да не, ветра-то нету. Тихо, – улыбился во весь рот постельничий Петька. – И потом поле Ходынское, да речки вскрылись… Не пройдет огонь-то, не перескочит Пресню.
– Дай Бог, – мелко крестился царь, моргая увлажнившимися от радости глазами. – А воры-то где же? Тушино горит, а они?
– Ушли, видать, Василий Иванович. А, может, племянник твой Скопин Михайла подходит. Вот они и того – дали драла…
* * *
Под Смоленском, несмотря на обстрел города из пушек и безуспешные штурмы городских стен, находилось «тушинское» посольство.
Сигизмунд, удрученный напрасными усилиями польской армии, принял посольство неохотно. Его раздражали их длинные бороды, ферязи и горлатные собольи шапки, их лицемерное раболепие перед ним и пространные витиеватые речи. Он подчеркивал свое пренебрежение к боярам и дворянам из «воровского» лагеря, где заправляли недавние главари «рокоша».
Хотя Шуйский был теперь непосредственным противником, воюющим с Польшей при поддержке шведов, посольство из лагеря «Димитрия Ивановича» король Сигизмунд не считал полномочным. Люди, открыто изменившие своему монарху, находящиеся в разбойничьем стане самозванца, тужились представлять Московское царство. Они по-прежнему умоляли короля прислать им королевича Владислава для воцарения на русском престоле.
– Сначала Шуйского бы с трона убрали, а уж потом просили бы сесть на него моего юного сына, – насмешливо говорил Сигизмунд коронному гетману Жолкевскому. – Кроме того, быть первым лицом в Кремле претендует самозванец, лжецарь или неизвестно кто… по имени Димитрий Иванович. У него тоже боеспособное войско, в котором воюют не только москали, казаки и всякий сброд, но и поляки. Значит, если Владислав поедет в Москву, эти паны, гусары и жолнеры будут воевать против него? Это же недопустимое положение. А нудные послы продолжают приставать со своими договорами. И особенно настаивают на неприкосновенности греческой веры, да чтобы на нее поменял католичество и мой сын, и чуть ли не я сам.
– Но принять посольство все-таки следует, государь, – советовал Жолкевский. – Тем более что среди его состава есть знатные и влиятельные вельможи, готовые призвать на московский престол уже не королевича Владислава, а вас, Ваше Величество.
– Это другое дело. В конце концов Владислав еще слишком молод, чтобы разбираться с делами страны, где идет гражданская война, говоря языком римской истории. Тут нужно сначала навести порядок, удалить всяких жаждущих трона проходимцев, извести смутьянов и разбойников, а уж потом… И сделать такие сложные дела – военные, политические, финансовые…
– Может только такой опытный и одаренный монарх, как вы, государь. Говорю это без всякой лести, исходя из имеющихся у нас возможностей.
– Вот только войду в Смоленск… – сказал король, сложив руки на груди и расхаживая по своему обширному, утепленному мехами шатру. Жолкевский осторожно отвел глаза.
Осада Смоленска с самого начала пошла неудачно. Осажденные позволяли себе дерзкие вылазки, наносящие польскому войску немалый ущерб. Однажды шестеро смолян переплыли на лодке через Днепр к неприятельским укреплениям с пушками и знаменем, водруженном на высоком месте. Выскочив из лодки, храбрецы мгновенно убили часовых. Подожгли фитиль, сунув его в пороховую бочку, схватили королевское знамя и уплыли в крепость.
Раздался взрыв. Жолнеры побежали на шанцы, стреляя в догонку отчаянным парням. Но те остались невредимы и только размахивали знаменем. Это было дурной приметой для поляков. Король побелел от злости и приказал повесить виновников такого позора. Но они были уже мертвы.
12 октября король послал войско на приступ. Вначале повезло: удалось разбить ворота петардой, и несколько штурмующих отрядов ворвались в город, стреляя на ходу и уже видя себя победителями. Однако смоленские ратники плотно преградили полякам путь, тоже беспрестанно паля в них из пищалей, бросая сверху камни и уставя пики. Те, кто должны были ринуться за штурмующими для подкрепления, оказались слишком далеко от ворот. Штурмующих вытеснили обратно, уничтожив половину из них. Ворота захлопнули и замуровали.
Подкопы также не удавались. Осажденные имели при стенах в земле тайные подслухи. В них постоянно находились люди, предупреждающие начальников о подкопах.
Тем временем «тушинское» посольство все настаивало на своих уложениях в договоре. Некоторые король принял, другие заменил на более удобные для себя. В результате получалось: на первом месте в решениях и распоряжениях упоминался король, а не королевич. К договору было приписано: «Чего в сих артикулах не доложено, и даст Бог его королевская милость будет под Москвою или в Москве, станет говорить и уряжать, по обычаю Московского государства. И будут бить челом ему патриарх и весь священный собор, и бояре, и всех станов люди со всем священным собором и со всею землею».
Подписание договора между королем Речи Посполитой и «тушинским» посольством происходило по военному времени в не очень торжественной обстановке. И хотя возглавлявшие «воров» боярин Салтыков с сыном лили лицемерные слезы, целуя свиток договора, а также прослезились князья Мосальский и Хворостинин, восхваляя возможную унию между Русией и Речью Посполитой, посольство не пригласили даже на ужин.
Князья покидали королевский шатер, недовольно перешептываясь по этому поводу…
А уж думным дьякам и дворянам тем более ни на что подобное рассчитывать не приходилось. Михайла Салтыков говорил перед уходом о любви московского народа к королю и благодарил за милость. Сын его Иван бил челом королю от имени патриарха Филарета и всего духовенства. Дьяк Грамотин тоже благодарил от имени Думы, двора и всех людей. Но в общем все вышли, сердито отпыхиваясь, недобро поглядывая на высокомерных мушкетеров в блестящих кирасах и шлемах с белыми заморскими перьями, с наточенными алебардами у правой ступни. Уходя из королевского шатра, качал головой в красной чалме даже служилый касимовский царь Ураз-Мухамед[104], морщил скуластое желтое лицо.
Среди толпы посольских бородачей, пожалуй, всего один рослый чернобровый мужчина казался веселым и не рассчитывавшим на королевское угощение. Он довольно долго жил в Польше, потом нередко приезжал сюда с какими-нибудь поручениями. Знал здешние нравы, да еще прекрасно разбирался в настроении короля, которому не нравились «тушинские» послы, прибывшие сами по себе из лагеря самозванца заключать с ним шаткие договоры.
Это был Михайла Молчанов.
Пролетели времена, когда он служил опричником Ивана Грозного и учился исполнять лихие, а то и кровавые дела. Молчанов возник из Польши, стал видным приверженцем невесть откуда взявшегося второго «Димитрия». И вот он уже не просто некий худородный дворянин, не брезгающий никакими злодейскими поручениями, не какой-то беглец, чуть было не ставший самозваным царем, а почтенный представитель «тушинского» посольства к польскому королю.
Поотстав от бояр и дьяков, что рассаживались в каптаны, Молчанов задумал пройти в конец воинского лагеря. Там стояли балаганы и повозки маркитантов. Там же была обычно временная корчма, шинки и домики, в которых обосновывались панны и паненки легкого поведения. Настроение у него было бодрое, спать не хотелось.
Небо потемнело, время от времени шел не то мокрый снег, не то дождь. На перекрестках палаточных рядов патрули зажгли смоляные факелы.
Молчанов свободно говорил по-польски. Свой богатый русский кафтан он прикрыл широким плащом. Бороду заранее укоротил, а усы носил, закрутив концы вверх, будто лихой гусар. Иногда к нему обращались с вопросами караульные. Он отвечал, что идет к пану такому-то, иной раз отшучивался.
Наконец достиг того злачного места в королевском лагере, где галдели в походной корчме жолнеры. Хотел зайти, но решил не рисковать: пристанет еще какой-нибудь пьяный задира, разбирайся с ним. На приеме у короля Молчанов, разумеется, был без сабли. К Его Величеству являться с оружием могли только самые близкие и проверенные люди – польские вельможи и офицеры.
«Тушинское» посольство не обыскивали, конечно, но предупредили, чтобы сабель не брать. Однако осторожный Молчанов надел под кафтан тонкую кольчугу, а в сапог запрятал татарский нож. Посольство в королевском шатре близко к королю не подпускали. Даже договорные листы с печатями князья Мосальский и Хворостинин передавали не прямо в руки монарха. Их принимал канцлер Лев Сапега. А из рук Его Величества брал подписанный им свиток коронный гетман Жолкевский. Поэтому, возымев игривые намерения после приема у короля, Молчанов и не жалел, что у него нет с собой сабли и пистолетов.
Из дощатого шинка вывалились гурьбой подгулявшие жолнеры. Направились к домикам, где при входе чадили за стеклом фонаря сальные свечки. Изредка возникали в полумраке женские фигуры в длинных юбках. С некоторыми под руку шли усачи в жупанах и кожухах[105]. Слышался развязный смех, грубые нетрезвые возгласы.
Молчанов приглядывался, раздумывая, как бы ему сейчас поступить. Пребывание в таких местах было ему не в новость. Но это все-таки не городок (польский либо литовский), а военный лагерь королевского войска, осадившего неприступный Смоленск. Мало ли на кого здесь можно случайно нарваться. Нет, Михайла Молчанов был отнюдь не из робких – сам воин и наемный убийца, но предусмотрительность всегда не лишня.
Вблизи одного из гостеприимных домиков свет от фонаря пал на юное личико с вздернутым носиком, свежими щеками и голубым взором. Тонкий в поясе силуэт выглядел также привлекательно. Молчанов, не сдерживая себя больше, шагнул в сторону миловидной паненки.
– А не думает ли паненка, что быть одной хуже, чем говорить с веселым и щедрым паном? – намекающе спросил он.
– Да, да, – засмеялось личико со вздернутым носиком. – Лучше говорить с паном. А о чем пану хотелось говорить?
– О том, где можно посидеть с приветливой девицей и выпить немного хмельного. Да не самодельной горилки, а какого-нибудь стоящего питья – венгерского вина, к примеру, либо сладкой сливянки. Наверно, такое место можно найти.
– Пан прав, есть такое место, – опять засмеявшись, она лукаво блеснула голубыми глазами.
– Не будет ли паненка столь добра, чтобы провести до того самого места. Еще бы и сказать, как ее называть?
– Меня зовут Зося.
– Так о чем еще балакать? Я следую за Зосей.
Паненка соблазнительно усмехнулась, открывая белые зубки. Она пошла в сторону от домика с фонарем, между какими-то строениями и фургонами с выпряженными лошадьми. Молчанов зашагал следом, не очень удивляясь, что они удаляются от людного и освещенного места. Но через некоторое время сомнение стало закрадываться в его осторожный ум. Он быстро наклонился и достал из сапога нож.
– Куда мы идем? – Он начал догадываться, что девица может оказаться заманивающей жертвы сообщницей грабителей.
– А це близенько, вот уже и пришли. – Зося неопределенно махнула рукой и пропала в каком-то темном углу.
– Эй, Зося… – снова произнес Молчанов, но вместо Зоси почти столкнулся с высоким мужчиной, одетым во все черное. Во всяком случае, тьма в этих закоулках делала его черным. Из-под капюшона, похожего на монашеский клобук, неясно проявлялось лицо с крупным носом и темными провалами глаз.
– Стой, московит, дальше нету дороги, – сказал незнакомец по-русски. – Ты есть тот Молчанов, что год назад жил в Самборе, в замке Мнишека.
– Ну?.. – Молчанов ждал нападения спереди, а может быть, и сзади; он и сам готовился к нападению. – Жил в Самборе… и что?
– Ты говорил человеку… его звали Болотников… Что ты ему ложно говорил?
– Я ничего не говорил. – Молчанову показалось, что сзади него кто-то пошевелился.
– Нет, ты говорил: я есть царь Димитрий Иванович. Меня хотел убить Шуйский, но я бежал в Польшу. Назначаю тебя воеводой, езжай в Путивль к Шаховскому, – человек произносил по-русски четко, но с иноземным выговором. – Вы берете войско, идете до Москвы. Вы будете везде желанны. Я, царь Димитрий Иванович, скоро возьму войско у короля и приду к вам. Мы убьем Шуйского, я займу трон отца. Ты будешь моим первым воеводой…
– Не было такого… Все лжа… – прохрипел Молчанов, напряженный, как зверь перед прыжком. – Не знаю я никого…
– Ты обманул Болотникова и всех остальных… Ты нарушил наш план… Ты не приехал, когда тебя звали много раз. Ты изменник… Мессер Джованни… погиб… хотя Москва почти уже была в руках… Болотникова казнили.
– Какой еще мессер… – Молчанов пригнулся, готовясь прыгнуть в сторону и резануть ножом «черного». У того в руках оказался тонкий и длинных меч.
– Ряа-а-туйте! – закричал Молчанов. – Убивают! Стража короля! Я из посольства, ратуйте! – Он бросился вправо, стараясь ускользнуть от длинного меча и на ходу ударить ножом незнакомца. Ему почти удался прием: он резанул высокого, стараясь дотянуться до его шеи. В ту же секунду его сильно ударили острым в спину. Молчанов взвыл, будто в предсмертной муке, и упал лицом вниз. Послышались торопливые шаги патруля.
– Вы ранены, фра[106] Монелли? – обеспокоенно обратился к высокому тот, который бил Молчанова ножом в спину (он говорил по-итальянски).
– Слегка, этот негодяй почти достал. Царапина. Уходим скорее, – ответил носатый в черном плаще с капюшоном. – Смерть предателю. Вендетта совершилась. – Они скрылись в темноте ночи.
Пришла стража с факелами, долго искала кричавшего о спасении. Нашли Молчанова. Перевернули его на спину. Он не шевелился, но не утратил дыхания.
– Кажись, жив, – сказал старший стражник. – Я знаю его. Москаль из посольства. Ну-ка? Сердце слышно. Эй, позовите кого-нибудь, чтобы дали повозку. Его надо отвезти к лекарю.
– Кровь есть? Ух ты, а кунтуш-то богатый… Може, возьмем?
– Ты, сдурел, хлопец! Если узнают, нас повесят. Это пан из московского посольства к королю Сигизмунду.
– Цо он здесь искал? А? Езус Мария, на нем кольчуга…
– Она его и спасла. Лекарь перевяжет, рана неглубока.
II
Москва освободилась от Тушина, от грозного вражеского табора, расположившегося почти у стен Кремля. К тому же Сапега снял осаду с Троице-Сергиева монастыря, выдержавшего полтора года обстрелов, приступов, подкопов, голода и холода. Измотанные, израненные, истощенные, потерявшие в боях и болезнях многих близких и товарищей, оборонявшие монастырь русские люди верили, что Троица выстояла благодаря помощи святого Сергия. К раке любимца ратных людей приходили толпы молящихся. «Игумен земли Русской» подтвердил свою чудотворную силу.
А Сапега, проклиная неудавшуюся осаду, захватил Дмитров. Из Дмитрова, несмотря на намерение Сапеги удержать ее, уехала в Калугу к мужу, «царю Димитрию Ивановичу» Марина Мнишек – красивая, надменная, ловкая, одетая в мужскую одежду, в сопровождении трехсот донских казаков. Сапега не стал слишком обострять перепалку с панной Мнишек: она же «царица». Хитрый полковник прикинул своим расчетливым умом, что «царь Димитрий Иванович» может еще быть для него полезен.
Дождавшись продовольственных обозов с Волги, куда он посылал жолнеров и литовскую конницу под начальством хорунжего Будзилы, Ян Сапега оставил Дмитров. Скопин уж больно наседал, прямо бросался, как упоенный жаждой победы. Шведы стреляли залпами из мушкетов – отрабатывали московитские деньги. Поляки смутились, потом попятились, потом побежали. Ян Сапега тоже прибавил прыти, чтобы не попасть, – не дай боже, – в плен. Он отошел к Волоколамску, где узнал о смерти гетмана Ружинского. Не особенно огорчившись этим известием, он размышлял, каким образом ему продолжить свой разбойничий поход в сердце Руси. Податься следом за «царицей» в Калугу к самозваному царю, который давно уже его звал? Или ответить на милостивое приглашение короля Сигизмунда и уйти под Смоленск?
Рассеяв и отогнав отряды Сапеги, князь Скопин-Шуйский захватил Александрову слободу. Отсюда, где собралось основное войско, он послал своего служилого дворянина Собакина к шведскому королю Карлу.
– Напомни о дополнительном обещании прислать нам еще пять тысяч ратных людей. Да чтобы оружные были и снаряженные справно, – говорил Скопин своему посланцу.
– Ох, сколько же оный несытый Карл еще деньжищ с тебя тянуть будет? Беда да и только.
– Пока хоть что-то есть, буду платить. Вон монахи из Соловецкой обители двадцать тысяч рублев прислали. А мне бы надо в десять раз больше, чтобы воров добить, в Москву войти. Да потом еще под Смоленск, на короля Жигимонта выступить. Ну, ладно. Поезжай, Борис, к шведскому союзнику нашему. Небось хочет получить с нас после Корел еще и Орешек на Неве. Но ты про Орешек пока помалкивай. Давай, Борис, с Богом. Сыдавного, дьяка, с собою бери.
Заскочил в воеводскую горницу помощник, верный слуга Федор:
– Князь Михайла Васильевич, до тебя войско из Москвы от самого государя прибыло.
– Да ну? Добро, добро. А кто начальствует?
– А вот… – с поклоном пропуская гостя, Федор распахнул дверь.
Вошел воевода государев, опытный, крепкий, суровый, борода местами в пятнах седины. То был Григорий Валуев, бивший удачно не раз воровское войско.
– Как я рад, – встал навстречу ему розовощекий Скопин, будто сын при встрече с отцом. – Хорошо, Григорий Леонтьевич, что тебя прислал государь. Со всей своей дружиной пожаловал?
– Нет, со всей приказа не дал Василий Иванович. Сторожится, боится за Москву. Я просил пять тысяч ратников дать, а он разрешил только полторы. И то я три раза челом бил, уговаривал. Три по пятьсот вымолил.
– Н-да… нам бы поболе. Да что поделаешь… – Скопин развел руками, прошелся по горнице. – Сейчас шведский генерал Зомме новоприсланных от купцов Строгановых обучает. Жалуется. Здоровы, говорит, как медведи, а бестолковы – жуть. Никак воинскими приемами не овладеют. Туги на это дело, дикие мужики – из леса. Так, своих бойцов размещай, Григорий Леонтьевич, в теплом самом месте. Скоро пойдешь Лисовского долбить. Он взял Суздаль. Шереметев вошел сперва в город и… отдыхать. Не озаботился даже дозорами. А ночью и налети Лисовский! Пришлось Шереметеву отступать к Владимиру, почти все пушки врагу оставил. Вот что значит на войне беспечность.
Пришла добрая весть: рязанские предводители Ляпуновы взяли Коломну.
– Ай, молодцы рязань! – воскликнул Скопин, обращаясь к генералу Делагарди, уже заскучавшему, сидя в Александровой слободе. – А саму-то Рязань держат? – это спрашивал у своего толкового, бессонного доверенного Кравкова (у шведов и поляков таких называют адъютантами).
– Держат, – весело ответил Кравков, даже крякнув от удовольствия из-за содержания своего сообщения. – На Москву от рязанской земли обозы хлебные и прочего съестного пошли. Оголодали в Москве, чичас малость подкрепятся. Из Серпухова тоже наскребли что могли, отправили. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский постарался. Эх, золотой человек!
– Да и воевода перворазрядный, – поддержал Скопин, оглядываясь с улыбкой на Делагарди.
Тот покивал, радуясь настроению приятного ему Скопина.
– Но… – сказал молодой генерал-швед, – нельзя идти к Москве, оставляя позади врагов. Надо… как это говорят… мести железной метлой. Всех – Лисовского, Зборовского, Сапега и всякие казаки, разбойники и всех… всякая мерзкая прихлюбатель этого самозваного царя Димитрия… И тогда государство станет крепко. И армию начнут бояться и уважать. Так? Или я сказал неправильно?
– Яков, ты совершенно верно сказал. И я также думаю. А у нас, вишь ты, другое дело. Когда половина народа за царя в Москве, половина за самозванца в Калуге. Одни важные знатные бояре за моего дядю Василия Ивановича, другие важные знатные бояре и князья просят на московский трон польского принца Владислава, а третьи не стесняются пить медовуху с Димитрием, проходимцем неизвестного роду и племени. Но, главное, все они жаждут увидеть на престоле себя! Все эти князья, которые ползают сейчас на коленях перед польским королем. А он штурмует русский город Смоленск и, если возьмет его, пойдет на Москву. Вот какие у нас дела.
– Очень не хороши у вас дела. Плохо, когда народ не един, и монарх в стране не законный, хотя… У нас тоже всякое бывало. Ты держись крепко, Михайль. Ты честный, ты хороший военный, и ты не занимаешься изменой. На тебя у каждого доброго русского есть надежда.
Делагарди ушел проверять порядок в шведских отрядах.
А перед Скопиным выскочили две веселые рожи – Федор и Фома Кравков – доложили:
– Княже, Михайла Васильевич, к тебе рязанцы от Ляпунова.
– Ух ты, неужто? Во легок на помине!
Вошли двое крепких голубоглазых ратников. Чуть коренастые, светлорусые, смугловатые при этом, – видно, что рязанского корня.
– От нашего воеводы Ляпунова Прокопия Петровича великому князю и государю Скопину-Шуйскому Михайле Васильевичу… – один из вошедших протянул Скопину грамоту с висячей печатью.
– Что-о-о?! – воскликнул Скопин, бледнея. – Фома!
Кравков вбежал, растопырился, руки в боки. Рот разинул.
– Стрельцов сюда! За караул этих обоих! – Скопин сорвал печать, прочитал грамоту, разорвал ее и бросил на пол.
Вошли стрельцы, забрали хмурых рязанских посланцев.
Скопин ходил по обширной воеводской избе от стены до стены, сосредоточенно раздумывая над создавшимся положением.
Ему двадцать четыре года. При Борисе Годунове он стал окольничим (высокий чин в девятнадцать лет). Первый самозваный царь Димитрий сделал его еще более преуспевшим придворным, дал звание личного меченосца. Убрали Отрепьева, короновался дядя родной Василий Иванович Шуйский, которого повсюду тайно и явно лают и проклинают за его неудачливость, лживость, скаредность и «неправедность». Однако Скопин превратился в эти страшные годы «тушинского» разгула в вельможу и полководца. Царь Василий Иванович назначал его на очень опасные и ответственные дела. И, слава богу, Скопин везде проявлял сметливость, смелость, удачливость. Да еще превратился в дипломата, когда царь послал его в Новгород заключить военный договор со шведским королем, чтобы нанять в помощь войску европейских наемников.
В один год он приобрел славу, которую другие воеводы могли снискать только многолетней службой и немалыми ратными подвигами. Да, что важнее прочего, Скопин обрел любовь москвитян и других русских земских людей. Врагам же внушил опасливое и настороженное уважение, как воевода, который часто побеждал и оттеснял поляков и воровских казаков в жарких, хотя и не столь крупных сражениях.
Что же за причина славы и народной любви, выпавшие на долю еще совсем молодого царедворца и воеводы? Конечно, в первый разряд ставится мнение, что он честный человек, нестяжатель, хороший начальник для ратников, заботившийся не только о преодолении вражеской силы, но и об обеспечивании войска съестными припасами, удобным расположением в воинском лагере, о желании при жестоких столкновениях с вражескими отрядами стараться так выстроить полки, чтобы победить – не любой ценой, а имея в виду наименьшие людские потери.
Множество сторонних причин способствовали успеху Скопина. Это присутствие в его войске хорошо обученных и вооруженных, хотя и дотошно корыстных, шведских наемников; и то, что самозванец наконец порвал с главарями «тушинцев», а к нему ушли почти все казаки и немало русских «воров», и даже некоторые поляки; и внезапное решение короля Сигизмунда войти с регулярной армией на земли Руси, осадив Смоленск, а к нему бросились с желанием поступить в королевское войско большинство поляков и литовцев. И Тушино оказалось уничтоженным. Народ же приписывал все эти события одному Скопину.
Конечно, многие русские люди видели в молодом, искусном в ратном деле, храбром и вместе с тем осторожном, ловком в обхождении с иноземцами, красивом человеке свою надежду – надежду в наведении порядка на многострадальной земле. Народ мечтал именно о таком правителе, о таком царе.
И вот горячий, не желавший подчинить свои личные стремления общему равновесию во взболомученной стране, не привыкший сдерживаться Прокопий Ляпунов в своем послании Скопину в Александрову слободу, без всяких оговорок называет его царем. Этим посланием он поставил Михайлу Васильевича в положение заговорщика и противника существующей царской власти.
Ночью Скопин думал отчаянно: «Что делать? Отослать этих ни в чем не повинных рязанских мужиков к царю? На дыбу, пытки и казнь?».
Невыспавшийся, хмурый, Скопин велел привести рязанцев к нему в воеводскую избу. Оставшись наедине с ними, сказал:
– Писать Ляпунову не стану, передайте ему на словах. Как не понимает он, что исполнение его желания, о котором сказано в письме, вызовет новую смуту, вражду и кровь. Новые дрязги и схватки в борьбе за трон царский. А потому я велю вам и ему забыть об этой грамоте, как будто ее и не было. И скажите Прокопию Петровичу, что призывать к тому, что он хочет, когда самозванец захватил Калугу и еще невесть сколько земли, когда «воровские» бояре манят в Москву королевича Владислава, когда сам Жигимонт осадил Смоленск, а вокруг Москвы еще рыщут Сапега, Збровский, Лисовский… Я думал Ляпунов умнее – неужели не видит, к чему зовет?
Рязанцы уехали. А Скопин ходил смутный и мрачный, зная, что хоть и не было при разговоре с ними свидетелей, но история о крамольном письме до царя Василия дойдет.
После пожара в Тушине и разгрома Сапеги у Дмитрова очистились дороги к Москве. А по дорогам пошли обозы из ближних и дальних мест. Припасы явились на прилавках, купцы в избах с товаром надели кафтаны праздничные. Побежали разносчики – на шею лотки с блинами да пирогами навесили, бабы моченую бруснику прошлогоднюю в кадках выставили. Торг оживился; загудели, забубнили, заверещали, загыкали, всхохотали человечьи голоса. Москва вздохнула свободно.
И вот дождалась столица-матушка своего освободителя. Священный клир с иконами и хоругвями, купцы с хлебом-солью, скоморохи (исподтишка) с домрами, дудками да бубнами и простой люд с радостными кликами, смеясь, веселясь наконец-то. А на дороге появилось войско.
Впереди под знаменем-хоругвью, где изображен Георгий Победоносец (а до него хоругвь с вышитой Богородицей) два героя: воевода Скопин-Шуйский и генерал Делагарди. А затем, меняясь, то русские, то шведские полки – сперва молодцы Григория Валуева, за ними – шведы под командой опытных генералов – твердого, отважного Горна и сведущего, расчетливого Зомме, за шведами полки русские: Чулкова, Вышеславцева, Полтева – с ним отважные, преданные смоляне, наконец, загрохотали пушки, влекомые по бревенчатой мостовой хорошо кормленными лошадьми.
Дорогу войску преградили священники в золотых ризах, дьякона, взревев, кадят борзо. Именитые москвитяне держат с трех сторон поднос расписной, на нем хлеб-каравай крупитчатый и в середине его солонка с солью. Князь Скопин сошел с коня, принял поднос с хлебом, поцеловал его, отщипнул кусочек, ткнул в солонку, съел. Каравай хлебный отдал помощникам, – подскочили Фома Кравков и Федьша, передали дальше слугам и ратникам. А князь подошел к архиепископу, и тот, осеняя его иконой, произнес сравнение в библейском речении о Самсоне, победившем филистимлян.
Они поехали дальше по кричащим здравицы, запруженным московским улицам. А от каждой церкви шел волной-гудом, трезвоньем, тилиликаньем праздничный колокольный звон.
Вот копыта процокали по мосту через Неглинку, и победители выехали на Красную площадь. Встретили их патриарх Гермоген и царь Василий Иванович. Царь, не скрывая слез радости, обнимал Михайлу и Якова Делагарди.
Москвитяне растаскивали шведов по дворам на постой, угощали чем только могли, «чем Бог послал».
Только поздно вечером, после благодарственной службы в Успенском соборе, которую служил сам патриарх Гермоген, и пышного изобильного пира, устроенного в царском дворце в честь русских и шведских победителей, Михайла Скопин добрался домой, в родное подворье, где наконец-то обнял мать и истосковавшуюся по молодому мужу жену Аннушку.
День-другой пробыл дома, ночи три провел со счастливой, разрумянившейся женой. И начались праздники, пиры, громкие пьяные застолья, где каждый думный боярин, каждый князь-рюрикович или гедеминович желал и требовал к себе надежду русскую Михайлу Скопина. И отказаться было никак нельзя. Везде ехал, гулял, привозили иной раз не в себе, чуть живого от перепоя.
Да пришлось все же по поводу опасного письма Прокопия Ляпунова говорить с дядей-царем, убеждать, уверять, клясться, крест святой класть беспрестанно на себя, чуть ли ни рубаху рвать на груди и лбом об пол стучать… Доказывать, что в письме дерзкие домыслы Ляпунова, а у самого Михайлы и мысли этакой крамольной никогда в голове не возникало. Да и не его это дело – царствовать, его дело воеводское – рати против ворога вести, биться за веру православную, за государя и отчину. Еле уговорил Василия Ивановича кинуть черное подозрение из-за ляпуновского письма, еле умолил не гневаться и не держать на племянника зла.
– А че посланных ко мне не прислал? Я бы из них все замыслы и промыслы на дыбе вытряс, – все еще сердился царь, уже поверив вроде бы племяннику и остыв от свирепости самодержца.
– Да жалко мужиков, дяденька. Они-то причем… Им велено, они привезли скорбную ту бумажку… А их мучить, жечь, жизни лишать. А к тому ж Рязань земля вспыльчивая, буйная, яростная. Чуть тронешь не так – мигом загорится. Сейчас как раз такого и не хватало… – говорил Михайла Василию Ивановичу. И он с ним в конце концов согласился, сказал: «Верю тебе, Миша, что ты мне не супостат, а верный помощник и племяш мой кровный. Все, кончили это дерьмо мусолить».
Узнав об этом разговоре, скрипел зубами с досады князь Дмитрий Иванович Шуйский. Прибежал к брату-царю и чего только не выставлял перед ним против Мишки Скопина:
– И чего героя из него сделали? Он жа Корелу шведам отдал.
– С мово согласия и думского одобрения. Надо ходить в Думу-то чаще, Митрий, задом на лавке сидеть, ухом слухать.
– Вот собирается у тя престол отобрать. Его в письме Ляпунов, говорят, прямо и царским величеством называл. А ты: Мишенька, герой…
– Знаю я уже все. И с Михайлой обо всем прояснил – чего тебе еще надо? Изыди, Митька, от греха, пока я тя посохом не огрел! Изыди, завистник, нечестивец!
И хотя царь все вроде по поводу племянника и невиновности его ни в какой крамоле у себя в уме уложил, а сердце все же скребло неверие – ибо жажда царского престола самых верных и преданных, как бы по гроб жизни, друзей врагами делала – заставляла заговоры составлять и даже на жизнь царскую умышлять. Печалился царь, сомневался, даже тайно ведунью некую призывал и будто бы баила она Василию Ивановичу, что после него будет на Руси царь по имени Михаил. Озлился Шуйский, велел гнать ее с глаз долой, пока не приказал колдунью в огонь кинуть.
У себя Михайла Скопин принимал с радостью Якова Делагарди. Стол накрывать приказывал для лучшего друга, – ведь ничто так не сближает как ратное поле, посильней любого родства.
И первый заметил некое охлаждение царя и царского окружения к молодому полководцу не свой соратник, а швед – иностранный генерал Делагарди.
– Михайль, надо скорей идти на Смоленск, – сказал Якоб.
– Так ведь только весна началась. Коней покормить надо первой травкой. Грязи чтоб обсохли на дорогах.
– Кони и грязи – это будет по времени. Уладится это. Но не уладится зависть при царском дворе. Так везде, у нас в Швеции тоже. У кого не хватает смелости и ума, у того в избытке хитрость, подлость, жестокая злоба на победителя. Я боюсь за тебья, Михайль, будь осторожным. Смотри, погубят тебья.
– Ничего, не погубят. Главное, пушки надо проверить после починки.
– Этим занимается Эверт Горн. Он знает свое дело.
– А все-таки проверить, а то… мало ли. Под Смоленском…
Делагарди посмеялся:
– Ты хороший человек, Михайль. Эверту не надо проверять его дело. Он может рассердиться. Скорее выступать надо. Тебе нужно скоро покинуть Москву. Наше дело сразить врага. Нечего торчать близко к царям и королям. Сегодня он тебя ценит, хвалит. А завтра велит казнить или убрать как-нибудь.
– Ладно, – стараясь прогнать грусть и тревогу, произнес Скопин. – Выпьем, Яков, за наш новый поход.
– Скоро?
– Скоро, за неделю соберемся.
– Это хорошо. За это можно выпить, – поднял чарку Делагарди.
Через несколько дней князь Воротынский пожаловал в дом к Скопину и пригласил стать крестным его сыну-младенцу.
– Почту за честь. А когда крестишь, князь Иван Михайлович?
– Да назначил священник наш на двадцать третье апреля.
– Ну, успеем.
– А что торопиться?
– Государь назначил поход.
– Ну, то-то. Приезжай, уважь.
Крестили новорожденного в домовой церкви. И тут Скопин узнал: восприимницей будет еще и Екатерина Григорьевна, жена Дмитрия Ивановича Шуйского, дочь известного на Руси Малюты Скуратова.
Окрестили княжича, надели золотой крестик. Передали крестным отцу и матери. Затем орущего младенца унесла мамка-нянька к родной матери. И началось застолье, крестинный пир.
Продолжалось пиршество долго. Чары подымали и выпивали бесчисленно. Веселилась рядом с молодым кумом Михайлой Скопиным и Екатерина Григорьевна, все шутки шутила да вина подливала. Потом как-то нечаянно вдруг пропала. Никто и не заметил – когда ушла. Гости еще погуляли, попировали.
А Михайла Скопин неожиданно заболел. Побледнел, ослаб. Хлынула кровь из носа. Голова закружилась. Кинулись за домашним лекарем, – он, говорят, на Торг ушел. Скопину становилось все хуже.
Воротынский, встревоженный, опечаленный, поскорее велел запрягать каптану, везти Скопина домой.
Дома к нему бросились мать с женой. Слуга Федька, что был с князем на крестинах, наморщив лоб, говорил о чем-то матери. Уложили Михайлу в постель, стали какое-то питье теплое делать для него. Но ему становилось все хуже. Боли страшно терзали внутренности молодого князя.
Делагарди прислал своего лекаря. Тот велел давать больному парное молоко. Казалось, наступило облегчение, но потом страдания его вернулись. Умирал Скопин тяжко. Дошло до того, что не мог жалеть-отвечать жене Аннушке. Побелевшими губами призывал смерть.
Как огонь в сухое лето, вспыхнула, стала распространяться по Москве весть: «Скопина Михайлу отравила Митрия Шуйского жена. Помирает в муках. Отходит».
Народ гудел, переговариваясь:
– Зависть это Митьки Шуйского к нашему герою. Подослал жену-суку. Малютинское отродье, палачиха, отравительница.
– Ах, погани неблагодарные, мрази Шуйские. До того освирепели, что своего жа князя от злобы извели.
– Убить ее, суку! – закричал вдруг ратник один, подвыпивши. – Не дают жить на Москве светлому человеку! Как появится такой, сразу бояре нож точить спешат. Избавиться чтоб.
– Небось по приказу самого царя Васьки… – рассуждал купец на торгу. – Испугался, что народ Михайлу царем поставит вместо него, старого козла…
И едва разнеслась весть, что князь Михайла Скопин преставился, толпа с дрекольем бросилась к дому Дмитрия Шуйского. Хотели разнести все подворье и всех покончать – самого Митьку и жену-отравительницу. Царь прислал роту стрельцов с алебардами, толпу разогнали. Немцы-охранники стреляли из мушкетов в небо, чтобы народ распугать.
Ругаясь черно, матерно, проклиная царскую семью, бояр-завистников, предавших Москву и отчину полякам, разбрелись москвитяне в великой скорби и сожалении. Эх, Русь, Москва-матушка, как явится у тебя доблестный сын, нестяжатель, не хапужник, не изменник, так клубок пауков мохнатых, ядовитых, смерть ему изыскать бросается. И так всегда, во все веки – либо сами изведут, либо инородцев подкупят.
А дворня Дмитрия Шуйского изловила ночью троих: Федьку, верного слугу Скопина, старшего конюха Скопиных, чернобородого богатыря Ивана Китошева да Фому Кравкова, ближнего человека покойного князя, при нем исполнявшего многие обязанности бытовые и военные. Двое были с ножами, один с топором. Явно хотели убить хозяина и хозяйку, да не повезло. Дворня по текущим событиям была хозяином накручена и не дремала. Изловили злодеев.
Утром в Кремль с жалобой прискакал верхом Дмитрий Шуйский и прямо к царю Василию Ивановичу: так, мол, и так – убить хотели.
Василий Иванович выслушал, кликнул начальника правежа, приказал: всем злоумыслителям по сто батогов. Когда очухаются (если очухаются): холопов Скопинских вернуть хозяйке, матери покойного. Фому Кравкова – из детей боярских, – направить в пехотный полк, где он ранее и пребывал.
– Казнить бы… – жалобно попросил Дмитрий Иванович. – Убить ведь хотели.
– За что казнить? – холодно взглянув на брата, спросил царь. – Холопы злоумыслили из любви к своему господину, такое поощрять надо. А Кравков служил под его началом. Между прочего, с его помощью при замятне с Болотниковым, от его выдумки с затоплением Тулы, воров вынудили сдаться. Так что – все по справедливости. Иди, Митяй.
Похороны Скопину-Шуйскому устроили тожественные, прямо царские. Положили в гробу золоченом в Архангельском соборе, где до того хоронили только коронованных царей и цариц. Царь Василий Иванович, по виду искренне заливался слезами. Мать Скопина смотрела на него, не мигая, как каменная. Жена Анна билась и выла жутким неподобающим княгине воем. Едва брат ее родной Семен Головин уволок молодую вдову, затолкал в каптану, увез.
Те из более простых людей – не бояре-думцы, не начальники приказов, а стрелецкие головы, пятидесятники, десятники, челядь всякая кремлевская, купцы, золотодельные мастера и прочие, кому удалось проститься… подходили, крестясь, становились истово на колени либо поясные поклоны били… Вытирая слезы, не глядя на царя Шуйского, хмуро, иные зло скосоротясь, уходили.
Дерзко по отношению к раскисшему от слезливости Василию Ивановичу вели себя многие люди, а черный народ на Красной площади, на Торгу, у Покровского собора, у Обыденной церкви рыдал, рвал на грудях однорядки, ругался черными, мстительными словами:
– Ну, погодите, Шуйские… Ну, поглядим, как откликнется вам злодейство ваше… Впереди еще ваше мучение и наказание Господне… Поплачете, что Михайлу Васильича извели… Да только поздно будет, господа бояре…
Накалилась Москва, но слишком измучена была «тушинской» осадой. Не взорвалась. Чадила только беспощадными словами… Если замечали где-нибудь послуха царского из пытошного разряда убивали сразу, не боясь, не скрываясь. А юродивая то появлялась, то исчезала на папертях московских церквей, нараспев говорила людям: «Апосля Васьки Шуйского царь-то на Москве станет вьюнош молоденький Михаил. Так тому и быть».
Узнав о прорицании юродивой, Василий Иванович совсем потемнел лицом и сделалось ему дурно. А брат его Дмитрий начал страдать беспрестанной икотой, которую унимать удавалось лекарям не без труда.
В отведенных шведскому начальству хоромах Якоб Делагарди напился, как последний беспутный рейтар, и орал хрипло Эверту Горну:
– Я ему говорил… Уходим под Смоленск. Торопись! Скорей собирайся! Эти грязные подлецы что-нибудь придумают для тебя, Михайль! Не тяни время! Перестань ездить на пиры, переешь-перепьешь… – И дальше – будто железо якорной цепи при подъеме, скрежещущая брань.
– Да, правильно, – хладнокровно поддакивал суровый Горн. – Хорошо бы войти с наточенными мечами – отрубить головы, выпустить кишки, разбросать по углам руки и ноги… Но, Якоб, мы в чужой стране. Нам платят за воинское умение. Успокойся. У шведского короля своих мерзавцев хватает.
Место Скопина в войске занял Дмитрий Шуйский.
Разговаривая с ним по поводу передвижения воинских частей, Делагарди кривил рот и поворачивался к переводчику, словно по-русски не знал ни слова.
Швеция слала в Московию новые подкрепления. Делагарди и Горн были лучшие полководцы Карла IX. При них находилось до десяти тысяч солдат.
С наступлением летних дней, после многих хлопот царских военачальников, удалось собрать дворянское ополчение. Численность московского войска дотянула до тридцати тысяч человек. Воевода Валуев освободил с шеститысячной дружиной Можайск. Затем он прошел по Смоленской дороге и выстроил острог, укрепив его пушками и дожидаясь подхода главных сил. Навстречу русскому войску Сигизмунд послал коронного гетмана Жолкевского.
Польская разведка донесла Жолкевскому о разделении русско-шведского войска. Гетман решил упредить наступление союзников к Смоленску. Он двинул польские отряды к Валуеву. После упорного боя окружил его и заставил запереться в остроге.
Шуйский и Делагарди выступили на помощь Валуеву. На другой день союзники намеривались атаковать поляков. Острог, в котором находился Валуев со своими ратниками, был всего в двенадцати верстах.
Казалось бы, значительно превосходя поляков по численности, русско-шведская армия должна была смять отряды Жолкевского. Но гетману удалось пополнить свое воинство за счет «тушинцев». К нему присоединились внезапно донцы атамана Заруцкого и ратники старого изменника Салтыкова. Тогда гетман, оставив пехоту у валуевского острога, вышел с кавалерией к селу Клушину.
Там расположились русское и шведское войско – несколько поодаль друг от друга. Дмитрий Шуйский, зная о бывшем содружестве генерала Делагарди со Скопиным, всячески его ублажал и расхваливал. Делагарди поддался лести царского брата и явился в его шатер пировать. Оценивая свое превосходство над войском Жолкевского, не зная о его непредвиденном пополнении казаками и ратниками Салтыкова, командующие царской армии проявили редкую беспечность.
Заходил узнать обстановку перед боем Эверт Горн. Вошел в шатер князя Шуйского и увидел там сильно захмелевшего Делагарди.
– Что, Эверт? Что ты беспокоишься? – пьяно выкрикнул шведский герой, сподвижник Скопина. – Завтра мы с князем Дмитрием раздавим гетмана, как таракана…
– Верно, Яков! Мы их заставим убегать шустрее зайцев, – хвастался Дмитрий Шуйский, будто бы в его жизни ослепительно блистали торжества побед, а не кукожились от презрения всей Москвы бесконечные «беспортошные» поражения. Воеводой «без порток» называли Дмитрия Ивановича народ, бояре, ратники и сам царь Василий Иванович. Называл-то царь брата издевательски, а предводительствовать в ратях все равно поручал. Брат родной, едина кровь рюриковичей, а может, и престолонаследник… Скопин тоже по крови подходил, но… все же только племянник, а не брат. Вот и того: получилось, как получилось.
– Я этого спесивого поляка возьму завтра в плен, – продолжал, наливая очередной кубок медовухи, Делагарди. – Вот увидишь.
Генерал Горн постоял молча несколько минут и покинул шатер царского брата, так и не сказав ни слова.
Разбуженный посреди ночи лагерь союзников огласился истошными криками и конским ржанием. Не ожидавшие ночного нападения шведы и русские все же успели вооружиться. Взлохмаченные, краснорожие полководцы Делагарди и Шуйский залезли в седла, поддерживаемые с двух сторон адъютантами.
Перед своим отрядом, строгий и насупленный, стоял, ожидая начала сражения, Эверт Горн. Едва польские гусары и казаки поскакали через вязкое поле, перепрыгивая плетни, Горн бестрепетно двинулся им навстречу. На полях под Клушином сошлись гусары Речи Посполитой, донские казаки Заруцкого, русские «воры» Салтыкова с многонациональной «шведской» армией, в которой шведов было не так уж много. А за наемной оравой короля Карла IX поскакало в бехтерцах, кольчугах и тягилеях, размахивая татарскими саблями, дворянское ополчение царя Шуйского. И устремились с копьями, пищалями, круглыми щитами и топорами на длинных топорищах краснокафтанники-стрельцы и собранная по городкам, селам да слободам московитская неповоротливая пехота.
Брань, слова команд и отчаянные проклятия ревели едва ли не на всех языках Европы над клушинским полем, крутым пригорком и кромкой леса, где взошло уже солнце. По-русски матерились с обеих сторон; зато от воинства Жолкевского орали поляки, литовцы и литовские татары, а под предводительством Делагарди и Горна ругались на шведском, немецком, английском, шотландском, французском и финском. Забавно это было бы, если б не трещали выстрелы, не лязгало железо, не свистели пули и не поливала бы свежую зеленую травку алая кровь бойцов. А длился бой четыре часа.
Передовой воевода Бутурлин был ранен. Его унесли с поля. Уже дрогнул и стал отступать полк Андрея Голицына. Русское войско ожидало, что Дмитрий Шуйский бросит им на помощь основные силы. Но Дмитрий Шуйский, как чугунный болван, стоял среди своих нетерпеливо глядевших ратников и, как это с ним происходило множество раз, чего-то выжидал. Не получая помощи, войско Голицына рассыпалось в ближнем лесу. Эскадроны польских гусар несколько раз лавиной неслись на русскую пехоту. Их яростно и упорно отбивали метким огнем и отчаянным ближним сопротивлением. А Шуйский все ждал. Что ждал князь? Какой-то мозговой упор постигал его в такие минуты. Но царь Василий Иванович опять и опять посылал брата, чтобы он победил и прославился. Но он не способен был принять решение и начать действовать. Он выпучивал оловянно-мутные глаза и… выжидал. И некому ему было крикнуть в такую пору: «Ну что ты ждешь, дубина стоеросовая? Люди же гибнут зря!» Он так и простоял в обозе.
Натиск польской кавалерии ослабел, гусары и лошади устали. Тогда часть наемников шведского короля – англичане и французы – решили начать атаку на поляков по собственному разумению. Они поскакали через клушинское поле навстречу врагу. Дали залп из мушкетов. Но поляки встретили их дружным натиском и рубкой отточенными палашами. Это были опытные и смелые рубаки. Французские и английские мушкетеры смешались, отпрянули, не выдерживая атаки гусар, и бросились назад.
Дмитрий Шуйский сохранил достаточные силы для решительного наступления на понесших значительные потери поляков. Но он медлил. При нем находилось восемнадцать полевых орудий. Однако князь моргал и, хотя пушкари зажгли уже фитили, приказал отставить. Если бы не знать, что Дмитрий Шуйский нестерпимо хотел победить врагов, его поведение могло бы выглядеть как чистое предательство.
В сражении наступил долгий непредвиденный перерыв.
Подъехав к Шуйскому, князь Андрей Голицын, раненный в плечо и голову, но бившийся до последней возможности, спросил:
– Князь Дмитрий Иванович, что ж ты подмогу мне не послал, когда уж невмоготу стало?
– А я решил повременить. Пущай поляки сами устанут.
– Да я из-за твоего повременения половину полка потерял убитыми.
– Ну что жа, рать есть рать… Гибнет народишка – от…
– А почему пушки молчали, когда поляки ускакали в обрать? Чего еще надо было? – Князь Голицын в упор смотрел на этого надутого дурака, и челюсть его вместе с бородою тряслась.
– Ты на меня не фырчи, Голицын, – обиделся Дмитрий Шуйский. – Меня главным воеводой царь Василий Иванович поставил.
Андрей Голицын ударил своего коня плеткой и отъехал, скрипя зубами.
Делагарди с трудом удерживал в повиновении свое разноязыкое воинство. Требуя денег, солдаты едва не взбунтовались накануне сражения. Шведы получили от царя огромную казну.
Однако, ожидая, что в бою армия сильно поредеет, генерал решил перенести расчет с войском на более позднее время. Стоило Делагарди отъехать на совет с Горном, наемная армия подняла мятеж.
– Эй, шведская крыса, почему не платишь деньги? – кричали ему по-французски. А Делагарди кое-что во французском смыслил.
– Он хочет, чтобы нас всех перебили, а московитские золотые схапать к себе в сундук, – гудел рыжий немецкий ландскнехт. По-немецки Делагарди разбирал легко. Тогда он бросился в обоз и стал раздавать деньги шведам.
Оценив происходящее в лагере наемного войска, Жолкевский послал к шведам племянника для заключения договора. Первыми на сторону врага перешли французы. Затем заколебались немцы. Узнав, что происходит измена нанятого войска, Дмитрий Шуйский послал дворянина Гаврилу Пушкина с обещанием огромного вознаграждения.
Пытаясь спасти шведскую армию от полного распада, Делагарди предал союзников. Он съехался посреди клушинского поля с Жолкевским, чтобы заключить с поляками перемирие отдельно от русских. Тем временем половина его разноплеменных рот, построившись по ранжиру, прошла мимо генерала и присоединилась к полякам.
Англичане и французы требовали денег и собрались перебить своих шведских командиров. Но деньги частично были отданы шведам, остальные же куда-то исчезли. Наемники бросились в шведский лагерь и в поисках денег распотрошили повозки Делагарди. Потом они перешли к русскому обозу. Русские стали сопротивляться. Началась драка, переходившая кое-где в вооруженные схватки. Посреди окровавленных трупов, стонущих и умирающих раненых происходила жестокая и постыдная свалка из-за денег. Деньги были отданы шведским генералам, но они пытались обмануть наемников. Теперь наемная солдатня грызлась между собой и обдирали русских, переворачивая возы. Русские схватились за топоры. Началась бойня.
Распад союзной армии и предательство шведов оставили русских в безвыходном положении. Москва снова оказалась почти беззащитной. Дмитрий Шуйский приказал войску отойти ближе к столице. Ратники спешили укрыться в окрестных лесах. Многие разворачивали коней и, не слушая больше никого, скакали кто куда считал нужным. Пехотинцы из разных городов, подобрав по пути что было можно, стайками, по двое, по трое уходили домой. Разбежалось и большинство шведов, очищая дорогой попадавшие под руку русские деревни. Крестьяне прятали в лесах жен и детей. Собирались, хватая топоры, вилы и дубины.
От главного воеводы Дмитрия Шуйского ратники отвернулись, включая его личных слуг, охранников и холопов. Все разбежались куда глаза глядели. Осрамившийся, перепуганный полководец поскакал в сторону Москвы, но сбился с пути. Завяз в болоте, потерял сапоги. Затем остался без боевого коня. Сведя где-то тощую крестьянскую лошаденку, погнал ее ближе к златоглавой белокаменной столице, к дому, где пряталась по углам жена-отравительница, к Кремлю, где с оставшимися слугами и боярами сидел угрюмый царь, старший брат Вася.
III
Воевода Валуев ждал вестей от князя Дмитрия Шуйского, сидя в своем укрепленном остроге. Однако вестей пока не было никаких. Увидев из-за деревянных стен острога разъезжающих по окрестным селам польских гусар и марширующих жолнеров, горячий по натуре, смелый воевода выбрал время, когда поляки довольно густо скопились неподалеку от острога. Он приказал навести несколько пушек в том направлении.
– Пали! – крикнул Валуев пушкарям и, отворив ворота, во главе своей дружины выбежал и ударил на польский отряд. Яростно рубя саблями, бердышами, уставя пики и стреляя из пищалей, ратники из острога обратили поляков в бегство. Они гнали врага некоторое время, но скоро заметили приближение основного польского войска.
– Братцы, придется засесть в остроге, вертаемся обратно, – приказал воевода. – Что ж, будем биться с ляхами до конца. Отдадим жизни свои за отчину подороже.
Когда польское войско, приблизившись, обложило острог, Жолкевский подозвал старого ненавистника Шуйских, бывшего воеводу крепости Орешка на Неве, «тушинца» Ивана Салтыкова.
– Мне рассказали про вылазку воеводы, что засел в остроге, – сказал гетман Жолкевский. – А не знаете, пан боярин, какова у него дружина и сколь многочисленна?
– Довольно крепкая и немалая рать, ясновельможный пан, – отвечал Салтыков, прищурив масляные от льстивой угодливости глаза, – а воевода опытный, Валуев Гришка. Он тут понаделает нам неприятностей, ясновельможный пан. Упрямый и свирепый, как бык. Конечно, ваше войско возьмет его паршивый острог… даже, говоря правильнее, не острог, а острожек… Но драка будет жестокая, много наших, вернее, ваших, пан гетман, ляжет здесь, на этой дороге… А оставлять нельзя. Сзади налетит. Да у него и пушки есть, у черта кирпатого…[107]
– Так ли уж он предан Шуйскому? За что он столь яростно его обороняет? Не родственник ли?
– Ах да что вы, ясновельможный пан! Валуев ненавидит старого дурака не меньше меня. Особенно после того, как вся семья их, сговорившись, извела от зависти Михайлу Скопина…
– Они просто болваны, эти Шуйские! Погубить одаренного молодого воеводу… хотя нам это очень на руку… Так попробуйте уговорить его… как там…
– Валуев, ясновельможный пан гетман.
– Объясните, что мы против засилья на Москве Шуйских. Пусть москвитяне присягнут королевичу Владиславу. Королевич перейдет в православие и будет московским царем. Что ж тут плохого? Вот у нас же сидит на троне Сигизмунд. Он католик, но он не поляк, а швед. А его дядя, шведский король Карл, не католик, он лютеранин-протестант. В Европе так нередко бывает. А если вместо Шуйского коронуют Владислава, на всей Руси воцарится спокойствие. Король Сигизмунд заключит с Московией вечный мир и договор свяжет два государства в дружественный союз. Объясните Валуеву, пан боярин. Может быть, удастся его убедить…
– Ох, боюсь, ясновельможный пан гетман. Горяч больно ретивый боец Валуев – как бы не повесил… Я его знаю с давних пор. Считает: если присягнул, значит, надо честно исполнять свой долг и никаких уклонов.
– О, нам бы побольше таких честных воевод! Однако попытайтесь, пан Салтыков. Я дам вам почетное сопровождение. Возьмите десяток русских ратников. Возьмите белый платок и машите им. А для торжественности позади вас поедут гусары – без пик и мушкетов, с одним красным прапором.
– Господи, спаси, сохрани и помилуй, – вздохнул Салтыков, крестясь. – Авось пронесет. Лишь бы сразу не угробил, чертов кум.
Из польских рядов выехал трубач и несколько раз звонко протрубил в медный рог. Затем появился на высоком коне Салтыков, сняв шапку, чтобы легче было узнать. Он размахивал куском белого полотна, возвещавшим, что едет парламентер. За Салтыковым в некотором отдалении вытянулась шеренга всадников – польских гусар без оружия, всем видом изображая мирные намерения. Красный треугольный прапор на длинной трости трепетал на ветру.
В остроге зашевелились, стали высовываться из-за частокола. С любопытством разглядывали приближающегося переговорщика.
– Григорий Леонтьевич! – дребезжащим от страха голосом кричал Салтыков, все махая белым платком. – Прикажи не стрелять! Я на переговоры к тебе послан от гетмана. Позволь я в ворота твои войду – хошь один, хошь с двумя холопьями…
– Что ж, заходи, Иван Салтыков, – ответил насмешливо Валуев, поднявшийся на возвышение за частоколом, где была установлена пушка. – Послушаем, о чем нас желает известить сам пан гетман…
– Ясновельможный, коронный пан гетман-то, – жалобно подправил титул Жолкевского Салтыков, слез неловко с лошади, чуть не упав (его подхватили с двух сторон двое его холопов), и, прихрамывая, вошел в приоткрывшиеся ворота. За ним двое его парней дворовых. Остальное сопровождение терпеливо ждало в поле.
Спустя приблизительно час, Салтыков с холопьями вышел из острога. Боярин мелко крестился с явным облегчением. Видимо, весть о разгроме русской армии из-за бездарного управления Дмитрия Шуйского сильно поколебала стойкость осажденных.
В разговоре о положении Москвы, государства и о надоевшем всему населению царствовании Шуйского «тушинец» клятвенно обещал, что король снимет осаду со Смоленска и вернет все русские порубежные города, едва страна присягнет Владиславу. Салтыков поведал воеводе Валуеву о русском посольстве к польскому королю, состоявшем из мятежных бояр и дворян и возглавляемому патриархом Гермогеном. Валуев поддался на уговоры и заявил, что признанает смоленское соглашение. Но напомнил о продолжении войны с самозванцем «Димитрием Ивановичем», в чем Салтыков его с готовностью поддержал.
Валуев подъехал с группой младших начальников. Сойдя с коня перед коронным гетманом, возвышавшимся на холеном, сером в яблоках жеребце, московский воевода снял шапку и поклонился. Жолкевский очень любезно поклонился в ответ, однако не слезая с коня.
– Очень рад, пан воевода, что вы вняли убеждениям нашего переговорщика, – произнес гетман, он был очень доволен удачными «переговорами» хитрого «тушинца» с упорным Валуевым. При этом Жолкевский словно и не обращал внимания на убитых поляков, лежавших неподалеку после вылазки острожцев.
– Куда прикажете отвести мне свою рать, пан коронный гетман? – спросил Валуев.
– Думаю, на левое крыло. Тем более, что у вас больше пехоты, чем конницы. К тому же несколько пушек. Остановимся на отдых после сражения. А вас, пан воевода, прошу в мой шатер вечером для совещания о последующих действиях.
Валуев сел в седло и повел свою дружину на левое крыло войска гетмана Жолкевского. Гетман имел теперь под своими знаменами кроме королевского войска и казаков Заруцкого, воинов Валуева – очень стойкую, многотысячную русскую рать.
Жолкевский рассчитывал присоединить к своей армии и войско Яна Сапеги, состоявшее из небольшой части поляков, литовцев и довольно разношерстной рати оставшихся в русских пределах наемников. Среди них основное ядро составляли немцы.
Наемники Сапеги собирались влиться в польское королевское войско. Шлялись по окрестностям, грабили крестьян или каких-нибудь проезжих купцов. Словом, вели себя как разбойники с большой дороги. Они дожидались обещанного жалованья от короля Сигизмунда.
Однако Сигизмунду самому не хватало средств для продолжения осады Смоленска. От короля денег не привезли. И тогда наемники устроили бунт, передрались между собой. Потом утихомирились и объявили Сапеге, что уходят в Калугу к «царю Димитрию Ивановичу», который их давно приглашал. Сапега пытался их задержать. Он обращался к ним с просьбой набраться терпения. Но ему заявили: «Без денег ни одного шага, ни одного выстрела». Он не сумел убедить остаться в королевской армии даже поляков и литовцев. Пришлось Сапеге во главе самовольно решающего свою судьбу войска отправиться к самозванцу и панне Марине Мнишек.
Положение остававшейся еще «царской», государственной Руси ухудшалось со дня на день. Получив значительную поддержку от Сапеги, самозванец возобновил наступление на Москву и занял Серпухов. С западной стороны приближалась армия Жолкевского. Она вступила почти без боя в Вязьму и далее уверенно двигалась к столице. Трон под Шуйским качался гибельно.
Царь Василий от безысходности пытался найти сильного союзника «хоть у дьявола в преисподней» – перешептывались оставшиеся в Думе бояре. Он послал двух умудренных годами дьяков из «иноземного» приказа в Бахчисарай к крымскому хану.
Само собой, снова царь Василий с ближними людьми спускался в тайные подвалы кремлевского дворца. Там, несмотря на безудержные траты из-за шведских наемников и прочие непременные расходы, еще сохранились в зарешеченных нишах, в кованых запечатанных сундуках невиданные и не возможные нигде в Европе драгоценности и золото в монетах и слитках. Это еще были сокровища, накопленные при Мономахе и князе Иване Калите. А может, при Иване Васильевиче Грозном.
У седовласых казнохранителей слезы наворачивались на красноватые, припухшие от возраста и горя глаза.
– Государь, смилуйся, может, как-нибудь обойдешься, – дерзали они обращаться к Шуйскому. – Ведь такую казну, такие златодельцев немыслимые изделия отдавать проклятым басурманам… С горя рехнуться можно! И ведь они-то схапают, расхитят, а толк верно ли будет?
– Сам горько плачу, еле разум удерживаю, а что делать-то? – отвечал, всхлипывая вполне явственно, царь. – Ну а ежели пес самозваный Димитрий в Москву ворвется али паны польского Жигимонта лапы к нам в сундуки запустят? Тогда чего делать будем? Попробуем хоть ублажить врагов наших лютых… Уповаю токмо на Бога. Кабы по промыслу и велению его, они самозванца да ляхов от Москвы отгонят… Собирайте дары хану. Ну а потом, коли войско крымское придет, для ихнего главного воеводы… Как его, волка свирепого, имя-то? – повернулся царь к сухопарому длиннобородому дьяку Сукину, знаниями несравнимого даже с разумником Сыдавным.
– А звать его, водителя хищников степных, лихого всадника бахчисарайского и царевича, Кантемиром-мурзой. А прозывается, значит, на говорок православный: «Кровавый Меч», – знающий про всех и вся, сказал Сукин, плюнул с досады и вытер рукавом заслезившиеся глаза.
– Ох, Господи, за что караешь народ верный? – вздохнул Шуйский. – Ладно, чё попусту причитать? Подбирайте дары хану и Кантемиру-мурзе. Да еще на жратву его волчьему войску. Последняя наша надежда на злых крымчаков.
После договора с ханом в Бахчисарае по призыву Шуйского на Русь древними степными тропами примчался Кантемир-мурза с десятью тысячами всадников. Вдоль Оки воткнули они в землю косматые свои бунчуки, поставили шатры, запрудили луга табунами боевых коней.
Сопровождать повозки с драгоценными дарами и кожаными мешками, полными золотой казны, царь послал одного из немногих оставшихся твердыми в своем крестоцеловании воевод князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
За ним вскоре прибыл князь Лыков с четырьмя сотнями стремянных стрельцов. Они расположились тоже на берегу Оки, неподалеку от огромного татарского стана.
Степенный, широкоплечий, с окладистой бородой и суровым простым лицом, в воинской одежде-панцире, шлеме, в наброшенной поверх епанче, Пожарский приехал в татарский стан. Сойдя с коня, князь с двумя своими дворянами и толмачом приблизился к большому коричневому шатру, над входом которого выписаны золотыми витками арабские надписи из Корана. Два воина в латах скрестили длинные пики.
– К светлейшему царевичу Кантемиру-мурзе от великого государя всея Руси Василия Ивановича прибыл с дарами и напутствием царским князь Дмитрий Пожарский, – закатив истово черные глаза, прокричал с горловым зевом толмач. Раздался громкий приказ из глубины шатра. Татары у входа развели пики, отодвинулись.
– Видал? – вполголоса спросил Пожарский своего дворянина Глебова. – Видал, Осип, будто времена ордынской даньщины вернулись? А мы с тобой не послы, а данники – ясак привезли…
Складки у входа в шатер зашевелились, выбежал, низко кланяясь, татарин в малиновой плоской тюбетейке. Затараторил ласково и лукаво. Замахал широкими рукавами полосатого халата, приглашая войти.
– Говорят, нельзя на порог наступать, Дмитрий Михайлович, – опасливо проговорил Глебов. – Сразу убьют, поди, а?
– Да пустяшные эти опаски, – с досадой сказал князь Пожарский. – Когда-то в старые времена они свои уродские свычаи и обычаи блюли. А нониче издавна крымчане махометовой веры басурмане. Книгу свою священную чтут, остальное не в счет. Вепрятину, поросятину, зайчатину не едять. Те же, старинные, все подряд жрали, даже и сырую кобылятину, сыроядцы, хычники были.
Пожарский в шатре огляделся, увидел – в дальнем закутке сидит небольшой худощавый татарин с подкрашенной в рыжину бороденкой, не сильно скуластый, с обритой головой в вышитой золотом тюбетейке. Уже не молод, возраст средний, соответствует его собственному. Это и есть Кантемир-мурза, Кровавый Меч то есть. «Ага, поклониться надобно, – подумал Дмитрий Михайлович, – но не слишком уж поясно, он же не хан. Просто воевода». Дворяне его Глебов и Сухомлинов тоже поклонились просто.
Кантемир-мурза поднялся, легким шагом подошел, на расстоянии от князя шагах в пяти поклонился и что-то негромко проговорил.
Толмач перевел, что мурзе приятно видеть не важного вельможу от московского царя Василия, а начальника воинов, полководца, многое, наверно, познавшего на своей ратной службе. «Ох, хитер, ухо надо держать топориком», – мелькнуло в голове князя. Он ответил в том же духе: мол, приятно говорить о воинских делах с водителем знаменитого конного войска крымского хана, непобедимым Кантемиром-мурзой, по прозванию, не зря придуманного молвой, Кровавый Меч.
Крымский военачальник усмехнулся. Он сказал, что такие прозвища – устрашающие и пышные – придумывают придворные льстецы, рассчитывая на подарки и награды. Потом устрашающее прозвище распространяют среди воинов и простого народа. Толпе лестно иметь такое жестокое пугало. Это внушает ей уважение, надежду на большие походы, от которых кое-что перепадает всем крымчанам.
Тогда Пожарский (они уже сели на ковры и подушки, предложенные хозяином) коротко напомнил, что в Калуге сидит проходимец, самоназвавшийся царь, который собрал вокруг себя всякий сброд: беглых рабов, взбунтовавшихся крестьян, дворян, предавших своего государя, разбойников-казаков и также отряды вторгшихся на земли Московии поляков и даже немцев-наемников, воюющих за поденную оплату. Этот самозванец хочет захватить Москву, изгнать законного царя и сесть на его трон. Толмач торопливо и старательно переводил.
Кантемир-мурза осуждающе покачал головой и объявил свое мнение. Столь низкий и преступный человек достоин только одного: его следует пленить и, осудив перед всем народом, казнить на столичной площади.
Пожарский продолжал свое сообщение. Король Польши перешел границу Московского государства и осаждает большой, хорошо укрепленный русский город уже полгода безуспешно. Он послал к Москве своего воеводу, у которого в войске соседствуют поляки-солдаты регулярной армии, казаки с Днепра и Дона, которые часто разбойничают на русских землях. («Они же, – тонко заметил Пожарский, – давние и постоянные враги Крымского ханства».) Есть наемники из разных государств Европы, которым, между прочим, польскому королю нечем платить, и есть, к сожалению, немало русских воров, от простых смердов до знатных беков и мурз. Последние воюют против собственного государя и хотят, по требованию польского короля, посадить на московский трон его сына, совсем юного, то есть неспособного управлять государством. Значит, по-настоящему править вместо королевича собирается сам ненасытный польский король.
На этот раз Кантемир-мурза слушал молча, то хмурясь, то высоко поднимая брови, из-за чего расшитая золотом тюбетейка двигалась на его выбритой голове.
Московский государь оказался в тяжелом положении и потому просит владыку Бахчисарая и лично Кантемира-мурзу ударить десятью тысячами своих удалых конников по первому и второму скопищу врагов Русского государства и восстановить справедливость. Разумеется, царь Василий прислал соответствующие могуществу и доблести крымского полководца дары и подношения.
Пожарский послал Глебова. Тот вышел и явился с вереницей нарядных слуг, несших ларцы с драгоценным содержанием. Некоторые ларцы (более похожие на сундуки) несли вдвоем. Слуги поставили принесенные ларцы на пол и откинули крышки.
Татарин в полосатом халате зажег несколько масляных светильников, заключенных в стеклянные фонари. Шатер ярко осветился. Кантемир-мурза не смог удержать возгласа восхищения перед такими сокровищами. Ноздри его короткого носа задрожали, глаза раскрылись шире обычного и блеснули жадно.
«Такой же хапуга и алчный поклонник богатства», – подумал про крымского полководца Пожарский. Он тут же присовокупил:
– Остальное – золото и прочие ценности в повозках и охраняются воинами с пищалями, саблями, секирами и мушкетами.
– О, почтенный посол, ты останешься здесь до начала моих действий против общих врагов? – спросил князя Кантемир-мурза.
– Нет, по повелению государя я должен возвратиться в Москву, рассказать обо всем царю и возглавить сопротивление городов, к которым приближается войско польского гетмана Жолкевского.
– Что ж, исполнительность усердного воина приказаниям своего владыки не может вызвать иного отклика, кроме похвалы, – назидательно заявил Кантемир-мурза, его смуглое лицо умаслилось довольной улыбкой. – Э,Ахмет-Чаган, прими присланное московским царем для нашего повелителя хана Гирея. – Татарин в полосатом халате и малиновой тюбетейке, склонившись подобострастно, выскользнул из шатра. Раздались короткие гортанные выкрики и топот многочисленных воинов, посланных к повозкам с московской казной.
– Желаю тебе славных побед, доблестный Кантемир-мурза. – Пожарский поднялся, вскочили Глебов и Сухомлинов. – Я надеюсь, царские дары показались тебе достойными.
– Конечно, конечно. Такая щедрость будет возмещена в сражениях ханскими воинами. – Кантемир-мурза проводил князя Пожарского до выхода из своего шатра. – Слово хана и мое слово не могут быть пустым звуком в устах безответственных. Завтра утром мои войска поскачут навстречу сброду самозваного лжеца.
Пожарский собрал своих людей и тронулся в обратный путь, за Оку, оставив в татарском стане обоз с золотом. По пути он заглянул в небольшой лагерь, где сделали привал стремянные стрельцы князя Лыкова.
– Не пойму я, Борис Васильевич, на кой шут царь тебя-то сюда выпихнул? – обратился Пожарский к Лыкову. – Для какой надобности?
– Ну, вроде как смотрящим за выполнением мурзой договора, – ответил, пожимая плечами, молодой князь.
– Да на что могут воздействовать четыре сотни твоих удальцов перед десятью тысячами татар? Смех да и только. А если еще подойдут воры самозванца? А если поляки Жолкевского? Они чего там в Кремле, очумели? – непохоже на обычную свою сдержанность возмутился Пожарский. – Выполнит мурза договор али не выполнит, ты-то чем можешь влияние оказать? О, Господи, прости меня грешного! Помяни царя Давида и всю кротость его![108] Заранее переправу готовь, князь Лыков. Не упрямься. Как увидишь – чего-то не то, сразу беги за Оку и не останавливайся. Не губи своих робят попусту.
– Ладно, поглядим… Добрый путь тебе, князь Дмитрий Михалыч.
– Прощай. Бог вас храни.
В шатре Кантемира-мурзы совещались с главным полководцем его тысячники.
– Если бы ударить на одного калужского царька, другое дело, – посмеивались, хитро сощурившись, скуластые джигиты. – Но сразу воевать с ним и с поляками… жирно будет даже за мешки с золотом. Зачем губить войско ради неверных кафиров[109]. Пусть они воюют между собой, пока все друг друга не перебьют. Слава Аллаху, Кантемир-мурза получил золото от московитского дурака, теперь можно возвращаться домой.
Кантемир-мурза сначала слегка помрачнел, вспомнив прямые слова и пристальный взгляд князя Пожарского. Потом шлепнул себя ладонями по коленям поджатых ног, засмеялся и жестоко оскалился, как степной волк.
– Когда глупый дает плату умному и требует за это невыполнимого, умный может не исполнять его поручение, – сказал он. – Я успел разобраться во всех московитских и польских распрях.
На другое утро вероломные крымчаки неожиданно напали на отряд Лыкова. Отбиваясь, стрельцы переправились через Оку. Потеряли многих убитыми и ранеными.
Кантемир-мурза на горячем гнедом жеребце проскакал вдоль обоза, присланного Шуйским. С торжествующим видом он приказал своим всадникам возвращаться. Крымская десятитысячная орда развернулась и, не вступая больше ни с кем в боевое соприкосновение, по знакомым путям, по старинным шляхам двинулась, отягощенная московским золотом, в Крым.
Узнав о предательском поступке татар, Шуйский схватился за голову. Позвали даже лекаря, чтобы привести его в чувство и восстановить соображение.
Бояре скрежетали зубами, плевались и бранились по-черному, как мизинные людишки. «У, хрен старый, последнего разума лишился… Отвалил поганым столько сокровищ, столько золота и – попусту, чтоб те сгинуть, безумный расточитель… Кабыть его собственное, а не казна…»
IV
Москва опять бурлила, отдышавшись после исчезновения Тушинского табора, после внезапного его пожара. Однако беда вновь приближалась.
Филарет Романов выехал из Тушина с последними польскими отрядами. Он надеялся найти пристанище под Смоленском, в королевских обозах. На Шуйского никакой уж и оглядки у него не было. Царь боялся показаться из своего дворца. Народ, толпившийся в Кремле, на Ивановской площади, увидев случайно в окне Шуйского, кричал без удержу, зло и нахально: «Шуйский, уходи! Ты нам не царь!»
А патриарха Филарета царские воеводы задержали на пути к королю и отправили в Москву. Привезли насильно во дворец. Филарет оправдывался: я, мол, пастырь, службы Богу проводил как положено, чего еще от меня хотят? А «тушинское» посольство к королю возглавил, потому что бояре требовали. Я вроде бы и не мог не подчиниться.
Василий Шуйский не осмелился судить «воровского» патриарха и разрешил ему остаться в столице. Тем самым заимел у себя под боком еще одного опаснейшего врага.
Группа остававшихся в Москве думских бояр во главе с князем Федором Мстиславским составили нечто похожее на пропольскую партию, которая ратовала за возведение на московский престол польского королевича Владислава. Между прочим, все знали, что дед Мстиславского был выходцем из Литвы. Когда Шуйский рвался к престолу, на который целился и Мстиславский, Василий Иванович в пику ему ставил его литовское происхождение.
Давно протягивал руки к короне Василий Васильевич Голицын. Однако и тут он проиграл борьбу с Шуйскими, напомнившими ему: Голицыны, хоть и четыре века как обрусели, а все же род свой ведут от литовского князя Гедимина, то есть в этом «местничестве» перешибали происхождением все-таки «рюриковичи».
Князь Василий Голицын не стал бы лично пачкать свои холеные руки кровью. Однако он, даже более Шуйского, шел на прямые устранения высоко стоящих, но мешавших ему людей. Он приказал задушить Федора Годунова, который был уже коронован. Так Голицын стал цареубийцей. Это нисколько не помешало его значительности и благостности, как православного вельможи, для которого цареубийство по церковному понятию значило страшный и непростительный грех перед Богом. Так же смело и уверенно он вел убийц для уничтожения Лжедимитрия. А тот, будучи, разумеется, самозванцем, все-таки короновался по всем священным правилам христианства. И князь Василий Голицын во второй раз (чужими усилиями) стал цареубийцей.
Приближались все явственней замена или устранение Шуйского. И вот образовался (в осажденной вторым самозванцем и Жолкевским Москве) заговор.
Располагая тремя тысячами казаков, князь Дмитрий Трубецкой, пусть и примыкал к лагерю самозванца, но мечтал хитростью попасть в столицу. Он предлагал москвичам освободить трон от Шуйского, а со своей стороны обещал покончить с «Димитрием Ивановичем». После чего Московское государство должно было выбрать себе нового государя, который положил бы конец братоубийственной войне.
Трубецкого поддержал вчерашний «тушинский» патриарх Филарет и князь Василий Васильевич Голицын. В военном лагере за Серпуховскими воротами открылся самообразовавшийся Земский собор с участием Боярской думы, высшего духовенства и представителей из народа. «Мизинные» москвитяне оказались богатые, известные всем купцы, некоторые хозяева оружейных и других мастерских, стрельцы из младших начальников (они же хозяева лавок и мастерских), знатные на Москве кузнецы, золотых дел мастера и прочий самостоятельный и небедный люд.
Все выступали за то, чтобы царя Василия Шуйского от трона отрешить. А выбрать от Москвы и многих русских городов достойного и известного человека – воеводу, боярина, богатого «гостя», даже хозяина-мастерового.
В Кремль отправились князь Воротынский, боярин Федор Шереметев и патриарх со всем священным собором.
– Нет, нет! – завопил, как припадочный, низкорослый, темнолицый, горбоносый старик с редкой седеющей бородой. – Не могите по праву царскому, человеческому и божественному! Убейте тогда лучше меня хилого, болезного… Убивайте, душите… Я и сам вскорости отойду…
– Да смирися, Василий Иванович, – стал увещевать царя Воротынский. – Я же свояк твой, дурного тебе не желаю. Ну, время твое подошло. Не хочет Москва, Дума, народ тебя в царях над собой держать.
– Не может видеть более народ царя, принесшего ему несусветные беды, – вступил Шереметев. – Дело решенное, не брыкайся и не вопияй, Василий… Хуже будет…
– Склони главу свою, государь, расстанься с властию и покинь трон сей, – уговаривал патриарх Шуйского. – Глас народа – глас Божий, се однозначительное понятие есть. Не отвергай призыв сей, брось гордыню… Склони пред Богом главу, согни выю свою…
– Нет, нет и нет! Не по закону… – как безумец, зыркая затравленно отечными старческими глазами, хрипел царь.
– Я со боярами-думцами уж решили промыслить для тебя удельное княжество со столицею в Нижнем Новгороде… Град богатый, земли кругом привольные… Река одна в другую втекают: Ока, Волга… Чего тебе еще надобно до конца дней твоих?.. А наследника у тебя нету, – заключил Воротынский. Он хотел взять из рук Шуйского царский посох.
– Не дам, не дам жезл царский мой! – заверещал, как зверек в клетке, низкорослый старец. – Не дам! Убью!
После получаса пререканий и бесплодных уговоров рослый Шереметев и один из дьяков отцепили скрюченные пальцы царя от посоха и потащили его к дверям в задние покои.
– Ай, ай! Погубители, ироды! – тонко кричал Шуйский.
Шереметев мигнул двум переодетым в черные подрясники молодцам. Они быстро скрутили цепкого старика и вывели его силой из дворца на Старый двор.
Потом завертелась ужасающая круговерть. Князь Дмитрий Трубецкой взошел на Лобное место и призвал открыть Серпуховские ворота и впустить в Москву «истинного царя Димитрия Ивановича». Рев разноголосый понесся по Красной площади. Одни кричали: «Слава государю Димитрию Ивановичу!» Другие возражали: «Да он же с поляками, с убойцей, полковником ихним Сапегой… Опять резню начнут… Не желаем!» Третьи требовали: «Как собор порешил… Пусть выбирают царем подходящего человека…»
Начальник Стрелецкого приказа, младший из братьев Иван Шуйский, через верных ему людей пытался склонить кремлевских стрельцов повернуть дело обратно и, не выполняя принятого Земским собором, – силой военной вернуть на трон Василия Ивановича.
Тут заговорщики сообразили, что надобно довести дело до конца.
Первым решился рязанский предводитель, смелый и пылкий Захарий Ляпунов, чей брат опрометчиво прислал письмо князю Михайле Скопину, называя его государем, и тем, может быть, погубил его. К Ляпунову примкнул другой известный бунтарь супротив всякой власти в Кремле – думный дворянин Гаврила Пушкин. Это он в свое время читал народу с Лобного места «прелестные» письма первого Лжедимитрия. Собрав немногих стрельцов, обнаживших сабли и прихвативших пистоли, они с толпой москвичей ворвались во двор Шуйского. Был тут же и некий чернец из Чудова монастыря. Некоторые свидетели рассказывали, что были с Ляпуновым и Пушкиным три князя – Засекин, Тюфякин и Мерин-Волконский с неким приказным подъячим Аксеновым.
Нашли смещенного с престола царя спрятавшимся в поварне под лавку. Выволокли его на улицу. Перед толпой, гогочущей и ругавшейся матерно, дворяне держали бьющегося в их руках старика. Держали крепко, пока монах совершал обряд пострижения.
Но бывший царь, продолжая сопротивляться, все твердил: «Не хочу я в монахи, не хочу в монастырь…» – что, по церковным правилам, делало обряд пострижения недействительным. Ибо правильно только добровольное и сильное желание совершать подвиг монашества. Впоследствии патриарх это пострижение не признал законным.
Жену Василия Шуйского, царицу Марию, тоже насильно постригли и заключили в суздальском Покровском монастыре.
Когда закончили пострижение царя Василия Ивановича, чудовский чернец объявил примолкшей толпе:
– Православные! Тут перед вами уж не гордый князь Шуйский с мирским именем Василий, а смиренный инок Варлаам, коего отведут нынче же в Чудов монастырь для совершения монашеского послушания.
Второй брат Дмитрий Иванович закрылся у себя в немалых своих княжьих хоромах поблизости от Лубянской площади. Однако десятка три вооруженных мужчин вскоре громко постучали в его ворота.
– Князь, прикажи слугам впустить нас, бо мы посланы Земским собором, – крикнули они сердито. – Отчини двери, не то мы те в дом красного петуха пустим.
Дмитрий Шуйский, видя безвыходность положения и бесполезность сопротивления, велел впустить «представителей» земщины.
С ним поступили тоже грубо, но более пристойно, чем со старшим братом. Ему сказали собираться в дальнюю дорогу, не объяснив, куда и зачем. Разрешили жене ехать с ним и взять с собой пару слуг. Закрыли всех в приготовленном возке. Ночью выехали из Москвы. Так же забрали и третьего брата Ивана. Настояли, чтобы переоделся в простую «скорбную» то есть бедную одежду. Разрешили ехать с ним одному из слуг. И сразу, усадив в крытый возок, последовали за возком Дмитрия. Те, кто этими делами заправляли и увезли Шуйских, были люди никому не известные.
Потом оказалось: это все осуществляли русские и польские дворяне, служившие в особом ведомстве у короля Сигизмунда.
Бывшего царя вывезли немного позже. Но тоже ночью и в закрытом возке. Лишь покинули пределы подмосковных слобод, как возникла конная стража в темных кафтанах и вооруженная с особой тщательностью: не только саблями, но и пистолями, пищалями, ружьями иностранного образца. Троих братьев Шуйских довольно скоро доставили к королевскому лагерю под Смоленском. Здесь Шуйских на некоторое время задержали.
Когда их ввели в шатер короля Сигизмунда, тот сидел в красивом кресле, напоминающем трон. Он с любопытством смотрел на низкорослого престарелого Василия, взлохмаченного, перепуганного Дмитрия и моложавого, тоже бледного от страха Ивана. Дмитрий и Иван поклонились, затравленно озираясь на стражников в шлемах и панцирях-зерцалах, державших алебарды и положивших левую руку на рукоять палашей. Рядом с королем находилось несколько его придворных.
В противоположность братьям Василий Иванович был хмур, но спокоен. Он выжидательно поглядывал на короля Сигизмунда и не выражал никакого интереса к окружавшим его сановникам.
– Что же ты не кланяешься королю? – спросил Шуйского канцлер Лев Сапега.
Василий Иванович по-прежнему холодно смотрел впереди себя и не отвечал. Ему еще раз задали тот же вопрос. Шуйский молчал.
– Почему ты не кланяешься мне? – спросил, слегка посмеиваясь, сам король Сигизмунд. И тогда Шуйский заговорил:
– Как же я могу кланяться тебе? Ты призванный из другой страны, поставленный панами король. А мне московскому и всея Руси государю нельзя кланяться королю. Праведными судьбами Божиими приведен я в плен не вашими руками. Ты, король, не победил меня военным путем, не одолел в сражении. Я же выдан изменниками, своими рабами.
Наступило опять молчание, довольно тревожное и неловкое. С точки зрения не только русской, но и европейской рыцарской морали положение короля, захватившего соседнего монарха с помощью его предателей, было постыдным.
Король больше не стал задавать вопросов Шуйскому. Он кивнул присутствовавшему здесь Жолкевскому. Гетман приказал начальнику стражи вывести Шуйских из королевского шатра и доставить в помещение со строгим охранением пленных.
Царя и его братьев отвезли в Варшаву, в Гостынский замок. Там держали их под усиленным караулом.
Впоследствии король Сигизмунд писал московским боярам: «По договору вашему с гетманом Жолкевским велели мы князей Василия, Дмитрия и Ивана Ивановичей Шуйских отослать в Литву, чтоб тут в государстве Московском смут они не делали, поэтому приказываем вам все отчины их и поместья отобрать на нас, господаря». Король, очевидно, чувствовал уже себя победителем в войне с московитами и начал заниматься распределением земель, а так же придворными должностями при московском дворе. Назначались люди, послужившие польскому королю и враждовавшие с Шуйским. Так, он (король) назначил небезызвестного Михаила Молчанова, выздоровевшего после раны, полученной от неизвестных в королевском лагере, окольничим. А Салтыков, омерзительный всей Москве изменник, стал думским боярином.
Секретарь Гостынского замка Ян Пилецкий записал в своей секретарской книге описание внешности доставленного из Москвы смещенного с престола царя Русии. «Пленник был приземист и смугловат. Он имел бороду лопаткой, наполовину седую, глаза небольшие с воспаленными веками. Брови густые, заросшие, сходившиеся над носом с горбинкой. Нос казался излишне длинным, а рот чересчур широким. Одет был содержавшийся в замке пленник в одежду, напоминавшую монашескую рясу, и с виду казался лет семидесяти»[110].
Василия держали в тесной камере над воротами замка. К нему не допускали ни родственников, ни русскую прислугу. Князь Дмитрий Шуйский жил в нижнем, тоже каменном помещении, по сути, в темном сыром подвале. К нему иногда разрешали войти жене.
Страже запрещено было произносить имена узников. Умерли они (Василий и Дмитрий) почти одновременно. Произошло это через два с лишним года, осенью 1612-го. Когда стало понятно, что поляки терпят общее поражение в Руси, а засевшие в Кремле вряд ли долго продержатся и вынуждены будут сдаться ополчению во главе с Дмитрием Михайловичем Пожарским и Кузьмой Мининым. Наверно, тогда Сигизмунд и приказал отравить бывшего царя и его брата. Остался помилованным младший Шуйский, Иван. Его стали называть другой фамилией, он должен был забыть свое подлинное имя и происхождение.
А летом 1610 года, в самый день переворота, стало казаться, что заговорщики смогут осуществить свои намерения.
Захарий Ляпунов в присутствии многих бояр-думцев начал выкрикивать свои пожелания, не обращая внимания на возмущение других.
– Пока идет смута и царство в опасности, – говорил упорно Ляпунов, – пока лжецарь с одной стороны, а гетман Жолкевский с другой подошли к Москве, надобно кругом в голос твердить, чтобы князя Василия Голицына на государстве поставити. И пусть патриарх вознесет на голову его шапку Мономахову. А мы все ему поклонимся, начнем без разрухи и свары собирать войска со всех городов русских. И свободить Москву.
– Нет уж, хватит нам своих князей гордых ставить царями. Уж с Шуйским измучилися да разорились. А и Голицына-то сажать на престол – чего толку? Тоже горд вельми и алчен, не хуже Шуйского Васьки. Как в договоре с королем Жигимонтом уложение внесли и согласились, так тому и быть. Пусть королевича Владислава сажают на трон. – Так выступил сам гордец и думский заправила, давно мечтавший о царском скипетре, князь Мстиславский.
– Да-к ен же католик, еретик, как же ему православными повелевать? – словно забыв о соглашении с Сигизмундом делегации «тушинских» бояр, где он избран был главой, вмешался патриарх Филарет Романов. – Думайте о том, чтобы разногласие и междоусобицу закончить. А для того все решать должен патриарх и верхушка боярская в Думе. Царь же, пока в возраст не войдет, будет только видимость на трон превносить для внешнего благочиния. И потому я вашему суждению, бояре, предлагаю утвердить царем не отрока Владислава, католика, а другого, православного отрока, сына моего Михаила. А государством управлять станете вы, думцы.
– Правильно, – поддержал брата влиятельный боярин Иван Романов.
– И нипочем неправильно, – огрызнулся князь Мстиславский.
– Неправильно, – подхватил Иван Воротынский, князь-рюрикович и «свояк» упраздненного Шуйского. – Пока отрок Михаил будет сидеть на троне да ножонками болтать… Скока ему годков-то? Четырнадцать? Ну, понятно. Он, значит, будет сидеть и головенкой в шапке мономаховой вертеть. А повелевать нами будут Романовы. Ты, владыка патриарх, да брат твой Иван. А свары промеж боярства продолжатся. А дворяне, земщина и черный люд роптать и бунтовать будут. Выбирать в цари следует только Владислава, но апосля его крещения в православие.
– Да говорили мы уж сто раз про енто крещение, – простонал князь Андрей Трубецкой, тайный благожелатель Лжедимитрия. – А гетман Жолкевский нам твердит свое: «Как Смоленск сдастся, мол, один королевич Владислав останется, в православие окрещенный, и воцарится над нами грешными». А канцлер Лев Сапега, братец полковника Яна Сапеги, что русских людей по всем городам занятым вешает да в воде топит с бабами и младенцами…
– Ну и чего тот старший-то Сапега, канцлер-то?
– А ничего, смеется. Мы тогда посольством просили все про то же. В православие, мол, королевича, в православие. А он говорит нам, дуракам, ясно и не по-польски, а русскою речью: «Королевич крещен, а другого крещения нигде не предписано».
– Вот я и говорю, – опять возник твердый голос патриарха, – отрок должен быть православный, сын мой Михаил.
– Да-к ведь из Романовых-то был уже у нас царек-то… – ехидно осклабился Василий Голицын. – Ну, не совсем Романов, но все жа родственник ихний… ваш то ись… У Ивана челядинцем служил.
– Кто такой? – непонимающе нахмурился Романов.
– А Гришка Отрепьев! – хохотнул князь Голицын.
– Типун те на язык, князюшка, – рассердился патриарх Филарет и, стуча грозно посохом, покинул заседание думцев.
V
Следуя старому обычаю, Боярская дума выделила семерых бояр с патриархом для управления страной. Земский собор поручил им все дела до будущего съезда представителей разных городов и земель Руси.
Так образовалась Семибоярщина. В нее входили – всегдашний глава Думы Федор Мстиславский, внук знаменитого полководца, спасшего Москву от крымских татар, Иван Воротынский, бывший соперник Шуйского Василий Голицын, брат патриарха Иван Романов, Федор Шереметев, Андрей Трубецкой и Борис Лыков. Кроме Романова, все – князья, «рюриковичи» или «гедеминовичи». Впрочем, Романовы, исконные бояре, были родней рюриковичей.
Дворяне, приказные люди, стрельцы, казаки, находившиеся в Москве, гости и «черный народ» принесли присягу на верность семерым правителям.
Как раз к этому времени, следом за войсками Лжедимитрия Второго, к Москве подошел гетман Жолкевский с огромной армией. С ним был атаман Заруцкий с донскими казаками и воевода Валуев, возглавлявший бывшее московское войско Шуйского, но присоединившийся к договору об избрании на престол королевича Владислава.
Семибоярщина послала своих переговорщиков, чтобы как-нибудь затянуть время и помешать объединению двух неприятельских армий.
Однако Лжедимитрий не стал дожидаться переговоров. Он попытался овладеть Замоскворечьем. Стрельцы из своей слободы начали усиленный обстрел приблизившегося войска самозванца. Находившийся при нем Ян Сапега со своими литовцами приступил к штурму Серпуховских ворот, но неудачно. Ему пришлось отступить.
Следуя своим интересам, поляки Жолкевского не спешили его поддерживать. Зато русские союзники гетмана – мощная рать Валуева – бросились на помощь москвичам, не спросясь Жолкевского.
Валуев ударил на отряд Сапеги. Его стрельцы и пушкари открыли огонь, конница и пехота яростно погнали литовцев прочь. Воинству самозванца пришлось отступить и остановиться только в Коломенском.
На рассвете 27 августа гетман Жолкевский, учитывая приказ Сигизмунда убрать «царька», окружил лагерь «Димитрия Ивановича» в селе Коломенском. Гетмана поддержали московские полки, во главе с самим вождем Семибоярщины князем Мстиславским.
«Димитрий Иванович» сидел в большой избе, где ему обустроили временный приют. Иногда он вставал и беспокойно расхаживал, злобствуя по поводу того, что Сапега не сумел ворваться в Серпуховские ворота.
– Проклятые лентяи твои литвины, пан Сапега, – без всякого стеснения, как бывало при Ружинском, высказывал он свое раздражение. Теперь ему никто не смел возражать, тем более угрожать и грубить. Кругом в избе и по всему лагерю ходили «его» люди – казаки либо ратники из простонародья. Были стрельцы из царских полков, давно ушедшие к «истинному» царю, или воины из отрядов «воровских» бояр. К его войску присоединились даже касимовские татары. Их воевода князь Петр Урусов говорил, что они никогда не покинут «государя» и будут повсюду ему личной стражей, хотя «служилый» касимовский царь Ураз-Мухамед, который ранее находился в Тушине, позже перебрался под Смоленск. Теперь престарелый Ураз-Мухамед служил с отрядом касимовцев в войске короля Сигизмунда.
«Димитрий Иванович» не обращал внимания на внешнюю измену татарского царя. Сын Ураз-Мухамеда и его жена находились в Калуге. Там же стояли со своими отрядами другие родственники и мурзы служилого «царя». И сейчас трое мурз в ярко расшитых халатах и цветных тюбетейках, опираясь на рукояти своих кривых, широких к концу, сабель, насмешливо поглядывали узкими глазами на хмурого Сапегу.
– Если бы ты сумел одолеть неожиданно свалившихся москалей… это же не поляки… Откуда они взялись у Жолкевского, будь они прокляты? – продолжал упрекать литвина самозванец.
– Черт их знает, – пробурчал Сапега, хотя от разведчиков имел сведения, что это перешедшая на сторону «королевича Владислава» – отборная рать воеводы Валуева.
– Эх, если бы ты вошел в Серпуховские ворота, Москва встретила бы меня, как в былые времена, колокольным звоном. А теперь нам приходится улепетывать от армии гетмана с еще притопавшими полками князя… этого… чтоб он сдох… Да как он зовется?
– Князь Мстиславский, – подсказал крещеный касимовский полковник Урусов.
– А, помню, помню его, эдакий въедливый старикашка, – беззастенчиво врал «Димитрий Иванович».
– Не такой уж Мстиславский и старикашка, – пробормотал дворянин Плещеев.
– Да ты-то заткни гортань, Федьша! – грубо перебил его «Димитрий Иванович». – Чего дальше-то делать будем, Ян?
– Как чего делать? Сражаться с ляхами и москалями, – пожал плечами Сапега. – Но умно, а не глупо, дьявол их загрызи. Сейчас главное выскочить из окружения. Натянуть нос Жолкевскому и Мстиславскому, а там посмотрим…
К табору самозванца подъехал трубач в сопровождении отряда польских гусар.
– Эй, вы, хлопы и бунтари! Кликните сюда пана Сапегу! – выехав вперед, крикнул Тышкевич, один из офицеров Жолкевского.
Литовцы побежали «до пана полковника».
– Позвольте, Ваше Величество, побалакать с теми хамами, – обратился Сапега к самозванцу.
– Валяй, Ян. Постарайся пронюхать, что затевает против нас королевский пес Станислав Жолкевский.
Сапега появился в плотной ватаге литовцев, державших наготове пищали, мушкеты и пистоли. Он подошел довольно близко к польским гусарам.
– Пан Сапега, коронный гетман, ясновельможный пан Жолкевский предлагает вам покинуть разбойничий табор мошенника и самозванца. Выходите со своими людьми из села и присоединяйтесь к королевскому войску, – сказал Тышкевич.
– Нет, я не собираюсь покидать своего государя ради жалких подачек короля Сигизмунда, – с напыщенным видом произнес полковник.
– В таком случае гетман приказывает вам сделать это как подданному короля Речи Посполитой.
– Но в этом случае я тем более отказываюсь подчиниться.
Сапега отвернулся от Тышкевича и гордо удалился в лагерь. «Ну да, я вам за просто так сдам этого проходимца и его услужливую жену. Готовьте много злотых, панове, – думал хитрый литвин. – Но я уверен, что денег нет у вас, пан гетман, ни у вашего кичливого короля. Так я пока подожду».
Тышкевич вернулся к Жолкевскому и передал ему ответ Яна Сапеги.
– Не хочу проливать кровь соотечественников, – задумчиво проговорил коронный гетман. – Ну что ж, попробую предложить сходную сделку огородному пугалу, которое зовется царь Димитрий Иванович… Подай-ка мне бумагу, чернильницу и перо, Лешек, – приказал он адъютанту.
Жолкевский сел за раскладной столик и написал самозванцу, зная, что тот свободно говорит и читает по-польски. В своем письме гетман от имени короля Сигизмунда предлагал «Димитрию Ивановичу» вместе с супругой Мариной Юрьевной получить в вечное наследственное владение город Самбор, где находился замок Мнишеков, и прилегающие к Самбору земли. Здесь же, в Московии, отказаться от претензий на царский трон; кроме того, передать свое войско под управление польских воевод. И «Димитрию Ивановичу», и Марине Юрьевне давались уверения в неприкосновенности и надежной охране.
Адъютант Жолкевского с трубачом и отрядом гусар снова поскакал к лагерю самозванца. Трубач протрубил. Из лагеря выехал Александр Рукин, сопровождаемый татарскими всадниками, принял письмо гетмана и отвез по назначению.
«Царь» вместе с Сапегой прочитал письма с предложением гетмана.
Ответ был короток. «Дзинькую бардзо[111], – писал самозванец дерзко, – за милости короля Сигизмунда и обещания неприкосновенности. Но меня любит народ как сына царя Ивана Васильевича и истинного наследника. Вместо польского Самбора я получу царский престол в Москве. А королю я приказываю снять осаду со Смоленска да убираться в свое господарство. Иначе же я в скором времени промыслю так со своими людьми, что ему нужно будет бежать до своей границы. Димитрий, царь всея Руси».
Жолкевский порвал и выбросил ответ самозванца. Он отдал приказ готовить наступление на его лагерь. Однако начинало уже смеркаться. Гетман отложил приступ до утра. А ночью к «Димитрию Ивановичу» тайно пробрались неизвестные люди в мужицких сермяжных зипунах.
Они показали, как можно выбраться из Коломенского незаметно. Пройдя лесом и не производя шума, отряд самозванца сумел проскользнуть мимо постов польского войска. После чего монахи открыли ворота Николо-Угрешского монастыря, чтобы впустить «Димитрия Ивановича» с его ратниками, казаками, литовцами Яна Сапеги и даже касимовскими татарами. Тем более, начальник их Петр Урусов сам стал православным и служил «православному царю».
Боярское правительство сумело собрать пятнадцать тысяч пехотинцев и конников. Были у них и пушки в достаточном числе. Однако Мстиславский не решался осадить Никольский монастырь без гетмана Жолкевского.
Князь Мстиславский послал своих доверенных людей, которые униженно просили о помощи польского гетмана, не надеясь на свои силы. Хотя у самозванца, по сведениям разведки, насчитывалось всего от трех до пяти тысяч воинов.
– Передай князю Мстиславскому, воеводам и боярам, – раздраженно заявил Жолкевский, – что я не буду тащиться со своим войском вокруг Москвы. Пусть откроют Серпуховские ворота. Я проведу войска кратчайшим путем через Москву.
– Ох, страшно, ох, опасно… – схватился за голову князь Воротынский. – А вдруг поляки займут Москву и останутся в ней? Что делать будем, бояре?
– Да чего уж теперь охать-то, – рассердился надменный, более всех считавший себя достойным занять престол, Мстиславский. – Пусть гетман ведет полки через Москву.
Едва наступила ночь, стража распахнула ворота. Пройдя по пустынным улицам, войска Жолкевского соединились с ратью Мстиславского и направились к Николо-Угрешскому монастырю. Но, пока поляки пересекали огромный (по тем временам) город, казак, посланный атаманом Заруцким, бешеной сланью мчался известить Лжедимитрия об опасности.
Рать самозванца тут же покинула монастырь и удрала еще до света в Калугу.
Крайне разгневанный такой неудачей Жолкевский довел до сведения бояр, что войско Яна Сапеги покинет самозванца, если ему будут выплачены большие деньги. Семибоярщина согласилась. Литовцы получили три тысячи рублей золотом и покинули окрестности Москвы.
Теперь Жолкевский решил рассчитаться с немецкими, французскими и английскими наемниками, все еще слонявшимися в польской армии и требовавшими денег. Гетман дал понять боярам, что распустит «немецкий» сброд, едва с ними расплатятся.
Почесав затылки и разгладив бороды, бояре крякнули, повздыхали и согласились.
Жолкевский оставил около восьми тысяч жолнеров и гусар, отборное польское войско, а иноземцев с Запада срочно удалил из Московии. Но они шли к границе, как грабители и насильники, обирая и поджигая деревни, неожиданно захватывая небольшие городки и монастыри. Население разбегалось, стараясь угнать скотину, спасти детей, женщин и стариков. После прохода через Срединную Русь европейских наемников оставались пепелица, изнасилованные женщины, повешенные – те, кто сопротивлялся.
Патриарх послал от себя письмо Сигизмунду; он умолял короля отпустить сына в греческую веру: «Любви ради Божией смилуйся, великий государь, не презри нашего прошения, да и вы сами Богу не погрубите, и нас богомольцев своих неисчетных народов не оскорбите». Мольба была настоятельная, но все же неопределенная, – а Сигизмунд мог бояться оскорбить собственный народ. Поставленный в положение, когда он, потратив много средств и понеся значительные человеческие потери, должен был думать о приобретении целого Московского царства или хотя бы его части, – Сигизмунд продолжал осаду Смоленска. Но хотя польское войско полтора года с отменной яростью и настойчивостью продолжало осаду, их приступы были постоянно отбиваемы со столь же несгибаемым мужеством и упорством.
Между тем из-за определившегося избрания Владислава шведы из союзников неминуемо превращались во врагов Московского государства. Уходя на свою землю, они взяли русский городок Ладогу. Однако островную крепость Иван-город одолеть не могли, недаром народ прозвал его Орешек. Впрочем, жители его, сопротивляясь шведам, не снисходили признавать московских «ополячившихся» бояр, а оставались верны самозванцу.
Тогда генерал Горн разбил Лисовского с поляками и донскими казаками. Лисовский и его напарник Просовецкий отступили к Пскову. И здесь рассорились. Полковник Лисовский, бывший рокошанец, желал бы примириться с Сигизмундом, а потому воевал за воцарение Владислава. Просовецкий же, более склонный к свободному воинству, объявил, что он с казаками за «Димитрия Ивановича». Так они и разошлись: один пошел в город Остров, а другой остановился в двадцати верстах от Пскова. При совершении своих походов они жгли деревни, совершали насилия и убийства, вызывая лютую ненависть местных крестьян. Те, собираясь в «охотничьи» отряды, выслеживали и истребляли отбившихся от основного войска шведов, поляков и казаков.
Самозванец опять укрепился в Калуге и готовился воевать с Сапегой, который, получив от бояр и Жолкевского щедрую выплату, покинул своего сомнительного властелина. Он теперь вынужден был изображать преданность королю Сигизмунду.
– А этот подлый литвин, мало того, что путался с моей женой, теперь стал лизать сапоги польскому королю, – бесновался самозванец, потеряв столь опытного воеводу. – Ну, при встрече не жди от меня пощады, собака!
– Ничего, бачка-сарь Митри Иванич, – успокаивали его касимовские мурзы. – Йок[112] собака литовски и якши[113]. А когда ми его поймай на аркан, сразу повесим. То будет сапсем якши и не нада нам йиго пьяниса.
– Молодцы, джигиты, – хвалил мурз самозванец, – я вам доверяю. С вами не пропаду. В крайнем случае уйдем в Астрахань, а?
– Астрахан – хороши места, широка степь. Сел на конь, один рука ружье, другой рука сабла – и айда, – они смеялись, морща широкие скулы, прищелкивая языком.
Сапега теперь вступил в земли Северской Украйны как будто для того, чтобы отнять ее у самозванца. На самом деле, по соглашению с двоюродным братом своим, канцлером Львом Сапегой, Ян должен был поддерживать Лжедимитрия вопреки намерениям короля.
Владения «калужского царя» были довольно обширны. Серпухов, например, близкий к Москве, принадлежал ему. Воеводой там сидел старый бунтовщик (еще противник царя Бориса, как и Пушкин) Федор Плещеев.
Его отряды находились во многих городках к югу от Москвы. А большинство бывших «тушинцев» из бояр и дворян стали покидать пределы влияния самозванца. Зато «мизинные» люди, простонародье, со всех сторон сходились под главенство «Димитрия Ивановича», изъявляя ярое желание воевать против поляков и изменников, засевших в московском Кремле.
Получалось тем не менее странное обстоятельство, в результате которого самозванец как будто помогал гетману Жолкевскому. Из страха перед «черным» народом, не замедлившим бы восстать при первом удачном случае и влиться в войско «истинного» царя, Семибоярщина сама предложила коронному гетману ввести королевскую армию в Москву.
Жолкевский сначала воспринял это предложение, как явный успех. Но, поразмыслив, внезапно испугался. Все-таки занятие столицы иностранцами могло вызвать огромную волну возмущения, причем возмущения всенародного.
Гетман созвал коло и предложил прийти к нему в шатер по два человека от каждого полка. Разговор был откровенный, учитывая, что большая часть польского войска состояла из кавалерии. Гусарские офицеры расселись во вместительной палатке гетмана – кто где. Жолкевский занял раскладной стул.
– Слушайте меня внимательно, панове, – сказал он. – Постепенно, по желанию короля Сигизмунда, мы стали промышлять не только Смоленск, входивший некогда в состав польских земель, но и прочие города Руси, включая Москву. Наш король, хотя и не объявил открыто, готов приобрести военным путем Московское царство и присоединить его к Речи Посполитой.
– Це обратилось бы в империю величайшую в мире, – заметил полковник Зборовский. – Я готов к такой судьбе своей родины и всецело поддерживаю замысел короля Сигизмунда.
– Боярское правление предложило нам стать постоем в Москве и таким способом словно бы господствовать над всею державой, – продолжал Жолкевский, выслушав Зборовского. – Но у меня есть опасения и возражения по сему делу. Москва – город большой. Может быть, самый большой среди всей Европы. Город людный, ибо почти все жители Московского государства сходятся в Кремль по своим судебным тяжбам.
– Ну и пусть себе москали судятся между собой сколько им приспичит, если это не касается поляков, – усмехнулся иронически пан Тышкевич, человек грубый и желчный.
Гетман помолчал и продолжил строго, как бы не принимая насмешливый тон Тышкевича и бодро-веселый полковника Зборовского.
– По предложенным планам я должен стать в Кремле. Вы – все другие полки – в Китай-городе, где узкие улицы, много лавок, церквей и огромное число снующего целый день народа. Еще другие – часть нашего войска – расположатся, по боярским планам, в Белом городе. Но в Кремле бывает иногда по пятнадцати, по двадцати тысяч человек, и вшистко[114] мужчины сходного возраста, а многие могут быть вооружены. Им ничего не будет стоить, выбравши удобное время, истребить нас там, ибо пехоты у меня нет. А вы люди до пешего боя неспособные. У них же в руках ворота. – И гетман заключил: – Мне кажется, лучше разместить войско по слободам около столицы. Она таким образом будет словно в осаде.
Но гетману более других воспротивился полк Зборовского. Его гусары, большинство из которых служили в Тушине, не переставали жалеть о развале табора. По крайней мере теперь они надеялись: если Москва будет в их руках, то и казна царская попадет к ним же. А тут гетман обнаруживает опасение и хочет размещать войско в слободах.
Представитель полка Зборовского, некто Мархоцкий, возразил гетману:
– Напрасно ваша милость считает Москву столь могущественной, какой она была во время Димитрия, а нас такими слабыми, как те, которые приехали к нему на свадьбу. Спросите у москвитян. Они вам скажут, что с прихода Ружинского, когда и Москву несколько раз чуть не взяли, и по всей земле шли сражения, погибло у них до настоящего времени триста тысяч детей боярских.
– Я это знаю и без опросов москвитян, пан Мархоцкий.
– И еще то, что царь готовился к войне с Крымом и возле Москвы собрались войска со всей их земли, а нас было всего три хоругви. И то, наших побили и одолели одною изменой. А теперь, если нужно станет, будем биться пеши не хуже москалей. Ваша милость жалуется, будто у вас мало пехоты. Что же? Мы каждый день от каждой хоругви назначим присылать к вам в Кремль пехоту с ружьями, сколько прикажете. Наш полк решил дожидаться в Москве или смерти, или награды за прежние труды.
– Вы говорите сейчас не как воин королевской армии, что исполняет на войне замыслы короля, а как наемник, который думает только о звонкой монете и которому безразлично, чем кончится предприятие.
– Не совсем так, ваша милость. Мы верноподданные нашего государя и хотим для него побед и присоединений новых земель. Недавно мы вступили в мирные сношения с Москвой. И потому стали так беспечны, что большая часть наших находится посреди дня в Москве, а не в обозе. Многие жолнеры и гусары ездят туда так неосторожно, как будто бы в Краков. Еще хуже окажется порядок, если войско разместят по слободам.
Всегда сдержанный коронный гетман вспылил и предложил Мархоцкому начальствовать над войском вместо него.
Однако представитель «свободного рыцарства» отвечал твердо:
– Я начальствовать не хочу, но утверждаю одно. Если вы войска в столице не поставите, то не пройдет трех недель, как Москва изменит. Московиты нас ненавидят за прошлые грехи. И никогда нам не простят. А от своего полка я объявляю, что мы еще три года стоять под Москвой не намерены.
С тем выборные от польского войска разошлись. Жолкевский не внял убеждениям пана Мархоцкого и послал королевского доверенного Гонсевского в Москву. Он предложил боярам отвести ему и прочему войску Новодевичий монастырь и слободы.
Бояре согласились с предложением гетмана, но патриарх возражал: неприлично-де оставить монахинь в монастыре вместе с поляками – мужчинами и католиками. Неприлично и выслать их из-за поляков, осквернив монастырь. Мнение патриарха нашло сильный отголосок у москвитян: около Гермогена начали собираться дворяне, торговые и посадские люди, стрельцы и полковые ратники.
Патриарх дважды посылал за боярами. Тогда патриарх велел передать им: если они не хотят идти к нему, он сам пойдет к ним и не один, а со всем народом.
Бояре приехали в запряженных цугом, обитых изнутри бархатом, тяжелых колымагах и в более облегченных, золоченых каптанах. С охраной из стремянных стрельцов, с нарядными холопами на запятках. Они явились торжественно в патриаршьи палаты и расселись, как в Думе при государях, в расшитых золотом ферязях и горлатных собольих шапках.
Два часа Семибоярщина толковала патриарху, опровергая его слова о коварных замыслах коронного гетмана. Гермоген указал им: Жолкевский нарушает условия, не отправляя своих воевод против калужского вора. Он хочет ввести в Москву польские войска, а русские полки отсылает воевать против шведов – сводит счеты с королем Карлом нашими руками.
Бояре наперебой утверждали, что введение в Москву польских войск необходимо, иначе, мол, чернь предаст ее Лжедимитрию. Иван Романов даже сказал: «Если гетман отойдет от Москвы, то им, боярам, придется идти за ним, чтобы спасти свои головы». Пока толковали, Гонсевский прислал сказать, что гетман завтра же прикажет выслать войска против самозванца, если московские полки будут готовы. Употребить для этого поляков он не собирался.
Затем глава Семибоярщины Мстиславский заявил решительно: пускай-де патриарх Гермоген смотрит за церковью, а в мирские дела не вмешивается. Ибо прежде духовенство никогда не управляло государственными делами. На что Гермоген, возвысив голос, сказал Мстиславскому в глаза:
– Что же, предание государства и народа иноверцам не касается церкви?
Мстиславский побледнел от злобы, а Воротынский покраснел от стыда. Остальные, пряча глаза, опустили головы.
Как бы то ни было, патриарх уступил боярам. Народ, которого ни о чем пока не оповещали, молчал. Решили так: народ тоже уступил.
Ночью с 20 на 21 сентября поляки тихо вошли в Москву, поместились в Кремле, Китай-городе и Белом городе, заняли Новодевичий монастырь. А также ввели конные отряды в Можайск, Борисов, Верею для безопасного сообщения с королем.
Жолкевский на другой день объявил: решение распрей между москвитянами и поляками предоставлено будет равному числу судей из обоих народов. Суд будет беспристрастный и строгий.
Тут же и предъявился случай: какой-то пьяный поляк выстрелил в икону Богородицы над крепостными воротами. Суд приговорил кощунника к отсечению рук и сожжению. Другой поляк насильно увел жену у купца. Преступника публично высекли кнутом. Жолкевский доказывал тем самым, что договор о соблюдении справедливости неукоснительно исполняется. Над стрелецкими полками поставили Гонсевского. Стрельцы согласились, так как тот улещал их подарками и угощениями.
Но мудрый коронный гетман знал: несмотря на все приязненные отношения с жителями и ловкие меры в отношении властей, при первой вести о нежелании короля отпустить Владислава в Москву, вспыхнет восстание. Русские не считали себя завоеванными польским королем, а не присылание королевича и неприятие им греческой веры подтверждали именно это.
Жолкевский знал, что весть об отмене воцарения Владислава может прийти очень скоро и потому спешил оставить столицу Московии. Он должен был спешить для сохранения своей славы, для выхода из положения, которое грозило стать крайне затруднительным и опасным. Он окончил свой поход с успехом, а теперь мог бесславно погибнуть среди восстания вместе со своим ничтожно малым отрядом.
Бояре упрашивали гетмана остаться, но Жолкевский был непреклонен. Он знал, что эта замысловатая политическая интрига закончится яростным всплеском народного гнева, истреблением иноземцев и потоками крови. Когда он уезжал, даже простой люд, платя лаской за его справедливость, забегая вперед перед его кортежем, приветливо кланялся и желал Жолкевскому счастливого пути.
На месте гетмана оставался пока хитрый и жестокий Гонсевский.
И сразу начались стычки между русскими и поляками, жалобы, возмущения и угрозы москвичей. Обязанность везти продовольствие для польского войска возлагалась по договору на подмосковные города и волости. Они расписаны были по разным ротам с указанием количества и стоимости съестного.
Однако с присущей им дерзостью и бахвальством поляки при сборе припасов стали проявлять самоволие, не обращая внимания ни на какие договоры. Они расправлялись с протестующими крестьянами, силою отнимали жен и дочерей, угоняли скотину и при сопротивлении начали применять оружие. Постепенно все подмосковные селения забурлили сходками оскорбленных, желающих отомстить, и проклятиями в отношении боярского правления.
VI
Канцлер Лев Сапега почти метался по своему шатру под Смоленском, прочитав письмо от королевы Констанции, которая писала ему: «Ты начинаешь терять надежду на возможность взять Смоленск и советуешь королю на время отложить осаду. Заклинаю тебя, не давай королю таких советов, а вместе с другими сенаторами настаивай на продолжение осады. Дело идет не только о королевской чести, ибо Сигизмунд поклялся взять город, но и о чести всего польского войска».
А незадолго перед этим канцлер Сапега имел собеседование с посольством от московских бояр. Бояре просили ускорить прибытие королевича Владислава в Москву и крещение его в православие. «Народ московский без государя быть не привык, – говорили послы боярского правительства. – Если им не дать сейчас королевича ими избранного, которому большинство москвитян уже присягнуло, они сочтут действия поляков клятвопреступлением, могут взбунтоваться и пойдут толпами к калужскому Вору. Военною силой этой войны вам не кончить, тем более, если обозлившийся народ вновь обратится к самозванцу как к престолонаследнику Димитрию Ивановичу».
Сапега пошел к королю, едва накинув шубу на придворный кунтуш. Охрана бежала за ним, проваливаясь в сугробы и бормоча сквозь зубы проклятия необычайно снежной зиме.
В королевском шатре, где пылали жаровни в трех местах: перед распятием, по бокам у кресел и обитых коврами лавок, было тепло. Но решение проклятого дела со взятием неприступного Смоленска и отсылание в Москву Владислава с дальнейшим его крещением в веру схизматиков повергали короля в леденящую дрожь.
– Война не может идти хорошо, потому что не только нет средств продолжать ее, но нет средств и долг уплатить, – пояснял находившийся в королевском шатре Жолкевский, прижимая ладони к груди. – Все поляки, не получая жалованья, в отчаянии двинутся в Польшу за этим самым невыплаченным жалованьем. Отсюда ненависть войска к королю, ненависть шляхты, наконец, возмущение общее… И тогда речь пойдет уже о жизни короля и его приближенных, речь пойдет о государстве. Если же королевич будет отправлен в Москву, то у нас будет спокойное соседство. Тогда легко можно будет возвратить Лифляндию и отобрать для вас, государь, узурпированную Карлом Швецию.
Жолкевского поддержал один из панов-сенаторов:
– Большая часть шляхты могла бы получить поместья в Московии, вследствие чего Речь Посполитая будет безопаснее от бунтов, ибо причина восстаний – бедность военного сословия.
– Король, давший Москве сына, приобретет себе вечную славу у своих и у чужих.
– Государь молодой, еще ребенок, будет игрушкой в руках боярских междоусобиц, – возразил пан Замойский. – А окружение его польскими наставниками и руководителями вызовет возмущение москвитян. Ибо народ московский у власти в государстве иностранцев не терпит. Это показал он на Димитрии Первом, погубив его за то, что допускал иностранцев к делам государственным. Если же молодой государь будет вверен московитским воспитателям, то там, по-видимому, нет людей образованных. Они будут воспитывать его в своих обычаях и погрузят дитя в грубость и невежество. Да тут еще постоянное досадное привлечение московских людей в сторону самозванца, уверенно претендующего на престол. К нему с доверием устремляются толпы простого народа, а кое-кто и из высокого сословия. В его не слишком значительном, но боеспособном войске кроме смердов и беглых холопов есть дворяне, боярские дети, казаки…
– Оскорбленный в Москве правящими боярами и осмеянный здесь, у нас, московским посольством, атаман Заруцкий с шестью тысячами казаков ушел сегодня из-под Смоленска в Калугу, порвав с королевским войском, – нарочито отчетливо и громко перебил Жолкевского Лев Сапега.
– Холера ясна! – вскричал король Сигизмунд, удрученный сыпавшимся на него неприятностями. – Кто позволил? Почему мне не доложили?
– Цо докладывать, Ваше Величество, когда казаки ушли с темнотой, в снег и метель… – развел руками Сапега.
– Самозваный мошенник уже сильно перекрывает пути, на кои готова выйти Речь Посполитая… Следовало бы в близком времени его остановить, – мрачно произнес король. Он щелкнул пальцами и оглянулся на вход в свой шатер. – Кстати, панове, я на сегодня не задерживаю вас более. Завтра мы продолжим осаду Смоленска, несмотря ни на какие предложения о перемирии со стороны боярского посольства… Бон нюи[115], – произнес в заключение король, демонстрируя «паризьен»[116].
Канцлер и воеводы удалились. А вместо них перед Сигизмундом предстал широколицый и широкий в плечах, сутуловатый человек. Он слегка кутался в черный суконный плащ с меховой обивкой, не утруждая себя поклоном. Он не снял даже меховой колпак. Подойдя к королю, остановился в двух шагах также молча.
– Ну, Йонтек, ты надумал что-нибудь путное? – озабоченно спросил Сигизмунд.
– Государь, найти что-нибудь путное не так просто.
– Потому я и обращаюсь с этим не к панам, ведающим войсковой разведкой, а к тебе, опытному человеку вне всякого ведомства.
– И это правильно, государь. В нашем лагере немало поклепцев, как говорят русские, и послухов, что означает шпионов. Среди них есть и поляки. Он не такой простой и беспорядочный, тот никому не известный выскочка. Его намерение занять московский престол без помощи Польши или боярских заговорщиков вполне обоснованно. Если ему повезет в какой-то удачный день, он это сделает. И весь народ Руси будет за него. Тогда уж исправить что-то будет трудно.
– Я тоже иногда думаю о том, – задумчиво произнес король.
– Есть одна неиспользованная попытка. А то – дело, которому мы способствовали столько времени, провалилось.
– Ты имеешь в виду отряд немецких рейтаров?
– Да. Сначала все шло хорошо. Он окружил себя немцами. Он им доверял и считал лучшей охраной на свете. Но среди рейтаров нашелся дурак и пьяница, проболтавшийся своему приятелю-торговцу из армян. Они крепко выпили. Немец сказал: «Эта возня в Калуге скоро закончится. Мы ждем подходящего случая, чтобы напасть на “Димитрия Ивановича”. Нам щедро заплатили». Слава богу, он не сказал, кто им заплатил. Они выпили еще, и немец свалился под стол. А торговец побежал в сыскную избу к окольничему Александру Рукину.
– Дальше, Йонтек.
– Их брали ночью по двое, по трое. Совершенно тихо. Все сто рейтаров были разоружены и приведены в пыточный подвал. Под пыткой они так орали и визжали, что слышно было по всему городу. И даже в деревнях за рекой. Немцы сознались, что умышляли против «царя Димитрия Ивановича».
Он приказал всех казнить по-казацкому обычаю: привязывать за ноги к хвосту лошадей и гнать в степь. Говорят, его жена, панна Марина, умоляла пощадить хотя бы некоторых. Наверно, тех у кого с нею были шашни. Но самозванец оказался непреклонен.
– Ха-ха! – развеселился внезапно король. – Это возможно? Я имею в виду поведение панны Мнишек.
– Так болтают, – пожал плечами широколицый Йонтек. – Немцы, растерзанные лошадиными копытами, валялись по степи. Целую неделю вороны рвали и уносили клочья человечины.
– Какая варварская, как пишут в своих хрониках греки и латиняне, скифская казнь… – покачал головой король. – И что же дальше?
– Теперь царь Димитрий окружил себя касимовскими татарами. Так вот что я хотел посоветовать Вашему Величеству, проше простить меня за настойчивость.
– Да, да, я слушаю тебя.
– Вы знаете, может быть, государь, что из Тушина сюда под Смоленск прискакал татарский царь Ураз-Мухамед.
– Почему он называется «царь», а не хан? – удивился Сигизмунд. – Цари, кажется, только у московитов.
– Царь Ураз-Мухамед сам рассказал мне однажды, как он стал царем. Во время взятия Казани царем Иоанном Грозным молодой мурза Ураз-Мухамед предал казанского хана, помогая русскому царю взять город. Не знаю подробностей, но царь Иоанн Грозный наградил Ураз-Мухамеда щедро. Он пожаловал мурзе город Касимов и приказал называть царем. Его подданными стали татары, которых с тех пор зовут касимовскими.
– Так татарский царь здесь? Он принимает участие в осаде Смоленска?
– Да, государь, это так. Ураз-Мухамед, уже старый человек, с усердием помогает полякам против московитов. Он находился прежде в Тушинском лагере и воевал с войском Шуйского. Когда самозванец бежал из Тушина в Калугу, Ураз-Мухамед последовал за ним и некоторое время был среди его войска. Но затем явился к нам, под Смоленск.
Король прошел через весь шатер и сел в свое кресло, напоминающее походный трон. Проходя, он гасил свечи и оставил гореть только в двух канделябрах.
– Когда я увижу татарина? – спросил король.
– Он готов предстать перед Вашим Величеством.
Йонтек вышел из шатра. Вскоре он возвратился, услужливо пропуская перед собой касимовского царя, рослого старика в шубе из меха красной лисы и таком же малахае.
Ураз-Мухамед снял малахай, почти закрывавший пышным мехом его желтоватое лицо, и остался в расшитой золотом тюбетейке. Он говорил по-русски, а Йонтек переводил его слова на польский язык.
– Я желаю от всего сердца быть полезным польскому государю не только в войне, но и в тайном задании, о котором хотел услышать из его собственных уст, – низко поклонившись, церемонно произнес касимовский царь. Йонтек поставил ему кресло с подушкой, обтянутой парчой. Ураз-Мухамед сел напротив короля.
– Благодарю тебя, почтенный и высокий гость, – также церемонно начал король. – Ты ведь знаешь человека, который называет себя «царь Димитрий Иванович» и утверждает, будто он сын великого московского государя Ивана Васильевича. О нем я надеюсь услышать от тебя истину.
– Я знал хорошо государя Руси, царя Ивана, и был им облагодетельствован. Получил от него в управление и собственность город на реке Оке в Рязанском княжестве. Я также знаю, что Димитрий, который сейчас сидит в Калуге и хочет захватить московский престол, не сын царя Ивана. И это истинно. Кто он на самом деле, знает только Бог. Но глупый народ верит ему и спешит в его войско, не ведая, что помогает лжецу и разбойнику.
– Очень прискорбное обстоятельство, – сказал король Сигизмунд. – Жаль, но никому пока не удалось устранить этого вредного нам самозванца.
– Твой доверенный слуга, государь, уже объяснил мне тайное дело, которое ты хотел бы мне поручить. Я принимаю твое поручение, государь. Конечно, оно опасно. Но я сделаю все, что в моих силах. У меня есть причина, из-за которой я могу поехать в Калугу. Там находятся моя жена и сын. Кроме того, там стоит отряд моих татар, они охраняют самозваного Димитрия, хотя их настоящий владыка я, царь касимовский Ураз-Мухамед.
– Разумеется, почтенный и славный царь, если ты поможешь нам в устранении самозванца, то твоя доблесть будет оценена золотом по самой высокой мерке. И ты получишь в собственность еще один город, по твоему усмотрению. В этом я даю тебе свое королевское слово. А твой сын и твои родственники смогут рассчитывать на особое положение при моем дворе в Кракове или там, где они пожелают.
Ураз-Мухамед встал, поклонился Сигизмунду, надел лисий малахай и вышел из королевского шатра, сопровождаемый Йонтеком.
Через несколько дней к калужским воротам подъехали крытые сани, запряженные парой мохнатых, слегка заиндивевших на морозе лошадок. Возница и сидевший с ним рядом были в овчинных тулупах. Из саней выглядывал старик тоже в простой одежде.
– Кто такие? – спросил стражник при воротах.
– Татар смирной, касымов татар, – ответили стражнику.
– Зачем приехали? – Другой стражник оперся на бердыш, прищурился.
– Торгови дела, приехали. С русски купес говорить нада.
– Ладно, проезжайте. Тут ваших много. Татар сотни три.
– Спасыб, батыр. Во бери за то. – Сидевший рядом с возницей протянул стражнику полтину.
– Ого, и тебе спасибо. Следовайте куды надо.
Татары поехали, завернули в узкий проулок. Второй стражник мигнул парнишке лет шестнадцати, переминавшемуся в лаптях поодаль.
– Сенька, глянь-ка за ними. Может, послухи какие. Если чё заприметишь, в сыскную избу. К Ляксандре Васильичу Рукину докласть, понял?
А по ночному времени дом татарина Алаберды Вагапова тихо окружили неизвестные люди. По одежде – мизинные, простота сермяжная. Собаку подманили, пристукнули обухом топопра, чтоб не тявкала. Повозились около двери неслышно, чем-то тыкали в щель – щеколда мешала.
И вдруг в раз выбили и дверь, и окно. Убили в сенях сторожа, силача Ахметку, он хотел встретить ворвавшихся топором. Взяли троих приехавших, хозяина и пятерых его слуг. Женщин, детей не тронули. Сказали только: сидеть дома – и ни звука чтоб.
Взятых повязали, привели в сыскную избу, распределили по чуланам. У троих приезжих под рубахами из каразеи[117] обнаружили тонкие кольчуги, на поясах – сулебы[118] и турецкие короткие пистоли. Денег два кисета – золото и серебро.
Утром пришел Рукин, заспанный, хмурый. Два ката из стрельцов, могучие, рослые, привычные к заплечным делам. И семеро донцов-казаков с саблями на бедре – для помощи и охраны.
– Ну что, царь Ураз-Мухамед, Ваше Величество, что ж пожаловал тайным ходом? Али чего замыслил супротив нашего государя Димитрия Ивановича? Опознали тебя скоро, зря прятался.
– Ничего не замыслил. Зачем плехо про меня говоришь? Хотел жену, сына видать. Больше ничего. Зачем на меня дурное валишь? Ай, нехорошо! Самому государю Митрию Иваничу буду жалиться на тя.
– А кольчуги к чему, сулебы вострые, пистоли?
– Да как же! Кругом война. Кругом разбойник рыскает.
– Ну, ну… посмотрим…
– Сапсем плехо делашь! Отпусти с миром, Аллах велит…
– Аллах-то, конечно. Но сперва твоих ближних к пытке поставим. А уж потом, значит, поговорим дальше.
В середине дня явился «царь Димитрий Иванович». Сначала кивнул Ураз-Мухамеду, потом выслушал Рукина. Тот показал одежду тайно приехавших татар. Потом кольчуги, холодное оружие, пистоли турские. Указал на двух висевших на дыбе, кучера и другого ближнего человека Ураз-Мухамеда. Они уже стонали и хрипели в поту и в крови. Возница сознался, что они приехали из-под Смоленска, из польского лагеря.
– Ну и че? – пожал плечами самозванец и обратился к старику: – Ты зачем тайно приполз, царь касимовский? Если бы приехал открыто, с конными своими татарами, с подарками… Я бы тебя встретил торжеством, барабанами и трубами военными, пиром на всю Калугу… а так – не знаю как тебе верить, царь касимовский.
– Верь мине, Митри Иванич… Я твой дус, друг, иптеш[119]. Верь, якши все будет… Ничего тебе не думал плехо, клянусь Аллахом… Ехал видеть сына, жену…
– Прижечь надо его людишек калеными щипцами, – деловито посоветовал опытный кат Савелий Бударев, рыжебородый, красивый, широкоплечий. И когда запахло жареной человечьей плотью, затрещали под калеными щипцами ребра, и дикий страшный вопль боли потряс пыточную избу, когда заныл и завыл от прикосновения жаркого огня принявший касимовского царя в своем доме Алаберды, стала выявляться правда.
К вечеру, с поникшей бритой головой и опаленной бородкой, касимовский царь Ураз-Мухамед сознался в том, что приехал по указанию польского короля Сигизмунда извести любым способом «царя Димитрия Ивановича», соблазненный обещанием награды в двести тысяч злотых.
Самозванец показал себя великодушным и справедливым. Он отпустил Вагапова, принявшего у себя в доме касимовского царя. Отпустил и его пятерых слуг. Ураз-Мухамеда и тех, кто были с ним, приказал «опустить на воду». Старику сказал перед казнью: жену и сына не тронут.
Касимовского царя и двоих из польского лагеря утопили в проруби.
– Не гоже, государь, отпускать остальных татар, – сказал самозванцу Бударев. – Не было б худа. А то узнают все: бяда…
– Так че? Перебить всех, что ль? И моих телохранителей с Петькой Урусовым?
– Так-то лучше бы, – подтвердил Рукин.
– Не, не буду. Они не при чем, я знаю.
– Гляди, государь, твоя воля, – с сомнением молвил кат.
Рукин только покачал головой, знал упрямство давнего своего знакомца и нынешнего повелителя.
«Димитрий Иванович» любил прогулки на санях по зимней степи в окружении удалых наездников. В бараньих малахаях и теплых бешметах помчались узкоглазые джигиты, уговорив «государя» поохотиться на зайцев. Он приглашал на прогулку и атамана Заруцкого, недавно прибывшего в Калугу с казачьим войском из-под Смоленска. Но тот отговорился наведением порядка и устройства в своих куренях. Справа скакал румяный, с черной молодой бородкой и писаными бровями, крещеный татарский начальник Петр Урусов. А за санями на резвой кобылке трясся шут царский, постельничий и соглядатай Кошелев.
С гиком и свистом всадники поднимали с лежки крупных, серо-голубоватых русаков и гнали их до изнеможения, пока не убивали зайца ударом нагайки. На скаку подхватывали добычу и, показав «царю», привязывали к поясу.
Когда отдалились от Калуги верст на двадцать, Урусов снял с ремня тяжелую пищаль, подъехал к саням и выстрелил самозванцу в грудь. Петька Кошелев тут же развернул лошадь и, нахлестывая плеткой, поскакал к Калуге. Татары бросились за ним вдогон.
– Не надо, пусть расскажет, – сказал Урусов. – А этого разденьте. Совсем.
Джигиты соскочили с коней и, толкаясь, бросились снимать с убитого бархатную шубу на белой овчине с воротником из серебристой лисы. Сняли с ног валенки, изукрашенные вышивкой, с окостеневших рук стянули иршаные[120] руковицы. Едва не подрались из-за кармазинного кафтана, шелковых, толстостеганых шаровар, вязаной поддевки, шерстяного исподнего. Кто-то удачливый подхватил бобровую шапку, кто-то сорвал с мертвеца золотой крест на черном гайтане и иконку Спасителя в позолоченной басме[121]. Наконец отцепили медвежью полость от саней, забрали узорчатые подушки. Выпрягли сытых лошадей, сняли сбрую.
Только лишь на ободранных санях остался голый труп «царя», Урусов вынул из ножен саблю и, нагнувшись, отрубил ему голову. Кровь почти не текла, быстро густея на морозе. Голова слегка откатилась и скоро покрылась инеем.
Крещеный татарин произнес на своем языке какую-то молитву о мщении. И джигиты бежали в степи, опустошая все и убивая всех по дороге.
Неразлучный спутник самозванца, шут Кошелев прискакал в Калугу, ко дворцу. Он вбежал в горницы и, встретив царицу Марину Юрьевну, рассказал о случившемся с ее мужем. Во дворце рядом с царицей находился атаман Иван Заруцкий. Сбежались сподвижники и слуги самозванца. Дикими голосами закричали женщины.
Марина была на сносях и взывала отчаянно к мести за убитого «государя Димитрия Ивановича». Вопль, стоны и плач понеслись по городу. Все понимали, как когда-то в Тушинском таборе, что с исчезновением «истинного» царя не за кого воевать, отстаивая московский престол.
Накинув соболью шубу, с открытой грудью и выпяченным животом, с распущенными волосами Марина выбежала на городскую площадь. Ее окружили казаки, стрельцы, другие ратные люди и простые калужане. Дворяне и боярские дети кричали, что надо сейчас же отомстить за царя.
Казаки с обнаженными саблями, пищалями и ножами бросились убивать касимовских татар. Раздались выстрелы, разнесся звон сабель, истошные вопли раненых и убиваемых людей. Мурзы со своими джигитами защищались отчаянно.
Но их скоро всех перебили, а дворы их разграбили. Потом ярость казаков внезапно прекратилась. Те татары, которым повезло, остались живы. Через день уже никто не собирался им мстить.
– Государь ты наш, ясно солнышко… Погубили тебя нехристи бусурмане клятые… – рыдали женщины, когда голый труп самозванца вместе с головой привезли на санях. Убитого и обезглавленного «Димитрия Ивановича» перенесли в церковный притвор и положили на простую скамью. Голову поставили рядом на отдельный столик.
Как-то невероятно быстро жители Калуги, донские казаки и разные приспешники «государя» о нем позабыли. Поднялась буча в городе из-за того, что всегда мятежный, еще с первого «Димитрия», князь Шаховской захотел уехать в Москву и повиниться там перед боярами.
Тут же появились вожди из толпы, устами которых говорил «мир». Подчас это были люди разумные и грамотные, из приказных или состоятельных торговцев.
– Не отпустим князя виниться перед боярами-изменниками, впустившими в Москву ляхов со злобным змеем Гонсевским, засевшим в Кремле. За отчину воевать надо, за Москву. Ты, князь, человек ратный, опытный, вот и побудь покуда с нами.
– Не пустим князя к боярам-изменникам, пущай остается, – гудела толпа, шарахаясь по площади и обсуждая уже не воцарение на престоле «Димитрия Ивановича», а освобождение от поляков.
А голый труп самозванца продолжал лежать в холодном притворе городской церкви. Морозы в эту зиму были крепкие, и от убитого запаха почти не ощущалось. Иногда кто-нибудь приходил посмотреть на мертвого царя и на отдельно водруженную его голову. Почему-то никто не думал отпевать и хоронить мертвеца. Казалось, работникам при церковном кладбище не хотелось долбить лопатами мерзлую землю. И длилось это лежание почти месяц.
Наконец зашел какой-то седобородый чернец из загородного монастыря. Тоже решил посмотреть. Спросил: кто такой? Ему объяснили со всяческими подробностями.
– Вы бы хоть срам ему прикрыли, ироды, – сердито сказал чернец редким прихожанам. Кто-то принес тряпку, накинул поверх тела. А пришлый старик отправился к настоятелю, протоиерею Артемию.
– Што, отец честный, у тебя в храме нагой, неприбранный, неотпетый царь валяется? – задал ему вопрос чернец. – Бога бы не прогневить, не накликать чего на люд православный…
– А как его отпевать-то, смиренный старче? – позевывая, спросил настоятель и почесал в потылице. – Как казненного али как убиенного мученика?
– Да как убиенного мученика, – поразмыслив, догадался монах. – Его же басурмане неверные погубили. Приказывай, честный отче, а то кабыть нехорошо.
Настоятель Артемий встрепенулся, пошел, наорал на полупьяных работников при храме – велел строгать гроб и копать могилу.
Потом нашел дьякона, пригнал даже хор для отпевания – нескольких замурзанных старушонок. Дьякон разжег кадило. Труп положили в только что сколоченный гроб, приставив голову между плеч, и отпели «невинно убиенного мученика царя Димитрия», похоронив при церкви.
Тем временем царица-вдова Марина Юрьевна благополучно опросталась: родила здорового мальчика. Через три дня его крестили, назвав Иваном. Восприемниками стали верная подруга Марины Юрьевны Варвара Казановская, как и ее патронесса ставшая православной, и «рюрикович» князь Григорий Шаховской.
Вечером был роскошный пир во дворце похороненного бедно «Димитрия Ивановича». Когда красавец Заруцкий и прелестная маленькая царица Марина Юрьевна остались одни, она подвела давнего любовника к колыбели и нежно взяла из нее своего новорожденного первенца.
– Видишь? – спросила Марина. – Глазки, хоть и молочные еще, а видно, что будут карие, как у тебя. И волосики темные. Будут черные, как твои кудри, Иван.
– А, может быть, как твои, любушка моя?
– Нет, как у тебя. Посмотри лучше, он уже сейчас похож на тебя.
«Может, больше на Яна Сапегу или на царя Димитрия? – подумал с легкой насмешкой в душе Заруцкий. – Или еще на кого-нибудь из польских шляхтичей или московских князей?»
– Я знаю, это твой сын, – продолжала настаивать Марина Мнишек. – Женщина всегда верно знает, от кого ее ребенок. Это твой сын, Иван Заруцкий. И он будет царем Московии, он займет трон. Я все усилия для этого приложу. Я, коронованная в Успенском соборе Московского Кремля, царица Руси. Но и ты должен со своими казаками освободить Москву от католиков-поляков. И когда Кремль будет от них свободен, мы предъявим свои права на престол для своего сына Ивана. Пусть все думают: Иван, Ванечка – сын Димитрия, внук Ивана Васильевича Грозного, государя Великия, Малыя и Белыя Руси и прочих земель.
– Что ж, я вызываю донские курени и присоединяюсь к ополчению, которое собирает рязанский воевода Ляпунов, чтобы совместно с другими начинать изгнание поляков из Москвы.
Вскоре родившегося младенца Ивана провозгласили в Калуге царевичем.
Но при всеобщей смуте новорожденный ребенок плохой вождь, и калужане должны были исполнить требование московского правительства целовать крест Владиславу. Сначала возникло некоторое сопротивление. Однако, когда представитель Семибоярщины князь Трубецкой явился со стрелецкими полками, все покорились и целовали крест всем городом.
Атаман Заруцкий с Мариной, ее ребенком и близкими людьми за день до этого покинули Калугу во главе донских куреней, двинувшихся к Москве.
Смерть Лжедимитрия II была вторым поворотным событием в истории Смутного времени, считая первым вступление Сигизмунда в пределы Московского государства. Теперь, после смерти самозванца, у короля и его московских приверженцев более не было предлога требовать дальнейшего продвижения королевского войска в русские земли, не было делом чести осаждать Смоленск. Боярская верхушка, которая желала бы лучше видеть на престоле Грановитой палаты королевича Владислава, чем увидеть снова занявшего трон самозваного «казацкого» царя, теперь освободилась от этого страха. Она почувствовала свободу выдвижения престолонаследника из своих рядов и могла действовать для собирания сил против поляков.
Старый и верный слуга Речи Посполитой предатель Салтыков в тревоге писал Сигизмунду, что патриарх призывает к себе всяких людей совершенно открыто и говорит им: «Если королевич не крестится в христианскую (православную) веру и все литовские люди не выйдут из Московской земли, то королевич нам не государь, а и крестоцелование ему не признавать. Все москвичи и посадские, и большие, и мелкие люди стоять против поляков хотят твердо».
Если отдельные города еще из робости не совсем отказывались от присяги Владиславу, то духовенство говорило решительно. Так соловецкий игумен Антоний послал шведскому королю Карлу IX грамоту следующего содержания: «Божией милостию в Московском государстве святейший патриарх, бояре и изо всех городов люди сходятся в том, чтобы стоять единомышленно на литовских пришельцев, и хотят выбирать на Московское государство царя из своих прирожденных бояр, кого Бог изволит, а иных земель иноверцев никого не хотят».
Однако Русская земля была еще на долгих три года ввергнута в тяжелые испытания и страдания от польской оккупации, бесцарствия, междоусобиц и измен.
Лишь в 1613 году силой всенародного ополчения во главе с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским и Кузьмой Мининым, сбросив с себя иго польских завоевателей, русский народ избрал царя, законного, всеми признанного государя Михаила Романова, юного отпрыска патриарха Гермогена, который никогда не думал и не мечтал прежде, подобно многим знатным или худородным своим соотечественникам, о шапке Мономаха, о царском престоле в Грановитой палате Московского Кремля.
Примечания
1
Епанча – длинный и широкий плащ.
(обратно)2
Каптана – карета, привезенная из Европы.
(обратно)3
Бавилиться – играть, забавляться.
(обратно)4
Впрочем, другие летописи поминали сто двадцать тысяч умерших.
(обратно)5
Фроловская – ныне Спасская башня Московского Кремля.
(обратно)6
Хлынью – рысью.
(обратно)7
Шугай – род полукафтанья, укороченный кафтан.
(обратно)8
Храм Василия Блаженного.
(обратно)9
Алчба – жадность.
(обратно)10
Горлатный – сшитый из меха с передней части шеи пушного зверя.
(обратно)11
Казить – искажать, изменять смысл.
(обратно)12
Баять – говорить, рассказывать.
(обратно)13
Вятшие – родовитые.
(обратно)14
Выя – шея.
(обратно)15
Гедиминовичи – князья, происходившие от великого литовского князя Гедимина; Рюриковичи – от варяжского князя Рюрика.
(обратно)16
Вор – здесь: бунтовщик, изменник.
(обратно)17
Слань – галоп.
(обратно)18
Бешмет – долгополый суконный кафтан восточного типа (татарский, черкесский).
(обратно)19
Куколь – подобие капюшона.
(обратно)20
Имеется в виду новгородский и киевский соборы Св. Софии. Печерский древний киевский монастырь, как и сам Киев, был в те времена на территории Польско-Литовского королевства (Речи Посполитой).
(обратно)21
Жигимонт – польский король Сигизмунд III.
(обратно)22
Ярыга, ярыжка – мелкий служащий царского учреждения (приказа).
(обратно)23
Янычары – гвардия турецкого султана.
(обратно)24
Лалы – рубины.
(обратно)25
Бахари – болтуны, пустословы.
(обратно)26
Ксендз (польск.) – католический священник.
(обратно)27
Нунций – представитель римского папы в католических странах.
(обратно)28
Кунтуш – нарядный польский кафтан.
(обратно)29
Обширная территория в верховьях Дона, Сев. Донца и Днепра.
(обратно)30
Жолнер – рядовой пехотинец польского войска.
(обратно)31
Шведский король Карл IХ – прадед знаменитого Карла XII, побежденного Петром I.
(обратно)32
Пожар – старинное название большого пустыря, оставшегося после набега крымского хана Девлет-Гирея.
(обратно)33
Епитрахиль – часть облачения священника; панагия – нагрудный знак архиерея.
(обратно)34
Синедрион – по Евангелию, осудивший Христа совет священников иерусалимского храма.
(обратно)35
Рында – юноша из знатной семьи, в обязанности которого было сопровождать царя с топориком на плече; рынды одевались во все белое – шапки, кафтаны и сапоги.
(обратно)36
Баской – красивый.
(обратно)37
Новинское – село в предместье Москвы, сейчас Новинский переулок.
(обратно)38
Вабило – предмет призыва для возвращения к охотнику полетевшего за добычей сокола или кречета. Употреблялись барабаны, колокольцы или бубенцы.
(обратно)39
Шушуны, армяки, однорядки – верхняя одежда русского простонародья.
(обратно)40
Сарацинское зерно – рис.
(обратно)41
Фряжские вина – итальянские или французские.
(обратно)42
Кика – богатый женский головной убор.
(обратно)43
Кумган – восточный кувшин особой формы.
(обратно)44
Парсуна – портрет, картина.
(обратно)45
Окольничий – высокая придворная должность.
(обратно)46
Чудская – финская.
(обратно)47
Ферязь – длинный, расшитый дорогой боярский кафтан с высоко поднятым воротником.
(обратно)48
Кат – палач.
(обратно)49
Свей – швед.
(обратно)50
Рундук – разновидность сундука, лавка с подъемной крышкой.
(обратно)51
Мизинные люди – простонародье.
(обратно)52
Романея – виноградное вино, французское или итальянское.
(обратно)53
Кутафья башня – выносная, соединенная с Кремлем мостом через Неглинку.
(обратно)54
Распашница – женская легкая одежда с широкими рукавами и украшениями.
(обратно)55
Гости – купцы, богатые торговцы.
(обратно)56
Замужние женщины, желавшие «погулять», или лиходельницы, как их называли в народе, держали в зубах колечко.
(обратно)57
Способ курения табака, наподобие кальяна.
(обратно)58
Калита – мешок кожаный, сумка для денег.
(обратно)59
Тать – вор, грабитель.
(обратно)60
Глаголица – одиночная виселица в виде буквы «Г».
(обратно)61
Десница – правая рука.
(обратно)62
Сумные – печальные, задумчивые.
(обратно)63
Вино с махом – с маком.
(обратно)64
Басотность – украшение, красота.
(обратно)65
Сулица – короткое копье, дротик.
(обратно)66
Сиверко – холодный, северный ветер.
(обратно)67
Прапор – флажок на длинной трости.
(обратно)68
Ногаи – тюркское племя, некогда входившее в состав Золотой Орды.
(обратно)69
Дробницы – блестки из раздробленных самоцветов.
(обратно)70
Рота – клятва, присяга.
(обратно)71
Лютеранами.
(обратно)72
Марина Мнишек была не лютеранка, а католичка.
(обратно)73
Зипун – крестьянская верхняя одежда.
(обратно)74
Рокош – сопротивление, бунт против королевских установлений.
(обратно)75
Арцыбискуп – в данном случае: архиепископ.
(обратно)76
Коло – общевойсковое собрание у поляков.
(обратно)77
Однорядка – длинный кафтан, застегивался на один ряд пуговиц.
(обратно)78
Мурмолка – шапка, в настоящее время называемая «боярка».
(обратно)79
Голубец – икона на столбике с лампадой, прикрыта остроконечной крышей. Ставились на улицах, на перекрестках дорог.
(обратно)80
Ратай – пахарь.
(обратно)81
Королевич Густав – сын шведского короля Карла IX.
(обратно)82
Ушканы – зайцы.
(обратно)83
Туга – беда, несчастье, от этого слово «тужить».
(обратно)84
Замятня – бунт, восстание.
(обратно)85
Захребетники – зависимые от богатых и знатных людей прихлебатели.
(обратно)86
Чухна, чухонцы – финны, эстонцы.
(обратно)87
Кнехт – наемный пехотинец незнатного происхождения в ряде стран средневековой Европы.
(обратно)88
Пуританское – северное толкование протестантского вероучения, отличалось особенной суровостью.
(обратно)89
Темники – полководцы.
(обратно)90
Свеи – шведы.
(обратно)91
Азям – крестьянская домотканая одежда из овечьей шерсти.
(обратно)92
Шадроватое лицо – с оспинами.
(обратно)93
Разумиешь? (польск.) – Понимаешь?
(обратно)94
Сигизмунд III, король Польши, и Карл IX, король Швеции, происходили из династии Ваза.
(обратно)95
Кожух (польск.-укр.) – верхний кафтан.
(обратно)96
Паки и паки (церк.-слав.) – еще и еще…
(обратно)97
Шуйца – левая рука.
(обратно)98
Столбунок – тесно прилегающее женское платье из шерстяной ткани, часто украшалось меховой оторочкой.
(обратно)99
Таусинный – темно-синий.
(обратно)100
Билль – закон в английском парламенте.
(обратно)101
Строгановы – крупнейшие русские купцы и промышленники еще с царствования Ивана Грозного. Часто занимали деньги царю.
(обратно)102
Тегилей – толстостеганый, с нашитыми металлическими бляхами, боевой кафтан.
(обратно)103
Посад – предместье города.
(обратно)104
Ураз-Мухамед при взятии Казани Иваном Грозным был на стороне русского царя. После победы Грозного Ураз-Мухамед за свое предательство получил город Касимов на Оке, управление над касимовскими татарами и право называть себя «царь».
(обратно)105
Жупан, кожух – польская мужская верхняя одежда.
(обратно)106
Фра (ит.) – брат, обращение к католическому монаху.
(обратно)107
Кирпатый – рябой, очевидно, Валуев был рябоват.
(обратно)108
Церковная традиционная поговорка, говорящая о терпении и смирении.
(обратно)109
Кафир, или гяур, – неверный, немусульманин.
(обратно)110
На самом деле Василию Шуйскому едва исполнилось шестьдесят.
(обратно)111
Дзинькую бардзо (польск.) – очень благодарен.
(обратно)112
Йок – нет.
(обратно)113
Якши – хорошо.
(обратно)114
Вшистко (польск.) – все.
(обратно)115
Бон нюи (фр.) – доброй ночи.
(обратно)116
Паризьен – парижское произношение французского языка.
(обратно)117
Каразея – ткань из грубой шерсти.
(обратно)118
Сулеба – род короткого меча.
(обратно)119
Дус, иптеш (татарск.) – друг, товарищ.
(обратно)120
Иршаные – замшевые.
(обратно)121
Басма – тонкое чеканное серебро.
(обратно)
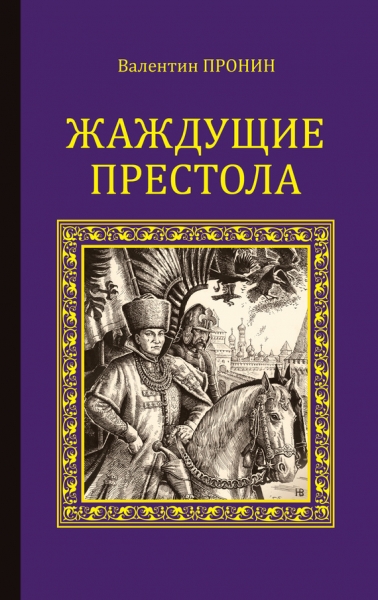

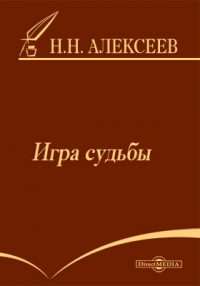
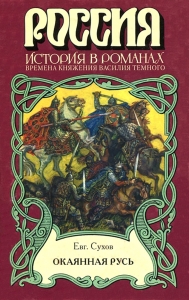
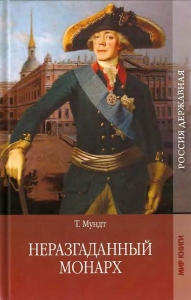

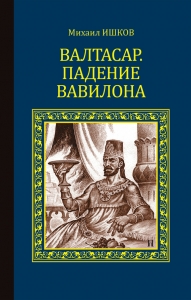
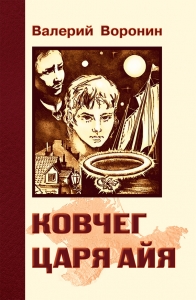
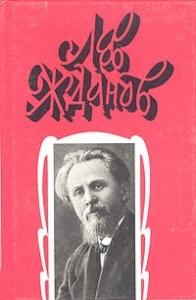
Комментарии к книге «Жаждущие престола», Валентин Александрович Пронин
Всего 0 комментариев