Антон Савин
Радуга прощения
Повесть
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Пушкин
I
Начиная эти записки, я, наверное, в первую очередь должен буду объяснить, почему я нахожусь не там, где обязан бы по всем законам судьбы. Нелегко осознавать, что все друзья твоей юности оказались по одну сторону барьера, а ты - по другую. Да, все они или умерли со славою на бесславных полях России, или доживают в тихих европейских мирах, сохранив свою честь, но затушив в себе огонь молодого любопытства, который не захотел тушить я.
Жизнь моя началась чуть раньше двадцатого века, как классическая сказка: я был бедным отпрыском благородного рода. Прокуренным и эсерствующим студиозусам я казался "белоподкладником", и элементарное владение хорошими манерами действительно перенесло меня в среду таковых. Мы единственные посещали занятия в пустынных залах Петербургского университета во время студенческих забастовок и беспорядков, не нацепляли красных кокард на шляпы, не кричали девушкам в лицо красивые слова справедливости на различных сходках.
У поэта Гумилева есть строка: "Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья". Я тоже ступаю по одной большой могиле, имя которой - Россия. И закономерен вопрос: почему я так долго не нахожу себе в ней спокойного сна?
В университете я познакомился с неким человеком по фамилии Полторацкий. Он тоже аккуратно появлялся в аудиториях во время забастовок, но было известно, что он член партии, начинавшей входить в моду и чуть подточившую монополию эсеров на молодые умы, - партии эсдеков, социал-демократов. Однако социалистической истерии он оттуда не вынес и, видимо, занял очень осторожную и выжидательную позицию.
Думая подобным образом, я принял его за совершенно двуличного человека и потому поначалу сторонился. Но постепенно завязалась наша дружба - я был не настолько разборчив, как мои друзья-белоподкладники, чтобы во имя каких-то идейных разногласий презреть живую беседу и отринуть общество человека крайне гибкого ума, на которого Полторацкий походил более всех других студентов курса. Он совершенно не докучал мне своей идеологией, зарекомендовав себя человеком светским в высшем смысле этого слова.
Вскоре после того, как мы закончили университет, на страну опустилась смута. Поступив на государственную службу в период власти правительства Львова-Керенского, я по особому делу оказался на несколько месяцев в Москве, которую никогда не жаловал и в которой впервые остановился. Тем отрадней был неожиданный визит Полторацкого, неисповедимыми путями нашедшего меня в этом городе, где каждый домишко, казалось, затаился в гаденьком ожидании.
Как сейчас помню: было лето, уже отцвело все, что могло цвести, центральные улицы были завалены окурками, заплеваны и грязны. Радостные москвичи поговаривали о сносе памятника Пушкину. А Полторацкий сидел на стуле возле моей кровати и улыбался. Он всегда, сколько помню, был высокий, тощий, сутулился и элегантно курил - я на радостях даже разрешил ему делать это в моей комнате. Теперь он открыто говорил о своей принадлежности к эсдекам. Я вежливо заметил, что меня все это мало интересует.
- Я же говорю не то, что пишут на лозунгах! - засмеялся он. - Есть те идеи, ради которых все это действительно затевается!.. Ведь тебя всегда интересовало все пограничное, все запредельные качества человеческой сущности. Мы желаем иметь неограниченное право на эксперимент - в этом и есть сущность всей борьбы, которая ведется сегодня немногими умными людьми. Духовное горение - пожалуйста! То, что ты и подобные тебе богоискатели называют вслед за попами нестяжательством, - пожалуйста!
- Попрошу уволить меня от этого титула!.. - замахал я, помнится, руками.
- Да все вы богоискатели! - парировал Полторацкий. - Все вы Вячеславы Ивановы...
- Так и ты посещал вечера на башне. Значит, и ты богоискатель?
- Не совсем... Но слушай дальше. Что можете предложить вы, дворянство? Ваша жизнь правильна и скучна, наша - адски весела!
- Тоже мне нашелся Мефистофель доморощенный...
- Всякое великое дело начинается по-провинциальному, - парировал Полторацкий. - Жители Назарета тоже, наверняка, называли Христа доморощенным пророком... Но ты слушай дальше. У нас одна проблема: мало благородных людей. Каждый такой будет на вес золота! Подумай: многие будут набивать карманы царским золотом, многие халифы на час будут заводить огромные гаремы, но не обязательно использовать свой шанс так бездарно...
- Все это не очень убедительно и не так уж оригинально. Подобное в истории бывало...
- А главное, хотим ли мы с тобой этого или нет, будет большая смута, неисчислимые жертвы и унижения. И неужели все это пропадет зря?! Нужно же придавать смысл даже самым бессмысленным явлениям! Немногие на это способны, но ты, Датнов, как раз из этих немногих. И не будет ли это придание смысла твоей прямой обязанностью, а отказ от нее - преступлением перед будущим и собственной совестью?.. Я вот решил, что для меня - будет.
Последние фразы Полторацкий произнес совсем с иным выражением, чем предыдущую полупафосную, полушутливую речь. И именно они заставили меня признать в некотором смысле его внутреннюю правоту.
Впрочем, тогда наш разговор не имел никаких реальных последствий. До известных событий октября я больше не видел Полторацкого. Не видел я его еще год, и вот в момент, когда решился выехать из Петрограда навстречу наступающим войскам Юденича с твердым решением пробиться к белым или погибнуть - хотя бы потому, что умереть с голода казалось позорней и мучительней, - этот человек возник снова.
Он отвез меня в какую-то специальную столовую и после царского ужина предложил службу у Луначарского в большевистском министерстве культуры и просвещения. Я согласился. Мое высокое мнение о Полторацком особенно утвердил тот факт, что, являясь моим спасителем от голода или красноармейской пули и прекрасно осознавая это, он ни в коей мере не считал себя благодетелем и в беседе со мной не подпустил в свой голос ни малейшего барственного оттенка, столь соблазнительного в таком случае.
Однако через пару лет комиссариат просвещения окончательно превратился в неприятное и бесхлебное место, где обещанное право на эксперимент осуществлять стало решительно невозможно. Вдобавок таганцевское дело, по которому был расстрелян поэт Гумилев, в слабой мере касалось и меня, так что отъезд из Петербурга был бы шагом очень желательным. Правда, я не знал, что этот отъезд станет окончательным и вряд ли в своей жизни увижу я когда-нибудь город, которому обязан всем.
Я слышал, что Полторацкий переведен на службу куда-то в провинцию, но тем не менее часто наезжает в бывшую столицу. В один из этих визитов я нашел его. Он очень обрадовался моему желанию попасть к нему, долго расхваливал место, где ему теперь приходится жить, по-свойски ругал большевистских правителей за недостаточное внимание к провинции, говорил, что, прежде чем перестраивать огромную страну и пытаться обрести власть над целым миром, хорошо бы сделать подлинно новым хотя бы один незначительный городок.
Я принял пост помощника прокурора города Энска. Новое назначение, казалось бы, больше подходило мне по существу - ведь я окончил юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета, одновременно являясь слушателем Духовной академии. В академии такая форма образования обычно не приветствовалась, но, поскольку ректор ее был старинным другом нашей семьи и сильно благоволил ко мне, для моей персоны было сделано исключение.
Однако Полторацкому я сказал, что если в прежние времена я и имел мысли о реформировании закона, если и подразумевал некоторое внешнее упрощение законодательных форм с целью избавления суда от ханжества и элементов фарса, то, по существу, собирался усложнять их, а вовсе не давать правовое обоснование воровству и моральное - хамству.
Столь резкие мои слова Полторацкого не смутили - мы с ним всегда говорили начистоту.
- Ну и что? Отринь ты старые принципы отстраненного благородства! Ведь если б сам Господь Бог придерживался подобных принципов, мир бы до сих пор не был создан.
- Но ведь если закон напрямую говорит, что нужно наказать правого и...
- Вспомни наши мудрые русские поговорки, ими и руководствуйся. Первая: до Бога высоко, до царя далеко. Вторая: закон что столб - не перелезешь, а обойти можно. То есть, находясь формально в рамках советской юриспруденции, ты можешь заняться собственным малым законотворчеством... соблюдая, конечно, всю возможную осторожность. В этом и есть главное из преимуществ провинции, о которых я тебе толковал.
- Но ведь мне придется участвовать в политических делах, а на это я никак не могу согласиться!
Тут Полторацкий усмехнулся и достал откуда-то маленькую книжку на скверной бумаге, которая называлась уголовно-процессуальным кодексом РСФСР. Там он указал мне статью, согласно которой для всех преступлений против большевистского порядка управления первой инстанцией являлся губернский суд. А ведь город, в который я отправлялся, хоть и получил за пару десятилетий до революции статус губернского, но теперь при какой-то административной перепланировке вновь оказался уездным.
И впоследствии, когда я рассматривал его панораму, открывающуюся из-за широкой спокойной славянской реки с другого, плоского и лесистого берега, то в каждой линии церквей, усадеб и простых деревянных домишек как будто видел обиду, горестное и покорное, какое-то детское удивление этой несправедливости судьбы. Поскольку меня всегда подводило не в меру развитое воображение, очень может быть, что эту обиду я просто выдумал. Большинство обывателей, конечно, мало об этом задумывались, и лишь малая часть интеллигенции и новых правителей огорчались, что их обходят блага, положенные губернскому центру.
Сразу после прибытия в город Полторацкий сообщил мне, что фактический властитель края, председатель местного отдела ЧК, помощником которого служил ныне мой университетский товарищ, является большим почитателем оккультных и даже дьяволопоклоннических практик.
Хотя мысль о борьбе за власть на провинциальном большевистском небосклоне и не могла прийти мне в голову, однако обеспечить как можно большую свободу действий для своих целей я был должен. Правда, тогда я довольно смутно представлял, какие это будут цели, но справедливо полагал, что со временем они появятся и требовательно пожелают своего практического воплощения.
Итак, я решил войти в доверие к уездному диктатору - Богдану Степановичу Зипунову. Вдобавок чувство справедливости всегда заставляло меня выслушивать не только голос христианских пастырей, но и их оппонентов, что я не раз осуществлял в Петербурге. Теперь же мне хотелось увидеть влияние живого оккультизма на умы людей новых, простонародных и потому наивных во всем, что не касается повседневной жизни.
Зипунов идеально подходил для моей задачи. Это был не очень молодой человек лет за сорок, начинающий полнеть, в штатском он выглядел существом довольно мирным. Была, впрочем, и одна внешняя черта, по моим наблюдениям характерная для палачей, служащих новой власти: какая-то совершенно гладкая, даже масляная кожа лица, подобная той, какая у обычных людей бывает на лысинах.
Лестно представленный Полторацким как "преданный товарищ", я нашел любезный прием и сразу начал нащупывать будущие пути. Во второй, более неофициальной части разговора, когда Зипунов уже перестал давать советы-приказы по искоренению всяческих империалистических недобитков, я осторожно намекнул, что среди прочего занимался в столице оккультными науками и даже проводил на квартирах заинтересованных лиц небольшие радения-мессы. Вскоре я получил приглашение совершить подобное в присутствии всей большевистской верхушки города и после месяца приготовлений приступил к оному.
Все было настроено на то, чтобы восхитить воображение провинциалов. Я возливал бутылку специального вина из чекистских запасов на обнаженное тело девственницы - с трудом отысканной крестьянки-сиротки. На следующих мессах она была заменена более спокойной Аленой - миниатюрной девушкой из приличной городской мещанской семьи, одной из учениц бывшей епархиальной гимназии, где я и познакомился с ней после того, как выступил перед гимназистками с рассказом о своих впечатлениях от общения с представителями петербургского Серебряного века.
Раз в месяц, откинув свои светлые кудрявые волосы, обнаженная Алена спокойно, с детским безмятежным любопытством смотрела на участников мессы, на их горящие сосредоточенные глаза, на великолепие форменных кителей, пока я с быстро приобретенной ловкостью собирал протекшее по ее животу и груди вино в специально заказанный сосуд, формой напоминающий плоскую воронку. Она вздрагивала - вино все-таки было холодным, - и вскоре я стал чуть нагревать его после погреба, потому что Алена мне понравилась своим на редкость приятным, спокойным характером и причинять ей лишние неудобства не хотелось. Собрав вино, я делал торжественный немалый глоток и передавал Зипунову, тот отхлебывал и вручал воронку Полторацкому, после чего она обходила остальных по мере понижения их ранга. Всего в комнате находилось не более восьми человек - за исключением тех случаев, когда к чекистам заглядывали их сослуживцы из соседних уездов.
Так же вдохновенно воспевал я "молитвы" в виде различных декадентских стихов, которые моя прихотливая память всегда сохраняла в количестве, пропорциональном их цветистой пошлости. После радения мы с Аленой уходили в каморку, где я обтирал ее полотенцем и помогал одеваться. Поскольку происходило это действо, как и положено оккультной мессе, в весьма поздние часы, я как правило провожал ее до дома, находящегося на окраине города. Обычно для нас выделялась специальная бричка, которой я лично правил, но иногда мы прогуливались под ручку и, хотя говорили по дороге мало, не чувствовали себя скованно. Все немалые деньги, выделяемые из чекистских богатств, Алена безропотно отдавала своей матушке, бывшей в курсе дела.
Поначалу многие чекисты после мессы сватались к ней на одну ночь, но тут случился парадокс: хотя и считается, что черный оккультизм поощряет всевозможный разврат, непременное требование девственности в этом обряде служило наилучшей защитой для Алены. Менять же девушек каждый раз было все-таки чересчур для нравственности уездного города, к тому же я не раз говорил Зипунову, что именно Алена подходит для избранной роли чрезвычайно. Поэтому он опекал ее чистоту лучше, чем самый строгий отец.
Постепенно месса потеряла очарование новизны, однако я с самого начала рассчитывал на то, чтобы прежняя прелесть перетекла в новую силу привычки. Действительно, все мы - чекисты, я, Алена - привыкли к этому смешному обряду, и он стал приятен для нас, как чашка домашнего чая по возвращении со службы. Даже эротизм мессы вылился в какое-то семейное чувство, так что многие чекисты до или после возлияния заговаривали с Аленой со спокойной нежностью и бескорыстной предупредительностью. В эти моменты и я чувствовал странное удовлетворение, хотя с точки зрения знаменитых петербургских оккультистов обряд был состряпан бездарно и безграмотно, чувствовались, что после него уездные палачи в черных одеждах обретают некое им самим неясное подобие сострадания к слабому.
После первой мессы с участием Алены мне передали повеление срочно явиться пред очи Зипунова. В приемной я гадал о своей дальнейшей судьбе: пронеслась мысль о том, что, если я не выйду отсюда на волю, получится неловко: я еще не платил квартирной хозяйке за этот месяц. Более серьезные переживания не тревожили меня потому, что в новой России я постоянно ожидал ареста и столь многократно прорепетировал его в своем сознании, что бояться попросту надоело.
Однако томиться мне пришлось недолго: чекистский командующий встретил меня радостно, даже его кожа казалась еще более блестящей, чем обычно. Он поведал мне, что узнал о выступлении самого товарища Троцкого, в котором этот гений большевизма призывал начать по стране кампанию по возведению памятников жертвам христианского культа, тем, кто выражал на страницах Библии бунтарский дух и тягу к освобождению человека от несправедливого гнета божеских сил. И вот Зипунов выбирал между двумя вариантами: Люцифером и Каином.
- Я бы порекомендовал поставить памятник Иуде, - ответил я. - Этот персонаж более близок нам по времени, более конкретен и потому понятнее народу.
- Как точно сказано - понятнее народу! - умилился чекист. Замечательная у вас идея! Как я только сам не догадался? Конечно, Иуда и никто другой! Завтра же начнем...
- А кому думаете передать заказ? - перебил я вопросом восторг чекиста.
- Да есть тут у нас один, хе-хе... Местное дарование, так сказать. Вы видели его памятник Марксу в сквере и еще жертвам революции на площади...
Тут я обрушил на неведомого художника весь сарказм столичного снобизма. Бедный Зипунов аж покраснел, и мне стало его жалко. Уже возлюбленная им идея рушилась на глазах, и я смилостивился:
- Я знаю нескольких петербургских художников и скульпторов. Уверен, что им будет доступна вся глубина столь противоречивого, метафизически сложного образа...
Властитель уезда смотрел на меня, как окончательно присмиревшая кобра на своего укротителя.
Сложнее было уговорить столичных знакомых. Но через месяц напряженной переписки один из них соблазнился оригинальностью идеи и немалым вознаграждением из городской казны, которое расщедрившийся Богдан Степанович даже увеличил из собственного кармана, и вслед за мной прибыл в Энск.
Ради Иуды даже передвинули на более незавидное место памятник жертвам революции. Христопродавец был изображен в виде тонкого, вьющегося, как змея, человека, одной рукой рвущего на себе висельную петлю, а другую, сжатую в кулак, воздергивающего к небу не то в ненависти, не то в мольбе. После установки памятника новое уездное барство устроило такой званый ужин в честь отбывающего скульптора, какого город не знал и в бытность свою вотчиной князя Ромодановского, сподвижника Петра Великого.
Однако, несмотря на такое обожание, столичная знаменитость поспешила уехать, по-дружески посоветовав мне сделать то же самое.
Я понимал справедливость этого совета, понимал, что еще немного - и если суждено мне будет что-нибудь увидеть, кроме убогих двухэтажных присутственных зданий да моря деревянных домишек вокруг, то только северные соловецкие зори. Но я не спешил отсюда, получая тайное спокойствие в том, что увидел в возрасте двадцати восьми лет конец своего пути.
Теперь часто проходил я на службу мимо Иуды и заставлял себя смотреть на него. Я вспоминал о людях, влачащих свое существование на чужбине, о том, что я должен быть среди них, а вместо этого предал то, что меня растило, воспитывало, что я впитал с первыми нежными материнскими словами, что позволило мне стать мыслящим человеком, - старую Россию, столь ласковую когда-то ко мне, и мне казалось, что я предал на смерть старую родственницу, пусть немного выжившую под конец из ума. А моя награда? В иные моменты, когда сек мерзкий провинциальный дождичек, пресловутое право на эксперимент казалось мне еще ничтожнее тридцати сребреников товарища по несчастью.
Но я одергивал себя, заставлял думать: что-нибудь одно ослепительно новое я еще сумею сотворить. Пусть одно - но какое! Так думал я и, отвернувшись от памятника, выискивал в глубинах своего сознания страшную и горючую идею.
II
Одним из первых моих знакомых в Энске был отец Арсений Медякин, священник обновленческой церкви. В первый раз я увидел его незадолго до истории с Иудой в кабинете того же Зипунова. Как известно, советская власть в целях борьбы с православием поддерживала "живую церковь" - новых раскольников, заявивших о коренной реформе всей церковной практики. Поэтому неудивительно, что Медякин приходил за инструкциями и позволениями в уездное отделение ЧК, вершащее судьбу края и совершенно подмявшее под себя декоративные советы.
Я взялся проводить священника к его храму, благо он находился напротив моего учреждения, и по дороге мы завели беседу о спорных вопросах богословия. И только в третью встречу я как-то между делом сообщил отцу Арсению, что ни в коей мере не являюсь христианином, чем очень его удивил.
- Помилуйте! - вскричал молодой батюшка. - Мы же с вами обсуждали тонкости восприятия Святой Троицы в разные эпохи и в современности, и тут вы...
- Дорогой Арсений, я могу плениться красотой любой идеи, даже если ее не разделяю! Кроме того, мне искренне хотелось помочь вам в вашей идее обновить христианство и указать наилучшие пути для такого обновления - из тех, которые вообще возможны в лоне этого мировоззрения, - не противореча стилистически самим основам его, что было бы, согласитесь, смешно... В конце концов я даже под благословение к вам ни разу не подошел!
- Ну, - махнул рукой Медякин, - этого от вас, столичного барина, я никак и не ожидал: лобызать руку какого-то провинциального батюшки, вдобавок такого же молодого, как и вы сами. Но что вы вообще отрицаете суть Христа...
- Нет, отец Арсений, я ничего не отрицаю. На все вопросы жизни у меня есть два ответа: "да" и "не знаю", - а ответа "нет" у меня нет, извиняюсь за грубый каламбур. Это элементарная логика, поэтому и странно утверждать, что наука, которая построена на этой самой логике, отрицает существование Бога. Наука вообще ничего не может отрицать. А насчет моего восприятия христианства - это как раз и есть то "не знаю", которое единственное противостоит твердому "да". Поэтому предлагаю остаться друзьями и дальше спорить по разным вопросам, ибо я уверен, что любая мысль и любое слово, выступающие за пределы обыденности, уже не останутся сказанными зря...
Про желание указать "наилучшие пути для обновления" я сказал неспроста - нужно признать, что попытки в этом направлении самого отца Арсения часто оказывались совершенно нелепыми. Чего стоит один вынос престола из алтаря на середину церкви в процессе литургии, чтобы-де центр богослужения неожиданно и чудесно переместился в центр скопления верующих. Закончился этот фарс тем, что два слабых пономаренка не удержали большой стол и уронили его при всем средоточии народа на ступени солеи.
Сам по себе Медякин был детина большого роста, не то чтобы худой, но какой-то телесно слабый и разделенный как будто на две части, ибо любил очень туго препоясываться. Его интеллектуальный багаж был довольно солидным для выпускника губернской семинарии - он утверждал, что числился лучшим на курсе, - но если теоретические диспуты отец Арсений еще мог вести на более или менее высоком уровне, то на практике показывал весь колорит взбунтовавшегося провинциального батюшки. Матушка его была очень молоденькая девочка с абсолютно круглой маленькой головой, очень длинными и тонкими белыми волосами, составлявшими единственную ее красоту. Любовь ее к Медякину простиралась настолько далеко, что ради замужества она даже решилась выйти из комсомольской организации. Как раз в тот момент священник и руководитель уездного комсомола поссорились, и последний всячески использовал неопределенность положения обновленческой церкви в советском государстве в целях личной мести.
Почти сразу познакомился я и с Павлом Андреевичем Свешницким - школьным учителем. Тогда ему было под пятьдесят, это был худой и довольно крепкий человек, выражение глаз которого совершенно не гармонировало с общей наружностью рассеянного интеллигента. Глаза эти были пронзительно голубыми и молодыми, а взгляд острым и опасным, так что поначалу мне казалось, что среди высокоумных рассуждений учитель неожиданно вложит в рот пальцы и огласит окрестности диким разбойничьим свистом. Острая и довольно обычная бороденка учителя почему-то напоминала мне таран древнегреческого корабля.
Свешницкий был довольно известен в научных кругах столицы и даже за рубежом. Поначалу, когда он вскользь упоминал об этом, я воспринимал его слова за обычную браваду честолюбивого провинциала, но вскоре, к своему неописуемому удивлению, убедился: мой новый знакомый действительно знаменит. Международные и московские дипломы не умещались в специально отведенном для них ящике, а советская власть назначила учителю специальную пенсию! Я разговаривал с чиновником, который отвечал за эту пенсию, и узнал, что подобный случай был единственным во всей губернии. А уж когда я получил с оказией из-за границы письмо от старого гимназического товарища, большого петербургского сноба, ни в коей мере не изменившего своих привычек, и прочел в нем строки о том, что "как же, слышал об Энске, был у вас там какой-то изобретатель, фамилия на свечу похожа", - я окончательно уверился в уникальности Павла Андреевича.
Прославился наш учитель тем, что вслед за различными Уэллсами и Жюлями Вернами громогласно объявил о возможности контактов между человеком и космосом вместе с его обитателями. Однако этот открыватель будущего не ограничился самой констатацией факта возможности полетов в космос, но стал даже изобретать специальный снаряд для этой цели.
Над космической темой Свешницкий работал уже около тридцати лет. Развивая свой звездный снаряд в теории, он не пренебрегал и практическими опытами в области полетов пока еще в воздушной стихии: чтобы быть хоть на йоту ближе к запредельным пространствам, Свешницкий отвел целый этаж своего дома под мастерские и лаборатории, собственноручно строил дирижабли нескольких метров в длину для проверки своих теоретических выводов - толстые и обтекаемые, как рыбы, важные и умиротворенные, как градоначальники прежней эпохи. А ведь если подсчитать количество кубических метров в той части воздушного пространства, в которой парил в дни испытаний каждый из них, не встречая среди российских просторов иных воздухоплавателей, то можно смело сказать, что область его царствования превышала не только территорию, подведомственную городничим и губернаторам, но даже и иным европейским королям!
Однако дерзание Павла Андреевича не ограничивалось желанием решить одни только технические проблемы. Он создал и распространял весьма оригинальное мировоззрение, представляющее из себя новое течение внутри гуманистической философии. По его мнению, человечество прямо-таки обязано было переселиться в космос и витать в космическом эфире, словно души праведников. Обязанность возникла потому, что в виде первичных бактерий нас породил Космос, и таким образом полет человека в звездную область получался чем-то вроде Одиссеева возвращения на Итаку.
Одно дело - вычитывать такие мысли в книге, а другое - когда после дня попыток подладить и подстроить советские законы хоть под какое-то подобие справедливости ты идешь по запыленной площади, обходя хаотично пятнистые коровьи тела, к приземистому зданию гимназии и видишь там человека с клинообразной бородкой и светящимися неестественным светом глазами, который вещает о том, что со временем в ходе космической эволюции пальцы ног человека примут такую же длину, как и пальцы рук, ибо ходить в космосе не по чему, а четыре хватательные конечности гораздо удобней двух. Большой первоначальный соблазн признать собеседника идиотом как-то пропадает, когда слышишь стройную логику его необычных речей, видишь твердость в поступках и чувствуешь в самом тоне голоса какое-то странное спокойствие внутреннего аристократизма, которое никогда не встречается в речах оригинальничающих дураков.
Ощущая во мне сочувствие к своим жизненным интересам, учитель как-то пригласил меня на испытание своего нового изобретения - синусоидной лодки.
- То есть это как, Павел Андреевич?
- Это такая лодка, у которой дно не обычное, а по форме напоминающее кривую синуса. Проще говоря, дно как будто волнистое.
Говоря это, учитель подвел меня к сарайчику возле реки, и мы вдвоем вынесли оттуда странное суденышко, длинное и узкое, с каким-то действительно ступенчатым дном - так что лодка Свешницкого походила на крокодила, ввиду жизненных коллизий перевернувшегося вверх брюхом. Только что прошел дождь, и над рекой ярко светила радуга.
- На ней же невозможно плавать! - изумился я, когда мы спустили лодку в воду и я только начал забираться в нее. - Она ужасно кренится от самых невинных движений, и ноги оказываются вровень с сиденьем. Так и выпасть недолго! Павел Андреевич, зачем нужна такая неудобная конструкция?
Задавая эти вопросы, я тем не менее покорно садился за весла.
- Эта лодка, - провозгласил Свешницкий с берега своим поставленным лекторским голосом, - имеет гораздо больше скорости на единицу приложенной силы, чем обычная. А что касается несовершенства ее нынешней конструкции... Если нам удастся доказать преимущества этой конфигурации на практике, мы построим другую, гораздо более удачную модель. Все новое сперва кажется крайне неудобным... Гребите, Александр Федорович!
- Как... а разве вы со мной не сядете?!
- Я должен видеть ее движение со стороны. Будьте настолько любезны сперва плыть, будучи кормой ко мне, потом боком, потом носом. Мне нужно понять форму водных струй и завихрений, создающих сопротивление, со всех сторон.
Пришлось со вздохом подчиниться. Радуга оказалась у меня за спиной, зато каждый взмах весел все больше приоткрывал передо мной город: сперва я видел только стирающую на мостках бабу, потом бывший архиерейский дом прямо над рекою, потом двоих пьяных, по-женски визгливо ругающихся мужиков, потом церковный купол, молодого бычка, с подозрением смотрящего на красный транспарант и, возможно, собирающегося совершить антисоветские действия, наконец отца Арсения, подбирающего полы рясы перед изрядной лужей. Я уже собирался поприветствовать его, несмотря на немалое разделяющее нас пространство, как вдруг мир, столь часто переворачивавшийся в последнее время вниз головой, на этот раз перевернулся в буквальном смысле, и я очутился в водах реки, а лодка, сделав оверкиль и вернувшись в свое изначальное крокодилье состояние, гордо и неспешно поплыла от меня по течению, прямо к радуге.
Негодяй учитель стоял на берегу и хохотал во все горло. Отец Арсений решительно скатывался с горы, поспешая мне на помощь.
Есть люди, на которых почему-то при всем желании невозможно обидеться. Свешницкий был из таковых - хотя он порядочно рисковал, не зная меня толком. Ведь не всякий из людей, оказавшихся при власти, так спокойно простит какого-то учителя, посмевшего выставить его перед всем городом в нелепом виде. Ведь милость новой власти ко всякому интеллигентному человеку очень хрупка! Или уже тот факт, что я согласился участвовать в нелепых испытаниях его невообразимой лодки, говорил наблюдательному Свешницкому, что я не тот, кто будет изображать из себя рассерженного гусака?
Учитель смеялся совершенно по-детски, беззлобно, так же, как смеялся бы над самим собой, попади он в курьезную ситуацию. Наверно, именно в этом и была тайна его недосягаемости для обид.
А вот Медякин мимоходом сказал смеющемуся Свешницкому что-то гневное и устремился меня спасать, замочив уже рясу, когда я успел остановить его, заверив, что стою на твердом дне. Река была неглубока, и очень скоро я выбрался на берег. Перевернутую синусоидную лодку тем временем взяли на буксир рыбаки, проплывавшие мимо, и волокли ее к нам.
Я упросил отца Арсения идти на службу, чтобы не опоздать, но священник только тогда удалился, осуждающе качая головой, когда Павел Андреевич заверил его, что немедленно поведет меня в свой дом, где обогреет и обсушит, напоив чаем с коньяком.
Дом этот находился тут же, возле самой реки. Обитель ученого я посещал во второй раз, однако прежний визит был гораздо более официален. Тогда Свешницкий сразу провел меня на второй этаж, который он почти полностью отнял у семьи и занял кабинетом, мастерскими и лабораторией. Теперь, после переодевания, меня принимали в гостиной, где я имел удовольствие познакомиться с домашними учителя.
Мадам Свешницкая по моим наблюдением не представляла ничего особенного. И после многих лет супружества она восторженно-испуганно смотрела на мужа, причем второе качество, кажется, преобладало. Она хлопотала по хозяйству и не промолвила почти ни слова, так что в прежние времена я вполне бы мог принять ее за прислугу.
Зато дочь учителя не отличалась особенной робостью, вслушивалась в нашу беседу, а потом и вступила в нее. Описать человека словами вообще сложно, а молодую девушку - в особенности: почему-то прозаическая речь для этого мало приспособлена, оставляя, видимо, нишу для живописи и поэзии. Поэтому скажу, что внешне мадмуазель Свешницкая была довольно обычная барышня. Она была красива, но красивы большинство девушек ее возраста. Она была стройной, среднего роста - в этом тоже совершенно нет ничего выдающегося. Скажу лишь, что при первом взгляде казалось, что лицо ее чересчур вытянуто, но я скоро нашел в этой мелочи свою прелесть. Волосы у Елизаветы Павловны были волнистые, чуть рыжеватые - тоже примечательная деталь. В тот день она вышла к нам в розовом платье, а по улице чаще прогуливалась в красном. Она любила сочетать этот цвет эпохи со старомодным фасоном одежды.
Как и все мы, она служила советской власти. Тогда в стране существовал "Центральный детский стол", ныне упраздненный, который занимался розыском детей, ставших в годы разрухи беспризорными, и возвращением их родителям. У нас в уезде существовало его отделение, где и работала дочь учителя.
Однако вернемся к самому Свешницкому. Я всегда с уважением выслушивал его странные идеи, но на этот раз не преминул вступить с ним в спор и сказать, что все же вижу смысл человеческой жизни в духовных поисках, а не в том, чтобы в набитой порохом железной бочке устремиться в бездонную черноту и там производить химические опыты, пусть и весьма ценные для науки. Павел Андреевич начал рьяно отстаивать свои идеи, показав себя опытным спорщиком. Например, сложно отрицать силу такого аргумента:
- Прошли тысячелетия этих ваших духовных поисков... И эти тысячелетия вам практически ничего не принесли! Не только человечество в массах не поумнело и не улучшилось, но даже сами мыслители вряд ли стали мудрее со времен Сократа. Вы остановились - и это лишний раз показывает, что только возвращение в первичную колыбель, в космос, поднимет человека и на духовную высоту!
Когда я посетовал на принятое в нашем мировоззрении разделение наук на естественные и те, что изучают человека и общество, Свешницкий поднял палец и изрек:
- Совершенно верно рассуждаете, Александр Федорович, о страшной гибельности этого разделения! Космический путь развития решит и эту проблему. Да, человек, каждодневно сталкивающейся с неисчерпаемыми тайнами Вселенной и постигающий эти тайны, настолько приобретет привычку к чуду... привычку в благом смысле, а не в смысле притупления ощущений... что вот он-то вольно или невольно и создаст философию, объединяющую загадки собственной души и чудеса материи.
- Милый Павел Андреевич! - ответил я с улыбкой. - Ваша ошибка в том, что вы в глубине души считаете, что большинство людей так же бескорыстны и способны быть преданными своему делу, как и вы. Это естественное, невинное заблуждение любого человека: полагать, что другие подобны ему, а все, что в них есть не подобное, - это наносное. Но это совершенно не так... Люди гораздо проще и грубее.
- Но со временем...
- Нет, Павел Андреевич. Прошу прощения, что перебил вас, но не могу не заметить категорически: "со временем" ничего не будет. Вы отрицаете религию, но здесь у вас рецидив религиозного христианского мировоззрения - считать, что по мере приближения Страшного суда человек будет хоть потихоньку, но исправляться.
- Однако советская власть делает все усилия, чтобы новый человек появился, и в этом я солидарен с ней!
- Очень может быть. Но я пришел к выводу, что одними социальными мерами тут никак не справиться. Отбери у человека вещественную собственность - он займет какой-нибудь официальный пост и будет к этому посту относиться, как раньше к сундуку с ассигнациями. Отмени иерархию, а значит, и государство и под шумок вседозволенности и анархии ушлый человек снова обретет тот же сундук. Выходит замкнутый круг...
- Вы еще молоды, а уже во всем разочарованы. Это у вас байронизм какой-то! - проворчал Свешницкий. - Все же сложно вам, потомственным дворянам, разделить оптимизм новой эпохи!
- А мне кажется, - вступила в разговор дочь Свешницкого, до сих пор внимательно слушавшая нас, - что Александр Федорович говорит не о разочарованности... а просто хочет предложить свой вариант обновления человека.
- Очень верно изволили заметить, Елизавета Павловна, - улыбнулся я. Спасибо за поддержку. У меня действительно есть одна идея на этот счет... Только она уж слишком фантастична.
- Фантастична?.. - Учитель встрепенулся, как боевой конь, и мигом спала с него маска ворчливого старика. - Ну-ка, давайте...
- Пока сложно представлять мою идею на суд общественности - у меня слишком мало данных внешнего порядка, и я не знаю, возможно ли это в принципе. Да и моральные сомнения терзают меня...
Мысль, которую я все же решил высказать в учительском доме, у меня появилась еще давно, накануне революции. Поездка в Москву, где я посетил Московскую психиатрическую клинику, как раз имела отношение к этому делу.
- Исследования Ломброзо и многих других психиатров, в том числе наших, Сербского и Ганнушкина, позволяют говорить нам, что подлинный талант и даже гений возникает в человеке тогда, когда он имеет многие признаки душевнобольного. Вернее, те признаки, которые общество считает свойственными душевнобольным и даже идиотам. Точно так же я узнал, что многие болезни, и особенно шизофрения, не могут и болезнями-то считаться в строго научном смысле. От них не повышается температура, никто не умирает...
- Но страдает, - заметила Свешницкая.
- Да, однако что это за страдания? Это не физические страдания, которые являются объектом изучения медицины и лечения ее средствами, но духовные. А духовные страдания свойственны и поэту, осознающему невозможность написать самое прекрасное стихотворение, и мыслителю, видящему глубокое несовершенство души человеческой, и ученому, поражающемуся ничтожности людских знаний по отношению ко всему бесконечному разнообразию Вселенной. Что - это свидетельство их неполноценности? Скорее наоборот.
- Александр Федорович, и в чем же заключается ваша мысль? - спросила Елизавета. - Выпустить из психических больниц всех идиотов и именно им дать власть, чтобы они не собирали сундуков с ассигнациями?
- Не совсем так, хотя вы верно подметили, что многие из тех, кого называют сумасшедшими, вполне бескорыстные люди. То есть именно они ближе всего к идее нестяжания...
- Это церковное слово! - замахал руками Свешницкий.
- Ну называйте коммунизмом, если хотите... Просто нестяжанием обозначается понятие более конкретное. Но, как верно иронизировала Елизавета Павловна, далеко не всякий клиент желтого дома есть действительно человек высшего склада. Однако в работах западных и наших ученых мне приходилось читать, что болезнь dementia praecox, или шизофрения, отличается тем, что не затрагивает и не роняет умственного уровня ее носителя, а лишь уменьшает эмоциональные силы человека, то есть накал страстей. Что есть жадность, жесткость, как не чувства?
- Но ведь и любовь - тоже чувство, - заметила Елизавета.
- Любовь - явление сложное, и для умного человека она не исчерпывается эмоцией. Ведь любишь того, с кем тебе интересно, а интерес уже есть свойство ума... Что же касается поражения эмоций, тут мы и приходим к бесстрастию.
Я особенно выделил последнее слово и тише добавил:
- То есть к тому, что считалось одним из главных добродетелей монашествующих. В чести это чувство и у новой власти: бесстрастное уничтожение врагов социализма, несмотря на личные отношения, скромность в быту и так далее. Да, бесстрастие - вот признак совершенного человека!
- Я согласен с вами, - ответил учитель, - хоть и зря вы применяете религиозные термины, это только путает дело... Но как же вы будете создавать такого бесстрастного человека?
- Я консультировался... узнавал, откуда возникает у людей эта таинственная dementia praecox. Выяснилось, что предрасположенность такого рода есть у многих, кто хоть немного странен. Пускай даже был таковым в детстве, до тех пор, пока его не обтесало общество. А потом... у немногих это выплывает само собой, а для других нужны какие-нибудь внешние толчки. Сильные потрясения я отбросил сразу. А вот инфекции и особенно интоксикации в целях привития человеку особого состояния...
- То есть вы предлагаете в обязательном порядке поить всех каким-то ядовитым снадобьем, после чего у людей появится эта ваша dementia?
- Ни в коем случае не в обязательном! Только совершеннолетних и только по личной воле. Тот, кто чувствует, что в нем слишком мало странного и своего, что он слишком погряз в миру, хочет, но не находит в себе достаточно сил преодолеть это обычным путем, может прибегнуть к химическому вмешательству...
Конечно, в застольной беседе я не мог привести своей главной исторической аналогии со скопчеством - религиозным течением в дореволюционной России, практикующим добровольную кастрацию. Если хирургическим путем скопцы отсекали возможность блуда, который считали главным грехом, то почему нельзя так же удалить таинственный орган стяжательства - особые мозговые клетки или что-то в этом духе?
- Ладно, Лиза, - сказал Свешницкий, - Александр Федорович высказывает интересные идеи... Я сам прекрасно замечаю, что появление нового человеческого типа слишком уж затягивается, и имею по этому поводу большую скрытую боязнь: а что если достижения отдельных гениев позволят нам прорвать завесу, разделяющую нас с космосом, раньше и даже гораздо раньше, чем к этому будут готовы остальные люди? Если будут созданы ракетные поезда, а желающие лететь заполнят только самый маленький отсек? Мне жалко, что я лично занимаюсь другими проблемами и не в силах вам помочь. Однако постойте... Сам-то не в силах, но я знаю одного химика и медика, который занимался похожими проблемами. То есть он вовсе наоборот: пытался создать у человека иммунитет против психических расстройств, но если вы говорите, что это не расстройства, а совсем напротив... Он пытался приучать человека к этому яду в малых дозах, чтобы он мог сопротивляться большим - ну как это описано в "Графе Монте-Кристо".
- И где же этот ваш ученый? Он, может быть, эмигрировал?
- Совсем нет! Как и я, он горячий сторонник советской власти... И живет он не в столицах, а не так уж далеко отсюда, в соседней губернии. Я дам вам адрес и рекомендательное письмо, если будет желание съездить.
Но отправиться в эту соседнюю губернию мне пришлось только через два месяца. Моя занятость на службе, однако, не мешала мне время от времени видеть Лизу. Мы сдружились с ней, гуляли по пустынным и часто мокрым от дождя паркам города Энска, коих имелось всего два. В одном из них был большой склеп, теперь разбитый и разрушенный.
Свешницкая рассказала мне, что до революции перед склепом стоял большой ангел и плакал. А появились склеп и скульптура ангела так: когда один из самых славных русских императоров скончался где-то вдалеке от Петербурга, императрица последовала за траурным поездом по тракту, проходившему через Энск. Здесь ей стало плохо, и архиерей, выехавший к границам епархии встречать венценосную гостью, вынужден был вместо благословения дать несчастной женщине последнее причастие. Поскольку стояла жаркая погода, то тело императрицы пришлось спешно бальзамировать, и сердце, вынутое в ходе этой процедуры, было решено поместить в серебряный сосуд и оставить в городе, ставшем для нее последним земным пристанищем.
Разумеется, в чехарде революционных дней серебро было похищено, а склеп стал местом сборищ энских хулиганов и воров. Даже теперь, после установления порядка, горожане приходят сюда лузгать семечки.
- Революции, подобные нынешней, уже бывали в истории, - рассказывал я в парковом уединении, поддерживая барышню за локоток. - Например, в Германии четырнадцатого века город Мюнцер на пять лет захватила секта анабаптистов. В городе была совершенно уничтожена частная собственность... И декларировалась даже общность жен.
- А вы бывали в Германии?
- Бывал... но конкретно в Мюнцере не приходилось.
- А что запомнилось?
- Да больше всего история с одним нашим студентом. Этот человек остался в городе Висбадене, сделался там игроком на рулетке, проиграл все и нищенствовал на улицах, пытаясь добыть хоть несколько монет. Меня послали его образумить. Мне казалось, что это очень легко. Поначалу, намекнув на возможность дать в долг, я вызвал его на встречу в парк с зеркальными прудами, как на глупых гравюрах. Я начал с того, что спихнул его в воду.
- Зачем?
- По глупости я предполагал, что это отрезвит его. Хотелось, как часто бывает в жизни, покрасоваться перед самим собой и убедиться, что могу вразумлять людей, как кутят, хотя бы и с полным основанием своей правоты, швырять в пруд... Он вылез и захотел зашвырнуть меня туда же. Я хорошо помню его глупое красное лицо возле моих глаз. Мы молча боролись минут десять, он был очень зол на меня и мне подобных, я же упрям, как всегда упрямы все Датновы.
- А что социалисты в Мюнцере?
Она задавала довольно хаотичные вопросы, так что, начав рассказывать об одном, я вынужден был переходить на другое. Меня это не раздражало: я видел, что Елизавета Павловна думает о чем-то своем, а быстрыми вопросами лишь старается скрыть свое невнимание. Невнимание опять же не было обидным, поскольку оно происходило не то от смущения, не то от путаницы с полнотой мира, часть которого скромно представлял я.
Я тоже замолчал. Вспоминались все новые и новые статьи в большевистских газетах, где их бесконечные Ленины велели "освободить все советские органы от случайно проникших туда классово чуждых элементов". Я никогда не скрывал ни от кого в городе, что являюсь дворянином.
- А вы не знаете случайно, что такое "красные юрты"?
- Знаю. Это аналог изб-читален для народов Туркестана, которые организуются наркоматом просвещения с целью борьбы с безграмотностью.
- А женщины их посещают... и там работают?
- Да, конечно. Именно женщины туда и привлекаются прежде всего... Чтобы сломать весь жизненный уклад азиатских народов.
- Хотела бы я поступить хоть библиотекарем в такую красную юрту...
- Отчего такие мысли, Елизавета Павловна? Там пыльно и жарко, водятся серые и очень ядовитые змеи...
- А вы и там были?
- Приходилось. Еще до моего обучения в университете мои родные накопили некоторое количество денег, чтобы показать мне Европу. Я же там жил очень скромно и сэкономил часть средств... Так что появилась возможность съездить к семиреченским казакам.
- И как?
- Степь хороша, но ненадолго. Быстро привыкаешь к ее однообразию, как будто сидишь на огромном языке неведомого животного... К тому же мне кажется, человек должен искать загадок не вовне себя, а внутри.
- На языке, говорите?..
- Да. Я вообще не понимаю, почему люди столько лет представляли себя на спинах слонов и черепах, но никто ни разу не сравнил мир с языком. Наверно, потому, что мы знакомы только с европейскими понятиями, а не с теми философиями, носители коих носятся на скакунах по огромным азиатским просторам...
- Вы хорошо говорите, - улыбнулась Свешницкая. - С вами нескучно. С остальными скучно.
- А ваш батюшка? Мне он показался вполне незаурядным человеком.
- У батюшки бывают приступы просветления - тогда он остер и ярок. Помню, как я была маленькая и нас с братом уже уложили спать, как вдруг отец велит нас будить, ведет в большую пустую комнату наверху, а там по всему полу валяются гнилушки! Кругом ночь, темно, а они светятся. И папа говорит: я набрал их в заброшенном колодце, когда возвращался с именин попечителя гимназии, посмотрите, это же звездное небо, как оно красиво! В этот момент я готова была верить, что он сотворил и настоящие звезды... Брат заплакал, он испугался темноты, и мать увела его, а я осталась еще. Это самое прекрасное воспоминание моего детства.
Она перевела дух, и, когда снова открыла уста, заговорил как будто другой человек.
- Если бы вы знали, как нуден мой отец большую часть времени! Да, я очень уважаю его работу, но человек смотрит на все эгоистически, а мне все эти дирижабли и шары не близки.
- Дирижабль - желание почувствовать странное.
- Но я, видимо, хочу почувствовать другое странное... Да и мой батюшка становится таким, каким вы его знаете, в последнее время редко... Разве что в вашем присутствии. Ну еще подобное бывает, когда мимо нашего городка проносятся его друзья-мыслители и останавливаются у нас... Однако и тогда я не слышала у отца такой живой речи, не видела таких живых глаз, как при разговоре с вами! А ведь вы уходите, и он остается каким-то рассеянным, только начинает ворчать: ах, зачем этот молодой человек ударился в мистику? Он же все загубит...
- Что - все?
- Таланты свои, что ли... А кто его знает, моего отца, что он думает? Давайте лучше о чем-нибудь другом побеседуем...
- Так вы хотите сказать, что жизнь в провинции вас не устраивает?
- Вы говорите, что и в столицах она такая же, и, наверное, правы. Да, искать нужно внутри себя... А если не находишь? Вот стану женой какого-нибудь молодого учителя, который восхищается моим отцом и ходит за ним по пятам, как собачонка, нарожаю одному детей, другому внучат и буду, может быть, счастлива...
Елизавета криво, в сторону, улыбнулась. Видимо, она имела в виду кого-то слишком конкретного.
Когда слышишь от молодой девушки горькие слова о ее жизни, хочется утешить юное создание простым способом: развернуть к себе и поцеловать. Поэтому, дабы отбиться от этого искушения, в сущности, довольно примитивного, нужно энергичнее продолжать разговор. Но у меня почему-то не нашлось тогда сил, и я поспешил откланяться, возможно, боясь показаться несколько невежливым.
III
В один прекрасный день я сумел взять на службе небольшой отгул и, погрузившись в поезд, отправиться в соседний город к доктору с запискою Свешницкого, которая рекомендовала меня как человека, очень горячо интересующегося всем новым и передовым. Восторженному тону записки я был обязан еще большим потеплением отношений между мной и учителем, произошедшим после того, как я заставил уездную власть не только разрешить пуск над главной площадью дирижабля семи метров в длину, но еще и устроить этому начинанию огромную рекламу. На площади собралось без преувеличения полгорода, и Свешницкий произнес перед обывателями, пораженными полетом столь огромной туши, длинную речь о будущем покорении космоса. Прямо тут же было создано звездоплавательное объединение при уездном отделе Наркомпроса, куда записалось пятьдесят наиболее изумленных энских жителей.
Лечебницу я нашел довольно быстро. Доктор оказался совершенно не похож на своего друга учителя: маленький, важный и почти шарообразный, он смерил меня недоверчивым взглядом. Пока я плел хитрую нить формулировок, доказывающую, почему я, неспециалист, так интересуюсь проблемой нового лекарства, он стал еще более подозрительным, но тем не менее от разговора не ушел.
- От царизма нам досталось тяжелое наследие, - вздохнул он, как будто сожалея, что именно ему какой-нибудь царский подданный не оставил во время оно легкого, но щедрого наследства. - Обилие душевно нездоровых людей, которые доводились до такого состояния путем последовательного их унижения. Лекарство, о котором вы слышали, призвано уничтожить их дурную наследственность.
- Простите, я что-то запутался, - честно признался я. - Наследие в политическом смысле... или в медицинском?
- И в том, и в том. В данном случае я имею в виду медицинское. Известно, что шизофренией чаще страдают люди, уже имевшие в роду больных. Поэтому я разработал метод профилактики: дети душевно нездоровых людей получают что-то вроде прививки в виде разового впрыскивания данного лекарства.
- Но ведь оно вызывает болезнь...
- В больших дозах. А в маленьких - наоборот, порождает устойчивость к ней. Ведь психическая болезнь дремлет в человеке и может обнаружиться при каких-то потрясениях - нравственных, физических, химических... Например, если потенциальный больной получит отравление, потеряет кого-то из близких или примет какое-нибудь сильное сердечное лекарство. Мой же метод подвергает больного небольшому шоку сразу, еще в детстве, и организм привыкает, вырабатывает защитную реакцию.
- А подтверждено ли это клинически?
- Да. Я начал эти опыты еще при царизме, и сейчас у меня около десятка детей и подростков, принимавших лекарство, находятся под постоянным наблюдением. Пока у них никаких отклонений не видно... Хотя срок еще слишком мал, чтобы говорить об окончательной победе метода, поэтому я и не занимаюсь его широкой популяризацией.
- И в каких же дозах вы делаете инъекцию этим детям? - спросил я.
Он поморщился - не то от неправильно применяемой мной медицинской терминологии, не то от чего другого, - но все-таки сказал мне цифру, и я запомнил, после чего спросил:
- А если сильно увеличить эту дозу, то у человека может развиться расстройство?
- Безусловно.
- Появятся симптомы dementia praecox?
- Да.
- Только у ребенка или у взрослого тоже?
- И у взрослого... Хотя чем моложе пациент, тем больше будет вероятность такого печального исхода.
- И во сколько же нужно увеличить дозу, про которую вы мне говорили, чтобы вызвать расстройство у человека лет двадцати-тридцати?
- Это довольно индивидуально... Я вам назову результат пятидесятипроцентной выборки... То есть такой, при которой была поражена половина испытуемых...
Доктор назвал. Я быстро перемножил в уме и понял, какое количество искомого вещества нужно для моих целей.
- Но если психика людей после приема изменилась, то как быть с соматической частью?
Я знал, что так на врачебном языке называется обычная, непсихиатрическая медицина.
- Наверняка повысится давление, участится сердцебиение... У натур слабых может быть кратковременная потеря сознания. Но пройдет несколько часов, максимум день - и никаких соматических последствий не останется... скорее всего.
Теперь дело было за малым: добыть искомое снадобье. В кармане у меня лежал револьвер, а в портфеле - письмо в местный отдел ЧК. По счастливой случайности наш Зипунов хорошо знал главного чекиста соседней области и неофициально попросил оказывать "работнику нашей прокуратуры", то есть мне, всяческое содействие.
Однако прибегать к насилию мне крайне не хотелось - не только по причинам неэстетичности подобного вида мер, но и потому, что разозленный доктор мог бы обмануть меня и подсунуть что-нибудь другое, а я был бы не в состоянии его проверить. Поэтому мы продолжали беседу в мирном тоне, тем более что ученый уже совсем разговорился, и хотя - я уверен - вовсе не забыл о своем первоначальном недоверии, однако увлекся темой и не мог остановить себя. Он показывал мне лечебницу, а я невзначай выспрашивал.
- И как же вы обнаружили это замечательное лекарство?
- Мне повезло. Дело в том, что какое-то время его, представьте, пытались использовать в соматической медицине как средство от сердечных болезней! А когда окончательно стали понятны его побочные эффекты, никто толком не стал их исследовать - просто отказались от него, списали, так сказать... Да и то не везде.
- Что ж, есть еще места, где сердечные больные при потворстве докторов превращаются в душевно ненормальных?!
- Ну применяемая доза меньше, чем та, которая гарантированно вызывает изменение в психике.
- Так как же называется это снадобье?
Он произнес латинское выражение, которое я хорошо запомнил тогда, но вряд ли смогу воспроизвести сейчас. Подробнейшим образом расспросив доктора о частных деталях, в конце разговора я все-таки не удержался и спросил его:
- А сами-то вы, доктор, как смотрите на душевную болезнь?
- В каком смысле?
- Стоит ли действительно ее лечить? Ведь если подумать, многие из так называемых великих людей...
- Чушь вы порете! - довольно неинтеллигентно перебил меня доктор, и так мало похожий на чеховского персонажа. - Это вам Ломброзо голову запудрил... и прочие мелкобуржуазные ученые.
- Да, выводы Ломброзо спорны, но хотя бы подумайте, доктор, ведь, может быть, психические больные счастливее нас! Им ведомы внутренние наслаждения, часто даже презрение к богатству...
В течение этой моей фразы доктор все тяжелее дышал, так что я должен был остановить свою речь, дабы не подвергнуть его опасности удушья.
- Черт знает что такое вы говорите!.. Боюсь, вы еще не поняли характер октябрьской революции и требований новой эпохи... когда все человечество должно собраться в единый кулак, а не иметь "внутренние наслаждения", на которые никто нынче попросту не имеет права!
- Так ведь коммунизм мыслится только при отмене денег, а ведь именно деньги сплачивают людей, как ничто другое и вряд ли можно придумать более крепкий цементирующий раствор!
На это шарообразный доктор раскричался еще более, так что вдруг показался мне большим красным колобком, который вот-вот может накатиться на меня и раздавить. Скоро мы распрощались в весьма сдержанных тонах, и я с чувством полного удовлетворения отбыл в Энск.
Нужное лекарство я заказал в губернском городе, и вскоре мне его доставили. Сложнее было с выбором кандидатов в тех самых "новых людей", которых столь по-разному видели я и маленький доктор.
По моему замыслу, категория этих новых чудаков должна была организоваться путем совершенно свободного и сознательного выбора, поэтому какое-либо насилие или обман исключались. Я совершенно не собирался производить никаких экспериментов над людьми, а просто считал, что мне - и не только мне - предстоит сделать очередной шаг в ту область, от которой Бог так предостерегает человека, но, может быть, имеет тайную надежду на то, что человек его не послушается. И бывали, не раз бывали в человеческой истории такие непослушные, и вряд ли оказывались они угодными только дьяволу все-таки сложно поверить тем церковным мыслителям прежней России, по мнению которых любое резкое движение человеческой души есть движение в черноту.
Так же, как и большинство людей моего поколения и сословия, я все время задаю себе вопрос: почему рухнула эта колыбельная Россия, наше нежное дворянское детство, очарование тихим и красивым? И мой ответ на этот вопрос: забыли мы самые, может быть, русские из евангельских строчек: "И ангелу Лаодикийской церкви напиши: о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих". Теперь мне дается шанс стать холодным или горячим - и я уже не упущу его!
Первой мыслью, конечно, было произвести опыт над собой - как это сделал некогда основатель скопчества Кондратий Селиванов, который, по преданию, едва не уговорил последовать своему примеру самого императора Павла Первого.
Однако в данном случае личное участие мало бы дало: анализ собственной жизни показывал мне, что я и без снадобья не так уж далек от того идеала небрежения миром, который хочу провести в этот самый мир. Да и доктор опытный человек - в самом конце нашей беседы, когда недружелюбие усилилось, сказал мне:
- У вас случайно в роду не было подверженных dementia praecox? У вас несколько странная манера поведения... да и походка какая-то дерганая...
Наивный человек! Думая покоробить меня, он в действительности помог мне разрешить важное внутреннее противоречие. Поэтому я решил обратить свой взор на окружающих.
В начале пути я все же позволил себе совершать действия, не так далеко отстоящие от принуждения. Я собирался поговорить с некоторыми подсудимыми, ожидающими решения своей участи, и в случае согласия принять лекарство всячески облегчить их долю, что я имел возможность сделать. Ведь тот суд, в лапы которого они попали, любит твердить о перековке человека по новому образцу - что ж, я окажу ему помощь, пусть несколько своеобразную.
Я подбирал мысленно кандидатуру из тех, кто томился сейчас в уездной тюрьме и вскорости ждал суда, и не находил среди них ни одного интересного случая. Однако помогло мне совершенно неожиданное происшествие - нужный человек сам вошел в мой дом.
Через два-три дня после того, как я достал искомое снадобье через губернского аптекаря, поздним вечером - да что там, ночью! - в страшный дождь, сидя за бумагами, я услышал шум внизу, со стороны крыльца. Я открыл дверь на лестницу и услышал негодующий голос хозяйки дома:
- И не думайте, оборванцы! Не пущу! Они солидный товарищ, служат, а вы в таком виде... Голытьба... Сейчас милицейских вызову!
Что за чудо! Подле хозяйки стоял человек в сером плаще с изрядными прорехами, который не столько защищал тело своего обладателя, сколько впитывал воду, чтобы потом излить ее из себя на порог человеческого жилища. Вдобавок пришедший держал в руке не то клюку, не то посох... Был у человека в плаще и спутник, обряженный в еще более ужасающие лохмотья, и тоже с посохом. Что за библейские сюжеты на просторах нашей губернии? Признаться, я был озадачен.
- Кто это? - громко спросил я хозяйку.
- Саша... - сказал плащеносец, и я все понял.
Спустя десять секунд оба странника сидели у меня в кабинете и в ожидании горячего чая дегустировали припасенный мной для особенного случая ром, который я достал еще в Петербурге во время службы у Луначарского.
Передо мною очутился один из нашумевших некогда в столице поэтов из молодой породы футуристов, людей будущего. Тогда я быстро понял, что все эти выступления на сцене в малиновом сюртуке с зеленой бабочкой совершенно не подходят его натуре, и вот теперь я видел этого человека в его подлинном облике. Он сделал то, о чем мечтали, но что никогда не осмеливались сделать лучшие из нас - отправиться в бесконечное путешествие по земле, без гордости и денег, ночуя в лесах, как дикие звери, побираясь по деревням и являя собой, быть может, образец юродивого нового времени. Он называл себя и атеистом, и язычником, но именно о нем можно было сказать словами Иоанна Лествичника: странничество есть неведомая премудрость, необъявляемое знание, необнаруживаемый помысл, хотение уничижения, путь к Божественному вожделению, обилие любви, отречение от тщеславия, молчание глубины.
Мой адрес он узнал из письма, отправленного общему знакомому. Я не мог не спросить:
- А что же наши в Петербурге, в Москве?
И мы оба подводили грустный итог: такой-то застрелился, такого-то упредили большевики и избавили от тягостной необходимости самому взводить курок, такой-то умер от водки, такой-то стал чиновником.
- А я еще жив, - сказал мой гость дорогой.
Я засмеялся.
- Да, ты жив... Но не впал ли и ты в запой?
- Ой, впал, ой, и не говори!.. Пьянит меня полынь ненастоенная, и горько мне пить ее - всю степь до самого горизонта земли. Горько, но и сладко, как на свадьбе с любимой.
- Расскажи мне о своем спутнике! Что вы, уважаемый, - обратился я к товарищу своего друга, человеку в сером, - сидите, словно вам тяжело?
Он был на голову выше моего друга, не с крестьянским светлым лицом, а с крестьянским темным лицом. Мне казалось, что я это лицо уже где-то видел.
- Не умею я так слова разговаривать, как вы, барин, - ответил он мягким голосом.
- Он художник, из народа. Он вырезает прямо из дерева прекрасные статуэтки: людей, животных, даже само солнце с лучами! А мудрствовать и разговаривать он, действительно, не любит.
- И давно вы знакомы?
- Да нет, - улыбнулся мой друг, - совершенно недавно. Я вышел из Москвы с одним из поэтов - ты его знаешь. Но потом тот не выдержал, запросился домой, я его отпустил, и он уехал на поезде. Я остался один. Мне было немножко грустно, но я знал, что надо идти. И вот, устраиваюсь в тот же день на ночевку в поле, вижу у костра этого прекрасного человека... Так судьба послала мне спутника. Она уж знает, кому что подарить! А рано утром, пока я, лежебока, еще спал, он выточил и показал мне свою первую фигурку... Рассказал, что художник. И он каждое утро мастерил что-то новое: то медведя, то Перуна, про которого я ему говорил... Ой, Саша, что же я тебя ни о чем не расспрошу? Извини, мне так хочется знать: чем живешь ты?
- По сравнению с тобой - ничем. Служу в здешнем департаменте просвещения.
- Да? А я слышал, что ты...
- Нет, нет, - торопливо сказал я, - это совершенно неверные слухи! Подождите, сейчас я принесу чай.
Я встал и направился к двери. Путь мой лежал мимо художника из народа. Я заметил, что, когда я в пылу разговора перемещался по комнате, он следил за мной смущенным и недоверчивым взглядом, как напуганная собака. Однако он просчитался, сев рядом с письменным столом, - по пути к двери я подошел к нему вплотную и собрался открыть ящик, находящийся позади незнакомца. Одной рукой я отвел его попытку встать - естественная вежливость хозяина, - а другой достал из ящика новое тяжелое пресс-папье и, не размахиваясь, ударил народного самородка по затылку. И замер, готовясь при необходимости добавить еще удар.
Но моя жертва была уже без сознания. Друг вскочил со стула и закричал очень сильно:
- Ты что, Саша, ты что!!!
- Твой художник - серьезнейший преступник, недавно сбежавший из тюрьмы.
Я совершенно не был уверен в своих словах, но, коль скоро друг добрался до обсуждения моей жизни и вот-вот бы проскользнуло слово "прокуратура", я не мог медлить, рискуя в противном случае позволить врагу приготовиться заранее.
Дело в том, что в городе, в котором я беседовал с доктором, все, кроме него, только и говорили о бегстве опасного преступника. Когда я недавно заходил к Зипунову, я зачем-то поинтересовался, есть ли у нас сведения об этом бандите. Выяснилось, что народная молва не преувеличивала и, действительно, налетчик со странным прозвищем Керемет теперь объявлен в розыск по всей Советской республике. Запомнил я и его описание, особенно наличие на левой скуле родимого пятна размером с мелкую монету.
По времени встреча моего друга и этого человека произошла через день после побега и случилась не так далеко от того города. Пятно, хотя освещение в моей комнате ночью было не ахти какое, а борода странника довольно густа, я тоже вроде бы разглядел, а теперь, стоя над оглушенным, мог увидеть ясно.
Я немедленно позвал хозяйку и приказал ей срочно вызвать милицию. Она успела подозрительным взглядом указать мне на друга, без обиняков вопрошая: а почему же этот сидит спокойно?
- Но как же так, Саша? - взволнованно заговорил мой желанный гость, когда тело оглушенного увезли. - Ведь это мой друг! Он самый важный друг, потому что его мне дала дорога. Узы состранничества - как узы сострадания, не зря и слова похожие. Дала дорога, а ты отнимаешь его?! Это странно... Хотя я все равно тебя люблю. А он... Пусть даже он вор, но ведь и Христу только вор дал слово доброе!
- Христос говорил и про лжепророков... Лжестранников. Еще до того момента, когда я понял, что перед нами вор, я почувствовал, что он из породы лжецов. Слишком слащаво он улыбался тебе... Как Иуда. А, кстати, знаешь, что у нас в городишке есть единственный в мире памятник Иуде?
И вот друг уже забыл обо всем, как ребенок, он поражен, хочет немедленно увидеть монумент. Только в последний момент, одеваясь, он замирает на крыльце и говорит:
- А как же все-таки мой спутник? Может, его уже отпустили?
Но нет - мы берем извозчика, едем к милицейскому управлению и там узнаем, что я не ошибся в своих предположениях. Друг понуро сидит всю дорогу и только возле Иуды разгибает плечи.
Он восторженно обходит памятник. Мы одни, уже заполночь. Начинается осень, на Иуду падают желтые русские листья.
- Какая идея! Какой напор! Так это ты выдумал воздвигнуть здесь это страшное создание?.. Да, поставить своего черного человека на площади - это здорово! В этом есть что-то древнеримское... как у Нерона, только мудрей. Ты настоящий подданный республики солнца, как и я!
Друг оборачивается и смеется мне. Мы идем к дому, и я бы мог сказать ему, что "подданным республики" быть никак невозможно, что у него такая же путаница в голове, как у всех русских людей. Но зачем лишать человека, особенно такого прекрасного, его мечтаний и иллюзий? Напротив, пусть цветет и дает плоды его собственное неведомое солнце, которому он пишет стихи и которое так уверенно помещает на небо. Наконец-то хоть для кого-то наступила пора мечтать упоенно и юродиво.
Счастлив тот, кто может сделать это, ничего не отдав и не предав. Друг вынес из детства только образ отца - создателя первого в России птичьего заповедника, а птиц и прочих беспечных существ никто еще не предавал.
Мне же суждено каждый день, направляясь в присутствие, видеть Иуду на площади.
Хотя вру - теперь друг тоже совершил предательство своего спутника, и именно я подтолкнул его к этому. А кто соблазнит одного из малых сих... Конечно, я мог утешать нас обоих мыслью о том, что преступник мог ограбить и даже убить друга в какой-нибудь безлюдной местности, - ведь они направлялись в знаменитые глухие брянские леса, уже давшие России столько святых подвижников. Однако я знал, что мысль эта не то чтобы лжива, но не первична. А первичной была странно прорезавшаяся в мозгу мысль - после допроса предложить вору Керемету стать первым химическим юродивым.
Ведь передо мной появился субъект достаточно неординарный - это я понял и со слов друга, и из материалов уже бегло просмотренного дела, и из нескольких слов самого вора: вернее, не слов, а тона и выражения. Вдобавок Керемет был существом с некоторыми понятиями, не чуждыми культурному человеку, - он происходил из зажиточной мещанской семьи и окончил церковно-приходскую школу.
Но вернусь пока к другу. Когда хмельная поездка к Иуде закончилась, когда сама ночь оборвалась и утро заполнило комнату косыми лучами, он снова вспомнил о своей потере.
- Теперь весь путь мне предстоит одному...
- А далеко ты направляешься? Надолго?
- Навсегда. Из Брянщины я поверну к Дону, потом к Волге - любимой сестрице Ра. Я пройду по ней до устья, туда, где оканчивается Россия и начинается сушь. Потом через эту сушь выйду к Бухарскому ханству, а там - к индийским горам, где не то в вечной черноте, не то в вечной белизне сидят тибетские мудрецы. Я расскажу им про наше солнце, про Волгу и Дон, и, может быть, я очень на это надеюсь, мы вернемся назад.
- А Керемет?.. Он все это слышал и согласился? - невольно спросил я.
- Да, согласился. Это был настоящий человек.
- Солнце... А помнишь, как в Петербурге вы предложили обывательской публике стащить его с небес и судить судом судомоек? - напомнил я другу, и мы оба рассмеялись. Я все же не дал унынию захватить его душу целиком.
- А что тебе еще нужно, кроме солнца?
- Мне? Разве что... Аленушку.
- Ко-го?!
- Да, русскую Аленушку, ту самую, не смейся, с картины Васнецова. Аленушку, которая пошла бы со мной всюду, с которой я не замечал бы дороги... То есть замечал бы, но только в самом лучшем смысле!
Друг запутался: он говорил то, что мало кому говорил. Он был уже одет весьма прилично - на время пребывания в городе я одолжил ему кое-что из своего гардероба. В общем, друг выглядел теперь как вполне благополучный жених.
- Ну поздравляю! - сказал я ему. - Мечта твоя, быть может, сбудется. Пойдем, представлю тебя одному семейству.
Настало время подробнее описать Алену, ту самую, на которую возливалось вино во время наших уездных месс. Конечно, на васнецовский образ она походила мало. Я уже упоминал, что эта барышня была очень мала ростом - на голову ниже моего плеча. Вся она была даже пронзена светом какой-то маленькости. Ее колени были острые, как копья, а ладони были не шире плотвичек, которых ее маленький брат ловил на удочку в заросшем домашнем пруду прямо за огородом.
Нос ее был очень тонок, словно сделан из китайской рисовой бумаги. А веки были совершенно лишены ресниц, и Алена имела странную привычку часто закрывать их, например, во время разговора. Еще при первом знакомстве с нею я понял, что это не вечная сонливость и не невежливость по отношению к собеседнику. Очень любила она, прикрыв маленькие-маленькие веки, водить по своему лицу тыльной стороной ладони, касаясь то лба, до скул, то губ.
Еще раз повторяю: Алена не была сонной и неряшливой девицей. Наоборот, она была очень домовитой хозяйкой, к тому же довольно сильной и удивительно выносливой при таком, казалось бы, крайне хрупком сложении.
Она была красива: у нее была высокая грудь и очень короткие белые волосы, какие сейчас только начинают носить, я слышал, в европейских столицах. Мать, во всем довольная своей дочерью, только в этом пеняла ей и пыталась заставить отрастить косу, как полагается девке-невесте, чтобы не остаться навек именно в таком амплуа. Однако после того, как Алена стала принимать участие в радениях, подобные разговоры прекратились.
Я был желанным гостем в скромном доме на берегу пруда. И когда я привел сюда друга, мои надежды оправдались: злополучный вор Керемет уже не вспоминался его бывшим попутчиком. Глаза Алены стали чаще открываться, являя миру удивленный серый взгляд. Мать, конечно, внутренне негодовала, но все, что было связанно со мной - а значит, с властью, - принималось ею свято и на веру, как это обычно случается в таких кругах.
Как раз за неделю до появления друга я привез из города, в который ездил к доктору, коротенькое клетчатое платье, желто-коричневое, и подарил его Алене. Платье удивительно шло к ее странной, не аристократической, а птичьей хрупкости.
Мать Алены потребовала, как ужасно выражаются ныне, "узаконить отношения" друга и своей дочери. Свадьбу устроили по последней моде - вся она уложилась в час времени. Мать Алены считала, что приобретает в зятья столичного поэта, угодного новой власти, важного и прибыльного мужчину, пусть со странностями, но все они, большевики, не без чудины. Алена знала, на что идет, а мать провожала дочь в Москву. Нет, друг не обманывал ее: просто все эти картины были нарисованы пылким мещанским воображением. Добрая женщина знала, что молодые сперва совершат свадебное путешествие, однако была уверена, что вскоре оно приведет их в столицу.
Друг согласился, чтобы я купил билет для новобрачных, но не далее чем до первой крупной станции. Я сам, пользуясь выходным, вызвался проводить их.
Я прошел с влюбленными версту по чистому полю, потом расцеловал их, послушал их благодарственный лепет, подарил Алене золотой крестик: ознаменование ее солнечного крестного пути и одновременно - запас на черные дни. Эта цыганка в душе ушла, ведомая под руку беспорочным мужем, и долго двигались по желтизне полей их маленькие черные точки.
IV
Свадьба и проводы случились в отсутствие Зипунова - на месяц его вызвали в губернию на какие-то курсы. По возвращении его между нами произошла знаменательная беседа.
- Наслышан о ваших подвигах, батюшка! - сказал он мне, и я поразился, как чекисты все более и более начинают походить на старую благодушную полицию, преумножив при этом ее и так немалую жажду крови. - Как вы поймали этого злостного нарушителя пролетарской законности, так сказать... Этого мелкобуржуазного недобитка...
Зипунов остановился, подыскивая другие формулировки подобного плана, но, видимо, не найдя, перешел к следующей мысли:
- Да, я считаю, что разделение на политических и уголовных преступников должно быть категорически оставлено в прошлом! Если ты убийца - значит, буржуй, а если буржуй - значит, бандит...
- Точно, - поддержал разговор я. - Даже Прудон говорил: la propriete c'est le vol...
- Верно, товарищ Датнов. Я распоряжусь, чтобы наша газета достойно отметила ваш подвиг. Один на один, как римский гладиатор Спартак... Хотя ведь это ваш долг! Вспомните его слова, - Зипунов показал большим пальцем в сторону портрета Ульянова-Ленина, - сказанные про ваше учреждение: чтобы каждый трудящийся республики знал и понял, что именно в лице прокурора и его заместителей он всегда имеет первого и самого близкого помощника и охранителя его интересов...
Зипунов не отличался хорошей памятью, и я гадал: действительно ли он помнил эту фразу или специально вычитал за минуту до моего прихода?
- Но другой ваш поступок меня удивил!
- Какой?
- Алена... Я осведомлен о вашей роли в этом деле!
Однако, вместо того чтобы в ответ на его грозный вид принять виноватый, я поднял палец кверху и сказал громким победным шепотом:
- Это была жертва...
Зипунов осекся.
- Какая еще... жертва?
- Вы слышали о человеке, который увез ее?
- Жалко, что в тот момент я отсутствовал...
Зипунов напомнил мне в этот момент рассерженного моржа, бьющегося своей клыкастой тушей на льду. Я парировал:
- Не стоит так говорить... Это некоронованный владыка петербургского эзотерического мира, мой бывший учитель. Да, с виду он скромен, как всякий, дерзающий постигать высшее! Теперь он живет в Москве. Вы ведь представляете, что советская власть поставила старую мистику на службу себе, в том числе и на самых верхах?
Зипунов открыл рот, но в то же время подался вперед, выражая агрессию всем своим тяжелым телом. В нем боролись свойства городничего из "Ревизора" и чувства старого пройдохи, который довольно тонко чует всякий обман. Требовалось окончательно склонить чашу весов в нужную сторону.
- Вы помните декрет Совнаркома о даровании староверам и сектантам освобождения от воинской повинности, подписанный в январе девятнадцатого года?
- Как же, помню! - Мина неудовольствия промелькнула на лице Зипунова.
- Верно. Он принес представителям советской власти немало хлопот, но он был справедлив. Эти люди не служили нам с винтовкой в руках, потому что вместо этого они служили по-другому!
- Но почему же сверху так быстро была спущена установка этот декрет игнорировать?
- Потому что и среди этих мистических по своему происхождению элементов затесалось слишком много обывателей, буржуазии... Поэтому решено было сузить круг.
- Теперь понимаю...
- Так что - увы - наши мессы придется временно прекратить.
Зипунов глубоко вздохнул, дернувшись всем телом. Я был очень рад: после того как оформилась моя новая идея, эти карикатурные обряды начали мне основательно надоедать. Конечно, с их помощью я мог бы продолжать наблюдение за психологией нового типа людей-нелюдей, волею истории вышвырнутых на поверхность. Но, хотя я и понимал ценность подобного вида наблюдений, они уже не могли пересилить чувство тоски в моей душе.
- Ну а потом?..
- Потом - продолжим. Найдем нового медиума. Может быть, из столиц пришлют в порядке возмещения. Кстати, если вы окажете некоторую помощь семье Алены... Мне кажется, наверху это произведет довольно благоприятное впечатление.
- Это я вам обещаю!
Зипунов, как мне показалось, вложил в свое высказывание всю твердость, которая была у него приготовлена для разговора со мной.
- А теперь вот что, Богдан Степанович... Мой учитель, великий метафизатор, поручил мне довольно важное дело. И я горд, что оно доверено именно мне и нашему городу.
- Всяческая помощь вам будет оказана.
- Я говорю о Керемете, то есть бандите, которого я арестовал. Когда его должны будут отконвоировать к месту прежнего заключения?
- Завтра.
- Мы должны всячески оттянуть этот момент, а по возможности и вообще оставить этого субъекта у нас.
- Но зачем?
- Прежде чем я оглушил его, я успел увидеть его открытые глаза и понял, что это именно тот человек, который нужен мне для сотворения нового обряда.
- Тоже... жертва?
- Да, именно.
- Но почему же вы просто не можете отдать приказ оставить его у нас, если у ваших есть контакты с высшей властью?
Старое подозрение снова почувствовалось в тоне Зипунова, однако я был начеку.
- Вы понимаете, что еще не все рядовые большевики готовы, к сожалению, узнать внутреннюю суть нового учения. Ведь официально пропагандируется полный материализм... И нужно сказать, что не только рядовые члены, но и иные руководители, особенно уездного и губернского уровня, не способны читать между строк...
Зипунов страдальчески нахмурился.
- Конечно же, речь идет не о вас! Помните, какую телеграмму, - спросил я, понизив голос, - вам прислал Лев Давидович?
Действительно, вскоре после воздвижения бронзового Иуды в город пришла благодарственная телеграмма Троцкого, одобрившая "интересное начинание" энских властей и особенно удачное художественное решение - видимо, Лейбе Бронштейну показали фотографии памятника.
Глаза Зипунова вновь покрылись мечтательной поволокой, и я был отпущен без всяческих подозрений, а также с обещаниями написать письмо в соседний город и добиться, чтобы бывший налетчик теперь числился за нами.
На следующий день я нанес визит в камеру Петра Рафаиловича Керемета. Оказалось, Керемет - это не уголовное прозвище, а вполне законная фамилия. Странно: теперь этот человек отбросил всякую неразговорчивость и даже оживился при виде меня, как при встрече со своим добрым знакомым.
- Да, здорово вы меня тогда по макушке... А правду говорят, что вы из бывших?
- Правда... Приступим. Ты, Петр Рафаилович, родился, судя по материалам дела, в городе Феодосии.
- Истинно так, барин.
Может быть, следовало укоротить его манеру так ко мне обращаться как-никак я был помощником прокурора Советской республики. Но я решил, что ввиду необычной темы предстоящего разговора нам не помешает нотка доверительности.
- Хороший край... Ты был там сыном уважаемого человека, чем же тебя не устраивал этот жребий? - спросил я его со всем возможным дружелюбием.
- Тем же, что и вашего друга, - улыбнулся он мне своими ослепительными зубьями.
Это стало уже слишком далеко заходить.
- Мой друг никого не грабил и не убивал.
- Да, но зато все вы заставляете убивать и грабить других... О, из самых благороднейших, разумеется, побуждений! Чтобы отыскать вдохновения для новой поэзы... О, императоры нероны на почве российской жизни!
- Однако ты порядочно образован... и хамоват.
- Посадили человека в каменную клетку, а хотите от него вежливого обращения! Здесь в камере стенка подтекает, в вашей России осень, сыро, а у нас в Крыму самая прелесть сейчас и есть...
- Почему же ты от этой прелести ушел, бросился в сырую Россию?
- А скучно... Ведь так хочется много жизней прожить, перепробовать! Может, в одной был бы я честным караимом и храм Господень с усердием бы посещал, а в другой ворую вот... Но поскольку не можем мы с вами быть уверенными, что жизней-то много, пришлось в одну все втиснуть...
- Как это?
- А вот так! Я ведь, когда в тюрьме был, не пропадал. Все себе и другим сам делал... Потому что множество чего я умею. Я даже городовым был, недолго, правда, три месяца в Екатеринодаре, уж больно дело постылое и...
Тут мой подопечный прибавил непотребный эпитет, но я не остановил его чувство близости к цели все больше окрыляло меня.
- Думал я иногда... хорошо бы и зверьем каким побыть или бабой... хотя баба больше презрения и недостойна, но был же я нищим...
- Нищим?
- Был. Ходил, побирался, пел. Да и с этим вашим поэтом...
- Оставим его.
- Хорошо. Всякий человечишка во мне любопытство возбуждает. Кто сильный, а кто убогий. А ведь унижаться тоже надо уметь хорошо... И Христос унижался. Мир подл - это тоже хорошо.
- Ну ты, Керемет, все-таки унижался не очень! Больше в шелку да бархате хотел быть.
- Что верно, то верно. Интересней все же играть высоко. Хорошо так кровка бурлит, люд поганый радуется... Эх, барин, знали бы вы, как весела такая пляска, может быть, сами пошли бы!
Значит, Керемет относился к народу караимскому: тонкий нос, аристократичный профиль, совершенно не смотрящийся в сочетании с маленькой черной цыганской головкой. Я вдруг понял, что чертами лица он напоминает мне ушедшую Алену. Неужели и она принадлежала к этой же загадочной нации?
Караимы - крымские жители, язык их походит на еврейский, однако именно этот народ по статистике был в Российской империи первым по числу гвардейских офицеров на каждую сотню своих представителей. На арамейском, языке Библии, слово "караим" значит "человек Книги". Караимов совсем мало, может быть, три тысячи в мире, и мало народов более непонятных. Кто-то ведет их происхождение от самых вавилонских халдеев, иные причисляют к потомкам хазар, тех, на которых ходил Вещий Олег.
Я по-другому посмотрел на Керемета, сбавил тон, и он в ответ стал говорить со мной по-другому, так что наша доверительность переросла в келейность. Я вполне серьезно спросил его:
- А может, гордыня это, Керемет?
- Есть и гордыня. Слаб человек...
- Хочешь, помогу против гордыни?
- По городовому? Это не пойдет такому шикарному барину, как вы...
- Нет, не так! Поначалу советом: пляши лучше перед скинией, как Давид. Или караимская религия без уважения относится к этому библейскому царю?
- Как без уважения?! Мы же иудейской веры... А вы, барин, составите ли мне компанию в этой пляске? Ведь хороший хозяин пробует все угощения заодно с гостем, а я у вас в гостях!
И он восхитительно широким жестом обвел грязную, мокрую камеру одиночки.
- Я не имел в виду столь конкретно, - растерялся я, а на всякий случай и рассмеялся: - Да здесь и нет ничего похожего на скинию.
- Это неважно, - заявил он, и вдруг непонятно откуда появился в его руке маленький берестяной рожок. Керемет заиграл и одновременно начал танец: стал выделывать странные па, метаясь, как мяч, между стенами камеры и отталкиваясь от них то правой, то левой рукой.
- Пляшите со мной - и исполню все, что хотите, - успел сказать он мне между звуками рожка.
Багровый туман застил мне глаза: я видел сквозь него в лице караима свое отражение, карикатурное, как обезьяна. И я стал в такт обезьяне бросаться меж стен, хотя видел, что Керемет уже остановился и только играет на рожке, не сводя с меня жирных черных глаз. Я отплясывал подлинную чечетку, отталкиваясь от настырных стен не только руками, но и ногами. Мне было все равно - не вздумает ли подглядеть в щелку надзиратель. Унижаться так унижаться, а Керемет смеялся своими ядовитыми глазами-ягодами.
- Да, хорошо вы пляшете, барин. Потешили меня... - Подленькая улыбка зверька явилась на его мелких щеках, ибо лицо этого человека неумолимо менялось, являя черты то породистого дворянина, то последнего лакея. - Кому хотите сделать амбу? Кого велите убить?
- Никого. Разве что самого себя.
- Это будет вам сложнее...
- Но убить, чтобы воскреснуть к новой жизни, к подлинной жизни нестяжателя и святого.
- Да вы Бог ли, чтобы предлагать такое? Или святой угодник? Вы просто барин, лощеный петербургский барин - и больше ничего.
Однако когда я начал объяснять Керемету существо дела, он сразу потерял насмешку, сгорбился, испугался, но слушал внимательно. Попросил день подумать.
- Ты желаешь слишком многого для человека твоего положения, - сказал я ему. - Тебе грозит расстрел, и только я могу представить твои преступления стихийным протестом против остатков буржуазного мира и определить на полгода в теплую недалекую колонию! Но с учетом того, что мое дело не терпит насилия, я даю тебе время на то, чтобы взвесить мои слова.
Как я и ожидал, Керемет согласился. Немного сложнее было уговорить Зипунова, ибо я и перед налетчиком был намерен честно исполнить свои обещания.
В приемной царила чехарда - в стране затевалась административно-территориальная реформа. Даже такой заметный по энским меркам человек, как я, должен был ожидать почти десять минут. За это время я успел узнать из нового большого плаката, что, оказывается, старые добрые губернии, уезды и волости "носили при царизме полицейско-фискальный характер и отражали угнетательскую колониальную политику царизма и империалистической буржуазии, новые же советские социалистические территориальные образования будут способствовать наилучшему управлению рабоче-крестьянской республикой и в конечном счете приближать победу коммунизма - заветного счастья всех трудящихся".
Все это немного развлекло меня на протяжении всего ожидания, но вскоре я начал недоумевать: а почему вся эта суета происходила в отделении народного комиссариата внутренних дел? Я уже привык к тому, что по любым делам власти в Энске нужно обращаться к Зипунову, но таков был приватный порядок, тут же я видел проявления деятельности официальной.
Я увидел в коридоре заместителя нашего Богдана Степановича, и от него, к удивлению своему, узнал, что действительно Всероссийский съезд Советов поручил именно наркомату внутренних дел произвести эту реформу и определить границы новых территориальных единиц - районов и областей.
Сперва я возмутился - не вслух, конечно, - но потом одернул себя. Какая мне, в сущности, разница, правят в этой стране полицейские или святые? Что-то внутри пискнуло: это же твоя родина. Но я укоротил себя: моя родина не это, не Зипунов, не напуганные нэпманы из казино на Большой Советской, не баба, рожающая детей, а только странные люди. Моя родина и родные - это мой друг, его Аленушка, учитель Свешницкий, Елизавета Павловна, отец Медякин, Керемет, даже Иуда! Пусть лучше Иуда, чем зипуновы нынешние, будущие и прежние, вроде пристава Второй Адмиралтейской части, моего, к стыду сказать, близкого родственника.
Визит в отдел ЧК дал нужные плоды. Наконец-то все было готово! С чувством громадной радости и еще большего предвкушения я отправился к себе домой, где неожиданно встретил Елизавету Павловну Свешницкую.
- Здравствуйте. Вы давно не появлялись. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете.
Этот вопрос и сам приход ко мне молодой девушки удивили меня - все-таки мы с ней до сих пор разделяли дворянские понятия об обращении человека в обществе. Но, возможно, за время моего отсутствия мадмуазель Свешницкая осовременилась. Или что-то другое подтолкнуло ее на этот шаг?
По крайней мере вопрос был требовательным, словно она была начальство, а я ее подчиненный, который подозревается в том, что вместо службы часто заворачивает в карточный клуб. Однако я не подал виду, что удивлен, а, велев хозяйке вскипятить чая, стал подробно рассказывать.
Мы действительно долго не виделись, месяц, наверно, - все из-за моих хлопот. Но теперь я ей рассказал все искренно и подробно: и про поездку к доктору, и про лекарство, и про вора, и про Зипунова. По моему настоянию она обещала ничего не рассказывать своему отцу - во всяком случае, теперь.
- У нас в доме сейчас расстройство, - сообщила она. - Папа стал раздражительный, на всех кричит, своего ученика, которого он раньше любил, несколько раз укорял за бездарность и выгонял из дому... А когда тот приползал, как собачонка, скрепя сердце прощал его. А ведь вы знаете, Датнов, когда-то отец хотел выдать меня за него замуж...
- Да?
- Ну не то чтобы хотел... Но намекал, что был бы не против. А знаете, почему он невзлюбил этого человечка теперь?
- Откуда же мне знать, милейшая Елизавета Павловна?
- Все эти скандалы и раздражения начались, когда исчезли вы. Вы уже месяц не посещаете наш дом... И за все это время отец ни разу не упомянул вашего имени...
- Стало быть, ваше предположение ошибочно.
- Но по времени его озлобление удивительно совпало с тем моментом, когда вы пропали! Однако сейчас я хотела поговорить с вами не об этом... Скажите, это ваше лекарство - оно более или менее безопасно? В том смысле можно ли им отравиться?
- До смерти? Если принимать ту дозу, которую я рассчитал на основании слов доктора, вряд ли. Если у человека плохое сердце, возможны некоторые осложнения, поскольку оно влияет на сердечный ритм. Но все равно... Вы спрашивали "более или менее"... Более или менее оно точно безопасно.
- И вы планируете испытать его на ворах? А потом что? Или вы только ворами и ограничитесь?
- Нет, почему же? Потом я начну потихоньку рассказывать людям об этом методе, находить добровольцев...
- А вы знаете, что вам уже повезло? - перебила меня Свешницкая, и я с удивлением посмотрел на нее. Поразили меня не столько ее слова, сколько их тон и странная улыбка. Раньше я никогда не видел у этой девушки такой улыбки - лицо будто расширилось, и ощущение какого-то глубокого довольства победой появилось на нем, словно достигнута цель жизни. Скажу, что такая улыбка бывает иногда у мадонн, смотрящих на свое дитя. Я как будто в первый раз взглянул на Свешницкую и увидел, что у нее широкие скулы и что-то монгольское в лице, казалось, торжествующе смотрит на меня азиатская улыбающаяся статуя.
Мы немного постояли друг против друга молча, и я наконец тоже натянул в ответ какую-то из улыбок и смог спросить:
- Почему же мне... повезло?
Она таким же тоном, словно я был поверженный враг, а она добивающий врага самурай, проговорила:
- Потому что первый доброволец уже нашелся.
Когда она это сказала, все сразу переменилось. Жертва вскочила и надумала обороняться, говорить быстро. Я спросил, и вопрос мой уместился в долю мгновения:
- Так это вы?
- Да.
- Не получится.
- Почему?
- Нет мотива.
- Что ж... все другие могут захотеть стать странными людьми, а я нет?
- Лекарство не испытано... Я не могу разрешить.
- Но мне надо. Я не могу больше ждать!
- Почему ждать? Вы только что от меня услышали...
- Мне нужно запечатлеться у вас в памяти. Мне нужно, чтобы вы меня помнили каждую секунду! А для этого нет средства другого... Так что давайте свой порошок.
- Но, Елизавета Павловна, милая, это опасно!..
- Никакая я вам не милая. Вот отдадите порошок - буду милая. Пока я вам никто.
- Почему же никто? Вы мне добрая знакомая и...
- Я вам обычная провинциалка, вдобавок не самая красивая. Таких, как я, можно попытаться соблазнить, а можно определить себе в подруги и знакомые. Это дело вкуса и времени. Ведь честно скажите: все так?
- Да, может, и так, но зачем вам я? И на что вам сдался я?
- Мне с вами интересно. Вы сами говорили... Это и значит, что я вас люблю.
Она склонила голову набок и спрятала лицо, как дитя. Однако не заплакала - по крайней мере я не увидел.
Когда нужно стало что-то говорить, я сказал:
- Лекарства я вам все-таки не могу дать... Это было бы совсем уж безответственно! Да вдобавок надо разобраться и подумать...
- Да, вы правы, разобраться и подумать, - спокойно, только уж слишком четко и тихо повторила она мои слова. - А я пока пойду, можно?
- Да, конечно, идите. Мы скоро увидимся.
На следующий день все было готово для инъекции Керемету. К тюрьме была вызвана медицинская сестра, которой сказали, что нужно сделать укол глюкозы. Она, сам вор и тюремная охрана ждали меня, но я так и не пришел.
Потому что впрыскивать стало нечего.
Потому что я понял, почему так спокойно и четко проговорила Свешницкая последние слова. Понял это за час до предполагаемого действа - когда открыл ящик стола и не нашел там пакета. Когда вспоминал, что вчера, еще до всех этих странных признаний, я подводил Елизавету Павловну к столу полюбопытствовать на внешне безобидный вид белого порошочка, способного изменить мир.
В тот момент, когда я глупо стоял над столом, скрипнула калитка - это хозяйка вернулась от соседки. Я расспросил ее и узнал, что "сегодня к вам та же барышня была... Я ей сказала, что вы на службе, а она сказала, что вы сейчас придете и она к вам по делу... Я ее тогда и запустила к вам в кабинет, ибо знаю, что вы с ней в дружбе... Не в коридоре же ей стоять".
Фраза явно имела характер осуждающий, в глазах читалось "а еще дочь учителя", но мысли хозяйки совершенно изменились, когда, вместо того чтобы устыдится, я заорал:
- Ко мне никогда и никого не пускать в мое отсутствие! Я фактический глава энской прокуратуры и... Вы знаете, что будет?!
В последний вопль я вложил довольно расплывчатый смысл: я даже сам не очень понимал, что имел подразумевал под словом "будет". Но старушка побелела, затряслась и готова была бухнуться мне в ноги, ибо посчитала, что я грозил именно ей.
- Эти двое же приходили к вам... А учительская дочка - что от нее может быть?! Я не знала, не знала, что она контра!
- Да никакая она не контра. Успокойтесь! - сказал я и сам немного успокоился. - Я только имею в виду, что ко мне просто так никого не допускать! Простая мера предосторожности...
- Но у вас ведь пропало что? - высказала хозяйка по-простонародному прозорливую мысль.
- С чего вы взяли? Что за подозрения на уважаемую женщину? Я просто указываю вам, как впредь быть в таких случаях... И никого никогда не пускать.
Оставив хозяйку, я вышел на улицу. В доме Свешницких Елизаветы не оказалась. Сам хозяин был не очень в духе.
- Знаете, Александр Федорович... Может, мне и не стоит говорить об этом, но я все-таки отец! Вы много времени проводили с моей дочерью раньше, и я невольно ожидал какого-то решения с вашей стороны...
На секунду я смешался. А потом вдруг перестал чувствовать себя, мною стал управлять кто-то неведомый. Я усмехнулся и сказал:
- Павел Андреевич! Ваша мысль устремлена к звездам, к будущему человечества, а вы отвлекаете ее на рассуждения, достойные старорежимных мещан. Вы мне сами говорили, что в космических колониях на людях даже не будет одежд, поскольку они могут только стеснять движения. Неужели вы говорили неискренне, неужели для вас все это только игра воображения, а не смысл существования?!
Старик задрожал, болезненная морщинистая складка прорезала его лицо.
- Вы правы, - сказал он, - вы правы.
Тогда я сразу ушел, но на другой день получил сведения, что Лиза вернулась и ей нехорошо. И вот я впервые увидел ее после того поступка. Она полулежала, и мы были наедине.
- Лиза, как вы посмели? - сказал я нарочито грубо, хотя мне было страшно и стыдно. - Вы низвели, может быть, последнюю идею в моей жизни до какого-то выяснения личных отношений...
Я осекся. Она ничего не ответила.
- Ну я ни о том. Вам... плохо?
- Да. Но я... не жалею. И вам не советую, Александр Федорович.
- Как же, как же, вам ведь плохо!.. Я говорил с нашими врачами, но они ничего не могут объяснить. Я... привезу вам того доктора. Я его за шиворот притащу! Я сегодня же выезжаю.
- Не надо. Он не виноват... Это только мы с вами.
- Это только я!
- Нет, только я. Я к вам влезла в дом, как воровка. Вы меня простите... простите, простите...
Она говорила это слово, как будто обсасывая его со всех сторон, как леденец. Она находила в этом удовольствие - я впервые увидел, как действует мое лекарство, и волосы зашевелились у меня на голове. Тут не было бессмыслицы - тут был именно тот странный смысл, который я жаждал видеть у своих испытуемых. Повторяя любое слово много раз подряд, вы, как в детстве, опускаетесь куда-то в удушливую и заманчивую глубь. Но намерения Лизы были еще хитрее: она пугала меня и даже издевалась надо мной, она нашла алмаз, называемый властью над другим человеком, и не собиралась отдавать его.
Да, с того дня общая странность и нелепость мира приобрела для меня человеческое лицо, лицо Лизы.
Я сбежал по лестнице. Вскоре я узнал, что Лиза в беспамятстве, и сразу же оказался на вокзале.
Не помню, как я ехал, но доктора в его городе я не застал. Доктор уехал в большевистскую столицу. Я воспользовался прошлой бумагой и при помощи местного "дзержинского" устроил повальный розыск, допросил всех врачей. Я знал, что, когда доктор вернется, шуму будет много, поскольку он, как и наш Свешницкий, тоже был весьма известен в Москве. Но я давно уже жил с самоубийственным ощущением и теперь был даже рад растравить его.
Однако доктор как будто чувствовал возможную слежку и умудрился уехать именно частным порядком, не выписав себе командировки и не поставив в известность о будущем месте пребывания никого из сотрудников, семьи же не имел. Потому я сообразил, что лучше вернуться в Энск: если я все же решусь ринуться в Москву на поезде, наш город все равно ближе.
Две мысли мучительно боролись в моем мозгу все это время: одна мысль, что все случившееся есть воздаяние мне, и другая - что все, напротив, идет наилучшим путем, затронув дорогого мне человека и тем самым позволив видеть и чувствовать претворение в жизнь своей идеи ближе всего, сделав опыт фактически над собой. То я уже подходил к тому, чтобы с облегчением посчитать себя слабым и подлым, - оказывается, и это может служить успокоением в определенных обстоятельствах! - то, наоборот, готов был убедиться в спасительной правильности судьбы подобно утопающему, который видит сквозь водную толщу тянущуюся к нему руку спасителя. Но ни то, ни другое не могло победить, и я сумел отвлечься только тогда, когда случайно поднял голову и увидел сквозь открытую дверь купе двигающегося по коридору Керемета.
Он шел в мою сторону, еще не заметив меня. Когда мы поровнялись, я сумел быстро наклониться к нему и шепнуть: "Я не выдам!"
Он отшатнулся. Я сказал: "Какая встреча! Пойдем прогуляемся".
Через две секунды мы оба стояли в тамбуре. Я знал, что суд не мог состояться сегодня, и, следовательно, Керемет бежал из тюрьмы. Я знал, что он хорошо владеет ножом, и хотя, у меня был револьвер, в узком тамбуре у него, специалиста, были все преимущества.
- Легко ушел-то?
- Легко, - ответил он и улыбнулся. Я видел рядом его глаза-маслины.
- Мне нет никакой нужды тебя сдавать. Эксперимент свой я уже проделал, и ты мне больше не понадобишься.
- Верю, ваше благородие, - еще шире ухмыльнулся он, и я увидел его белоснежные зубы.
На улице была уже ночь, вагон качался, и единственный фонарь описывал дуги, словно луна на небе в день Апокалипсиса.
- Так вы что же, - продолжал он, - теперь как я?
- Еще нет, - просто ответил я ему.
- А скоро? - Он засмеялся, и в его смехе не было издевки.
- Думаю, скоро, - наконец догадался я улыбнуться в ответ.
Он обнял меня и захохотал.
Наверное, только бешеным событиям последних дней я обязан тем, что у меня так обострилась реакция. Поэтому, когда, обнимая меня правой рукой, он замахнулся ножом в левой, я успел перевернуть его от себя и подставить подсечку, так что Керемет упал на пол, после чего я выхватил револьвер и застрелил его. Это было первое убийство в моей жизни.
Почему так случилось? По всем обстоятельствам именно я должен был лежать убитым на железном полу тамбура. Что - или кто - спасло меня? Счастливая случайность, пренебрежение к собственной жизни, твердость в стремлении к чуду, которое я пытался осуществить с помощью белого порошка, или, наоборот, страстное желание отречься от этого чуда и поскорее увидеть Лизу? Не знаю - знаю лишь то, что я увидел ее на полчаса позже из-за того, что милиция возилась и составляла всяческие протоколы. Мы бы опоздали и на большее, если б не моя должность и то, что я пообещал транспортным милиционерам всю славу поимки опасного преступника, бежавшего от народного правосудия.
Я прибыл в дом учителя в два часа ночи, и никого это не удивило. Растрепанный, как большая курица, Свешницкий поразил меня: Лиза при смерти, хотя час назад она пришла в сознание.
- Она снова в беспамятстве, - сказал сверху знакомый голос.
По лестнице со второго этажа, где была комната Лизы, спускался иерей Арсений Медякин. Подойдя к нам, священник добавил:
- Но я успел причастить ее Святых Даров.
Чувствовалось, что он чего-то не договаривает и смотрит почему-то на меня.
Когда Медякин ушел, Свешницкий жалобно заговорил:
- Я не хотел этого... религиозного дурмана... И я не думал, что захочет она, но Лиза как очнулась днем, так все требовала священника... И я ей не мог уже ни в чем отказать...
- Мне тоже казалось, что Елизавета Павловна не религиозна, - сказал я.
- Конечно, нет, что за чушь! Это просто бред... бред этой неведомой болезни... Непонятно, что такое!.. Я телеграфировал... - Тут Свешницкий назвал имя доктора.
- Он не приедет, Павел Андреевич, поскольку я его уже искал весь день и доставил бы... А скажите, Елизавета Павловна настаивала именно на кандидатуре Медякина?
- Нет, она говорила - любого, только чтобы православного... А он не приедет? Я так и знал... - сказал Свешницкий и бессмысленно провел рукой по голове, взъерошив и без того беспорядочные волосы, прилично сохранившиеся для его лет. - А насчет попов - я их не очень знаю, а этот из ближайшего прихода.
И вдруг я словно вышел из столбняка: я понял, почему так дико смотрел на меня отец Арсений и зачем Лиза решила причаститься. Все это продолжение ее мести за то, что она поняла, что я не смогу ее полюбить.
Она рассказала на исповеди все - или почти все. Она выставила свою ложную жертву на всеобщее обозрение, а меня на ненависть и поругание.
Воистину - почему воспитание вытравливает из женщин последние капли самолюбия? Откуда эта любовь к уничижению? Или, может быть, не любовь, а просто безразличие? Тогда они стократ умнее нас, о чем я, впрочем, смутно догадывался еще с детства. А ведь уже тогда меня начали убеждать, что величие женщины в материнстве и целомудрии. Ложь! Это величие - презрение к самоуничижению. У мужчин оно бывает крайне редко, разве что у православных святых да у самого Христа.
Я посмотрел на Свешницкого: детский огонь в его глазах погас, они стали тусклы, как никогда. Потеря детства - это неизбежное следствие ответственности за человека, и мне стало жалко отца больше, чем дочь. И вдвойне неприятнее сознавать, что именно я всему виной.
Я не пошел дежурить у постели умирающей. Я не видел Елизавету Павловну до полного и неожиданного выздоровления, которого никто уже не ожидал.
То есть назвать выздоровление Лизы полным можно было, конечно, с известной оговоркой. Таинственная dementia, что свила гнездо в ее теле, давала о себе знать. Да и какой-то физический ступор чувствовался почти месяц, и довольно странно было, наверное, видеть со стороны, как Лиза вышагивает походкой игрушечного солдатика в свадебной фате.
Мы поженились через неделю после ее выздоровления. Я не предложил церковного венчания, и она не намекнула о своем желании совершить этот обряд.
После свадьбы, на которую она согласилась, как ребенок слушается своих родителей, некоторое время Лиза сохраняла какую-то апатию. Я вывел свою жену из этого состояния, выпросив у тестя модель какого-то судна величиной со среднюю щуку. Внешне модель была совершенно некрасивой, как и полагается экспериментальному образцу, но мы раскрашивали этот корабль вечерами, и он стал просто сказочным.
Потом Лиза придумала наладить сообщение с разумом иных космических миров посредством белых щитов, воздвигаемых на свежевспаханном поле, чем привела своего отца в полный восторг. Мы даже решили попытаться установить их на сжатых нивах, чтобы не дожидаться весны, и хотя крестьяне с большим трудом согласились на новую барскую выдумку, а желтый цвет не очень оттенял белый, щиты, которые носили на своих спинах мы с неожиданно помолодевшим учителем, простояли на полях Энской губернии целый месяц.
А дома мы постоянно вместе играли в шахматы, хотя до сих пор ни я, ни тем более Елизавета не увлекались этой игрой. Теперь у нас обоих обнаружился талант недюжинных гроссмейстеров, по крайней мере в масштабе Центрально-Черноземной области, включившей в свой состав несколько старых губерний.
Службу моей жене пришлось оставить, она начала боятся выходить на улицу. Да и я стал выполнять служебные обязанности спустя рукава, поскольку мне нужно было почаще возвращаться в свой дом, спасать Лизу от одиночества, а потом вновь бежать в присутствие. Часто, особенно вечером, по своему приходу я заставал свою жену в слезах: испуганная чем-то, она бросалась ко мне в объятия, словно малый воробушек.
Теперь я не мог сидеть длинными осенними вечерами в полутьме, как делал это всю свою прошлую жизнь, - ради Лизы приходилось зажигать свет пораньше, как только появлялся намек на сумерки.
Однажды я шел на почту, горя желанием поскорее узнать ответные ходы наших шахматных противников: мы одновременно играли с несколькими десятками человек по всей Советской республике. Путь мой пролегал мимо обновленческой церкви. На подходе к ней я услышал крики и шум. Немалая кучка прихожан волновалась у входа.
- А в чем тут дело? - спросил я у одного старика раскольничьего вида, подойдя поближе. Я надеялся, что он меня не знает, - так и оказалось.
- Вонь антихристова! До чего дошел, бесстыдник, поп-расстрига! Папежной ересью смущать православных...
В этот момент на высоком церковном крыльце появился бледный отец Медякин. Он поднял было руку, желая не то успокоить, не то благословить народ, но его жест толпа восприняла как богохульственный, и к крикам прибавилось несколько со свистом пущенных камней. Я с ужасом заметил, как один из них попал в голову священника, как Арсений зашатался и побледнел.
Я достал револьвер и выстрелил под ноги старику-раскольнику, потом дал еще несколько залпов поверх голов. Толпа, как по команде, рванулась в ближайшие переулки. С дымящимся револьвером в руке я пробивался в противоположном направлении.
Наконец я взбежал на крыльцо и принял на свои руки несчастного иерея. Мои опасения еще более увеличились, когда я увидел, что камень угодил почти в висок. Длинные волосы Медякина, и так не особенно чистые, рядом с раной совсем спутались от крови.
Я не очень представлял, что делать в таком случае. Втащив Медякина в храм, я рявкнул:
- Спирт... спирт есть у тебя... к ране приложить?
- Нет... нету спирта.
Какой-то из пономарят понял мое желание по-своему и принес бутылку церковного кагора. Делать нечего - я сунул горлышко в рот священнику да и сам отхлебнул немного.
Слава Богу, отец Арсений сознания терять не собирался и даже не очень страдал от боли. Видя, как после хорошего глотка кагора на его щеки возвращается румянец, я спросил:
- Что же вы сделали, отче Арсение, что вызвало такую ярость этих недобрых людей?
- У меня появилась мысль: ради символического обозначения всемирной роли христианства... и вселенскости церкви... ввести в литургию немного католических песнопений на латинском языке - всего пару псалмов, как вспомогательных элементов...
- Эх, отче, отче, экспериментатор вы! Мученик природы и прелюбодей мысли, как говорил Достоевский. Экуменист энский... Кто ж такое творит в уездном соборе? В нашем городе и реформы Никона-то с трудом признаются...
Широко распахнулась дубовая дверь, в проеме появился маленький милиционер, весь перетянутый ремнями, так что являлась мысль: может, это не человек вовсе, а один кокон? С ним были двое его долговязых помощников, так что в комплекте они напоминали композицию магометанской мечети с двумя минаретами по бокам.
Милицейский вошел очень начальственно, но, увидев меня, немного смутился. Однако говорить начал громко, на прежнем запале:
- Что здесь произошло? - И сам же себе ответил: - Препятствование свободному отправлению культа совести?.. Ничего, изловим всех этих белогвардейских недобитков-тихоновцев!
Милиционер кивнул одному из помощников, и тот немедля подал ручку и бумагу.
- Вы, гражданин Медякин, кого из них запомнили?
- Не надо... протокола, - нерешительно махнул рукой отец Арсений.
- Как это - не надо?! Это как это, я вас спрашиваю, не надо? Вы подверглись нападению контрреволюционных элементов, и теперь ваш долг...
- Не надо.
Милиционер осекся, гневно посмотрел на Медякина, однако потихоньку перевел глаза на меня - и гнев сменился вопросом. Я заметил, что сам отец Арсений тоже обратился ко мне.
- Не надо протокола, - подтвердил я.
- Тогда разрешите откланяться...
Носитель социалистической законности откозырял нам, и мне показалось, что он с трудом удержался от слов "ваше высокоблагородие". В дверях милицейские столкнулись с фельдшером и долго не пропускали его, пока не вышли всей группой.
Фельдшер наложил перевязку и констатировал, что никакой опасности нет. Я отправил его восвояси, а отец Арсений отослал пономарят. Когда мы остались одни, через минуту он вдруг спросил:
- Александр Федорович, почему вы не захотели венчаться?..
Я сказал нечто невразумительное по смыслу и примирительное по тону. Однако священник сам не собирался заострять внимание на этом вопросе - ему просто нужно было начать разговор.
- Слушайте, а вы не могли бы достать мне немного... того порошка? Да, я понимаю, вы спросите - зачем?
- Действительно, спрошу. Вы, по-моему, и так человек вполне не от мира сего!
- Может быть... Но не в большой степени. Вы видите нелепость всех моих ничтожных попыток, и это не нелепость юродивого, а карикатурность обычного, только жалкого человека.
- А вы хотели бы приблизиться к идеалу юродивого?
- Да. Видите ли... Я служу делу церковного обновления, но не могу обновиться сам! Если бы вы знали, сколько во мне серого, теплого, ненастоящего, насколько я хочу казаться другим... Людям можно казаться-то, но себя не обманешь.. Дерзание мое слишком мало. Вам хорошо, вы человек столичный, вам позволяли пестовать вашу неотмирность, относясь к ней мило и со снисхождением, как к забавам ребенка. А у нас тут другие порядки... Жестокие, знаете ли, порядки! Слишком рано заставляют окунуться в мир, можно сказать, как вы тогда на лодке... Не спрашивая, сразу вниз головой.
- Но вы видели состояние моей жены тогда, на исповеди! Неужели вы хотите пройти через то же?..
- Нет, я не боюсь. Сейчас у меня краткая минута решимости, может, в первый раз за всю мою глупую жизнь... - сказал он, комично потирая висок, однако было не до смеха. - И я готов пройти через все. К тому же Елизавета Павловна говорила мне, что обычно все проходит проще... И в любом случае лучше испытать муки один раз, но потом иметь твердость к презрению человеческому.
Он еще долго говорил, пока я не ответил:
- Приходите ко мне через три дня, и, если ваша минута решимости продлится это время, я дам вам то, что вы просите.
Медякин не возражал - он благодарил.
Но не пришел. И вскоре город потрясло невиданное событие, начавшееся с того, что на новой проповеди отец Арсений поклонился своей пастве в ноги, попросил у нее прощения и порвал с ересью. Через несколько дней в город прибыл новый священник, присланный обновленческой "Живой Церковью", однако Арсений Медякин вместе с наиболее ревностными верующими не пожелали впустить их храм и выдерживали осаду двое суток, пока не вмешался Зипунов и собор не был взят милицией штурмом.
Несмотря на то что отец Арсений и его паства не оказали хоть сколь-нибудь серьезного сопротивления, все они были арестованы и помещены в ту самую тюрьму, где недавно сидел вор Керемет.
Разбирать это дело приехал Полторацкий. Мой бывший университетский друг давно уже покинул Энск и служил, как я знал, в губернской ЧК.
Наша встреча была в сдержанных тонах.
- Значит, раскольничьи бунты практикуете? - спросил он меня, но я нахмурился и не ответил.
- Должен предупредить тебя... Скоро грядет новая чистка, направленная против дворянских элементов. А ведь ты на нашем небосклоне подлинный граф Серебряный...
- Спасибо за столь лестное мнение обо мне. Что же касается чистки - как говорится, Бог дал, Бог и взял. По крайней мере я уже и так неплохо пожил.
- Вот как... А на вид вроде молод.
Но я опять не принял шутки. Сам даже не знаю почему я почувствовал тогда физическую ненависть к этому человеку.
Однако он не оставил своих попыток и вечером без приглашения пришел ко мне в дом.
- На что злобу затаил, Датнов? - прямо спросил он.
- Как ты сам верно сегодня заметил, у ЧК я не вызываю особенных симпатий... И ее сотрудники у меня тоже.
- Зря, Датнов. Мелко! Ты на меня - за то, что я тебя сюда затащил?
- Нет.
- А почему?
- Не знаю. Может быть, за то, что ты будешь вершить расправу над Медякиным...
- Я еще плохо ознакомился с делом, а по Энску этого попа помню смутно... Но ведь он, кажется, дурак!
- Все может быть. А, знаешь, с некоторого времени дурак, горячо желающий стать подлинным человеком, мне как-то дороже умного, но скучного в своей подлости.
Полторацкий мог повлиять на судьбу Медякина - более того, и на мою. Но выбор нелепого экс-семинариста, препоясанного туго, как Ванька-Встанька, мне казался в этот момент лучшим и честнейшим.
Полторацкий зашагал по моему кабинету.
- Обвинение серьезное, - сказал он, - и, признаюсь, правое. Я обещал тебе право на эксперимент... но сам не смог реализовать его. Я не знал тогда, какая сила нужна для этого, не знал, какие морды, какие рожи встретятся на моем пути и что нужно сделать, чтобы отыскать в них хотя бы малую черту - пусть не Бога, пусть хоть дьявола! И силы теперь нет у меня. Я вспоминаю эти твои мессы... Я не смог сделать даже сильней этого! А мессы... продолжаются?
- Нет.
- А эта девушка... которая там была?
- Она вышла замуж и уехала из города. Поэтому мессы и прекратились.
- Знаешь, мне с тех пор так и мерещится ее спокойное лицо... и льющееся тело. А где она сейчас?
- Не знаю.
- Замуж, говоришь? Ну это можно и назад. А ты, я слышал, тоже женился?
- Да. Хочешь, жену позову?
Я не стал дожидаться ответа, раскрыл дверь кабинета и крикнул:
- Лиза! Иди к нам, не бойся. Здесь господин Полторацкий... Я его давно знаю.
Я не очень ожидал, что Лиза услышит и тем более придет. Но она поднялась к нам и села в углу на табурете.
- Какая-то у тебя жена... странная.
- Елизавета Павловна Датнова, урожденная Свешницкая.
- А, да, Свешницкий! Это же теперь ваша знаменитость. У нас в черезвычайке ходят слухи, что им сам Ульянов-Ленин интересуется... и желает его принять.
Меня поразило, как Полторацкий сразу понял состояние Лизы и то, что в ее присутствии можно говорить так, как будто ее и нет в комнате.
- Все же интересно было бы узнать: какова конкретно будет наша смерть? - задумчиво продолжил он. - Вот, например, твой друг, этот поэт... как его... я недавно читал в газете, что он умер в лесу от воспаления легких.
- О ужас!!! А его жена?!
- Она, кажется, попала в больницу какого-то забытого Богом городка даже по сравнению с вашим Энском - и находилась там между жизнью и смертью... А откуда ты знаешь, что поэт отправился странствовать с супругой?
...Больше я никогда не видел Полторацкого. Через месяц арестовали и меня, когда я мастерил для своей жены качели во дворе нашего дома. Лиза очень хотела их, и мне было бы приятно отправлять ее легкое тело туда, чуть ближе к небу.
Трое суток я находился в пустой камере, в той же, где перебывали и Медякин, и убитый мною Керемет. По своему обыкновению большевики не торопились выдвигать против меня обвинения, и я просто ждал этапа в губернскую тюрьму. Через знакомого сторожа я раздобыл черный мелок и покрыл все стены и пол шахматными диаграммами - это был единственный способ не лишиться разума.
Затем меня выпустили, тоже не разъяснив причины. И лишь путями косвенными, но верными я узнал, что Свешницкий действительно был приглашен к Ленину и что среди бурных изъяснений своих планов колонизации космоса Павел Андреевич счел нужным похлопотать и за меня.
На обратной дороге он внезапно серьезно заболел, и врачи даже не пустили меня к нему со словами благодарности. В эти дни в адрес Свешницкого тысячами шли письма со всей страны, сотнями - из-за рубежа. Я действительно понял, что энский учитель пользуется взаимностью в своей любви ко всему чудному человечеству.
Но любовь эта не могла перемолить смерть. Видимо, продолжая свое земное существование, Павел Андреевич мог бы опрокинуть весы какой-нибудь вселенской гармонии. Я так и не увидел его живым - да не очень и стремился, находясь в состоянии какой-то глобальной бессмыслицы, всегда предшествующем новому кардинальному повороту судьбы.
Похороны Свешницкого были даже более пышным торжеством, чем установка памятника Иуды два года назад, - ведь теперь в действо были вовлечены силы не только уездного, но и гораздо более высокого уровня. Одних иностранных подданных приехало в Энск несколько десятков.
А через два месяца высочайшим большевистским повелением наш город был переименован в Свешницкий. Я снова служил в прокуратуре и накануне известия о переназвании Энска увидел Павла Андреевича во сне.
Я встретил Свешницкого на том самом месте, где он, бывало, запускал в небо искусственного орла. Это происходило в те блаженные старые времена, когда городские бездельники еще подходили и спрашивали: чем кормишь птицу?
Маленький аэроплан парил над рекой, а учитель говорил со мной, подергивая за веревку.
- Зачем вы спасли меня?
- Чтобы вы работали, Александр Федорович.
- Но разве вы не знаете, что я отравил вашу дочь?
- Я узнал об этом прямо перед тем, как поехал в Горки. Мое сердце разрывалось... но я все же решил простить вас.
- Почему?
- Потому что вы живете. Вы живете, а я уже умер! Вы должны работать. И потом... вы видите облако над рекой?
- И что?
Свешницкий дернул за веревку, притянув деревянную птицу к себе, а потом так же резко отпустил ее. И вдруг я увидел, что там, где пролетел освобожденный на мгновение орел, появилась радуга.
Радуга! Я понял, я вспомнил, как после всемирного потопа Бог обещал дать ее человеку в залог своей милости. Поэтому, если Он все-таки не стерпит человеческой гордыни, пошлости и задумает навести на нас новую погибель, тогда, в тот самый момент, когда смертельные тучи соберутся над землей, вдруг между ними проскользнет радуга, и Бог вспомнит свой завет, вспомнит слабость и юность рода человеческого, вспомнит свое обещание любить человека таким, какой он есть, и разведет черные облака.
Я завороженно смотрел на радугу Свешницкого, пока учитель не протянул руку, не снял ее с небес, не завернул, как ковер, не сунул себе под мышку и не пошел прочь. Тогда я отчаянно побежал за ним...
Когда проснулся, я день сидел, решал, говорил с Лизой. Наконец я взял dementia praecox и принял его. Ведь я обманывал себя раньше, я просто боялся. А теперь во мне наступила, говоря словами мученика Медякина, краткая минута решимости. Я должен был сделать это, чтобы получить радугу из рук учителя.
И сладко мне быть не от мира сего.

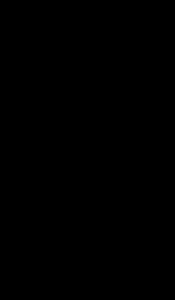


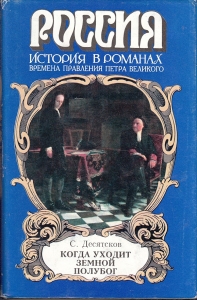
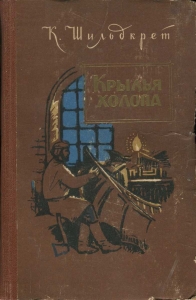
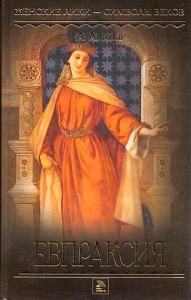
Комментарии к книге «Радуга прощения», Антон Савин
Всего 0 комментариев