Евгений Салиас Кудесник (сборник)
© ООО «Издательство «Вече», 2013
© ООО «РИЦ Литература», 2013
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Об авторе
Автор многочисленных романов и повестей из русской истории Евгений Андреевич Салиас де Турнемир (1840 или 1842–1908) родился в Москве, в дворянской семье. Отцом его был французский граф Андре Салиас де Турнемир. Сам писатель до декабря 1876 г. не имел российского подданства. Мать, Елизавета Васильевна, происходила из дворянского рода Сухово-Кобылиных. Она была писательницей и выпускала свои сочинения под псевдонимом Евгения Тур. Сын поначалу выбрал жизненным поприщем юриспруденцию, но за участие в студенческих беспорядках (1861 г.) был исключен из Московского университета. За ним был установлен негласный полицейский надзор. В начале 1862 г. Евгений вместе с матерью уезжает во Францию. Там он начинает свой литературный путь. Его первые бытовые повести получили высокую оценку русской либеральной критики.
В середине 1860-х гг. Е. Салиас совершает путешествие по Испании, Италии, другим европейским странам; в 1869 г. он возвращается в Россию, пытается поступить на военную службу, но не получает разрешения французского императора. Салиас адвокатствует в Туле, потом служит чиновником по особым поручениям при тамбовском губернаторе, работает редактором «Тамбовских ведомостей». В Тамбове он написал сентиментальную повесть «Пандурочка» и биографию Г. Р. Державина («Поэт-наместник»). В 1874 г. увидел свет первый исторический роман Салиаса «Пугачевцы». Работая над книгой, писатель много времени проводил в архивах и ездил на места событий. Роман имел оглушительный успех, что привело к существенному изменению тематики творчества. Салиасу предлагают возглавить ведущую столичную газету «Санкт-Петербургские ведомости». Став российским подданным, писатель переходит на работу в Министерство внутренних дел, а потом переводится в Москву, возглавив контору московских театров. Нетягостная служба оставляла много свободного времени, что было особенно важно для писателя.
В 1880–1890-х гг. исторические романы и повести Салиаса регулярно появляются на страницах популярных российских журналов: «Нива», «Русский вестник», «Огонек», «Русская мысль», «Исторический вестник». Достаточно перечислить самые известные произведения Салиаса наиболее плодотворного периода его творчества: «Найденыш», «Братья Орловы», «Мор на Москве» (в последующих изданиях – «На Москве»), «Принцесса Володимерская», «Вольнодумцы», «Миллион» («Ширь и мах»), «Кудесник», «Атаман Устя», «Свадебный бунт», «Донские гишпанцы», «Аракчеевский сынок», «Аракчеевский подкидыш», «Крутоярская царевна», «Фрейлина Марии Лещинской», «Ведунья» и т. д. Салиас был очень популярен в конце XIX века, далеко оставив позади себя В. С. Соловьева, Г. П. Данилевского, Д. Л. Мордовцева. Его называли «русским Дюма», и в этом сравнении есть большая доля правды. С современной точки зрения, романы и повести Евгения Салиаса порой бывают субъективны в оценке исторического процесса.
Последние 18 лет жизни Е. А. Салиас прожил в тихом арбатском переулке. Интенсивность его творчества с возрастом упала. Среди последних романов выделяются «Военные мужики» (1903), «Француз» (1908), сборник новелл «Андалузские легенды» (1906). Писатель больше занимался редактированием своих собраний сочинений: первое, 33-томное, вышло в 1890-х гг.; издание второго, «полного», началось в 1901 г. и было прервано революциями 1917 г. на 20-м томе. Потом наступил долгий период почти полного забвения его имени. Вновь о нем вспомнили в начале 1990-х гг., и оказалось, что творчество Евгения Салиаса выдержало испытание временем. Общий тираж его книг превысил 1 миллион экземпляров. Разумеется, никто не собирался по книгам полуфранцузского аристократа изучать историю России, но по напряженности фабулы, по обрисовке общей исторической обстановки, по запоминающимся образам героев, выписанных с любовью, Е. А. Салиас может успешно соперничать со многими историческими беллетристами, признанными или даже одобренными авторитетными учеными-историками.
Анатолий МосквинИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ЕВГЕНИЯ САЛИАСА:
«Пугачевцы» (1874)
«Петербургское действо» (1880)
«На Москве» (1880)
«Ширь и мах» (1885)
«Кудесник» (1886)
«Новая Сандрильона» (1892)
«Крутоярская царевна» (1893)
Кудесник
Часть первая
I
Было лето 1765 года.
Среди пустынной и тихой лазури моря, под легким веянием ветерка, со слабо натянутыми парусами медленно, едва заметно, двигался маленький купеческий корабль. Кругом расстилалось, сливаясь с небом, необъятное синее море. Только на севере, на самом горизонте, белелась едва заметная розовая полоска – это была земля, город и порт, из которых корабль вышел в это утро. Он покинул Мессину и Сицилию и направлялся в Египет. На корабле этом было очень много товара и очень мало людей. Помимо хозяина, капитана, было всего восемь человек экипажа – матросов, состоящих по обыкновению из сброда наймитов: итальянцы, греки, албанцы, алжирцы и даже один негр. Но что было явлением необычайным – это присутствие на палубе двух лиц, которые не принадлежали к экипажу. Это были пассажиры, которых обыкновенно торговые суда малого объема никогда на борт не принимают.
Хозяин корабля был человек еще не старый, смуглый, неопределенной национальности, не то мусульманин, не то христианин, не то грек, не то турок, но выдававший себя за истого итальянца. Он решился изменить своему обычаю и взять двух пассажиров до Каира, потому что один из них предложил ему довольно крупную сумму за проезд.
Эти два пассажира казались капитану сомнительными, но на Средиземном море все портовые города, острова – большие и малые, даже берега Франции, Италии кишели десятками и сотнями самых странных личностей. А в особенности много было их именно в числе путешественников. Поэтому быть строгим на выбор не приходилось. Разумеется, если бы десяток человек, подобных этим пассажирам, предложили хозяину корабля взять их на борт хотя бы и за огромную сумму, то он отказался бы.
Этот десяток людей в открытом море мог бы легко завладеть его кораблем, умертвив экипаж и его самого. Подобные случаи постоянно бывали, и всякий собственник корабля опасался брать с собой слишком много пассажиров, которые могли оказаться шайкой разбойников, являющихся под различными именами и костюмами с целью грабежа. Судохозяева опасались их не менее встречи в море настоящих пиратов, которыми изобиловало Средиземное море. Против явного нападения имелось хорошее оружие, а главное – привычка и готовность отстоять себя и свое имущество в открытом бою.
Когда наступили сумерки, жара спала, далекий берег Италии потонул в волнах, а на море стало особенно тихо, оба пассажира появились на палубе из маленькой внутренней каюты и уселись на корме. Между ними тотчас началась беседа, очевидно, продолжение той, которую они вели еще в каюте.
Капитан, сидя вдалеке от них, прислушивался к их беседе; но затем она показалась ему настолько бессмысленной, что он слегка пожал плечами, усмехнулся и отправился в свою каюту ужинать и ложиться спать.
Ясная и свежая ночь, яркий купол неба обещали наутро ровный попутный ветерок и хотя медленный, но спокойный путь. И капитану следовало отоспаться за ночь и набраться силы на случай других тревожных дней или ночей, на случай борьбы с волнами.
Матросы, изредка двигавшиеся на палубе у снастей, тоже понемногу исчезли, разошлись отдыхать, и скоро на палубе оставались только три фигуры: рулевой у колеса и два пассажира.
Эти две личности, которые показались капитану загадочными и сомнительными, не имели почти ничего общего по внешности, были двумя противоположностями. Один из них отличался степенностью, какой-то даже важностью и в голосе, и в движениях и был человек лет около 60, хотя на вид много моложе. Это был резкий южный тип. Смуглый оранжевый цвет лица, нос с горбом, черные глаза под нависшими густыми бровями, высокий лоб, вьющиеся черные как смоль волосы с кое-где блестящей проседью, с густыми усами и большой длинной бородой, клином лежавшей на груди. На голове его была круглая бархатная шапка, гладкая и черная, нечто вроде низенького клобука. И весь костюм был смесью чего-то полутурецкого, полумонашеского. На черные туфли и черные чулки спускались шальвары, а сверху длинная распахнутая монашеская ряса или халат, под которым пестрела турецкая куртка, вышитая шелками. За широким, намотанным кругом талии лиловым поясом торчал небольшой кривой кинжал, а рядом – перламутровые четки.
Костюм этот и то, что украдкой слышал капитан из речи этого незнакомца, именно и заставили его причислить пассажира к числу сомнительных личностей, скитавшихся по берегам Средиземного моря.
Да вообще всякий встречавший эту личность еще в порту, даже матросы, – все оглядывали ее удивленным взором.
Он сидел теперь на скамье, поджав ноги и сложив руки на коленях, в спокойной и важной позе. Перед ним, за неимением места, полулежа и опершись локтем на борт, поместился его спутник, молодой человек лет двадцати, в щегольской одежде такого покроя, какую носила только аристократия. Камзол и кафтан были синие, обшитые золотым галуном по краям, с золотыми пуговицами, а через плечо под кафтаном виднелась портупея, на которой носилась шпага, вынутая теперь ради удобства в пути. Светлые каштановые волосы его, вьющиеся короткими кудрями, падали на широкий и высокий лоб, большие светло-голубые глаза смотрели добродушно, но лукаво, а сильно вздернутый нос, казалось, еще более придавал лукавства всему лицу. Это выражение несколько смягчалось толстыми, пухлыми губами, легко и часто улыбавшимися, обнажая ряд блестящих белых зубов. Смугло-белый, нежный цвет лица и сильный румянец во всю щеку придавали лицу что-то ребяческое. Впрочем, в лице этом было столько жизни, движения, игры, что оно менялось ежеминутно. То кажется детски наивным, почти глуповатым, или добродушным до неразумия, то лукавым, почти коварным. То смотрит этот молодой человек своими синими глазами и усмехается, как шалун ребенок, то вдруг пробежит по лицу его какая-то тень, блеснет что-то в глазах странное, почти недоброе.
Насколько был спокоен первый, настолько порывист в движениях, быстр в слове и жесте, как истый итальянец, – второй. В их беседе ярко сказывались вместе с тем и их взаимные отношения – учителя и ученика, почти старика и почти юноши.
II
Вскоре после ухода капитана старший из двух пристально и внимательно осмотрелся кругом. Видя, что палуба опустела и лишь остался один рулевой, занятый своим делом, он вымолвил тихим, спокойным и мерным голосом:
– Ну, мой юный друг, – начал он, – теперь мы можем приступить к желаемому вами объяснению. Вы думаете, что оказали мне большое одолжение, и вместе с тем вы рассчитываете на то, что за это одолжение будете вознаграждены сторицей.
Молодой человек резко двинулся, хотел, очевидно, горячо отрицать это, но пожилой поднял на него руку и важным жестом остановил его:
– Дайте мне говорить. Мне не нужно ваших заверений, клятв и тому подобного. Привыкните, мой друг, поскорее ко мне и к тому, что я читаю насквозь мысли людские. Я читаю в душе каждого, что он думает, я даже знаю, что он мыслил вчера, и могу сказать, что он будет завтра мыслить или что он будет завтра делать. Привыкните к этому и не относитесь ко мне так же, как ко всякому другому простому смертному. Поймите, мой юный друг, что в этом смысле я не человек. Стало быть, вы не верите, когда я говорю вам, что если я когда-то родился – тому назад три тысячи лет, то я никогда не умру. Понимаете вы это?
– Да, да, – живо и быстро двинувшись всем телом, произнес молодой. – Да, верно, но я именно хотел объяснения загадки, которая…
– Я вам его дал и другого дать не могу. Я уж вам сказал, что я родился лет за тысячу до вашего людского летосчисления. Следовательно, мне надо считать свои года столетиями. Следовательно, теперь я доживаю 28-е столетие и проживу еще столько, сколько проживет этот мир. Когда будет кончина мира этого, тогда, конечно, видоизменится и мое существование. Глупые люди сочтут меня за колдуна, волшебника, чародея, знающегося с дьяволом, но я вам уж говорил, что сам не верю в существование этой вражьей силы и что всем этим я обязан науке и изобретению той целебной воды, при помощи которой и прожил столько веков, и проживу еще много. Но есть еще нечто, о чем я еще не говорил вам и что хочу сказать теперь. Вы заплатили несколько червонцев за мой проезд до Александрии, и так как вы богаты, то для вас эта трата ничего не значит. Но я благодарен вам за доверие, благодарен за вашу дружбу, ваше хорошее чувство ко мне. Но что вы скажете, если узнаете, что та же наука, давшая мне возможность открыть целебную воду, или воду «вечной жизни», как я ее называю, она же дала мне средство делать, когда я захочу и сколько я захочу, то, что наиболее ценят люди, – бриллианты и золото? Я могу при помощи химии в один час сделать столько золота, сколько нужно для покупки целого города. Следовательно, в несколько дней я могу составить несколько миллионов червонцев.
Вероятно, лицо молодого человека выразило что-нибудь особенное против его воли вследствие живости его натуры, потому что говорящий улыбнулся и произнес:
– Милый мой Джузеппе, я вижу, что мне долго еще придется иметь дело с вашей подозрительностью и вашим недоверием ко мне; но когда мы будем на месте, когда будет у меня под руками все, мне необходимое, – я не на словах, а на деле докажу вам, что я не морочу вас. Если же теперь вы зададите мне глупый вопрос, зачем я, имея возможность делать золото, не имею дворцов, блестящих одежд и бесчисленной прислуги, а хожу пешком, один, в сравнительно скромном наряде и пользуюсь услугами лиц, у которых есть состояние, то объяснение этого очень простое. Мне деньги не нужны, потому что деньги ценны лишь потому, что они служат средством удовлетворения разных прихотей и страстей. А у меня их нет – и, следовательно, мне ничего не нужно. Мне нужно только жить, чтобы быть свидетелем судьбы человечества. Только это мне и любопытно. Я живу из века в век, присутствуя при жизни этого человечества. И чем более живу я, тем более презираю его, презираю этот мир и с нетерпением жду его кончины, чтобы видеть, что будет после этого. Я надеюсь, что будет что-нибудь иное, более достойное меня. Но теперь…
Он помолчал немного и среди наступившей тишины оглянулся кругом на безмятежное море, на безоблачное, сиявшее звездами небо и проговорил еще тише:
– Нет у Творца вселенной юдоли хуже этой земли… Но довольно пока. Завтра мы снова побеседуем. Я надеюсь, что понемногу, прежде чем мы приедем, вы полюбите меня…
– Я уже теперь люблю вас как мудрого, несравненного учителя! – воскликнул молодой человек.
– Благодарю вас… Надеюсь, что, когда мы прибудем к берегам Египта, вы привыкнете смотреть на меня иначе, чем теперь, поймете и уверуете, что имеете дело не с человеком. Называйте меня как хотите. Называйте меня особым, высшим существом, но не злым и враждебным человечеству, а способным на дружбу и привязанность. Сегодня я только прибавлю вам одно… Вы несколько раз спрашивали меня за эти две недели нашего знакомства, как мое имя? Я вам отвечал всегда, что имя человека ничего не значит и ничего не говорит. Мое имя, искренно говоря, не существует; каким образом может называться человек или существо, живущее вместе с человечеством несколько веков? Я не принадлежу ни к какой национальности, ни к какой религии, у меня нет родины, нет родных и семьи. Быть может, двадцать с лишком столетий тому назад мне и было дано какое-нибудь имя, но я, признаюсь откровенно, позабыл его. Следовательно, если вы хотите как-либо называть меня, то называйте Альтотасом. Это слово имеет особый смысл – каббалистический, который я когда-нибудь объясню вам, но только тогда, когда буду уверен в вас. Это необходимо потому, что знающий и умеющий объяснить смысл этого имени будет вредить мне. Итак, пока называйте меня Альтотасом, не требуя разъяснения. Что касается до вас, мой юный друг, не сердитесь и, опять скажу, привыкайте к тому, что я буду откровенно говорить с вами и еще более откровенно действовать. Вы сказали мне, что вы граф Иосиф Калиостро. Так как я читаю мысли людские так же легко, как и книгу на разных языках, древних и новых, то я точно так же читаю и в вашей душе и скажу вам, что это выдумка и ложь.
– Что?! – почти вскрикнул молодой человек.
– Вы не граф Калиостро! – мерно, тихо и спокойно произнес пожилой. – Вы так назвались ради людской привычки покичиться, похвастать. Вы не граф, и не аристократ, и не Калиостро. Но это мне все равно, безразлично, нисколько не меняет наших отношений, не умаляет моей дружбы к вам. Я попрошу вас только быть со мной столь же искренним, насколько я искренен с вами.
Молодой человек страшно смутился и, опустив глаза, произнес виновато и тихим шепотом:
– Простите меня. Вы мне даете доказательство, что действительно читаете в сердцах людей. Кроме меня, никто не знает, что этот титул, это имя мною вымышлены. Следовательно вы, действительно, прозорливец и чародей. Мое настоящее имя – Иосиф Бальзамо. Мои родители не аристократы, а простые…
– Замолчите! Не нужны мне признания, – улыбнувшись, произнес Альтотас, – все это я знаю без вас и могу рассказать вашу жизнь подробно, точно так же, как бы вы сами рассказали ее. Более искренности, мой юный друг! Более веры в меня, во все, что я говорю, и тогда только вы можете воспользоваться всеми сокровищами знания, которыми я владею. Ну а теперь, повинуясь слабости человеческой природы, пойдемте на отдых.
Альтотас медленно поднялся со своей скамьи. Молодой человек последовал его примеру, и оба сошли с палубы во внутренность корабля по узенькой и крутой лестнице. Таинственный Альтотас скоро спал крепким сном на своей койке, а молодой человек, признавшийся, что он не граф Калиостро, как называл себя, а просто Иосиф Бальзамо, долго в бессоннице вертелся в своем углу с боку на бок и глубоко вздыхал. Мысль его, горячая, юная и пылкая, витала, казалось, по всему Божьему миру. Тысячи всевозможных помыслов, грез и мечтаний волновали его вплоть до зари.
III
Юный путник тревожно провел всю ночь в своей каюте, главным образом потому, что его загадочный «ментор» отгадал его прошлое, назвал его действительным именем, а он и то и другое тщательно скрывал. Не опасение или боязнь предательства взволновали его, а изумление. Это прошлое, которое он скрывал, было полно всякого рода житейских бурь. Двадцать лет назад в столице Сицилии у небогатых и скромных торговцев сукнами и шелковыми материями после нескольких дочерей родился ребенок – мальчик.
С самого раннего детства мальчик этот обращал на себя внимание своим умом, живостью воображения и редкими способностями.
Ребенку было четыре года, когда отец с матерью и вся родня: тетки и дяди – уже начали мечтать о будущей блестящей карьере своего любимца.
Чтобы пойти в гору и выйти в люди, в то время в Италии был только один путь – духовное звание. В той же стране, где монах был первым лицом, светским владыкой половины всего Апеннинского полуострова и духовным властелином над целой частью света, понятно, что духовенство стояло выше всех остальных сословий. Вдобавок этот владыка, самодержец страны, был лицо выборное, звание его было не наследственное, и поэтому-то всякий отец, изумляясь способностям своего сына, всегда мог мечтать о том, что ребенок будет со временем на престоле Св. Петра.
Все, что было умного, блестящего, способного среди молодежи Италии, – все шло в духовное сословие, постригаясь в монахи ради мечтаний сначала об епископстве, потом о кардинальской шляпе, а после нее и о папской тиаре.
Точно так же мечтал и торговец сукнами Петр Бальзамо.
Что вышло бы из умного и даровитого мальчика благодаря хорошему воспитанию, отцовской руке, которая бы наложила узду на его огненную натуру, – трудно сказать. К несчастию, ребенку не было еще 7 лет, как Петр Бальзамо умер. Мать, слабая и недалекая женщина, не могла справиться с маленьким Джузеппе, или Иосифом. Чем более подрастал он, тем мудренее было вести его. Вдова обратилась за помощью к братьям. Четверо дядей взялись за воспитание мальчугана, и всякий старался поучать его по-своему, но мальчик очень скоро стал изощрять свое остроумие насчет этих дядей и поднимать их на смех при всяком удобном случае.
Когда Иосифу минуло десять лет, его отдали в семинарию; но не прошло полутора лет, как начальство строго управляемого духовного училища исключило Бальзамо из числа учеников.
Вернувшись домой, более года воевал юный Иосиф с матерью, дядями и сестрами. Собрался наконец семейный совет, и, пользуясь временным пребыванием в Палермо главного настоятеля монастыря Бен-Фрателли, известного строгостью своего устава, дяди решили отдать мальчика в эту обитель для исправления его дурных наклонностей. Настоятель, человек с железной волей, даже страшный строгостью своего лица и взгляда, охотно принял Иосифа с рук на руки от его родных. Через месяц после этого вечно молчаливый и угрюмый настоятель-монах и строптивый юнец были уже на пути в дальний монастырь, помещавшийся в горах, среди совершенно пустынной местности.
Первое время монахи были довольны новым послушником. Он забавлял их своим остроумием, живостью соображения и меткостью ответов. Изучив несколько наклонности своего нового питомца, настоятель отгадал в нем нечто самому Иосифу неизвестное и отдал его в обучение монастырскому аптекарю.
Иосиф со страстью предался новым занятиям. Но не прошло нескольких месяцев, как он знал все то, что знал аптекарь. Любовь его к врачебной стряпне, к манипуляции травами и минералами, вообще составлению всякого рода зелья, лекарств и напитков была чрезвычайная. Но вскоре новым занятиям и примерному поведению наступил конец, потому что Иосиф знал уже больше, чем его учитель аптекарь. Юноша задавал учителю такие вопросы, на которые тот не умел отвечать. Его охватила жажда знания; во сне и наяву грезил он химией и медициной, а аптекарь по-прежнему умел только составить несколько лекарств. И пылкий мальчик бросил дело стряпни зелий, начал скучать, но вместе с тем сделался непослушен и дерзок со всеми. Наконец он стал просить настоятеля освободить его из монастыря и отпустить на волю, для того чтобы предаться всей душой наукам.
Настоятель, конечно, отвечал отказом.
– В таком случае, – отвечал тринадцатилетний отрок, – вы меня выгоните сами.
– Каким образом? – спросил игумен.
– Я сделаю то, что вы не захотите меня держать в монастыре.
– Что бы ты ни сделал, – отвечал старик, – я тебя буду наказывать, но из монастыря не выпущу.
– Мы это увидим! – дерзко усмехнулся послушник-полуребенок и, повернувшись на каблуках, вышел из кельи настоятеля.
Много шалостей дерзких, иногда возмутительных проделал он с тех пор в продолжение целого месяца. Много раз сидел он взаперти в монастырском карцере; много раз наказывали его голодом, наказывали на все лады, но об исправлении не было и помину.
Наконец однажды случилось маленькое происшествие, взволновавшее весь монастырь. В обитель Бен-Фрателли приехал гость, в то время очень известный и уважаемый в Риме кардинал. Он явился навестить игумена, своего дальнего родственника.
В монастыре был обычай, что после трапезы, когда все монахи были в сборе, кто-либо поочередно читал житие святых. Раза два или три заставляли читать и строптивого послушника, так как он читал очень хорошо, звучно, четко и лучше многих старых монахов. Игумен вспомнил об этом и, желая угодить кардиналу-родственнику, приказал Иосифу, только что выпущенному из заперти, где он сидел на хлебе и воде, приготовиться после трапезы читать житие Адриана и Наталии. Бальзамо очень обрадовался.
Часа через три после этого в большой зале на сводах, полуосвещенной несколькими свечами, все старцы Бен-Фрателли были в сборе, а впереди всех, на двух больших и высоких дубовых креслах из резного черного дуба, сидели игумен и кардинал. Юный послушник с благословения игумена, особенно весело, но лукаво ухмыляясь, поднялся на маленькую кафедру, установил около себя на столик два подсвечника, раскрыл громадную, толстую книгу в коричневом столетнем переплете и недобрым взглядом обвел всю свою аудиторию.
Началось чтение. Голос и манера читать этого мальчика сразу понравились кардиналу. Все слушали со вниманием… Но вдруг, спустя четверть часа, аудитория шелохнулась, как будто по внезапному удару магической палочки. Однако снова все стихло, а игумен, тоже двинувшись слегка в своем кресле, подумал про себя:
«Должно быть, я ослышался».
Через несколько мгновений опять-таки сразу, как от удара невидимой руки, шевельнулись все монахи, человек до сорока, а кое-кто ахнул.
– Что ты сейчас прочел? – строго вопросил и отец-игумен, прерывая чтеца.
Иосиф поднял ласковый и изумленный взор от книги на игумена и молчал.
– Какое ты слово сейчас произнес, сын мой?
Иосиф кротко, отчасти боязливо прочел последние несколько строк, слегка бормоча; но в них не было ничего особенного.
– Должно быть, я ошибся, – сказал вслух игумен.
Снова началось чтение и длилось несколько минут. Все слушатели уже увлеклись переливами звучного голоса юного чтеца, чувством, которым дышало его чтение… Но вдруг разом ахнули все монахи, а некоторые встали с мест. Одно слово громко со всех сторон огласило большую сводчатую залу.
– Что?! Что?!
На этот раз и его светлость, сам кардинал, тоже вымолвил вслух то же слово.
– Что такое?
Снова поднял на всех кроткий, изумленный взор юный чтец, но напрасно, тщетно…
– Что ты сказал? Что ты прочел сейчас? – грозно проговорил игумен.
– Так в книге написано.
– Ты лжешь! Этого написано быть не может.
Юный чтец прочел, что святой Адриан, не зная, как поступить в одном случае, отправился за советом к одной своей большой приятельнице, и при этом послушник назвал имя известной в то время в Палермо женщины самого дурного и срамного поведения.
– Как ты смел назвать это имя в стенах нашей обители? Негодяй! – произнес игумен.
– Простите! Имя подвернулось, – тихо и скромно произнес Иосиф со своей кафедры. – Однако вы, почтенные старцы-отцы, об ней все-таки слыхали, если знаете ее имя! – проворчал он себе под нос.
– Что ты лепечешь, глупец? – вопросил игумен.
– Простите. Я в Палермо так часто слыхал это имя повсюду… Простите…
Голос был таков, что отца-настоятеля вместе с кардиналом взяло сомнение:
«Действительно, может же и подвернуться имя».
После минутного молчания игумен снова сурово приказал продолжать чтение.
Опять минут десять безмолвно слушала аудитория искусного чтеца, но затем сразу уж, как бурный поток, загалдели все слушатели, повскакали с мест, а кардинал и игумен, быстро поднявшись со своих кресел, уже одним махом придвинулись к самому столику на кафедре: юный чтец быстро произнес несколько таких слов в описании одной из сцен жития, которое читал, что у некоторых лысых старцев остатки волос поднялись дыбом. Иные уже лет сорок в стенах этой обители не слыхали подобных вещей.
– Возьмите его, заприте в подвал! – вне себя проговорил игумен.
Не скоро улеглось общее волнение. Монахи расходились по своим кельям, а в ушах у них все еще звучали ужасные слова, воображению их рисовалась та дьявольская картина, которую им нарисовал юный послушник. Некоторые из старцев добровольно наложили на себя эпитимию на несколько дней, чтобы смыть невольный грех. Один из монахов даже достал ваты, смочил ее в святом масле и, смазав уши, заткнул их этой священной ватой с обещанием, в виде эпитимии, не слыхать ни единого мирского слова в продолжение целого месяца. Но, к несчастию, заткнуть той же ватой свою память, которая упорно восстанавливала в его голове нарисованную послушником картину, он не мог.
Обитель продолжала еще волноваться. Кардинал и игумен рассуждали у себя в апартаментах о том, какие негодяи рождаются на свет, которых исправить нет возможности, так как ими владеет сам дьявол. А 13-летний дерзкий мальчуган сидел на земляном полу темного подвала и думал: «Ну, что же теперь будет?»
Одного только он не боялся, что его оставят здесь умирать с голоду святые отцы, так как это грех, на который у них не хватит решимости.
Целую неделю просидел Иосиф на хлебе и воде, но не отчаивался и не терял времени даром.
На второй же день в темноте попалась ему под руку огромная полоса железа. В один день отточил он ее, а на второй принялся разрывать яму под каменной стеной. Монах, приносивший ему пищу раз в день, не мог видеть его работы среди темноты. Огромная куча земли, нарытая в углу подвала, не могла поэтому броситься ему в глаза.
Через неделю, утром, у наружной стороны этого подвала показалась из земли на свет Божий при ярких скользящих лучах восходящего солнца красивая белокурая головка отрока, с беззаботно веселым взглядом живых синих глаз, с дерзкой усмешкой на губах. А затем живо и все туловище выползло из ямы на свет Божий. Иосиф был на свободе, а через несколько дней снова был среди улиц Палермо, веселый, счастливый и полный пылких грез и мечтаний о своей будущности.
IV
Юный Бальзамо тотчас же широко воспользовался своей завоеванной свободой. Казалось, что он хочет наверстать все потерянное время в монастыре. Об ученье, занятиях, химии и медицине, конечно, он забыл и думать.
В семье его встретили с радостью; даже все дяди, упрятавшие его к игумену Бен-Фрателли, и те были рады свидеться. Но их любимец Джузеппе начал тотчас же новую жизнь такого рода, которая принесла им немало забот и тревог.
Он сошелся с самой отчаянной молодежью; хотя все его новые товарищи были гораздо старше его, тем не менее он играл видную роль в новой компании. Несмотря на свои года, картежная игра, вино и всякого рода то шаловливые, то безнравственные поступки скоро познакомили его с местной полицией и властями. Через некоторое время дело зашло дальше. Джузеппе был привлечен в суд за подделку и продажу фальшивых театральных билетов. Но это было только начало новой разнузданной жизни.
Мать, потеряв терпение, изгнала погибшего, по ее словам, сына из дома. Один из дядей тронулся жалобами, печалью и раскаянием племянника и приютил его у себя. Через неделю Джузеппе «в благодарность» похитил у этого дяди большую сумму денег и много золотых вещей. Не прошло двух лет, как всему городу хорошо известный сорванец и буян побывал уже с полсотни раз в полиции и два раза чуть-чуть не был посажен в тюрьму. Замечательно, однако, то обстоятельство, что, несмотря на все свои деяния, и родня и общество, в котором вращался Бальзамо, не только любили его, но и обожали. Всякого другого на месте Иосифа выгнали бы из всех домов, и он остался бы один на улице. Но в этом буяне, казалось, все выкупалось чрезвычайной мягкостью и ласковостью нрава, блестящим умом, чрезвычайными дарованиями. Каждый раз, если приключалась какая-либо беда с Джузеппе, все, в том числе и пострадавшие от него, бросались защищать и спасать его же от беды.
Но и фортуна не отставала от людей. Во всем была юному сорванцу особая удача. Так, несколько раз пришлось ему драться на дуэли за себя, иногда и за приятелей, и только раз получил он легкую царапину. А между тем, получи он серьезную рану и проболей, быть может, это отрезвило бы его.
Так прошло несколько лет. Единственной заботой Бальзамо было всяческое добывание денег и их растрачивание.
По пословице «На ловца и зверь бежит», судьба постоянно посылала Джузеппе простодушных людей для их морочения. Наконец однажды случай свел Джузеппе с богатым мещанином, нажившимся в торговле, который считался в своем квартале крайне богатым, но отчасти полупомешанным, потому что был одержим манией особого рода. Он верил во всякую бесовщину, колдовство, а главное, почти помешался на мысли обогатиться сразу еще больше – находкой какого-нибудь клада.
Эта мания кладоискания появлялась в XVIII столетии во всех странах как эпидемия, длилась по месяцам, по годам и снова исчезала на несколько лет.
Незадолго перед тем эта мания или эта болезнь – искать посредством колдовства клады – снова посетила Сицилию.
Самым горячим искателем был именно этот мещанин по имени Марано. С первой же встречи Бальзамо подружился с Марано. После откровенного признания мещанина, в чем состоит цель его жизни, Бальзамо немало удивил уже пожилого безумца взаимным признанием, что он не только ищет клады, но легко находит их, что все его средства – а бросал он деньги широко – происходят из найденных кладов. Не далее как через неделю Бальзамо уже предложил новому другу вместе идти вырывать сокровище недалеко от городского кладбища. Марано был в восторге, только одно было ему несколько неприятно: приходилось заранее закупить тех чертей, которые должны были уступить им клад. Приходилось передать посреднику между чертями и им, т. е. Джузеппе, сумму очень крупную – шестьдесят унций золотом.
Долго не соглашался мещанин, пока Джузеппе не заявил, что пойдет брать один этот клад, в котором, быть может, найдется тысяча унций. Корыстолюбивый Марано не выдержал, согласился и передал деньги.
В назначенное время, в полночь, среди темной ночи молодой колдун и глупый мещанин отправились на место. После разных заклинаний раздался подземный шум и перешел в лай и визг, в дикий вой не то зверей, не то ветра. Затем забегали вокруг них огоньки белые, розовые и желтые; затем, полуосвещенные этими огоньками, стали вырисовываться среди тьмы ясные очертания неких существ, которых было нетрудно узнать и назвать, хотя Марано их и не видывал еще до тех пор. У них были рога и хвосты.
Мещанин не выдержал и упал лицом к земле. Он громко вопил, что отказывается от клада, лишь бы отпустили его душу на покаяние.
На этом бы и остановиться двадцатилетнему колдуну, но любовь к шалости и дерзости взяла верх. Черти не скрылись запросто, а запасенными с собой тростями жестоко избили Марано. Смех, шутки, прибаутки, совсем уже не дьявольские, а человеческие, привели Марано в чувства и заставили его понять всю глупость его положения.
Исколотив кладоискателя, и черти и колдун убежали. Всех веселее было колдуну: он слишком привык к тому, что все ему сходило с рук. Но на этот раз не прошло и суток, как он был арестован и препровожден в тюрьму. Его обвиняли в мошенничестве. Дело пахло галерами, кафтаном арестанта; но тут же явился спаситель в лице облагодетельствованного им маркиза. По его просьбе два кардинала – а это была не шутка – заступились за преступника, обвиняя Марано в том, что он, как настоящий еретик, вовлек юного Бальзамо в бесовщину и кладоискание. А если этот воспользовался глупостью и преступностью мещанина, то поделом последнему.
Главный аргумент в пользу преступника – то, что позволяло называть его мошенничество простой шалостью, – было простое обстоятельство, о котором все позабыли. Этому преступнику еще не минуло совершеннолетия. И этот несовершеннолетний сорванец, картежник, пьяница, дуэлист, подделыватель фальшивых завещаний и вызыватель нечистой силы был, ради своей юности, выпущен на свободу.
Но на этот раз фортуна, очевидно, перестала служить Бальзамо.
Обманутый кладоискатель поклялся, что если суд не хочет защитить его, то он сам, собственноручно, отомстит за потерянные деньги и за побои.
Друзья скоро предупредили Иосифа, что богатый мещанин не хочет считать его ребенком и собирается нанять убийцу – спадассина, чтобы зарезать своего врага. Молодой сорванец о двух головах не поверил угрозе.
Не прошло и четырех дней, Бальзамо уже успел забыть о кладоискании, колдовстве и о чертях, им вызываемых, как вдруг в одном из маленьких переулков Палермо в сумерки на него бросился человек огромного роста с кинжалом в руках. Раз замахнул он оружие над горлом юного сорванца, но Джузеппе увернулся и избежал удара; второй раз спадассин успел поднять оружие… но случай явился на выручку: злодей поскользнулся, промахнулся, и удар попал по каменной стене так, что вышиб искру из камня.
Джузеппе бросился бежать так, как никогда, может быть, еще не бегал. На этот раз он был спасен, но вся родня и друзья посоветовали ему, хотя на время, удалиться из Палермо.
Делать было нечего. После долгой деятельности в столице этому коптителю неба приходилось перенести свое поприще деятельности в другое место. Джузеппе, однако, не очень унывал от необходимости уехать из столицы, так как поездка эта совпадала как раз с его новым затаенным намерением, с новым великолепным планом. Уже три года он сам все собирался съездить в Мессину, и вдруг теперь как раз приходилось поневоле пуститься путешествовать.
В голове Джузеппе был план вовсе не хитрый. Он знал и прежде, что в Мессине живет дальняя родственница его покойного отца, богатая старуха по имени Викентия Калиостро.
Незадолго до своего фокуса с кладоискателем он узнал, что старуха потеряла всех своих ближайших родственников и осталась совершенно одинокой. А состояние у нее было большое…
Поехать, явиться к тетке, прельстить ее, заставить полюбить себя, даже обожать, сделать себя ее единственным наследником – все это было такое пустое дело для Джузеппе, что он заранее готов был биться об заклад о полном успехе.
Иногда в юной голове мелькала даже мысль, что нельзя ли будет поскорей сделаться наследником старухи, решиться поторопить старуху в ее сборах на тот свет. Но на это, надо сказать к его чести, согласия его совести еще не последовало. Он только отвечал сам себе: «Там видно будет».
И Бальзамо, взяв место в отходящей почтовой карете, через два дня был уже на пути в Мессину. Юный путешественник не предчувствовал, что эта поездка будет иметь огромное значение в его жизни.
Эта поездка будет первым шагом на том пути, по которому направится все его дальнейшее существование, весь блеск его, весь шум на всю Европу и на весь мир!
V
По приезде в Мессину Бальзамо начал усердно искать богатую старуху родственницу.
Мессина, страшно пострадавшая впоследствии, разрушенная до основания ужасным землетрясением, в то время была еще цветущим, богатым торговым городом.
Понятно, что Бальзамо не сразу мог найти старуху по имени Викентия Калиостро.
После целого месяца розысков ему наконец удалось напасть на след женщины, от которой он рассчитывал получить состояние. Но вести, дошедшие до него о старухе, только взбесили его: ему указали не ее местожительство, а ее местонахождение, то есть свежую могилу на главном мессинском кладбище.
Викентия Калиостро умерла, будто на смех юному Бальзамо, ровно за две недели до его прибытия. Состояние свое она завещала в пользу какой-то конгрегации или братства, наличное же движимое имущество все было роздано ее душеприказчиками нищим беднейшего квартала. Душеприказчики даже еще не успели вполне исполнить завещание покойной, когда нога Бальзамо ступила на мессинские улицы.
Эта первая, быть может, в жизни неудача озадачила юношу. Он сразу никак не мог представить себе или понять подобной неудачи. Поезжай он месяцем или двумя ранее, то эта старуха умерла бы на его руках, и все ее, большое сравнительно, состояние перешло бы теперь ему. Напрасно ловкий плут стал хлопотать об уничтожении завещания, о получении хотя бы дома и земли, перешедших в собственность братства; законные формальности были исполнены – дело было проиграно.
Бальзамо не знал, что делать: оставаться в Мессине было незачем, возвращаться тотчас же в Палермо было невозможно из-за проклятого кладоискателя.
Бальзамо заперся в своей горнице, которую нанял в порту, окнами на море и решил обдумать серьезно свое положение. Главный вопрос, который он задал себе, была нелегко разрешимая задача: что делать, на что употребить свой ум, свои дарования, наконец, свою дерзость и предприимчивость в достижении цели.
Плодом этих дум было, во-первых, решение исправить себе в Мессине документы, чтобы получить по наследству от умершей родственницы если не ее состояние, то по крайней мере ее имя, более красивое, чем его собственное.
При помощи хлопот и небольших денег в кармане молодого человека вскоре появилось законное свидетельство, что он, предъявитель сего, Александр Калиостро. Тогда он задал себе другую задачу, над которой сам прохлопотал целый месяц. И это было выполнено с успехом. В руках юноши был теперь документ, замечательно подделанный, в котором он значился с титулом графа. И с этого дня Иосиф Бальзамо как бы умер и был схоронен навеки, вместе со старухой теткой, а на свете остался граф Александр Калиостро.
Когда эта мудрая задача была решена, юноша снова остался без дела, снова почувствовал свое одиночество и снова страшная тоска взяла его.
И опять на помощь «удачника» явился случай.
Сидя у окна своей горницы по целым часам, он всякий день, перед закатом солнца, видел прогуливающуюся по набережной фигуру. Это был пожилой человек восточного типа: турок, армянин или грек – в фантастическом костюме. Он всегда гулял один, ходил мерными шагами, глядя себе под ноги, или, остановившись, подолгу глядел, подняв голову, на ясное небо. Очевидно, он просто мечтал или был озабочен какой-нибудь неотвязной, постоянной думой. Всегда в одной руке его был зонтик от палящего южного солнца, в другой руке, на своре, послушно шла около него высокая, красивая собака из породы левреток. Эта гладкая, кофейного цвета собака с острой тонкой мордочкой, грациозно ступающая на тонкие ножки, придавала особый отпечаток и без того странной по одежде фигуре.
Одно только мог наверно знать новый граф – что незнакомец не мог быть уроженцем Мессины и, конечно, не принадлежал к торговому, вечно занятому люду богатого порта. Он, очевидно, пользовался полной свободой ничем не занятого человека.
Однажды, не зная, что делать, и заинтересованный уже давно этой странной фигурой, юноша вышел из дому и направился на набережную с твердым намерением познакомиться с этой любопытной личностью неизвестной национальности.
Теперь со мной всякий пожелает познакомиться, думал молодой малый. Ведь я уже не господин или синьор Бальзамо, а «экселленца» граф Калиостро.
Повстречав незнакомца один раз, он пристально осмотрел его и пропустил. Вблизи эта фигура была еще страннее благодаря оригинальному взгляду больших черных глаз и очень большой черной бороде, которая длинным клином лежала на груди его, почти касаясь пояса. Строгость и важность всей фигуры незнакомца, глубокомыслие и какая-то загадочная тень на лице сразу совсем разожгли любопытство нового графа. Он решил познакомиться с этой личностью на другой же день… но вдруг, вследствие почти невольного и необъятного толчка – будто действовала невидимая сила, – он повернул и догнал незнакомца. Подойдя к нему степенно и вежливо, он постарался как можно изящнее поклониться ему.
– Позвольте представиться. Я граф Калиостро.
Незнакомец остановился, смерил этого графа с головы до ног, потом просто и добродушно улыбнулся, хотя отчасти свысока, и выговорил:
– Ну что ж, пожалуй… Вы мне нравитесь… Вы хотите познакомиться со мной?.. Познакомимся, граф…
Молодой человек, невольно смущаясь, быть может, в первый раз в жизни, пролепетал несколько слов о своем одиночестве в Мессине, скуке, незнании, чем убить время, и желании познакомиться с человеком, который внушает ему некоторое уважение, как чужеземец.
Разговор тотчас же перешел на великолепную погоду, на прелестный вид залива, взморья и окрестностей.
– Да, здесь тишь, мир, благодать, чудные краски, синева моря и неба, золото и блеск солнца, – показал он рукой. – А тут же рядом, позади, злобное, страшное чудовище, геенна огненная, коварная Этна. Здесь веселье и счастье, все сулит одни радости, а там, за спиной, – враг всего этого, подобие какого-то исчадия ада с неведомыми людям дьявольскими силами. Захочет этот враг – и в первую же светлую, тихую минуту прервет людскую суету, беззаботное течение жизни и прекратит сразу все. Так было, юный друг мой, если вы знаете, с двумя цветущими городами полуострова – с Помпеей и Геркуланумом. Для меня «это», – показал он на море и окрестности, – и «это», – перевел он тихим жестом руку на Этну, – олицетворение или воплощение вашей человеческой жизни: мир, тишина, кажущееся счастье, а за плечами – враг всемогущий и беспощадный.
– Враг человеческий – это дьявол, – произнес Бальзамо.
– Да, но не в том смысле, как это понимается людьми.
– Что вы желаете сказать этим? – спросил юноша.
Незнакомец смерил его долгим взглядом и отвечал вопросом:
– Вы верите в Люцифера и в его власть над людьми?
Бальзамо смутился, не зная, что отвечать.
– Да… то есть нет… На это мудрено отвечать… Я, одним словом… право, не знаю…
Незнакомец отвечал длинной речью, смысл которой был: тот, что дьявол существует, но что этот дьявол – сокровенные силы природы, которые, из века в век, побеждает борьбой человеческий разум. Это силы, которые со временем будут побеждены человеком, вызваны из сокровенной тьмы на свет Божий при помощи упорного, энергичного труда.
– И, победив, подчинив себе науку, человек победит дьявола, – закончил незнакомец. – К этому я прибавлю нечто, долженствующее удивить вас. Я льщу себя надеждой, что я лично почти победил дьявола – он слуга мой если не настолько, насколько я сам бы желал, то все-таки слуга, более покорный мне, чем кому-либо из людей. Во всяком случае, слуга, более покорный моему всезнанию, нежели молитве святых иноков.
– Что?! – воскликнул невольно молодой человек изумляясь.
– Я сказал… Вы слышали и поняли. Я не повторю.
Говоря мерным, ровным и тихим голосом, незнакомец такими же степенными, ровными шагами давно двинулся с набережной, сопутствуемый собеседником. Они уже прошли часть города, двигаясь в противоположный от моря квартал, когда неожиданно, навстречу к ним, с площади, показалось богатое погребальное шествие. Хоронили, очевидно, очень важного человека. Собеседники остановились и пропустили мимо себя длинную вереницу монахов, священников, кучку родных покойного и толпу знакомых, провожавших гроб.
Когда гроб несли мимо них, загадочный незнакомец улыбнулся и выговорил:
– Слабый человек, неразумный человек! Я предлагал ему жизнь долгую и счастливую – он отринул мои предложения, и вот, не прошло и двух недель, его несут зарывать в землю.
– А вы знали покойного? – спросил Бальзамо.
– Да. Я познакомился с ним по приезде в Мессину. Это один из богачей города. Поверь он мне – и был бы жив.
– Так вы медик! – воскликнул Бальзамо. Сразу вся таинственность, которой облеклась для него фигура этого человека, как бы рассеялась и исчезла.
Ему показалось, что перед ним стоит самая обыкновенная пошлая личность, простой лекарь, пачкун, моритель народа, одевшийся нарочно полушутом, чтобы обращать на себя внимание толпы. Бальзамо, как и все его современники, недолюбливавший всяких знахарей, готов уже был небрежно откланяться и отойти. Но ироническая улыбка незнакомца остановила его.
– Медик, лекарь… это оскорбительное название. Все они обманщики, шарлатаны и невежды. Нет, любезный граф, я не лекарь. Я презираю медиков и медицину в том виде, в каком теперь то и другое процветает в Италии, да и в остальных странах Европы. Медики существуют затем, чтобы здоровых класть в гроб, а я когда захочу, то умирающего в минуту поставлю на ноги… Но я вижу, что вы не верите, вы говорите про себя: ну да! Ты, как все эти знахари, делаешь себя исключением из их числа. Так ли, мой друг?
– Правда, милостивый государь! – конфузясь, произнес Бальзамо. – Всякий из них говорит так…
– Повторяю вам, мой друг, что я вовсе не лекарь, никого не лечил и не лечу, а чтобы вполне убедить вас, я вас попрошу навестить меня… Вот мое жилище.
Незнакомец показал на небольшой дом в конце площади, который, отдельно от других домов, помещался уединенно среди большого сада. Внешность этого дома была какая-то тоже мрачная и загадочная. Дом походил на его владельца или жильца.
– Я ни с кем почти не знаюсь, никого не принимаю у себя, хотя охотников войти со мной в сношение много, – проговорил незнакомец. – Но вас, как представителя знаменитого дворянства итальянского и как любознательного молодого человека, вдобавок одинокого в Мессине, я приму с удовольствием.
Бальзамо поклонился, но его озадачило обстоятельство, что при словах «представителя именитого дворянства» незнакомец загадочно улыбнулся и странно глянул ему прямо в глаза. Он не мог знать правды… Что же он такое?.. Не колдун же!
– Завтра, новый друг мой, я буду ждать вас к себе, но не иначе как вечером. День целый я занят; перед заходом солнца имею привычку гулять, а вечер мой свободен. Постучите в дверь кольцом пять раз подряд, и вам отворят. Если вы ошибетесь и постучите менее раз, то потом стучите хоть весь вечер – вам никто не отворит. Пять раз будет условный знак между нами… Не забудьте!
– Слушаю! – уже с новым приливом почтения к загадочности этого человека произнес Бальзамо.
– Ну а теперь, мой друг, как можно скорее бегите в свою гостиницу – именно бегите. Поймите это слово в буквальном смысле. Летите, сколько есть у вас силы в ногах. Пока мы здесь с вами разговариваем, ваш сосед по горнице, иностранец, приезжий из Пьемонта, отворил подобранным ключом дверь в вашу комнату из своей и старается раскрыть крючком замок того шкафа, где у вас лежат ваши тридцать унций золота. Если вы опоздаете, вы будете обокрадены и останетесь без гроша денег. Скорее! Не теряйте времени!..
Бальзамо не двигался и стоял как истукан, глядя в лицо незнакомцу, спокойно улыбающемуся. Каким образом мог узнать все это этот человек?!
– Удивляться успеете, – полушутя произнес незнакомец, – а теперь не теряйте времени.
Бальзамо, сразу поверив в слова этого необыкновенного человека, бегом бросился к себе и еще более был удивлен, когда, вбежав в свою комнату, нашел у шкафа неизвестного человека, который работал каким-то крючком и стамеской около шкафа, где было его имущество. Тотчас же крикнул он хозяина, прислугу, и затем позвали полицию. Вор, пойманный на месте, был сдан в руки властей. Вещи и деньги Бальзамо были целы, и между тем молодой человек в полном смущении сидел у окна, на том же кресле, из которого он в первый раз увидел прогуливающуюся фигуру загадочного незнакомца.
«Что ж это такое, колдун или сам дьявол, превратившийся в какого-то турка?» – повторял Бальзамо с каким-то странным трепетом на душе.
Он, ловкий, хитрый малый, постоянно обманывавший других, ловко игравший всякую комедию с людьми, был на этот раз сам изумлен и смущен. Тут был не обман, тут было прямое колдовство.
До вечера в себя не мог прийти Бальзамо от новой встречи и нового знакомства.
VI
На другой день к вечеру Бальзамо, горя нетерпением, был уже около дома незнакомца и с робостью стучал в дверь условленное количество раз. После пятого удара дверь растворилась сама собой; Бальзамо вошел в темный коридор, оглянулся и, не найдя никого, увидал на двери надпись: «Просят затворить». Затворяя дверь, он заметил шнур у задвижки, который уходил и исчезал в скважине стены. Дверь отворялась из внутренней комнаты, по обычаю Италии. В конце коридора в полуотворенную дверь виднелся свет. Бальзамо двинулся, и за этой дверью предстал перед ним узкий, длинный зал на сводах, с довольно низким потолком. Но здесь молодой человек невольно остановился и слегка оробел. Эта комната, тускло освещенная невидимо откуда льющимся мерцающим светом, принадлежала, очевидно, не простому смертному, а по малой мере – колдуну.
Бальзамо был настолько уже образован, настолько начитался кой-каких книг и наслушался рассказов умных людей, что понял сразу, где он находится. Это была лаборатория ученого, по всему алхимика или астролога, гадателя судеб человеческих, «борца с сокровенной наукой», повторил он невольно накануне слышанные от незнакомца слова.
Комната была завалена и заставлена сплошь всевозможными, самыми диковинными предметами. Пропасть столов и шкафов были покрыты громадными фолиантами и сотнями книг. Все, что было тут, перепуталось вместе. Склянки всевозможных размеров, от крошечных до аршинных бутылей, с разноцветными жидкостями, от черной до ярко-красной и желтой, целые пучки трав, целые связки сухих листьев по стенам и на столах; стеклянные трубки разных размеров виднелись повсюду, соединяя бутыли между собой. Среди всего стояла громадная жаровня с разными приспособлениями для варки. На потолке висели шкуры различных зверей; в углу чернелась целая связка с нанизанными на шнурах странными листьями. Приглядевшись внимательно, Бальзамо почувствовал неприятную дрожь в спине: это были связки высушенных летучих мышей. Если бы среди всей этой колдовской храмины с бесовской рухлядью появилась вдруг страшная, лохматая и седая ведьма, то Бальзамо уже не удивился бы.
Вместе с неприятным чувством смущения в молодом человеке, однако, была и доля довольства. Этот новый знакомый оказался действительно тем, что предугадывал юноша. Он не заурядный лекарь, моритель народа – он действительно нечто вроде колдуна. Встреча теперь, в его положении, с подобной личностью для него, не знающего куда деваться, что делать, за что взяться, была опять-таки удачей, подарком фортуны.
– Оробели и вы… Стыдно! – вывел его из оцепенения знакомый голос хозяина.
Он взял гостя за руку и повел за собой в другую горницу, меньших размеров, но зато светлую, чистую, где был только один дубовый стол и два высоких дубовых кресла. На столе горел канделябр о трех свечах, и бронзовое изображение этого канделябра не понравилось юноше: какое-то подобие сказочного гнома, горбатого и кривоногого, с бородой до колен, держало тресвечник.
Хозяин усадил гостя, и началась беседа, продолжавшаяся почти до полуночи. Бальзамо почти не говорил, а только слушал и слушал с трепетом каждое слово, с затаенным вниманием.
– Знаете ли вы, из чего делается хлеб? – спросил его наконец хозяин.
– Да… Из муки.
– А мука?
– Из зерен, растущих на земле.
– Откуда берутся эти зерна?
– Они вырастают.
– Каким образом земля, получая зерно, дает растение и плод?
– Не знаю… Но этого никто не знает: это тайна природы.
– Но этой тайной природы пользуются, однако, люди: сеют, жнут, приготавливают муку, а из нее хлеб, которым все живы?
– Да.
– И добывание хлеба считается самым простым явлением?
– Да, конечно…
– Каким образом приготовляется вино и из чего?
– Из винограда.
– Каким образом виноградная лоза дает плод, из которого делается напиток, имеющий свойство веселить людей, а при злоупотреблении делать их несчастными? Откуда берется опьяняющее свойство этого напитка?
– Не знаю.
– Скажите мне, из чего состоит богатство человека, и при этом большей частью – счастье земное?
Бальзамо не понял вопроса.
– Что кумир людей, чему они поклоняются, чего каждый жаждет иметь больше в своих комодах и сундуках?
– Денег… – улыбаясь, произнес Бальзамо.
– Из чего делаются червонцы?
– Из золота.
– Из золота. А из чего делается золото?
– Оно добывается. Его производит земля; человек только пользуется этой добычей.
– А можно ли делать золото хотя бы, ну, вот, из золы или из какого-нибудь зелья, политого на уголья?..
– Говорят алхимики, что можно… но я не знаю.
– Верите ли вы в возможность этого?
– Нет. Я думаю… Не знаю.
– Вы не верите. Имеете решимость ответить глупым ответом.
Бальзамо смутился и не знал, что сказать.
– Вы этого не понимаете, с этим положением я согласен. По-вашему, это невозможно? Почему же, когда вы видите поселянина, швыряющего, как бы зря, земле горсти семян, вы не считаете его безумным! Вы знаете, что нечто чрезвычайное, великое, тайное сотворит свое, соделает свое дело. Вместо этих разбросанных зря семян явится поле, покрытое хлебом, которое возвратит ему его зерно с десятком в придачу. Этому вы верите, потому что есть тайны природы, которых вы объяснить не можете, но которые тем не менее существуют. Почему же вы не хотите допустить, что те же тайные силы природы, когда ими овладеешь, дадут возможность простому смертному из трех червонцев, расплавленных в огне, сделать сотни и тысячи таких же червонцев.
– Я этого никогда не видал, я только слыхал об этом, но если бы я хоть раз увидел, – восторженно воскликнул Бальзамо, – то, конечно, всю мою жизнь посвятил бы науке и тому, чтобы осчастливить тысячи бедных людей!
– Первому верю, второму не верю, – холодно произнес незнакомец. – Ну, да не в том дело! Хотите ли вы быть моим учеником, и я научу вас производить золото точно так же, как крестьянин производит поле, покрытое хлебом?..
Бальзамо, конечно, отвечал восторженным согласием и клялся на все лады в вечной благодарности и в соблюдении тайны.
– Клятвы ваши мне не нужны, мне нужно одно: слепое повиновение моим приказаниям. Находите ли вы в себе достаточно решимости, чтобы исполнить все, что я прикажу вам?
– Конечно, сто раз да.
– Хорошо. В таком случае на днях вы исполните мое первое приказание. Вы отправитесь в порт и заплатите на корабле, отправляющемся через неделю в Александрию, за два места: за себя и за меня. Мы едем в Египет.
Молодой человек выпрямился на своем кресле и, несколько смущенный, молчал.
– Вот видите, первое же приказание мое вы уже боитесь исполнить.
– В Египет?.. Ведь это такая страшная даль!.. Простите меня, но я невольно смущен… В Египет… Если бы вы сказали: к берегам Франции, Испании… Но в Египет, воля ваша, страшно…
– В таком случае далее нам не о чем и говорить. Теперь уже поздно, и вам пора домой.
– Нет, погодите… Дайте подумать… – заторопился молодой человек.
– Думать нечего. Верите вы во все, что я говорю? Верите ли вы в меня и мое могущество или не верите? Если не верите, нам нечего делать, нечего и беседовать. Мы разойдемся, как сошлись. Если вы верите – то что же нам Египет! Весь мир, вся эта маленькая планета, именуемая землей, принадлежит тому, кто поработит себе ее сокровенные тайны и силы, неведомые людям… Итак, я жду вашего ответа – едете ли вы со мною в Египет?
– Еду, – ответил Бальзамо, но тихо, робко, едва слышным шепотом.
И пока он говорил это слово, он думал:
«Что ж! Ведь не на краю же света этот Египет? Недели две пути… Ведь можно оттуда и возвратиться… А мне делать нечего: потерянный мною на Египет год или даже хоть более года дадут там, в Палермо, время улечься злобе кладоискателя. Мне можно будет вернуться прямо домой».
Через пять дней после этой беседы алхимик и его юный друг входили на палубу корабля, поднимавшего якорь.
И только в пути к берегам древнейшего царства, где была колыбель науки, по словам мага и алхимика, молодой человек узнал, как называть своего нового друга и ментора, узнал, что этот Альтотас не имеет родины, ибо никогда не родился и никогда не умрет.
Много лет, а не один год продолжалось странствование двух друзей или, вернее, учителя с учеником и последователем.
Даровитый сицилиец был находкой для Альтотаса, равно как и сам он был кладом для умного, любознательного, но и хитрого Бальзамо.
Весь доступный и безопасный Египет, затем часть Аравийской пустыни, затем Сирия и вся Святая Земля – все было пройдено путешественниками.
Средства к жизни и скитаниям были добываемы Альтотасом не магическим, но изобретательным путем. Он продал в Александрии, а затем и в Сирии тайну составления новой ярко-пурпуровой дивной краски богатым торговым фирмам. Помимо химика он иногда являлся в качестве медика, производил удивительные исцеления больных и не отказывался от вознаграждения за свое искусство.
Но вместе с тем оба постоянно и усердно работали, и Альтотас посвящал своего молодого помощника во всю глубь своих действительно обширных познаний в алхимии, астрологии, медицине, ботанике и даже магии, именуемой «белою».
VII
Прошло десять лет. В один ноябрьский вечер в Трояновы ворота по дороге из Тиволя въезжала в «вечный» город элегантная коляска очевидно сановитого путешественника.
Несмотря на время года, вечер был ясный, теплый и тихий, какие в других пределах мира, менее благословенных Богом, выпадают только в августе. Вечный город Рим, хранитель славных исторических деяний и преданий, полный вековых очевидцев их – дивных памятников, окутался в вечерней мгле. Находящая ночь сквозила тенями и ложилась кое-где пятнами по вековым соборам, дворцам и фонтанам, по тысячелетним триумфальным аркам и колоннадам… Сказочно древний и славный старец богатырь Колизей тоже наполовину окунулся во тьму, и только верхние аркады его могучим взмахом идут рядами по мерцающему вечернему небу, где с десяток звездочек, уже вспыхнув, искрятся на город сквозь просветы этого гигантского гранитного кружева, будто нависшего с поднебесья на землю. И мог бы старец Колизей гордо глядеть на вечный город свысока своего гордого величия и баснословной древности, но там на горизонте, хотя далеко, но будто рядом с ним, воздвиглась иная гранитная громада и, высясь к небу величавым куполом, видна за сотню верст кругом. Говорят, что эта громада – храм Св. Петра, что это дело рук человеков и гения одного из них. Но едва верится очам! Только вблизи, взирая на него, вдруг с благоговейным смущением почуешь душу, вложенную в эту громаду, и поверишь, что и впрямь гений человеческий, а не слепая и бессознательная стихийная сила создала этого великана во имя Божие.
И теперь, когда мрак вечерний уже сгустился в узких и кривых улицах города, необъятное подножие этого храма тоже утонуло во мгле ночи. Но купол и крест его еще плавают в поднебесье, среди сумеречного, таинственно мерцающего света.
Здесь на земле ночь, а там у них, в выси, день еще кончается.
Резиденция святого отца, могущественного главы всего католического мира и монарха целого королевства, местопребывание сотни духовных конгрегаций, монашеских братств – город, полный кардиналов, священников, иноков и паломников со всего христианского мира, город молитвы и поста – уже отходил ко сну…
Коляска путешественника двигалась по пустынным улицам; кое-где только попадались запоздалые прохожие или важно двигались ночные караулы папской гвардии – в шлемах, с длинными алебардами, внушительно блестящими на плечах… И всюду, где проходили они с монотонным выкрикиванием двух-трех слов, тухли огоньки на улицах, в лавках, в дверях и окнах домов и домишек… Граждане-обыватели и миряне монашествующего города волей-неволей шли на покой спозаранку.
Коляска остановилась недалеко от площади Барберини у довольно большого дома с огромной железной дверью, над которой висело оловянное вызолоченное изображение коня… Это был постоялый двор, скромного вида по внешности, но лучший в городе.
В гостинице «Золотого коня» останавливались только богатые путешественники. Несмотря на караульные обходы, здесь еще виднелся огонь в окнах. Хозяин водил, видно, хлеб-соль с алебардистами. Из коляски вышел человек маленького роста, уже очень пожилой и стал стучать в дверь висящим на ней железным кольцом.
Раздался гулкий звук и загудел на всю улицу, пролетая до площади. Дверь тотчас отворилась, на пороге появился, позевывая, хозяин дома с медной лампадой о трех ярко горящих и дымящихся фитилях.
– Есть ли свободные комнаты и стойла? – спросил старик хотя седой, но бодрый на вид.
– Есть. Есть… Но для кого? Кто вы? Откуда?
– Для графа Калиостро, капитана королевско-испанских войск…
Хозяин сразу проснулся и заспешил.
Через пять минут весь дом, семья хозяина и прислуга – все были на ногах.
Из коляски вышел не спеша плотный и красивый мужчина среднего роста, в легком черном плаще из шелковистой материи и в большой черной шляпе набекрень, с сероватым пером, ниспадавшим почти до плеча… Из-под распахнувшегося плаща виднелся фиолетовый бархатный камзол и темно-лиловый кафтан, обшитые галуном по борту.
– Что прикажете, ваше сиятельство? Все к вашим услугам, – говорил хозяин, вводя гостя в лучшее помещение дома с окнами, выходящими в сад соседнего монастыря капуцинов. Приказывайте, эксцелленца. «Золотой конь» славится на всю Италию кухней.
– Прежде всего эту славу, – отозвался полушутя приезжий, весело оглянув горницу красивыми светлыми глазами, – вашу славу, мой любезный, на тарелках, под именем ужина!
Хозяин быстро вышел, заказал ужин жене, которая уже растапливала печь, а затем пробежал на двор, где отпрягли лошадей из экипажа и где хлопотал слуга приезжего аристократа.
– Издалека? – начал свой обычный допрос хозяин и ради обычного любопытства, и ради своих хозяйственных соображений.
– Из Неаполя.
– Ваш барин неаполитанец?
– Нет. Граф уроженец Сицилии, господин… Не знаю, как вас звать…
– Камбани! К вашим услугам.
– Граф мой палермитанец.
– Там и живет всегда?
– Нет.
– А где же? – допытывался Камбани.
– Везде. Мы вечно в пути. Наше местожительство между двумя станциями в дороге.
– Стало быть, и в Риме ненадолго? На несколько дней?
– Нет, здесь мы, вероятно, месяц проживем. Дела есть.
– А отсюда куда?
– В Женеву.
– О-о! – воскликнул хозяин. – Это далеко…
– А из Женевы в Страсбург…
– О-о-о!.. Какая даль.
– Да. Месяц пути.
– Много денег надо на это, – вздохнул Камбани.
– Немало, любезнейший, немало! Но у нас их, цекинов и дукатов, столько же, сколько у вас овса в закромах.
Между тем приезжий сидел на кресле в горнице и задумчиво глядел в темное окно, где виднелись высокие, оголенные от листвы деревья.
«Да. Наконец… – прошептал он вслух. – Наконец я в Риме. Завтра свезу письмо великого командора ордена и увижу, что делать. Что делать? Да. Это вопрос страшный! От этого вопроса, от этой мысли “что делать” у меня кружится голова, как если бы я стоял на краю бездны. Я знаю, что я не упаду в нее, но вид глубины ее мне захватывает дыхание… Рим, Болонья, Женева, Базель, Страсбург и, наконец, Париж. Ну а потом? Да. Потом что?»
Задумчивость и почти печаль долго не сходили с лица этого человека, по-видимому, цветущего здоровьем и обладающего всеми благами мира, чтобы быть счастливым и беспечным. Все у него есть. Прежде всего – молодость и красота, а если уж не красота в строгом смысле слова, то все-таки чрезвычайно привлекательное лицо, ум, ярко блестевший в глазах, знатность и, наконец, большие средства, по-видимому, богатство. Ко всему и звание капитана королевских испанских войск, что очень важно для всякого дворянина. Да, но все это казалось и верилось только простодушному наблюдателю. В действительности у Иосифа Бальзамо не было по-прежнему ничего этого, за исключением пылкого, дерзкого и изобретательного до гениальности ума. А еще в придачу редкий дар природы соблазнять и прельщать всякого и, приводя в восхищение, заставлять без труда обожать себя.
Впрочем, если теперь у графа Александра Калиостро не было по-прежнему знатного имени, большого состояния и упроченного общественного положения, то все-таки он был далеко не тот человек и не в том положении, в каком был около десяти лет назад, когда направлялся с загадочным Альтотасом к берегам Нила.
Если учитель не посвятил ученика в обещанную тайну составления жизненного эликсира, чтобы жить вечно, и не передал ему рецепта лить золото и алмазы из простого угля, то многое и многое завещал загадочный человек своему юному ученику, другу и последователю.
Альтотаса не было теперь на свете, то есть его нигде не было. Он исчез, рассеялся, как дым, испарился, как облако.
Учитель и ученик вместе прибыли в Корфу года три тому назад, были радушно приняты командором мальтийского ордена. И здесь однажды мудрого Альтотаса не стало. Его ученик долго горевал по учителю и со вздохом, с какой-то тревогой на лице вспоминал об Альтотасе и редко произносил его имя даже про себя.
Калиостро говорит, что Альтотас не умер… ибо не может никогда умереть, как бессмертный. Но где он – не известно никому!.. Однако многие вещи, принадлежавшие Альтотасу, теперь у Калиостро, в том числе перстень с большим многоцветным бриллиантом.
Были слухи, что Альтотас томится в Мальте, заключенный в темницу… Были слухи, что он убит неизвестным злодеем, который воспользовался всем его имуществом, редкими книгами и даже его замечательными рукописями и изобретениями… Плоды всей жизни и усиленных занятий принадлежат злодею-убийце.
Вероятнее всего, Альтотас умер и завещал все любимому наперснику, который, скрывая теперь кончину учителя, дает повод к клевете. После этого исчезновения Альтотаса общественное значение и обстановка графа Калиостро сразу изменились.
Два месяца тому назад великий магистр и командор ордена мальтийских рыцарей Пинто назвал графа Калиостро «братом», клялся в вечной признательности за оказанные услуги и снабдил в дорогу рекомендательными письмами и даже крупной суммой денег. Граф отправился в Рим по поручению и по делу командора мальтийцев, и должен был, справив поручение у папского престола, ехать назад… Он обещал вернуться.
Но теперь он улыбался лукаво и насмешливо при этой мысли. Его мечты уже опередили его будущее путешествие и уже были давно в столице Франции, при дворе Людовика XVI, недавно вступившего на престол.
Зачем стремился уже тридцатилетний граф Калиостро в Париж – он почти сам не знал. Он жаждет блеска, шума и славы. А все это приютилось там.
«Да… Там или нигде… покорю я себе людей, и все людское будет у моих ног!» – думает он…
VIII
Был тот же ноябрь месяц, того же года, но в ином, отдаленном от теплой Италии холодном краю. Среди необозримых снежных равнин кое-где чернелись отдаленные леса, кое-где серыми гнездами ютились деревушки. Среди этих снеговых равнин широко, размашисто раскинулся большой город, тоже серый, деревянный, с узкими кривыми улицами; только средина города каменная, обнесенная высокой зубчатой стеною, где высятся златоглавые храмы и колокольни. Город этот мало похож на Рим, а между тем это тоже Рим – северный, православный.
Версты за две от одной из застав московских, в деревушке по прозвищу Бутырки, на косогоре, смирно и покорно стояла тройка заморенных и худых лошадей. За ними лежал на боку одним полозом торчавший вверх большой возок. Около лошадей, сбитых в кучу и как бы связанных всей спутанной сбруей и повернувшейся оглоблей, лежащей на спине коренника, затянутого поэтому съехавшим хомутом, стояли два человека, по-барски одетых. Оба они стояли неподвижно, опустив руки и молча глядя на опрокинутый возок.
На дворе между тем быстро наступали сумерки.
Один из двух путников, поменьше ростом, пожилой, оглянулся еще раз на деревню, черневшую среди снегов в полуверсте, и покачал головой.
– Ведь сейчас и ночь! Что ж мы будем делать? – проворчал он. – Грибы что ль искать! – угрюмо сострил он.
Стоявший около него второй путник, молодой, высокий, красивый, одетый несколько изысканнее, в бархатной шубке с собольим воротником и обшлагами, в такой же шапке, отвечал смехом.
– Да, смейтесь, – проговорил первый. – Мало тут веселого! Мы бы теперь давно в Москве были. Ведь тут рукой подать.
– Рукой подать… – повторил молодой и прибавил: – Опять этого я не понимаю!
И в этих нескольких словах молодого путника, произнесенных правильно и чисто, был, однако, заметен какой-то странный, будто иностранный выговор.
– Что это значит – рукой подать?
– А ну вас! – отмахнулся первый. – Ну, значит, близко. Ну вот она, Москва-то! Кабы не овраг, огни бы видать отсюда… Надо же было этому дьяволу перевернуться тут, да и сам он теперь провалился в тартарары.
– Странное название. Как вы сказали? Тартары. Это название деревни?
– Название деревни – Бутырки. Тут, видно, прежде одни бутари живали! – пошутил пожилой путник.
– Вы сказали, однако, ушел в тартары.
– Не тартары, а тартарары. И не ушел, а провалился.
– Стало быть, здесь все-таки живут татары?
На этот раз пожилой весело расхохотался в свою очередь:
– Это деревушка-то, по-вашему, татарская? Ах вы, уморительные!.. Ведь вы как есть немец. Ей-богу!.. Скажите: за весь наш долгий путь ведь вы у меня много слов новых по-русски выучили?
– Много, Норич, но только я думаю, что это все такие слова, без которых я бы мог обойтись, – ответил, лукаво усмехаясь, молодой человек.
– Почему ж так?
Не дождавшись ответа, пожилой человек, которого его спутник назвал Норичем, воскликнул:
– А! Вон они ползут, черти этакие!
На дороге из деревушки к косогору показалось человек пять мужиков. Впереди их шел ямщик.
– Ну, ну, живо! Черти этакие. Что он вас, из речки, что ли, выудил, как окуней? Шутка сказать, мы здесь час стоим! – начал кричать Норич. – Ну, берись живо! Поднимай!..
Подошедшие крестьяне почтительно и даже страховито поснимали шапки перед двумя путниками, потом дружно взялись за большой, тяжелый возок, приподняли, как перышко, и бережно, как если бы он был хрустальный, поставили его на полозья. Заморенные лошади только чуть-чуть шевельнулись.
Молодой человек полез в карман. Пожилой увидел его движение и воскликнул:
– Ну вот, баловство какое! Очень нужно! Они же, черти, не могут дорогу в исправности содержать, так чего ж им на чай еще давать!
Но молодой человек, не обращая внимания на это замечание, дал крестьянам немного мелочи.
Вся гурьба оживилась при виде серебряных монет и сразу попадала в ноги с причитанием: «Вечно будем Бога молить!» – и т. д.
– Доброе дело, барин, – сказал ямщик, усаживаясь на облучок. – Тут вся деревня почитай голодная сидит.
– Отчего?! – оживленно воскликнул молодой человек.
– Как отчего: хлеба нет.
– Почему же хлеба нет?
– Как почему: не собрали ничего. На семена не хватило… Да это у нас не в диковину.
Оба путника влезли в возок, поправив предварительно подушки и кое-какую мелочь, которая вся перетряслась при падении возка. Через минуту возок двинулся.
– Смотри ты, леший, опять нас не вывороти где!
– Зачем. Как можно… Будьте спокойны! – отозвался ямщик таким голосом, как будто ничего подобного с ним никогда не случалось и случиться не может.
Он задергал вожжами, начал со всей мочи хлестать всех трех заморенных лошадей, и возок заскрипел по морозному снегу.
На дворе уже был вечер. Через полчаса мелкой, плохой рысцою возок въезжал в заставу города.
– А по Москве нам ведь, помнится, много ехать? – спросил молодой человек.
– По Москве-то? Да вот как скажу: через весь город. Почитай на другую сторону.
– Тем лучше.
– Почему же: тем лучше?
– Город посмотрю. Я его плохо помню.
– Это бы и после можно было. Какое же теперь смотрение? – отозвался Норич.
Действительно, возок начал поворачивать из улицы в улицу, направляясь с одного края Москвы на другой. Улицы были пустынны, только изредка попадались встречные. Маленькие домишки стояли темны, и только на больших улицах большие дома, помешавшиеся исключительно в глубине просторных дворов, были освещены.
Напрасно молодой человек пытливо выглядывал в отворенное окошко возка – он ничего не мог разглядеть благодаря вечерней мгле пасмурного зимнего дня. Впрочем, он выглядывал на улицу с каким-то странным чувством, будто хотел сам рассеять себя и успокоить в себе то бурное чувство, которое поднималось и бушевало в груди.
Пока возок двигался по городу, молодой человек раз десять спросил:
– Скоро ли?
И каждый раз получал ответ Норича:
– Скоро, скоро.
Немудрено было волноваться молодому путнику. Он был чуть не в первый раз в Москве и даже в России, так как выехал из нее почти ребенком. Он едва помнил того, к кому теперь ехал. Вдобавок он не знал, что завтра будет с ним, что он увидит, что услышит. Он знал только, что предстанет тотчас же пред человеком, который одно из первых лиц русского государства – богач и сановник, именитый вельможа. К тому же этот сановник – его родной дед, которого он Бог весть когда видел, совершенно не знает и которого и не думал увидеть в этом году, если бы обстоятельства не перевернулись вдруг так ужасно, странно и загадочно.
Чем ближе была от него цель его долгого, шестинедельного путешествия с берегов Рейна к берегам Москвы-реки, тем более захватывало дыхание у молодого человека. И вдруг теперь его стало душить за горло, слезы навернулись на глазах. Он снял шапку и отер горячий лоб. Почему явились эти слезы – он сам не понимал. Как будто предчувствие чего-то дурного, чересчур дурного, скользнуло тенью по душе. В то же мгновение невдалеке от возка появился скачущий всадник с плеткой в руках и кричал во все горло:
– С дороги!.. Ворочай!.. С дороги!
Ямщик тотчас же свернул свою тройку на самый край широкой улицы. После первого уже проскакавшего всадника появилось еще двое, потом еще несколько человек, а за ними зачернелось и двигалось что-то широкое и высокое.
– Он! Он самый!.. Ей-богу! – воскликнул Норич, высовываясь из окна.
– Кто?.. – встрепенулся молодой человек.
– Он… Наш граф!
В то же мгновение за кучкой всадников, летевших в галоп, пронесся шибкой рысью большой возок, запряженный цугом лошадей в четыре пары. Благодаря зажженным фонарям весь возок был освещен и сиял позолотой на козлах, полозьях и кузове. Большой, полуаршинный, золотой герб ярко сверкнул в глазах молодого человека, выглядывавшего из окна. В одно мгновение все это – всадники, цуг великолепных рысаков, позолоченный возок и еще несколько всадников позади его – все пронеслось мимо с шумом, бряцаньем и гулким стуком.
– Это он… Наш граф, Алексей Григорьевич, в гости выехал. Не застанем.
– Как же быть? – странно выговорил молодой человек.
– Что ж! Отдохнете; а он вернется пока. А то и завтра утром вас примет. Что за важность!.. Да вот и двор.
И Норич указал рукою, вправо от возка, на освещенный ряд больших окон.
Молодой человек как-то зажмурился и глубоко вздохнул.
IX
«Вот и приехали. Что-то будет? Неужели беззаконие! Неужели хуже, чем я подозреваю!» – подумал он про себя, но подумал не по-русски, а по-немецки.
Когда возок остановился у главного подъезда больших палат вельможи, десятка два челяди высыпало навстречу. Но не почет к приезжим гостям сказался в их поспешности, а скорее одно любопытство.
– Откуда такие? К нам ли еще?
– Ишь, к главному подъезду подъехали! А пешком бы, братцы мои! – раздалось вдруг среди этой кучки прибежавших людей.
– Ах вы, олухи! Это нам-то пешком?.. Не признали? – проговорил Норич, отворяя дверцу.
И сразу вся эта кучка выбежавших людей заахала кругом.
– Вона кто… Ах, Создатель!..
– Игнат Иванович! Вона кто… И графчик! Ах ты Господи!
– Цыц! Ты! Леший! Аль в Сибирь захотелось с графчиком-то! – шепнул один лакей постарше.
– Ох, виноват. Запамятовал наказ. Помилуй Бог!
Норич вышел первый из возка, но тотчас же обернулся и протянул руки, чтобы помочь выйти молодому человеку из экипажа. Появление его из возка магически подействовало на всю челядь. Сразу все стихло, и несказанно удивленные взоры холопов впились в него со всех сторон.
– Что, нам комнаты отведены? Есть приказ об этом? – спросил Норич.
– Есть, есть, давно! Алексей-то Григорьевич выехал.
– Знаю… Встретили… Ведите барина в горницы отведенные.
Норич остановился вдруг, снял шапку, шевельнулся немного в сторону от гурьбы лакеев и начал креститься на соседнюю колокольню, чуть видневшуюся во мраке ночи.
– Слава Тебе, Господи! – выговорил он тихо. – Доехали. А уж путь-то, путь-то. Короток! Пять недель ехали с лишком. Ну вот, Господи благослови, и приехали!
Молодой человек тоже снял шапку, тоже перекрестился, но как-то смущенно и нерешительно, как будто не знал: нужно ли это делать или нет. Может быть, это обычай, думалось ему, и его долг теперь перекреститься, а может быть, русскому барину оно и не следует. И тем же нерешительным движением, каким он крестился, тем же будто связанным и робким шагом двинулся он по ступеням главного подъезда громадных освещенных палат.
Приезжего молодого человека почтительно и предупредительно встретил в швейцарской пожилой дворецкий и повел через длинный коридор в горницы, очевидно, заранее приготовленные для него. Их было три: нечто вроде приемной, спальня и уборная. Между коридором и приемной была маленькая передняя, в которой тотчас же появилось шесть человек дворовых, в одинаковых кафтанах, с галунами, на которых пестрели замысловатые гербы их барина-вельможи.
Молодой человек осмотрелся кругом и на вопрос дворецкого, скоро ли прикажет он подавать ужин, отозвался нерешительно:
– Не знаю… как хотите… я не голоден.
И затем, будто собравшись с духом, он прибавил:
– Прежде или после моего свидания с графом.
– Простите, ваше…
И дворецкий запнулся, не зная, как величать приезжего, – «ваше благородие», выговорил он, смущаясь, шепотом и как бы чуя, стыдясь того, что бессмысленно дерзко умаляет титул приезжего.
– Простите… Но я полагаю, что его сиятельство сегодня вряд ли успеет повидаться с вами. Алексей Григорьевич выехал на бал к генерал-губернатору и вернется поздно.
Молодой человек ничего не ответил и, смущаясь тоже, опустил глаза. В его ушах все еще странно звучали два русские величания: «его сиятельство» и «ваше благородие».
Дворецкий вышел, чтобы распорядиться, а молодой человек вдруг сел на ближайший стул, уперся локтями в колени, опустил голову на руку и задумался. Видно, тяжела была его дума, так как много прошло времени, и он очнулся, когда в горнице двигались галунные лакеи, ставили стол и накрывали его скатертью и посудой. Ему, очевидно, стало неприятно, что его застали врасплох, в его далеко не веселой позе. Он провел рукою по голове, встал и слегка как бы встряхнулся, отгоняя от себя свои думы. Через несколько минут, сидя за столом, уставленным всякими кушаньями, он ел с большим аппетитом.
В то же время на совершенно другой половине дома в нескольких горницах стоял шум и гам. Веселые голоса, раскатистый хохот, крик и визг детей, беготня и суетня взрослых – все сливалось вместе. Человек более полсотни побывало в этих комнатах на минуту – взглянуть на приезжего Игната Ивановича.
Норич, счастливый, веселый, самодовольный, сидел в кругу своего семейства: жены, дочерей и даже внучат. Все, от мала до велика, расспрашивали его об любопытном, единственном в своем роде, чрезвычайном, почти невероятном путешествии, которое он только что совершил. Шутка ли, от Москвы ездил через все немецкие земли, числом поди, пожалуй, сто, до самой границы французской земли! Еще бы немножко проехать ему, и он бы очутился на самом берегу моря-океана, середь которого, на острове на Буяне, и конец свету Божьему.
Всех интересовал один вопрос: как там, в этих заморских землях? Вера какая? Злы ли люди? Каковы из себя? Понимают ли и говорят ли по-русски?
Норич усмехался и отмахивался рукой, считая некоторые вопросы глупыми. Зато и на ответы его некоторые отмахивались, как бы не веря, что он говорит правду. Только жену его, 50-летнюю Анну Николаевну, интересовал один вопрос: как наградит мужа добросердечный и щедрый боярин? Шутка ли, какое важнеющее поручение исполнил ее супруг! Поди-ка пошли другого в этакую даль! В сказке сказывается: ехали за тридевять земель, а Игнат Иванович ездил за сто немецких земель и жив вернулся.
Среди сумятицы и возни от радости детей и внучат, счастливых тем, что они снова видят в среде своей отца и дедушку, трудно было жене с мужем переговорить о самом главном, что интересовало ее. Но наконец, воспользовавшись минутою, когда домочадцы занялись подарками, привезенными Норичем из чужих краев, Анна Николаевна отвела мужа в сторону. Она расцеловала его в обе щеки, перекрестилась, благодаря Бога за благополучное путешествие мужа, и, пригнувшись к нему, вымолвила почти на ухо:
– Ну, что он?
– Ничего. Что ж! – отозвался Норич неохотно.
– Знает, зачем ныне понадобился нашему графу? Что будет тут?
– Вестимо, не знает! – отозвался снова Норич тем же голосом. И жена заметила по глазам его, что мужу неприятен этот разговор.
– И неведомо ему также, кто он такой будет теперь?
– По нашему путевому виду, Крафт он теперь. А что будет после… – и Норич, глядя жене в глаза, запнулся.
– Что же?
– После… Видать будет! Канитель будет, думаю.
– Канитель?
– Вестимо. Он горяч. Спроста не дастся. С ним графиня повозится еще. Тут наскочила коса на камень, как говорится.
– Что ж тогда делать, коли упрется он? Скажет, не хочу…
– Его прирезать, а нам идти топиться!
– Что ты это, голубчик! Веру в меня, что ли, потерял в немецких-то землях, – вспыльчиво и досадливо отозвалась жена. – Что ты мне турусы-то на колесах расписываешь! Сам говорил, собираясь в путь, что дело для нас выигрышное – страсть, самое удачливое счастье наше! А теперь говоришь: «Ничего не выгорит» – и пугаешь. Резаться да топиться. Говорил ведь ты, едучи…
– Говорил? Родная моя. Говорил?! Ведь я его тогда не видал еще. А теперь видел, знаю. Он себя в обиду легко не даст. Да и нам-то лезть в эту канитель боязно и опасно. Как бы нам с тобой не запропасть. Вот что! Графу и графине – шиш будет. А нам – Сибирь!..
– Что? Что? Сибирь?! Что, очумел ты?! – воскликнула женщина изумляясь.
– Крест и евангелие ты целовать пойдешь?! А? Пойдешь? – вдруг вспыльчиво произнес Норич.
– Нет, не пойду, помилуй Бог!
– И выходит теперь… Поторопились мы. Сунулись в воду, не спросясь броду. Дело начато, а чем окончится – один Бог знает. Ну вдруг заставят нас присягать. А мы скажем: нет, мол, простите, не можем присягать. Это мы так только, зря болтали да мертвых оговаривали.
– Как же теперь быть-то, Игнат Иваныч?..
– Я сам не знаю. На попятный двор если… Так надо скорее… Сейчас. А то поздно будет… И не знаю… Ну да что об этом теперь… Завтра успеем. Может, еще все и выгорит просто, без шуму и без беды…
Норич через силу рассмеялся, махнул рукой и затем тотчас же, снова окруженный детьми и внучатами, стал рассказывать и объяснять, где какой кому подарок был куплен и сколько заплачено.
Никого не забыл вернувшийся из чужих стран Игнат Иванович; даже девке-чернавке, прислуживавшей двум мамушкам, и той привез он красный платок повязывать голову.
Дом, в который прибыли Норич и молодой незнакомец, был одним из самых больших зданий этой части города Москвы. Палаты помещались, как всегда, в глубине большого двора; только одна часть выступом выходила в переулок. За домом раскинулся большой сад, но не густолиственный и не высокий, и было заметно, что сад этот разведен недавно на пустыре. В этих палатах было, конечно, до сотни больших и малых горниц, зал, гостиных, помимо одной огромной залы. Во дворе было бесчисленное количество служб: от конюшен, переполненных лошадьми, до погребов и ледников, принадлежащих бесчисленному штату боярина. Одних коров на дворе было до полусотни, но из них только пятью пользовались господа – остальные принадлежали дворовым и нахлебникам, которых было немало.
Дом этот почти весь освещался всякий вечер, за исключением огромной залы, где уже более десяти лет ни разу не зажигалась ни одна свеча, так как домохозяин вечеров и балов не давал, а обеды, на которых иногда было до трехсот и пятисот лиц приглашенных, происходили днем и оканчивались ранее сумерек.
Весь этот огромный дом стоял пустой, только в выступе, выходящем в переулок, было жилье, и он казался обитаем. Здесь, в восьми или десяти горницах, скромно жил сам вельможа с молодой супругой и ребенком. Зато флигеля, нижний этаж и некоторые надворные строения были переполнены многочисленной дворней.
Причина, по которой огромные палаты были в запустении, была простая: домовладелец, боярин и граф, стал нелюдим, мало принимал теперь и любил проводить весь день один-одинехонек. Изредка, раза два или три в году, появлялись его родственники, дети его покойного брата со своими детьми, всего три поколения. Недавно и четвертое появилось на руках кормилиц и мамушек. Родня эта бывала в Москве всегда проездом. На несколько дней оживлялись палаты. Раздавались веселые, молодые голоса и детский писк и визг; но затем снова наступала та же тишина, и лишь одно было замечательно в этом доме: всегда пустой, он не был на вид угрюм.
Причина была та, что в надворных строениях и во флигелях было пропасть народу, а среди всех жильцов царствовали всегда мир, тишина и спокойствие; на всех лицах было написано довольство и счастье. От главного управителя и дворецкого до последнего мальчишки-самоварника, поваренка или форейтора, до последней девчонки-побегушки – все жили дружно, счастливо, в довольстве, сытые и никем не обиженные.
В этом доме, за много и много лет, никто никого пальцем не тронул. Единственное, что строго наказывалось и взыскивалось старым графом, была незаслуженная обида какая-либо, нанесенная одним из домочадцев другому. Всякий мальчишка-поваренок, сынишка дворника, получив несправедливо какую-либо, хотя легкую, затрещину от кого-либо, громко грозился иногда родному отцу или матери:
– Смотри ты: пойду барину пожалуюсь!
Иногда случалось, что обитатель палат, такого возраста, что от земли не видно, дерзко останавливал старого графа при его выезде из дому и, смело приступив, заявлял:
– Меня обидели.
И старый граф входил в расправу и в суд.
– Граф Алексей Григорьевич Зарубовский известен на всю Россию! – говорил сам граф про себя. – А чем? Тем, что пуще всего правду любит, правде служит холопом, якобы сия правда – его барыня.
X
За час до полуночи, когда весь огромный дом потемнел и спал сытым, беззаботным сном, на дворе появился тот же раззолоченный возок, с теми же конвойными. Высокий пожилой сановник, в тысячной собольей шубе, с большущей шапкой, глубоко надвинутой на затылок, с наушниками, с огромной муфтой в руках, вышел при помощи спешившихся всадников из возка и, поддерживаемый ими, стал подниматься по каменной лестнице.
Никто не вышел навстречу. Один из приезжих растворил дверь, и, только когда вельможа уже в швейцарской снял с себя шубу и шапку и засиял, в лучах двух горящих свечей, своим сплошь расшитым мундиром, с десятками орденов и регалий, тогда только несколько человек холопов, и сам главный швейцар, проснулись и пришли в себя.
– Проспали барина, тетери! – выговорил сановник сурово, но суровость эта была какая-то особенная, будто деланная, ради шутки.
– Тут бы их, Алексей Григорьевич, сонных-то… тут бы их передрать всех! – выговорил красивый гайдук, который был начальником команды, конвоировавшей всегда при выездах вельможу. Приехать бы нам да тихонько розог достать да их бы тут, по очереди, сонных отпотчевать!
– Тебе бы только драться! Только у тебя и на уме! – отозвался вельможа ухмыляясь. – Важность какая, что среди полуночи человек спать захотел! Посторонний человек так рассудит: а вольно ж, мол, барину полуночничать, в полночь по Москве шататься, по балам да гостям. Вот кабы они у меня в полдень так все заснули, иное дело – взыскал бы!
И граф, увидя вошедшего дворецкого по имени Макар Ильич, прибавил удивляясь:
– Ты чего не спишь?
– Дело есть до вас… – отозвался дворецкий фамильярно.
– Дело? Ночью-то. Белены объелся… Поди спать…
– Никак нет-с. Я за вами пойду с докладом…
– Ну, иди… Шут тебя побери…
Граф двинулся и прошел несколько темных гостиных. Перед ним шло двое лакеев с зажженными свечами. Большие и высокие комнаты, установленные богатой мебелью, зеркала, бронза, картины – все, восставая из тьмы, как-то вздрагивало в колеблющихся лучах весомых свеч. Шаги двух лакеев, самого графа и дворецкого звонко раздавались по паркету и отдавались далеко в доме, замирая под карнизами вычурных и расписных потолков.
Наконец, достигнув своих сравнительно скромно убранных апартаментов, где была спальня и кабинет старика вельможи, он опустился в кресла. К нему тотчас же подставили маленький столик, заранее накрытый, на котором стояло три блюда: простокваша, холодные галушки, облитые сметаной, и тарелка с финиками.
Приезжий с бала, очевидно, не прикоснулся к ужину генерал-губернатора, а предпочел свой простой ежедневный ужин, один и тот же за двадцать или тридцать лет. Боярин придвинул к себе блюдо с галушками и выговорил стоявшему перед ним дворецкому:
– Ну, Макар, докладывай! Коли уперся, как осел…
– Нет, Алексей Григорьевич, я еще малость поломаюсь или упрусь. Прежде покушай, и о каких пустяках покалякаем, а когда покушаешь – тогда я и доклад начну. И весь-то доклад в трех словах будет.
– Не балуй! Докладывай! – уже несколько досадливо произнес граф.
– Ей-богу, не могу! Прости… не гневайся! Покушай прежде.
Граф положил ложку на тарелку, которую нес было в рот, и, подняв изумленный взор на дворецкого, произнес неспокойно:
– Глупый человек! Ведь я не петый дурак какой, ведь я понимаю, что если ты хочешь дать мне время поужинать, то, стало быть, ты знаешь наперед, что доклад твой меня растревожит, что я ужинать не стану.
Макар Ильич замялся, слегка смутился и, как-то странно поводя плечами, разведя руками, отозвался вполголоса:
– Нет, Алексей Григорьевич, зачем растревожить, а подивит тебя нечаянность… А ты прежде покушай! Беды нет, сказываю тебе, никакой беды нет… А только что из ряду вон…
– Ну, говори! – произнес граф и вместе с тем невольным быстрым жестом стукнул ложкой по тарелке.
Тут уже не было двух приятелей, фамильярно шутивших в швейцарской. Сразу оказались друг перед другом: сидящий вельможа и его крепостной – дворецкий.
– Норич с господином приехал, – произнес дворецкий.
Граф тихо ахнул, потом потупился и едва слышно вздохнул.
– Когда? – молвил он после паузы.
– Да вот с тобой повстречались, сказывают, недалеко от дому. Их выворотили в Бутырках, а то бы в сумерки еще были во дворе.
Наступило молчание. Сановник сидел неподвижен, опустив глаза в тарелку, где лежали галушки и лежала ложка, которой он стукнул. Рука его лежала на столе около этой ложки; но пальцы выпустили ее и не брали. Макар Ильич пытливо глядел в лицо барину и видел, что доклад его имеет еще большее значение для старого графа, нежели он думал.
Всем было в доме смутно известно, а дворецкому более чем кому-либо, что Норич, приживальщик графа, родом польский шляхтич, послан в чужие края и вернется не один. Как проскользнул этот слух в среду домочадцев – сказать было трудно. Поручение свое Норичу граф давал наедине, глаз на глаз, прошлой осенью. Но у Норича была жена, у жены его были дети и приятельницы, у приятельниц были свои приятели и приятельницы. Таким образом, Норич не успел от Москвы уехать до Смоленска, как уже во всех флигелях передавалось втайне, на ушко, что Норич поехал в чужие края, а приедет с графчиком заморским.
После нескольких мгновений молчания граф поднял взгляд задумчивый и, как показалось дворецкому, тоскливый и выговорил:
– Видел ты его?
– Норича? Как же, видел. Теперь, полагательно, спит.
– Какой Норич! Болван!.. Любопытно, вишь, мне знать, видел ли ты Норича! Что, я его не видал, что ли, никогда! Спрашиваю: видел ли того… Ну, его… Ну, господина этого… Приезжего гостя, что ли?.. Дурень!
– Видел. Как же-с. Сам проводил до горницы.
– Моложав очень?
– Молодой-с, вестимо.
– Красив?
– Да-с. Очень даже из себя пригож.
– Махонький али высокого роста? – вымолвил граф с каким-то другим оттенком в голосе и почему-то опустил снова глаза в тарелку.
– Роста большого-с. Так-с… Как вам доложить… с вас будет.
– С меня? – пробурчал граф.
– С вас, – повторил Макар Ильич.
– Горбоносый? Нос-то этак крючком, что ли? – шутливым тоном, но каким-то неестественным, деланным голосом проговорил граф, будто вопрос этот делался с умыслом, был хитростью.
– Нет-с… совсем… То-ись!.. Как бы это сказать… Больше-с вот тоже, как у вас.
– Курносый, стало быть?
– Точно так-с. Даже-с, доложу вам… чудное-с такое обстоятельство. Вот сами изволите увидеть… Есть некоторое сходство… как бы это вам пояснить… Некоторое у него с вами удивительное…
– Что?!
– Некоторое удивительное подобие. Сходствие с вами, то-ись в росте, в лице и во всем…
– Что ты, болван, врешь! Что ты язык-то распустил, как баба какая! Дурень!.. Аль забыл, что указано было… Пошел вон! – проговорил граф, отодвигая нетерпеливым, гневным жестом столик и вставая с диванчика во весь свой рост.
Дворецкий сразу побледнел, задохнулся и отступил на шаг. Все закружилось у него перед глазами. Он пролепетал что-то, но сам не знал, что болтает его язык.
– Пошел вон! – снова расслышал он сквозь какой-то гам и шум, гудевший не в горнице, а в его собственной голове.
И затем, выскочив из горницы барина, дворецкий окончательно пришел в себя только на подъезде. Он выскочил на двор освежиться от перепуга, который испытал. И было чего испугаться. Тридцать лет был он уже при барине, восемь лет был уже дворецким – и за всю свою жизнь никогда не видел барина в таком припадке гнева, какой видел сегодня. Никогда он не слыхал такого голоса, который слышал сегодня. Если бы утром кто-либо сказал ему, что добрый и кроткий барин способен так крикнуть, так вдруг рассердиться, то дворецкий рассмеялся бы такому глупому предположению.
«Что ж я такое сказал? – бормотал он про себя, стоя в дверях на морозе. – Уж я и не помню! Что же, бишь, такое? Обидного али неуважительного ничего, кажись, не сказал, а как он осерчал. Что за притча? Господи помилуй и сохрани!»
Макар Ильич вернулся в швейцарскую, побрел в половину дома, где жила его семья, и среди первой темной горницы, ощупав диван, не раздеваясь, лег на него.
XI
Двадцать с лишком лет тому назад, в Москве, во время пребывания в ее стенах «великой дщери Петровой», то есть всеми обожаемой царицы Елизаветы, в боярских палатах графов Зарубовских пировали целую неделю и дворяне, и простой люд. Граф Алексей Григорьевич с женой Анной Ивановной праздновали свадьбу своего единственного сына Гриши.
Пирование являлось в силу обычая, а не от радости и довольства. Напротив того, покойный граф, а в особенности графиня, были совершенно недовольны браком сына, его выбором. Год целый родители и слышать не хотели о подобном «соблазнительном» для всей Москвы родстве, к которому приведет их женитьба Григория.
Девушка, которую он полюбил, миловидная, кроткая, как ангел, очень еще молоденькая, не более 15 лет, была единственной дочерью доктора-немца, родом из Саксонии, который лечил в доме Зарубовских и который за двадцать лет практики успел заставить все московское дворянство любить себя. Вместе с тем он завел склад аптекарских товаров, которыми торговал на всю Россию, и составил себе сравнительно крупное состояние. Но его полсотни тысяч были ничто в сравнении с громадным состоянием графов Зарубовских. Вдобавок из-за своего аптекарского склада он был называем гордой Анной Ивановной «лавочником». И вдруг единственный сын этой женщины, которая по отцу приходилась двоюродной сестрой самой императрице, женился на дочери немца-аптекаря. А согласиться пришлось поневоле, ибо слабый по природе и изнеженный воспитанием Гриша стал тосковать до того, что слег в постель.
– Бывали случаи, что от любви неудовлетворенной люди и помирали! – говорили многие Анне Ивановне, ахая над тающим, как свечка, Гришей.
Разумеется, после свадьбы и обычных пирований, когда молодая чета поселилась в доме родителей, жизнь юной пятнадцатилетней графини Эмилии Яковлевны стала невеселая. Свекор обходился с ней ласково, но свекровь попрекала ежедневно всем. Она была «саксонка» – вот то же, что и сервиз столовый. Она была и «перекрест», то есть крещена в православие пред самой свадьбой. Она же была и «лавочница».
Кроткая Эмилия сносила все, но Григорий Алексеевич страдал за жену.
После долгого сожительства без детей у них родился сын, названный Алексеем в честь деда. Но одновременно молодой граф стал так хворать грудью, что ему, ради продления жизни, было приказано медиками ехать жить в теплые края. Молодая чета приняла это решение и эту участь с радостью. Быть подальше от свекрови – было счастьем для юной матери. К тому же если она и родилась в России, то все-таки была немкой и радостно мечтала об жизни в Германии. Молодая чета с сыном выехали…
Не думали Зарубовские, что прощаются навеки. А между тем вскоре на берегах Рейна скончался от чахотки Григорий Алексеевич, а молодая вдова, оставшись с сыном, не могла решиться на возвращение в Россию, ибо ее уверяли, что маленький Алексей не вынесет климата русского. Сначала граф и графиня настоятельно звали невестку-вдову обратно, но затем вскоре все изменилось…
Графиня Анна Ивановна, которой было немного более сорока лет, вдруг скончалась от удара. Не прошло и году после смерти жены, как вдовец граф, которому не было еще 60, подпал под влияние молоденькой родственницы, которая впоследствии и сделалась его женой.
Плохо было Эмилии Яковлевне при жизни свекрови, а тут стало еще хуже. Свекор будто забыл об ее существовании и об своем внуке. Даже средства на жизнь стал присылать скудные.
Тогда-то молодая графиня вдруг сделала роковой шаг. Она вышла вторично замуж за немца-профессора, родила дочь, названную Елизаветой, и через две недели скончалась.
Алексею Зарубовскому было тогда только лет восемь. После десятка с лишком лет мирной жизни с умным и добрым вотчимом Алексей лишился и его и остался на свете с родной сестрой по матери, но немкой по отцу без всяких почти средств к жизни. В России он был, очевидно, после брака его матери совершенно забыт дедом. Да и сам он, хотя говорил правильно по-русски, чувствовал себя полунемцем. Так прошло еще года три, когда на берег Рейна явился присланный из Москвы, от деда, г. Норич.
XII
На другой день утром тот же дворецкий, всей Москве известный Макар Ильич, явился к молодому барину и доложил ему, что графиня Софья Осиповна просит его пожаловать в ее апартаменты.
Молодой человек молча смотрел несколько мгновений в лицо дворецкого упорным взглядом, как будто соображая, что значит это неожиданное приглашение. Почему не прямо старый граф желает его видеть, а прежде его самого явится он перед лицом его всесильной теперь супруги – Алексей знал, что такое молодая графиня Зарубовская. Хотя Норич не был особенно болтлив от природы, тем не менее, во время долгого пути, скучных стоянок или ночевок, понемногу он выболтал достаточно о житье-бытье графа Зарубовского.
Молодая графиня была вдова, по мужу Самойлова, а рожденная Куровская, дочь двоюродной сестры старого графа – нынешнего супруга. Тотчас после смерти первой жены Алексея Григорьевича молодая женщина переехала в дом родственника и стала полной хозяйкой и в его доме, и в его сердце.
На вид суровый, отчасти брюзга, иногда, как все его современники, деспот-самодур, но порывами, с маху, Алексей Григорьевич был, в сущности, очень добродушный человек, с мягким сердцем, которым при известной ловкости можно было овладеть легче, чем всяким другим, а завладев, помыкать как угодно. Всю свою юность, почти, можно сказать, половину своей жизни, граф был под влиянием своего бывшего ментора и дядьки, а потом жены и слепо, до самозабвения повиновался им всем по очереди. Из рук первой жены он перешел по наследству в руки второй, и теперь уже более десяти лет графиня Софья Осиповна держала мужа в полном повиновении.
Она была женщина красивая, умная и, конечно, очень хитрая. Но главная черта ее характера была скупость, почти скряжничество. Ради этой своей слабости или порока она и сумела понемногу отдалить от старого графа всю его родню. Разумеется, все Зарубовские ненавидели молодую графиню. Эта ненависть еще более усилилась вследствие того, что вначале, вскоре после смерти жены, граф искренно полюбил одну из племянниц, Елизавету, и она переехала жить к дяде. Но появилась вдова Самойлова и быстро овладела графом, потому что графиня Елизавета Зарубовская была существом наивным и добродушным и допустила вдовушку сойтись с дядей. Вскоре после свадьбы молодая супруга старика взяла верх и, не желая жить с соперницей в доме, очень тонко и хитро сбыла с рук и удалила любимицу племянницу, которой была, однако, отчасти обязана своим замужеством. Оставшись одна, она стала властвовать нераздельно и без отчета над мужем и над всем его огромным состоянием. Старик сначала обожал жену, а затем стал как бы даже и побаиваться ее. Со дня же рождения сына он окончательно стушевался и боготворил молодую жену.
Вот к этой-то графине и двинулся Алексей, по приглашению дворецкого, тотчас же, так как был уже с утра одет в свое лучшее платье и готов на свидание. Только он думал увидеть самого графа, а надо было теперь проходить через испытание или, быть может, какой-либо допрос у его всесильной супруги.
Поднявшись во второй этаж за дворецким, он прошел две больших гостиных и, достигнув маленькой сравнительно горницы, остановился по приглашению Макара Ильича.
– Извольте обождать здесь. Я пойду доложу ее сиятельству, – сказал дворецкий и скрылся за большими дверями.
Молодой человек оглянулся. Он был в маленькой гостиной с золотой мебелью, покрытой желтым атласом. Вся комната была ярко-канареечного цвета; даже на потолке, расписанном очень искусной рукой, было изображено восходящее солнце над позолоченной лучами его равниной, а поэтому даже потолок был тоже светло-желтого цвета. На ковре, среди цветов и фруктов – лимонов, апельсинов и яблоков – восседала какая-то богиня с лирой, окруженная амурами. Но все эти фрукты, амуры и сама богиня были тоже светло-оранжевого цвета. Алексею, видевшему кое-какие дворцы в Германии, показалась эта комната хотя богатой, но отличающейся безвкусием. Среди всей этой комнаты как бы пятном виднелись в углу пяльцы черного дерева и такой же табурет; а около них на столике и на окне лежало много мотков шерсти, шелка, бисера и золотой тесьмы. Очевидно, здесь всегда работала графиня. Эти пяльцы с шерстью и табуретом были единственными предметами во всех пройденных им комнатах, в которых был оттенок жилья, след человеческого пребывания. Все остальное смотрело пустынно и если не угрюмо, то все-таки холодно и неуютно.
– Подумаешь, что хозяин дома старый холостяк, – прошептал вполголоса молодой человек по-немецки. Затем, глубоко вздохнув, он проговорил вслух, как бы отвечая какому-то тайному помыслу: – Да. От нее всего ждать можно…
Звук растворяемой двери привел его в себя. Перед ним появилась женщина среднего роста, в довольно простом темном платье, со светло-лиловым шарфом, накинутым на плечах и перекрещенным на груди, с узлом за спиной. На голове был небольшой чепчик с двумя длинными концами, спускавшимися с висков до шеи вроде наушников; на чепце был приколот большой фиолетовый бант, самый модный во всей Европе и называвшийся повсюду узлом «à la Marie Antoinette».
Едва переступив порог, эта женщина устремила на молодого человека такой упорный, такой любопытствующий взгляд, что он невольно смутился и покраснел. Она пожирала его глазами; но в этом взгляде, кроме сильного любопытства, была маленькая доля пренебрежения. Он интересовал ее как бы какой курьезный зверек. Слегка кивнув головой, она протянула руку, но не ему, а на ближайшее кресло и проговорила тихо и сухо:
– Прошу вас садиться.
Сама она села на диван довольно далеко от указанного ею кресла. Снова слегка зарумянилось лицо гостя – первый раз в жизни приходилось ему сидеть и беседовать с женщиной на таком далеком расстоянии. Ему казалось, что было бы даже лучше и вежливее заставить его стоять, а не сидеть. Он повиновался и, заняв указанное ему кресло, вгляделся в лицо хозяйки.
Трудно было сказать, сколько лет ей. Цвет лица ничего не говорил – она была сильно набелена и нарумянена по обычаю. Сухая улыбочка тонких губ не выражала ничего; глаза, казалось, принадлежали женщине пожилой. Ей можно было дать и менее 30 лет, и около 40. Собой она была скорее красавица, чем дурна, но во взгляде было что-то отталкивающее, неприятное.
– Граф вчера очень устал на балу и не очень здоров, – заговорила она холодно, – поэтому он поручил мне повидаться с вами, кое-что спросить у вас, а завтра, по всей вероятности, вы повидаетесь с ним. Прежде всего скажите мне: довольны ли вы были в пути Норичем? Был ли он достаточно предупредителен с вами? Ему было приказано исполнять все ваши желания.
Молодой человек хотел отвечать, но графиня вдруг воскликнула:
– Ах, виновата! Я забыла… Понимаете ли вы меня? Я хочу сказать, – прибавила она, заметив удивление на его лице, – достаточно ли вы понимаете по-русски? Норич мне сказал, однако, что вы изрядно говорите.
– Да-с, – произнес наконец молодой человек. – Я говорю, конечно, по-русски. Быть может, некоторые слова я произношу неправильно от долгой жизни в Германии…
– Тем лучше, если вы не совсем онемечились.
– Я не хотел этого. Я знаю и помню, что я природный русский дворянин. Я бы давно вернулся в Россию, если бы не приказ деда жить в Германии.
– Вы знаете, что вас не вызывали долго, а теперь вызвали вследствие очень важных обстоятельств. Чрезвычайно важных…
– Да-с. Но я, как вам известно, вероятно, ничего не знаю о них…
– Вот именно, граф, мой супруг, теперь и поручил мне… Именно мне объясниться с вами. В его преклонном возрасте всякие волнения и всякие душевные потрясения могут быть вредны для его здоровья и даже опасны, а объяснение, которое мы должны иметь с вами, сугубо важно. Я предупреждаю вас, чтобы вы собрали все свои силы душевные, чтобы устоять перед тем горем… – Графиня запнулась и прибавила: – Да, что я вам сообщу, для вас будет очень горько, но в этом ни я, ни сам граф не виноваты. Чтобы пояснить вам чрезвычайность настоящего случая с вами, я должна обратиться за много лет назад и рассказать вам то, что было давно, даже до вашего рождения на свет. Ведомо ли вам, быть может, вы слышали от вашей покойной матушки, что она вышла замуж за молодого графа Григория против воли и желания всей семьи его.
– Да, – отозвался Алексей, – я это знаю и не раз слышал от матушки.
– Тем лучше… Первые два года или три года после этой женитьбы Алексей Григорьевич относился ласково к своей невестке; но супруга его, Анна Ивановна, свекровь вашей матушки, продолжала быть с ней суровой и неутешно плакалась, что ее единственный сын не женился на предназначенной ему невесте из старинного русского рода именитых дворян. И это вы, вероятно, знаете?
– Да. Матушка мне не раз сказывала, что она много горя вынесла от бабушки Анны Ивановны.
– Ну-с… Она была отчасти и права: я буду говорить откровенно. Вы теперь уже сами взрослый молодой человек и можете понять, что немка не нашей веры и к тому же дочь пришельца безызвестного и простого происхождения не была завидной партией для молодого графа Зарубовского. Отец вашей матушки был ни более ни менее как медик, создавший себе небольшие деньги аптекарским магазином. И вдруг дочь немца-аптекаря сделалась графиней Зарубовской… Сами посудите, что такое горестное событие…
– Все это я знаю, тысячу раз слышал, – сухо и раздражительно вдруг отозвался Алексей, – и право, не понимаю, зачем упоминать о том, что было давно. Ведь все это грустное приключение для дедушки я не могу считать грустным. Для меня этот виновный молодой человек, женившийся против согласия родителей, – мой отец; эта немка, дочь аптекаря, – моя мать. И я их, как моих родителей, судить не могу и не желаю… Да, наконец, признаюсь вам, осуждать мне их не имеет смысла. Не будь этого горестного, как вы выражаетесь, происшествия, меня бы на свете не было. – И Алексей грустно, но презрительно улыбнулся. – К тому же и родители мои, и бабушка, и многие виновники этого приключения давно уже на том свете. Зачем нам тревожить их память!
– Вот именно тревожить их память мы и должны, – сухо, более чем с досадой, произнесла графиня. – Когда вы мне дадите высказать все, то вы поймете сами, зачем я тревожу их память. Имейте терпение и слушайте до конца! А я постараюсь рассказать вам как можно короче и толковее… Итак, графиня Анна Ивановна особенно сурово относилась к своей невестке. Прошло несколько лет; детей не рождалось. Она только и утешала себя одной мыслью из месяца в месяц, из года в год, что будут у нее внуки, будет наконец младенец, который по отцу все-таки граф Зарубовский, наследник всего огромного имущества, и вотчин, и капиталов, а главное – наследник знаменитого имени. Кажется, прошло таким образом лет шесть или… Не могу вам сказать… После совещания с разными медиками, с разными знающими людьми Анна Ивановна, да и родитель ваш, узнали, что ожидать детей им нечего, что у вашей матушки детей не будет. Тогда бабушка, женщина замечательно твердого характера, каких в обеих столицах не запомнит никто подобных…
– Да, об этой бабушке и о ее нраве я много слыхал, – выговорил Алексей с особенной улыбкой, – в особенности много от родителей.
– Да… Графиня была женщина такая, что родись она мужчиной, то была бы в великих должностях и почестях. Была бы, быть может, знаменитым полководцем! – серьезно выговорила графиня.
Но Алексей снова улыбнулся и подумал про себя: «Да! Баба Яга была… настоящая…»
– Анна Ивановна объявила тогда сыну и невестке, что станет хлопотать о разводе их и будет просить царицу заключить вашу матушку в монастырь, а сыну ее дозволит жениться на другой… Знаете ли вы это?
– Знаю.
– Вскоре после этого все успокоилось. Графиня была счастлива и довольна, перестала хлопотать о разводе, потому что в семье ожидали рождения наследника. Затем явился на свет слабенький, больной, еле дышащий мальчик.
– Да, – выговорил Алексей, – мальчик, который и теперь не может похвастаться здоровьем.
Графиня ничего не ответила и пытливо уперлась глазами в глаза молодого человека; потом притворно вздохнула, опустила глаза и выговорила почти шепотом:
– Здоровье его было настолько плохо, что он не прожил и полугода.
– Как не прожил?!
– Так… он скончался на пяти месяцах жизни.
– Разве у меня был старший брат?.. Я этого не знал…
– Нет. Старшего брата у вас… то есть двух сыновей у вашей матушки не было… Был у нее один и умер.
XIII
Графиня замолчала. Наступила пауза. Алексей смотрел на графиню, не поняв сначала ее слов, но потом по мере того что он мысленно повторял эти слова, соображал и начинал понимать, то выговорил отчетливо, но тихим голосом от поразившего его изумления:
– Я не понимаю, что вы хотите сказать?! Старших братьев у меня не было… Про какого же мальчика, умершего через полгода по рождении, изволите вы рассказывать?
– Мальчик, повторяю я вам, родившийся у вашего батюшки от вашей матушки, через полгода скончался. Но это узнали мы только теперь. И вот в этом-то именно все дело и то горе, которое обстоятельства, а не мы должны причинить вам.
– Позвольте!.. Позвольте!.. – воскликнул Алексей. – Я понял! Я понял! Вот оно! Я предчувствовал. – И он провел рукой по лбу, как бы боясь, что мысли его все перепутаются. – Позвольте, что вы говорите?.. Господь с вами… Ведь это ужасно! Я понял! Это все такая ложь, это такая коварная выдумка, что, право, стыдно вслух говорить о подобных выдумках!
– Позвольте досказать…
– Что же досказывать? Я все понимаю… Единственный сын моих родителей, изволите вы говорить или то есть изволите вы выдумывать, клевеща на мертвых… Этот ребенок умер, а я, стало быть… Кто же я?.. Я, стало быть, ничто!.. Откуда я взялся?! В грядах капусты найден… Подкинут или куплен…
– Почти что так… – глухо выговорила графиня.
– Это злодейская клевета или… или скоморошество.
– Не волнуйтесь! Позвольте досказать, – холодно отозвалась графиня. – Ваша матушка настолько была перепугана неожиданной смертью, случившейся сразу и среди ночи, что как бы потеряла голову и всякое присутствие духа… И ребенка ей было жалко. Но главное она знала, что наутро, при подобном известии, ее свекровь тотчас снова примется за свои хлопоты горячо и упрямо. А затем, через каких-нибудь два или три месяца, она достигнет своей цели, то есть пострижения вашей матушки в монастырь и развода. И вот тут лукавый попутал ее, а злые люди, дурные, но люди ловкие, помогли ей. Ее мертвое дитя было скрыто. А на заре оказалось, и все домочадцы узнали, что у живущего нахлебником в доме господина Норича за ночь скончался ребенок. Зато на половине молодого графа у молодой графини был в люльке ребенок, про которого его бабушка сама всей Москве говорила: «Как он, голубчик, будто в сказке, сразу пополнел и похорошел!» При этом, как мне рассказывали еще недавно очевидцы, прошло несколько дней между тем днем, что умер ребенок господина Норича, и тем часом, когда молодая графиня принесла поцеловать внука к бабушке. Его не могли будто принести долго к бабушке потому, что он то почивал, то хворал… Поняли вы меня теперь?
Алексей, бледный как полотно, молчал. Он поднял руку снова ко лбу, и рука эта задрожала.
– Какие есть ужасные люди, звери, злодеи на земле! – произнес он глухим шепотом.
– Да, конечно, – отвечала сухо графиня. – Но их винить очень не следует: они хотели услужить молодой барыне, которую все любили, спасти ее от беды. Ей самой, конечно, не следовало бы соглашаться на такой поступок…
И, не договорив, графиня вздрогнула от того хохота, которым вдруг разразился Алексей.
– Так вы полагаете, злодеями я величаю тех неизвестных мне людей или злодейкой величаю покойную мать?.. Да что ж вы, из ума выжили!.. Злодеи – вы, сочинившие всю ту клевету и ложь. Всю эту дьявольскую клевету!.. Так меня подменили, то есть мною, сыном Норича, нахлебника в доме, подменили того, истинного младенца графа Зарубовского? Как вы можете говорить это мне же в глаза?.. Ну вы еще, положим… Вам, очевидно, все возможно… Но неужели дедушка поверил подобной клевете?.. И наконец, где же те свидетели, которые это видели?.. Кто же помогал матушке в таком преступном деле?
– Родители, конечно… То есть ваши родители настоящие.
– Кто?! Кто?!
– Те же самые: господин Норич и его жена. Они живы… Они это сделали, и они же в этом теперь покаялись и просили прощения у графа.
– Так, понимаю! Они покаялись тогда, когда у вас родился ребенок, а до тех пор раскаяние их не брало!.. – воскликнул Алексей.
– Конечно! Что ж тут удивительного? Когда не было на свете другого законного наследника имени, то они молчали; но когда у графа родился вновь, при старости, законный наследник, то, понятное дело, они не захотели брать на душу такого греха, такого ужасного дела – и покаялись.
Алексей начал нервно, раздражительно смеяться; наконец не выдержал и произнес, упорно глядя в глаза графини:
– Вот что называется: с больной головы на здоровую… Так я подкинутый младенец! Сын господина Норича?.. И моя мать, знавши это, обожала меня… Всю свою жизнь мне посвятила. Стало быть, выходит, она сама себя обманывала… А теперь родился настоящий, законный наследник от дедушки. По крайней мере, этот, графиня, совсем настоящий?
– Что вы хотите сказать? – вспыхнула графиня.
– Я спрашиваю: уверены ли вы, что вот этот-то, второй наследник, родной братец моему батюшке? Может быть, в этом доме часто играют младенцами, как в бирюльки. Может быть, и этот как-нибудь попал в графскую люльку из люльки нахлебника.
– Вы разум теряете! – глухо отозвалась графиня. – Если я на вас не гневаюсь, то потому именно, что понимаю ваше душевное состояние в эту минуту. Могло с вами случиться даже худшее. Я думала, что с вами обморок может приключиться от страшной и горестной вести, которую я передала вам. Но вместо этого вы только беситесь и говорите мне такие грубости и дерзости, которые в другую минуту нельзя бы и простить. Однако вам необходимо будет примириться, привыкнуть, смириться перед обстоятельствами и ехать обратно в Германию, не упрямясь. Иначе вы попадете совсем в иные пределы…
– Скажите мне, – не слушая ее, вымолвил Алексей, – дедушка добрый и честный человек, а поверил всему этому?
– Как же было, позвольте, не поверить, когда почтенный человек, давно, с молодости, живущий в доме и пользующийся всегда милостями графа, пришел и покаялся за свою жену. Он не участвовал в этом обмане, но сам был тогда обманут и полагал, что потерял младенца. Затем жена покаялась ему, лукавый и его попутал. Он рассуждал, что не все ли равно, если других наследников у старого графа нет… Но когда у меня родился сын, то он, как человек сердечный и честный, явился ко мне и покаялся во всем…
– Явился подкупленный вами холоп-нахлебник и оклеветал умерших. Скажите же мне теперь, какие последствия должно иметь все это? Вся эта выдумка, все это хитросплетение злодейское?
– Очень простое. Вы понимаете, что сын Норича должен называться Норичем, а не графом Зарубовским, и что мой супруг может только по доброте своего сердца обеспечить существование такого несчастного молодого человека, ни в чем не повинного. Но согласиться считать его родным внуком, позволить носить звание и имя свое, отдать ему половину своего состояния, обделив законного сына… согласитесь сами, что это было бы нечестно и даже греховно.
Наступило долгое молчание. Алексей сидел недвижно, как истукан. Ему казалось, что у него ум за разум заходит. Наконец возбуждение его прошло, силы стали покидать его, и он, почти в изнеможении, глубже опустился в кресле и уронил руки на колени.
– Что ж мне делать? – тихо произнес он.
Эти слова стоном вырвались у него, глаза наполнились слезами.
– Боже, Господи! Что бывает на свете!..
Графиня молчала, и мертвая тишина водворилась в гостиной.
– Зачем же… Зачем… – прерывающимся голосом начал Алексей. – Зачем теперь!.. Зачем не убили меня!.. Зачем не подослали меня зарезать!.. Ведь это было бы нетрудно – это было бы лучше… Я был бы теперь покойник, сразу, от ножа злодейского!.. А теперь вы хотите истерзать меня, извести меня понемножку, потихоньку… Да нет!.. Это невозможно!.. Нельзя!.. Нельзя!.. Я увижу дедушку, я скажу… Я увижу Норича… Я убью его!
Алексей поднял руки к лицу и начал что-то бормотать бессвязно, почти без всякого смысла. Что было после этого движения, которое он помнил, он не знал. Когда он снова пришел в себя, то вокруг него хлопотали две горничные и лакей.
Алексей оглянулся сознательно на всех, на себя и сообразил, что с ним была легкая дурнота. Он стал вспоминать – и вспомнил все. Сердце больно сжалось, и он стал искать ненавистную ему теперь фигуру графини, чтобы сказать ей снова, тотчас же это слово, которое звучало в нем, во всем его существе:
– Неправда!.. Неправда!
Он прошептал это слово несколько раз, но напрасно искал глазами графиню. Ее в гостиной не было.
– Повести вас или вы сами дойдете? – говорил кто-то.
– Да, да… Нет… Я сам, – произнес Алексей, поднялся на ноги, отстранился от помощников и сам двинулся через анфиладу горниц. Однако через час, в своей горнице, он снова лег в постель. Он чувствовал, что в голове его все путается и что он бредит наяву.
Вечером он позвал лакея и приказал, чтобы немедленно пригласили к нему по делу его спутника Норича.
Вернувшийся лакей доложил ему, что г. Норич не может явиться, так как это ему строго запрещено графом.
– Я убью его! – вскрикнул Алексей громовым голосом и в порыве гнева вскочил с постели.
Лакей испуганно выбежал из горницы.
XIV
Алексей не спал всю ночь, дремал и бредил, приходил в себя и не знал, была ли то дремота или обморок. Отчаяние было в душе. Если всемогущая в доме, всемогущая над графом женщина так резко объяснилась с ним, взводя клевету на его мать, то чего же было ждать от слепо подчиненного ей старика деда. Очевидно, все это было делом рук корыстолюбивой графини, давно обдуманный, злодейский план.
Успокоившись к утру, Алексей немного заснул. Конечно, он проснулся поздно и, одевшись, стал ждать приглашения к деду. Он перебирал мысленно всю свою вчерашнюю беседу с графиней. Сотни раз спрашивал он себя, не виновен ли он по отношению к ней в какой-либо чрезвычайной грубости, и должен был сознаться, что он вел себя, как подобало ему, и только раз не мог подавить в себе вспыхнувшего гнева и, в отместку за клевету на его мать, отвечал ей грубой выходкой на счет рождения ее собственного сына.
В сумерки один из приставленных лакеев явился спросить, когда велит барин подавать кушать.
Тут только вспомнил молодой человек, что он с утра ничего не ел и что, очевидно, его не позовут к столу наверх, а принесут подачку с барского стола. Несмотря на то что графиня около полудня прислала к нему сказать. что граф нездоров и принять его не может в этот день, молодой человек видел, как около трех часов приехало несколько карет и гости долго оставались в доме, очевидно, приглашенные к столу. Прохаживаясь в своих горницах из угла в угол, он несколько раз вымолвил по-немецки:
– Какая пытка! Эта неизвестность хуже всякой пытки. Но я не уступлю вам, графиня! Да, какое бы ужасное решение не последовало, лучше поскорее! И тогда к сестре, домой, на берега Рейна! Нет, я уеду, но не смирюсь, как вы говорите…
И тут только вдруг вспомнил он фразу графини, в которой слышалась угроза, что в случае упрямства он вовсе не поедет обратно в Германию.
– Что же они хотят? Убить меня или сослать в Азию? Или заключить в крепость? – И он злобно усмехнулся. Алексею казалось, что нет той ссылки, той крепости, из которой бы он не сумел уйти. Если велят зарезать, подошлют убийцу из-за угла, то другое дело.
Среди этих волнений и дум вплоть до вечера молодой человек вдруг увидел перед собой фигуру того же Макара Ильича.
– Пожалуйте к графу! – вымолвил дворецкий.
Молодой человек от неожиданности почти не понял приглашения.
– Что? Как? – выговорил он.
– Пожалуйте к графу. Граф вас просит к себе.
Буря забушевала в груди Алексея. Он так приготовился повидаться со стариком только наутро, что теперь чувствовал, что силы, энергия и готовность на всякое дурное и на всякую беду – сразу покинули его. Вместо того чтобы следовать за дворецким, он невольно опустился на близстоящее кресло. Макар Ильич заметил движение и, вероятно, понял его, потому что довольно ласково и как бы с сочувствием выговорил:
– Я вас тут, в коридоре, подожду.
И задумчивый старик вышел из горницы.
«Чудное дело! – думал он. – Что это за притча! Или только грех один берут люди на себя. Ведь он чудно похож с лица на нашего старого графа. Дело это темное, и, пожалуй, страшное дело».
Через несколько мгновений Алексей вслед за дворецким снова поднимался по большой парадной лестнице и затем повернул в противоположную сторону дома, к тому выступу большого здания, который выходил в переулок. На этот раз дворецкий не пошел докладывать, а, прямо растворив двери, остановился и пропустил мимо себя взволнованного молодого человека.
Он очутился в очень маленькой горнице с очень простой меблировкой, настолько простой, что она поразила его по несоответствию своему с остальным убранством всего дома. Простой письменный стол из карельской березы стоял у окна и такое же кресло, а затем несколько простых стульев были расставлены кругом по стенам. Между ними был только один мягкий сафьянный диван и одно огромных размеров сафьянное кресло с чудовищно большой спинкой. На стенах не было почти ничего – только один большой портрет во весь рост молодого офицера в ярком мундире, но без орденов. От одного мгновенного взгляда на этот портрет сердце Алексея дрогнуло. В углу горницы, на большом кресле из красного дерева, обитом красным сафьяном, сидел старик. Это был тот человек, от которого все теперь зависело. Этот старик, выписавший его из Германии, – сильный вельможа в империи и при дворе. С ним бороться трудно.
Напрасно старался Алексей разглядеть черты лица деда – у него рябило в глазах и красные пятна то и дело застилали все перед глазами, как бы скользя по горнице. Сердце стучало молотом. Он заметил только темный бархатный халат, такую же шапочку на голове слегка сгорбленного, худощавого старика. Он сидел, прислонясь к высокой спинке кресла. По бокам его, в ручках кресла, был с одной стороны приделан кругленький столик, а с другой нечто вроде пюпитра, на котором лежала развернутая книга, а около нее, в двух бронзовых рожках, горели цветные восковые свечи.
Граф заговорил что-то, но молодой человек, лишившийся почти зрения, лишился и слуха. Он не видал, не слыхал, не понимал почти ничего. Он видел только движение руки деда, в которой был резной ножик и карандаш, но не понял, что надо взять стул и сесть. Он ждал, что старик встанет или подзовет его к себе, и смущался; наконец, понемногу придя в себя, подумал: «Даже не поздоровался, не поцеловал. Все кончено. Решено ими бесповоротно».
– Очень рад… Грустное происхождение дела. Да… Но все-таки рад видеть…
Вот что расслышал наконец Алексей.
– Что же вы… Не хотите… Почему же… Так неудобно беседовать… – продолжал граф приветливо.
– Что прикажете, – выговорил наконец Алексей.
– Садитесь, говорю я… Вот тут… Подвиньтесь. Я стал туг маленько на ухо.
Алексей повиновался, взял стул и сел. Он снова думал: «Хороша встреча внука с дедом после многих лет разлуки!..»
– Поближе… Сюда… Вот хорошо. Ну, теперь. Теперь давайте беседовать. Прежде всего не называйте меня дедом. А просто так… Ну, графом…
Старик вздохнул, искоса взглянул на Алексея и, встретив его грустный взгляд, как-то робко и стыдливо отвел глаза на пюпитр с книгой. Алексею вдруг показалось, что старик еще более смущен, чем он сам. В голосе и движениях графа сказывалось какое-то смущение и нерешительность, доходящая до робости.
– Ну-с… Вы вчера виделись с Софьей Осиповной?
– Точно так-с.
– И беседовали подробно об этом горестном происхождении дела. Она вам все сказала по сущей правде, не щадя ваших чувств. Что ж делать?! Божья воля… Мы не вольны… Так Бог судил. Обманщики сами повинились ныне и рассказали всю правду… Горькую и для вас, да и для меня…
– Почему же, граф, вы верите им на слово? А если это клевета? Обман? Почему вы не хотите считать все это коварством и злодейским умыслом?
– Какая же нужда им, мой голубчик, – вымолвил старик, – обманывать нас и на себя теперь преступный поклеп взводить. Зачем им лгать или клеветать?
– Затем, что это выгодно для…
Алексей запнулся и не знал, как высказать свою мысль, свое подозрение.
– Устранив меня от прав, мне по рождению принадлежащих, они служат Софье Осиповне и ее младенцу-сыну.
– Да, за моего сына они болели, сказывают. Конечно! – воскликнул граф. – Болели всей душой, что он имеет якобы сонаследника в своих родовых потомственных правах, а этот соперник на деле… незаконный!
– Все это сказки… Все это злодейская клевета на мою покойную матушку! – горько воскликнул Алексей.
– Я верю, мой друг, что вам тяжело и трудно примириться с такой жестокой и незаслуженной судьбой… Лучше было бы вам с младенчества оставаться в своем состоянии, нежели теперь быть… быть якобы разжалованным… И без вины. А по вине матушки вашей.
– Грех! Грех это! Накажет вас Бог, дедушка, за оклеветание покойных, которые не могут за себя свидетельствовать. Но они могут теперь предстательствовать, если жили праведно, перед престолом Всевышнего… И праведный Господь накажет всех, накажет и Софью Осиповну, и…
Алексей от волнения не договорил… Граф молчал и тяжело дышал… Наступила пауза.
– Смотрите… Вглядитесь в этот портрет моего батюшки, – воскликнул снова Алексей. – Поглядите и на меня… Эта живопись и мое лицо, их поистине изумительное сходство разве ничего не сказывают? Разве нужно большее свидетельство… Вы не видите или не хотите видеть, что измышленный, самодельный сынишка якобы господина Норича – живой портрет этого портрета вашего сына.
Граф ничего не отвечал, и снова наступило молчание… Рука его бессознательно двинулась к развернутой книге, и Алексей заметил, что сухая желтоватая рука старика дрожит… Он перевел взгляд на лицо графа и увидел, что глаза старика влажны, лицо подергивается…
– Дедушка! – вдруг стоном вырвалось у молодого человека, и он упал на колени перед креслом старика, горячо обхватил его и зарыдал. – Дедушка. Не губите меня… Не грешите! Если корысть людская произвела все это злодейское ухищрение, то мне ничего не надо… Я не возьму ни алтына от всех богатств графов Зарубовских, но не позорьте память моей покойной матушки, не лишайте меня моего звания и имени…
Граф молчал и утирал набегавшие слезы.
– Дедушка… Скажите… Ведь вы не лишите меня моего законного звания?.. Ведь не возьмете страшного греха на душу?..
Алексей ждал долго, и после паузы граф наконец вымолвил надтреснутым голосом:
– Алеша! Я не… Я ничего тут не могу…
XV
В Риме стояла теплынь. Ноябрь походил на апрель. Отдохнув от пути, вновь прибывший иностранец, то есть граф Александр Калиостро, занялся приискиванием себе приличного своему положению помещения. Вместе с тем он сделал несколько визитов в городе к иным из самых видных лиц: к двум кардиналам и к нескольким местным аристократам. Всюду он предъявлял рекомендательные письма, данные ему его другом, великим командором мальтийского ордена.
Пинто в этих письмах аттестовал графа Александра Калиостро как своего друга, как будущего кавалера мальтийского ордена, а по своим дарованиям, пожалуй, и будущего командора.
Понятно, что он по приезде был принят любезно разными принцами, маркизами и кардиналами.
Через несколько дней один из новых знакомых, маркиз Альято, сильно расстроивший свое состояние и нуждавшийся в деньгах, предложил из любезности, ради поправления своих дел, новому знакомому графу весь верхний этаж своего дворца внаймы. Калиостро с благодарностью согласился и вскоре расположился в великолепном помещении, где мог принимать без труда всю римскую аристократию.
Время шло. А в постоянных сношениях с римским обществом Калиостро, казалось, уже забыл о своем намерении ехать во Францию, но, в сущности, у него явилось другое намерение – была намечена новая цель. Удача, которая бывала всегда во всем, что он ни предпринимал, не изменила ему и здесь. Вскоре он привел в восторг все общество как рассказами о своих путешествиях по Греции, Архипелагу, Малой Азии, Египту и Аравии, так и своими познаниями.
Если когда-то пятнадцатилетний отрок приводил в восторг знакомых и друзей, ведя безобразную жизнь в Палермо, то теперь 30-летний, красивый и элегантный мужчина еще легче пленял всякого.
И действительно, теперешний граф Калиостро был далеко не похож на прежнего Бальзамо, который когда-то последовал в далекие края за Альтотасом.
Десять лет странствования не прошли даром, а все то сокровище науки, в которое посвятил его ныне исчезнувший, как облако, Альтотас, делало из графа Калиостро такую же странную, таинственную и загадочную личность, какой был когда-то для него самого его учитель.
Первое время граф Калиостро был только любезный собеседник, красноречивый и интересный, но вскоре знакомые его стали замечать, что помимо блестящего ума и светских манер в этом человеке есть что-то в высшей степени любопытное.
Искусный граф не сразу в этой игре открывал свои карты, а понемногу. Чем более сближался он с римским обществом, тем загадочнее становился для всех.
Действительно ли было теперь в этом человеке нечто особенное, или он притворялся, играл комедию? Нет никакого сомнения, что граф Калиостро действовал искусно, с расчетом, с умыслом, но нет также никакого сомнения, что исчезнувший Альтотас завещал ему нечто, что было именно той сокровенной силой природы, которую загадочный Альтотас, по его словам, отвоевал у природы. Вскоре несколько случаев наделали много шума в Риме.
Один еще не старый кардинал умирал от какой-то непонятной болезни. Все медики Рима приговорили его к смерти, отказались лечить для избежания нареканий. Ближайшие родственники были в отчаянии, сулили золотые горы тому, кто спасет больного; рассылали гонцов во все большие города Италии искать искусного медика.
Явился любезный, элегантный, великосветский франт, аристократ граф Калиостро и предложил осмотреть умирающего и помочь ему.
Предложение было принято с недоверием, но утопающий хватается за соломинку, и родня допустила аристократа-чужеземца к осмотру больного.
Несколько часов провел Калиостро около постели кардинала и давал ему пить зелья своего собственного состава.
На другой день умирающий был только больным, а на третий день он чувствовал себя хорошо и наконец через три дня поднялся с постели.
Этот случай Рим назвал не излечением, а исцелением. О случае было доложено самому святому отцу.
Медики гурьбой бросились к Калиостро как к учителю, но он отказался входить с ними в какие-либо сношения, говоря, что он презирает медицину. Другой случай, совершенно иного рода, вскоре тоже немало наделал шуму в городе.
Среди улицы, в самом шумном квартале города, был найден ребенок пяти лет, мальчик, потерянный или брошенный родителями. Его принял в дом один епископ, а пока полиции было строго приказано разыскать в городе родителей ребенка. Это было тем мудренее, что мальчик не знал своей фамилии, не знал квартала, где жили родные, и не мог дать никаких сведений об образе жизни отца или матери. Он говорил только подробно, что у них часто ссорятся и дерутся.
Прошло несколько дней. Так как многие высокопоставленные лица интересовались судьбой этого ребенка, то полиция из сил выбивалась выполнить приказание, но все поиски были тщетны.
Калиостро, до которого дошел слух о мальчугане, улыбаясь, предложил своим знакомым узнать немедленно самым простым способом, кто родные ребенка и где они живут.
В назначенный вечер во дворце Альято, в апартаментах графа Калиостро, собралось самое блестящее общество Рима, около сотни лиц. И здесь же в большую гостиную был приведен хорошенький мальчик, которому на вид казалось менее пяти лет.
Все общество, собравшееся здесь, не знало, что именно здесь произойдет, но знало или чуяло, что будет нечто изумительное, основываясь на загадочной улыбке хозяина. Репутация Калиостро в Риме была уже такова, что от него ожидали увидеть восьмое чудо света.
Хозяин, усадив всех, предложил несколько минут просидеть в полном молчании. Затем он положил руку на голову мальчугана, который сидел у него на коленях. Затем был принесен большой графин с водой. Калиостро поставил его на столе перед мальчиком и кротко сказал ему, глядя в графин, освещенный со всех сторон и блестевший, как лед на солнце:
– Помнишь ли ты, мой дружок, улицу, в которой ты живешь? Можешь ли ты ее себе представить со всеми ее домами, дворами, или церковью, или чем-нибудь, что есть на ней? Помнишь ты ее?
– Помню.
– Посмотри в графин, не нарисовано ли там то же самое?
Мальчик не сразу понял, но после повторения того же нагнулся к графину и долго глядел в него.
– Видишь ли ты в графине как бы картинку, на которой нарисована твоя улица?
– Нет, – отвечал мальчик.
– Видишь ли ты дом, в котором ты живешь?
– Нет.
– Посмотри хорошенько. Не видишь ли ты в этом доме мать, теток, двух сестер своих?
– Нет, – по-прежнему отвечал ребенок однозвучно.
– Отца видеть ты не можешь, потому что он умер, но мать… неужели ты не видишь? Посмотри, она сидит у окошка и что-то делает, как будто шьет, что ли… Видишь?..
– Нет, не вижу, – так же наивно пролепетал ребенок и, уже осмелев в этом блестящем обществе, рассмеялся.
Между тем общество сидело кругом в полном молчании, не понимая, что творится, и во все головы уже закралось маленькое сомнение и насмешка. Для толпы от восторга, благоговения до клеймящего презрения один шаг.
– Ну, довольно! Спасибо тебе, дружок… – сказал Калиостро. – Теперь дай я погляжу в графин… Авось я буду счастливее тебя.
Калиостро близко подвинулся своим красивым лицом к графину и зорко устремил свои ясные, большие и умные глаза в блестящую воду, где отражались поставленные кругом свечи.
Долго, казалось, напрягая все свои силы, смотрел он в воду, наконец при длившемся молчании общества произнес мерно:
– Да. Совершенно ясно видно… Вот дом со шпицем; вот церковь, где край стены чуть-чуть обрушился, а вот небольшой домик с решетчатым окном… Я плохо знаю город, но мне кажется, что это улица квартала, ближайшего к крепости Святого Ангела. А вот надпись на углу – эта улица называется Сан-Джиовани. Вероятно, по церкви, которую я вижу… Но это все равно. На улице много прохожих – я дождусь кого-нибудь, кто войдет в дом… Вот. Вот уже входит пожилой человек… Ему отворили… Какая бедная обстановка дома!.. Вот направо дверь, которую он отворяет… Женщина встала к нему навстречу… А, наконец-то!.. Он назвал ее по имени… Он сказал: «Здравствуйте, синьора Анжелина!» Началась между ними пустая беседа. Он повторяет опять: «Анжелина».
Ребенок, сидевший на коленях Калиостро, двинулся и заплакал.
Граф, не обращая на него внимания, все смотрел еще в графин несколько мгновений, потом вздохнул, выпрямился и, окинув быстрым, почти орлиным взглядом все глубоко молчавшее, притаившееся от оцепенения общество, произнес своим простым голосом:
– Больше я ничего узнать не могу… Но мне кажется, этого вполне достаточно: улица Сан-Джиовани, маленький домик с решетчатым окном и хозяйка Анжелина. Этого довольно.
– Анжелина! Так зовут маму, – вымолвил ребенок и начал снова плакать.
При полном изумлении, которое постепенно переходило в шепот, наконец перешло в гульливый рокот похвал, ахов и возгласов изумления, хозяин позвал своего майордома и приказал тотчас же послать верхового за сведениями.
– Выбрать самого умного из моих курьеров и сказать ему, чтобы он в маленьком домике около церкви Сан-Джиовани спросил женщину, которую зовут Анжелиной, и сказал ей, что ребенок, ею потерянный или, хуже того, брошенный, находится теперь здесь, у меня. Чтобы она тотчас, во избежание кары закона, приезжала сама сюда за ним.
От отъезда верхового до его возвращения прошло около часа, и за это время в апартаментах Калиостро не прекращался ни на минуту гул голосов пораженных донельзя гостей.
Один старый аристократ, маркиз, богобоязненный, проводивший время в посте и молитве и собиравшийся поступить в капуцины, не выдержал и уехал. Он боялся остаться в доме, в тех горницах, где, очевидно, действует и царит дьявольская сила.
Наконец появился майордом и доложил, что женщина, Анжелина Чиампи, пришла. При смолкнувшем обществе, среди роскошной обстановки гостиной появилась бедно одетая женщина, но еще молодая. Мальчик вскрикнул, бросился к матери и стиснул ее шею в своих ручонках. Женщина зарыдала, но, остановившись перед хозяином дома, которого указал ей дворецкий, она опустилась на колени:
– Простите!.. Пощадите! Пощадите мать, вдову, которой нечем кормить троих детей!.. Да, я бросила его… Я надеялась, что найдутся добрые люди, которые приютят его, возьмут на воспитание, у которых он будет счастливее, чем у меня.
Разумеется, все общество, крайне заинтересованное всем этим случаем, стало разъезжаться, обещаясь сделать все возможное для облегчения участи матери и ребенка.
На другой же день весь Рим говорил о колдуне, маге и кудеснике. Молва об этом волшебстве так быстро разнеслась по городу, наделала столько шума, что к графу Калиостро стала появляться масса народу. Всякий шел со своей просьбой…
Но не прошло еще и трех недель, как дворец Альято опустел.
Граф Калиостро уже не помещался в нем. Он съехал, но, однако, его не видали и не встречали ни на одной дороге, ведущей из Рима. Приезжие из Флоренции, из Неаполя, а равно и из Чивита-Веккьи и Болоньи не видали его… Граф исчез. Общество не на шутку перепугалось. Неужели это был сам дьявол в образе человека, вдобавок элегантного аристократа?.. Неужели они были в таком близком соприкосновении с врагом человеческим?.. Каким постом, какой молитвой можно теперь очистить себя и спасти свою душу от будущего возмездия на том свете?..
Аристократы не знали, что тот же граф Калиостро под именем Джиованни Бианко переехал в совершенно иной глухой квартал, поселился в маленьком домишке, в трех горницах; одевался как простой мещанин и, проводя день в занятиях, чтении книг, выходил пешком только в сумерки, да и то избегал всех людных улиц. Когда же приходилось ему встречать элегантный экипаж местной аристократии, то этот прохожий старался больше перекинуть свой плащ через плечо и глубже уткнуться лицом в его складки. Но этих больших, странных синих глаз, блестевших между низко надвинутой шляпой и перекинутым плащом, было, казалось, всякому знакомому достаточно, чтобы признать того самого человека, о котором молва все еще гремела во всех концах вечного города.
XVI
Исчезнуть вдруг из общества, где вращался и восхищал всех Калиостро, и поселиться в глухом квартале Рима являлось загадкой. Переодеться в скромное платье и выходить только в сумерки и по вечерам из дому, вместо того чтобы преспокойно продолжать свое путешествие в Швейцарию и Францию, казалось, не имело никакого смысла. Причины были, однако, крайне серьезные. Колдун или кудесник, повелевавший таинственными силами природы, был сам подвержен слабостям людским…
Раза два или три в своих скитаниях по востоку Калиостро в свой черед, как и всякий простой смертный, заплатил дань богу любви. Но всякий раз легко освобождался от этих уз и от своего чувства, не найдя в женщине, которая ему нравилась, того, чего он искал.
Он искал, однако, совершенно не того, чего другие смертные: он не искал красоты, ума, талантов, не искал даже простой симпатии в наклонностях, в характере или одинаковых взглядов на жизнь и мир Божий. В женщине, которая должна была победить вполне его сердце, он искал разрешения таинственной загадки, унаследованной, тоже загаданной ему тем же Альтотасом.
Уже давно, еще в странствованиях своих по Египту, Калиостро, углубленный всеми силами разума и души в изучении химии, ботаники, астрономии, вдруг сделал открытие. Это было его собственное завоевание из того мира, с которым они воевали вместе с Альтотасом, из мира таинственных и сокровенных сил природы, чудодейственно проявляющихся среди людей.
– Я не обманываю себя! – воскликнул тогда изумленный и радостный наперсник Альтотаса. – Я не обманываюсь. Я это чувствую в себе!
Открытие, сделанное молодым учеником, восхитило учителя. Оба они несколько лет подряд промучились над этим открытием, но понять его, конечно, не могли, даже назвать не могли. Факт был налицо. Альтотас, а равно и ученик, оба знали, что это не есть вмешательство дьявола в их существование, так как оба они не верили в него. И им пришлось решить вопрос положением, что существует на свете некая сила, о которой смутно говорится во многих фолиантах, имеющихся под рукой; что сила эта находится вокруг них, происходит она из недр земли и встречается иногда в людях, живущих на этой земле. Сила эта, которую Альтотас назвал «недровою», как идущую из недр земли, невидимо присутствует или присуща его ученику – Калиостро.
Много опытов произвели и ученик и учитель и не только вполне убедились в существовании факта, а видели и чувствовали, что они не обманывают друг друга и что стоят лицом к лицу с неведомой, непонятной, но могучей силой.
Калиостро чувствовал в себе эту силу и, конечно, старался развивать ее в себе так же просто, как развивают физическую силу. После нескольких лет опытов над собой и над разными личностями Калиостро убедился, что люди разделяются на три категории по отношению к этой «недровой силе», которую он чувствовал в себе. Одни слегка, с трудом уступают этой силе; другие находятся как бы вполне заколдованы в кругу, на который действует эта сила; третьи, наконец, слепо и рабски должны повиноваться ей.
Постепенно Калиостро пришел к убеждению, что если бы он встретил на свете существо, которое бы могло слепо покориться этой «недровой силе», то он мог бы делать почти чудеса.
Он решил, что эту личность надо искать, что личность эта должна быть непременно молодая девушка. Затем он решил, что если бы таковая встретилась ему, то он не колеблясь соединит свою судьбу с ней. Встреча эта и приключилась нежданно теперь в Риме.
В числе лиц, обратившихся незадолго перед тем за его помощью, была старуха, умолявшая Калиостро явиться и спасти ее сына от какой-то болезни, не облегчаемой докторами. Калиостро, тронутый отчаянием женщины, отправился к ней в дом, осмотрел больного и вылечил легко и скоро, так как болезнь была несложная. На этом бы дело и кончилось. Но, проходя однажды мимо соседнего дома, Калиостро на этот раз не навестил больного, а довольно дерзко вошел в этот дом. Его, как всякого простого смертного, поразила своей красотой сидевшая и что-то вышивавшая у окна молодая девушка. Голова ее была обвязана белым платком, очевидно намоченным в чем-то.
Калиостро остановился и встал против окна, устремив на нее свой светлый проницательный взгляд.
Девушка подняла голову от работы, взглянула на него, встрепенулась, вспыхнула, но не двигалась.
Незнакомец, который стоял за окном, отворенным настежь, несмотря на свежую погоду, не спускал с нее глаз ни на секунду. Она испугалась незнакомого лица, хотела двинуться с места, но не могла. Ей хотелось тотчас же подняться и уйти от окошка, но она чувствовала, что прикована к месту и никаких усилий не хватит, чтобы победить нечто, сразу овладевшее ею.
– Вы нездоровы? У вас, вероятно, болят зубы или голова? – произнес наконец Калиостро через окно.
Она молчала, волновалась, как будто хотела отвечать, но не могла.
– Что у вас?.. Чем вы нездоровы?.. Отвечайте! – произнес повелительно Калиостро.
– Это пустое… – пролепетала молодая девушка. – Это у меня часто бывает… Боль в щеке и в виске, которая проходит сама собой!..
– Позвольте мне помочь вам в качестве медика, – произнес Калиостро и тотчас же, не дожидаясь ответа, завернул в проходную дверь и вошел в дом.
Пожилой человек встретил его в первой же горнице и, изумляясь, спросил его о причине посещения.
– Вы хозяин этого дома? – спросил вошедший.
– Да-с…
– Это ваша дочь?
– Да… Я бронзовщик и литейщик Феличиани, а это моя дочь Лоренца.
Калиостро в нескольких словах объяснил Феличиани свой внезапный визит. Его фигура, голос, простодушие в лице и изящество манер сразу произвели свое действие на хозяина дома. Если это медик, то, конечно, из самых важных. Если он предлагает даром избавить молодую девушку от глупых болей, которые преследуют ее чуть не с самого детства, то почему же не согласиться? Но, однако, отцовское чувство сказалось сразу:
– Я боюсь разных зелий, господин медик. Извините…
– Я этому не удивляюсь. Я сам их не терплю, а всех докторов ненавижу! – отвечал Калиостро.
– Господа медики часто своими зельями, мазями и другими снадобьями причиняют больше вреда, чем пользы! – продолжал хозяин.
– Совершенно верно, господин Феличиани! Но успокойтесь, я никакого зелья или напитка вашей дочери не дам. Мое лечение или лекарство будет самое простое, которого вам и ей бояться нечего. Лечить я начну сейчас же.
Калиостро сбросил плащ на стул, положил на него свою шляпу с широкими полями и обернулся к молодой девушке.
Лоренца стояла неподвижно, следила за его движениями и все-таки чувствовала какое-то странное очарование. Но это очарование было особого рода. Этот незнакомец, несмотря на свое красивое лицо, простой и изящный черный костюм, положительно не нравился ей. Вдобавок сердце ее принадлежало всецело двоюродному брату, за которого она собиралась выходить замуж, и все мужчины как бы не существовали для нее. Но, несмотря на отталкивающее чувство, которое внушал ей этот незнакомец, она видела, что окончательно не может противиться ему ни в чем.
– Я попрошу вас сесть вот на это кресло, – произнес Калиостро, глянув в лицо юной красавицы как-то особенно, точно будто отчасти влюбленным взглядом. В то же время как-то особенно ласково и нежно, необычайно нежно, прозвучал его голос.
Лоренца нехотя села. Незнакомец взял стул и сел против нее, положил обе руки ей на голову, тихо перевел их по вискам на щеки, касаясь лица одними кончиками пальцев, и молча, тихо, несколько раз провел так руки от висков до шеи и обратно. Отец стоял около, изумляясь и уже подозревая, что имеет дело с простым дерзким шалуном. Он уж готов был остановить это своеобразное и бессмысленное для него лечение, похожее на баловство, когда Лоренца едва слышным голосом проговорила:
– Нет… Ничего нет… Прошло, как чудом… Сразу…
Калиостро тотчас же отнял руки, встал и, обернувшись к Феличиани, сказал улыбаясь:
– Вот видите, как мое лекарство быстро действует и какое оно простое… Но, Бога ради, господин Феличиани, не принимайте меня за колдуна!.. Позвольте мне быть знакомым вашим, быть у вас завтра опять и объяснить вам, в чем состоит мое лечение.
Феличиани пробормотал что-то, не зная собственно, как отвечать, поблагодарил незнакомца и, видя его изящную фигуру, не нашел ничего против его предложения.
Между тем Калиостро быстро обернулся снова к девушке, сидевшей еще на кресле в каком-то изнеможении, и пристально, упорно уперся глазами в ее глаза. Лоренца чувствовала, что она теперь во сто крат более находится во власти этого человека. И вдруг ей показалось, что кто-то или что-то в ней самой приказывает ей встать и скорее идти в верхний этаж дома, чтобы позвать мать.
Лоренца первый раз в жизни не понимала собственных своих ощущений. Сама ли она хочет бежать и звать сюда мать, чтобы познакомить ее с этим странным человеком, или он своим взглядом приказывал ей это? Тем не менее чувство оцепенения вдруг исчезло, явилась какая-то легкость в движениях, будто желание бегать.
Лоренца быстро поднялась и еще быстрее взбежала по лестнице во второй этаж, и в ту минуту, когда Калиостро как бы задумчиво и медленно прощался с хозяином, но, очевидно, выжидал и оттягивал свой уход, на лестнице появилась снова Лоренца, которая вела свою мать. Приблизясь к Калиостро, она невольно вымолвила:
– Ну вот!..
Эти два слова, невольно вырвавшиеся, удивили ее саму. Что ж это значит? Она как будто докладывает ему, отвечает ему, что его приказание исполнено. А вместе с тем не он приказывал ей бегать наверх.
Когда молодая девушка с матерью спускалась вниз, на лице Калиостро явилась чуть-чуть заметная улыбка довольства и удовлетворения.
Через минуту, простившись с семьей и провожаемый до порога наружных дверей, Калиостро вышел на улицу и произнес сам себе полушепотом:
– Да. Кажется… Наконец-то нашел… Увидим!..
«Сегодня вечером я приготовлюсь, – думал он уже про себя, быстро идя по улице. – Приготовлюсь, как бывало во времена оны… А завтра вечером не пойду в дом к ней, а попробую вновь разбудить в себе эту заснувшую почти совсем, недровую, как называл Альтотас, силу».
С этого дня Калиостро начал бывать всякий день в доме литейщика Феличиани. Он сознавался себе самому, что влюбился в красавицу Лоренцу, и его уже смущало несколько присутствие в доме красивого юноши, двоюродного брата красавицы, и отношения между ними, которые он сразу заметил.
Калиостро решил бесповоротно произвести один опыт настоящего волшебства, чтобы убедить не кого-либо другого, а себя самого в возможности и даже необходимости соединить навеки свою судьбу с судьбой этой прелестной, кроткой, хотя недальнего ума, красавицей.
После нескольких тонких, но ясных намеков отцу, Феличиани, о себе Калиостро убедился, что литейщик был бы не прочь выдать дочь замуж за человека, который, очевидно, скрывает свое знатное происхождение и состояние. Этот новый знакомый его, конечно, сумел очень искусно дать понять литейщику, что он по разным причинам скрывается в Риме и что его общественное положение гораздо более высокое.
Каждый раз, что Калиостро бывал в доме Феличиани под предлогом избавить навсегда красавицу от ее глупых болей, он производил над ней сеансы по получасу и более, причем приводил ее в совершенно загадочное и непонятное для нее самой состояние.
Первые разы красавице не нравились эти сеансы. Она боялась этого нового знакомого и той странной власти, которую он приобретал над ней. Но затем вскоре Лоренца стала ощущать удовольствие в этом состоянии, в которое он ее приводил прикосновением пальцев к голове, плечам и рукам. Это погружало ее в какое-то дремотное, сладкое состояние. Она сидела как опьяненная. Затем после подобных сеансов молодая девушка каждый раз делала нечто совершенно неожиданное, выходящее из ее обыденных привычек. И она стала убеждаться, что положительно делает это по его тайному приказанию.
Но вскоре эта необходимость покоряться и повиноваться ему не была ей тягостна или противна. Напротив того, этот человек, по уверению ее родителей, аристократ и богач, молодой и красивый, добрый и ласковый к ней, уже заставил ее забыть своего жениха.
XVII
Однажды Калиостро, оставшись с Лоренцой наедине, горячо объяснился в любви, объявил ей свое имя, то есть назвался графом Александром Калиостро, уроженцем Палермо, и прибавил, что владеет большим состоянием.
Молодая девушка, недалекая, кроткая, как агнец, наивная, как дитя, конечно, тотчас призналась во взаимном чувстве.
Калиостро предложил ей соединить свою судьбу с его судьбой и получил ее согласие.
– Но прежде, нежели судьба наша будет соединена перед алтарем, – сказал он, – мне необходимо доказательство вашей любви. Если я не получу его, то, вперед вам говорю, я уеду из Рима и вы меня никогда не увидите.
– Но какое же это доказательство? Я готова на все, – отозвалась Лоренца.
– Выслушайте внимательно то, что я скажу вам.
– Слушаю.
– Напрягите все ваше внимание… Если чего не поймете в моих словах – скажите. Я объясню иначе.
– Хорошо! – как-то особенно послушно отвечала Лоренца.
– Вы обещаете мне, дадите клятву – за три дня, начиная с завтрашнего, не бороться с самой собою. Поняли меня?
– Нет, – простодушно отозвалась Лоренца.
– За эти три дня, если вам придет на ум что-либо, явится у вас какое бы то ни было желание, хотя бы самое странное или простое, но, конечно, на ваш взгляд, не пагубное, не бесчестное, не грозящее вам чем дурным, то вы не будете бороться сами с собою и с этим желанием, а исполните все то, что вам на ум придет. Поняли? Вот доказательство вашей любви, которое я требую от вас.
– Я не понимаю, – кротко и наивно повторила молодая девушка.
Калиостро подробнее объяснил ей то же самое и прибавил, полушутя, нежно и с любовью:
– Если вам что-нибудь за эти три дня, мой милый ребенок, захочется сделать, то делайте. Не боритесь с желанием, не уверяйте себя, что это не нужно вам. Вот что я требую. Вы поняли?
– Поняла, – несколько изумляясь, отозвалась Лоренца.
– Через три дня я или исчезну и вы никогда не увидите меня, или явлюсь к вашим родителям официально просить руки вашей… А теперь, – прибавил он, вставая, – до свидания, моя будущая жена, подруга жизни, или – прощайте, синьорина Феличиани!
На другой день Калиостро уже сидел один-одинешенек в маленькой горнице, нанятой в доме прямо против дома и окон квартиры литейщика Феличиани. Но это помещение свое он обставил еще большей таинственностью, нежели пребывание свое в Риме.
Никогда за всю жизнь он не был сам настолько взволнован и встревожен, как теперь. Для него решалась судьба его жизни.
«Не ошибаюсь ли я? – повторял он. – Помимо того, что я люблю ее, мне кажется, она моя суженая. Она будет орудием судьбы, чтобы разрешить великую загадку. Но не ошибаюсь ли я?»
В сумерки Калиостро, хотя был один в своей горнице, подвязал фальшивую бороду, нацепил густые усы и, растворив окно, облокотился на подоконник. Наискось от него, за притворенным окном, виднелась фигура Лоренцы, которая сидела с шитьем и с иголкой в руках. Она чинила кафтанчик своего брата. Калиостро сосредоточился, собрав, так сказать, в себе все свои силы, и, напрягаясь всем существом физически и душевно, стал смотреть на Лоренцу сквозь стекла ее закрытого окна.
С этой же минуты красавица тотчас почувствовала себя в каком-то необычном волнении. С утра занимало девушку, поглощало даже ее вчерашнее условие со своим полуженихом. Задача, заданная этим человеком, которого она уже полюбила, была неразрешима.
«Что же все это значит? Какое страшное условие? Какое странное доказательство любви потребовал он! – думала она. – И как его исполнить?» Почувствовав теперь на душе особого рода тревогу, Лоренца приписала ее нездоровью. Она решила, что, плохо проведя ночь, ей немудрено чувствовать себя теперь нехорошо. Ей вдруг захотелось поднять глаза и взглянуть направо, на соседний дом. Она взглянула и увидела в окне какую-то некрасивую фигуру с черными усами и длинной черной бородой. Фигура эта сразу стала ей противна. Она хотела отойти от окна, но не могла. И через несколько минут в голове ее мелькнула мысль бросить работу.
Она бросила ее на подоконник. «Нет, этого мало, – будто шепнул ей какой внутренний голос. – Раствори окно и выбрось на улицу!»
– Какие глупости! – отозвалась Лоренца себе самой вслух.
Но это желание растворить окно и выкинуть работу сказывалось все сильнее и сильнее, как какая-то бессмысленная причуда. Лоренца хотела уже направиться в противоположный угол дома, где была ее мать, но чувствовала, что не может этого сделать, что ей непременно надобно исполнить свою прихоть. И вдруг нежданно мгновенно она вспомнила условие с возлюбленным.
«Ведь он сказал: не противиться самой себе. Делать все то, что мне вздумается. Как это странно!»
Но тем не менее Лоренца быстро, повинуясь самой себе и находя в этом какое-то особое удовольствие, отворила окно, взяла маленький кафтанчик и выкинула его на улицу. В ту же самую минуту за ней раздался крик матери:
– Ты с ума сходишь! Что ты делаешь?
И госпожа Феличиани, любившая свою дочь и редко сердившаяся на нее, подступила к ней с угрожающе поднятой рукой. Уже лет десять не трогала она и пальцем свою дочь, а теперь была способна дать ей пощечину.
– Ты безумная!.. Что ты сделала?.. Ты выкинула на улицу кафтан брата!..
– Да, – отозвалась Лоренца.
– Зачем?
– Простите, матушка… Я сама не знаю… Минута безумства… Я сейчас сбегаю подниму его!
И Лоренца двинулась, вышла из дому, но в ту минуту, когда она появилась на панели и шла, чтобы поднять кафтанчик, какая-то невидимая сила приковала ее к месту. Мать выглядывала в окно и видела, как дочь остановилась.
– Ну, что же ты? – крикнула она дочери.
Лоренца стояла как вкопанная и говорила сама себе: «Да, я не хочу поднимать. Я чувствую, что я не могу поднять и не подниму!.. Но что же это? С ума я схожу?» – прибавила она, испуганно ощупывая голову.
– Что же ты? – снова крикнула мать.
– Матушка! Бога ради, – взмолилась Лоренца, – выйдите сюда.
– Что с тобою? – уже тревожно воскликнула госпожа Феличиани. Видя, что с дочерью что-то происходит, она быстро вышла на улицу по двум-трем ступеням подъезда и приблизилась к Лоренце.
– Что с тобою, Лоренца?
– Ничего, матушка. Должно быть, нездоровится. Но только умоляю вас, не сердитесь и сделайте, что я попрошу вас… Поднимите сами кафтанчик.
– Что?
– Поднимите кафтанчик. Вот он лежит. Я его ни за что не подниму!
– Ты с ума сходишь!
– Не знаю… Может быть!.. Но не сердитесь. Я сама ничего не понимаю. Но одно скажу вам: убейте меня, но я его не подниму.
Мать, разумеется, быстрым движением подняла маленький кафтанчик сынишки и, схватив дочь, увела ее обратно в дом.
– Что же с тобой? Ты больна? – тревожно обратилась она к девушке, видя, что та несколько изменилась в лице.
– Теперь ничего… Ей-богу ничего!.. – проговорила Лоренца. – Это что-то такое странное. Я думаю, что я и впрямь нездорова. Нездорова рассудком, а не телом.
– Не болит ли у тебя что-нибудь?
– Ничего, матушка, не болело и не болит… Но теперь лучше, легче. Прошло.
Лоренца осталась у окна и, усевшись, невольно снова поглядела на соседний дом, чтобы убедиться, там ли еще выглядывает эта противная фигура какого-то черного, как смоль, незнакомца. Но окошко его было закрыто.
«Слава Богу, что эта проклятая физиономия спряталась!» – подумала она.
На другой день, будучи совершенно здоровой, Лоренца в ту же пору вдруг, как припадок болезни, почувствовала ту же тревогу и нервозность, припадок прихотничества, как называла она самой себе свое состояние.
Она взяла у матери узор большого ковра, чтобы рассеять себя и заняться чем-нибудь. Отобрав шерсти и иглы, она уже совсем приготовилась вышить небольшой уголок ковра, который работала ее мать, но вдруг явилась неотступная мысль, возникло в ней внезапно совершенно глупое желание и не оставляло ее ни на секунду. Ей захотелось выйти из дому непременно одной и идти в известную в городе церковь Святого Петра Ин Винколи.
В этой крошечной церкви не было ничего интересного, но это была ближайшая от них церковь.
«Зачем я туда пойду? – мысленно повторяла про себя Лоренца. – Какой же тут смысл? Теперь даже службы нет».
Но упорное, неотступное желание тотчас идти в эту церковь не оставляло ее. Точно снова кто-то толкал ее и требовал исполнения этой прихоти. И опять, рассуждая сама с собой и усовещая себя, Лоренца вдруг вспомнила условие возлюбленного и, конечно, сразу бросилась к шкафу с платьями. Она накинула на себя легкую мантилью и быстро, как бы боясь, что кто-либо из родных остановит ее на дороге, вышла на улицу. Невольно глянула она на тот дом, где вчера виднелась эта противная чернобородая фигура. Но все окна были заперты, и в том окне, где она видела эту фигуру, не было никого.
«Скорей, скорей!» – говорила она сама себе и как будто кто-нибудь гнал ее в маленькую церковь Святого Петра.
Пройдя несколько шагов, она почти побежала.
«Какой вздор! Какие прихоти! Или я хвораю, или я, наконец, с ума схожу?» – повторяла Лоренца.
Приблизясь к церкви, она вдруг решила, что в нее не надо входить, а надобно ей непременно подняться на маленькую колокольню этой церкви.
«Зачем?.. Так нужно. Так хочется! – рассуждала она. – Ну, хоть поглядеть на город сверху».
Лоренца никогда не видела этого квартала с вышины какого-нибудь выдающегося здания. Найдя дверь лестницы колокольни запертою, Лоренца остановилась и, будто увлекаемая какой-то силой, стала биться в эту дверь, стараясь отворить ее. Но громадный замок не поддавался. Резная гранитная колонка попалась ей на глаза и будто сказала ей: «Лоренца, посмотри-ка здесь, за мной. Нет ли тут ключа?»
Не успев отдать себе отчета в новом движении, Лоренца бросилась к этой колонке, заглянула за нее и нашла огромный железный ключ. Он был от двери. И тяжелый огромный заржавленный замок заскрипел, тяжелая дверь подалась как бы сама собою, и Лоренца быстро стала подниматься по винтовой каменной лестнице.
После нескольких десятков ступеней, которые она пробежала почти без отдыха, она остановилась и произнесла:
– Что я делаю? Я или безумная. Или… Или стала шалить, как малые дети. Какие глупости! Вдруг среди дня бежать сюда. И зачем? Да… Зачем, зачем?.. – повторяла она вслух, громко.
– Затем, чтобы доказать мне свою любовь, – раздался громкий голос несколькими ступенями выше ее.
Лоренца вскрикнула. К ней спустился Калиостро и протягивал ей руки.
– Войдите, мое сокровище, мой ангел! И так как ты, Лоренца, доказала мне вполне свою любовь, то я, ни минуты не колеблясь, объявляю тебя моей подругой жизни.
Калиостро помог взволнованной и смущенной девушке подняться на несколько ступеней, усадил ее бережно на деревянной скамеечке, опустился перед нею на колени и, страстно целуя руки ее, пылко заговорил восторженным голосом:
– Да, Лоренца. Ты не только доказала мне свою любовь, но ты сама никогда не поймешь, какую великую задачу разрешила. Ты даже отгадала, где лежит ключ, которым я приказал звонарю запереть себя, а затем спрятать его за колонной. Да. Если бы был жив теперь тот мой учитель, которому я всем обязан, в каком бы восторге был он!
– Я ничего не понимаю! – кротко, боязливо отозвалась Лоренца.
– Не нужно тебе ничего понимать. Не нужно! Идем домой, я сию же минуту объявлю твоему отцу, что прошу благословить нас на всю жизнь. Да, ты моя суженая и должна быть моей женой. А вместе – мы завоюем все, всех… весь мир!!
В тот же вечер в доме литейщика Феличиани были гости, которым они объявили о помолвке дочери с именитым аристократом. По требованию жениха свадьба была назначена тотчас же, и через два дня состоялось венчание графа Калиостро с Лоренцой Феличиани, после которого новобрачные поселились в доме тестя.
Но едва только в Риме узнали о местопребывании исчезнувшего из дворца Альято чужеземца, как явился начальник папской колонии и объявил графу Александру Калиостро, что, по распоряжению властей, он должен, как обвиняемый в чернокнижии и колдовстве, немедленно покинуть Рим и папские владения.
Калиостро принял это известие с улыбкой пренебрежения и стал собираться в путь.
Через две недели граф и графиня уже путешествовали и были около границ свободной Швейцарии.
XVIII
В огромных палатах графа Зарубовского, где жизнь обыкновенно текла ровно, мирно и безмятежно, теперь было что-то особенное… Повсюду, во всем и во всех сказывалось какое-то смущение, если не смятение. В доме, очевидно, что-то произошло необычайное. Гостей, приезжавших навестить графиню, не принимали, и швейцар или лакеи заявляли, что «ее сиятельство хворают».
Сама графиня сидела безвыходно у старика мужа или в детской у младенца-сына. Изредка только, молчаливая, угрюмая, проходила она по горницам всего дома, но не глядя ни на кого, как бы не видя и не замечая ничего, не отвечая даже на доклады или на просьбу кого-либо, к ней обращенную. Видевшие самого графа дворецкий и личный его камердинер говорили тайком в людских и во флигелях, что старый боярин много изменился, будто осунулся и будто горюет. Лакей заявлял, что граф гораздо долее стоит утром и вечером на молитве пред своим киотом.
Вся многочисленная дворня ходила или, скорее, бродила как-то оробев. Гнева господ никто в доме не привык бояться. Поэтому робость эта являлась последствием чего-то иного. Дворня была просто смущена тем, что «творилось» в доме. Она точно совестилась…
Нахлебники чаще сходились друг у друга в гостях и, тоже волнуясь и перешептываясь, качали головами, охали и вздыхали… Иногда кой-кто принимался корить и попрекать…
На устах у всех было имя Норича, а вместе с тем постоянно все говорили: «он», или «его», или «ему», не называя имени этого лица. И однако, все понимали, о ком идет речь.
Речь шла о «графчике» Алексее Григорьевиче, которого привезли из чужих краев под каким-то другим наименованием, а теперь граф объявил всем чрез дворецкого диковинное обстоятельство.
«По неисповедимым судьбам Божиим тот барин, который жил всегда в отсутствии, но постоянно ожидался всеми как “графчик”, внук нынешнего барина и будущий их барин, не существует, не существовал… У графа один наследник, его младенец-сын, вновь рожденный от молодой жены. Приезжий – подкидыш и сынишка Норича».
Вот какая новость привела нежданно всех обитателей палат графа Зарубовского в смятение. У этих простых людей, нахлебников из бедных дворян и однодворцев, а равно у дворовых и у крестьян… у всех, от дворецкого до последнего кучеренка и поваренка, была православная, чуткая и непокладистая совесть, не раба мудрствования лукавого…
И вот эта совесть заговорила теперь против барина-графа, а в особенности против молодой графини.
Что касается до самого Игната Ивановича Норича, то у него уже было новое прозвище от всех – Каин! И этот человек почти не показывался из своих горниц, будто стыдясь народа. Когда же кто из нахлебников и дворни встречал Игната Ивановича, то отводил от него глаза в сторону, будто за него совестился…
Сначала Норич был хотя и смущен, но все-таки довольно весел и повторял всем одно и то же:
– Да. Что ж? Покаялись! Был тот грех, но мы с женой не стерпели, сняли с себя эти вериги невидимые, покаялись графине, и легче стало…
Но вдруг Норич изменился в обращении со всеми, немного похудел лицом и стал сам косить от всех озабоченный взгляд…
В палатах родился, возник неизвестно когда, откуда и каким образом слух… весть…
«Норича с женой, по указу начальства, заставят на великую пятницу, при страстях Христовых, над плащаницей присягать в том, правду ли они показывают или оговаривают покойницу графиню Эмилию Яковлевну».
Этот слух или эта весть обежала дом и затем обежала и всю Москву, которая не менее обитателей палат графа Зарубовского волновалась от события с молодым «графчиком».
Эта внезапная весть была неверным слухом, выдумкой.
Молодая графиня выехала два раза из дому, посетила важных сановников и, вернувшись однажды домой, сама спросила:
– Что за глупости такие пущены в доме и кем собственно? О присяге Норичем на страстной неделе? И кто это балует?
Виновный был неизвестен и не нашелся. Слух этот действительно возник в доме как бы сам собой, на совести обитателей его.
Но что же Алексей?!
Молодой малый после свидания с дедом слег в постель: силы его душевные и телесные были как бы надорваны. Его сломило то, что он пережил в два дня… Позванный старичок медик из немцев навещал больного, и этот, владея немецким языком лучше, чем русским, горячо все передал старику, прося помощи, совета… Ему даже не у кого было во всей Москве просить этой помощи, помимо немца-медика…
Старичок, простодушный и сердечный, только сочувствовал и ужасался, но посоветовать ничего не мог.
Алексей оправился только в неделю времени и, едва поднявшись на ноги, попросил свидания с дедом.
Графиня отвечала через Макара Ильича, что готова его принять сама, но что граф не желает еще тревожить себя и расстраиваться и более «господина Норича» не примет.
– Господина Норича!.. – воскликнул Алексей. – Да ведь это можно с ума сойти! Можно все… Можно преступление совершить…
Были мгновения, что Алексей, как бы теряя рассудок, начинал серьезно обдумывать, кого ему в отмщение зарезать: графиню или Норича?
Но после прилива и вспышек дикого гнева и злобы наступали минуты полного отчаяния.
Так прошла еще неделя.
Алексей безвыходно сидел в своих горницах и за все время только раз пять поговорил спокойно с немцем, его навестившим, и с дворецким, который особенно сердечно относился к нему.
Наконец молодая графиня не вытерпела, ей начинало прискучивать и даже стесняло ее общее тревожное состояние всех обитателей палат.
И графиня Софья Осиповна однажды сама потребовала к себе молодого человека для объяснения.
Алексей двинулся к ней наверх быстрой, неровной походкой. Он знал и чуял, что это будет решительное и последнее объяснение… И он не знал, что он сделает! Быть может, он ударит ее и, повалив, будет топтать ногами…
Войдя в первую же большую гостиную и собираясь, как в первое посещение свое, пройти снова всю анфиладу комнат, Алексей в изумлении остановился…
Гостиная эта не только не была пуста, но даже превратилась как бы в судилище…
На диване сидела графиня, а около нее, вокруг стола, сидело пять-шесть человек чиновников, из которых один седой старик в регалиях был в ярко-красном мундире, расшитом золотом…
– Пожалуйте и садитесь! – выговорила графиня глухим голосом при появлении Алексея на пороге.
Молодой человек постоял, потом тихо подвинулся к столу и медленно, спокойно оглянул всех горящим взором…
Посторонний, беспристрастный и правдивый судья, если бы таковой был здесь в это мгновение, неминуемо решил бы все тотчас без всякого колебания. Вся фигура, лицо, походка и, наконец, взгляд этот, которым молодой человек окинул все собрание свысока своей оскорбленной гордости, – все говорило ясно, закрадываясь в душу этих людей против их воли и помимо разума:
«Это не сын нахлебника Норича из шляхтичей, это граф Зарубовский!»
У правды есть своя великая тайная сила!
Алексей сел на свободный стул и уперся огненным взором в графиню, сидевшую прямо перед ним за огромным круглым столом…
Начался какой-то разговор, говорили все по очереди; затем маленький человек, вроде подьячего, читал что-то, держа бумагу… Алексей ничего не слушал и ничего не понимал… Или он понимал тогда все, но затем забыл… Во всяком случае, он никогда не мог впоследствии вспомнить, что тут происходило и как произошло…
Только раз очнулся он от своего столбняка и рассмеялся громко, оглядывая это дикое судилище… Эту минуту он помнил затем хорошо… В эту минуту подошли ближе к столу Норич и с ним рядом какая-то дрожащая, перепуганная старая женщина…
Алексей не столько понял, сколько почуял внутренно, какую роль играет эта женщина в этой шутовской, но злодейской комедии…
Затем, скоро ли или после долгих прений, Алексей не помнил, его попросили подписать бумагу. Ему положил на стол эту бумагу сам старик в золоте и в регалиях, другой чиновник подавал перо, пальцем указывая что-то…
В это мгновение Алексей как-то вдруг рванулся к листу бумаги, схватил его и, скомкав, изо всей силы швырнул в лицо старика. Все повскакали с мест…
– Злодеи!.. Мерзавцы! – вскрикнул Алексей вне себя. И голос его, загремев в доме, был слышен даже на дворе.
– И ты, низкая, бесчестная тварь… вышедшая замуж за старика, чтобы… Ты думаешь, что я подпишу бумагу, которая покрывает позором мою покойную мать. Я стану пособником вашего надругания над покойницей… Ах вы злодеи! Подлые, низкие люди… Я граф Зарубовский был и век свой им буду.
Но пока Алексей говорил, вскрикивая, голос его все слабел и падал… И наконец все исчезло у него из глаз… Он лишился сознания…
Когда молодой человек пришел в себя, он был снова в своей горнице и в постели и снова добрый немец хлопотал над ним.
На этот раз Алексей скоро оправился… Но чувствовал себя как бы тяжелее, как бы старее лет на десять. Все в нем будто перегорело, как в горниле мук, и зато стало тише на душе.
Через несколько дней добряк медик, видя его достаточно спокойным, объявил молодому человеку, что он получил поручение от графини снова предложить Алексею, и в последний раз, те же условия, на которые он при чиновнике не согласился…
– Соглашайтесь, мой юный и несчастный друг, – прибавил немец со слезами на глазах. – С сильнейшим нельзя бороться. Это тот же вид самоубийства… Согласитесь на эти условия, или они вас погубят…
– Какие? Я не знаю? – наивно и даже удивляясь отозвался Алексей. – Я не помню… Ничего не помню.
Немец, тоже удивляясь, передал Алексею, что граф предлагает ему называться Норичем, а не Зарубовским, получать ежегодную пенсию в шесть тысяч рублей и, выехав немедленно из России, жить в чужих краях, за исключением, однако, Германии, где был довольно известен всем граф Григорий Алексеевич и где он сам известен.
– Никогда! – отозвался Алексей тихо, но с горькой улыбкой. – Никогда я не соглашусь позорить память моей матери. Мое согласие равносильно ее обвинению в низком преступлении. Никогда!
– Но знаете ли вы, мой друг, что тогда вам грозит?
– Ничего! Я буду нищий, но что ж… Я уеду тотчас на Рейн, к милой сестре, найду себе работу и буду жить там хотя бедно, но зато под своим именем.
– Нет. Вас под именем графа Зарубовского из России не выпустят.
– Запрут, стало быть, в этой горнице и приставят караул ко мне, чтобы я не убежал! – усмехнулся Алексей.
– Нет. Много хуже… Много хуже…
– Что же? Говорите… Сошлют в Сибирь?
– Нет. Вас заключат в тюрьму, в крепость.
– Какой вздор!
– Это решено, мой бедный друг.
– А закон? Закон? Правда? Правосудие?
– На это уже имеется разрешение у графа. Указ высшей власти!.. – воскликнул немец, заливаясь вдруг слезами и обнимая своего юного друга.
Алексей понурился и впал в полусознательное состояние. Он был поражен снова как громом.
Через неделю после этого дня молодого человека, сына нахлебника графа Зарубовского, по имени Алексей Норич увозили со двора палат в карете, но под конвоем четырех конных солдат. Офицер сидел в карете рядом с преступником.
Какое было им совершено преступление, офицер, конечно, не знал, так как никто сказать этого или назвать преступление не мог.
Офицеру было приказано высшим начальством взять господина Норича и доставить в крепость под строжайшей ответственностью.
XIX
Среди многолюдного города с узкими извилистыми улицами, но более или менее опрятными приютился на одной из окраин отдельный квартал, как грязное и вонючее воронье гнездо среди свежей зелени ветвей. С одной стороны его – зеленеющий берег реки Сены, которая катит мимо быстрые волны; с другой – королевский дворец Лувр; с третьей – зеленеющие полянки, еще не застроенные; с четвертой – бульвар, примыкающий к грозному и ненавистному для всего народонаселения громадному сооружению. Высокие каменные стены, башни и бастионы, зубчатые и остроконечные, с амбразурами и бойницами. А за этой каменной крепостной оградой – огромное здание, знаменитая Бастилия, где томятся из года в год, иногда по десятилетиям, сотни несчастных заключенных. Грязное гнездо, отделенное от Бастилии бульваром – предместье Св. Антония, – переполнено людом нищим, голодным, который, как каиново племя, будто проклятое Богом, внушает всем отвращение и ужас, а сам боится и ненавидит глубоко всякого обитателя других предместий и кварталов.
В январе месяце на паперти маленькой церкви, в ту минуту, когда прихожане расходились от вечерни, на гранитных ступенях стояла неподвижно, как статуя, довольно высокая женщина. По одежде она могла быть простой мещанкой предместья Св. Антония, но, однако, отличалась от большинства мимо идущих женщин опрятностью своего платья и густой черной вуалью, накинутой на лицо. Если по платью она была простая обитательница предместья, то эта вуаль и белеющееся за ней чистое, бледное лицо говорили нечто другое. Маленькая беленькая ручка, придерживающая накинутую шаль на плечах, стройность во всей фигуре и даже вся поза, несколько надменная, невольно выдавали эту женщину и заставляли нескольких прихожан пристально всматриваться в эту «даму», вдобавок стоящую истуканом. Она же пропускала мимо себя всех, меряя с головы до пят и будто ища кого-то… И глаза ее ярко блестели сквозь дымку плотной вуали.
Наконец в числе прочих вышла из церкви дама, одетая в черное изящное платье, тоже с легкой вуалью на лице, которая едва скрывала чрезвычайно красивое лицо. Она выходила из церкви робко, нетвердой походкой, озираясь по сторонам. При ее появлении неподвижно стоявшая женщина сделала легкое движение, но снова замерла и только пытливо оглядывала выходившую и приближавшуюся к ней незнакомку.
Тотчас же вслед за этой дамой появился на паперти молодой и элегантный офицер в мундире полка мушкетеров короля. Он один блестел своей одеждой среди толпы обитателей предместья. Очевидно было, что он здесь не у себя, а Бог весть зачем затесался в этот квартал. Проходящие прихожане оглядывали его, и кто помоложе – разевал рот на его красивый мундир и любовался. А кто постарше – взглядывал ненавистно и презрительно, причем бормотал себе под нос, сочетая слова: «Бастилия! Король! Наемник! Тираны!..»
Офицер нагнал выходившую красавицу и предложил ей руку, чтобы провести по узкой улице, среди толпы серого люда. Молодая женщина смутилась и робко отказалась. Но он преследовал ее, заговаривал, и они тихо удалялись вместе от церкви.
Стоявшая на паперти женщина смерила их обоих блестящим взглядом, потом долго смотрела им вслед, пока они не пропали за углом. И только тогда она шевельнулась и двинулась вслед за последними выходившими из церкви. Когда она сошла с гранитных ступенек и тихо зашагала серединой маленькой улицы, к ней навстречу из-за угла появился снова тот же мушкетер.
– Ну что? – выговорил он, приближаясь и смеясь.
– Поздравляю… красавица… – отозвалась эта.
– Милая Иоанна, божусь тебе, что, кроме тебя, я не знаю ни одной женщины красивее ее.
– Льстец и лгун, – улыбнувшись, произнесла молодая женщина. – Скажи лучше, как ваши дела?
– Ничего… слава Богу. Все идет на лад.
– Однако она не позволила тебе проводить ее.
– Нельзя же! – усмехнулся мушкетер. – Через несколько дней, погоди, будет ручная.
– То-то же… Помни это! Я терять время не могу, – несколько суше и нешутливым голосом произнесла молодая женщина, ускоряя шаг. – Надо скорее… время дорого!.. – продолжала она, не глядя на идущего рядом с нею офицера и опустив глаза в землю. – Ты ленишься, болтаешься Бог весть где, забавляешься пустяками, а время идет.
– Клянусь тебе!.. – воскликнул громко офицер. – Впрочем, что же клясться… Кто когда-либо убедит в чем-либо ваше сиятельство…
– Ты с ума сошел!.. Здесь! Ты хочешь этим титулованием навлечь на меня какую-нибудь историю! – шепнула молодая женщина, озираясь.
– Э! Они все глупые, глухие, – оглянулся офицер на нескольких шедших невдалеке старух. – Да и это у меня на что же? Нападут мужчины – я обнажу шпагу.
– Очень благодарна… А потом огласка, пересуды, вопросы: как я в эту трущобу попала, зачем и почему. Сущий мальчишка четырнадцати лет! Ну, до свидания!.. Вечером увидимся?..
И в эту минуту, когда офицер прощался и готов был удалиться в противоположную сторону от своей спутницы, она вдруг выговорила:
– А как ее имя?
– Лоренца.
– То есть по-нашему Лорентина?
– Да.
И они разошлись в разные стороны.
Молодая женщина, пройдя несколько узких и страшно грязных переулков, завернула в тупой переулок, оканчивающийся деревянным забором и пустырем. Здесь она прибавила шагу и, озираясь кругом себя, остановилась у большой железной двери и стукнула кольцом. Из окна над дверью высунулась лохматая, седая голова старухи лет по крайней мере 80. Молодая женщина подняла голову и вымолвила:
– Это я, Матильда.
– Госпожа Реми?
– Ну да, Матильда. Вы уж и по голосу перестали узнавать.
– Иду, иду! – отозвалась подслеповатая старуха. Но, видно, ноги ее уже отказывались служить, потому что двери растворились только через минуту, если не более.
– Кто там сегодня? – спросила, проходя, молодая женщина.
– Трое, сударыня: Канарь, доктор и Роза.
Дверь захлопнулась. Старуха, еле двигая ногами, начала подниматься по лестнице, когда молодая женщина уже миновала первый этаж. Она быстро, юной и легкой походкой, почти бегом, поднялась в самый верхний, четвертый этаж, миновала грязный коридор, темный и душный, но в ту же минуту одна из дверей отворилась и осветила коридор. Она вошла. В маленькой комнатке, опрятно, но бедно убранной, с простыми деревянными столами и стульями, с двумя шкафами и с одним небольшим зеркальцем, сидели трое, очевидно ее дожидавшиеся: двое мужчин и старуха. Пришедшая небрежно кивнула головой и вымолвила:
– Доктор, пожалуйте! – И она, не останавливаясь, прошла в следующую комнату.
Один из двух мужчин последовал за нею и плотно притворил дверь за собой. Эта комната была еще меньше первой, но по убранству немножко лучше. Здесь был маленький диван и кресла с полинявшей позолотой, крытые шерстяной материей, стол с красивой серой скатертью, а в углу, на этажерке, виднелись кое-какие безделушки: фарфор и бронза. Большой, даже громадный дубовый древний резной шкаф занимал почти треть всей комнаты. На нем посередине висел на пробое почтенных размеров замок фунтов в пять весу. Незнакомка села и жестом попросила садиться господина, именуемого ею доктором.
– Ну-с. Дайте мне отдохнуть от этой проклятой лестницы, отдышаться и затем начинайте доклад.
XX
Молодая женщина быстрым, но мягким движением сбросила свою шаль на стул и сняла шляпу с вуалью. Это была чрезвычайно эффектная женщина, на вид не более 18 лет, хотя в действительности ей было уже 25. Ярко-бледное лицо с правильными чертами, светло-каштановые, вьющиеся локонами волосы на высоком, красивом лбу со странным, как бывает у детей, перехватом на висках; маленький, слегка поднятый носик, в котором было что-то насмешливое и дерзкое; тонкие губы, как бы вечно сжатые, и большие голубые глаза, над которыми двумя угольными черточками резко выделялись совершенно черные брови. Эти глаза и эти брови на бледном лице производили какое-то особенное, странное впечатление. По первому взгляду на эту красавицу, конечно, девяносто человек на сотню должны были подумать: «Какая красавица! Но какая, вероятно, злая женщина!»
– Ну-с… Извольте докладывать, любезный господин Дюге! – заговорила она деловитым голосом.
– Нового мало… madame Реми, – ответил этот, – но я не теряю надежды… Вероятно, скоро кое-что и устроится… Если Господь поможет, то через месяц…
– Ну нет! Нам не поможет! – усмехнулась красавица. – Наши надежды надо возлагать на дьявола.
Госпожа Реми начала задавать доктору вопросы, называя разные фамилии и как бы интересуясь судьбою разных мужчин, молодых женщин, девушек и старух. Несколько хорошо известных, даже знаменитых имен высшего придворного круга были произнесены здесь. Вместе с тем не раз беседующие упомянули слово: «Бастилия». Несколько раз, рядом с громкими именами двора и высшего круга, собеседники произнесли имена полицейских сыщиков, наводивших панику на весь серый люд столицы. Наконец молодая женщина выговорила:
– Да, совсем забыла! А герцогиня?.. Как, бишь, ее фамилия?.. Ну, эта испанка?..
– Маркиза Кампо д'Оливас? – произнес доктор.
– Ну да, она… только вы произносите неправильно. Ее при дворе зовут Олива.
– Эта ваша французская манера не произносить букву «с» на конце слова. На юге Франции и в Испании эта буква произносится. Поэтому я и говорю: маркиза д'Оливас, а не Олива!
– Ведь это, кажется, поле оливок?
– Точно так-с. Старинное имя.
– Какая глупая фамилия!
– Не скажу: есть французские фамилии много глупее этой.
– Ну, Бог с ней, с грамматикой! Что же ваша маркиза, доктор?
– Ничего. Я бываю у нее раза три-четыре в неделю. Теперь мы почти друзья… А ее племянница – прелестное созданье!
– Знаю. Но как она к вам относится?
– Полюбила еще больше, чем ее тетушка.
– Ну а этот русский князь, северный боярин, но без золота в карманах бывает всякий день?.. Когда же мы от него отделаемся?
Доктор молчал и как-то робел.
– Просто отделаться нельзя. А путем насилия или преступления опасно. Мы можем, то есть я могу, попасть на галеры, в каторгу, попасть под руку палача.
– О, господин медик! Если вы будете говорить такие глупости, так лучше молчите. Если вы будете опасаться палача, галер, каторги, тогда мы ничего не достигнем. Сделайте лучше, как я… давно решила я, что рано или поздно я буду на этих галерах или буду в руках палача; но когда это еще будет – неизвестно. А до тех пор да здравствует неустрашимость, свобода действий и их плоды, то есть золото и золото! И чем больше будет у нас этого презренного металла в руках, тем менее мы рискуем попасть на галеры. Поверьте!
Говоря это, госпожа Реми оживилась. Легкий румянец покрыл ее бледные щеки, яркие глаза заблестели и красиво, и зловеще.
– Ну, ступайте и ведите себя лучше. Через три дня я буду опять здесь и надеюсь, что господин доктор принесет мне какую-нибудь хорошенькую весточку. Если понадобится нам верная рука, то она здесь. Ведь вы знаете его храбрость?
– Кто не знает его светлости господина Канардье, или, как попросту зовут его в Париже, Канар. Его именем не только самых капризных детей усыпляют ночью, а даже и почтенные люди, взрослые и пожилые, при его имени вздрагивают.
И доктор рассмеялся не столько весело, сколько раздражительно и сухо.
Молодая женщина поняла этот смех. Она поднялась и вдруг выговорила странным голосом, не то надменно, не то повелительно и грозно.
– Знаете что, господин доктор, мне иногда кажется, что вы не за свое дело взялись, что вы не в свою среду попали. Мне иногда кажется, что вы нам не товарищ, или хуже того – плохой товарищ. Вам иногда не по душе то, что для нас самое задушевное. Я уверена, что вы, например, не решитесь собственной рукой воткнуть ножик кому-нибудь не только в грудь, но даже из-за угла в спину, какие бы горы золота вам ни обещали.
– А вы, графиня, решитесь?
– Я вам говорила уже не раз – меня здесь не называйте так. Отвечая вам на ваш вопрос, скажу искренно: не знаю. Мне кажется, что, если бы было нужно, я бы решилась. Во всяком случае, занеся руку с ножом и делаясь убийцей, я бы боялась только одного, что если у меня хватит силы на сердце, то не хватит силы в мышцах руки… Ну, да не в том дело… Если вы нам не сочувствуете, то бросьте нас.
Доктор молчал несколько мгновений и наконец выговорил:
– Не могу.
– Почему?
– Странный вопрос. Вы лучше меня знаете. Потому что вы будете меня бояться как доносчика на вас, и по вашему приказанию на третий же день этот самый ваш Канар испробует свое искусство на мне. А я умирать еще не желаю… Впрочем, бросим этот разговор. Я с вами, в вашем обществе, принес вам клятву в соблюдении тайны, обещался действовать по мере сил и разума, почти не щадя себя и рискуя идти в каторгу всякий день. Чего же вам больше? А лежит ли у меня сердце к этой вашей деятельности, раскаиваюсь ли я, какое вам дело, графиня… Виноват, сударыня.
Доктор вышел и прошел первую горницу, не останавливаясь и не прощаясь ни с кем. Молодая женщина появилась на пороге и позвала старуху, снова затворив двери.
– Ну что, Роза? – выговорила она, снова садясь.
Старуха по седым волосам и морщинам на лице, но, в сущности, женщина лет не более 50, начала рассказ о своих похождениях, и снова случилось то же. В рассказе появлялись довольно известные имена высшего придворного круга, магистратуры, но и подонков Парижа, имена личностей того дна морского или людского моря, которое есть во всяком густонаселенном городе. Роза, к которой так не шло это имя, окончила быстро свой доклад и просила приказаний.
Молодая женщина достала из кармана большой ключ, подошла к громадному шкафу, быстро отворила его и дала держать старухе замок. Роза покачала замок в руках, как делала всегда, и прибавила в сотый раз, если не в тысячный:
– Недурно!.. Этим можно легко убить человека.
– Убить человека всем можно, милая Роза, и этот тяжелый замок – одно из самых плохих орудий. Вот это будет получше.
И красавица, едва заметно усмехаясь, подала старухе пузырек с какой-то желтоватой жидкостью.
– Помните только, что сначала не более ложки, а потом удваивайте порцию с каждым разом.
– И в три дня будет готов?
– В три дня не будет готов, а в неделю – наверное… – усмехнулась красавица.
– А если, madame Реми… Если они доктора позовут. Он даст противоядие.
– Нет. Он даст лекарство от выдуманной им болезни. А оно не поможет.
Заперев шкаф и отпустив старуху, молодая женщина позвала ожидавшего ее тучного пожилого человека с красноватым лицом и отвратительным выражением во взгляде маленьких серых глаз. Он, сопя и ни слова не говоря, полез в карман, достал оттуда мешочек, развязал его и высыпал на стол несколько горстей червонцев.
– А!.. – странно произнесла госпожа Реми, и взор ее блеснул. – Спасибо, милый Канар, mon petit canard… мой маленький утеночек… Вы не чета другим моим слугам. Вы всегда с радостной новостью. У вас меньше слов, а больше дела.
Красавица протянула руки к кучке монет, тускло сиявшей на столе от сумерек, хотела тронуть несколько золотых, но вдруг отдернула руку и пригнулась ближе к столу.
– Что это?! – выговорила она, наклоняясь, и легкая гримаса немного исказила ее лицо.
– Что? – произнес лениво и как бы сонным голосом Канар.
– Мне кажется, на нескольких монетах… да… положительно… кровь…
– Может быть… – тем же сонным голосом произнес Канар. – Не мыть же мне их. Я не прачка…
– Да, но хоть предупредите… Это гадко, противно… Отчего это они испачканы…
– Право же, не знаю… Может быть, от рук…
– Вы мне, Канар, на днях будете нужны.
– Рад служить, госпожа Реми. Когда прикажете?
– Приходите сюда через четыре дня.
– Ради грабежа… или ради… устранения?.. – улыбнулся отвратительной улыбкой этот краснолицый человек.
– Ради устранения! – рассмеялась госпожа Реми. – Прелестное слово. Да, надо устранить помеху в виде мужа.
– Вашего мужа? – удивленно выговорил Канар.
– Вы с ума сошли! – воскликнула красавица, но тотчас весело рассмеялась. – Мой в качестве мужа давно умер, а как обыватель этой планеты мне не мешает. Нет, не моего мужа, а другого мужа. Я вам тогда скажу. Прощайте.
Госпожа Реми, оставшись одна, улыбаясь, собрала золото, завернула в платок и затем начала одеваться…
XXI
В тот же вечер в центре Парижа, неподалеку от Лувра, в большом доме, тоже походившем на маленький дворец, все окна ярко горели огнями, а по прилегающим улицам и на дворе двигались, подъезжая и отъезжая от главного подъезда, целые вереницы экипажей. Дом этот, или hôtel, как зовут парижане большие и богатые частные дома, принадлежал придворному сановнику принцу Субизу.
Уже 70-летний старик, фельдмаршал, бывший министр, принц два раза в году давал балы, на которых всегда появлялись король, королева и все члены королевской фамилии, а за ними, конечно, и вся знать. Бывать в числе приглашенных принца-фельдмаршала служило как бы знаком отличия и рекомендацией. Переступавший порог этого полудворца тем самым как бы приобретал право бывать в домах всей аристократии.
Сам принц был любезный и приветливый старик. Когда-то, в юности, он был адъютантом Людовика XV и носил прозвище Сердечный Друг Короля. Вместе с тем за всю свою жизнь он был приятелем всех фавориток покойного короля, близкий друг госпожи Помпадур, а затем наперсник сменившей ее знаменитой Дюбарри. Через брак его дочери со знаменитым принцем Конде аристократ древнего происхождения вторично и ближе породнился с королевской семьей.
Богато убранные залы и гостиные отеля принца скоро переполнились густой толпой всего, что было самого блестящего в Париже. Король, все члены королевской фамилии присутствовали на бале, а вместе с ними были тут же десятки лиц, оставшихся бессмертными в истории и в летописях Франции. Тут были принцы Конде и Конти, герцогини Шеврез и Лонгвиль, графиня Ламбаль, герцоги Шуазель и Монморанси и другие. В числе гостей были тут и полудуховные лица, кардиналы и аббаты, но не в своей, им полагающейся по званию одежде, а в обыкновенном светском платье. В красивой кардинальской одежде, но не самой парадной присутствовал только один папский нунций.
Кроме старинного дворянства были тоже и известные лица из недавно вышедших в люди, вроде Неккера, и, наконец, в числе приглашенных гостей попадались чужеземцы: английские лорды с семьями, итальянские принчипе и испанские гранды.
Гостиные были переполнены сплошь. В большой зале шли танцы. Повсюду говор толпы гостей сводился только к одному вопросу, «почему королевы нет на бале». Многие утверждали, что Мария Антуанетта нездорова: другие уверяли, что она не приехала вследствие своей давнишней ненависти, загадочной и необъяснимой, ко всей семье Роганов, а в особенности к знаменитому страсбургскому епископу, кардиналу Рогану. Эти толки и пересуды имели некоторое основание. Родственник принца Субиза, прямой потомок знаменитого дома Роганов Людовик, присутствовал на бале и был несколько смущен, как бы сознаваясь внутренно, что королева из-за него не почтила бал Субиза своим присутствием.
Людовик Роган был личностью весьма известной и популярной в Европе. Когда-то, еще сравнительно молодым человеком, он был послан ко двору Марии Терезии и был главным агентом Франции при переговорах о бракосочетании ее дочери с дофином, стал близким человеком к императрице австрийской. Но затем, когда ее дочь Мария Антуанетта сделалась женою наследника французского престола, и она сама, и Мария Терезия стали относиться к кардиналу Рогану сухо и сдержанно. Когда же дофин сделался королем, то королева Мария Антуанетта явно выказывала крайнее пренебрежение, а подчас и отвращение к пожилому, но молодящемуся кардиналу Рогану, а из-за него и ко всей его родне.
Король пробыл на бале не более получаса. За последние годы, сильно пополнев, как бы обленившись, король все менее появлялся в публичных местах.
Хотя и много было красавиц среди тысячной толпы приглашенных, тем не менее одна из них, при проходе из одной гостиной в другую, обращала на себя особое внимание. Не столько правильной красотой поражала она, сколько выражением лица и изяществом всей своей фигуры, походкой, движениями, манерой держать себя несколько надменно, но грациозно. Великолепное платье ее, даже среди многих других великолепных женских нарядов бросавшееся в глаза, было сшито из толстой серебристой, ярко сияющей ткани, корсаж, рукава и шлейф были убраны красивыми бантами, где перемешивалось черное кружево с голубыми лентами. Эта отделка платья, несколько оригинальная, имела свой смысл или цель. В этой красавице было нечто, одна особенность, к которой именно и шла эта отделка. У другой женщины она не имела бы того же смысла. Большие темно-голубые глаза с совершенно черными, как уголь, бровями и были причиной отделки… К этим-то глазам и бровям кокетка как бы пригоняла свой наряд. И всякий среди многолюдной толпы гостей невольно замечал это и говорил, что отделка из черного с голубым – под цвет прелестных глаз и оригинальных бровей – чрезвычайно эффектна.
Молодая женщина не обращалась сама ни к кому и несколько высокомерно ждала, чтобы другие подошли к ней и заговорили. Но при этом замечалась та исключительная черта, что за весь вечер к ней не подошла ни одна женщина, ни пожилая, ни молодая, как бы ожидая первого шага с ее стороны. Все подходившие были мужчины, и большинство из них поклонники красавицы. Сам принц Субиз, приветливый ко всем гостям, при ее появлении несколько насупился, несколько сухо отдал ей поклон на ее низкий реверанс. Когда же красавица отошла, хозяин дома обратился к ближайшему своему соседу и выговорил:
– Мой двоюродный братец, кардинал, награждает меня изредка не совсем приятными для меня посетителями.
– Вы говорите о графине Ламот? – удивленно спросил гость, провожая глазами гостью в блестящем костюме.
– Да. Признаюсь, я недолюбливаю ее. Красавица, но у нее чрезвычайно злое выражение лица… Но не в том дело… А я не люблю видеть на женщине двусмысленного происхождения и не имеющей известного на глазах у всех существующего богатства такие дорогие парюры[1]. Посмотрите на ее ожерелье, на ее браслеты, на все эти бриллианты, жемчуг и камни!
– Да, на ней всегда замечательные вещи и по изяществу, и по ценности! – отозвался гость.
– А откуда это?! Я верю, что только ее хорошенькая шейка и ее прелестные плечи ей законно принадлежат! Но все, что на них, вряд ли. На всю эту парюру можно было бы купить такой же отель, как мой, а у нее нет и маленького своего дома в Париже.
Красавица, к которой так недружелюбно отнесся хозяин, была действительно на этом бале благодаря кардиналу, епископу страсбургскому. Он выхлопотал ей приглашение у принца, и действительно в этот вечер графиня Ламот, не подходившая сама ни к кому, при виде кардинала Людовика быстро направилась к нему. И тотчас же вместе перешли они в крайнюю маленькую гостиную и довольно долго беседовали вполголоса.
Многие из гостей, пройдя по всем апартаментам, входили и в эту маленькую гостиную, но при виде беседующих – знаменитого кардинала Людовика с не менее известной красавицей графиней Ламот – всякий тотчас уходил, чтобы не мешать им. Но наконец в этой комнате появился молодой человек высокого роста, изящный, красивый, в мундире королевского полка, именовавшегося «Крават». Не знал ли он в лицо всей Франции известного кардинала Рогана или по рассеянности, но он преспокойно остался в крошечной комнатке, сел на диван и, не глядя на них, глубоко задумался.
– Как это глупо! – произнесла графиня Ламот довольно громко и слегка дернув красивым плечиком; она как бы указывала этим движением на расположившегося поблизости офицера.
– Да, не совсем вежливо, – произнес Людовик Роган. – Это потому, что я в светском придворном платье, а будь я сегодня в моей кардинальской одежде, он бы отнесся ко мне с большим почтением и не расположился бы передо мною в двух шагах, как если б он был у себя дома или в казарме.
Молодой человек мог это слышать, но был слишком поглощен какой-то тревожной думой, отражавшейся на его лице и позе. Красивое лицо его, по сдвинутым бровям, опущенному взору и задумчиво сжатым губам, было сумрачно, даже более, он как бы томился.
– Это все равно, – говорила между тем графиня Ламот, – если бы вы были теперь даже в вашем кардинальском облачении, он не удостоил бы вас своего внимания. Знаете ли вы, кто это? Это личность довольно интересная.
– А вы знаете, графиня?
– Конечно.
– Мне кажется, что вы не только весь Париж, но вы знаете весь мир.
– Более или менее, господин кардинал.
– Кто же этот неуч, графиня?
– Повторяю, очень интересная личность, – уже шепотом заговорила красавица. – Вы таких, быть может, еще нигде никогда не видели, хотя и много путешествовали. Это иностранец, но какой? – вот вопрос. Откуда?
– Индеец? – рассмеялся Роган.
– Почти.
– Однако?
– Русский, ваша светлость.
– Русский?
– Да, русский боярин. Этот гость здесь почти прямо с берегов Невы.
– Это очень любопытно! – проговорил Роган, вглядываясь в задумчивого молодого человека. – Что ж он: боярин или князь?
– Он просто господин Норич. Вместе с тем он, по уверению нашего министра иностранных дел, почти имеет косвенные права… весьма высокие…
– Что вы говорите, графиня?! Вы шутите?!
– Нисколько… Когда-нибудь я могу рассказать вам, каким образом простой русский дворянин может иметь такие права в северных странах.
– Я уверен, графиня, что это чистейшая выдумка, – рассмеялся кардинал. – Мы, французы, часто выдумываем Бог весть какие нелепости на чужие страны и государства.
– Он внук великого Петра, ваша светлость.
– Сбоку, по природе, а не по закону, надеюсь.
– Конечно. То, что мы называем батар.
– Может быть. Но здесь скучно… Расскажите теперь, и мы убьем время.
– Это трудно, ваша светлость. Он может перестать глубокомысленно мечтать, вдруг очнуться и, придя в себя от своих мечтаний, услышать свою биографию. Это будет очень глупо…
– Да. Вы правы, графиня. Так уйдемте отсюда.
XXII
Тотчас вслед за Роганом и красивой графиней, которые, выйдя, потерялись в густой толпе других гостей, в ту же самую комнату вошли две женщины. Молодой человек невольно сразу пришел в себя, поднялся и, поздоровавшись с обеими, уступил им диванчик, на котором сидел перед тем.
Эти две гостьи на балу у принца Субиза отчетливо и резко, как пятно, отделялись от всех. Обе они с головы до пят были в черном, а между тем элегантные черные платья были не трауром, а обычаем их отечества. Обе они были испанки. Одной из них было лет 50, но казалось еще больше – не от седых волос, которых не было видно под пудрой, а по толстому, оплывшему лицу. Она была чересчур толста, неуклюжа в походке и в ленивых движениях и очень некрасива. Это была маркиза Кампо д'Оливас.
Испанская грандесса по отцу и старая дева, она была прежде аббатисой или настоятельницей одного из испанских женских монастырей, но теперь покинувшая свою должность и жившая уже с год в Париже. Она была известна всему двору и аристократии как благодаря своему происхождению, так и по милости громадного состояния. Это более чем миллионное состояние заключалось в больших поместьях в Андалузии, но вместе с тем и в кораблях, плававших между испанскими портами и колониями. Конечно, в столице Франции это состояние преувеличили и говорили, что оно в несколько миллионов. Однако все это принадлежало не старой девице по имени Ангустиас, а той, которая теперь вошла и сидела около нее, то есть ее племяннице по имени Эли. Да, все громадное состояние принадлежало круглой сироте, грандессе, маркизе Эли Кампо д'Оливас.
Шестнадцатилетняя красавица девушка была лишь под опекой своей родной тетки.
В этой юной и чрезвычайно красивой представительнице южной Испании не было, однако, ничего, что составляет отличительные черты красавиц Андалузии. Там, у себя, она была замечательным исключением. Здесь же в ней не было, по-видимому, ничего особенного. Дело в том, что Эли была совершенно белокурая, с синими глазами, с бледным лицом. Она скорее могла походить на англичанку и еще более на голландку, но никак не на испанку. Эту личность там, на родине, объясняли тем, что ее прабабка по отцу была действительно истая фламандка. Но если Эли не была красива наподобие андалузских красавиц, то была все-таки чрезвычайно хороша собой: высокая, стройная, с матовым овальным личиком, как у креолок, и при этом маленький орлиный носик с горбинкой, хорошенький крошечный ротик с нежно-розовыми, пухленькими губками и с чрезвычайно милой улыбкой. Тетка-опекунша, конечно, обожала племянницу. Она очень рада была покинуть свое аббатство, отказаться от своей почетной должности, чтобы заняться воспитанием сироты и в то же время приведением в порядок всех ее дел.
Покойный герцог Кампо д'Оливас вел такую распущенную жизнь, что преждевременно убил себя и в то же время чуть-чуть не уничтожил дотла все огромное состояние, скопленное его предками и отцом. Самое пребывание старой девицы-маркизы вместе с племянницей в Париже было вызвано устроением дел. Французская флотилия где-то в колониях среди океана грабительски захватила целый остров и водрузила знамя французского короля, а в том числе большие поместья сироты-грандессы вдруг сделались собственностью французского государства. И вот старая девица, напрасно прохлопотав заглазно целый год, решилась, вместе со своей племянницей, ехать в Париж лично просить о заступничестве Людовика XVI, чтобы вернуть обратно завоеванное или захваченное его солдатами.
Молоденькая, грациозная, на вид наивная и даже чересчур как бы простодушная и ребячески неразвитая, Эли была, в сущности, самое избалованное, своевольное и капризное дитя, которое когда-либо существовало. Сначала, чуть не с рождения, ее баловала мать, после ее смерти еще более баловал отец, затем все общество, затем все те, на которых, как всегда бывает, имело неотразимое влияние будущее богатство маленькой девочки. Наконец, теперь эту избалованную и прихотливую сироту уже не могла не баловать опекунша-тетка. Было уже поздно изменять наклонности и характер этого маленького деспота. Впрочем, старая девица и не хлопотала об исправлении нрава Эли. Она была совершенно поглощена огромными делами юной питомицы и думала только о том, как бы распутать и снова привести состояние в порядок. Конечно, одновременно старая девица мечтала и о том, чтобы блестящим образом выдать замуж своего баловня и деспота. Но в этом случае маркиза понимала, что хотя ее власть опекунши признается во всех владениях герцогов Кампо д'Оливас и даже в дальних владениях, среди Океана, но что власть эта окончательно не признана и не имеет ни малейшего значения в одном только крошечном местечке – в сердце юной сиротки! Для нее неотразимым законом была ее минутная вспышка, прихоть, каприз, фантазия… Деспот надо всеми, Эли была, так сказать, рабою своих прихотей. Она горько плакала иногда от дождя, мешавшего тотчас выйти на прогулку.
И в отношениях старой девицы и ее племянницы была та особенность, что маркиза, заправлявшая всем и имевшая огромный авторитет во многом и во мнении многих, не имела никакой власти над своей питомицей. Эли делала положительно все, что хотела, до безрассудства.
Так, теперь уже месяца с два, как они могли вернуться к себе в Андалузию, а между тем оставались и жили в Париже. Эли этого хотела. Сначала она даже не объясняла тетке-опекунше, почему ни за что не хочет покинуть Париж, и только за последние дни решилась сознаться, так как старая девица уже сама стала понимать причину.
В Париже удерживало юную и капризную красавицу чувство, которое запало ей в душу. Сначала она относилась к нему шутливо, и только теперь обратилось оно в сердечную привязанность, если не серьезную и глубокую, то – вследствие помех и затруднений – в упрямую и капризную, прихотливо-страстную вспышку. Она влюбилась и всем своим существом, всеми помыслами принадлежала этому самому молодому человеку, который сидел теперь около них. Но для обеих испанок он был не просто господином Норичем, как называла его сейчас графиня Ламот. Для них он был московский боярин, царственного происхождения, по имени граф Зарубовский.
Только за последние дни пылкая и своенравная Эли, после беседы наедине со своим возлюбленным, была задумчива и рассеянна, как будто она узнала от него что-либо новое, дурное, что тревожило ее. Тетка ничего не замечала и, вообще привыкнув исполнять все прихоти своей питомицы, дружески встречала Норича. Ее самолюбию льстило, что богачка-племянница, быть может, выйдет замуж за молодого, красивого аристократа с таким же титулом, как и у них, да вдобавок с косвенными правами на какой-то престол.
Этому вымыслу многие верили в Париже, и, конечно, сеньора Ангустиас, в числе простодушных людей, глядела на «господина Норича» как на внука Петра Великого, скрывающегося в столице под строгим инкогнито ради политических соображений французского правительства.
В этот вечер Эли, уже довольно много потанцевав, казалась усталой. Она задумчиво и даже грустно поздоровалась с Норичем и после нескольких фраз беседы объявила тетке, что хочет домой.
– И вы с нами! – сказала она Норичу. – К нам кушать мороженое и пить шербет моего стряпанья.
– Помилуй, Эли… Теперь полночь, – возразила опекунша. – И нам и ему пора ехать спать, а не мороженое…
– Ах, Боже мой! – воскликнула Эли. – Когда я хочу… Иначе я проплачу всю ночь, и вы уже не заснете, тетушка.
– Что с тобой делать. Поедемте, Норич, – вздохнула опекунша.
Молодой человек немного оживился, лицо его стало менее сумрачно, потому что Эли делала ему за спиной тетки какие-то знаки и посылала ручкой поцелуи.
XXIII
На краю города, почти в предместье, название которого Марэ, то есть «болота», свидетельствовало о том, насколько местность эта была нездорова, виднелось большое неуклюжее здание. В нем в это время был временно расположен королевский полк «Крават». Несколько небольших домиков среди садов и пустырей были заняты преимущественно офицерами с их семействами.
В одном из таких домиков, за небольшим палисадником, на близком расстоянии от казармы, жил прикомандированный к полку полуофицер, полукапрал, происхождением иностранец. Товарищи офицеры обращались с ним, как с равным, посещали его и любили за его добрый нрав. Он жил один с молоденькой сестрой, и помимо этой полудевочки у него не было никакой родни. Небольшие средства к жизни являлись из не ведомого никому источника. Деньги высылались откуда-то издалека. Каким образом он был причислен к полку, откуда явился, было и товарищам неизвестно. Знали только одно, что он не француз – по его выговору, не испанец – по его внешности. Может быть, он немец, голландец. Некоторые считали его американцем. Говорил он на многих языках и, кажется, всего легче и лучше по-немецки. Вообще личность этого капрала была загадочна, вся жизнь и обстановка облечена какой-то тайной.
Это был Алексей, прежде граф Зарубовский, а теперь просто господин Норич.
Но для товарищей имя графа Зарубовского не существовало.
Товарищи знали, что Норич небогатый чужеземец, имеет доступ в дома высших сановников Франции, что он изредка бывает у таких лиц, как Шуазель, Конде и другие.
Сам он не любил говорить о себе, о своем прошлом, о своей родине, о надеждах и планах на будущее. Он говорил шутя, что он полунемец, полуславянин. Полковой командир утверждал, что Норич поляк, но этому противоречило, однако, то обстоятельство, что молодой человек не знал по-польски ни слова и был некатолик. Никогда никто не видал его в церкви, не только католической, но даже и в протестантской.
Когда-то, два года тому назад, молодой двадцатилетний малый, привезенный в Россию по поручению графа Зарубовского, был заключен в крепость вследствие решительного отказа согласиться на позорные условия, предложенные старым графом. После более года пребывания в крепости Алексей был выпущен, но не освобожден, а сослан в Ярославскую губернию на жительство.
Здесь через несколько месяцев, предварительно устроив через нового приятеля, раскольника, все для своего побега, молодой человек пешком прошел все расстояние, отделявшее Ярославль от Москвы. В Москве один боярин и богач, к которому он имел письмо от ярославских раскольников, принял его к себе в дом, обласкал его, дал денег и устроил его тайное путешествие в Ревель. Здесь молодой человек должен был сесть на корабль и очутиться вне пределов русских, чтобы вернуться в Германию. Там томилась одна в ожидании – единственное существо, ему близкое и дорогое, – девочка, которую он звал сестрой. Но тот же самый боярин, явившийся к нему на помощь в деле бегства, вероятно, своей болтливостью погубил молодого человека.
В ту минуту, когда Алексей садился на корабль, он был арестован ревельской полицией, закован в кандалы, посажен в местную тюрьму, а затем через месяц в этих же кандалах препровожден в Петербург. С отчаяния несколько раз покушался молодой малый на свою жизнь, но неудачно: за ним был строжайший присмотр. Строго приказано было доставить его живьем. Здесь он был засажен в Шлиссельбургскую крепость, и в его камере не было даже гвоздя, которым бы он мог распороть себе горло. Оставалось разве разбить голову о каменную стену. Но через несколько дней в каземате появился пожилой кругленький человечек. Он сразу узнал гостя – это был коварный и подлый нахлебник и наперсник графа Зарубовского, тот же самый Норич, с которым он провел так много времени в путешествии из Германии в Россию.
– Ах, если б был у меня теперь нож! – встретил Алексей появившегося ненавистного ему человека.
Нахлебник этот, по поручению от графа, снова предложил молодому человеку те же условия и затем, конечно, немедленное освобождение с обязательством уехать из России.
– Не губите себя, – закончил речь Норич. – Если вы будете стоять на своем и противиться – вы умрете в этом каземате. Это решено!
Алексей чувствовал, что силы его надломлены и нравственно и физически. Он упал духом, и теперь, даже не размышляя, согласился на все, клятвенно обещая исполнить все условия договора. Через неделю он был снова в кабинете графа Зарубовского, жившего уже в Петербурге по прихоти молодой жены. Граф принял его ласково, грустно смотрел на него, как бы сочувствуя и сожалея, но твердым голосом повторил свои условия. Алексей молчаливо соглашался на все, лишь бы позволили ему бежать из России. И через две недели после этого садился на корабль в Кронштадте молодой человек с именем Норича.
Вернувшись на Рейн, где юная и милая девушка чуть не сошла с ума от радости и счастья, молодой человек, отныне господин Норич, объявил ей новость. Они должны были немедленно покинуть Германию и переселиться во Францию – это входило в условия графа Зарубовского.
Через несколько месяцев после этого, в Париже, Алексей был принят, благодаря письму от французского посланника в Петербурге герцогу Шуазелю, в королевский полк «Cravatte». Не будучи родом простолюдин, он не мог быть солдатом, не будучи французским дворянином, он равно не мог быть зачислен прямо офицером. Он был принят как чужеземец, с тем чтобы в будущем как-нибудь выслужить себе чин, а пока он считался капралом на льготных правах и, между прочим, с правом ношения офицерского мундира. Юная сестра Лиза и здесь стала слыть за родную сестру его. Она была в восторге, как ребенок, увидя брата военным, в мундире…
Вскоре после того как Алексей с сестрой поселился в Париже в этой маленькой квартирке около казармы, он получил приглашение от некоего барона Бретейля пожаловать к нему. Барон оказался сановником. Когда-то, при Елизавете и Петре III и в начале царствования императрицы Екатерины, Бретейль был французским посланником в Петербурге.
Из беседы бывшего дипломата с молодым человеком выяснилось, что Бретейль знает Россию, пожалуй, еще лучше, чем г. Норич. Он попросил молодого человека быть с ним вполне искренним и рассказать всю свою историю, не скрывая ничего. Алексей, сделавшись господином Норичем поневоле, был слишком, однако, честный человек, чтобы не сдержать клятвы, данной графу Зарубовскому, молчать обо всем с ним происшедшем и, так сказать, о тайне его существования. На уклончивые ответы молодого человека барон Бретейль объяснил ему следующее:
– Мой юный друг, если вы не хотите отвечать на мои вопросы, то только повредите себе, лишите меня возможности всячески быть вам полезным. Я получил письмо из России, в котором меня просят сделать для вас все возможное, всячески облегчить ваше существование. При этом личность, которая мне пишет, которую я знавал хорошо в России, очень и очень высокопоставленная особа… Назвать ее я не могу и не назову. Эта личность в письме своем объясняет мне подробно все то, о чем вы дали клятву умалчивать. Поэтому я знаю всю вашу судьбу.
Когда Бретейль действительно передал Алексею все, что он сам знал о себе, то прибавил:
– Мне нужно только одно, чтобы вы сказали мне: правда ли все это или выдумка? Ваша клятва, данная графу Зарубовскому, не мешает вам ответить мне одно слово «да» или слово «нет».
Молодой человек подумал и отвечал:
– Да… Все это истинная правда… Горькая правда… ужасная правда!.. Такая правда, которая заставит меня раньше или позже прекратить свое существование самоубийством.
– Нет, мой друг, – отозвался Бретейль, – эта правда, напротив, должна помочь вам если не вернуть все то, что вы потеряли и на что имели бы право, – то по крайней мере завоевать себе положение лучше, чем то, в котором вы теперь находитесь. И в этом я помогу вам.
Не далее как через месяц капралу Норичу было положительно обещано, что он при первой возможности будет произведен в офицеры, а затем переведен в число мушкетеров короля, которые составляли его личную стражу во дворце. В ней служил цвет молодежи из аристократических фамилий.
XXIV
Вскоре после этого поступления в полк красивый, умный и элегантный молодой человек, говорящий на многих языках, много сравнительно путешествовавший и много видевший, еще более испытавший, был представлен в некоторые дома высшего круга. Таинственность, которой облечена была его личность, конечно, прибавляла немалую долю успеха в обществе.
Норич сдержал свою клятву и никогда никому не говорил о своем происхождении. По всей вероятности, барон Бретейль, не дававший никакой клятвы, не считал долгом умалчивать о том, что знал о молодом русском. Через несколько месяцев le bâtard imperial de Noritch[2] был приглашаем повсюду на вечерах и балах всего высшего столичного общества. А в Париже гуляла легенда об его царственном происхождении.
И вот тогда-то на одном из балов у герцогини Шеврез он встретил двух таких же иноземок, как он сам. Это была маркиза Кампо д'Оливас с сиротой-питомицей. Алексей был представлен маркизе и скоро появился у нее в доме. Затем он стал бывать чаще и наконец незаметно, в первый раз в жизни, почувствовал себя влюбленным страстно и пылко в это юное и грациозное существо, вокруг которого толпилась куча поклонников. Казалось, что хуже выбрать предмет любви было трудно. Во всем Париже было, быть может, не более пяти молодых девушек, на руку и сердце которых было столько претендентов, сколько у юной Эли д'Оливас. Норич понимал бессмыслие своего поведения. Но сердце не спрашивается! При первой вспышке любви следовало перестать бывать в доме. Но он не совладал со своим сердцем.
После целой зимы тайных мук Норич уже готов был снова вернуться к мысли о самоубийстве, но уже по другим причинам – от безнадежной любви. Простой случай спас его или раскрыл ему глаза. Слишком большая доля честности или сердечной наивности, а быть может, просто природной скромности помешали молодому человеку раньше увидеть и понять, что баловница судьбы, красавица и сирота, обладающая несметным богатством, любит его взаимно.
Молодые люди объяснились, и причудливая, пылкая Эли объявила возлюбленному, что никогда ни за кого не пойдет замуж, помимо его. Но вместе с тем аристократка-грандесса прямо спросила у возлюбленного, справедливы ли те темные слухи, которые ходят о его происхождении и о его трагической судьбе. И на этот раз молодой человек не мог сдержать клятвы, данной графу Зарубовскому. Он искренно и правдиво рассказал всю свою судьбу. Эли была поражена как громом, узнав все обстоятельства несчастной судьбы любимого ею человека.
– Стало быть, то, что говорит весь Париж о вашем происхождении от императора Петра Российского, – вымысел? – тревожным голосом спросила она после долгой паузы.
– Конечно… Все это выдумки праздных людей.
– Ни слова нет правды в этом?
– Ни слова.
– Это ужасно, Алек. Тетушка, да и я – мы были уверены… Иначе…
– Вы бы и не обратили на меня внимания?! – воскликнул Алексей.
– Зачем лгать… Не знаю. Может быть, и да.
– Я в этом не виноват. Да и вообще ни в чем не виноват! Я не назывался у вас вымышленными званиями… Напротив того, будучи по закону графом Зарубовским, я зовусь фамилией какого-то польского шляхтича, нахлебника моего деда.
– Стало быть, барон Бретейль сам выдумал все…
– Да. Барон… Или другой кто…
– Но зачем, с какой же целью? – допытывалась девушка в волнении и смущении.
Алексею казалось, что она не верит ему, что она все еще надеется на что-то… Она, будто утопающая, которая хватается за соломинку, выспрашивала и пытала его, надеясь в каком-нибудь ответе найти противоречие… А это противоречие заставит ее сомневаться в истине всего, что она узнала. А сомнение позволит ей еще надеяться…
– Да неужели же вы теперь никогда снова не будете, ну, хоть только графом Зарубовским!
– Никогда! Если умрет этот младенец, сын деда, тогда, может быть… Но ведь у графини могут родиться еще другие дети! – говорил Алексей.
Эли была настолько поражена, что несколько дней не выходила из своей горницы. Алексей, не видя ее, стал смущаться, скучать и томиться. Наконец она снова появилась и тайно от тетки-опекунши вела себя с ним непринужденно, ласково и любовно и относилась к Алексею как бы к жениху своему. Наступило для них время, единожды бывающее в жизни людей, – время первой, пылкой, взаимной страсти двух существ.
Чувство восторга и упоения от счастья продолжалось лишь несколько дней, и снова отчаяние овладело сердцем молодого человека. Он видел, что Эли страстно любит его первой любовью южной натуры, порывисто и пылко, но, несмотря на это, возлюбленная стала часто говорить ему, что не решится выйти за него замуж как за господина Норича и даже господина Зарубовского. Поэтому, прежде чем думать об их браке, надо добиться и устроить мудреное дело. Надо ему называться графом Зарубовским.
– Тетушка того же мнения, – сказала Эли. – Но мне все равно, что думает и говорит тетушка. Я исполняю только то, что мое желание, моя воля. В этом отношении признаюсь, что мое желание далеко не прихоть, чтобы вы добыли снова себе все те права, которые у вас отняли. Поезжайте в Россию, возвращайтесь графом Зарубовским – и я ваша! Если на это нужны деньги, возьмите их. Сколько бы ни было! Я с удовольствием даю их вам на это общее наше дело. Если нужно даже сто, двести тысяч, то возьмите их. Тетушка говорит, что она даст вам их.
Напрасно Алексей с отчаянием на сердце объяснял возлюбленной, что деньгами в данном случае ничего сделать нельзя, что тот человек, то есть его дед, от которого все зависит, сам владеет миллионным состоянием.
– Поймите, Эли, что это немыслимо! – говорил Алексей. – Если я поеду отвоевывать себе титул и имя графа Зарубовского, то останусь где-нибудь в крепости около Петербурга или окажусь на дальней окраине Сибири, пожалуй в Камчатке. Поймите, что коварной графине Зарубовской покровительствуют в России самые могущественные люди. Есть одна личность, которая могла бы мне помочь…
– Кто?
– Я не хочу пока называть вам ее. Эта личность, конечно, одним мановением властной руки может все сделать, но… очевидно, не хочет! Следовательно, нам надо расстаться. Другого исхода нет.
Искренно огорченная Эли отвечала со слезами на глазах:
– Дайте мне еще подумать.
С этого дня молодые люди виделись несколько реже. Эли никогда не заговаривала и не напоминала об этой беседе. Она стала опять беззаботно весела, несколько сдержаннее с ним, но иногда, однако, он ловил на себе ее взгляд, задумчивый и грустный. Раза два решился он спросить у возлюбленной, к какому заключению пришла она. Эли отвечала все то же:
– Дайте мне подумать.
Время шло, и что творилось на душе юной красавицы, прихотливой, избалованной судьбой и людьми, окруженной всем тем, что может дать богатство и общественное положение, трудно было сказать. Переживало ли что-нибудь ее сердце или нет?! «Быть может, – говорил сам себе иногда Алексей, – она забыла думать о том, что гложет его сердце». За это последнее время несколько раз Эли, шутя, иногда насмешливо, с остроумием, прибаутками, рассказывала наедине Алексею, кто за ней ухаживает, кто когда объяснялся в любви.
Наконец теперь, после бала у знаменитого принца Субиза, когда молодые люди сидели одни в гостиной отеля маркизы, а тетка ее, уставшая от бала, уже легла в постель, Эли рассказала Алексею о новой победе, о новых предложениях руки и сердца.
– Знаете ли вы мушкетера короля, кавалера д'Уазмона? Он сделал мне предложение на балу у Субиза. Я ему сказала, что мне очень мудрено выйти замуж, ибо я дала себе клятву выйти за того молодого человека, который, будучи знаком со мной три месяца, в течение их не предложит мне руку и сердце.
Алексей даже не улыбнулся на эту шутку девушки, в которой была доля правды. Через мгновение, однако, он решился и спросил взволнованным голосом:
– Так скажите то же и мне! Когда будет конец моим мукам… Когда же дадите вы мне окончательный последний ответ?
– Завтра, – отозвалась Эли чуть слышно.
– Завтра?! – невольно воскликнул Алексей.
Она грустно повторила то же слово и прибавила:
– Но что я вам отвечу, я, вот как перед Богом, сама еще не знаю.
– Вы сами не знаете?..
– Да, не знаю. То я думаю, что «да», то думаю, что «нет».
Пристально, пытливо смотрел молодой человек в глаза своей возлюбленной, но не мог угадать или прочесть ничего на лице ее. А между тем она решит вопрос о его существовании. После отказа этого обожаемого им существа, которого он перенести не надеялся, ему не оставалось ничего на свете. Он твердо решил, передав формальным образом свои права на пенсию из России молоденькой сестре, покончить с собой.
– Завтра… завтра… завтра… – задумчиво повторяла девушка.
– Но прежде чем узнать ваш ответ, – вымолвил вдруг Алексей изменившимся от волнения голосом, – я должен вам сказать, Эли, что ваше «нет» будет для меня смертным приговором. Я дал клятву себе…
– Каким образом, Алек?
– Я застрелюсь…
– Ах, если бы я верила этому!.. Если бы могла верить! – воскликнула Эли с глубокой грустью. – Но я не верю…
– Поверите… Но будет поздно тогда.
– Не верю, что… поверю! Ну а теперь прощайте. Поздно уже…
И этот деспот в образе юной светловолосой полудевочки с наивно ласковым взглядом тихой, робкой походкой побрел из гостиной, оставив Алексея в тревоге.
«Да, я вижу… Я чувствую, какой это ответ! – подумал он, выходя из дома маркизы. – И завтра в эту пору меня, конечно, уже не будет на свете».
XXV
Франция в конце XVIII века, накануне почти единственной в истории социальной грозы и политического шторма, представляла из себя разлагающийся и распадающийся на части труп организма, давно покончившего счеты с жизнью. В подобной мертвечине, как человеческой, так и государственной, должна неминуемо зарождаться всякая тля, отвратительная и вредная.
И вот в этом блестящем и позлащенном снаружи, но гнойном внутри государственном организме накануне разгрома всего векового строя его естественно народилась в его высшем слое, среди представителей древнейшей в Европе феодальной аристократии такая личность, как госпожа Реми – содержательница притона воров и убийц, но в то же время и графиня Ламот, блестящая красавица, танцующая в одном менуэте бок о бок с членом королевской семьи. Да, эта женщина была порождением этих дней, исключительных, едва понятных дней страшной эпохи, когда, по выражению одного мыслителя, два брата, Иафет и Хам, убили Сима, мстя ему за его вековые злодеяния. И Бог не проклял их, как когда-то проклял братоубийцу Каина. Они были и не правы, и не виноваты.
Красавица с пепельными волосами, голубыми глазами под черными бровями была именно образчиком этих смутных дней, этого общества, которое было накануне своего издыхания. В иные дни и в иной стране эта женщина была бы, конечно, чем-нибудь другим, а здесь теперь все дары природы, все таланты, данные ей от Бога, стали орудиями дьявола. Красота, ум, очаровательная наружность, сила воли, твердость духа, предприимчивость и страстность натуры – одним словом, «искра Божья» в душе – все это если не было зарыто ею в землю, как талант раба в притче Иисусовой, то было в руках ее страшным талантом, приносившим барыш сторицей, но барыш этот был данью сатане, а не Богу.
Лет за двадцать пять назад, в парижской главной городской больнице, именуемой Hôtel-Dieu[3], умер в отделении чернорабочих и бродяг барон Де Люз де Сен-Реми де Валуа. Последняя фамилия говорила очень много, напоминая о династии, веками пребывавшей на престоле феодальной Франции. Действительно, барон, умерший рядом с бродягой, умиравшим от голода и нищеты, и около каменщика, разбившегося при падении с лесов, был потомок не очень древнего, но знатного рода. Его предок был побочным сыном короля Генриха II. Барон был последний в роде и умер в больнице в качестве бесприютного шатуна.
Но в это время в Шампани, в маленьком городишке Бар, оставались на свете две маленькие девочки – двух и четырех лет – круглыми сиротами, без средств к жизни и без родни. Эти две крошки девочки, поражавшие всякого своей красотой, были последние баронессы Сен-Реми Валуа. Нашлись добрые люди, прельщенные, вероятно, прелестными глазками и личиком этих крошек, которые занялись их судьбой. Обе малютки были отправлены в Париж и отданы на воспитание в один из лучших монастырей – в Лоншанский, помещавшийся в окрестностях Парижа. Но этот монастырь, или, лучше, этот институт, где всему учили монахини, где была своя начальница, аббатиса, был, вероятно, слишком близок от сердцевины разлагающегося политического трупа. Близость Парижа и издыхающей старой Франции занесла, вероятно, и в его стены ту заразу, которая шла и от предместий Св. Антония, и от Версаля и Марли.
Две девочки, помещенные в монастырь, считались первыми не столько по происхождению, сколько по красоте своей и в особенности по страстности огневой природы. Обе сестры, хотя между ними и было два года разницы, казались близнецами – настолько были похожи одна на другую и лицом, и наклонностями, и даже мельчайшими чертами характера. Тринадцать лет пробыли в монастыре молоденькие баронессы Валуа. Когда одной было 15 лет, а другой уже 17, обе они уже смущали начальницу и многих монахинь-надзирательниц. Упрямство, своеволие, дикая решимость на все в этих юных существах были поистине поразительны.
– Что из них выйдет? Что с ними будет? – часто говорила с искренним участием начальница.
– Не сносить им обеим счастливо своих буйных голов! – говорили и все монахини-воспитательницы.
Наконец однажды случилось хотя и совершенно невероятное происшествие, но оно никого не удивило в монастыре. Все будто ожидали чего-либо подобного. Две синеокие и чернобровые красавицы девушки, почти девочки, исчезли из монастыря сразу, как бы волшебством, будто провалились сквозь землю. Их видели в полдень гуляющими вместе, как всегда обнявшись, по дорожке сада. Часа в два их хватились, но их нигде не было.
В тот же день, вследствие доклада начальницы самой сестре короля, или madame Royale, как ее звали, как покровительнице Лоншанского монастыря, вся полиция парижская, все стражники – все было поднято на ноги. Но двух беглянок, самовольно отлучившихся или насильственно похищенных, не было нигде. Никто их не видел, не заметил, не встретил, а между тем эти две девочки были слишком красивы, чтобы кто-либо из встречных не обратил на них особенного внимания. Это исчезновение произвело панику в монастыре. Все были убеждены, что девочки были убиты и зарыты в землю. И только год спустя начальницу монастыря уведомили, что две юные баронессы Валуа снова появились в своем родном городке Баре. Действительно, сестры тайно бежали из монастыря и до дерзости предприимчиво сумели вдвоем, почти без денег, проехать половину Франции, чтобы вернуться на родину.
В Баре сиротки, конечно, могли бы умереть с голоду, но, по счастью, нашлась какая-то сердобольная старушка, одинокая, которая приютила обеих прелестных голубок. Когда же проявилось их своенравие и своеволие, то старушка, уже кончавшая свои дни на земле, по странной прихоти судьбы еще больше полюбила их. Сердобольной старухе накануне смерти после спокойной и независимой жизни понравилось очутиться рабыней двух прелестных существ. Девушки помыкали благодетельницей, а она была счастлива этой тиранией.
Скоро в этом захолустье на сто верст кругом, если не более, знали двух молоденьких баронесс, восхищались их красотой, изумлялись их уму и бойкости. Старшая, Иоанна, была еще несколько степеннее и благоразумнее, но младшая, Луиза, была такова, что многие благоразумные люди начинали считать ее немножко тронутой разумом.
Не прошло двух лет, как в скромном уголке мира, в маленьком Баре, разыгралась драма, которая осталась в памяти у обитателей на весь век. Луиза полюбила молодого человека, сына зажиточных буржуа-торговцев. Несмотря на свое полуцарственное происхождение, которым обе девушки гордились, Луиза была не прочь выйти замуж за своего возлюбленного. Но несмотря на ее красоту, молодой человек не отвечал ей взаимностью. У него была привязанность к другой девушке. Родители его точно так же предпочитали тихую и смирную богобоязненную девушку из своей среды красивой, но чересчур своевольной баронессе.
И вот однажды в воскресенье на маленьком бульваре, на берегу речонки, где в праздники собиралось немноголюдное общество Бара, произошло страшное и невероятное для обитателей происшествие: Луиза одним ударом ножа, но метким, сильным, направленным прямо в сердце, положила мертвым на месте молодого человека, отринувшего ее любовь и собиравшегося через два дня идти под венец с другой. Оцепеневшая публика, окружив труп и убийцу, недвижно в трепете взирала на обоих. Но через несколько мгновений юная преступница, легко дрожащей рукой ранив себя тем же ножом и как бы не имея силы воли нанести себе смертельный удар, отшвырнула этот нож и бросилась опрометью к реке. Прыгнув с высокого берега, она исчезла в воде, и только через несколько часов труп ее был найден под колесами соседней мельницы. И страшно погибшую чету, которую не захотела соединить судьба в жизни на счастье, соединил другой обряд. Если не венчанье, то похороны их происходили в один день и час в одной и той же единственной в Баре церкви.
Иоанна была, конечно, поражена смертью сестры, но, однако, на похоронах ее во всеуслышание и к ужасу присутствующих сказала странные слова:
– А я окончу жизнь не так, как сестра, а гораздо хуже! – И красавица Иоанна не знала, что слова эти были пророческие.
Оставшись одинокою, девушка начала тосковать по сестре и решила, что ей непременно надо выйти замуж, как только очутится человек с такой же силой воли, с такой же энергией, какую она чувствовала в себе. Не прошло и года, и 18-летняя Иоанна была замужем за графом Ламотом, человеком со странной репутацией, без всяких средств к существованию и с сомнительным титулом.
Со дня замужества Иоанны Валуа прошло уже пять лет. И теперь красивая женщина, блестящая умом, красотой, сохранила от тех времен только красоту свою. Ей теперь по-прежнему казалось 18 лет. Зато в ином смысле она много изменилась. Пылкая, огневая девочка, смело бежавшая когда-то из ограды скучного монастыря, стала теперь еще решительнее, еще предприимчивее. Но тогда свойства и наклонности характера давали себя знать в мелочах обыденной жизни, теперь же у графини Ламот была деятельность особого рода, в которой нужно было много ловкости, много решимости и много мужества. Она играла в опасную игру, ставила на карту не только свое имя, но и свое существование. Она была в одно и то же время светская красавица, почти львица блестящего кружка, если не древней аристократии, то новой богатой знати, но в то же время и содержательница притона, начальница целой шайки подонков парижской черни. Прямо с бала какого-нибудь принца королевской крови она могла попасть на галеры и каторгу. А между тем эта женщина могла бы быть чем-нибудь иным, могла бы иметь деятельность, достойную ее предка, короля французского. Этот поворот в судьбе совершился благодаря дурному влиянию ее мужа, и, разумеется, много способствовала ее падению и нравственная распущенность общества той страшной эпохи.
Граф Ламот, авантюрист, развратник, картежник и шулер, сделал из жены то, чем она была теперь. За этим он и женился на красавице с пылким характером, чтобы сделать из нее орудие своих мошенничеств. Он привез ее в Париж, толкнул ее в круговорот распущенного и безнравственного донельзя общества, разжег в ней страсть ко всему, что видела она кругом себя, и как бы сказал: «Если хочешь пользоваться всем этим, то умей доставать себе золота и золота. Истинное счастье в руках того, у которого руки полны червонцами».
Разумеется, Ламот не был мужем красавицы в настоящем смысле этого слова. Он был товарищем ее и смотрел не только сквозь пальцы, но сам толкал ее на всякого рода похождения, лишь бы она приносила доход. И за несколько лет жизни в этом круговороте юная и энергичная Иоанна как бы закалилась на порок и зло.
– Честны могут быть только богатые! – не только говорила, но и искренно думала молодая женщина.
XXVI
Года через три после появления четы Ламотов в Париже уже не граф, а графиня Ламот была учителем, а муж – ее учеником. Сам Ламот был собственно мелкая натура с дрянным характером. Он был хитер на мелочи, как лиса, и труслив, как заяц, и потому у него не было той решимости и той настойчивости, какая выработалась у графини. Ежедневным помыслом самого Ламота было – где-нибудь перехватить горсть червонцев, чтобы расшвырять ее в тот же вечер, в ту же ночь. У Иоанны была более серьезная задача, так сказать, цель жизни. Она поклялась себе, что когда-нибудь одним ударом ловкого игрока приобретет себе огромные средства, целое состояние, с которым эмигрирует из Франции куда бы то ни было, хоть на край света. Ежедневные мелкие мошенничества ее шайки, ее теперешние сношения и со злодеями, и с воришками, с одной стороны, но с высокопоставленными людьми и со знатью – с другой, – все это было для нее лишь школой, лишь подготовительной игрой, отдельными ходами, как в шахматах. Но план игры был зрело обдуман, и, чувствуя в себе твердую волю довести игру до конца, она ждала только случая сделать «шах и мат» тем сокровищам или тому миллиону, который ей грезился во сне и наяву. Надо прибавить, что уже раза два или три она была близка к цели, но каждый раз капризная фортуна смеялась над ней. За несколько мгновений до последнего верного удара этот удар скрывался обстоятельствами, капризная судьба будто парировала этот последний удар. Но Иоанна не унывала. Новый план созревал в ее голове, умно, широко и глубоко обдуманный, как план целой кампании у полководца, – и она снова начинала новую игру.
В день бала у принца Субиза судьба снова насмеялась над ней. План ее наложить руку на состояние двух богатых испанок внезапно потерпел крушение.
В числе наперсников, которые шли за ней и группировались, как сателлиты вокруг планеты, были два светских франта: один – уже пожилой барон Рето де ла Вильет, а другой – юный мушкетер короля, кавалер Уазмон.
Вильет был собственно почти то же, что ее муж, с той только разницей, что он был несколько решительнее и смелее Ламота и при этом был гораздо образованнее его. Изъездив всю Европу вдоль и поперек, побывав в Константинополе, в Варшаве, в Мадриде и в Петербурге, Вильет говорил на всех европейских языках и знал даже, недурно произнося, несколько сотен польских и русских слов.
Юный, красивый мушкетер был просто славный и добрый малый, с незапятнанной еще репутацией, но и неспособный на какого-либо рода проступок, не только преступление. Встреча его с красивой графиней могла бы, конечно, в будущем погубить его, но пока он был только ее возлюбленным. Слушаясь, однако, ее советов, он из любви к ней мог не нынче завтра тоже решиться на что-нибудь дурное.
И вот именно Уазмона взяла графиня орудием для главного хода и главного удара вновь затеянной игры. Она хотела влюбить юную испанку в красивого мушкетера, женить его на ней и, ни минуты не сомневаясь в своем влиянии над ним, со временем провести обоих молодых людей и завладеть миллионами и сокровищами герцога Кампо д'Оливаса.
Но Иоанна обманулась и, как ребенок, ошиблась в расчете. Юная Эли, невинно обманывая тетку, обманула и графиню. Мушкетер служил для нее ширмами, за которыми скрывался истинный возлюбленный, которого она быстро полюбила и, наконец, до страсти обожала. Этот возлюбленный был русский по имени Норич, с правом называться графом Зарубовским, и даже, как мечтала Эли, если не по закону, то по происхождению он претендент на императорскую корону северного колосса, как звали Россию.
На балу Субиза юный Уазмон, танцуя с маркизой Эли, действительно сделал ей почти формальное предложение; но в ответ он услыхал только звонкий, неподдельно веселый смех и шутки. Избалованная девочка прямо и откровенно объяснила мушкетеру, что не только не любит его, никогда за него замуж не пойдет, но вскоре должна выйти замуж за другого, которого она любит и который почти жених ее.
Графиня Иоанна уехала с этого бала принца Субиза не только взволнованная, но даже злобная. Хорошенькое лицо ее изредка подергивалось какой-то судорогой от того гнева, который клокотал в ней. Она не легла спать, переоделась, дождалась рассвета и в одежде совершенно иной, необыденной, то есть в простом черном платье и под густым вуалем, пешком одна-одинешенька двинулась через весь Париж. Она почти бежала по узеньким улицам в самый грязный и опасный квартал предместья Св. Антония. Ей нужно было немедленно вытребовать своего страшного помощника Канара и с этим извергом, у которого руки бывали не раз в человеческой крови, обсудить серьезнейшее дело.
Канар явился в притон, или в бюро управления, госпожи Реми, общей начальницы их шайки, не раз спасавшей многих из них от рук тюремщиков и палача.
Замечательно было то, что вся шайка госпожи Реми не знала, что она графиня Ламот. Однако Роза и доктор бывали иногда на квартире графини и знали ее общественное положение. Канар только подозревал, что госпожа Реми не простая женщина. Однажды, стоя близ подъезда ратуши во время съезда на празднество ради того, чтобы в толпе стащить что-нибудь из кармана какого-нибудь зазевавшегося прохожего, Канар увидел даму, выходившую из блестящего экипажа с ливрейными лакеями, и легко признал синеокую и чернобровую хозяйку глухого тупика предместья Св. Антония.
«Так вот ты какова!» – подумал Канар и стал служить госпоже Реми еще усерднее.
На этот раз Канар стал отговариваться от поручения г-жи Реми.
– Ей-богу, дело не по мне, – говорил он. – Тут нужна хитрость, а я человек прямой, честный…
Иоанна невольно улыбнулась наивности изверга, говорившего о своей честности.
– Пустое! Вы все справите хорошо. Я за вас ручаюсь.
– Могу вас уверить, сударыня, и уже не в первый раз, что обманывать людей гораздо мудренее, чем резать, – глубокомысленно проговорил злодей.
Однако после долгого совещания г-жи Реми с Канаром и ее убедительных просьб это исчадие столицы отправилось по новому поручению. Он должен был разыскать место жительства и втереться в дружбу с прислугой одного иностранца, пребывавшего в Париже.
Канар пошел искать дом графа Калиостро.
В сумерки Иоанна была снова дома и ждала к себе своего возлюбленного.
Когда Уазмон вошел к графине в гостиную, она встретила его с лицом, почти искаженным гневом.
Красивый мушкетер, напротив, был добродушно-весел, и глаза его сияли ясно и беззаботно.
– Что с вами? – спросила графиня, не здороваясь и даже с удивлением меряя гостя сухим взглядом. – Разве есть что новое?
– Ничего… – отозвался Уазмон, тоже удивившись.
– Ничего… Это я знаю. Ровно ничего, – резко произнесла она. – Ноль! У вас – ноль! И мне от вас – ноль! И наконец, вы сами есть и будете всегда – ноль!
– Спасибо! – добродушно произнес Уазмон.
– Чему же вы улыбаетесь? Чему вы радуетесь?
– Я не радуюсь… Но что же делать?.. Не плакать же.
– Нет. Вы радуетесь!.. Отчего вы так спокойны? Подумаешь, какой счастливец! Как же? Глупая судьба знакомит его с красавицей девушкой, с девчонкой, у которой сокровища, миллионы, свое целое королевство поместьев, свой флот кораблей, как у иного монарха. У нее, одним словом, во владении целый сказочный клад… А он настолько глуп, что не умеет даже ее влюбить в себя.
Иоанна, пылая гневом, отошла и отвернулась.
– Что ж я могу сделать. Оказалось, что маркизу Эли д'Оливас гораздо мудренее в себя влюбить и взять, чем графиню Ламот! – колко отозвался мушкетер.
– Это дерзость… и глупая. Как и все, что вы говорите… Что вы намерены предпринять теперь?
– Ничего. Что же я могу?
– Как?! – воскликнула Иоанна. – Получив отказ от этой девчонки, преспокойно этим удовольствоваться! Вы с ума сходите!..
– Но что же я…
– Молчите… Молчи. Ты меня из всякого терпения выведешь! – воскликнула вне себя Иоанна. – Я готова броситься на тебя и дать тебе пощечину как глупцу и трусу.
И молодая женщина, с трудом сдерживая порыв злобы, который, казалось, душил ее, бросилась в кресло.
– Успокойся, ради Бога! – спокойно произнес Уазмон. – Я сделаю все, что ты прикажешь. Зачем же так сердиться? Ведь я не отказываюсь действовать. Приказывай, и я буду повиноваться.
– Еще бы… Я бы желала видеть, как ты не станешь повиноваться, если я прикажу.
И молодая женщина презрительно усмехнулась.
– Ты должен хоть зарезать ее, а взять! Она должна… то есть ее состояние должно принадлежать тебе. Понимаешь – должно! Зарежь эту девчонку, а добудь ее миллионы…
– Толку мало будет, если я с убийства начну… – улыбнулся мушкетер.
– Да… А я все-таки предвижу, что если не начать, то кончить придется так… Убийством! – раздражительно произнесла Иоанна.
– Кого же мы будем убивать… Норича разве?.. Ну это знаешь… того… Я думаю…
Но Иоанна резко прервала Уазмона вопросом:
– Ну, отвечай: что графиня Калиостро? Тоже ничего. Тоже толку нет.
– Напротив. Графиня Лоренца уже назначила мне свидание. Я с этим к тебе шел…
– Где?
– В улице Мольера, дом с белыми колонками, где трактир Золотой Луны.
– В трактире? Уединенное выбрали место… Что, она еще глупее тебя?
– Извини. В верхнем этаже этого дома живет старуха цыганка, гадальщица… Если за Лоренцой будут следить, то у нее будет оправдание. Я же уговорил ее быть в этом доме, а не в другом потому, что знаю эту гадалку давно и она выдаст нам Лоренцу с головой. Я уже распорядился, предупредил ее, занял две комнаты рядом, даже заплатил вперед. Одна для нас, другая для тебя…
Наступило молчание.
– Что ж. Вы все сердитесь, графиня, – снова заговорил мушкетер умышленно жалобным голосом. Подойдя к сидевшей Иоанне, он опустился перед ней на колени и стал целовать ее красивые руки.
– Если б я была мужчиной! Боже мой! Если б я была в мундире мушкетеров короля и вдобавок с твоим лицом и стала бы ухаживать за этой испанкой – у меня было бы теперь… Все!.. Вообще. Если б я была мужчиной!..
– Не жалейте, ваше сиятельство, что вы не мужчина, – улыбаясь, проговорил Уазмон, нагибаясь и продолжая целовать руки красавицы. – Слава Богу, что вы женщина. И красивая, изящная женщина…
– Это почему?
– Потому что, будучи мужчиной, вы уже давно были бы узником Бастилии.
Иоанна не ответила ни слова, но после долгой паузы выговорила, тихо кладя красивую руку на склоненную к ней голову Уазмона:
– Да. Я буду непременно и скоро, мой милый младенец, или швырять, или выкапывать золото и серебро…
– Ну, признаюсь… – наивно воскликнул мушкетер. – На этот раз я не понял ничего из твоих слов.
– Я буду, глупый… обладательницей громадного состояния или каторжницей в рудниках…
Часть вторая
I
Между предместьем Св. Антония и грозной Бастилией, почти за несколько шагов от зубчатой стены крепости, в улице Сен-Клод, не вполне еще застроенной домами, стоял довольно больших размеров дом, отделенный от улицы большим двором и от соседей – большим садом. Таких домов было немного в Париже. Он принадлежал очень богатому буржуа и сдавался внаймы иностранцам высокого полета.
Теперь он был занят чужеземцем, богатым и знатным, к тому же с именем, которое становилось знаменитым и громким. Это имя повторялось с известного рода если не почетом, то изумлением во всем Париже. Более всех интересовались чужеземцем, поселившимся в Париже, верхние слои общества и даже придворный круг. Этот чужеземец был уже знаменитостью во всей Европе, которую он исколесил вдоль и поперек.
Это был граф Александр Калиостро.
Всякий день на дворе его дома появлялись всякого рода экипажи, блестящие кареты сановников; за ними вслед приходил пешком серый люд и простонародье. Одинаково радушно принимал иностранец и принца крови, и чернорабочего. Днем дом бывал открыт, а ввечеру весело и ярко светился огнями. Многочисленная прислуга суетно шумела по дому, исполняя приказания хозяина, принимая гостей. Но изредка, за час или за два до полуночи, огни в доме гасли, окна задергивались толстыми, непроницаемыми занавесками, люди огулом изгонялись вон в соседний флигель. В большом доме оставался сам хозяин с женою, но вместе с ними оставались и его гости, не превышавшие никогда числа десяти или двенадцати за раз. Дом темнел, замирал, как бы, казалось, отходил ко сну, как бы спал глубоким сном, но экипажи гостей, ожидавшие на дворе, свидетельствовали, что в этом доме, среди его затишья и мрака, совершается что-то. И не только людям и прислуге, но и многим в Париже было известно, что в эти часы хозяин дома, маг и кудесник, входит в сообщение с самим сатаною.
После своей женитьбы Калиостро, не останавливаясь нигде более двух-трех месяцев, посетил все столицы и все крупнейшие города Европы, кроме Парижа. Сюда же, в этот центр умственной жизни Европы, он решил явиться, уже нашумев во всем цивилизованном мире. Молва о нем достигла Парижа прежде его появления. И вот теперь, уже целую зиму, колдун, маг, кудесник, наперсник сатаны, вызыватель мертвых, астролог и алхимик был среди парижан и сводил с ума самых благоразумных людей всех слоев общества. Кроме того, граф Калиостро был основатель и главный мастер, или председатель, новой масонской ложи, именовавшейся египетской, учрежденной с благословения великого Кофта.
Помимо репутации кудесника немало содействовали его успеху два других обстоятельства. Молодежь Парижа всех слоев общества бежала поглядеть на красавицу Лоренцу и влюбиться в нее, потому что это было в моде. В особенности нашумела графиня Лоренца после того, как в Париже состоялись из-за нее две дуэли, со смертельным исходом в обоих случаях. Причиной дуэли был спор о том, какие у нее глаза: синие или голубые? Пожилые дамы, даже высшего света, искали случая познакомиться с нею; первые являлись с визитами по другой причине. Все единогласно признавали, что Лоренца замечательная красавица, а в то же время всем было известно и все верили, что Лоренце 115 лет. Сохранила же она красоту свою целое столетие благодаря снадобью, изобретенному ее мужем. И десятки пожилых женщин-красавиц sans retour[4] бежали приобрести, ценою золота и унижения, это снадобье.
К графу шли всякий за своим. Всем было известно, что у него несметное богатство, так как он сам, при помощи алхимии, делает золото и бриллианты. Одни спешили на его великолепные обеды и ужины, другие – чтобы поправить при помощи алхимии свои пошатнувшиеся состояния, третьи, посмелее, – чтобы войти через него в сообщество с духами и мертвецами. Наконец, большая часть, и в особенности простой народ, шли не к алхимику, а к замечательному медику. Невероятные излечения графа-доктора, почти сверхъестественные, были известны во всем Париже. Молва о них опередила еще его появление, а теперь несколько случаев подтвердили эту молву. Вдобавок кудесник-доктор, возвращая едва живых и умирающих к жизни, делал это всегда даром. Ни разу ни с одного больного, богатого или бедного, не взял он ни единого гроша. Так говорила молва.
Многие благоразумные люди, и в высшем круге, и среди буржуазии, пожимали плечами, презрительно усмехались или даже сердились, когда при них говорили о кудеснике Калиостро. Они объясняли все очень просто. Графиня Лоренца была для них только развратная женщина, которою торговал ловко ее муж, сам же он был шарлатан и талантливый фокусник. Его чудесные исцеления совершались всегда в среде простонародья, а два опыта исцеления в высшем кругу не удались. Эти благоразумные люди доходили до того, что уверяли, но бездоказательно, что граф Калиостро нанимает людей-полубродяг из предместья Св. Антония и заставляет их разыгрывать роли больных, умирающих, а иногда даже мертвых, чтобы над ними показать свои чудеса.
Так или иначе, но пребывание графа-кудесника в Париже было темой всех разговоров. Всюду, на вечерах и сборищах, при его имени поднимался спор, доходивший иногда до ссор, и в результате получалась стоустая молва, бегавшая по всему Парижу, и результат неумолкаемой молвы – слава.
Вскоре после появления графа Калиостро в Париже к нему, конечно, явилась одна из первых, чтобы познакомиться, великосветская красавица с голубыми глазами и черными бровями. Кому же, как не графине Иоанне Ламот, и следовало бежать тотчас к волшебнику, делающему золото из простой смеси разных порошков и создающему тысячные бриллианты из простых углей.
Разумеется, Иоанна не была из числа тех наивных людей, которые верили, что граф – наперсник сатаны на земле, и если она бросилась поклониться ему, то совершенно по иным причинам: она видела в нем замечательную, неоцененную «своего поля ягоду». Но визит этот был неудачен. Калиостро принял графиню холодно, а когда она явилась во второй раз познакомиться с его женой, то не была принята. Графиня Лоренца сказалась больной.
Иоанна смутилась и готова была верить в ясновидение этого кудесника. Она не отчаивалась в успехе, но была все-таки озадачена.
– Неужели он прочел у меня на сердце, что я такое?! – смущенно говорила себе графиня Ламот – госпожа Реми. – Но я знаю, как победить тебя! – решила она.
II
В этом доме, который прежде ничем не отличался от других полузагадочных домов и на котором теперь лежала печать таинственности, было все-таки одно существо, которому в жизни выпала незавидная доля. Существом этим, совершенно несчастным, была молодая, красивая Лоренца.
Когда-то у отца в доме она была совершенно счастлива. Ей предстояла простая и мирная жизнь, но светлая будущность. Но однажды, работая у окна, она попала на глаза авантюристу-кудеснику и, сделавшись графиней Калиостро, поневоле начала совершенно не идущую к ее характеру и наклонностям жизнь, исполненную всяких треволнений. Лоренца была от природы кроткая и совершенно слабовольная женщина. В руках такого человека, как Калиостро, всякая женщина была бы воском, из которого он мог лепить все, что ему вздумается; тем более и тем легче сделалась рабою мужа впечатлительная, наивная и тихая Лоренца.
Жизнь ее, после замужества, прошла в постоянных странствованиях по всей Европе. Это была не жизнь, а вечное мытарство, вечный круговорот среди постоянно сменявшихся обстановок, обществ, лиц и национальностей. Не успевала наивная, отчасти даже и глупенькая Лоренца привыкнуть к обстановке в Лондоне, как муж ее, как бы сжигаемый страстью к перемене места, стремился в Германию, из Германии бежал в Испанию. Противодействовать мужу, убедить поселиться где-нибудь и жить на одном месте Лоренца, конечно, не могла. Она, как и все недалекие, но чувствительные женщины, слепо повиновалась мужу. Ей и на ум не приходило сначала, прав ли он во всем том, что делает сам и что требует от нее.
«Так, видно, следует», – думала она.
Однако изредка стало являться у нее чувство утомления от вечных странствований, иногда и чувство одиночества. Она тоскливо озиралась кругом себя, вспоминала свое девичество и со слезами на глазах думала о своем прошлом, о жизни в Риме, в родительском доме, в кругу родных и знакомых. Ей часто казалось, и за последнее время в особенности, что муж ее не любит, что она для Калиостро игрушка или того хуже – орудие для достижения всяких разнородных целей.
Несмотря на свою наивность, она чувствовала всю неприглядность того, что муж заставлял часто ее делать. Спрашивая себя, любит ли она мужа, Лоренца должна была мысленно отвечать себе, что если и любит, то не так, как могла бы любить другого человека, не так, как любила бы двоюродного брата, брак с которым расстроился после знакомства с Калиостро.
Все эти думы, тоскливое существование и душевное одиночество привели к тому, что Лоренца чувствовала теперь себя способной вдруг привязаться к кому-нибудь и искренно полюбить, даже настолько страстно, чтобы бросить вечно кочующего мужа. Эти тайные думы особенно преследовали Лоренцу всю последнюю зиму в Париже. Все более вдумываясь в свое положение, молодая женщина пришла к убеждению, что она, собственно, еще и не испытала того чувства, на которое была способна. Она еще не любила…
За это время однажды красивая римлянка, часто ходившая в церковь, встречала в соборе Парижской богоматери молодого человека в мундире мушкетеров короля. Он обратил на себя ее внимание тем, что с первой же встречи преследовал ее упорно от собора и до того дома, который они наняли. Несколько дней подряд всюду, куда ни отправлялась Лоренца, она встречала того же красивого мушкетера. Каким образом узнавал он время ее отлучек из дому и место, куда она должна была идти, она не могла понять. Это было своего рода колдовство.
А колдовали тут Иоанна и Канар, который был приятелем прислуги графа. Однако в продолжение довольно долгого времени, несмотря на то что мушкетер всячески старался заговорить с нею и познакомиться, Лоренца стыдливо избегала и уклонялась от него. Но всему на свете есть предел… Лоренца не устояла наконец и сдалась упорному ухаживателю. Уже раза три отвечала она на вопросы преследующего ее мушкетера, узнала, что он кавалер де Уазмон, дальний родственник герцогини Шеврез, и, следовательно, аристократ. Все это, вместе с изящной внешностью и молодостью нового страстного поклонника, подействовало на скучающую и недовольную жизнью красавицу.
Наконец, однажды встретив Лоренцу снова в соборе, Уазмон стал умолять ее согласиться на свидание в одной частной квартире его близкого, как говорил он, родственника и друга. Лоренца отказалась наотрез… Через день после этого бурная сцена с мужем, его грубости, незаслуженные упреки и оскорбительные подозрения настолько возмутили кроткую Лоренцу, что при следующей встрече с Уазмоном она согласилась быть в условленном месте на свидании.
Она наивно не догадывалась, что уже страстно любит этого Уазмона.
Через два дня Лоренца была в улице Мольера, в маленькой горнице, смущенная, но счастливая, наедине с возлюбленным. Среди их беседы, к ужасу несчастной, на пороге появилась красивая дама, бросилась к ней и, осыпая ее упреками, грозя мщением, оглаской, даже кинжалом, объявила ей, что она, чужеземка и бродяга, заплатит ей дорого за измену возлюбленного.
Уазмон хотел было взять Лоренцу под свою защиту, но незнакомка грозно крикнула на мушкетера, не позволила ему вымолвить ни слова и потребовала, чтобы он немедленно вышел из комнаты.
Перепуганная Лоренца в каком-то оцепенении осталась с глазу на глаз с изящной, но антипатичной женщиной. Красивое лицо незнакомки показалось ей настолько злым, что она считала эту соперницу способною на всякую месть и на всякое злодеяние.
– Слушайте меня, – резко, почти грозно сказала незнакомка, когда они остались одни. – Я – графиня Ламот. Я в родстве со всей высшей знатью Франции… многие в моей власти. Если я захочу, то завтра вы будете заключены или в Бастилию, или в тюрьму Пелажи, а туда сажают всех женщин дурного поведения. Я не спрашиваю у вас, кто вы, потому что я это знаю. Пока Уазмон всюду следил за вами и преследовал вас, я из ревности преследовала вас обоих. Он попался теперь, как мальчишка-школьник… С ним моя расправа будет особая, короткая, но с вами мы можем поквитаться не так легко. Слушайте меня внимательно: особенные обстоятельства, в которых я нахожусь теперь, спасают вас от моей мести. Мне нужно познакомиться непременно с вашим мужем графом Калиостро. Это я могла бы сделать и без вас, но мне этого мало. Мне надо подружиться с вашим мужем, иметь его полное доверие к себе, быть уверенной в его помощи относительно одного крайне важного дела. Заставить его как можно скорее сойтись со мною можете только вы, его жена, как самое близкое лицо… И вот чего я от вас требую. Или при ваших усилиях через десяток дней я буду близким человеком для вашего мужа, или я сделаю огласку. Если он сам не отправит вас в тюрьму Пелажи, то я добуду lettre de cachet[5], то есть собственноручный приказ короля, чтобы заточить вас. Вы знаете, что женщина, отсидевшая срок в тюрьме Пелажи, – женщина, потерянная для какого бы то ни было общества. Если вы согласны на мои условия, то само собой разумеется, что я ни слова не скажу графу о том, при каких обстоятельствах мы с вами познакомились. Согласны ли вы?
– Да, – пролепетала несчастная Лоренца, совершенно потерявшись.
– Ну вот и отлично! Я знала, предугадывала, что вы женщина с умом и сердцем, – произнесла графиня Ламот и внутренно рассмеялась своим словам. – Итак, госпожа Лоренца, через несколько дней мы поменяемся: вы мне уступите вашего мужа в полное мое распоряжение, а я с этой минуты, опережая вас, уступаю вам своего мальчугана. Для более подробных переговоров я покорнейше прошу вас сделать мне честь пожаловать ко мне в гости сегодня же вечером. Согласны ли вы?
– Да… – снова почти бессознательно повторила Лоренца.
– У меня дома я подробно скажу вам, как вы должны действовать, чтобы ваш муж скорее стал моим другом и помощником… Но успокойтесь… Вы слишком взволнованны. А тревожиться вам не из чего… Все обошлось и обойдется счастливо.
Последние слова графиня Ламот произнесла вежливо и любезно, с изящным жестом и, поднявшись, простилась с Лоренцой, говоря: «До свидания!»
Пораженная и взволнованная, Лоренца, как перепуганная птичка, выпорхнула из ужасной квартиры, в которую по легкомыслию попала. Уазмон не появился снова, и, выйдя одна, Лоренца почти бегом бросилась по направлению к дому. Дорогой она все-таки невольно радовалась тому, что так дешево отделалась. Познакомить эту графиню с мужем, всячески расхваливать ее и, принимая у себя, сблизить ее с ним для Лоренцы было, конечно, нетрудно. А что из этого произойдет – ей было безразлично. При мысли, что от этого будет вред или зло ее мужу, она как-то горько вздохнула и махнула рукой.
Конечно, в тот же вечер Лоренца отправилась, уже не пешком и не в черном платье, а в карете и в элегантном одеянии, в гости к новой знакомой. И в этот вечер обе сомнительные или просто самозваные графини обдумали план действий. Вернее сказать, графиня Ламот предложила свой хорошо обдуманный план обворожить скорее Калиостро, а очарованная ею Лоренца была на все согласна.
Так как роли предательницы мужа Лоренца никогда не играла, то именно игра ее увенчалась таким успехом, какого она не ожидала. Она горячо превозносила до небес графиню Ламот, и Иоанна была принята любезно. Все, что передала ему жена, все, что она будто бы знала и слышала о графине Ламот, то есть все, что сочинила сама Иоанна про себя, – все было принято на веру кудесником. На всякого мудреца довольно простоты.
Но Калиостро, надо, однако, сказать, не сразу поддался ловкой графине. Только через два-три дня после первого свидания он был вдруг побежден одной маленькой подробностью. Графиня Ламот, условливаясь со знаменитым волшебником, когда повидаться, назначила один вечер, но затем спохватилась и объявила, что она перепутала дни и в этот вечер не свободна, ибо должна быть на маленькой вечеринке. При этом Иоанна своей хорошенькой ручкой достала из кармана раздушенную записку на бледно-розовой бумажке с золотым обрезом. Заметив вскользь, что она сильно близорука, графиня попросила его прочесть, какое ей назначают время в этой записке. Калиостро взял розовенький листочек и, приблизив к свету, почувствовал вдруг, что сердце в нем встрепенулось. Четыре строчки красивого почерка были внизу подписаны: «Tout à vous Marie Antoinette, de France»[6].
Кудесник с европейской славой был в одно мгновение очарован изящной красавицей, бывающей запросто на интимных вечерах самой королевы.
Разумеется, не прошло недели, как граф Калиостро и хитрая Иоанна были такими друзьями, как если бы познакомились уже несколько лет назад. Иоанна давно поняла и знала, с кем она имеет дело. Ей не было нужды до того, может ли этот человек вызывать сатану, всех чертей и всяких мертвецов. Она ценила в этом кудеснике не его могущество над нечистой силой, а его власть над людьми, его дарования, применимые в этом мире простых смертных, а не на том свете, среди сверхъестественной обстановки и среди высших или таинственных существ. Иоанна с новым партнером в новой игре, ею затеянной, раскрыла наполовину свои карты, не опасаясь кудесника. Она объяснилась прямо и резко…
Граф Калиостро, со своей стороны восхищаясь умом, почти гениальностью, а в особенности предприимчивостью своего нового друга, поклялся в полной преданности, в полном сочувствии и всяческой готовности помогать ей по мере сил.
Делом, с которым явилась к нему Иоанна, был все тот же план ее относительно двух испанок Кампо д'Оливас. Она просила Калиостро познакомиться с испанками и пустить в ход все чары своей магии. Волшебник должен был помочь ей овладеть так или иначе старой грандессой, ее племянницей и их богатством.
– Против нас двоих ничто устоять не может! – сказала Иоанна смеясь. – Хотя у меня нет той славы мага, которой вы пользуетесь во всем мире, но могу вас уверить, что я тоже колдую.
– Верю… чувствую даже это, графиня! – воскликнул Калиостро полушутя и приложил руку к сердцу. – Здесь я чувствую это…
– Нет, граф, я не про такое колдовство говорю. Так умеют колдовать все красивые женщины. Я же обладаю даром иным… Когда вы ближе узнаете меня, то оцените. Быть может, мы с вами будем друзьями на всю нашу жизнь.
Калиостро молчал и вдруг вымолвил:
– Если бы вы могли, графиня, устроить мне аудиенцию у королевы, то я пошел бы за вас в огонь и в воду.
– Это очень легко сделать. Я спрошу у нее при первом свидании.
После этой беседы и этого обещания Калиостро был, конечно, в руках у хитрой и тонкой Иоанны.
Лоренца со своей стороны в награду за услугу, оказанную графине, могла постоянно видаться с Уазмоном в ее квартире. Иоанна не ревновала… Одновременно с тем госпожа Реми позволила наперснику Канару перестать дежурить в доме иностранца-графа, где он страшно скучал. Заниматься тем только, чтобы всякий день выведывать у людей, куда барыня их собирается идти, было для него делом совсем не по нраву. Он был полезен и нужен на иное, более серьезное.
III
За это же время к прославленному молвой кудеснику народ уже повалил толпой. Все шли к магу и к медику, и всякий со своим делом, иногда не имеющим ничего общего ни с алхимией, ни с медициной. Иной просил укротить строптивую жену, другой просил указать вора и найти пропавшее имущество, третий просто просил совета в тяжбе. Одним словом – всякий, озабоченный чем бы то ни было, шел к кудеснику со своей заботой. Калиостро принимал всех и отделывался, как мог, иногда самыми обыкновенными советами, но иногда поневоле приходилось отказывать в просьбе.
Наконец однажды к знаменитому магу явился проситель с очень странным, неподходящим делом, но Калиостро не только не отказал, а даже с радостью взялся услужить.
Явившийся был личный адъютант короля – барон д'Эгильон. Просьба барона, обратившегося к волшебнику, заключалась в том, чтобы побудить одного его дальнего родственника, Пралена, графа и пэра, возвратить ему хотя бы половину присвоенного им имущества после скоропостижно умершего отца д'Эгильона. Король Франции не желал вмешиваться в это дело, и д'Эгильон пришел бить челом к королю магии.
Калиостро согласился помочь. Подобное дело могло произвести много шума в Париже благодаря общественному положению д'Эгильона.
Калиостро тотчас же отправился к Пралену в качестве посредника. Разумеется, присвоивший себе чужое имущество граф Прален наотрез отказался исполнить просьбу д'Эгильона и ссылался на вполне законное завещание покойного.
– Завещание это незаконное. Все того мнения. Вам должна была бы принадлежать только половина имущества в уплату той суммы, которую вы ссудили покойному, но остальное все-таки должно перейти к сыну, – сказал Калиостро.
– Это неверно! – отвечал Прален.
– Завещание было подписано покойным в состоянии полусознания действительности! – продолжал Калиостро.
– Это ложь! Наглая ложь! – воскликнул Прален.
– Завещание помечено было к тому же задним числом.
– Как вы смеете мне это говорить… – вспыхнул пэр.
– Я сошлюсь как на свидетеля на такую личность, – холодно продолжал Калиостро, – которой вы поневоле не будете противоречить. Согласитесь ли вы возвратить половину имущества молодому человеку, если свидетельство одного лица произведет на вас известное впечатление и докажет вам при двух-трех лицах, что завещание почти подложное.
– Конечно!.. Пожалуй!.. – нехотя и уже раскаиваясь, тотчас же после согласия, отвечал граф Прален.
– В таком случае сделайте мне честь, пожалуйте ко мне завтра вечером. Я живу в улице Сен-Клод. Я вызову эту личность свидетелем, а затем вы поступите как вам будет угодно. Насиловать вашу волю никто не станет.
Прален сожалел, что согласился, но, с другой стороны, любопытство подстрекало его побывать в гостях у знаменитого колдуна.
И то, что произошло на другой день в доме улицы Сен-Клод, страшно нашумело в Париже и достигло даже до ушей самого короля Людовика XVI и Марии Антуанетты.
Поздно вечером в кабинете Калиостро сошлись только четыре приглашенных лица, в числе которых был узурпатор Прален, вместе с ним молодой д'Эгильон и принц крови Конти. Все четверо сидели у зажженного камина, где, колеблясь, падало и вновь поднималось и вилось красное пламя. Другого какого-либо освещения не было. Это немало удивило гостей. Конти, бывавший изредка у волшебника, был его горячий поклонник и немало содействовал своими рассказами о чудесах Калиостро его всё разраставшейся славе. Теперь, на этот раз, Калиостро умышленно пригласил принца, чтобы он мог разнести по всему Парижу весть о происшедшем в доме мага.
Принц Конти был более всех удивлен темноте в горнице и, будучи близок с хозяином, решился заметить это обстоятельство графу, приписывая отсутствие освещения простому недоразумению и рассеянности его.
– Свечей, – отозвался Калиостро, – не нужно. Нам достаточно и камина, чтобы видеть друг друга и разговаривать… И потом, для свидетеля, который явится, освещения никакого не должно быть. Этого «они» не любят!
– Кто? – спросил Прален, не понимая.
– Он!.. Тот, которого я пригласил свидетельствовать на вас, граф, в том, что вы неправильно поступили.
– Как его? Этого господина, – спросил д'Эгильон. – Я его знаю?
– Когда увидите, то узнаете. Но довольно… Приступим…
И Калиостро громко, особым голосом обратился к графу Пралену, снова спрашивая его, согласен ли он возвратить хотя бы половину имущества законному наследнику. Пэр отчасти нетерпеливо повторил свой отказ в более резкой и даже насмешливой форме.
– В таком случае вы упорно желаете, чтобы «он» свидетельствовал, что вы не правы, что завещание подложное?
– Я не позволяю вам так выражаться! – горячо воскликнул Прален.
– Стало быть, дело решено? Вызывать мне свидетеля?
– Пускай придет и говорит что хочет. Мне все равно… Вы не ставили мне условием, и я вовсе не обещал вам, что буду повиноваться неизвестному мне господину.
– Я не говорил вам, – строго вымолвил Калиостро, – что он вам неизвестен. Напротив, я скажу вам, что он хорошо известен всем вам. Этому молодому человеку он не только хорошо известен, но даже более того… Впрочем, зачем слова терять даром… Вы отказываетесь? Повторите ваш отказ.
– Отказываюсь. И даже сожалею, что приехал! – раздражительно выговорил Прален.
– Вы не хотите отдать половину имущества добровольно?
– Ах, черт побери… Это скучно… Никогда!
– Вы слышали? – странным голосом выговорил хозяин как бы себе самому, а не гостям.
– Да, слышали, – отозвались тихо все трое, удивленные голосом Калиостро.
– Молчание! Я всех прошу на мгновение соблюсти полное молчание и, если возможно, даже не шевелиться.
Наступила полная тишина. Хозяин, сидя в кресле, опустил голову на руки. Он оперся локтями в колени, приник лицом к раскрытым ладоням, как бы в глубокой думе. Гости безмолвно смотрели на него, не понимая, что происходит, не зная, что будет, но с трепетом чуя – по репутации этого человека, – что произойдет что-нибудь особенное.
Комната в полумраке, казалось, вздрагивала беззвучно и колыхалась в лучах тлевшего и замиравшего в камине огонька.
После паузы, среди полной тишины в комнате и во всем доме, Калиостро отнял руки от лица, встал и выпрямился во весь рост. Затем он закинул голову назад, поднял высоко правую руку перед собою со сжатыми пальцами, кроме указательного, как если б он указывал нечто в пространстве. В то же время левая рука его и ее указательный палец были опущены и как бы указывали на нечто, находящееся в двух шагах от него на полу…
Кудесник был обращен лицом к огромному шкафу с книгами, стоявшему в глубине кабинета, и все взоры гостей невольно обратились на этот угол.
– Явись и свидетельствуй!
В комнате пронесся легкий ветерок, как бы из отворенного окна; ковер и листы раскрытой книги на столе всколыхнулись, пламя в камине подскочило, блеснуло ярко и опять упало.
– Явись и свидетельствуй!
Снова порыв ветра, но сильный, как завывание бури в лесу, и за ним чуть слышный, болезненный и томительный стон…
– Явись и свидетельствуй!
Кудесник быстро опустил правую руку рядом с левой, и обе они теперь указывали вниз… Раздался стон в горнице, протяжный и за душу хватающий… В углу, у шкафа, появилось что-то или кто-то…
Это был не человек, а как бы тень или отражение человеческого образа в зеркале. Затем, через мгновение, весь облик высокого и худого старика с синевато-бледным лицом и закрытыми глазами ясно вырисовался и выдвинулся беззвучно из угла, как-то колыхаясь и колеблясь, как облако…
И как стенание, жалобное, тихое, едва слышное и будто далекое, где-то за пределами горницы раздались слова:
– Завещание подложно…
Кудесник опустил голову на грудь и поднял обе руки вверх… Облик мгновенно рассеялся и исчез.
В тот же миг раздался отчаянный крик молодого д'Эгильона… Уже несколько мгновений сидел он, цепенея и задыхаясь от ужаса, и наконец дико вскрикнул.
Он узнал своего покойного отца.
Принц Конти сидел недвижно, стараясь яснее разглядеть незнакомый ему человеческий образ, колыхавшийся в пространстве.
Зато граф Прален без единого звука повалился на пол со своего кресла и лежал замертво около ног Калиостро…
Не сразу очевидцы совершившегося пришли в себя… Калиостро недвижно молчал и стоял, закрыв лицо руками, как человек, который старался прийти в себя после вспышки гнева или горя… Молодой д'Эгильон рыдал, как ребенок; принц, теперь только понявший, что и кого он видел, тяжело дышал, оробев и оторопев всем телом. Прален, протянувшись на полу, валялся как труп…
– Свечей! – вскрикнул наконец Калиостро.
Дверь отворилась, и улыбающаяся кротко и мило красивая женщина в элегантном и прелестном пунцовом наряде появилась с двумя маленькими канделябрами в руках.
Это была Лоренца…
IV
Капрал королевского полка «Крават» после бала Субиза напрасно проволновался целую ночь у себя в спальне от слова возлюбленной «завтра».
Этот завтрашний день, теперь давно прошедший, не принес Алексею ничего. Он отправился около сумерек в дом маркизы Кампо д'Оливас со страшной тревогой на душе, но Эли появилась грустная, задумчивая, с заплаканными глазами и, улучив минуту, когда опекунша вышла в столовую, вымолвила тихо:
– Я ничего вам сказать не могу, Алек.
– Побойтесь Бога! Не мучайте меня! – воскликнул Алексей.
– Не могу. Не могу… Хоть пускай меня казнят сейчас. Но вы не горюйте и не жалейте, что мое последнее решительное слово запаздывает. Мое сердце борется с разумом, а я на него надеюсь. Понимаете? Я на него надеюсь!
– На что!.. На сердце ваше… Или на разум ваш? – дрогнувшим голосом произнес Алексей.
– Я надеюсь, и вы надейтесь, так как «оно» ваше!
– Оно?! – восторженно вымолвил Алексей. – Стало быть, это почти да!
– Почти да! – тихо отозвалась Эли, но грустно взглянула в глаза возлюбленного.
Затем она попросила Алексея не бывать у них до получения приглашения от нее или от опекунши.
Так прошло несколько дней для Алексея в томительном ожидании решения своей судьбы. Наконец однажды случилось роковое событие.
Однажды утром Алексей Норич, после смены с караула, выехал из дому верхом, чтобы, по обыкновению своему, прогуляться в окрестностях Парижа. Детство и юность, проведенные в маленьком городке, в живописной местности на берегах Рейна, заставили Алексея полюбить деревню и природу. Жизнь в мрачной улице душного города томила молодого человека.
Уезжая за город в поле, блуждая шагом, а иногда спешиваясь и ведя лошадь под уздцы, он проводил целые часы в каком-нибудь овраге, или среди муравы полей, или на опушке леса. И здесь, в уединении, мечтал он о своей возлюбленной, о своей злосчастной жизни, о роковом узле этой жизни. Мечты его носились часто и в неведомой ему Испании, из которой явилась возлюбленная его, и в далекой, снегом покрытой стране, с которой роковым образом связала его судьба.
На этот раз Алексей сократил свою прогулку. Он был взволнован и смущен, он ждал развязки, ждал, что гордиев узел его жизни или распутается от одного слова дорогой Эли, ее одним «да», или же придется разрубить этот узел, покончив свое существование. У Алексея был перстень, доставшийся по наследству от отца, в котором заключался магический сильнейший яд. Зачем носил этот перстень его отец – он часто удивлялся и прежде. Теперь же он был рад обладать ядом.
Когда Алексей, возвращаясь в город, уже въехал в свою улицу, то недалеко от ворот своих казарм он встретил, тоже верхом на великолепном коне, всадника в богатом костюме мушкетеров короля. Он узнал сразу Уазмона. Они ехали навстречу друг к другу. В нескольких шагах Уазмон презрительно глянул в лицо капрала полка «Cravatte» и, с пренебрежением махнув хлыстом, который он держал в руках, крикнул:
– Дорогу!
Так как Алексей сразу не сообразил, чего хочет Уазмон, то, не меняя направления лошади, приблизился и съехался с мушкетером.
– Вам говорят: дорогу! – вскрикнул Уазмон. – Я офицер королевского конвоя, а вы солдат простой кавалерии. Быть может, еще и наемный швейцарец или савойяр… Ну, правее!
Уазмон остановил среди дороги коня и ждал, чтобы Норич почтительно объехал его.
Молодой человек, смущенный неожиданностью, но вспыхнув от досады, не останавливаясь, двинулся мимо Уазмона.
В одно мгновение на глазах у нескольких человек солдат и офицеров у казарм произошла дикая стычка. Хлыст мушкетера, просвистав два раза по воздуху, сшиб с головы капрала шляпу и перерезал шею около уха. В то же мгновение Норич схватил оскорбителя за ворот, хотел стащить на землю с седла, но не удержался на лошади и, свалясь, повис на враге, держа его окостеневшими от гнева руками. Мушкетер, задыхаясь и чувствуя, как рвется его дорогой колет, хлестнул лошадь. Конь взвился на дыбы, но Алексей не выпустил из рук всадника. Уазмон, конечно, не усидел, и оба врага покатились на землю в пыльную дорогу. Подбежавшие на помощь товарищи тотчас заступились за Норича. Смущенный и потерявшийся Уазмон в одно мгновение обнажил шпагу, но десять таких же обнаженных шпаг явились у его лица.
– Стойте! – закричал Уазмон. – Я должен объяснить вам.
– Нечего тут объяснять! – вскрикнул вне себя Алексей. – Оставьте меня, товарищи. Я один справлюсь с ним.
В первый раз в жизни Алексей чувствовал, что разум помутился в нем, что он в это мгновение способен только на одно: немедленно умертвить своего оскорбителя или быть убитым.
– Вы оба сумасшедшие! Вы себя губите бессмысленно!
– Здесь улица… За это суд, как за убийство! – раздались голоса.
– Здесь нельзя… Стойте! – крикнул и Уазмон.
– Все равно мне… Становитесь! Защищайтесь! – кричал Алексей, нападая на врага. – Берегите улицу от патруля! – прибавил он, обращаясь к товарищам.
– Я не хочу быть осужден за убийство! – кричал Уазмон.
– Нет. Здесь. Сейчас… Защищайтесь!
Но в это мгновение двое из офицеров, товарищи Алексея, бросились между соперниками и ловкими ударами выбили у него шпагу из рук.
– Вы с ума сошли! – сказал один из них. – Разве можно драться у самых казарм. Вы хотите, чтобы ваш поединок сочли разбоем или злодеянием и чтобы тот, кто останется в живых, был посажен в крепость. Расходитесь немедленно! А нынче же вечером мы сойдемся в более удобном, условленном месте!
Норич стоял безмолвный и все еще задыхался от душившего его гнева. Уазмон, более спокойный, согласился и заявил, что вечером, в восемь часов, он будет со своим секундантом в Пре-о-Клерк, местности, где постоянно происходили все дуэли.
Когда Уазмон удалился, товарищи обступили своего сослуживца, которого все любили, и стали допытываться причины этого явного, умышленного оскорбления.
Алексей догадывался, даже знал наверное, что это было мщенье за предпочтенье, которое оказывает ему Эли, но, конечно, не объяснил этого товарищам.
Но сам Алексей ошибался тоже, думая, что злоба и ревность подняли на него руку кавалера Уазмона. Добродушный мушкетер, нисколько не влюбленный в Эли, пошел на все по приказанию графини Ламот.
Вернувшись домой, Алексей, разумеется, ни слова не сказал Лизе обо всем с ним случившемся. Наивная и недалекая Лиза не заметила даже изменившееся лицо брата, его волнение и страстно блестящий взгляд.
Он прошел быстро в свою горницу, заперся и, переглядев несколько бумаг, отложил их в сторону. Это были документы его и сестрицы, паспорта и бумага, по которой он получал ежемесячно в банкирской конторе деньги, приходившие из России.
Воображая, что Уазмон страстно влюблен в Эли, правдивый Алексей оправдывал то чувство, которое послужило поводом Уазмону к этой встрече и к нападению. Он нисколько не смущался идти на поединок, потому что недаром был студентом германского университета. Раз пятнадцать уже приходилось ему драться из-за пустяков, и он мастерски владел шпагой. Теперь приходилось в первый раз в жизни выступать на серьезный поединок, вступать в бой насмерть.
Алексей надеялся, что серьезность этого случая заставит его еще лучше воспользоваться своим искусством.
А между тем он был смущен. Его волновало совсем иное.
Как идти на смерть и, быть может, – все в воле Божьей – пасть от удара противника, когда в его ушах еще звучат слова Эли: «Подождите: мое сердце борется с разумом, а я на него надеюсь!»
«Надо отложить эту дуэль во что бы то ни стало! – думал он. – Ведь это почти признание. Согласие!..»
Если Эли скажет «нет», он готов умышленно подставить свою грудь под смертельный удар шпаги Уазмона. Но если скажет «да»… Тогда ему надо жить, и чувство полного счастья укрепит его руку, удвоит его искусство, удесятерит его силу и ловкость.
Продумав, однако, часа два, Алексей окончательно решил, что стыдно откладывать поединок и поневоле надо идти на бой, не зная, как решена его участь в сердце возлюбленной.
И он тотчас же послал за своим сослуживцем, лейтенантом того же полка, с которым был особенно дружен и близок и которого даже Лиза предпочитала всем остальным товарищам брата.
V
Были уже сумерки, когда товарищ и друг явился к Алексею.
Лейтенант Турнефор уже знал, что должен быть секундантом у друга. Он владел шпагой настолько плохо, что избегал всякой ссоры и ни разу не участвовал ни в одной дуэли ни в роли действующего лица, ни в качестве секунданта.
Молодой человек лет 22 был теперь настолько взволнован, что Алексей даже удивился и приписал эту тревогу друга новости его положения.
Турнефор просидел несколько мгновений молча, но вдруг отчаянным голосом выговорил, будто крикнул:
– Норич… Если ты будешь убит – я желаю жениться на твоей сестре. Я люблю ее.
Алексей изумленно поглядел на друга.
– Пойдет она за меня?..
– Я думаю… Я даже… Даже уверен, – произнес Алексей как бы бессознательно, настолько он был поражен этим неожиданным открытием.
– А ты согласен?..
Алексей вместо ответа, как бы придя в себя, вскочил и бросился обнимать друга…
– Но если ты останешься жив, то этого теперь не будет. И ты обяжись клятвой ничего не говорить сестре до поры до времени. Дай слово.
– Почему же, если я буду жив, то…
– Не спрашивай и дай слово молчать.
– Даю.
Едва успел Алексей выговорить это слово, как в горницу вошла Лиза и подала брату письмо, запечатанное зеленой восковой печатью большого размера с затейливо пестрым гербом.
Алексей сразу догадался, откуда это послание, и, задыхаясь от волнения, разломил печать и, вынув исписанный кругом листок бумаги, стал бегло читать… Прочтя две страницы, он выронил письмо из рук и зашатался.
Сестра вскрикнула, бросилась к нему, но помощь Турнефора, следившего за другом, уже подоспела прежде молодой девушки.
Алексей, ухватившись за товарища, удержался на ногах и тяжело опустился на придвинутый сестрой стул.
– Вот этот удар хуже, ужаснее удара шпаги! – прошептал Алексей.
Письмо было от тетки-опекунши и было, стало быть, ответом, обещанным Алексею его возлюбленной.
Тетка-опекунша не только в вежливых, но задушевных выражениях объясняла молодому человеку, что ее питомица созналась ей в своем чувстве к нему и в том, что подала ему надежду, но что, в качестве опекунши, сама она не может согласиться на его брак с племянницей до тех пор, пока его общественное положение не будет выяснено и упрочено. Она уверяла Алексея в своих добрых чувствах к нему, но прибавляла, извиняясь за искренность, что сомневается в его происхождении и в его правах.
Овладев собою, Алексей снова взял письмо и дочитал его. После первого чтения он решил добровольно идти на смерть и в поединке с Уазмоном даже не защищаться. Теперь же, после второго чтения, напротив, он твердо решил во что бы то ни стало не оставлять в живых своего врага.
Маркиза в конце письма намекала Норичу о своем желании, чтобы он прекратил свои посещения, оставил мысль о браке с ее племянницей, так как у нее есть партия: молодой человек, ей глубоко преданный и любящий ее. Опекунша намекала на то, что Эли на предложение руки этого претендента отказала ему сгоряча, но, разлученная с Алексеем, по всей вероятности, согласится на этот брак.
Алексей попросил сестру выйти и оставить его наедине с другом.
– Вот письмо… прочти его, – сказал Алексей, когда они остались одни.
Турнефор быстро пробежал письмо, вздохнул и молчал.
– Этот претендент, – произнес он наконец, – конечно, кавалер Уазмон, оскорбивший тебя?
– Разумеется.
– Ну, ты его убьешь сегодня.
– Разумеется, – злобно рассмеявшись, сказал Алексей. – Я тебе говорил сто раз, наконец, ты сам видел, как я владею шпагой… Но вот в чем дело, друг мой. Уазмона я убью, но завтра в эту пору буду тоже мертв. Следовательно, ты должен взять теперь же все эти бумаги и жениться на Лизе.
– Что это значит?
– Объяснять я тебе не стану. Говорю только одно: Уазмон будет убит сегодня, а завтра в ту же пору и я буду там, где он. В тех неведомых пределах, где, поверь, будет мне лучше, чем на этой планете… Довольно жить. Я измучился, я устал так, как если бы прожил сто лет.
– Ты решаешься на самоубийство?.. Это безумие!..
– Может быть… Прекратим этот разговор.
– Но неужели нет другого исхода?.. Никакого?! – воскликнул Турнефор.
Алексей пожал плечами и выговорил:
– Есть… Есть один человек, который бы мог помочь мне, спасти меня. От его магической помощи все изменилось бы; маркиза Ангустиас отвечала бы согласием… Вообще все… все изменилось бы!..
– Так обратись за этой помощью… Кто он?.. Где?.. Здесь в Париже?.. Хочешь, я помогу тебе?..
– Нет, ничего не надо… Я даже назвать его тебе не могу… Да и не стоит того!..
– Но ты обращался за помощью к этому человеку?
– Конечно. Даже не раз… И еще недавно я снова обращался к нему письменно, но он избалован ухаживанием всего Парижа.
– И он отказал тебе?
– Он отвечал молчанием. Это все равно тот же отказ… Однако нам пора собираться… до назначенного часа поединка остается лишь время дойти до места.
Алексей помолчал, глубоко вздохнул и выговорил, глядя на лежащее на столе письмо маркизы:
– Да. Если бы ты знала, старая дева, что это письмо погубит твоего фаворита. Не объясни ты в письме перед самым поединком, за кого ты прочишь Эли, я бы дал себя убить Уазмону. Это была бы все-таки христианская смерть. Но теперь, зная, кто будет мужем Эли после моей смерти, я не могу оставить его в живых… И вот ты сама, старая, глупая кастильянка, убила своего любимца излишней болтовней.
Друзья оделись и, накинув плащи, собрались выходить из дому.
– А с сестрой не простишься? – шепнул Турнефор.
– Зачем?
– Как, друг мой, зачем. Мало ли что может быть. Все в воле Божьей. Лучше пойди пожми ей руку… Перед такой роковой минутой жизни она, быть может, принесет тебе счастье.
Алексей стоял в нерешимости, но вдруг шагнул к порогу и выговорил:
– Нет, не могу… боюсь… Она заметит во мне волнение и проведет целый вечер в тревоге. Из-за чего ее беспокоить! Ведь я знаю, что все обойдется благополучно, то есть благополучно для меня, – прибавил он с раздражительным смехом.
Турнефор подавил вздох и выговорил тихо:
– Ну так пойдем.
И оба офицера, закутавшись плотно в плащи, молча двинулись пешком по направлению к месту, назначенному для поединка.
На дворе уже смерклось; ночная тень быстро набегала на землю. Когда друзья приближались к Пре-о-Клерк, было уже совершенно темно.
– Да… досадно! – проворчал как бы про себя Алексей, – дрался не раз, но всегда днем; ночью никогда не приходилось… Глупый это у вас обычай!.. Лучше драться дальше от всяких полицейских, но при дневном свете. А нашему брату, близорукому, оно совсем не с руки.
Турнефор остановился вдруг как вкопанный и выговорил:
– Конечно, это безумие!.. Я забыл, что ты близорук… Надо было настоять на поединке днем… Что ж теперь делать? Надо отложить до завтра.
– Для того чтобы Уазмон прождал меня часа два и решил, что я струсил… Никогда!
– Но ведь завтра ты явишься, ты докажешь, что не струсил…
– Нет, пустое! Теперь поздно. Надо было раньше об этом думать… Идем…
Через несколько шагов среди темноты им навстречу попались две личности в плащах и окликнули их. Они отвечали.
Это был Уазмон с секундантом своим, бароном Вильетом. Поединщики выбрали место и стали…
«Неужели темнота по-своему решит всю судьбу Эли?» – думал Алексей, тревожно обнажая шпагу.
VI
В самый разгар своей деятельности, на вершине известности и даже славы, Калиостро, окруженный молодежью, часто, однако, признавался жене, что во всех этих людях он не видит ни одного человека, который бы мог быть его помощником и наперсником, каким он сам был когда-то у Альтотаса. А между тем наперсник этот был необходим великому магу. И он давно мечтал об этом, а теперь в Париже начал он уже как бы искать такого ученика и помощника преимущественно среди иностранцев.
Но Калиостро, мечтавший иметь около себя такую личность, про которую он мог бы со временем сказать: alter ego[7], не встречал положительно ни одной подходящей, даровитой и смелой натуры.
Однажды вечером ему попалось в руки письмо, которое он хотел тотчас, по обычаю своему, разорвать, почти не читая, так как оно было, очевидно, от одного из его незнакомых поклонников. Масса таких лиц постоянно обращалась к нему с просьбами всякого рода. Но что-то остановило его руку…
Он прочел подпись. Четко написанное имя привлекло его внимание вследствие своей загадочности – «Граф Зарубовский или Норич». Кудесник пробежал письмо, потом прочел его второй раз, пропуская слова, которые не мог разобрать. Затем прочел в третий раз, разобрал все письмо, написанное неправильным французским языком, и задумался.
Эти обе фамилии, и Зарубовский, и Норич, были не французские, а северные. Это, стало быть, пишет иностранец. Наконец, то, что он пишет, в высшей степени оригинально и интересно. Калиостро посмотрел на число и день и вымолвил вслух:
– Не поздно ли? Пожалуй, поздно… А если он лжет? Хвастает… Вряд ли!.. Непохоже.
Автор письма этого говорил, что он молодой человек, происхождением с севера, что жизнь его, вследствие несчастно сложившихся обстоятельств, ему в тягость, но что он может быть спасен всемогуществом такого загадочного человека, как граф Калиостро. Он уже писал два раза, теперь пишет в третий раз, но уже не просит ничего, а только в последний раз заявляет, что так как помимо графа Калиостро никто помочь ему в его горьком положении не может, то остается только одно – покончить с собой.
«Я знаю наверно, – кончил он письмо, – что эти строки на вас тоже не подействуют. Я слышал, что вы получаете сотни писем в день, бросаете их, почти не читая. Следовательно – это письмо вы уничтожите; но тем не менее я пишу его. Я исполняю как будто какой-то долг совести перед самим собою.
Через несколько дней после того, что вы прочтете его и бросите, меня уж не будет на свете. Если вы не верите, то, имея мой адрес, вы можете узнать, что накануне вашего появления или появления вашего посланного молодой человек, капрал, по фамилии Норич, кончил самоубийством. А между тем, граф, если бы вы пожелали, если бы вы меня приняли хотя бы на полчаса, когда я писал и просил вас принять меня, я бы мог остаться жить, быть счастливым, обладать огромным состоянием, которым поделился бы охотно с вами.
Когда-то гладиаторы, отправляясь на бой, говорили императорам: “Ave Caesar, morituri te salutant!”[8] Я скажу, обращаясь к вам, то же самое: Умирающий посылает вам, великий маг и чародей, свой предсмертный поклон”».
Вот именно такого рода письмо было подписано двойною фамилией: граф Зарубовский, или Норич.
Калиостро подумал над этим письмом, повертел его в руках, потом, как бы под влиянием вдруг принятого решения, он сунул письмо в карман.
«Вот был бы, может быть, для меня прекрасный помощник! – подумал граф. – Я знаю его тайну! И тут целое состояние!»
Через несколько минут он был уже в экипаже и по темным улицам Парижа ехал в дальний, глухой квартал. Данный ему адрес указывал местность недалеко от знаменитой Бастилии и, стало быть, близко и от его квартиры.
В темном и маленьком переулке экипаж Калиостро остановился около казармы. Он вышел из кареты и хотел спросить у кого-нибудь, который здесь дом капрала Норича, но остановился в некотором недоумении или, вернее сказать, сразу догадавшись, где тот дом, который он отыскивает.
Весь переулок был темен, только в одном маленьком домике ярко светились огни и шевелились в какой-то тревоге человеческие фигуры.
«Это, наверно, его дом, – подумал Калиостро. – Но, стало быть, он исполнил свое намерение. Входить или нет?» – задал он себе вопрос.
В одну минуту он собрался было садиться в экипаж и уезжать, но вдруг ему пришла ребяческая фантазия поглядеть внутрь этого дома через низенькие окна.
Калиостро приблизился к домику и глянул в крайнее окно. За столом сидела чрезвычайно красивая молодая девушка и нервно, быстро писала. Все лицо ее было в слезах.
В горницу входили и выходили беспрестанно несколько человек: одна очень молоденькая девушка, пожилой полненький господин, молодой офицер и еще две горничные.
«Вероятно, покончил с собой и лежит в гробу», – подумал кудесник и, вернувшись к карете, велел ехать домой. Ему было жаль этого погибшего незнакомца. А между тем девушка, поразившая Калиостро своей красивой головкой, которую он видел у стола за письмом и всю в слезах, была, конечно, не кто иная, как пылкая и прихотливая Эли д'Оливас.
Когда она узнала об ужасной участи своего возлюбленного, она лишилась чувств и упала, как мертвая, на пол. Ей сказали, что раненый Алексей при последнем издыхании или, вернее, уже умер. Придя в себя, Эли не зарыдала, ни слезинки не было в ее глазах. Она только была бледна и неподвижна, как мраморная статуя. Несколько минут молча не спускала она глаз с тетки, которая хлопотала около нее и умоляла успокоиться, раздеться, лечь в постель и напиться какого-то домашнего зелья в ожидании доктора.
Эли согласилась, сказала «да!», но прибавила решительно: «С условием, если вы тотчас сами поедете за этим доктором».
Ангустиас беспрекословно оделась и выехала из дому, а вслед за нею Эли разогнала всех людей по своим поручениям в городе. Дом опустел…
Тогда девушка судорожными движениями оделась тоже и быстро вышла из дому, едва сознавая, что она делает. На улице она наняла первый попавшийся ей фиакр и приказала скакать к казармам полка «Крават». Червонец, брошенный вознице в руку, так на него подействовал, что он погнал лошадь во весь опор через весь Париж и скоро был в Марэ.
Эли не знала, где квартира Алексея, но первый же встречный солдат на ее вопрос указал ей домик капрала-чужеземца, назвав его le caporal Noréche…
Войдя в квартиру, Эли бросилась на шею к Лизе, и обе зарыдали обнимаясь…
– Надежды нет? – спросила Эли.
– Не знаю… Нет… Если Господь сжалится… Не знаем… Вот доктор…
– Ça va mal, mes enfants…[9] Дурно… Но не надо отчаиваться…
Доктор был убежден, что раненный опасно и глубоко в шею молодой человек скончается к ночи, но не решился сказать этого двум таким юным существам. Для очистки совести и чтобы прекратить глухие рыдания девушек, доктор стал объяснять обеим, как ухаживать за раненым и делать бинты и наблюдать за сделанной им перевязкой.
Эли стала просить позволения тотчас войти к больному, но доктор, отчасти узнав, а отчасти догадавшись, какое важное значение имела для раненого эта явившаяся вдруг красавица, решительно воспротивился ее желанию.
– Это свидание с вами сейчас может его убить на месте! – сказал он. – От волнения и тревоги хлынет опять кровь, и никакие перевязки не спасут! – восклицал он. – Если вы хотите убить его – идите. Завтра утром я вас допущу. А эту ночь помогайте здесь, оставьте сестру одну у постели.
Эли поневоле согласилась, но слова доктора «завтра утром» впервые заставили девушку одуматься, как бы сознательно оглянуться и спросить себя: «Что она намерена делать?»
«Конечно, оставаться здесь около него с его сестрой на всю ночь!» – решила она мысленно и бесповоротно.
Она села к столу, написала несколько строк и тотчас послала эту записку к своей тетке. Она объяснила свой поступок и свое намерение остаться в квартире возлюбленного до его выздоровления или его смерти.
Эли писала опекунше в таких энергичных выражениях и слова ее дышали такой решимостью отчаяния, что тетке нельзя было и думать явиться сюда, чтобы пробовать силой увезти ее домой.
«Клянусь памятью моей матери, что я зарежусь на пороге этого дома, если меня захотят силой увезти отсюда! – кончала она свою записку и, уже собравшись запечатать, прибавила еще дрожащей рукой: – Lo juro! Si quieres tamarme. Ven!»[10]
VII
В те же мгновения Калиостро вернулся домой и, войдя к себе, не снимал плаща и шляпы.
– Что за странная фантазия! – произнес он наконец. – Однако если меня что-то толкает туда, к трупу незнакомого мне юного чужеземца, погибшего отчасти из-за меня, то отчего же не исполнить каприза.
Эти слова вырвались у кудесника вследствие странного желания видеть лицо человека, которого он считал застрелившимся в этот день.
– А если он жив еще?.. Девушка была в слезах, но ведь она могла плакать не по мертвому, а по умирающему. Если я опоздал, то являться к нему совестно. А видеть мне его хочется. Решено! Не поеду опять.
Однако через минуту Калиостро вышел вновь и приказал удивленному кучеру ехать опять туда же, к домику в Марэ.
На этот раз Калиостро подъехал к самому крыльцу дома, вышел и хотел постучать в дверь, когда увидел, что она была растворена. Он вошел и невольно осмотрелся, чтобы убедиться, нет ли в прихожей гробовой крышки или чего-либо, свидетельствующего о присутствии покойника.
Тихие голоса слышались из соседней комнаты, куда дверь была затворена.
Калиостро сбросил плащ, снял шляпу и, отворив дверь, вошел с той уверенностью в поступи и взгляде, которая иногда выручала его. Когда он появился на пороге горницы, две молодые девушки, пожилая служанка и офицер сразу прекратили свой сдержанный шепот и с живостью обернулись к нему. Девушка помоложе бросилась к нему навстречу со словами:
– Вы доктор Дюкро? Хирург королевский?
Калиостро запнулся на секунду и тотчас же произнес:
– Да.
– Я, лейтенант Турнефор, за вами посылал, – выговорил, подходя, офицер. – Помогите. Вам передал приглашение наш командир?
– Да, – с той же уверенностью отвечал Калиостро. – Он жив, стало быть?
– Идите. Скорее! – воскликнула Лиза.
– В каком положении находится он? В сознании?
– Плохо… Очень плохо… Но жив, положительно жив, – прибавила пожилая служанка, приблизясь к Калиостро.
– Где он себя ранил? Куда направил оружие? – спросил Калиостро. – Верно, в сердце или в голову?
Обе девушки, а вместе с ними и Турнефор с изумлением взглянули в лицо Калиостро.
– Мы вас не понимаем, господин доктор, – произнес Турнефор. – Про что вы говорите?
– Что же с ним, если он не ранен? Я думал, что он… – запинаясь, выговорил Калиостро, – сам хотел покончить с собой. Ведь это господин Норич?
– Да, Норич! – воскликнула Лиза. – Мой брат. Но он преступно был ранен злодеем на улице… Грабителем…
«Ничего не понимаю», – подумал Калиостро и прибавил:
– Так идемте скорей!
И, сопутствуемый Лизой, которая указала ему дверь и пропустила его вперед, кудесник, сказавшийся королевским хирургом Дюкро, с любопытством прошел в другую комнату, маленькую, полуосвещенную лампадой.
На кровати в углу Калиостро увидел лежащего на спине молодого человека очень красивой наружности, поразившей его тотчас правильностью и благородством черт лица. Он тяжело дышал; обильный пот струился по лбу и смочил волосы на голове; глаза его постоянно открывались и закрывались. Каждый раз, что поднимались веки, лихорадочно блестящий взгляд черных глаз ярко вспыхивал в полумраке комнаты. Лицо слегка подергивала судорога.
Калиостро приблизился и пристально стал смотреть в лицо лежащего. Тот слегка простонал. Искусный медик пригляделся зорко и выговорил удивленно:
– Что с вами? Тут недоразумение!.. Вы не ранены. Говорите мне скорее, что вы с собой сделали? Вы ранены?
– Да…
– Но ведь вместе с тем вы и отравлены.
– Нет! – чуть слышно повторил Алексей.
– Каким ядом? Я вижу… Знаю наверно. Говорите: что вы приняли?
– Оставьте меня! – глухо произнес Алексей. – Кто вы? Уйдите. Мне не надо… помощи.
Лиза страшно вскрикнула и упала на колени около кровати.
– Нет, я не оставлю! – воскликнул Калиостро.
– Он доктор. Он поможет тебе. Он спасет тебя. Скажи, Бога ради! – рыдала Лиза.
И, стоя на коленях около кровати брата, она схватила повисшую руку его и в порыве горя и отчаяния тянула его за руку и повторяла:
– Скажи, Бога ради!.. Говори!.. Зачем ты отравился?!
– Не хочу… оставьте меня! – отвечал глухо Алексей.
– Послушайте, господин Норич! Мне вы обязаны сказать, – заговорил Калиостро горячо. – Вы обязаны назвать яд, который вы приняли, потому что я спасу вас от смерти и от того, что погубило вас. Я пришел спасти вас двояко. Есть в городе человек, к которому вы обращались с просьбой спасти вас, в могущество которого вы верите?
– Да, есть, – произнес через силу Алексей.
– Назовите его.
– Зачем. Я умираю…
– Он перед вами, молодой человек. Я – Калиостро.
Лежащий устремил глаза на вновь прибывшего незнакомца; его мертвенно бледное лицо покрылось едва заметным румянцем; рука поднялась судорожным движением.
– Правда ли? Вы ли Калиостро?
– Правда. Клянусь вам и докажу. Назовите мне яд – и вы будете спасены. А когда вы будете на ногах, мы поговорим о вашем деле, о вашей судьбе.
– Не верю. Да и поздно. Мне не надо жить… – прокричал, почти простонал Алексей и отвернулся лицом к стене.
– Эли здесь… Милый мой. Эли здесь, у нас. Ты должен жить и быть счастливым! – воскликнула Лиза.
Алексей двинулся всем корпусом и глядел на сестру.
Калиостро между тем, быстрым движением достав из кармана сложенный лист бумаги, поднес его к глазам лежащего.
– Вот ваше последнее письмо. Я Калиостро?
– Эли здесь, у нас, любит тебя… – повторяла Лиза.
– Да. Верю… Слава Богу!..
Он схватил Калиостро обеими руками за руку, почти впился в нее и воскликнул горячо:
– Спасайте меня скорей!.. Если она ко мне… пришла, я могу жить, я должен жить!.. Спасайте…
– Какой яд вы приняли?
– Aqua toffana…
Калиостро сделал движение, которое невольно вырвалось у него.
– Это ужасно! – прошептал он. – Где вы его достали?
– Он был у меня уже давно. В перстне отца…
– Это страшный яд? – вскрикнула Лиза.
– Нет, сударыня, страшно не то, страшно другое. То, что такого яда на свете нет. Этим именем называют соединение ядов совершенно различных. Но все равно я испробую свои силы, может быть, мне и удастся еще спасти вас.
И тотчас началась в домике суетня… Двое из находившихся здесь – лейтенант Турнефор и пожилая горничная – немедленно отправились по поручению Калиостро в аптеку и в лавки.
До глубокой ночи провел Калиостро в этом домике, ухаживая за Алексеем. Уже два раза давал больному противоядие собственного состава, и, вызвав припадки, которые облегчили состояние отравленного, он снова внимательно освидетельствовал его и, качая головой, вымолвил:
– Что же это? И рана… И отрава… Ну да Бог милостив. Главное, Норич, старайтесь немножко уснуть, восстановить свои силы. Я поеду домой и завтра же рано утром буду у вас снова. Я могу сказать вам почти наверное, что рана ваша пустая. Я боюсь только последствий яда в желудке… Засните. Быть может, через час вы будете уже вне опасности.
На другое утро пациент, благодаря молодости, крепкому сложению и цветущему здоровью, уже пересилил болезнь. Когда Калиостро явился в тот же домик квартала Марэ, то и Лиза, и красивая молодая девушка встретили его с таким видом, по которому Калиостро сразу догадался, что все даже лучше, чем он ожидал.
– Совсем здоров… Спасен! Вы благодетель наш! – произнесла молодая девушка страстно.
Действительно, больной лежал бледный, слабый, но и улыбающийся.
– Я чувствую, граф, – произнес он на вопрос Калиостро, – что я вне опасности. Мне нужно только спокойствие, чтобы стать таким же здоровым, как я был. Этим я обязан вам и вот ее присутствию. Это моя невеста.
– Маркиза Кампо д'Оливас! – отрекомендовалась красавица, немного смущаясь и краснея.
Калиостро при этом имени остолбенел и с крайним изумлением глядел на девушку, ни слова не говоря…
Маг тотчас понял, что присутствие юной маркизы в доме больного, конечно, самовольное, и, конечно, последствием этого поступка будет соблазн всего общества. Вместе с тем поступок девушки разрушал планы хитрой и умной графини Ламот.
«Надо скорее обо всем известить ее, и особенно об этом казусе», – подумал Калиостро.
VIII
Графиня Иоанна Ламот металась из угла в угол своей изящно отделанной квартиры, как тигрица, нежданно запертая в клетку. Лицо ее, бледное как полотно, было в слезах, руки дрожали. Посторонний мог бы подумать, что женщина поражена несчастьем, а между тем у бессердечной, но страстной женщины было не горе. На лице ее были слезы гнева; руки дрожали от злобы.
Роковые случайности разрушали беспощадно то здание, которое она строила. Капризная и слепая фортуна будто боролась с ней, насмехалась над ней.
Уазмон, дравшийся несколько раз на дуэлях и выходивший всегда победителем, теперь был убит, как мальчишка… И кем же? Каким-то пройдохой.
Иоанна была уверена, что этот чужеземец неизвестного и сомнительного происхождения даже шпаги в руках держать не умеет; оказалось, по рассказу секунданта убитого, то есть ее друга Вильета, что этот уроженец севера дрался, как лев, по силе ударов, дрался, как черт, по искусству.
– Не только один Уазмон, – объяснил Вильет, – но если бы трех Уазмонов поставить против этого дьявола, он бы… всех трех убил. Захоти он, то был бы первым поединщиком всего Парижа.
Весть о смерти приятеля, даже возлюбленного, поразила, но не огорчила графиню Ламот. Он для нее был мальчишкой, капризом, а отчасти лишь орудием для разных интриг.
Через час после полученного ею известия она уже побывала в предместье Св. Антония, в своем притоне, и вызвала своего доверенного и усердного слугу Канара. Она объяснила ему горячо всю важность возлагаемого на него нового поручения.
– Никогда еще, ни разу, мой милый Канар, – сказала Иоанна, – не было нам так важно и необходимо отделаться от человека, как теперь. Дело громадной важности в ваших руках… Я надеюсь на вас.
– И будьте уверены, сударыня, – отвечал, улыбаясь страшной, скотоподобной улыбкой, Канар, – я исполню ваше поручение отлично! Я не могу только сказать определенно, когда мне удастся повстречать этого незнакомца или шведа. Он мало выходит из дома пешком, почти всегда разъезжает верхом. А согласитесь сами, что воткнуть ножик всаднику не так-то легко. Можно и это, но ведь можно и попасться… Во всяком случае, обещаю вам и даю слово… А вы знаете, что я никогда слову не изменял… Даю слово, что этот швед или русский будет подобран на улице мертвым в первый же раз, что сунется из дома пешком.
Эта беседа происходила между Иоанной и злодеем около полудня. А на другой день утром другая наперсница Иоанны, Роза, явилась в квартиру графини, что делала чрезвычайно редко. Графиня Ламот старалась по возможности не принимать на своей квартире лиц, которых часто видела госпожа Реми.
Пожилая и крайне некрасивая женщина с этим именем Роза принесла почти невероятную весть, после которой Иоанна залилась слезами злобы и заметалась в своей квартире. Ее главный помощник Канар был накануне вечером тоже убит этим дьяволом русским. Роза могла подробно объяснить, как все случилось. Мальчишка, ее племянник, случайно присутствовал при всем происшествии.
Канар взял мальчишку с собой, велел ему стоять невдалеке для того, чтобы затем послать его к госпоже Реми с докладом об исполненном поручении. Мальчуган видел, как в темноте Канар бросился на проходившего военного и ударил его сзади ножом; но военный, страшно вскрикнув, отскочил, выхватил шпагу и в одно мгновение два раза пронзил ею господина Канара; затем оба упали. Мальчуган, в ужасе вскрикнув, бросился к обоим и стал звать господина Канара, но тот уже был мертв и лежал в потоках крови. Военный шевелился, стонал, но не просил о помощи, а, напротив, проговорил странные слова:
– Спасибо этому злодею… Кажется, я умираю…
Конечно, мальчуган бросился бежать со всех ног, тем более что заслышал шаги прохожих.
Иоанна после этого известия была совершенно поражена. В смерти Уазмона не было ничего невероятного, но почти одновременная смерть – и от руки одного и того же человека – ее наперсника поразила ее. Вдобавок этот Канар, готовый всегда зарезать всякого по первому приказанию госпожи Реми, был ей необходим.
Вечером Иоанна несколько успокоилась, и, когда ей доложили о даме, которая желает видеть ее немедленно, но не говорит своего имени, Иоанна, уже овладев собой, могла принять неизвестную гостью. Гостья эта оказалась Лоренца.
Она вошла к графине и, сбросив шляпку с вуалью, тотчас же, не имея сил сказать ни слова, с рыданием упала на диван.
Узнав гостью, Иоанна выпрямилась, скрестила руки на груди и выговорила холодно:
– Так вы пришли плакать ко мне? Вы это могли бы сделать дома.
Но Лоренца не слыхала или не понимала слов. Как истая итальянка, она продолжала рыдать, ломала руки, хватала себя за голову и чуть не рвала на себе волосы.
Иоанна, простояв несколько мгновений как статуя над этой женщиной, пораженной горем, спокойно отошла и села в отдалении. Когда Лоренца вдоволь наплакалась, Иоанна обратилась к ней так же холодно:
– Ну-с, наплакались? Теперь скажите мне, зачем вы пожаловали?.. Тело его лежит не у меня на квартире; хоронить его будут не здесь, а помочь воскресить его я не могу. Я могу только подослать к вам другого такого же красивого юношу… но мне теперь не до вас, мне теперь некогда… Что ж вам от меня угодно?
– Я любила его, – проговорила Лоренца с отчаянием, – первый раз в жизни… Поймите!..
– Мне совершенно не нужно и не любопытно знать, любили ли вы в первый раз или в десятый – все это до меня не касается. Скажу вам только, что вы не должны чересчур отчаиваться и оплакивать убитого. Он не любил вас или, лучше сказать, любил по моему приказанию.
И Иоанна безжалостно, жестоко, в коротких, но резких выражениях рассказала Лоренце всю оборотную сторону истории ее любви, объясняя всю комедию, которую разыграл с ней Уазмон, даже не по собственному желанию, а по ее приказанию.
Несчастная женщина, слушая графиню, оцепенела и как бы застыла от грубого и незаслуженного удара прямо в сердце.
– Правда ли все это? – глухо выговорила наконец Лоренца.
– Какая же цель мне лгать, – небрежно отозвалась Иоанна. – Успокойтесь и утешьтесь! Если вы будете продолжать так же верно служить мне по отношению к вашему мужу, то я обещаю достать вам другого, не хуже Уазмона.
– О! – воскликнула Лоренца. – Как можете вы, красивая и молодая женщина, говорить такие возмущающие душу слова! Я не думала, что вы такая бессердечная и безнравственная! Пускай я была игрушкой вашей, но я все-таки любила его.
Лоренца поднялась порывисто с дивана, схватила свою шляпку и двинулась к дверям.
Иоанна рассмеялась громко, встала и выговорила:
– Зачем же вы приходили, синьора Лоренца? Вы думали, что мы обе вместе поплачем о судьбе погибшего в цвете лет дурака, который, не умея держать шпаги в руках, отправился мериться силами с бретером[11].
Иоанна хотела продолжать свои насмешки и над убитым, и над итальянкой, но Лоренца вдруг внезапным жестом прекратила злоязычие Иоанны.
– Вот… Я забыла… Мне не до того… Я забыла… Я пришла с письмом от мужа, которое он не хотел посылать с посторонним…
– О! Только вы, итальянки, способны на это! – воскликнула Иоанна, почти вырывая письмо из рук Лоренцы. – Только вы, итальянки, можете час целый выть в гостиной и даже не сказать ни полслова о том, что есть письмо.
Иоанна быстро стала читать письмо Калиостро и, видя, что Лоренца выходит, остановила ее.
– Подождите!.. А ответ?
– Ответа никакого! – с рыданьем вымолвила Лоренца уже за дверью.
– Глупая! – невольно вырвалось у Иоанны.
IX
Письмо нового друга Иоанны окончательно свалило с ног твердую духом женщину. При известии о гибели Уазмона первая мысль в голове Иоанны была мечта о замене Уазмона другим молодым человеком в качестве претендента маркизы д'Оливас.
«Я найду другого, – думалось ей, – который будет искуснее Уазмона и, быть может, победит капризную испанку – и все дело может поправиться».
Теперь письмо Калиостро разрушило этот новый, созревающий в ее голове план.
Кудесник извещал о невероятных, неожиданных приключениях; одно она знала, а от другого не устояла и упала на тот же диван, где мгновение назад лежала рыдающая Лоренца.
Первое известие состояло в том, что молодой человек, новый знакомый графа Калиостро, лежит раненный довольно опасно каким-то злодеем. «Это приключение, – говорил Калиостро, – для графини Ламот не любопытно: но второе должно интересовать ее, ибо в квартире раненого молодого человека находится сама юная маркиза д'Оливас. Что тут делать? Рассудите и скажите!» – кончалось письмо Калиостро.
Иоанна долго просидела неподвижно на диване, скомкав письмо, безмолвно, с одной лишь злобой на сердце.
– Все рухнуло, все кончено! – повторяла она про себя. – Это не действительность, а какой-то сон, отвратительный сон… Это какая-то глупая сказка из тех глупых сказок со всякой чертовщиной, которые рассказываются детям глупыми няньками. Еще два дня только назад казалось, что остается несколько дней до полной удачи, а сегодня, будто в какой глупой сказке, все магически перевернулось кверху дном. Уазмон убит. Лихой убийца Канар тоже убит; но этого всего мало для беспощадной судьбы. Ей нужно еще, чтобы последний удар опытного Канара был неудачен и чтобы русский проходимец остался жив. Наконец, злой судьбе благоугодно, чтобы девчонка сбежала на квартиру этого чужеземца… Очевидно, что ввиду скандала старая тетка-опекунша должна согласиться на этот брак… А я? Что ж мне-то делать? – И Иоанна снова приблизила письмо к глазам, снова прочла: – «Что делать? Рассудите и скажите!»
Всю ночь просидела или проходила из угла в угол в своей спальне решительная и предприимчивая женщина. На рассвете она легла спать, несколько успокоенная. Она рассудила, что ей делать, и решилась так же твердо, не падая духом, взяться за новое дело, за новое мудреное предприятие.
– Ведь говорится же, – шутила она, уже засыпая, – le roi est mort – vive le roi!..[12] Ну, я скажу: la trame est déjouée – vive la trame! Если все нити одной паутины порваны и унесены вихрем – надо начать ткать новую крепчайшую паутину.
Иоанна решилась на предприятие, диаметрально противоположное тому, о котором она мечтала накануне. Этот поворот в уме ее, эта замена одного плана компании другим, на которую иная женщина потратила бы месяц в сомнениях и колебаниях, совершился в Иоанне в один вечер.
– Если он жив и будет жить, а она его любит, то мне надо уступить судьбе. Но в конце концов я обману эту судьбу… Она сыграет мне же в руку.
Едва отдохнув несколько часов, около полудня графиня Ламот в изящном наряде, красивая, как всегда, спокойная, но бледная, мило улыбающаяся, садилась в свой экипаж и приказывала ехать в дом маркизы Кампо д'Оливас.
Старая дева после доклада ливрейного лакея приказала сказать гостье, что вследствие особо важных обстоятельств она не может ее принять.
Графиня Ламот приказала снова доложить, что причина ее посещения в тесной связи с этим самым особо важным событием в доме маркизы; по этому-то делу она и приехала.
Разумеется, через минуту два лакея явились навстречу ожидавшей в прихожей графине, а за ними вслед появилась главная горничная маркизы. Любимица горничная объяснила графине, что маркиза, извиняясь заранее, что примет ее в постели, просит пожаловать.
Иоанна нашла старую деву еще в худшем положении, чем думала.
Синьора Ангустиас была почти в таком же безнадежном и отчаянном положении, в каком накануне Иоанна видела другую женщину – Лоренцу. Старая дева также причитала. Неожиданное бегство ее питомицы из дому поразило ее, по ее словам, больше, чем если бы юная племянница, полуребенок, неожиданно скончалась.
На вопрос маркизы, каким образом графиня Ламот знает все происшедшее, которое еще тщательно скрывается в доме прислугой, Иоанна отвечала, что знает все, но объяснить пока не может, а приехала к маркизе предложить ей свои услуги.
– Я берусь вернуть к вам племянницу вашу из квартиры господина Норича.
Этого слова было достаточно, чтобы Ангустиас села в постели и, притянув к себе Иоанну, горячо облобызала ее.
– Вы мне обещаете?.. Вы ручаетесь?! – воскликнула она.
– Обещаю, маркиза.
– О, тогда требуйте от меня всего, чего хотите! – воскликнула Ангустиас.
Просидев несколько мгновений и объяснив маркизе, что она приедет еще раз ввечеру. Иоанна прямо от нее приказала ехать по направлению к дому графа Калиостро.
Швейцар дома графа уже давно заранее получил приказ принимать графиню Ламот когда бы то ни было, и днем и ночью, без доклада. Калиостро вышел навстречу графине веселый и, улыбаясь, выговорил:
– Вот история, милая графиня! Только у вас в Париже бывают такие сюрпризы.
Усадив гостью, Калиостро подробно рассказал Иоанне все то, что она отлично знала и без него, а некоторые подробности были ей гораздо лучше известны, нежели самому Калиостро.
Граф изумлялся, за что мог какой-то уличный злодей пожелать убить такого милого и безобидного человека, как его новый знакомый и приятель русский. Но затем Калиостро, ничего не подозревая, сообщил графине ужасное известие. Он, Калиостро, как искусный медик, волшебник и в медицине, ручался за то, что спасет того самого человека, который едва не был убит по приказанию же графини Ламот. Иоанна невольно подумала про себя:
«Как смеется надо мной судьба! Мой друг и помощник наивно вместо помощи губит дело, которое я веду. Ему бы следовало отравить этого Норича или по крайней мере бросить без помощи, а он хвастает, что спасет его и вернет к жизни».
Была минута, и Иоанна хотела объясниться с кудесником, но что-то необъяснимое остановило ее. Признание замерло на языке.
– Можете ли вы меня познакомить с этим Норичем, то есть сейчас же везти меня к нему в дом? – спросила Иоанна тревожно.
– Конечно, хотя я сам всего два раза был у него. Но наши отношения особенные, совершенно исключительные.
И сам сатана, но красивый, умный, изящный, даже грациозный, воплотившийся в женщине, переступил порог маленькой квартиры.
Двух часов было достаточно для Иоанны, чтобы вполне очаровать и выздоравливающего Алексея, и пылкую, капризную, но сердечную Эли. Даже дикарка Лиза и та фамильярно подсела к красавице графине и уже два раза успела сказать ей:
– Какие у вас прелестные глаза и прелестные брови!
Если графиня Ламот была сначала принята в этой квартире с недоумением, даже с боязнью, то когда она собралась уезжать, ее провожали уже как дорогую гостью, почти как нового друга, посланного судьбой.
Иоанна поразила всех тем, что говорила, и тем, что обещала. Даже кудесник был несколько изумлен. Сидя у своих новых друзей, Иоанна только удивлялась и головой качала, какие они все наивные люди, что самого простого дела не умеют сделать. Она бралась – и почти не сомневалась в успехе – уговорить старую тетку-опекуншу не противиться браку племянницы с русским. Этого мало. Она заявила молодому человеку, что может помочь ему гораздо более серьезным образом, нежели помирить племянницу с теткой. Она бралась сделать нечто, что повлияет даже на неизвестного ей графа Зарубовского.
– Откуда вы знаете это имя? – спросил, изумляясь, Алексей.
– Я все знаю. Я тоже ясновидящая, как и друг мой, граф Калиостро! – шутила Иоанна.
– Каким же образом можете вы нам помочь, то есть помочь ему? – спросила сомневающаяся Эли.
– Я сделаю то, что русский старик захочет, чтобы Норич носил свое настоящее имя!
Иоанна говорила это таким решительным тоном, с таким убеждением в голосе и во взгляде красивых глаз, с такой самоуверенностью, что все слушали и молчали, поневоле уже веря ей. Кончилось тем, что молодой человек с чувством протянул ей руку и крепко пожал маленькую красивую ручку графини. И в это мгновение он, увы, не почуял, что эта самая ручка два раза поднималась на него и что по злобной воле этого существа двое покушались на его жизнь: один честным образом, а другой даже злодейским – из-за угла.
При отъезде графиня Ламот намекнула молодому человеку, что завтра же поедет хлопотать о нем не только к старой графине, но и в Трианон, к самой королеве.
– Поверьте, мой юный и новый друг, – сказала Иоанна, – что против обаяния королевы французской, Марии Антуанетты, не устоит никто и ничто.
Когда графиня увидала изумленные взоры всех, обращенные на нее, она прибавила улыбаясь:
– Да, мои милые новые друзья, сама королева французская войдет через меня в сношение с вашими врагами, заступаясь за вас.
X
Алексей быстро оправился от болезни благодаря искусству такого медика, каким был Калиостро, но в особенности и не менее лекарства подействовало на него другое обстоятельство. Бегство из дома и присутствие дорогой, им обожаемой девушки, казалось, подействовало на него еще сильнее, чем лекарства доктора. Эли возвратила его к жизни, очутившись у его изголовья.
Алексей не раз мысленно благословлял судьбу и благодарил того человека, злодейская рука которого поднялась на него в темном переулке. Не будь этого случая с ним, Эли, быть может, долго еще боролась бы с собой. Да и чем еще кончилась бы эта борьба? Для прихотливой натуры, какова была ее, нужен был сильный толчок. При известии об опасности, в которой был Алексей, она, как ей показалось, вдвое сильнее полюбила его, потому что, по-видимому, теряла его навсегда. К тому же и сам Алексей, исполнивший угрозу покуситься на свою жизнь, которой она не верила, доказал ей свою любовь. Письмо же, которое опекунша написала Алексею без ведома питомицы, имело обратное действие, так же как и удар Канара. Оно только ускорило развязку.
Но почему же Алексей вдруг прибегнул к своему яду? Он сделал это в порыве отчаяния.
Убив на дуэли Уазмона, он собирался покончить с собой тотчас же… но колебался. Злодейский удар ножа, полученный на улице – как он думал – от грабителя, подействовал на него особенно. Принесенный домой, он лишился чувств от потери крови и, придя в себя, вообразил, что он медленно умирает от раны, что прошло уже несколько дней после нападения разбойника…
«А она даже не присылает справиться о моем положении!» – с ужасом и отчаянием подумал он.
Перстень был на руке. Алексей вскрыл его зубами и проглотил кислую жидкость, которая оказалась под запайкой. Это было за час до появления Эли и Калиостро в его квартире…
Когда Алексей совершенно оправился, то первый его выход из дома был, конечно, визитом к магу. Первый же вопрос Калиостро был, конечно, о его письмах к нему.
– Но какую же помощь вы хотите от меня? Что я, собственно, могу сделать для вас?
– Я сам не знаю, граф. Когда я вам расскажу все – вы должны сами решить вопрос, как помочь мне. Вы ведь все можете… Несчастья моей жизни сделали меня суеверным, заставили верить в присутствие на земле темной силы, которая, избрав себе иного человека как бы жертвой, преследует его, изводит… Вы маг, кудесник, вы повелеваете этими темными силами и можете, следовательно, спасти меня от них… Вы можете, если хотите, направить иначе волю злых людей, отравивших мое существование, таким образом, что эти люди перестанут мне злобно вредить. Своим волшебством вы можете заставить их действовать в мою пользу. Во все это я верю! И вот поэтому я и обратился к вам за помощью. Хотите ли вы помочь мне?
Калиостро объяснил Норичу, что он ему очень нравится и что он готов на все возможное… Надо только объясниться искренно и подробно, ничего не утаивая.
Они условились, что Алексей в тот же вечер будет у кудесника и искренно поведает все о себе…
– Ну-с, мой юный друг, – встретил его Калиостро вечером, оставаясь с ним с глазу на глаз. – Исповедуются все перед смертью, а вы, наоборот, извольте исповедаться, так сказать, перед выходом из гроба в мир, чтобы жить. Объясните мне загадку. Я слушаю.
– Что именно? Что называете вы загадкой? – отвечал молодой человек вопросом. – Мое обращение к вам, мое покушение на самоубийство или историю моей судьбы?
– Первое, требующее объяснения, – это ваше имя и фамилия. Как вас зовут?
– Алексей… А затем, по-нашему… то есть по обычаю моей родины, после того имени надо прибавить имя отца моего: Григорий. И сказать надо, следовательно: Алексей Григорьевич. Фамилия моя – граф Зарубовский, но обязан я обстоятельствами или, лучше выразиться, насилием, самым возмутительным, называться просто господином Норичем, именем чуждого мне человека, дворянина какой-то славянской национальности. Этот Норич происхождением поляк или серб.
– Объясните мне, почему все это так?
– Это значит рассказать вам всю мою жизнь. Я это и хотел сделать. Но я могу это только в том случае, если вы обещаете мне помощь… Иначе не стоит рассказывать и даже не следует. Долг мой запрещает мне это. Я дал клятву молчать об обстоятельствах своей горькой доли.
– Кому? Вашим гонителям?.. Эта клятва недействительна, и вы можете нарушить ее с чистой совестью.
– Нет. Так я не могу. Обещайте мне помощь, и тогда…
– Я готов вполне помочь вам всячески. Заранее обещаю.
– И я верю вам, но когда я вам скажу, каким именно образом вы можете оказать мне помощь, то вы отступите перед трудностью исполнения задачи.
– Для графа Калиостро трудностей нет, мой юный друг! – несколько хвастливо вымолвил знаменитый маг.
– Есть! Извините. Проехать через всю Европу, очутиться на дальнем и холодном Севере, во льдах и снегах малоизвестной страны нелегко.
– Я вас не понимаю.
– Чтобы помочь мне, граф, надо вам со мной ехать туда, где теперь живет мой дед, в Петербург.
– Что-о?! – воскликнул Калиостро.
– Да. Вот видите. Вы поражены.
– В Петербург! В Россию. На берега Невы, в резиденцию знаменитого монарха-женщины, философа и энциклопедиста?
Калиостро начал смеяться простодушно и весело.
– Вам даже смешно! – грустно произнес молодой человек.
– Да. Признаюсь… Это… Да, это нелегко. Даже и для Калиостро. Но прежде всего это… Извините… Это было бы с моей стороны глупо. Просто глупо.
– Почему?
– Терять время и деньги на такое дальнее путешествие. Из-за чего? Из-за молодого малого, который мне нравится, которого я спас от смерти, но который мне все-таки чужой человек. Из-за чего я поеду? Из человеколюбия?..
– Нет. Не из-за одного человеколюбия. А из-за полумиллионного состояния, которое мы разделим! – решительным голосом вымолвил Алексей.
– Да этот миллион – сказка… Ведь я не ребенок, чтобы верить в существование испанских замков, да еще на берегах ледяной Невы. Вы шутите, господин Норич.
Молодой человек вздохнул и понурился. Наступило молчание.
– Если б я знал наверное… – начал Калиостро, подумав и испытующе смеривая Норича с головы до пят… – Если бы вы дали мне какие-нибудь обязательства…
– Увы, рассказать я могу многое, но доказать… Как доказать?! Я имею право и возможность легко получить полмиллиона в России и по возвращении еще более миллиона здесь. Но как я это докажу вам? Если я буду граф Зарубовский – я наследую половину состояния деда и женюсь на маркизе д'Оливас.
– Расскажите мне подробно и правдиво все. Я кое-что уже знаю, но хочу все слышать от вас, – серьезно проговорил Калиостро. – Если я поверю – я… Да, если я поверю вам, то… – Он запнулся.
– Вы поедете в Петербург?
– Поеду. Да поеду. Что ж? Был же я в Аравии, в Египте и Палестине. Петербург отсюда не дальше. Вдобавок, я могу принести пользу нашему Обществу египетских масонов. Я могу учредить на берегах Невы масонскую ложу, пользуясь покровительством такого монарха, как Екатерина Великая.
Алексей, уже отчасти с надеждой в сердце, начал свою исповедь и рассказал загадочному и всесильному магу всю свою жизнь, всю горькую судьбу.
XI
Между тем хлопоты графини Ламот не увенчались успехом. Через три дня после своего исчезновения из дома Эли получила длинное письмо от опекунши, которая требовала ее немедленного возвращения, пока побег еще не огласился на весь город. Она говорила, что никогда до совершеннолетия питомицы не согласится на неравный брак ее с чужеземцем, который, может быть, и простой авантюрист темного происхождения и сомнительных достоинств. Опекунша грозилась, что в случае упорства Эли вернуться она уедет тотчас в Испанию одна.
То же самое подробнее передала ей и графиня Ламот, по мнению которой Эли следовало побывать у тетки и объясниться с ней лично, упросить, смягчить ее.
– Никогда! Я отсюда не выйду никуда! – отозвалась Эли. – Меня схватят и силой запрут, а потом увезут в Испанию.
Иоанна помолчала, борясь сама с собой, и наконец заговорила:
– Решаете ли вы это бесповоротно – оставаться и не мириться с теткой, не уступать ей? – спросила она.
– Да.
– Вы ни за что не согласитесь порвать связи с господином Норичем и забыть его?
– Ни за что… Это нелепый… извините, вопрос.
– Никогда?
– Никогда на свете! Я люблю его. Только после этого несчастного случая, благодаря моей нерешительности и этому злодеянию, я узнала и поняла, как я люблю его. Если б он умер, я думаю, что я или пошла бы в монастырь, или отравилась здесь же, не выходя отсюда.
– Это решено? Это кончено? – приставала Иоанна. – Бесповоротно решено?
Эли пожала плечами, отвернулась от нее и отошла.
– В таком случае я как друг предупреждаю вас, что через два часа здесь будут приставы королевские под командой полицейского агента и при участии секретаря испанского посольства…
– Зачем?! – воскликнула девушка, вспыхнув.
– Взять вас силой и увезти домой.
– Верно ли это? – резко произнесла Эли.
– Мне это сказала сама маркиза. Секретарь же был у нее при мне и получил от нее письменное разрешение на это насилие.
Эли вынула из кармана маленький и тонкий стилет в ножнах, нечто вроде большой иглы, и произнесла дрогнувшим голосом.
– Вот!.. Только не для них, а для себя… Меня увезут мертвую.
– Это безумие, мое дитя, – сказала Иоанна. – И если вы решились окончательно не уступать, то не так надо действовать. Надо иное… Это ребячество.
– Что же?
– Я помогу вам. Убить себя немудрено. Надо скрыться. Бежать. И сейчас.
– Куда?! Меня всюду найдут по повелению короля.
– Всюду… Кроме того места, которое я вам дам убежищем.
– Кто? Вы?
– Да.
Эли приблизилась, собираясь уже поцеловать графиню, но вдруг отступила и пристально поглядела ей в глаза.
– А если… Я боюсь…
– Что?
– Если вы сами…
Наступило молчание. Иоанна улыбнулась.
– Если я вас сама выдам полиции. Это вы хотите сказать? – вымолвила Иоанна смеясь.
– Да. Я вас мало знаю.
– Тогда вы и зарежьтесь при измене моей этим стилетом. Все равно здесь сейчас при появлении полиции или через час, через день у меня.
Не слова эти, а тон голоса графини подействовал на Эли.
– Я вам даю слово испанской грандессы, что я воткну этот стилет прямо себе в сердце, если вы меня выдадите! – пылко и грозно промолвила Эли.
– А я вам даю честное слово французской графини, – отозвалась Иоанна, – что я вас укрою от опекунши, от полицейских, от короля и его повелений, от всего мира.
Эли протянула руку графине и доверчиво улыбнулась.
– Тогда нечего терять время. Прощайтесь и едемте ко мне! – сказала Иоанна.
Эли быстро направилась к Алексею в горницу и через несколько мгновений снова появилась со слезами на глазах, но с воодушевленным румяным лицом.
– Едемте, графиня. Я сказала сейчас Алеку, что никогда не забуду вашего дела – этой помощи. Ведь буду же я когда-нибудь его женой и свободна, чтобы распоряжаться моим состоянием. Тогда мы сочтемся.
Через несколько минут карета графини Ламот отъезжала, увозя обеих женщин.
Иоанна, конечно, не играла и не обманывала Эли.
Через час после их отъезда в квартире капрала Норича была полиция, а при них чиновник, отряженный депутатом от испанского посольства.
Они обыскали дом. Алексей спокойно их встретил и еще спокойнее отвечал на допрос.
«Маркиза Эли Кампо д'Оливас была в его квартире. Она его невеста. Теперь, узнав о готовящемся насилии ее опекунши, она скрылась. Куда? Он не знает. А если бы и знал, то не сказал бы. Когда он вполне устроит свои дела, то они обвенчаются по обрядам двух религий».
Все это Алексей просил передать от его имени самой маркизе Ангустиас.
Полиция удалилась, но молодой и добродушный секретарь посольства остался и весело, любезно стал беседовать с Алексеем.
Они оба понравились друг другу.
Секретарь, конечно, знал Эли довольно хорошо и был ее поклонником в числе многих других. Он прямо, простодушно заявил Алексею, что завидует его счастью – быть любимым такой красавицей и богачкой.
На прощание молодой человек сказал:
– Вот мой совет вам. Я, заметьте, кое-что знаю о намерениях старой опекунши… Esta maldecida duena tia, эта проклятая дуэнья тетка вас погубит, если вы обвенчаетесь тотчас. Состояние все будет ей принадлежать, а жена ваша – нищая. Обождите год или полтора совершеннолетия юной маркизы и тогда венчайтесь. Тогда по закону она получит из рук дуэньи все состояние.
– Какая же разница? Таков разве закон? – спросил Алексей.
– Я вам повторяю слова нашего посланника.
Через несколько дней после этого разговора Алексей и Эли, скрытая в притоне Иоанны, узнали, что маркиза Ангустиас выехала из Парижа в Испанию, а на имя госпожи д'Оливас была доставлена на квартиру Норича бумага из посольства, в которой было сказано, что г-жа маркиза Ангустиас Кампо д'Оливас уехала в Мадрид просить короля Карла III дозволить ей принять законные меры, чтобы остановить от безумных поступков представительницу одной из знатнейших фамилий Испании.
Через две недели все, по-видимому, было благополучно. Эли снова была давно у Алексея и жила с Лизой, и все были счастливы, но чуялось что-то недоброе в ближайшем будущем.
Гроза эта явилась. Прискакал в Париж курьер из Мадрида и привез депешу в посольство для передачи г-же Эли д'Оливас, в которой объявлялось ей, что она королевским декретом лишена своего имущества ввиду странности поступков особы такой знатной фамилии.
XII
Это известие было ударом для всех, но подействовало на всех различно. Эли упала духом, сделавшись нищей. Алексей упрекал себя в опрометчивом поведении и боялся за чувство к нему юной невесты, всего лишившейся из-за него. Зато Иоанна воспрянула духом и даже повлияла на кудесника и мага. Калиостро после объяснения с Алексеем колебался и не решался на его просьбу ехать в Россию. Он даже не знал, что именно ему делать, чтобы помочь новому другу, будучи в России.
Энергичная Иоанна рассеяла сомнения мага, все придумала, за все бралась и даже сама вызвалась ехать в Россию вместе с ними. Но ехать не иначе как под «эгидой» самой королевы.
Вопрос о путешествии был решен вдруг на квартире Алексея благодаря влиянию Иоанны.
– Я думал, что граф Калиостро один в таком мудреном деле всесилен, – сказал Алексей. – Оказывается, что и вы, графиня, такой же маг, такая же волшебница, как и он.
План действий в России, который Иоанна передала наедине кудеснику, повлиял на него решительно. Но ни он, ни графиня ни слова не объяснили самому Алексею.
Однажды, через неделю после известия о декрете испанского короля, все, казалось, расстроившего, графиня и Калиостро окончательно условились ехать в Россию.
– Ну, Иоанна! – сказала она сама себе, уезжая от кудесника. – Я тобой довольна! На этот раз, кажется, не оборвется… Не сорвется с удочки золотая рыбка!
В тот же вечер Иоанна вызвала к себе единственного наперсника, который оставался у нее теперь со смертью Канара.
Вильет явился тотчас же, Иоанна впустила его и, ни слова не говоря, стала смотреть ему в лицо. Она улыбалась, глаза ее блестели ярко, лицо было красивее, чем когда-либо; по всей фигуре ее Вильет увидел, что Иоанна под впечатлением какого-то радостного события.
– Признаюсь, не ожидал! – выговорил Вильет. – Все шло так скверно, и этот несчастный Канар, и этот глупый Уазмон… Неужели ваша интрига так сложна, что и они погибли по вашей воле и именно через их погибель ваше дело устраивается? Неужели вы ими пожертвовали обоими для успеха? Ведь это страшно! Этак, пожалуй, для успеха вашего дела понадобится и моя смерть.
Иоанна рассмеялась громко:
– Ну нет, мой милый Вильет, это уже вы перехитрили! Таких нет у меня дел, для успеха которых я должна жертвовать моим главным помощником. Напротив, то дело рухнуло вместе с гибелью Уазмона и Канара. Но я скажу, как часто говорила: сметена одна паутина, начинай другую. La trame est déjouée – vive la trame!
– Как? Неужели за несколько дней вы уже успели состряпать новый план и начать новое дело?!
– Да. И такое, которое кончится успехом непременно. Но я должна искренно сознаться, что теперь стала помогать мне фортуна. Слушайте!
И Иоанна подробно передала приятелю все, что порешила делать вместе с Калиостро в Петербурге, зная уже теперь все, даже мельчайшие подробности, о положении и обстоятельствах Норича – графа Зарубовского.
– Ну-с, теперь понимаете, мой милый Вильет, что еще после побега испанки противодействовать стало бессмысленно. Я поскорее перебежала в неприятельский лагерь. Так бывает всегда на войне. Когда ряды сражающихся с врагом редеют, то многие падают, но остающиеся в живых или бегут от врага, или отдаются в плен. Во втором, конечно, есть немалая доля риска; но вы знаете, что я не из тех борцов, которые бегут с поля сражения. Так как я не была убита и не хотела бежать, что же мне оставалось делать? Отдаться в плен неприятелю. И вот я отдалась. Меня пленили, но и я пленила. Да еще как пленила.
– Этому я и не удивляюсь и не сомневаюсь! – рассмеялся Вильет.
– Да, мой любезный! Если бы вы знали, что это за дети! Что это за ребята! Один наивнее другого. Подобрать трех молодых существ, такого мальчишку и таких двух девочек, право, можно было только нарочно, ради шутки. И вот если вы мне поможете, то мы, хоть и не скоро, хоть и после очень трудных предприятий, все-таки добьемся цели и успокоимся на лаврах… А лавры наши будут золотые и бриллиантовые! Но теперь вся сила в вас.
– Что же прикажете?
– Мне нужно, любезный Вильет, две записки. Или, лучше сказать, одну записку и одно письмо от королевы.
– Опять от королевы, – рассмеялся Вильет.
– Да.
– Почему же не от короля?
– Нет, пока с нас довольно и королевы.
И красавица и ее приятель звонко рассмеялись.
– Какого же содержания должны быть записка и письмо?
– В записке на мое имя пускай королева напишет, что готова все для меня сделать и что это, собственно говоря, пустое дело. В письме на имя русской императрицы…
– О-го! – воскликнул Вильет. – Это уже серьезнее…
– Да, письмо должно быть к Екатерине…
– И дойдет до нее… Или только пролежит у вас в кармане?..
– Конечно, передастся императрице. Но это не ваше дело… Ну-с? Какое содержание записки? Ее нужно иметь тотчас же для этих детей.
– Позвольте прочитать, чтобы не ошибиться.
И Вильет другим голосом, как бы читая, произнес:
– Дорогая графиня! С удовольствием готова служить вам. Ведь вы знаете, как я люблю вас. Просьба ваша легко исполнима, и я с удовольствием… – Вильет остановился и прибавил: – Сделаю это или попрошу короля сделать.
Иоана подумала и вымолвила:
– Нет, уж лучше сошлемся на короля. – И она прибавила другим голосом: – И я попрошу короля.
Затем Иоанна сделала своей ручкой крючок и зигзаг по воздуху.
– Marie Antoinette de France! – произнес Вильет. – Точка!.. А внизу: скрепил тайный и неведомый ни ей, ни кому-либо другому, кроме графини Ламот, секретарь королевский: барон Рето де ла Вильет.
– Нет, уж скрепы этого секретаря не нужно, – рассмеялась Иоанна. – Ну-с! А затем письмо королевы к русской императрице понадобится позднее. Теперь же слушайте главное. Тотчас займитесь другим, более важным делом. Это будет несколько мудренее, но для вас все-таки нетрудно. Нужен патент на звание лейтенанта мушкетеров королевы.
– Тому же Норичу?
– Разумеется.
– Да, это будет потруднее. Нужна печать, нужен бланк со всякими глупыми формальностями и арабесками. За этим, пожалуй, провозишься две недели… Позвольте! – вдруг воскликнул Вильет. – Ведь патент этот понадобится, быть может, не в Париже. Не во Франции должен он предъявляться?
– Конечно нет. Вот наивный человек! – воскликнула Иоанна, пожимая плечами. – Да вы глупеете, мой друг! Каким же образом может кто бы то ни было в самом Париже показывать подложный патент на звание лейтенанта мушкетеров королевы, когда весь ее конвой, а не только офицеры – все наперечет и всем известны в лицо. Вы глупеете, мой друг.
– Правда ваша, глупею. Но если патент нужен для иных чужеземных стран, то я полагаю, графиня, что нечего заниматься и хлопотать о мелочах. Всякая бумажонка в другой стране прослывет за мушкетерский патент.
– Однако все-таки нужно соблюдение почти всего, что полагается. Вы забываете, что во всякой стране есть представители Франции – посланники и их канцелярии. Что, если наш патент попадет в руки нашего посланника, такого же француза, как мы?
– Ну в таком случае делать нечего… Будем делать такой документ, около которого и настоящий покажется подложным. Я всегда вспоминаю при этом случай со мной в Амстердаме. Однажды я отправился с приятелем в Голландию…
– Нечего рассказывать. Догадываюсь и так! – рассмеялась Иоанна. – У приятеля был настоящий паспорт, а у вас подложный. Его засадили в тюрьму, заподозрив фальшивый вид, а вас с подложным не тронули?
– Почти что так, графиня.
– Тем лучше для нас, Вильет, если подобные случаи возможны. Ну, до свидания. Отправляйтесь и за работу. С завтрашнего утра я начинаю свое, вы начинайте свое. Мне нужна крупная сумма для моего путешествия в Россию. А моего банкира уже нет более в живых, поэтому мое дело будет мудренее. Но вы свое ведите шибче, без проволочек.
Вильет стоял не двигаясь и как-то переминался на месте. Иоанна пристально взглянула ему в лицо и после короткой паузы выговорила:
– Денег?.. Вижу!..
– Да, милая графиня. Если есть, пожалуйста… Вы не подумайте, что я…
– Нечего мне думать. А если я что о вас и подумаю, то не вам двумя словами меня разубедить! – резко произнесла Иоанна.
– Нет, право, я не потому прошу, что нужно начинать дело, я и без того попросил бы, я окончательно без гроша…
– Хорошо… хорошо! За этим дело не станет. Но вспомните, что тот, кто пополнял мою кассу, недавно пополнил ее в последний раз. Кто теперь будет пополнять ее? – почти грустно выговорила Иоанна.
– Бедный Канар! – произнес Вильет.
– Конечно, бедный… Но я еще беднее! – пошутила Иоанна и, отворив стол, достала несколько червонцев и выкинула их на стол.
– Еще пять, – произнес Вильет, сосчитав червонцы, – если возможно, ради Бога. Ну хоть три…
– Это невозможно, – твердо выговорила Иоанна. – Иначе у меня мало останется. Ну вот один еще так и быть.
И, опустив руку в шкатулку, она снова выкинула на стол червонец.
Вильет взял его со стола, но тотчас же приблизил к глазам и качнул головой.
– Что вы смотрите? На нем кровь?
– Кажется…
– И без вас знаю. Что же прикажете? Обмывать самой золото, которое мне приносят? Какой вы стали неженка! Вы, может быть, не желаете взять? – презрительно усмехнулась Иоанна.
– Ах, нет! Почему же? – расхохотался весело Вильет.
XIII
В начале марта месяца из Парижа по дороге на Сен-Дени выезжало пять экипажей сановных и богатых, по-видимому, путешественников.
В трех экипажах сидели сами путники, в двух остальных, простых фургонах, шла их кладь – десятки сундуков и ящиков.
Начатый путь должен был длиться по крайней мере три недели с остановками и отдыхами в больших городах Франции и бесчисленных немецких государствах – королевствах, герцогствах и княжествах.
В одном экипаже ехал Калиостро с женой и любимым камердинером Джеральди, в другом – капрал Норич с сестрой и невестой, в третьем – графиня Ламот с приятелем, бароном Вильетом, и с пожилой наперсницей Розой. Путники, конечно, часто пересаживались друг к другу в гости, и путь коротался веселой болтовней, иногда игрой в карты, в домино и в бирюльки…
Алексей не захотел оставить в Париже своей невесты и сестры. Первой оставаться одной было опасно. Ее могли всегда, насильно захватив, препроводить в Испанию. Вторая поклялась когда-то при первой несчастной поездке брата в Москву не расставаться с ним никогда.
Алексей надеялся, что на этот раз его путешествие будет удачнее. Да и можно было надеяться благодаря всему, что устроила для него волшебница, графиня Ламот.
Она передала «господину Норичу от королевы французской» ни более ни менее как рекомендательное письмо к всероссийской монархине, в котором просила ее обратить свое милостивое внимание на господина Норича. Королева просила царицу войти в роковое положение молодого человека и помочь ей облегчить его участь. Если царица согласится дать ему как своему подданному и урожденцу России какой-либо чин придворный, то она, королева, будет иметь возможность выхлопотать ему еще больше у короля-супруга.
Этим был обязан Алексей чародейке Иоанне!
На пути, где они остановились на три дня, явилось новое чудо и тоже благодаря той же графине. Их догнал курьер из Версаля и передал капралу Норичу патент на чин лейтенанта мушкетеров королевы. Алексей был поражен, но и тронут до глубины души. Иоанна объяснила ему, что патент должен был быть ему передан еще при отъезде из Парижа, но что Людовик XVI вследствие какого-то непонятного упрямства долго противился принятию чужеземца в конвой королевы.
– Ну, теперь нет сомнения, – воскликнул Калиостро, – что monsieur le mousquetaire de la reine[13] отвоюет в России свои права и вернется в Париж mousquetaire comte Zaroubowky!..[14]
XIV
Весеннее солнце ярко сияло, озаряя теплыми лучами большой город, покрытый слоем желто-серого тающего снега; только посередине этого города расстилалась равнина, ярко-белая, серебристая, кое-где отливавшая алмазами в солнечных лучах. Эта равнина ожидала со дня на день момента, чтобы всколыхнуться, ожить, как бы вздохнуть и двинуться, зашуметь и забушевать, поднимая хрустальные глыбы льда и неудержимым потоком унося их в море. И тогда эта белая равнина превратится в широкую, как озеро, реку, омывающую берега северной столицы.
Этот город, созданный на болотах, которому нет еще пока и одного столетия, уже отражается в волнах широкой реки красивыми затейливыми зданиями, дворцами, башнями. В нем среди густого разнохарактерного населения из туземцев, чужеземцев и инородцев уже пестреют и блестят мундиры многочисленного придворного круга и многих гвардейских полков. Город этот меньше Парижа, но чище. Здесь раздольнее, здесь больше простора! На солнечной стороне пологого берега реки, еще не закованной в гранит, кое-где пробивается весенняя зелень под стекающей ручейками водой.
У одного из домов на этой набережной, принадлежащего не сановнику, а голландцу-банкиру, особое движение. Дом этот всю зиму был пуст и отдавался внаймы. И вот теперь в него переезжает из гостиницы и устраивается именитый иностранец. Перед домом стоят телеги с имуществом, которое перевозится на устраиваемую квартиру.
Иностранца, который нанял этот дом, никто во всей столице не знал. Он приехал за несколько дней перед тем.
В сумерки сани и дровни опустели, имущество было внесено в дом. Пожилой иностранец, нечто вроде главного камердинера или дворецкого, распоряжался в доме с несколькими мужиками и солдатами. Распределяя вещи по горницам, переставляя разную мебель или таская огромные сундуки, иностранец объяснялся с этим народом не столько словесно, сколько мимикой и постоянно на итальянском языке посылал к черту и их, и их страну, и их дурацкий язык, на котором он не мог понять ни слова.
– Синьор конте и синьора контесса к вечеру переедут из гостиницы! – восклицал он на своем языке. – А здесь еще ничего не готово!
Слова эти относились к молоденькому шестнадцатилетнему юноше, который шустро говорил по-итальянски и довольно изрядно по-русски.
Несмотря на его юность и его очень заметную глуповатость, он все-таки был здесь важным лицом. Без него ничего бы не устроилось. Понимая, что говорит пожилой дворецкий, он мог все-таки распорядиться рабочими на понятном для них русском языке. Он и был нанят как переводчик.
– Успокойтесь, синьор Джеральди! – постоянно восклицал он. – Все успеем сделать!
Но Джеральди видел ясно, что до вечера они не успеют устроить хотя бы одну комнату для синьоры контессы. Иногда Джеральди, вспомнив что-нибудь, бросался к какому-либо из бородатых помощников, к костромичу или тверитянину, и вдруг, сыпля словами, начинал умолять что-нибудь скорее сделать. Но костромич глядел на дворецкого разинув рот и прислушиваясь к его словам как к какому-нибудь чириканью диковинной лесной птахи. Джеральди тащил, толкал, науськивал костромича, очень толково объясняя что-то, но тот не двигаясь, как истукан, много, много если произносил:
– Ты, барин, то исть насчет чего же?
Джеральди хлопал себя ладонью по голове, иногда брался за волосы и восклицал отчаянно:
– Oh, que bestia![15]
Это слово на языке итальянца было не очень обидным, но костромич понимал его по-русски и заверял жалобно, что он ни в чем не смошенничал.
Разумеется, в этот вечер переезжать в холодный, промерзший за зиму дом оказалось невозможным. И только наутро явились новые хозяева – граф Феникс с супругой.
Войдя в новую квартиру, граф прежде всего осведомился о пяти больших ящиках одинакового формата, которые ехали с ним через всю Европу. В этих ящиках было не платье и не вещи путешественника, а пучки засушенных трав, банки с жидкостями и порошки в коробочках. Джеральди, конечно, знал, что для барина, медика и мага, эти ящики дороже всего в мире, и потому осторожно, при помощи «бестий», поставил их в угольной комнате и запер ее на ключ.
Целый день осматривался в доме граф Феникс и соображал, как устроиться здесь, какую комнату взять для своего кабинета. Графиня, напротив, не ходила по дому, а сидела больше около окна и грустным взором смотрела на широкую равнину. Лицо ее было тоскливо. Она думала о том, как далеко занесла наконец ее судьба – в страну, где всякие чудеса бывают. Вот говорят, например, что эта равнина перед домом не поляна и не земля. Говорят, что будто бы это толстый слой льда и будто бы через каких-нибудь две-три недели вся эта равнина, по которой идут и едут, на которой, казалось бы, можно построить несколько сотен домов и провести несколько улиц, – что все это широкая, величавая река, по которой через три недели поплывут корабли.
Графиня, оглядывая эту равнину, отчасти сомневалась. Может быть, вон там есть речка, где желтая полоска, где теперь едут вереницы каких-то низеньких, сереньких санок на маленьких лошадях. Может быть, там будет течь речка, но чтобы все это пространство всколыхнулось и стало большим озером или широкой, бушующей рекой – этому графиня не верила.
В первый же день, приведя немножко в порядок некоторые горницы, распаковав два ящика, где оказались разные связки трав, банки с жидкостями, бесконечное число баночек и пузырьков, граф Феникс, заперев угловую комнату на ключ, приказал жене присматривать, чтобы кто-нибудь не проник в эту горницу при помощи другого ключа. Затем он велел закладывать свой наемный экипаж и выехал из дому.
– Луиджи, – крикнул он юному итальянцу, – хоть я вас не нанимал для лакейских должностей, но на этот раз прошу вас стать на запятки, чтобы доставить меня к графине Валуа.
Юноша с удовольствием оделся, и, когда граф поместился в небольшую каретку, запряженную, однако, цугом, четверней, как подобало всякому дворянину, Луиджи стал сзади, рядом с другим гайдуком, из русских, вновь нанятым.
Миновав весь Невский проспект с оголенными еще по обеим сторонам высокими деревьями, карета завернула на менее широкую улицу. Здесь сеть стволов и голых ветвей была еще гуще; за ними направо и налево виднелись заборы; за заборами – серая паутина кустов, а за ними – небольшие домики.
Карета завернула во двор одного из таких домиков, который был невелик, но красивой постройки и свежевыкрашен ярко-голубой краской. На фронтоне его – около четырех колонн, двух балкончиков, верхнего этажа и нижней террасы, спускавшейся в садик, – повсюду виднелись белые деревянные медальоны, изображавшие разные мифологические фигуры.
Когда карета графа Феникса остановилась у подъезда, в доме началось движение. Граф вошел в прихожую, и навстречу к нему высыпало веселое общество, состоящее из пяти человек. Тут были: баронесса д'Имер, барон Рето, графиня д'Авила, Алексей Норич и сестра его. Последние были здесь тоже в гостях.
– Ну-с, переехали? Устроились? Расположились? – раздались голоса молодежи.
– Да, переехал… – начал граф Феникс, или Калиостро. – Как здоровье моей прелестной маркизы?.. Прошла ли лихорадка?
– Опять маркиза, – выговорила хозяйка дома, и ее красивые синие глаза под черными бровями блеснули ярче. Она не шутила, а сердилась.
– Виноват… все забываю… – отозвался Калиостро.
– Однако надо привыкать скорее к этому маскараду имен, – вымолвил Алексей. – Спасибо, что мы с сестрой сохранили наши имена.
Он проговорил это весело, но вдруг стал сумрачен и вздохнул. Все оглянулись на него, и все поняли, в чем дело. Он будто забыл, что тоже, хотя невольно, носит не свою фамилию и уже привык называться Норичем.
Иоанна прервала неловкую паузу и выговорила:
– Ну, Бог даст, скоро прекратится этот маскарад для всех. Мы снова примем наши настоящие имена, а вы – свое настоящее. И тогда мы вместе с графом Алексеем Зарубовским двинемся из этой дикой земли в нашу милую Францию.
– Ну а пока, – отозвался смеясь Калиостро, – двинемтесь в гостиную.
Все общество перешло в большую, довольно изящную комнату и уселось вокруг гостя.
– Ну-с, кстати, что же граф Зарубовский и его супруга? Какие новости дня? – произнес Калиостро.
– Новости дня? – отозвалась графиня д'Имер, то есть Иоанна, вывернувшая свое имя Реми наизнанку.
– Новость та, что Роза моя с сегодняшнего утра уже пользуется полным доверием графини и именуется главной попечительницей над всеми няньками и горничными ее младенца.
– Браво!.. Брависсимо! – воскликнул Калиостро. – Ну-с, а моя новость не менее важна. Мне назначена уже аудиенция у князя Потемкина, и я затрудняюсь только в одном: каким образом представиться – одному или с Лоренцой?.. Ну а вы, мой юный друг? – обратился Калиостро к Норичу.
– Я был вчера опять у графа, – отозвался Алексей. – На этот раз он отговорился болезнью. Меня приняла графиня и заявила, что дедушка, то есть граф, просит меня через нее передать письмо королевы.
– А я говорю, – воскликнула Иоанна, – что это вздор! И этого делать не надо. Пускай Норич сам покажет письмо графу Зарубовскому, спросит у него, как быть, попросит покровительства, чтобы доставить это письмо лично и вручить его самой императрице, но никак не отдавать его в руки графини и даже не оставлять у графа… А если они разорвут письмо королевы из злобы, из мести? Что тогда делать? Скакать за другим во Францию? Тогда мы погибли.
– Но все-таки, – заговорил Калиостро, обращаясь к Алексею, – расскажите мне подробно опять о вашем первом свидании с графиней и с графом Зарубовскими. Меня несколько смущает одна подробность вашего свидания. Пожалуйста, расскажите вновь в мельчайших подробностях, вспомните даже, если возможно, выражение лиц ваших врагов-родственников. Все это мне нужно для моих соображений.
Алексей начал рассказ о том, как первый раз по приезде в Петербург снова посетил своего старика деда. Все слушали молча и внимательно. Лиза, пересев поближе к брату, обняла его и тоскливо глядела на него, слушая его рассказ.
Красивая юная девушка, называвшаяся теперь д'Авила, то есть Эли д'Оливас, сначала слушала своего возлюбленного, но, зная все, что он скажет, наизусть, глубоко задумалась и унеслась мечтами далеко от Петербурга, в те пределы земли, где в эти дни уже давно зацвели апельсиновые и лавровые деревья, наполняя благоуханием чудно зеленеющие равнины под палящими лучами яркого южного солнца…
XV
Вся эта разнохарактерная компания, явившаяся теперь на берега Невы и принадлежащая к разным национальностям, даже не имеющая ничего общего между собой, была лишь связана искусно придуманным общим делом. И характером, и нравственным кругозором все они резко отличались друг от друга. И здесь, на берегах Невы, где их поневоле сплотила вместе ближе и теснее одна общая цель, различие характеров сказалось еще ярче.
Так, Иоанна и Алексей, как оказалось, были двумя крайностями. Насколько энергичная, но порочная, бессердечная женщина была способна на все, не исключая самого гнусного злодейства, настолько Алексей был добр, честен, правдив и неспособен даже на самый мелкий предосудительный поступок.
Две южные девушки, почти еще девочки, одна кровная испанка, другая почти немка, были чисты сердцем, наивны, и не только не запятнаны жизнью, но даже еще и не тронуты ею, как новорожденные младенцы… А рядом с ними появился и теперь постоянно был, от зари до зари, и действовал мелкий негодяй последнего разбора, Вильет, рыцарь подонков парижского народонаселения если не по происхождению, то по своей деятельности. Наконец, глава и начальник всей этой разноплеменной, чуждой друг другу компании, знаменитый кудесник, тоже ничего не имел общего со всеми своими случайными друзьями.
К его чести надо сказать, что он не был все-таки способен, по природной доброте сердца, на все то, что твердой рукой могла совершить Иоанна. Но к стыду его, надо прибавить, что он был все-таки способен с детства, приучен обстоятельствами, к таким деяниям, которые привели бы в ужас Алексея, если бы он знал хотя сотую долю похождений и приключений графа Калиостро, ныне Феникса, для России.
Все это общество, однако, переброшенное с берегов Сены на берега Невы, показалось бы постороннему наблюдателю веселой, беспечной, дружной кучкой людей. Могло показаться, что жизнь улыбалась им, что длинное путешествие через всю Европу и прибытие в Петербург было для них веселой прогулкой ради веселой цели… просто позабавиться.
В действительности все члены этой компании были теперь смущены: у всякого из них сердце было не на месте и всякий скрывал это от другого. Быть может, отходя ко сну или в минуту полного уединения, каждый и каждая из них, вдумываясь в свое новое положение, невольно ощущали на сердце тревогу. Настоящее было сомнительно, чересчур неопределенно и заурядно, будущее было темно. Что сулил завтрашний день – никто из них не знал.
Обстоятельства жизни каждого были запутаны в хитрый узел, который приходилось развязывать общими силами, а взаимного согласия и единодушия могло вдруг не оказаться.
Иоанна, или новая баронесса д'Имер, несмотря на свою предприимчивость и решительность, иногда смущалась, чувствуя себя в Петербурге стесненной в своих действиях. Там, среди своих соотечественников, она привыкла всякого видеть насквозь, как бы читать в сердцах людей, и ее прозорливость или какое-то чутье позволяли ей быстро познавать людей, хорошо подмечать их слабые стороны и играть ими, как марионетками.
Здесь, в этой чужой стране, Иоанна присматривалась и видела кругом себя простодушных, добрых людей, ласковых, гостеприимных; но вместе с тем Иоанна чувствовала, что эти простодушные люди не поддаются ей, как-то сторонятся от нее сердцем и мыслью, как бы остерегаются ее.
У нее быстро завелось много знакомых в Петербурге – и мужчин, и женщин, и сановников, и придворных, и неслужащих дворян, и из высшего круга, и из среднего сословия. Все принимали французскую графиню, но далее любезных приемов дело не шло. Никем еще Иоанна не могла вертеть на свой лад ради достижения своих целей.
Единственно, что утешало ее, была удача относительно главной цели ее путешествия. На ее счастье, графиня Зарубовская с первой же встречи поддалась ее влиянию и поддавалась все более. Что касается до старика графа, Алексея Григорьевича, то он долженствовал, по убеждению Иоанны, скоро начать ее обожать.
«Да… Но когда? Скоро ли? Когда все это устроится и удастся! – думала Иоанна. – Мы не можем время терять… Мы должны спешить».
Сам глава компании этих чужеземцев после некоторого времени пребывания в Петербурге тоже смутился духом. Он ожидал лучшего приема в северной столице; он думал, что слава его мага и кудесника давно достигла сюда и что на берегах Невы он будет иметь тот же блестящий успех, что и на берегах Сены.
Мечтая во время длинного пути, Калиостро часто в своих грезах видел себя окруженным двором русской императрицы и все раболепно преклоняются перед ним, магом, знаменитым на всю Европу… А золото русских бояр, простодушных и полудиких, сыплется в его карманы!.. Мало того! Императрица знакомится с ним и, околдованная им, совещается с ним по самым важным государственным вопросам, разрешает ему учредить несколько масонских лож в главных городах России, жалует ему знаки отличия, придворное звание, кресты и ценные подарки. И скоро он, кудесник, держит в руках судьбы громадной полудикой снежной страны! Он не первый министр в этой империи по званию, но могущество его на деле равняется могуществу славного по всей Европе знаменитого князя Потемкина.
Это были грезы Калиостро во время пути, и он имел отчасти право мечтать подобным образом.
Всюду до сих пор – в Мадриде, Лондоне и Париже – он имел огромный успех. К нему все шло и бежало – и высшие слои общества, и простонародье. Если подобное совершалось в просвещенных странах, то что же должно быть в дикой и варварской стране? В ней все будет у его ног.
Калиостро назвался графом Фениксом не ради того, чтобы из предосторожности скрыть свое настоящее имя, как это сделала баронесса д'Имер, а ради соблюдения этикета всех путешествующих важных сановников. Подобная замена имени всем известным «инкогнито» была в моде.
Умный и хитрый сицилианец сразу увидел и понял, что ошибся совершенно: или слава об его деяниях еще не достигла до Петербурга, или обитатели этой страны были еще слишком мало испорчены нравственно, еще чисты сердцем. Или, быть может, они настолько привержены к своей религии, что слава духовидца, масона, вызывателя мертвецов и заправителя всякой чертовщиной этим людям не по плечу.
Все относились к магу и волшебнику, как дети к интересной, но страшной картине. И хочется поглядеть, и сердце дрожит. Главное же, о чем мечтал Калиостро и что было ему нужно, – русские червонцы – не сыпались из рук боярских в сицилианские карманы. А это всего более смущало кудесника. Об этом все чаще начал он совещаться с Иоанной, и было наконец решено, что надо спешить в главном деле на все лады, чтобы как можно скорее добиться цели. Или победить, или быть побежденными, но не затягивать дела в долгий ящик. А пока надо было подумать как-нибудь пополнить кассу путешественников.
– Озаботьтесь, графиня, насчет нашей кассы, – объявил однажды своему другу граф Калиостро. – Что касается до меня или, вернее сказать, до Лоренцы, то у нее есть новый знакомый, которому нет подобного во всей этой империи. Он человек страшно богатый и человек с добрым сердцем. Лоренца сумеет выманить у него денег якобы в долг.
– Браво! – воскликнула Иоанна. – Неужели сам князь познакомился с Лоренцой?
– Скажите лучше: Лоренца сумела познакомиться с ним!
– Сам знаменитый царедворец Потемкин?!
Но Калиостро ни слова не ответил и только многозначительно и самодовольно улыбался.
– И хорошее дело, – загадочно произнесла Иоанна. – В случае чего он за нас заступится. Ведь здесь не Франция. Рассердится ваш энциклопедист и философ на троне и сошлет нас на границы свои, но не западные, а восточные… А вы знаете, какие они и где? Родина эскимосов и камчадалов.
Калиостро начал весело хохотать, но вдруг остановился и выговорил:
– А вот что, графиня де Сент-Имер. Я хочу сообщить весь наш план нашему мушкетеру Норичу. Я боюсь его ребяческих понятий. Надо, чтобы он заранее знал, что мы хотим именно произвести с младенцем-графом, его соперником.
– Избави Бог! – воскликнула Иоанна. – Он никогда не согласится. Все пропало тогда. Нет, надо ему тогда открыть все, когда будет поздно… поздно не соглашаться.
– Вы стоите на этом? – серьезно спросил Калиостро.
– Да. Сто раз да!.. Я уж хорошо изучила теперь этого чудака! Доброе сердце – и его всегдашний сателлит малый разум! – иронически произнесла Иоанна.
– Ну так будь по-вашему. Помолчим до поры до времени.
XVI
Из всего общества, явившегося в Петербург, честный и прямодушный Алексей был смущен более всех. С одной стороны, дело его не ладилось. Цели своего прибытия сюда юноша отчаивался достигнуть. С другой стороны, он начинал все более подозревать своих новых друзей. Природный разум и чуткое, благородное сердце говорили ему, что он опрометчиво сошелся с людьми темными и загадочными.
И вот здесь, в Петербурге, они совершают что-то такое, что тщательно скрывают от него и от его сестры и невесты.
В первый раз, когда Алексей отправился с замиранием сердца в дом своего деда, когда доложили о нем, то уже в прихожей Алексей увидел, какое впечатление произвело его посещение. Даже дворня вся смутилась, поднялась на ноги и заметалась. Весь дом вдруг заходил ходуном.
Графиня приняла его встревоженная, даже бледная, даже отчасти оробевшая. Но через несколько мгновений, после нескольких слов беседы, ее смущение перешло в нескрываемый и страшный гнев.
– Как вы смели опять приехать в Россию! – сказала она, и побелевшие губы ее дрожали. – Вы желаете опять попасть в крепость?.. Так я скажу вам, что этого не будет!.. Будет хуже и уже без пощады! На всю вашу жизнь. Вы будете в кандалах и в Камчатке!
Алексей и не ожидал лучшего приема от этой женщины, которая, конечно, должна была ненавидеть его. Он стал объяснять ей подробно и хладнокровно цель своего прибытия в Россию.
– Поймите, графиня, – сказал он, – что я прошу немного. Пусть дед мой поможет мне только получить аудиенцию у императрицы и вручить ей письмо французской королевы. И затем, если государыня согласится на просьбу женщины, стоящей так же высоко, как она сама, тогда вы можете согласиться и на то, что я попрошу у вас.
– Вы сумасшедший!.. Безумец!.. К тому же и дерзкий безумец! – отвечала графиня. – Вам было сказано и доказано, что никаких вы прав не имеете, что вы подкидыш. Вы упрямо противодействовали, сопротивлялись, были за это жестоко наказаны и все-таки не исправились. И вот теперь вы снова, с той же дерзостью, нагло появляетесь опять здесь и опять предъявляете какие-то права… Скажите: вы глупец, безумец или просто наглый, неисправимый человек?
На все эти выходки графини Алексей не отвечал ничего и только просил об одном: допустить его повидаться со стариком графом.
– Запретить вам видеться с моим супругом я не могу и не стану стараться. Вы повидаетесь с ним, но повторяю вам, что я не могу допустить, чтобы граф дозволил вам, хотя временно, именоваться его именем. Коль скоро вы ему совершенно чужой человек, то это немыслимо даже и на одну неделю. Наконец, ходатайствовать за вас перед ее величеством я не желаю. Если государыня в своем ответе французской королеве хотя раз упомянет о вас, именуя вас графом Зарубовским, то это одно как бы узаконивает ваши права на имя.
Беседа эта кончилась тем, что графиня обещала сказать мужу о приезде в Петербург Алексея и допустить его видеться с ним. Прощаясь с Алексеем, она вдруг прибавила с каким-то странным оттенком в голосе:
– Вы очень заблуждаетесь, если думаете, что ваша беседа с моим супругом приведет к чему-нибудь. Вспомните, что с тех пор, как вы виделись с ним в Москве, уже прошло немало времени, а в его преклонные лета люди быстро стареют. Вы очень удивитесь, когда увидите моего супруга. Он очень, даже очень… Чрезвычайно постарел.
Последние слова графиня проговорила как-то запинаясь, как будто это признание было для нее неприятно. Эти последние слова произвели на Алексея такое впечатление, что он невольно, выходя из палат графа, подумал про себя:
«Неужели он так постарел, что впал в детство? Быть может, он будет неспособен не только действовать, защитить меня, поддержать вопреки этой злой женщине, но даже, может быть, не будет в состоянии понять всего того, что я скажу ему!»
И вдруг Алексею пришла мысль спросить у людей о том дворецком, который когда-то в Москве, один из всей дворни графа, отнесся к нему сердечно. Едва собрался он спросить, жив ли и где находится дворецкий, как сам Макар Ильич шибко, почти на рысях, появился в швейцарской и бросился к Алексею.
– Здравствуйте, мой соколик!.. Узнал я сейчас, что вы пожаловали, так с маху со стула и свалился… Ей-богу! – И дворецкий, обхватив Алексея, стал целовать его плечи. – Как вы живете-можете, родимый мой? Родной вы наш, настоящий наш…
И Макар Ильич вдруг заплакал, недоговорив.
– Ничего… Понемногу… Скорее дурно, чем хорошо, – отозвался Алексей, тронутый до глубины души приветствием и слезами чужого ему человека, единственного во всем Петербурге, да и во всей России, который приветливо встретил его.
– Скажите мне, как граф? На днях мне надо с ним повидаться… Как он?.. Как здоровье его?
Дворецкий махнул рукой, вздохнул и выговорил, утирая слезы кулаками:
– Что наш граф!.. Живой покойник!..
– Что?! – воскликнул Алексей.
– Да, соколик мой… Он жив, кушает, молится; от постели до кресла, от кресла к постели сам переходит. А то, бывает, кушает или и на молитве уже засыпает от слабости. Станешь говорить ему что – плохо понимает. Сам заговорит – ин бывает и не поймешь, чего он изволит… Да… плох, плох стал! Старому от молодой жены – дни в годы клади.
Алексей опустил голову, понурился и стоял недвижимо. Все надежды рухнули разом… «Живой мертвец»… Какая же польза от него может быть?
Дворецкий что-то продолжал говорить, но пораженный Алексей не слыхал и, медленными шагами спустившись по широкой лестнице, сел в свой экипаж и двинулся с большого двора…
XVII
С этого дня Алексей начал пытаться достигнуть своей цели иначе, то есть самому добиться аудиенции у императрицы.
Но дело не клеилось, и он начал отчаиваться и тосковать. Глупенькая, но бесконечно добрая Лиза тоже смущалась и тосковала отчасти из-за брата, которого обожала, отчасти от новой обстановки, нового, чуждого города. Печальный вид брата смущал ее. Она привыкла радоваться его радостью и печалиться его печалью, не доискиваясь причины их, как бы не рассуждая.
Впрочем, за время путешествия и пребывания в Петербурге у Лизы было свое горе, которое она таила от брата и воображала простодушно, что он ничего не знает и ничего не видит. Молодая девушка рассталась в Париже с товарищем брата, Турнефором, и только в минуту разлуки и в первые дни долгого пути поняла своим вдруг встрепенувшимся сердцем, что она любит приятеля брата.
Наивная девушка не знала даже, что Турнефор любит ее взаимно и что если бы брат не оправился от болезни, то теперь она была бы уже его подругой жизни.
Лиза в долгие дни, проводимые за двойными рамами, тоскливо оглядывала снежные глыбы, тающие на солнце. Удручающим образом действовало на нее это веселое для снежной страны время, время пробуждения к новой жизни, к расцвету и ликованию всего окружающего.
Для Лизы, никогда не видавшей глубоких зим, видавшей только снежинки, мелькающие в воздухе и покрывающие тонкой пеленой землю, все окружающее не пахло весной, а гнетом отзывалось на сердце.
Но около наивной и тихой от природы девушки томилась другая девушка, по характеру полная ей противоположность.
Эли д'Оливас, почти волшебством очутившаяся так далеко от своей родины, брошенная судьбой с берегов Гвадалквивира на берега Невы – от лимонных и лавровых садов и пальмовых рощ под оголенные серые стволы осин и берез, убитых морозом, – томилась, как пойманная и запертая в клетку птичка.
Пылкость ее нрава как бы остыла. Эли притихла. Порывы гнева, причуд, капризов, даже порывы простой веселости, ребяческой шаловливости – все это исчезло.
Она любила Алексея более чем когда-либо – пылко, страстно, беззаветно; чувствовала, что готова с ним идти хоть на край света. Эти сугробы снега и льда, этот воздух, которым она в дороге, казалось ей, дышала с трудом, даже эти странные люди, которых она видела кругом себя, одетые в какую-то сизую кожу, с лохмами шерсти, эти дикообразные люди – все это пугало ее, не только изумляло. Но несмотря на это, она чувствовала в себе силы и даже желание идти за милым еще дальше, в такие пределы, где солнца совсем не будет, где все будет ледяное, даже дома, даже предметы, где даже и этих звероподобных людей не будет.
Но это чувство являлось в Эли порывом, когда сказывалась в ней страсть. В другие минуты какое-то ей самой ненавистное чувство самовольно прокрадывалось в сердце. Она гнала его, отбивалась от него как от отвратительного насекомого, которое ползло к ней, но победить это чувство не могла. Прокравшись в сердце, оно оставалось иногда подолгу.
А какое это было чувство? Эли боялась и понять его, не только назвать по имени. Это было не что иное, как «раскаяние» в роковом, необдуманном шаге. Ей чудилось вдруг, что любовь Алексея не может вознаградить ее за все то, что она потеряла.
Эли надеялась на полный успех их дела в этой северной столице. Она мечтала, что когда-нибудь они все-таки поедут в обратный путь и в Париже мушкетер короля станет ее мужем. Тогда двинутся они на противоположный отсюда край света, в Андалузию, и будут наконец вполне счастливы. Там законная супруга графа Зарубовского, мушкетера французского короля, могла бы, конечно, невозбранно вступить во все свои права испанской грандессы.
Несмотря, однако, на твердую веру в успех, Эли сознавалась сама себе, что ее судьба странна, что путь, по которому она шла, – скользкий путь.
Наконец, она говорила себе самой, что было бы гораздо благоразумнее остаться с теткой в Париже и ожидать возвращения жениха из России. В этой разлуке с ним ей было бы, конечно, тяжелее, но в ином смысле ей было бы, пожалуй, легче.
Она относилась к Калиостро и к Иоанне так же сдержанно и с такой же робостью, как если бы они были не друзьями, а ее тайными врагами. Что касается до Вильета, который был с ней чрезвычайно любезен, через меру услужлив, Эли гадливо относилась к нему – он был ей противен. Еще недавно она и не предполагала возможности входить в сношения с такой личностью. Она не верила, чтобы Вильет был барон и аристократ. Он казался ей вроде тех неприличных фигур, которые она видела за всю свою жизнь только издали, на улице, из окна своей кареты. А теперь приходилось с такой личностью проводить иногда целые вечера.
Если бы Алексей, которому она верит и которого обожает, относился к нему сердечно, то это бы подействовало и на нее, но ее возлюбленный точно так же сторонился от этого Вильета.
В их беседах наедине о Калиостро и о графине Ламот Алексей признавался невесте, что великий кудесник начинает все менее внушать ему доверия. Многое в графе для него становилось загадочно. А что касается до графини Ламот, то эта женщина ему самому положительно стала противна и даже ненавистна. А если уж Алексей мечтал когда-нибудь навеки избавиться и не встречаться более ни с Калиостро, ни с Иоанной, то, конечно, Эли, как женщина, могла еще менее побороть в себе чувство отвращения к одной и чувство боязни к другому. Таким образом, компания разноплеменная и разнохарактерная, появившаяся на берегах Невы, скоро раскололась надвое. Отношения были дружелюбны, но несколько натянуты. Было два лагеря, и каждый чувствовал, что другой относится к нему не с полным доверием.
Калиостро, графиня Ламот и Вильет постоянно совещались вместе. В свою очередь Алексей, Эли и Лиза любили оставаться втроем.
– Я не понимаю и никогда не пойму, – часто говорил Алексей сестре и невесте, – каким образом Мария Антуанетта может допускать к себе эту графиню, не только любить ее. Она умна, грациозна, красива, остроумна, но все-таки в ней есть что-то особенное, ненавистное…
– Что-то злое! – подсказывала Лиза.
– Что-то странное, загадочное! – говорила Эли.
Тем не менее молодежь кончала тем, что сознавалась:
– А все-таки мы ей многим обязаны. Очень многим.
– Мы неблагодарные! – подсказывала Лиза.
– Мы причудники! – говорила Эли.
XVIII
Прошел месяц и не принес никаких особенных перемен в делах компании чужеземцев, живших на трех отдельных квартирах и видавшихся не явно, а тайком, при соблюдении всевозможных предосторожностей.
Калиостро в своем доме принимал, так же как и в Париже, довольно много гостей или просто любопытных из высшего круга и из простого народа.
Иоанна, или по новому названию, баронесса д'Имер, тоже уже имела очень обширный круг знакомых и бывала постоянно в гостях. У себя же она не принимала никого, извиняясь недостаточно просторным помещением.
Теперь у нее постоянно бывал в качестве близкого друга молодой и богатый гвардеец князь Самойлов и предлагал ей переехать на Дворцовую набережную, в великолепный дом, но Иоанна не согласилась и прямо отказала наотрез, якобы не желая вводить его в расход, но в сущности боясь огласки. Единственное, на что она согласилась, была известного рода помощь князя. У нее теперь появилось бесчисленное количество великолепных нарядов, которыми она прельщала петербургское общество, уверяя, что все это привезено из Парижа.
Благодаря скромности Самойлова, а отчасти манере Иоанны держать себя в обществе гордо и надменно, никому, конечно, и в ум не приходило, что все эти туалеты делаются на счет князя Самойлова. Иоанна пригрозила своему новому другу, что при первом слухе, невыгодном для ее репутации, не ожидая огласки, она немедленно выедет из Петербурга в Париж.
Князь Самойлов был настолько влюблен в красавицу, что искренно сожалел о том, что она замужем, что муж ее здоровехонек, не на том свете, а где-то шатается на этом свете. Он уже подумывал и намекал Иоанне о возможности хлопотать о разводе.
Калиостро, конечно, знал об отношениях Иоанны с Самойловым, но, помимо его, никто во всем городе ни на мгновение не усомнился в простой дружбе. Только Алексей вскоре заподозрил постоянное появление Самойлова в доме графини и вследствие этого перестал пускать к ней в гости невесту и сестру. Он оправдывал это решение тем, что постоянно пребывающий у Иоанны русский князь может встретить Эли и Лизу и разболтать, что они знакомы с Иоанной. А свое знакомство, не только сообщничество, они тщательно скрывали.
Дела руководителя всей компании, самого Калиостро, шли несколько лучше, но далеко были не так блестящи, как грезилось ему в дороге. Волшебник уже окончательно убедился теперь, что здесь, в Петербурге, нельзя разыграть роль духовидца, алхимика и астролога. Его власть над сатаной и адом и над всякой чертовщиной здесь не увлекла никого. Одни не верили, считая его простым шарлатаном, другие, попроще, верили, что итальянский граф состоит в дружбе с самим Вельзевулом, и тем паче избегали его.
Калиостро вскоре увидел, что здесь надо действовать иначе и сказаться только искусным медиком и масоном, отрицая даже свою славу мага. Как масон, верховный мастер и председатель измышленного египетского масонства сицилианец, однако, тоже не имел успеха. В России было уже тогда две-три ложи масонов. Одновременно с приездом его открылась вновь ложа в Ярославле. Знаменитый Новиков, Мельгунов, Лопухин, Трубецкой и другие видные представители русского масонства, тщательно скрываясь от зоркого глаза Екатерины, конечно, не были способны войти в сношения с учредителем нового масонства. К египетской ложе в Париже, о которой они не имели ни малейшего понятия, они, конечно, отнеслись бы с той же сдержанностью и с той же подозрительностью, как отнеслись уже к ней другие масоны Швейцарии и Англии.
Желание графа быть представленным монархине русской проистекало из его наивных надежд, что государыня разрешит ему основать несколько масонских лож в ее обширной империи.
Зато как медик Калиостро имел громадный успех во всем городе, даже такой успех, которым он никогда не пользовался нигде. И действительно, вследствие ли отсутствия хороших врачей в Петербурге и преобладания еще знахарей и знахарок, со знаменитым Ерофеичем во главе, всякому хорошему доктору нетрудно было отличиться.
Вместе с тем, благодаря счастливой случайности, первые опыты практики Феникса в столице были поразительно удачны, и о них поневоле заговорил весь город.
После излечения или, вернее, изумительного исцеления княгини Голицыной, после такого же невероятно искусного исцеления молодого кавалергарда Толстого, упавшего с лошади и разбившегося во время парада, слава медика-графа распространилась по городу, как наводнение, как вода, проникающая не только во все отверстия, но даже и во всякую щель.
С утра перед домом графа Феникса стояли десятки, иногда и сотни простонародья, приводившие своих больных и увечных. Одновременно с ними стояли ряды экипажей людей богатых и зажиточных, являвшихся тоже за советом или за помощью или с благодарностью за излечение.
Главное, что поражало петербуржцев и заставляло славить итальянского доктора-графа, было то удивительное обстоятельство, что за свои излечения он ни с кого не брал ни гроша. Так думал и говорил весь народ; в действительности граф Феникс брал деньги, но только в тех случаях, когда очень богатые сановники и бояре привозили ему не менее двух-трех сотен червонцев. Суммы меньшие он не брал, объясняя, что он вообще денег за леченье не берет.
– Да и зачем мне брать деньги, – все-таки прибавлял Калиостро, – когда я, при помощи огня, углей и воды, при нескольких сакраментальных словах, могу сделать столько слитков золота, сколько захочу.
Но если весь город верил в чудодейственного врача, то в алхимика поверил только один человек, известный и всеми почитаемый статс-секретарь государыни Елагин. Любя всякую таинственность и чертовщину, а с другой стороны, любя и презренный металл, он уверовал и в алхимика Феникса всем сердцем.
Елагин, человек добрый, простодушный, недалекий, стал сразу обожать Калиостро, и не зря, недаром. Однажды маг привез к нему в дом большую склянку розоватой воды, небольшую шкатулку с углем и у него же в кабинете, в его печке, при каком-то синеватом освещении во всей комнате, в фантастическом наряде, приступил к священнодействию. При громком произнесении заклятий, от которых у доброго Елагина душа в пятки ушла, таинственный человек этот обратил эти угли в два больших слитка чистейшего червонного золота и подарил их Елагину.
Сановник, любимец императрицы, стеснялся принять такого рода подарок, но Калиостро смеялся в ответ, уверяя своего русского друга, что для него золото то же, что простой мусор, валяющийся по улицам.
– Я даю вам то, что для меня не имеет никакой цены, – сказал граф Феникс. – А если вы хотите отблагодарить меня, то вы имеете на это данные. Выхлопочите мне аудиенцию у русской монархини.
Разумеется, Елагин, объехав весь Петербург со своими слитками золота, добытыми в его же печке, многих из знакомых изумил своим рассказом, но многих и вдоволь потешил.
Явившись со шкатулкой и с таким же рассказом к государыне, Елагин доставил императрице целый час такого удовольствия, такого веселого смеха, после которого трудно уже было и заикнуться о просьбе итальянского графа быть представленным императрице.
Государыня, разглядывая слитки золота, расспрашивала, как волшебник лазал в печку, как вызывал нечистую силу, освещенный как бы северным сиянием, и хохотала до слез.
Елагин вышел из кабинета царицы, не решившись и заикнуться о желании этого мага быть представленным Екатерине.
Граф сильно приуныл. Тайно, в глубине души, он оправдывал императрицу и теперь более чем когда-либо поверил, что репутация на всю Европу ее высокого ума не подлежит сомнению. Однако настойчивый сицилианец все-таки не отчаивался. Была в Петербурге еще одна личность, могущественнее Елагина, на которую граф мог рассчитывать.
Вскоре после своего приезда Калиостро дал приказание Лоренце пустить в ход все свое женское искусство красавицы и кокетки по отношению к властному русскому боярину Потемкину. И теперь Лоренца, если и видалась с Потемкиным гораздо реже, чем Иоанна с Самойловым, тем не менее была с ним в постоянных сношениях.
Потемкин заплатил дань красавице. Он тем легче был очарован Лоренцей, что она, по примеру своего мужа и даже по его строжайшему приказанию, ни разу не взяла от Потемкина не только денег, но не приняла даже ни единого подарка. Даже простой браслет в сотню червонцев ценой и тот Лоренца отказалась взять. А вместе с тем она удивляла Потемкина теми бриллиантами, которые носила. Она не привезла Потемкину в подарок слитков золота, подобно своему мужу, но потребовала, чтобы он принял от нее в подарок великолепный перстень с замечательным многоценным сапфиром. Передавая этот перстень жене, Калиостро шутя прибавил:
– А уплату за него, милая Лоренца, мы все-таки получим… Да и за все заставим заплатить. Но уже после, при отъезде…
XIX
Наконец дела Алексея пошли на лад, но только совсем не так, как он думал и ожидал. Ладилось то именно, на что наименее было надежды, и не клеилось то, что было заранее поставлено главной целью его прибытия в Россию.
Побывав наконец с разрешения графини Зарубовской у старика деда, Алексей был поражен тем, что увидел. Он нашел действительно не хворого и хилого человека преклонных лет, но просто едва живую развалину. Он пришел к убеждению, что совершенно одряхлевший и выживший из ума старик, даже отчасти изменившийся нравом, робкий и боязливый, трепещущий перед своей молодой женой, как малый ребенок, теперь уж не способен действовать в каком-либо деле, соглашаться или противиться. Он был именно, по меткому русскому выражению дворецкого, живой мертвец.
Рассчитывать на перемену образа мыслей, на согласие и помощь самой Софьи Осиповны было, конечно, бессмысленно.
После продолжительной беседы с графиней Алексей убедился, что если бы не полное детство, в которое впал старый дед, то молодая жестокосердая женщина снова бы заставила Зарубовского воспользоваться своим значением и связями, опять засадить этого врага их сына в крепость. Но теперь графа нельзя было заставить действовать.
Много наслушавшись в Петербурге всяких рассказов о русской монархине, Алексей додумался до решения попытать счастья, действовать самому, на свой страх.
Алексей отправился в Царское Село и храбро стал на том месте парка, где прогуливалась по утрам императрица. При ее приближении он опустился на колени и подал просьбу, в которой подробно описывал всю свою злосчастную судьбу, а к просьбе было приложено и письмо Марии Антуанетты. Красивое лицо Алексея, изящная фигура, французский язык его, затем правильное произношение немецкой речи не только произвели приятное впечатление на государыню, но даже особенно подействовали на нее.
Остановившись среди прерванной прогулки, приказав молодому человеку подняться, государыня обещала в тот же день познакомиться с делом и стала беседовать с Алексеем, поочередно меняя все три языка.
Алексей на словах и, конечно, как можно более кратко сказал в чем дело, кто он, откуда, о чем просит, и государыня милостиво вымолвила:
– С делом познакомлюсь. Что-то, помнится, слышала о вас. Если прав, то заступлюсь. Сделаю, что можно.
Через три дня Алексей был вызван к князю Потемкину, и тот, несмотря на свою гордость, принял Алексея вежливо, хотя немножко холодно.
Во время беседы Потемкин вглядывался в Алексея таким проницательным, пронизывающим насквозь взглядом своего единственного глаза, что Алексею становилось как-то жутко.
Через несколько мгновений вежливая, но сухая речь Потемкина оборвалась, изменилась и сразу перешла в добродушную ласковую беседу.
Алексей не мог понять причины этой мгновенной перемены, но она была очевидна.
Потемкин передал молодому человеку, что государыня ознакомилась с его просьбой и с письмом королевы. Относительно первого она не может дать никакого удовлетворения. Коль скоро сам граф Зарубовский, по свидетельству своих приближенных и прислуги, считает господина Норича подкинутым младенцем, то государыня не может заставить его переменить мнение, заставить его назвать господина Норича графом Зарубовским. А расследовать дело, назначить судейскую комиссию не из подьячих, а из сановников для разбирательства того, что якобы произошло с лишком двадцать лет назад, было, по мнению монархини, совершенно немыслимым и бесполезным.
Что касается до письма королевы, то государыня милостиво пожалует господина Норича в звание поручика лейб-гусарского эскадрона, недавно сформированного. Но с тем условием, однако, чтобы господин Норич не оставался в Петербурге и не пользовался этим чином в пределах России. Такими чинами гвардии пользуются заслуженные и пожилые генералы…
– Если вы желаете иметь патент на этот чин, – прибавил Потемкин, – то вы должны обязаться не жить в России.
– Я согласен, – отозвался Алексей, – и благодарю… Но, насколько мне помнится, королева пишет государыне – оказать мне милость, дать придворное звание.
– Да… – сухо отозвался Потемкин. – И это возможно. Если даже государыня не согласится с первого раза, то я лично, – и на слово «я» Потемкин налег, – я лично обещаю вам устроить это дело… Но опять-таки если вы мне дадите ваше слово тотчас покинуть Россию.
– Я уеду тотчас же и никогда не вернусь! – поспешил ответить Алексей.
В голосе его было столько правды, искренности, столько радости прозвучало в его словах, что Потемкин снова, пронизывая его взглядом, немножко как бы удивился.
– Так вы не предполагали, не желали оставаться в России?
– Никогда! – воскликнул Алексей. – Я не могу, я не хочу оставаться здесь!.. Даже во Франции я не останусь на жительство. Я женюсь на испанке и, по всей вероятности, проживу свой век на юге Андалузии.
– О!.. – воскликнул Потемкин, весело расхохотавшись. – Все будет устроено, мой милый друг!.. – ласково выговорил он и, крепко пожав своей мощной и богатырской ладонью руку молодого человека, прибавил: – Если вы собираетесь сделаться гишпанцем, то я вам все устрою… А я думал, вы хотите дерзким образом, понадеясь на себя, пролезть у нас в русские сановники. Обида мне, молодой человек, что не могу я и титул графа Зарубовского вам устроить!.. А все-таки я, может быть, съезжу к графине Софье Осиповне… Скажу вам откровенно, что дело это, то есть ваше заключение, много говору и шуму когда-то наделало. Сама государыня была тогда возмущена поступком вашего деда, но делать было нечего. Но мы, по примеру нашей мудрой монархини, верили, да и теперь верим, что вы жертва корысти вашей бабушки-мачехи… Софья Осиповна – кремень-баба!..
Алексей вышел от Потемкина почти довольный. Негромкое имя Норича, соединенное с придворным знанием двора императрицы российской и с патентом на звание офицера гвардии, должно было удовлетворить честолюбию старой маркизы Ангустиас.
Через несколько дней Алексей узнал через Лоренцу, что Потемкин побывал у графини Зарубовской по какому-то делу и потом бранил ее.
После относительной удачи в своем деле, от которой стали гораздо веселее и Лиза и Эли, Алексей однажды вечером, будучи у Калиостро, объявил в присутствии графини Ламот, что готов даже удовольствоваться тем, что выхлопотал себе, и ехать из России.
Калиостро и графиня Ламот были равно поражены этим объяснением и объявили молодому человеку, что если он пригласил их сюда, в Россию, для помощи в своем деле, то не имеет права теперь бросать предприятие и бежать, не дождавшись никакого результата.
– Не забудьте, мой юный друг, – вымолвил Калиостро, что вы мне обещали, то есть предлагали, в случае успеха в России, часть состояния, которое можете получить.
– Что ж вам деньги, когда вы можете из угля и воды… – начал было Алексей совершенно серьезно.
– Оставьте шутки! – строго прервал его Калиостро.
– Да вообще это нелепость – ехать через всю Европу, чтобы получить чин поручика и этим удовольствоваться! – заговорила Иоанна.
И графиня, особенно взволнованная, объявила Алексею, что не далее как через недели две старый граф с женой подадут просьбу императрице, в которой скажут, что признают Алексея снова своим внуком. Они будут просить прощенья государыни и у него самого за сделанную несправедливость, так как показание супругов Норичей оказалось злодейской клеветой, голой ложью, выдумкой, несправедливой относительно Алексея и позорной для них самих.
– Достаточно ли этого с вас? Или вы мне не верите?! – воскликнула Иоанна.
– Не знаю… – отозвался растерявшийся и пораженный Алексей. – Но как?.. Почему?.. Каким образом?..
– Все это не ваше дело! – сухо выговорила Иоанна. – Вы в этих делах сущий ребенок, с вами я не стану входить в откровенности. Вы судите о многих вещах как-то по-своему, по-ребячьи… Повторяю вам: через какой-нибудь месяц вы будете снова по закону граф Зарубовский и собственник половины всего состояния. Сама Софья Осиповна будет из сил выбиваться и хлопотать, чтобы это совершилось законным порядком. Я знаю это из вернейшего источника, от близких к графине Зарубовской людей. Повторяю: через месяц вы – граф Зарубовский и богач!.. Поняли?
Алексей молчал. Он стоял пораженный. Несмотря на свою неприязнь к этой женщине, он все-таки верил теперь всему, что она сказала.
XX
Пока Алексей устраивал свои дела, в доме старого графа было много нового.
Дальний родственник Софьи Осиповны, никогда у них не бывший прежде, явился однажды и стал особенно любезничать и ухаживать за молодой графиней, в шутку величая ее «тетушкой».
Графиня поддалась на это ухаживание молодого и красивого гвардейца, который был не кто иной, как князь Самойлов.
Через несколько времени новый ухаживатель стал просить «тетушку» принять у себя чужеземку, приехавшую в Петербург, которая очень скучает, а с другой стороны – стремится познакомиться с графиней, об уме которой много слышала.
– Я ей так вас превозношу всегда, что она теперь спит и видит сблизиться с вами! – объяснил Самойлов.
Графиня, конечно польщенная, согласилась с удовольствием. Баронесса д'Имер появилась в доме, а через три дня начала уже бывать у графини запросто. Через неделю она была знакома и со старым, еле живым, нелюдимым графом Алексеем Григорьевичем. Вскоре, по ее рекомендации, графиня взяла в дом к своему обожаемому младенцу-сыну французскую бонну, которая сделалась главной начальницей над всеми матушками и нянюшками.
Далее главная и любимая няня старая Кондратьевна была совсем отстранена от ребенка, и все ее козни и подкопы против «бонки» и «французеньки» не привели ни к чему.
Графиня не могла нахвалиться ухаживаньем за ребенком, кротостью и внимательностью бонны, мадам Розы. Бонна постепенно совсем отдалила всех от младенца-«графчика» – и нянек, и девушек. Все она делала сама, спала около кроватки своего «cher Gricha»[16] и, когда этот Гриша заплачет, кидалась к нему со всех ног как угорелая. Много раз графиня благодарила баронессу за такую няню.
Знакомство Иоанны с Софьей Осиповной перешло в тесную дружбу. Нельзя было не прельститься этой красивой, элегантной, остроумной и любезной парижанкой. Да и ее общественное положение там, в Париже, было, конечно, выше положения графини Зарубовской в Петербурге. Баронесса д'Имер была, по ее собственным словам, другом королевы Марии Антуанетты и даже теперь с нею состояла в переписке. Софья Осиповна была польщена.
Но вдруг появилась тревожная забота у графини. Ребенок заболел… Призванные два доктора объяснили, что болезни, собственно говоря, нет.
– Это пустяки. У детей мало ли что бывает. Верно, зубки режутся!
Графиня беспокоилась и заявляла, что у Гриши давно весь рот полон зубов.
– Ну, умный зуб режется! – заявлял домашний доктор.
Ребенку стало было лучше, потом опять много хуже, и наконец он совсем слег. Доктора только разводили руками и объясняли зубками. Жар, метание, высокий пульс или спячка, вялость и упадок сил – все это чередовалось, а доктора все пичкали Гришу всякими снадобьями и говорили, что, может быть, вот:
– Прорежется умный или глазной зуб, и все пройдет.
Роза окончательно измучилась с больным.
Однажды новый друг дома, баронесса, явилась и, узнав, что le cher petit Gricha[17] опять очень плох, заметила графине, почему она не хочет обратиться за советом к медику, который своими чудодейственными исцелениями привел в восторг весь город, – приезжему иностранцу, к графу Фениксу.
– Конечно, я бы очень рада, но я его не знаю, – сказала графиня. – Как его звать из-за пустяков, когда он не медик за деньги, а из любезности и человеколюбия.
– Я вам это устрою! – вызвалась баронесса д'Имер. – Я с ним не знакома, но встречала его жену. Я поеду к ней, а через нее устрою все. Граф Феникс сам явится к вам, если он так любезен, как говорят.
Через два дня граф Феникс был в доме Зарубовского и внимательно осматривал больного ребенка. Затем он заявил графине, что болезнь очень опасная, почти неизлечимая в тех условиях, при которых находится дитя.
– Нужен правильный уход и правильное лечение. Надо бы ему быть в больнице, а не дома.
– Почему же? – спросила Софья Осиповна.
– Нужно систематическое леченье, графиня, – заявил Феникс. – Я могу, конечно, вылечить ребенка, но для этого необходимо мне постоянно иметь его под глазами, видать его каждый час, раз двадцать на день, чтобы следить неустанно за действием моих лекарств. Ездить же к вам так часто я не могу.
– Помогите хоть чем-нибудь. Лечите и навещайте ребенка хоть раз в два дня, – сказала баронесса д'Имер, присутствовавшая при визите мага и врача.
– Так ничего не будет! – отозвался Калиостро-Феникс. – Я положительно лечить отказываюсь при таких условиях.
– Что же делать? – воскликнула графиня Софья Осиповна.
– Дайте его ко мне в дом, и я берусь его вылечить. Но с тем, чтобы вы не навещали его.
Графиня, разумеется, и слышать не хотела о том, чтобы расстаться с единственным сыном, да еще и не видеть его.
Феникс уехал. А с следующего дня ребенку стало много хуже… Он не узнавал никого, бредил и стонал.
– Побойтесь Бога, графиня… Согласитесь на предложение Феникса! – уговаривала Иоанна своего друга.
– Спасите бедного Gricha, – плакала его бонна Роза. – Согласитесь отпустить нас в дом этого итальянского доктора. Я не отойду и там от ребенка ни на шаг.
Графиня в отчаянии и страхе не выдержала и согласилась.
Феникс приехал и перевез к себе и больного, и его бонну, положительно обещая, что через неделю возвратится с совершенно здоровым ребенком. Баронессе д'Имер, как постороннему лицу, он позволил видать у него ребенка, чтобы извещать его мать о ходе болезни и лечения.
Графиня, разумеется, была в страшной тревоге и, как говорится, сама не своя, но со второго же дня Иоанна, навестившая Гришу, сама привезла хорошие вести. Через два дня еще Гриша, по ее словам, был почти совершенно оправившись, только граф Феникс, заподозрив бонну в противодействии его указаниям, отправил ее.
– Розу?! – воскликнула графиня.
– Да. Мне это тоже очень неприятно, – сказала Иоанна, – и я считаю, что это бессмысленный каприз медика.
– Стало быть, Гриша один! Один! Без няни! – восклицала графиня в отчаянии.
– Успокойтесь. Около него две няни. Одна русская, другая итальянка, и уход отличный. Но мне жаль Розу, которая страшно огорчена и оскорблена. Она была у меня…
– Где же она? Зачем же она не пришла ко мне?
– Она и не придет. Ей стыдно вас и всех ваших людей. Она сказала, что сегодня же уходит совсем из страны, где подвергаются таким незаслуженным оскорблениям.
– Уговорите ее, милая баронесса. Пришлите ко мне. Как только Феникс привезет мне Гришу, я ее опять возьму.
– Обещать не могу, – ответила Иоанна. – Она самолюбива. Да, вероятно, она уж и выехала из Петербурга.
Прошло дней десять, ребенок, по словам баронессы д'Имер, поправился окончательно, и граф Феникс уже собирался привезти его к матери. Графиня радовалась и нетерпеливо ждала этого дня, тем более что старый муж начинал уже страшно тосковать, не видя любимца сына. Он жаловался, плакался и брюзжал по целым дням, упрекая жену первый раз в жизни в бессердечности и безрассудстве.
– Как можно? Как можно?! – тосклико ворчал граф Алексей Григорьевич. – Чужому человеку свое дитя препоручить. А еще мать.
Объяснять старому мужу всю безвыходность и беспомощность положения, в котором была она, конечно, не стоило. Софья Осиповна отмалчивалась и только раз огрызнулась на мужа.
– А лучше было бы, если бы он – Христос с ним – помер. Ведь уж он помирал! А этот Феникс брался вылечить, но с условием – на дому. Что же, по-вашему, надо было оставить умирать единственного сына?
Вскоре, однако, это мученье кончилось, Иоанна приехала и объявила, что Феникс будет с ребенком в тот же вечер.
– Он просил только вас предупредить, – заметила графиня д'Имер, – чтобы вы не тревожились, что у Гриши все личико высыпало. Это дня в три пройдет.
XXI
Дела Алексея наконец увенчались если не полным, то большим и неожиданным успехом. Любимец королевы Марии Антуанетты и мушкетер ее конвоя стал поручиком русской гвардии.
Князь Потемкин поздравил молодого человека, но советовал тотчас выезжать из России, чтобы не навлечь на себя неприятностей от завидующих ему лиц.
– А таковые есть, мой друг, – сказал загадочно Потемкин. – Собирайтесь подобру-поздорову, без проволочек. Что вам тут у нас делать?
– Я выеду немедленно! – отозвался Алексей.
Откланявшись князю, Алексей отправился к Калиостро и объявил как о своем успехе, так и о предполагаемом отъезде.
– Нет, любезнейший Норич! – воскликнул кудесник. – Это немыслимо. Вам надо обождать.
– Зачем? Какая цель? У меня теперь все, что я мог и могу получить. Остальное невозможно…
– Приезжайте ввечеру ко мне, – сказал Калиостро, помолчав. – Будет графиня Ламот, и мы вместе все дело обсудим. Она больше меня знает, в каком положении все дело, так как она часто видит ваших врагов.
– Графиня? – удивился Алексей. – Она часто видает… Кого?
– Графа Зарубовского и графиню, его супругу. Они давно знакомы.
Алексей, не бывавший ни разу за все последнее время в доме деда, не мог этого знать и был теперь чрезвычайно удивлен. Вечером он, конечно, приехал к Калиостро и нашел у него Иоанну.
Графиня была несколько взволнованна и стала убеждать Алексея не портить своих дел и не слушаться Потемкина.
– Все идет на лад! – начала Иоанна и затем говорила довольно долго, при этом быстро, раздражительно, даже отчасти гневно… Но, однако, она говорила неясно, избегая подробностей, объясняясь общими местами и ограничиваясь обещаниями.
– Но как все это устроится? Вы мне этого не говорите, – заметил Алексей. – Как? Каким образом? В силу каких обстоятельств?
– Я вам отвечаю головой за успех и с вас должно быть достаточно! – вымолвила Иоанна уклончиво.
Наступило молчание и длилось довольно долго.
– Итак, я надеюсь, что вы подождете какой-нибудь месяц? – угрюмо произнес наконец Калиостро после паузы. – Подождете, чтобы выехать из России богачом и Зарубовским.
– Конечно… – пролепетал Алексей, как провинившийся школьник. – Но как?.. Каким образом? – произнес он снова, как бы уже сам себе.
– Этого ни я, ни графиня вам не скажем, – холодно проговорил Калиостро. – Это до вас не касается. Мы ваши ходатаи и ведем дела за вас. А плоды наших усилий и трудов мы вам представим.
– Когда вы узнаете, в чем дело, – заговорила Иоанна, – то вы будете, конечно, настолько благоразумны, что не сделаете какой-нибудь – я не знаю… какой-нибудь умышленной неосторожности и не испортите того дела, за которое мы взялись по вашей же просьбе… Да, наконец, – прибавила графиня, помолчав, – если вы тогда станете вести себя нелепо, то тем хуже для вас. Имя графа Зарубовского останется брошенное как бы среди дороги, а состояние, то есть часть денег, получим мы себе, граф и я, прямо из рук старого графа.
– Я ничего не понимаю, – отозвался Алексей. – Каким образом вы можете вступить в права наследства помимо меня?.. Я боюсь, что вы делаете нечто, чего мне нельзя сообщить, ибо я не дам на это свое согласие… Я давно подозревал это, а теперь убеждаюсь. Вы что-то здесь творите… И именно вы, графиня…
– Да… Разумеется!.. – резко произнесла Иоанна, вспыхнув и даже вскочив с кресла. – Разумеется!.. Что ж вы воображали? Вы думали, что мы в этом глупом и скучном городе наслаждаемся, веселимся в обществе и теряем время, как вы, в нерешительности или праздности. Конечно, мы добивались цели… И если уж пошло на правду и на объяснение, то скажу вам прямо, что, когда наступит минута получить при известных условиях или обстоятельствах и титул и имя, а вместе с тем и состояние, я приду к вам и спрошу у вас: согласны ли вы? Да или нет!.. Если вы мне ответите «нет», вы должны будете немедленно выехать из Петербурга при соблюдении полного молчания насчет всего, что узнаете. Если вы ответите это «нет» и вздумаете делать огласку, чтобы сильно повредить нам, то знайте: вы в моих руках, в полной моей власти. Я скажу слово, и здешнее правительство…
Иоанна хотела продолжать, когда заметила, что Калиостро делает ей знаки.
– Полноте!.. Полноте!.. – воскликнул Калиостро. – Нам не надо, нельзя ссориться… Перестаньте!.. Вы, Норич, должны быть благодарны графине. Она из-за вас безвыходно сидит вот уже две недели со старым глупцом Зарубовским, запахивает на нем халат, подает ему какую-то кашицу и какое-то пойло здешних докторов. И граф ее обожает! Все это для вас… Вместе с этим баронесса д'Имер первый друг графини Зарубовской, нянчится постоянно с ее младенцем, тупоумным, кстати сказать, и от природы, и от болезни. И все это – ради вас. А вы ничего этого не цените!..
Алексей был окончательно сражен. Он никогда и не предполагал возможности ничего подобного. Он едва верил своим ушам, слыша теперь, что Иоанна сделалась лучшим другом его старого деда, выжившего из ума, и близким другом неприступной и себялюбивой женщины. Он молчал и соображал, вспоминая все, что сейчас слышал от Иоанны, и старался разгадать то, чего она не хотела досказать.
Эта подозрительная и странная женщина обворожила Зарубовских и теперь твердо и самоуверенно обещает все устроить… Но как? Не из любви же к ней молодая графиня согласится на то, в чем не взялась уговорить ее сама государыня.
– Странно! – прошептал Алексей вслух. – Я уверен, что тут кроется что-то особенное и даже, быть может, что-нибудь ужасное!.. Наконец, может быть, что-нибудь относительно ребенка, с которым вы…
Он не договорил и встал.
Видя, что он собирается уходить, Калиостро сделал незаметный знак Иоанне. Молодая женщина, снова сильно взволнованная, встала перед Алексеем и, загораживая ему выходную дверь, произнесла, сверкая глазами:
– Господин Норич! Помните одно… Хорошо помните: со мной шутить никто не может, тем более такой младенец, как вы. Я вместе с графом Калиостро взялась за ваше дело, проехала всю Европу, теперь неусыпно действую. Я уже приближаюсь к цели, ожидая успеха. Я выбиваюсь из сил исключительно потому – говорю вам это прямо, – что надеюсь получить от вас крупную сумму из того полумиллиона, который получите вы. Такую же сумму или большую вы предложите, конечно, графу. Если же вы не согласитесь воспользоваться плодами наших трудов, то уезжайте, не делайте огласки, а мы вместо вас получим это состояние… Тем лучше для нас. Если же… и вот это последнее я прошу вас помнить… вы наделаете шуму, захотите губить обоих нас на чужбине, то даю вам честное слово графини Ламот, которому она никогда за всю свою жизнь не изменяла, что вы будете жестоко наказаны. Вы будете мною преданы в руки здешнего правительства, на его расправу.
– Угроз, графиня, да еще таких глупых, я не боюсь, – спокойно отозвался Алексей, – и вперед говорю вам, что если вы добудете мне то, о чем я давно мечтаю, честным образом, то я поблагодарю вас. Если нечестно – я откажусь от всего. Стану ли я действовать против вас – я не знаю, обещать не могу ничего. Я не знаю, что вы делаете! Когда узнаю, тогда и буду знать, что мне делать.
Алексей быстро вышел и, вернувшись домой, передал, конечно, все подробно невесте и сестре. Девушки были в восторге и стали обо всем расспрашивать молодого человека, а затем стали, как часто бывало, красноречиво доказывать ему, что графиня Ламот вовсе не такая ужасная женщина, как он думает, и нечего без всякого основания подозревать ее в совершенно гадких поступках.
XXII
Наконец графиня Софья Осиповна успокоилась и утешилась. Ее Гриша был снова в своей детской окружен мамушками. Одно смущало всех, и в особенности графиню, что лицо ребенка и все тело было покрыто багровыми пятнами и сыпью. В особенности было безобразно до неузнаваемости лицо маленького Гриши.
Граф Феникс привез ребенка вечером в карете закутанного и потребовал, чтобы его держали по крайней мере неделю в совершенно темной комнате, так как эта сыпь, по его мнению, могла поразить глаза и причинить, пожалуй, потерю зрения.
– Но отчего, откуда эта сыпь? – все так тревожно добивалась графиня.
Медик и маг объяснил, что если бы эта сыпь не появилась, то ребенок был бы уже на том свете. За тем он и взял его к себе на излечение, чтобы упорными заботами и хлопотами вызвать эту сыпь.
Холодно и отчасти иронически отказавшись от всякого вознаграждения, врач и кудесник уехал, повторяя настоятельную просьбу о темноте в комнате ребенка.
– Я уж не рада, что вам советовала обратиться к этому итальянцу! – заметила графине после его отъезда баронесса д'Имер. – Он обезобразил ребенка.
– Авось скоро пройдет, – говорила графиня. – Подумайте, ведь он был при смерти. Разве можно было колебаться. Напротив, я благодарна вам за совет.
– Мне он ужасно не нравится. Странное лицо.
– Кто… Гриша?
– Какой Гриша. Бог с вами! – рассмеялась баронесса. – Я имею в виду этого Феникса. Мне кажется, он шарлатан и авантюрист.
– Однако денег он не взял, – заметила графиня.
– Что же из этого… Но ведь имя его Калиостро, зачем же он называет себя графом Фениксом.
– Он не скрывает этого… – заметила графиня, – все это знают. Но просто ради этикета инкогнито путешествующего аристократа.
– Какой он аристократ, графиня. Пари держу, что он плебей! – воскликнула Иоанна. – Одним словом, он мне ужасно не по душе. Слава Богу, что вы с ним развязались на веки вечные.
– Да. Но другое дело! – улыбнулась графиня. – Авось нам не придется более к нему обращаться.
Прошло дня три. Домашний и давнишний доктор Зарубовских, который все болезни Гриши приписывал зубкам, снова был допущен к ребенку. Он тоже ахал, разглядывая в полутемной горнице лицо младенца. «Да он его просто вымазал чем-то, – думал доктор. – Это не сыпь, явившаяся сама собой, а сыпь, вызванная втираньем. Ну уж итальянские эскулапы. Я ему пса не дал бы на лечение». И, ничего не говоря самой графине, а тайно уговорясь с главной мамушкой, Кондратьевной, доктор дал ребенку примочку, чтобы избавить скорее от этой сыпи.
Кондратьевна и другие няньки, снова допущенные ходить за «графчиком», были в восторге. Уже почти месяц целый не видали они своего Гришеньку, так как мадам Роза почти не впускала их в детскую, а тем паче не позволяла прикоснуться к младенцу.
– Спасибо этому тальянцу, что он хоть эту мадаму Розу спровадил! – говорили все няньки и под няньки.
Благодаря усилиям доктора и Кондратьевны на третий же день личико ребенка преобразилось, сыпь и пятна исчезли. Занавески на окнах, конечно, перестали закрывать плотно; несмотря на приказ медика-мага, мамушки могли свободно радоваться на Гришу. Но все они стали дивиться теперь на своего графчика и на все лады вздыхали. От ухода за ним Розы, да и от лечения «тальянца» мальчика просто узнать было нельзя – другой ребенок стал: лицом хоть гораздо полнее, да все выражение личика совсем не такое, как бывало прежде. Никогда он не глядел на них такими дикими глазами. И тот, да не тот графчик.
Особенно было обидно Кондратьевне, что, по милости найма Розы и долгой разлуки с своим графчиком, теперь он не узнавал ее и дичился так же, как и всех.
Даже на мать свою он с первого же дня глядел дико и испуганно.
– Отвык! Шутка ли, сколько времени не видал никого из своих.
Ребенок постоянно звал маму, но, когда графиня являлась и наклонялась в полутемноте над его постелью, ребенок дико взглядывал и начинал плакать… Прошел еще день, и однажды вдруг, около сумерек, Кондратьевна, сидя около занавешенного окошка в детской, глубоко задумалась, потом ахнула и перекрестилась.
«Помилуй Матерь Божья! Какое мне наважденье приключилось! – подумала она. – Тьфу!»
Кондратьевна была взволнована; она сидела уже часа два около этого окна и, глубоко задумавшись, соображала. И вот после долгих дум, соображений и воспоминаний о ребенке, за которым она ходила со дня его рождения до минуты найма мадамы Розы, Кондратьевна ахнула на те мысли, которые ей пришли в голову.
– Помилуй, Заступница! – раза три еще перекрестилась Кондратьевна. – Искушение врага человеческого! Эдакое в голову лезет? Даже ноги затряслись от этих моих мыслев.
Но враг человеческий или, вернее, здравый смысл и ясновидящее мамкино сердце подсказывали все свое и свое… Будто нашептывали нечто, от чего у старой няни ноги тряслись.
– А сём-ко я погляжу графчиково родимое пятнышко на бочке под мышечкой! – вдруг пришло на ум Кондратьевне…
Она приперла дверь, раздвинула совсем обе занавески на окнах и в совершенно светлой комнате раскрыла ребенка на постели.
– Дай-ко я его разгляжу всего, – сказала Кондратьевна.
И вдруг теперь, при свете, пристально вглядевшись в лицо младенца, Кондратьевна почувствовала, что ноги у ней подкосились совсем.
Уже испуганно нагнулась она, повернула ребенка и подняла его рубашечку, чтобы найти хорошо ей знакомую и большую родинку. И обомлела няня…
Родинки не было!
Повернула она ребенка на другой бок… Оглядела всего, вгляделась опять в лицо, очистившееся вполне от сыпи и пятен, и вдруг…
Вдруг Кондратьевна как стояла, так и повалилась на пол…
– Матерь Божья… Помогите, родимые… Силы небесные… Девушки! Голубушки!..
Сначала Кондратьевна жалобно и перепуганно взмолилась и бормотала, заливаясь слезами, но наконец начала уже отчаянно кричать и звать на помощь.
Она не могла встать сама. Ноги у нее будто отнялись по самые колени.
На крик няни наконец сбежались горничные и, подняв ее, перевели на кровать рядом с кроваткой младенца.
– Графинюшку! Графинюшку мне! – взмолилась Кондратьевна.
Побежали за Софьей Осиповной три девушки и доложили, что мамушка Кондратьевна плоха, должно, помирать собралась и зовет барыню.
Графиня тотчас явилась и прежде всего пришла в ужас, что в детской светлехонько, несмотря на строгое указание графа Феникса.
– Графинюшка, голубушка… – забормотала Кондратьевна… – Прости меня, окаянную, а я… Я, должно, ума решилась… Глянь поди на него… на… На этого, на младенчика… Глянь…
– Что такое? Что ты?..
– Поди, родная, вглядися. Хорошенько вглядися, что тебе серденько подскажет… Пойдем. И я пойду.
– Упадете, нянюшка! – заявила одна горничная.
– Ни-ни… Ноги очухались… Гляди, графинюшка. Гляди. Ну, что же? Что?..
Графиня между тем страшными глазами вглядывалась в лицо ребенка, освещенное теперь в первый раз из двух окон, за которыми сияло солнце.
– А родинку помнишь, графинюшка. Родинку?.. Говори, помнишь?
Но Софья Осиповна ничего не отвечала, она стояла мертвенно-бледная, с дрожащими посинелыми губами и вдруг сразу, без крику, без единого звука, закачалась и, взмахнув руками над головой, повалилась на руки стоящих кругом нее горничных. Едва-едва успели подхватить они бесчувственную, как труп, барыню.
Графиня, однако, тотчас же пришла в себя и, бросившись снова к постели ребенка, дико, отчаянно закричала на весь дом.
– Это не он! Это не он!..
– Подменил! – произнес кто-то роковое слово.
Софья Осиповна побежала стремглав к своему мужу, но на пороге его комнаты вдруг замерла.
– Нет. Это убьет его… – прошептала она сама себе. – Он не осилит такого… Господи! Что же это? За что наказуешь меня?
И вдруг сразу Софья Осиповна вспомнила и ответила себе мысленно по совести:
«За что? За него… За Алексея… За внука ее мужа. Вот за что!..»
Графиня упала на ближайшее кресло и глухо зарыдала, затыкая себе рот платком, чтобы эти рыданья не достигли до ушей старика мужа.
– Подменил! Подменил!
Это слово повторялось всюду всеми, и весь большой дом заходил ходуном…
Только один граф не знал ничего, а, напротив, ожидал, что возвращенного медиком сына принесут к нему повидаться.
Многие из стариков людей, дворецкий Макар Ильич, многие нахлебники и, наконец, всей дворне ненавистные Норичи – все побывали в детской, всех звала Кондратьевна.
– Идите. Глядите, родимые… – звала она. – Не наваждение ли какое? Может, нам сатана глаза отводит!
Но все единогласно заявляли, поглядев на ребенка, что, хотя «сходствие малое» и есть, «где же» и «как можно». Разве всем известный махонький графчик эдакий «из себя» был.
– Ничего у него графчикова нету в лице, акромя малого подобия в черных глазах. Да и они совсем не такие и куда чернее. Этот скорее на какого тальянца смахивает или на цыганенка.
Когда в детской никого не осталось, кроме одной Кондратьевны, продолжавшей плакать и причитать, в горницу вошел Макар Ильич и, не подходя к кроватке ребенка, проговорил:
– Скажи ты графине своей – поправить худое дело. Может, тогда Господь смилуется и твой графчик разыщется.
– Какое худое дело? – отозвалась мамушка.
– Накликали вы это. Графиня твоя себе накликала! Все в доме так сказывают теперь. Все. Накликали. Расписывали они с Норичами, как умершего якобы графчика у Эмилии Яковлевны подменили другим… Ну вот вам и взаправду такое. Их морока и всякое клевещание ныне правдой обернулось. То было злодейское клевещание, а это вот въяве – сущий подмен младенцев. Поправьте худое дело, и, может быть, Бог над вами смилуется. Да и Алексей-то Григорьевич, то есь старшенький наш графчик, ныне в Питере. Стало, и поправить скорехонько все можно.
Макар Ильич ушел к себе, а Кондратьевна, как бы хватаясь как утопающая за соломинку, пошла разыскивать свою барыню, чтоб сообщить ей рассуждение дворецкого.
Она нашла графиню уже на другой половине дома, в той желтой гостиной, где когда-то принимала она Алексея в первый раз и где он лишился чувств от нравственного удара, нанесенного ему бессердечной женщиной.
Странное дело! Только теперь, выслушав как сквозь сон слова мамушки о рассуждениях дворецкого, Софья Осиповна впервые вдруг заподозрила нечто общее или связь между ее поступком с Алексеем и поступком Калиостро с Гришей.
– Зачем они вместе, одновременно очутились в России! – подумала она.
XXIII
Первая личность, за которой поскакал посланный от графини, была, конечно, ее новая приятельница баронесса д'Имер.
Иоанна явилась тотчас же, и когда бросившаяся к ней навстречу графиня, с новым приливом отчаяния и с рыданьем, объявила ей ужасную весть, то баронесса не устояла на ногах, а затем с ней сделался на секунду как бы легкий обморок.
– Я во всем виновата. Я… Я несчастная! Я посоветовала послать за этим извергом! – заговорила она с отчаяньем и ломая красивые руки, но графине это отчаяние показалось не искренним, а деланным…
– Что же теперь… Что вы думаете. Он уморил моего Гришу и побоялся ответа! И подменил…
– Дайте прийти мне в себя… У меня голова кружится! – И баронесса д'Имер долго молчала, как бы глубоко вдумываясь в страшное событие.
– Он жив! – вдруг решительно выговорила Иоанна.
– Гриша?
– Да. Он жив. Я голову мою вам отдаю на отсечение, что он жив.
Графиня бросилась к приятельнице на шею, как если бы это было не предположенное ею, а привезенное верное известие.
– Да. Я уверена. Убеждена.
– Почему, милая, дорогая. Почему?
– Слушайте. Тут что-нибудь кроется, какая-нибудь тайна. Мы должны раскрыть эту тайну. Поймите одно, графиня, что если б ваш ребенок умер у Феникса, то он просто заявил бы вам об этом. Это не преступление. Он взял совершенно больного, почти умирающего ребенка… Что ж было бы мудреного и чем он виноват, если б ребенок не выздоровел. Ему нечего было бы бояться ответственности. Доктора, которые явной ошибкой в лечении убивают больных, и те не судятся за это. Зачем же он стал бы обманывать вас, подменив ребенка. Привез бы тело…
– Зачем? Зачем?! – воскликнула и графиня. – Ведь денег за лечение он не взял. Единственного повода обмана и подмена и того нет.
– Правда! Правда! Зачем же?
– И неужели вы думаете, что он – маг, масон, все-таки человек бывалый, хитрый сицильянец – так глуп! – продолжала Иоанна горячо. – Неужели вы думаете, что он может воображать и надеяться обмануть мать, сердце матери, если не глаза ее. Да разве можно подменить ребенка двух с лишком лет. Ведь это не новорожденный, которые все похожи друг на друга!
– Что же вы думаете, баронесса! Что вы хотите сказать? – отчаянно произнесла графиня.
– Я хочу сказать… Я утверждаю, что ваш ребенок жив, что он у этого проклятого сицильянца. Тут есть какая-то тайна… которую я разгадать не в силах. Тут кому-нибудь выгода есть, чтобы ваш сын пропал без вести. Подумайте хорошенько. Не знаете ли вы… Нет ли чего подобного. Вспомните…
Софья Осиповна залилась слезами и объяснила, что она должна передать Иоанне подробно одну историю из давней хроники их семейства. Быть может, разгадка всего и найдется сразу.
Графиня коротко, но толково рассказала приятельнице все дело подмены умершего ребенка чужим, совершенной у покойной невестки ее мужа. Отсюда произошла целая история с этим подменным ребенком, ныне взрослым человеком.
– Я все это открыла мужу. Его лишили имени и состояния и даже изгнали из России! – окончила графиня свое повествование. – И вот не он ли через Феникса мстит мне или надеется… этим путем добиться возвращенья своих прав…
– Стало быть, я не ошиблась, графиня. Тут есть тайна, есть что-то… А где проживает теперь этот господин, с которым вы имели столкновение?
– Он здесь!
– Где?! Ведь он изгнан из России, говорите вы?..
– Здесь. Здесь теперь.
– В России. Вернулся?! – воскликнула баронесса.
– Здесь, в Петербурге…
– Теперь! Здесь! В Петербурге! – повторила баронесса упавшим голосом и прибавила, как бы стараясь увериться, что не ослышалась. – Не в Германии, а в Петербурге?.. О, тогда все понятно… Это преступная и ужасная кабала. Не надо было отдавать ребенка этому негодяю сицильянцу. Они соумышленники. Но слава Богу, графиня, слава Богу! Я более чем когда-либо уверена, что ваш Гриша жив.
– А если они, Феникс и Норич, уморили моего бедного Гришу, чтоб не было у графа наследника имени и состояния, – вдруг заплакала опять графиня.
– Никогда! Это была бы глупость! – воскликнула Иоанна смеясь. – Состояние может быть завещано вам законным образом, у вас могут быть другие дети. Что ж они выигрывают? А он от смерти вашего Гриши все-таки не делается наследником, он все-таки остается господином Норичем. Нет, тут кабала, интрига… И я все узнаю. Все… Все узнаю… Дело наше не проиграно. Гриша ваш жив и будет снова у вас. До свидания. Я еду прямо к нему.
– К Фениксу?
– Да. Даю вам слово, что я переверну всю нашу планету кверху ногами, но дело это выиграю!
Целые сутки прождала Софья Осиповна свою приятельницу и за эти сутки постарела лет на десять. Седина блеснула в ее голове.
«Жив Гриша или мертвый?» – тысяча раз звучал вопрос в сердце матери.
Графине казалось даже, что если она узнает, что ребенок умер, и увидит его труп, то ей будет все-таки легче, чем эта неизвестность об его судьбе.
Разумеется, старику графу сказали, все скрыв от него, что Гриша так слаб, что его нельзя нести к отцу, нельзя тревожить из постели. Софья Осиповна, кроме того, объявила, что если кто-либо слово скажет и пустит молву о происшествии за пределы дома и двора, то будет строго наказан: крепостной – сдан в солдаты, а вольный – изгнан тотчас из дому.
Ребенок, по-видимому, в самом деле не русский, а вроде цыганенка, смуглый, черноглазый, красивый собою, был немедленно унесен, конечно, из детской и сдан на попечение одной бездетной семье нахлебников.
По странной случайности судьбы в тот же день за ночь скоропостижно умер ребенок у Норичей, счетом девятый, но как маленький и младший – любимец родителей. Все обитатели палат, да и сами Норичи увидали в этом странное знамение, перст Божий и кару Его!
Игнат Иванович и его жена, давно уже жившие как-то незадачливо во всем, теперь совсем потерялись…
– Вот он, грех-то наш, откупается, – заговорил Норич жене. – Отливаются нам слезки молодого Алексея Григорьевича, что носит силком наше прозвище вместо своего графского, отливаются волкам завсегда овечьи слезки.
А дворня, при известии об их горе, жестоко шутила над ненавистными Норичами:
– Пущай они цыганеночком и заменят покойничка своего. Так им, видно, судьба подменять…
– Перст Божий! – говорил Макар Ильич. – Накликом надысь выдумали, сказ сказывали, а ноне вот оно въяве и воочию навождилося у нас.
Наконец графиня дождалась приятельницы. Баронесса д'Имер приехала радостная… Графиня оторопела, увидя ее, и через силу спросила:
– Жив?
– Жив!.. Я не видала. Он мне не сказал прямо. Но он почти сознался во всем… Ребенок этот из какой-то бедной семьи иностранцев…
– А Гриша у него?
– У него.
– И жив? Жив?..
– Он этого мне не сказал, конечно, но я уверена. Слушайте… Мы отгадали верно. Это кабала! Виновник всего наш враг Норич. Он в уговоре с Фениксом. – И баронесса д'Имер передала графине подробно все, что она будто бы выпытала у Феникса с великим трудом. – В результате было то, что Норич через Феникса требует своих прав… титул, имя и полмиллиона, так как говорит, что у деда состояние выше миллионного.
– И тогда только при исполнении требований этого человека они отдадут мне Гришу? – странно произнесла Софья Осиповна, глядя на Иоанну взором, горящим от гнева и злобы.
– Да, это их условие.
– Спасибо вам, баронесса… Я и так получу моего ребенка, – вымолвила она, вставая. – Этот негодяй Норич не заставит меня… Я еду сейчас же…
– К Фениксу?
– Нет, к другому лицу, стоящему повыше проходимца Феникса… Этого авантюриста и детского вора заставят через полицию возвратить мне ребенка!.. – гневно и грозно произнесла графиня. – Как это умно? Как это хитро? Да что же этот Феникс воображает, что он здесь в России среди дикарей, в стране без законов, без властей?..
– Графиня, ради Бога… – воскликнула Иоанна. – Вы погубите… Вы испортите все дело. Вы потеряете ребенка… Пощадите его и себя самое… Не идите в борьбу. Соглашайтесь на их условия. Послушайтесь совета опытной женщины…
– Никогда… Норич не будет графом Зарубовским. Подкидыш не будет носить имя моего сына…
– Да будет ли у вас этот сын…
– Его заставят возвратить мне ребенка.
– Он откажется от всего. Доказательств нет! Он скажет, что ребенок умер! – воскликнула Иоанна, и, схватив графиню за руку, она отчаянно, чуть не с искренними слезами умоляла ее не идти на борьбу с интриганами, хитрыми и ловкими, а соглашаться на условия их. Но Софья Осиповна, бледная от гнева, озлобленная до ярости, стояла на своем. Теперь она столько же хотела увидеть сына, сколько жаждала отомстить за его похищение и за дерзкую выходку двух, по ее словам, «наглецов и проходимцев».
Иоанна выехала из дома Зарубовских несколько смущенная и поскакала, конечно, прямо к Калиостро. Графиня выехала почти одновременно и сказала ей, что объедет всех лиц «власть имущих», в том числе будет и у князя Потемкина.
Иоанна ураганом влетела в дом на набережной, где жил кудесник, и взволнованная передала результат своей неудачной попытки.
– И пускай! – спокойно отозвался Калиостро. – Чего же вы волнуетесь? Э-эх, графиня. Я от вас этого малодушия не ожидал.
– Да ведь Норича арестуют, пожалуй, а он даже ничего не знает.
– Его не арестуют. Его допросят.
– Ну.
– И он скажет, что ничего не знает, и это будет правдой. А вы скажете, что вы все это сами сочинили и про Норича, и про меня. Так, зря сочинили, как часто барыни сочиняют, что вам так показалось! Ваше самолюбие женское только временно пострадает – вот и все.
– А к вам если явится полиция?
– Явится. Да. Будут требовать ребенка. А я скажу, что он умер, ибо я его уже умершим взял к себе. На это есть свидетели. И виноваты их доктора, а не я…
– Позвольте! – воскликнула Иоанна. – Если он умер, то пожалуйте его труп…
– Так что же? Убивать, стало быть, живого ребенка, чтобы избегнуть беды.
– Нет. Зачем убивать. Это грех! И у меня духу не хватит на это. Да и пользы нам от мертвого ребенка не будет той же, что от живого. Ну-с?.. Труп пожалуйте матери! – кричала Иоанна, как бы требуя. – Что ж? И тут, что ли, подменом вы хотите…
– «Трупа нет, милостивые государи! – выговорил Калиостро важно, с жестом и оглядывая горницу, как бы перед ним стояла официальная группа людей, а не одна Иоанна. – Трупа нет!» – «Где же он?» – «Он не существует. Он в пространстве, преобразясь в мельчайшие атомы. Я совершил неудачный опыт палингенезиса. Каюсь… Но это не преступление».
– Палингенезис?! – воскликнула Иоанна.
– Да-с. Неудачный опыт палингенезиса. Я по всем правилам алхимии сжег труп умершего, чтобы воскресить его, но опыт не удался.
Иоанна громко, весело расхохоталась.
– И вы думаете, что мы отделаемся этим заявлением от властей.
– Конечно. Я не простой медик, а алхимик и маг.
– И затем что же делать? Опять к графине с условиями торга.
– Так точно-с, очаровательная баронесса д'Имер. Вы предложите ей самой сделать все, чтобы…
– Сделать тоже палингенезис! – весело воскликнула Иоанна. – Но удачный. Не огнем, а презренным металлом воскресить труп ребенка к новой жизни.
– Именно. И стоит того, ей-богу, прелестный мальчишка. Глупенький, болезненный, но хорошенький… Но слаб, правда, донельзя, по милости вашей ныне далеко уже путешествующей Розы. Много она ему уже подсыпала зелья. Можно было и поменьше… До сих пор не может он у меня оправиться… Случись с ним теперь какое-либо осложнение, ну хоть бы лихорадка простая, не вынесет, умрет. Вот тогда все у нас и пойдет прахом. Надо бы скорее покончить переговоры с этой упрямой графиней.
– Не упрямой, а скупой… Она деньги больше сына любит.
XXIV
Графиня Зарубовская объехала в один день всех высокопоставленных лиц, объясняя невероятное происшествие и прося заступничества. Все единогласно советовали ей обратиться к всесильному вельможе – Потемкину, так как он один мог быстро решить все дело.
Графиня направилась в Аничков дворец, где жил вельможа, но не была принята им. Секретарь ходил докладывать князю и вынес ответ:
– Если вы приехали с тем, чтобы исполнить то, о чем вас Григорий Александрович просил недавно, заезжая к вам, то он заранее благодарит и просит пожаловать к нему после форменного исполнения его просьбы. Если же вы пожаловали по какому другому делу, то он извиняется недосугом.
– Скажите Григорию Александровичу… Передайте ужасное приключение… Я прошу заступничества по закону…
И графиня кратко передала секретарю всю суть своего приключения и преступного деяния господ Феникса и Норича.
– Скажите, я прошу не милости исключительной, а простого покровительства законов против злодейства, как на то всякая подданная российская имеет право, будь она хоть простая баба крепостная.
– Слушаюсь.
Графиня прождала недолго. Секретарь вышел обратно из апартаментов вельможи и, видимо смущаясь, подошел к ней и заговорил запинаясь:
– Григорий Александрович приказали сказать вашему сиятельству, что российские законы не про вас писаны, потому что…
– Что-о? – изумилась графиня.
– Потому что, кто их сам сугубо нарушает, тот на них при нужде и ссылаться не должен… Вот-с… Извините… Князь приказал в точности свои слова пересказать.
Графиня вышла и отъехала от Аничкова дворца пораженная, но все-таки озлобленная… Она велела ехать к полицмейстеру столицы Рылееву, чтобы просить его доложить об ее деле самой государыне…
В эти же минуты Потемкин, рассказывая все дело своим гостям, прибавил:
– И поделом Каину-бабе!.. Только скажу одно: и мушкетер-то наш – хорош гусь. Чистый мазурик! Я от него такой штуки не ожидал. Долг платежом красен, правда, но на мерзкое деяние благородные люди не ответствуют таковым же; надо будет все-таки в это дело вмешаться и муженька моей прелестной синьоры Лоренцы пугнуть высылкой из пределов российских.
Через день поутру сам Рылеев явился в дом к итальянскому графу-медику с двумя офицерами и чиновником. Обер-полицмейстер предъявил требование о выдаче ребенка графа Зарубовского.
Калиостро объяснился коротко, вежливо и спокойно, говоря, что ребенок, которого он к себе взял лечить, был безнадежно болен и потому скончался через неделю… Чтоб не огорчить мать, он решился свезти ей другого сиротку… Это не преступление.
– По нашим законам подмена ребенка есть преступление! – заявил Рылеев.
– Я не русский подданный.
– Но вы в пределах русских и не можете безнаказанно нарушать русские законы… Вы будете по малой мере высланы из Петербурга. А может быть, и хуже…
Калиостро пожал плечами, но, очевидно, несколько смутился.
– Итак, ребенок умер?
– Да-с.
– Мать его, графиня Зарубовская, желает, конечно, в таком грустном обстоятельстве отдать ребенку последний долг христианский. Позвольте мне получить тело…
– Его нет у меня в доме.
– Как нет? Стало быть – вы его похоронили?.. Где?
– Нет. Тела не существует нигде. Я над ним в качестве алхимика испробовал магический опыт, который – увы! – не увенчался успехом. Я совершил над телом палингенезис…
– Что? Что?.. – воскликнули уже все присутствующие.
– Я сжег труп, чтобы из пепла его, при известных священных обрядах и магических словах, воскресить существо умершего к новой жизни… Это называется на языке алхимии палингенезис. Если б опыт удался, ребенок был бы не только жив, но прожил бы много более ста лет, никогда не болея и не стареясь…
– Палингенезис?.. – улыбаясь против воли, проговорил Рылеев, – вот уж это, признаюсь, я даже не знаю – преступленье по нашим законам или нет. Полагаю, что это тоже надо назвать разбойным самоуправством и богохульством над религией, наказуемыми по законам…
– Это не преступленье по законам моей родины.
– Но здесь не Сицилия и не Калабрия, славящаяся разбойниками, господин граф Феникс, – уже начал сердиться Рылеев.
– Я итальянский подданный!
– Верно-с. Да ребенок-то был русский подданный!
Калиостро снова пожал плечами.
– Я доложу все тотчас же Ее Императорскому Величеству, – холодно сказал Рылеев и вышел.
– Как он сказал: палингенезис? – произнес один из офицеров, когда они уже вышли из дому Калиостро.
– Да. Дурацкое слово шарлатана и фокусника, чтобы объяснить простое преступление мудреным словцом, латинским или греческим…
– Помилуйте, Ваше Превосходительство, – заметил чиновник. – Но слово самое простое русское, только сицильянец произносит его неправильно, не зная российского языка.
– Что вы, Господь с вами. Палингенезис да русское слово?!
– Точно так-с. Только не одно, а два слова. Ведь он сжег труп младенца, веруя, что, видите ли, младенец воскреснет из пепла. Так ли?
– Ну да.
– Ну и выходит сей глупости его русское название: спален невежей!
Рылеев рассмеялся и выговорил:
– Ну это я, голубчик, тоже доложу Государыне. Она любит острые слова. Пожалуй, тебе за это что-нибудь и пришлется. Царица говорит: кто всегда востер на слова, тот часто востер и на дело…
Прошел еще один томительный день для графини Зарубовской. Наконец она получила весть от полицмейстера столицы и залилась слезами… Ребенок умер и даже тела ребенка нет!..
Этот удар ее сломил окончательно. Она в один день изменилась настолько, что все домочадцы и даже сам тайно не любивший ее дворецкий Макар Ильич и тот вздыхал, глядя на нее…
– Жаловаться? Его вышлют из столицы! Даже если и в крепость засадят на год! Что ж пользы?.. Гришу не вернешь… – говорила и плакала графиня вместе с Кондратьевной.
– А если он жив, матушка моя? Если жив-живехонек, графинюшка? А только скрыт? – заговорила наконец Кондратьевна. – Я гадала, родная моя, и на картах, и на кофейной гуще, и на воске, и на паутинке… На всем выходит: жив Гриша!
– Да и мне, мамушка, сердце говорит… Нет, нет, говорит то же самое…
– Коли не отдает он вам Гришу хоть покойничком, окаянный дьявол, то верьте слову моему – не может, потому что жив Гриша. Дайте этой тальянской сатане тысячу рублей, и будет у нас Гриша. Не жалейте денег, графинюшка…
– Тысячу рублей, – сквозь слезы готова была улыбнуться графиня. – Да я дала бы сто тысяч… Но они не того хотят. Они безумное требуют.
– Ну хоть сто… Рублей ли, тысяч ли… Как теперь лучше. Только дайте! – молила Кондратьевна плача.
В эту минуту лакей подал графине записку, но она не читая бросила ее на стол.
– От кого? – спросила она.
– Неизвестно-с. – И лакей доложил, что ему передали записку, оставленную каким-то пожилым господином, который, не назвавшись и не промолвив ни единого слова, ушел. – Кажется, не из наших, говорят люди, – объяснил лакей.
– Понятно, что не наш, коли не у нас живет!
– Никак нет-с. Я говорю не из наших, то есть российских, православных, – объяснил лакей. – Сказывают люди, должен он быть из этих… Вот что доктор был… Из итальянцев. По роже его музланой видать…
Графиня при этом известии схватила записку и, будто чуя что-то, дрожащей рукой сломила печать и прочла две строчки, написанные по-французски:
«Человек, вам преданный, заявляет: ребенок жив. Согласитесь на условия и берите его, не делая огласки».
Графиня заплакала и уже не знала сама, от чего? От радости или нет. Как верить этому неизвестному. А надо верить. Да и сердце все подсказывает свое: жив Гриша.
Графиня Софья Осиповна была уже теперь после всего пережитого не та высокомерная, себялюбивая и самовластная женщина. Силы ее были надломлены, гордый гнев не являлся уже в сердце энергичной женщины. Она смирилась под гнетом горя матери. Она начинала чувствовать нечто вроде раскаяния… Ей представлялось часто, что сказала бы, что почувствовала бы теперь, страдая за сына, графиня Эмилия Яковлевна, если бы была жива.
– Ну, Бог с ним… я за ним пошлю, – выговорила она вслух. – Пускай он получает свое. Но надо начать с Норичей… Пускай они покаются в клевете…
Решив послать за Алексеем, графиня, однако, колебалась. Злой дух будто шептал ей:
«Не спеши. Не уступай. Так обойдется. Полмиллиона разве шутка отнять у родного сына. Предложи ему одно имя и титул. Ведь он сам когда-то только этого и просил!..»
И, проволновавшись целый день, графиня уступила в виду настоятельных требований мужа повидать Гришу и его сборов – самому идти в детскую. Вечером послала она Макара Ильича к Алексею просить его к ней наутро для объяснений.
XXV
Вместе с тем графиня два раза посылала к баронессе д'Имер, сначала убедительно прося ее побывать к ней, а затем, когда та сказалась больной, прося позволения самой приехать. Но и вторую просьбу баронесса отклонила, заявив, что не в состоянии видеть графиню Зарубовскую после страшного несчастья, происшедшего отчасти по ее вине.
Второй ответ привез Самойлов на словах и прибавил, что баронесса плачет по целым дням и умоляет хлопотать, чтобы Феникса посадили в крепость за его поступок.
Графиня просила Самойлова передать другу, что она получила анонимную записку с извещением, что ребенок ее жив и будет ей возвращен, если она согласится на условия, которые ей, баронессе, хорошо известны.
– Скажите ей, что я решилась согласиться на все и завтра повидаюсь с господином… Ну, с известной личностью.
Графиня запнулась и прибавила про себя, отчасти грустно, но все-таки отчасти и озлобленно:
– С минуты моего согласия – он уже не Норич, а тоже граф Зарубовский… По крайней мере хоть состояние я все спасу для Гриши.
Самойлов ничего не знал, конечно, о посредничестве своей возлюбленной баронессы в каком-либо деле и ничего теперь не понял.
– Я передам, тетушка, буквально, – сказал офицер улыбаясь, – хотя ничего не понимаю. Умер, жив, сожжен, украден – и все это ваш Гриша!.. Весь Петербург вопиет об этом деле и требует примерного наказания шарлатана Феникса, если даже ваш ребенок и жив окажется… Вы слышали? Вероятно, нет? Об остроте, сказанной генералом Рылеевым насчет предполагаемого сожжения вашего Гриши… Спален невежей – слышали?
– Ах, полноте, – возмутилась сердцем Софья Осиповна, – хорошо Петербургу шутить! А каково родной матери, когда с ее детищем делают такие фокусы. Подменить родное дитя другим, каким-то цыганенком, а его умертвить, сжечь или хуже того, много хуже… Отдать в чужие руки найденышем, подкидышем… чтоб он даже и имя свое потерял… Каково это матери!
– Да, тетушка… – вдруг произнес Самойлов, уже не улыбаясь и странно глядя ей в глаза… – Бывает так на свете с иным несчастным. И спасибо, если мать такого несчастного уже на том свете и не может страдать за сына…
При этом Самойлов встал и раскланялся… Выходя, он думал про себя то же, что думал и говорил теперь весь Петербург. А в столице все хотя возмущались поведением Феникса, но от самой царицы и до маленького чиновника или мелкого дворянина, от генерал-прокурора Вяземского и до последнего бунтаря – все в один голос вторили: «Поделом вору и мука!»
Графиня, понявшая, конечно, намек Самойлова, произнесла почти ему вслед раздражительно и озлобленно:
– Да, Эмилия Яковлевна, отплатил мне твой сынок. Поквитался за тебя лихо.
Между тем главный виновник ужасного деяния, как думали все, то есть Алексей, не бывал нигде и собирался во Францию. И он, конечно, не мог знать того, что уже знал весь город.
Однажды, когда он зашел по своему делу в канцелярию военной коллегии – ему почудилось, что на него все смотрят как-то особенно. В числе публики был один старик капитан с маленьким сынишкой. Алексею пришлось, поджидая, сесть около них, и когда один из военных чиновников прошел мимо, то поздоровался с капитаном и искоса взглянул на Алексея.
– Вы осторожнее, капитан, – сказал он вдруг, странно ухмыляясь… – Насчет то есть парнишки своего. Одного не оставляйте. У нас, слышали, что завелось в Питере. Детей крадут у родителей и выкупа требуют.
Капитан не понял намека, не слыхав ничего о том, что знали все в городе. В столице ходила уже молва, что ребенок графа Зарубовского пострадал ради тайного соглашения графа Феникса с полурусским мушкетером французской королевы.
– Хорош у Марии Антуанетты конвой! – сказал кто-то. – Из каких молодцов состоит! Детокрады!..
Однажды вечером явился на квартиру Алексея дворецкий Макар Ильич и радостно передал ему приглашение быть наутро у Софьи Осиповны ради объяснения по делу.
– Что такое? Зачем? – удивился Алексей.
– Должно быть, из-за нашего графчика… Вы, родной мой, славно ее приперли к стенке. Поделом. Хорошо надумано… Грех за грех – да что ж делать. И она с вами не греши…
И Макар Ильич невольно изумился смущению и недоумению, написанному на лице Алексея.
– Да нешто вы не знаете ничего о графчике, что уворовал у нас тальянец. А как же все болтают, что вы его подкупили и теперь калым с графини требуете, чтоб отдать графчика обратно.
– Говори! Говори! Все рассказывай! Все! – вдруг закричал Алексей, хватаясь за дворецкого, чтобы удержаться на ногах. Он опустился на стул и, догадываясь уже вперед о том, что услышит, вымолвил:
– Осрамили, опозорили…
Макар Ильич повторил все то же, несколько подробнее…
Алексей, взволнованный, бросился к столу и, схватив перо и бумагу, написал дрожащей рукой несколько строк. Он писал Софье Осиповне следующее:
«Клянусь вам памятью моей матери, что я тут ни при чем, ничего не знал. Завтра я сам силой заставлю Калиостро возвратить вашего ребенка. Я сам привезу его к вам. Иначе я вызову на поединок этого негодяя, самовольно позорящего меня. Это вам обещает вами загубленный, но все-таки не потерявший честь – Алексей Норич».
Затем, отпустив дворецкого, Алексей передал все невесте и сестре. Девушки пришли в страшное волнение. Эли даже заплакала.
– Это все она – эта ужасная женщина! – воскликнул Алексей. – Она это надумала. Теперь я все понимаю. Ее намеки, ее обещания, ее слова, что в случае моего отказа действовать заодно с ними они сами получат с Софьи Осиповны целое состояние. Все понимаю теперь.
– Так вот зачем она подружилась с графиней Зарубовской? – воскликнула Лиза. – Господи, какой ужас! Какой грех!
– Но ведь этот дворецкий тебе сказал, – заметила Эли, – что граф Калиостро явился и взялся ребенка лечить потому, что он заболел. Ведь он мог и не болеть. Ведь это случайность, которую графиня Ламот и Калиостро не могли предвидеть…
– Правда, – заметила Лиза, – вот мы опять на них клевещем. Она, напротив, рекомендовала Софье Осиповне отличную няню, свою Розу, для маленького…
– О! Все понял! – вдруг закричал Алексей при этом имени и вскрикнул таким отчаянным голосом, что обе девушки вздрогнули.
– Господь с тобой, – испуганно вымолвила Эли.
Алексей ни словом не проговорился девушкам насчет своего подозрения, но повторил несколько раз:
– Я этого так не оставлю!
– Теперь ночь. Поздно… – сказала Лиза.
– Завтра рано… Мы посчитаемся. И вот какой женщине я обязан почти всем благодаря ее общественному положению и близости к королеве! Но как может королева приближать к себе подобных женщин?!
Всю ночь волновался Алексей и не мог глаз сомкнуть. Рано утром он был уже готов выходить и прощался с девушками, когда у подъезда их появился экипаж и в дом вошла графиня Ламот.
Лицо Иоанны удивило Эли своим необычным выражением. Даже Лиза заметила, что графиня как-то преобразилась и смотрит не то торжественно, не то чересчур тревожно. Один Алексей ничего не замечал, так как при виде этой женщины злоба забушевала в нем и румянец выступил на лице от волнения.
– Уйдите отсюда! Сестра, Эли… Уйдите. Оставьте нас с графиней! – вымолвил он глухо.
Девушки вышли, робко озираясь на Алексея, так как он тоже будто преобразился, подобно графине Ламот, и взгляд его горел.
XXVI
– Ну-с, графиня. Мне надо с вами объясниться, – выговорил Алексей сухо, когда они остались наедине. – Вы кстати пожаловали. Я сейчас собирался к вам. Прошу садиться.
– Я тоже, Норич, явилась объясниться, или, лучше сказать, привезти вам хорошую весть…
– Хорошую?.. – выговорил Алексей, тоже садясь и таким голосом, что лицо красавицы чуть-чуть подернулось, а умные и красивые синие глаза сверкнули ярко из-под черных бровей.
– Графиня Софья Осиповна на все согласна… Вы получили от нее приглашение быть сегодня. Я предупреждаю вас, что она желает с вами свидеться, чтобы согласиться на все то, что было всегда вашей дорогой мечтой.
– Очень верю. Еще бы не согласиться. На ее месте всякая женщина, кроме разве одной графини Ламот, согласится на все, на позор, на ограбление, лишь бы ей возвратили то, что для матери всего дороже. Скажите, как могли вы… Как посмели вы! Да, как вы посмели счесть меня способным приобрести все, что у меня отнято графиней и дедом, таким путем! Путем подлого насилия, почти целым рядом преступлений… Отравление, вымогательство, угрозы, терзание сердца матери…
Алексей задохнулся и поневоле смолк…
– Вы уже знаете все, что я хотела вам рассказать. Тем лучше, – холодно выговорила Иоанна. – Но дело не в рассуждениях; теперь и нечего изощряться в чтении морали. Как намерены вы теперь действовать и что требовать от графини Зарубовской? Конечно, имя, от вас отнятое… Но затем, какую сумму?
– Вы с ума сошли!.. – крикнул Алексей.
– Нет, не я, очевидно… Но прошу вас успокоиться волей или неволей и отвечать мне на мои вопросы… Что вы потребуете?..
– Я потребую прежде всего… и не у графини Зарубовской, а у графини Ламот и ее приятеля, ей вполне подчиненного, чтобы они немедленно, сейчас отдали мне ребенка. Слышите. Через час или два я должен свезти ребенка к матери.
– Положим… Мы вам его отдадим живьем, и вы его свезете к матери… Потом, скажите, что будет. Ну-с? – иронически рассмеялась Иоанна.
– Потом… После этого, если Софья Осиповна захочет, раскаявшись, возвратит мне отнятое…
– Она не дура… Она из тех женщин, которые пользуются глупостью других. Раз ребенок будет у нее – она попросит вас вежливо и даже, вероятнее, невежливо удалиться из дома.
– Тем хуже для нее и, разумеется, для меня. Но зато я выеду из России, как приехал, – честным человеком. Итак, извольте сейчас ехать к Калиостро и убедите его, что другого исхода нет. Если он откажется загладить проступок, сделанный моим именем, то я явлюсь сам требовать ребенка. Если он и мне лично откажет и будет сочинять всякие басни, то я его убью.
– Вы кончили?.. – тихо и нетерпеливо спросила графиня.
– Кончил.
– Слава Богу. Теперь слушайте меня. Все, что вы говорили, – вздор! Все, что вы желаете, и притом воображаете еще, что можете у нас требовать, только глупо и глупо. Но главное не в этом, а главное в самообольщении, в самообмане. Вы должны делать, что я вам прикажу, а не мы будем вам повиноваться. Вы у меня в руках, а не я в ваших. И вот поэтому я вам приказываю теперь собираться и выезжать из Петербурга господином Норичем и без состояния. Коль скоро вы не желаете его получить и делиться с нами, а желаете наделать ряд глупостей, то уезжайте, а мы уже сами с графом Калиостро получим что-нибудь.
– Сами! Одни! Но моим именем, конечно! – презрительно усмехнулся Алексей.
– Разумеется… Ну-с… Итак, повторяю вам, выбирайте и решайтесь. Если вы не поедете к графине требовать имя и состояние, то собирайтесь немедленно и выезжайте из Петербурга. Я вам это приказываю!
И синий взгляд красавицы как зарница вспыхнул из-под темных бровей и озарил бледное лицо. Никогда Иоанна не была так эффектно хороша собой, как в эти мгновения пылкого гнева, едва сдерживаемого самовластной женщиной.
– Вы приказываете? – произнес Алексей почти недоумевая и относительно спокойным голосом.
– Да.
– Вы! Мне?..
– Да!! – резко воскликнула Иоанна на всю горницу.
– Бросимте шутки!.. Ну-с… Скорее ступайте к Калиостро! Скорее…
Алексей встал и произнес все это быстро, решительно, но без гнева, а просто как человек, которому надоела пустая болтовня. Графиня почти истерически расхохоталась и, поднявшись также со своего места, скрестила руки на груди и приблизилась к Алексею вплотную…
Иоанна стала перед ним, грудь с грудью, на полшага расстояния и, улыбаясь страшной улыбкой, смотрела своим сверкающим взглядом прямо ему в глаза…
Так подходят к человеку, чтобы поразить его, ударить, смять, раздавить, убить каким-нибудь одним словом…
– Поезжайте требовать все или выезжайте тотчас из Петербурга! – произнесла она отчетливо, но едва-едва шевеля хорошенькими тонкими губками, как делывала только в минуты кокетничанья на балу с поклонниками или на свидании с возлюбленными. – Если вы сейчас не исполните того или другого моего приказания, то вечером вы будете в крепости, в каземате… Вы русский подданный, и вас не вышлют за границы государства… Вы не верите мне, малоумный рыцарь, ратующий во имя каких-то бессмысленных правил нравственности и чести? Вы не верите, что я вас посажу в крепость. Одним моим словом…
Алексей был поражен не столько словами этой женщины и угрозой, сколько той уверенностью, которой дышал тон ее голоса и всякая черта красивого и зловещего лица.
– Не понимаю… – проговорил он тихо, но с тревогой на сердце. – «Ведь это не женщина, – будто шептал ему голос, – это дьявол в образе женщины стоит перед тобой. А он все может!»
– Наказуется ли русский да и всякий подданный, – отчетливо произнесла Иоанна, – за обман и за поднятие на смех своего монарха. Полагаю, что наказуется, господин Норич. Зачем же вы, по малоумию и детской опрометчивости, подняли на смех русскую императрицу, вас обласкавшую, обманули ее самым низким образом.
– Я… – пролепетал Алексей, слабея и задыхаясь под змеиным, будто сковывающим его члены взглядом Иоанны.
– Письмо королевы Марии Антуанетты и патент на звание мушкетера – подложные, Вильетом писанные и подделанные…
– Что-о?! – закричал Алексей, пошатнувшись.
– Подложные! Одно слово французскому посланнику – и, конечно, нас с Вильетом вышлют из Петербурга, а вас немедленно арестуют и…
Иоанна не договорила: две руки схватили ее за ворот платья и душили… Она рванулась, отскочила на шаг, но обезумевший человек повис на ней, оборвал ей ворот, обнажив грудь до плеча, и душил… Иоанна через силу отчаянно закричала на весь дом…
Эли, а за ней Лиза опрометью вбежали в комнату на этот дикий и пронзительный крик и бросились к Алексею…
Обе девушки, не понимая еще, что делать, инстинктивно схватили Алексея за руки, защищая от него эту женщину.
– Алексей!.. Брат!.. – кричали они.
Голоса сестры и невесты словно привели Алексея в чувство и заставили опомниться. Он выпустил Иоанну из рук и выговорил сдавленным голосом:
– Это не женщина… это… тварь!..
И вдруг молодой человек упал на кресло и зарыдал, как ребенок.
– Опозорен… Ах, зачем ты не мужчина!.. Я бы искрошил тебя на поединке. Вон отсюда, низкая тварь, преступница!.. Вон… Не подходите к ней! Она прокаженная. Она заразит вас. Эли!.. Лиза!.. Не подходите! Дальше!
Алексей кричал как безумный, но вдруг закрыл лицо руками и, покачиваясь на кресле, стих… Обе девушки бросились к нему. Это наступившее вдруг безмолвие было страшнее крика.
Иоанна быстро вышла. Слезы были на ее мертвенно бледных щеках. Но какие это были слезы? Слезы ли бешенства, испуга или физической боли. Или же все-таки попранное женское чувство, оскорбленная женственность сказались и заговорили в этом существе, которое казалось Алексею дьяволом…
XXVII
Графиня Софья Осиповна, напрасно прождав Алексея все утро, измучилась и истерзалась… Материнское чувство не могло, казалось, далее выносить пытку неизвестности насчет ребенка.
К тому же старый муж упорно требовал видеть сына, хотя бы на минуту. У графини ум за разум зашел. Баронесса ссылается на Алексея и советует прийти с ним к соглашению, чтобы получить сына обратно. Он же, по словам Макара Ильича, был поражен и написал ей несколько строк, по которым видно, насколько он благородный человек. Кто же тут злодействует? Кому же тут и какая выгода? Или все вздор и Феникс правду говорит: ребенок умер и даже тело его сожжено безумцем кудесником?
Графиня потеряла голову и, не дождавшись Алексея, около полудня выехала к Потемкину. Приказав доложить о себе, она прибавила, что приехала «исполнить просьбу Григория Александровича и даже более того…» Потемкин принял графиню тотчас же, и она заявила ему, что Норичи, ее нахлебники, покаялись ей, что все сочинили, клевеща на покойную графиню Эмилию Яковлевну, что Алексей действительно подлинный сын ее и, следовательно, наследник и имени, и части состояния. Потемкин только ухмылялся и наконец промолвил ласково:
– Ну вот и доброе дело. Давно бы так… Только жаль мне, что малый-то негодяй все-таки. Осилил он тебя, дорогая графиня, добился своего… но подлым образом!
Графиня передала Потемкину взятую ею с собой записку Алексея, которая вполне оправдывала его…
– Слава Богу! Вот рад! – воскликнул Потемкин. – А я было уж похоронил его в сердце…
Затем графиня перешла к главному предмету и цели своего посещения, что делать относительно пропажи ребенка?
– Помоги, Григорий Александрович. Хочешь, в ноги брошусь… – заплакала Софья Осиповна.
– Да ведь этот мерзавец говорит, что он помер и даже спален им дотла. Тезка-то мой.
– А мне пишет вот неизвестный, пожалуй, сам этот Феникс, что Гриша жив. Вот прочтите.
Потемкин подумал, взял у Софьи Осиповны письмо Алексея, анонимную записку и, кроме того, написав несколько строк, дал ей подписать. Это было краткое заявление о раскаянии Норичей и согласии графа Зарубовского снова признавать Алексея за внука и законного наследника.
– Ну вот я с этим сейчас к матушке-царице. Теперь я вами доволен и готов сам ехать к фокуснику с обыском. Коли не был «спален невежей», – невольно пошутил Потемкин, – то мы моего тезку, Гришуху, отвоюем.
Графиня, отчасти успокоенная, поехала домой, а Потемкин стал собираться в Зимний дворец.
Но в эти мгновения курьер уже скакал по Невскому из дворца в Аничков дом с приглашением Государыни явиться князю немедленно.
За час перед тем, что графиня Зарубовская явилась к Потемкину, с государыней случилось маленькое происшествие, виденное целой толпой народа.
Придя в себя лишь наполовину, Алексей, уже после исчезновения Иоанны, решил, не колеблясь ни минуты, сознаться тотчас в невольном дерзком обмане царицы, рассказать все подробно и просить о своем аресте, даже о строгом наказании по законам.
– Именно скорее сам себя выдам головой и наказания просить буду! Легче на душе станет! – бормотал он.
Не сказав ни слова обеим девушкам, за что он оскорбил графиню Ламот, он только простился с ними и быстро, без оглядки, все еще бледный выбежал из дома. Девушки кричали ему вслед, усиленно звали его, но он даже не обернулся.
«Куда? К кому? – мелькало у него в голове как сквозь туман. – К Рылееву! – решил он уже на полдороге. – Он начальник полиции! Ему себя и выдам».
Между тем он шел быстро, бормотал, махая руками, и не замечал того, что на него оглядываются все прохожие… Так достиг он Царицына луга и пошел через него, очевидно не понимая и не зная, куда он идет… Шагая бессознательно вперед, он вдруг должен был остановиться перед оградой. Это был Летний сад.
Алексей оглянулся, отчасти пришел в себя и выговорил вслух:
– Что же я делаю! Где Рылеев? Где он живет… Что за сад…
Он стал озираться кругом себя и вдруг увидел у ворот ограды изящную позолоченную карету с цугом белых коней, а около них придворных лакеев, скороходов и двух кавалергардов верхом. Вокруг кареты была толпа зевак.
Сразу понял все Алексей и бросился к этой карете, огибая ограду.
– Сама судьба сюда привела… Это она! Она! – почти закричал он на бегу…
Действительно, из сада выходила государыня и после прогулки приближалась тихо к поданной карете в сопровождении одной фрейлины.
В ту минуту, когда императрица явилась в воротах, к ней, растолкав толпу, бросился молодой человек в дворянской домашней одежде, но без парика, без шляпы и без шпаги… Он упал на колени перед ней, зарыдал, силился что-то сказать и не мог… И, только схватив край ее платья, целовал его и закрывал им себе лицо. Государыня сначала невольно вздрогнула, лакеи бросились было оттащить от нее безумца, за ними и вся толпа колыхнулась.
– Постойте… оставьте… – вымолвила Екатерина.
Своим опытным и зорким глазом она увидела, что имеет дело не с сумасшедшим, а с человеком, сейчас только пораженным горем или бедой…
– Что вам, говорите! Кто вы?.. – милостиво вымолвила она, нагибаясь, чтобы видеть того, который лежит у ее ног.
– Простите… Простите…
Только эти два слова и мог произнести Алексей и, лишившись чувств, повалился на землю… Но государыня, вдруг пристальнее приглядевшись к безжизненному и бледному лицу лежащего, сразу узнала того несчастного молодого человека, о котором просила даже Потемкина похлопотать. Она прошла и, сев в карету, приказала позаботиться о лежащем в обмороке.
– C'est le mousquetaire de la reine de France![18] – обратилась она к своей спутнице. – Какая новая беда с ним приключилась? И так уже судьба его была горестная.
– Он сказал: «Простите!» – заметила фрейлина. – Он прощения просил.
– Прощения? Да. Правда! Конечно… Странно!..
Императрица задумалась.
Вернувшись во дворец, она тотчас послала за Потемкиным. Вельможа явился, выслушал рассказ государыни о русском мушкетере, затем передал все слышанное им от графини Зарубовской, то есть что он не замешан в воровстве ребенка, а граф снова признал его за внука.
– В чем же он прошенья просил? Все загадки… – сказала Екатерина. – Надо разгадать.
– Разгадаем, – весело отозвался Потемкин. – Такие ли загадки разгадывали. Я его сейчас же велю разыскать и привести к себе… В сумерки, матушка, даю слово, будем иметь разъяснение сего ребуса мушкетерского!
И Потемкин сдержал слово. В сумерки он явился снова во дворец после свидания с Алексеем и подробно все доложил государыне, все, что долго и горячо рассказывал ему Алексей о его знакомстве с Калиостро и графиней Ламот.
Государыня выслушала все и покачала головой.
– Чем же он виноват. Коли мы обманулись, даже здешняя амбассада[19] французская обманулась, то ему и Бог велел быть обманутым. Ему бы молчать, да со всеми русскими и французскими онёрами[20] и уехать подобру-поздорову. И концы в воду.
– Конечно, матушка, его никто не выдавал, он сам себя выдал. Все повторяет одно: я не негодяй, я честный человек, но я преступник по опрометчивости и требую наказания.
– Требую?.. – улыбнулась государыня.
– Требует наказания! Так и орет на меня грозно и во всю глотку: накажи! – рассмеялся Потемкин.
– Хорошо, я его накажу по-своему и по делам его! – двусмысленно улыбнулась государыня.
– Ну а насчет волшебника, да и волшебницы тоже… Как прикажешь? – спросил Потемкин.
– Вестимо, все, что должно и можно. По законам.
XXVIII
Графиня Иоанна Ламот хорошо знала людей, и это знание приобрела из деятельной практики и из опыта. Поэтому она была уверена, что молодой безумец не поедет требовать ничего от графини Зарубовской, но, разумеется, воспользуется почетным французским и русским званиями и тотчас уедет с невестой и сестрой в Испанию, чтобы там получить громадное состояние после венца.
Стало быть, деньги Зарубовских надо получить его именем себе самой.
Иоанна, оправившись от оскорбления и насилия, совершенного над ней безумцем, побывав дома, собралась ехать к графине Софье Осиповне, когда в ее квартире появился Калиостро…
Кудесник был взволнован и озабочен.
– Что с вами? – удивилась Иоанна.
– Скверны наши дела. Что Норич?..
– Отказался наотрез, конечно… Я этого и ждала. Не будь он у меня в руках – было бы еще хуже. Теперь я еду сама кончать с матерью. Конечно, от его имени…
– Надо спешить, графиня. Надо спешить.
– Да. А что? Вы боитесь Норича, огласки. Так худшего ничего не будет.
– Нет, графиня, я боюсь не за Норича, а совсем другого. Последствий глупости вашей Розы.
– Как?!
– Ребенок очень плох. За одну ночь он так ослабел, что, признаюсь, я не ручаюсь, будет ли он жить. Даже не ручаюсь за несколько дней.
– Но три дня-то он проживет? А больше мне не нужно.
– Не знаю.
– Как не знаете? Да ведь это ужасно. Ведь тогда все пропало. Вся поездка в Россию – ноль…
– Сами вы виноваты, то есть ваша дура Роза. Разве возможно было так опаивать… Это вышло настоящее отравление…
– Давали вами же назначенную дозу… – раздражительно проговорила Иоанна.
– Мою дозу?.. Я ребенка не видал. Я не знал, что он хилый. Ему надо было меньше… Я не отравитель!..
– Ну да что об этом! Теперь поздно спорить о пустяках, – рассердилась Иоанна. – Надо действовать. Я еду сейчас и кончаю. А вы употребите все ваши усилия и все ваше искусство, чтобы поддержать его жизнь хоть на три дня, может быть, на два… Слышите, хоть на два…
– Хорошо… – как-то угрюмо отозвался Калиостро.
Графиня тотчас же собралась и поехала к Зарубовским. Софья Осиповна, конечно, приняла прежнего друга, хотя теперь уже подозревала Иоанну благодаря записке Алексея и объяснению с Потемкиным. Она просто побоялась не принять баронессу д'Имер. Быть может, жизнь младенца в руках этой женщины, подсказывало ей сердце матери.
Объяснение приятельниц было короткое. Баронесса просила денег для господина Норича, чтобы наутро привезти Гришу здоровым и невредимым. Софья Осиповна объяснила все, что узнала, и все, что уже сделала. Алексей получит все, ему следующее по закону, – имя и титул теперь, а половину состояния после смерти графа.
– Он требует сейчас же, сегодня тысяч сто… – проговорила отчасти пораженная известием Иоанна.
– А его записка? Его клятва, что он тут ни при чем?.. – не менее пораженная отозвалась графиня.
– Это игра… для посторонних… Ему нужны очень деньги… Он боится, что все это дело протянется, что вы наконец опять, после…
Иоанна путалась и не знала, что сказать. Опять злая судьба смеялась над ней, как уже не раз в Париже. Все срывалось за миг до полного успеха…
– Хотите ли вы видеть вашего Гришу сегодня вечером? В восемь часов он будет у вас, – решительно выговорила она.
– Конечно! – восторженно воскликнула графиня.
– Дайте мне сто тысяч…
Графиня удивилась и задумалась… «Стало быть, ей, а не Алексею!»
– Я, признаюсь, не понимаю… – проговорила она, но тотчас же снова подумала: «А если жизнь Гриши в ее руках? Если власти будут не в состоянии что-либо сделать с хитрыми негодяями?»
– Вы не согласны? – с угрозой вымолвила Иоанна, вставая.
– Согласна! – вырвалось невольно у графини. – Привозите мне сына сейчас, то есть хоть вечером, и я передам вам деньги.
– Вот это разумно. Так ждите меня. Но только, графиня… помните. Если вы меня обманете, то это так не останется…
– Нет, баронесса, – гордо вымолвила Софья Осиповна. – Привозите Гришу, деньги будут вас ждать.
XXIX
В сумерки Иоанна была в доме Калиостро и укутывала маленького Гришу, чтобы везти его к матери. Она была в духе и весело острила с Лоренцей и с кудесником.
Лоренца, которая не имела своих детей, пронянчившись с больным ребенком так долго, привыкла к крошке и полюбила его.
– Бедняга, – шептала она, – теперь надолго ли он едет к матери.
– Ничего. Может быть, и оправится, – сказал Калиостро. – Теперь он лучше, чем был поутру.
– Ну об этом заботьтесь и думайте вы, графиня Лоренца! – рассмеялась Иоанна. – Мне лишь бы его доставить живым и сдать.
И Иоанна, закутывая ребенка, тормошила и переворачивала его резко, неумелыми руками и угловатыми движениями, как все женщины, никогда не обходившиеся с малютками. Ребенок стал пищать слабым болезненным голоском.
– Ну, кажется, пора?.. – сказал наконец Калиостро. – Обидно, однако, вместо двухсот тысяч, а то и более получить сто, а то и менее. Что вы, кстати сказать, сделаете, если графиня Зарубовская вас обманет?
Иоанна хотела отвечать, но в этот миг в слабо освещенной одной свечой горнице появился Джеральди и проговорил что-то, задыхаясь, своему барину.
Калиостро ахнул, схватил из рук Иоанны ребенка и бросился с ним в противоположный угол дома, где был его рабочий кабинет…
Не успела графиня Ламот спросить у перепуганной Лоренцы, что бормочет по-итальянски их Джеральди, как дверь из коридора растворилась тихо и в комнату вошли один за другим несколько военных… Это был офицер с вооруженной ружьями командой солдат.
– Я вас прошу не двигаться из комнаты ни на шаг, – произнес он, обращаясь к дамам вежливо, но не кланяясь. – Ни на шаг! Иначе вас свяжут…
Оставив караул около трепещущих женщин, две пары солдат, офицер с остальной командой двинулся в ту же сторону, куда убежал Калиостро. Через полчаса хозяин дома, граф Феникс, его жена и баронесса д'Имер были снова одни в квартире и снова свободны… Но ребенок был уже взят и увезен. Пока офицер обыскивал дом, внизу, в карете своей, ожидала исхода обыска взволнованная, бледная, плачущая от боязни и неизвестности сама графиня Софья Осиповна…
Теперь она с замиранием в сердце прислушивалась к лепету младенца и, не видя лица его, на этот раз чувствовала, знала не разумом, а всеми фибрами своего существа, что везет «своего» ребенка, а не чужого.
А граф Феникс и Иоанна сидели пораженные, раздавленные, молчаливые. На столе лежала казенная бумага с печатью, оставленная офицером.
Это был приказ полиции в 24 часа собраться и выехать из столицы, к тому же с условием в две недели времени и пути быть вне пределов русских.
– Но нам не на что ехать! – вымолвила наконец Иоанна. – У нас нет ни гроша.
– Я так и скажу… – отозвался Калиостро. – Нет, Лоренца… – обратился он к жене. – Собирайся тотчас к Потемкину и объясни все… Проси денег на путевые издержки. Ну а вы, графиня, возьмите у Самойлова.
– Он меня вчера оскорбил и выгнал от себя! – произнесла Иоанна глухо.
XXX
Весь вечер и до полуночи в доме Зарубовских было движение. Маленький графчик был жив и невредим, снова в своей опочивальне, и половина домочадцев ликовала по этому поводу. Другая половина с Макаром Ильичом во главе, большей частью пожилые люди и старики, ликовали не менее от известия, что изуверы Норичи покаялись в клевете, а графиня уже подала просьбу царице, прося за них и за себя прощения… Стало быть, сын покойных господ – графа Григория Алексеевича и Эмилии Яковлевны – снова признан за их барина. Всю ночь просидела Кондратьевна над изголовьем обожаемого ею Гришеньки и вздыхала:
– Как его итальянец уходил, родного… Чуть жив. Теперь в месяц не оправится. Наверное, не кормили ребенка или кормили своей какой дрянью. Вот и извели!
Софья Осиповна несколько раз за ночь вставала и приходила поглядеть на Гришу… Ребенок смущал ее своей хилостью и бледностью и слабым голосом. Так ли он кричал прежде, когда его только тронешь или даже только слово скажешь! Наутро графиня побывала у мужа и, не объясняя ничего, объявила, что так как мальчику гораздо лучше, то она принесет его. Граф очень обрадовался. Лицо его засияло.
– Слава Богу! Шутка ли, сколько времени я его не видал. Давай! Давай!..
Около полудня Софья Осиповна собралась нести ребенка к мужу и заметила, что он спокойнее и тише… Ей казалось, что Гриша смотрит лучше… Так умно, серьезно… Только чуть-чуть будто тоскливо… Кондратьевна, напротив, предпочитала его «воевательства» этому спокойствию и этим «нехорошим» глазам.
Когда ребенка принесли к графу, он протянул к нему ручки, а граф прослезился… Тотчас устроили две подушки на кресле, придвинутом поближе к графу, и усадили Гришу как в футляр…
Ребенок тяжело дышал и странно глядел куда-то в пространство, будто не видя никого и ничего…
– Мамушка… Да ему будто хуже? – вымолвила графиня стоящей на коленях у кресла Кондратьевне…
– Гри-ша! А Гри-ша! – ласковым, но дряблым голосом восклицал старый граф, усмехаясь и заигрывая с сынишкой. – Чего букой глядишь! Не признаешь. Забыл, что ли, отца, разбойник…
– Графинюшка… Графинюшка… – вдруг забормотала Кондратьевна, нагибаясь и приглядываясь ближе к ребенку.
– Что ты?! – вскрикнула графиня от странного голоса мамки. Что с тобой…
– Графинюшка… Графинюшка… – чуть слышно повторяла Кондратьевна, будто не сознавая даже, какое слово произносит. – Матерь Божья, заступи! – вдруг всхлипнула она.
– Да что же? Что? – дрогнувшим голосом отозвалась Софья Осиповна и тоже опустилась на колени около кресла, где сидел ребенок на подушках с осунувшимся лицом и с повиснувшей набок головкой…
Вдруг Гриша вздохнул глубоко, больше раскрыл глаза и тихо пискнул. И он стал сразу смотреть совсем иначе, он будто приглядывался внимательно к чему-то…
Граф глядел тревожно на сына, жену и мамку; он начинал понимать или чуять, что тут творится нечто необычайное.
Но вдруг дикий и пронзительный крик жены потряс все дряхлое существо 70-летнего старца; жена повалилась без чувств на пол между ним и креслом, где по-прежнему сидел неподвижно ребенок и будто глядел на него.
Прибежавшие люди вынесли графиню в другую горницу и положили на диван… Затем Кондратьевна, тихо и молча, опустив глаза в землю, понесла в детскую тело неприметно скончавшегося младенца.
Старый граф остался один в своем кресле с искривленным и бессмысленным лицом, руки и ноги его подергивало судорогой… Он хотел крикнуть, позвать, и язык не повиновался ему… Горницу застилало туманом… Туман сгущался, становился розовый, красный, багровый…
XXXI
В квартире Алексея было особенно тихо. Молодой человек не выходил из своей горницы и почти не говорил ни слова. Невеста и сестра ухаживали за ним, появляясь с заплаканными глазами и тоскливым лицом. Алексей был не болен, а сражен всем, что пережил за один день… Результата его приключения в Летнем саду и его свидания с Потемкиным еще не было никакого. Он ничего не знал о своей судьбе, как решит ее царица, которую он обманул по милости проклятой женщины.
Он знал только одно, что Калиостро с женой, графиню Ламот и Вильета – всех выслали уже вон из столицы. В 24 часа времени они собрались и выехали.
Однажды, через неделю после его приключения, среди дня, Эли быстро вошла к нему в сопровождении встревоженной Лизы и принесла письмо.
– Курьер из дворца, – выговорила Эли дрожащим голосом и, чувствуя, что не устоит на ногах, опустилась на диван около жениха. Лиза стала на колени около них.
На письме был адрес:
«Поручику Лейб-гвардии Ее Величества графу Алексею Григорьевичу Зарубовскому».
Молодой человек вздрогнул, двинулся и опять опустился на диван, замирая всем существом. Дрожащими руками развернул он письмо и прочел:
«Любезнейший и благороднейший государь мой! Сим извещаю, что Царица повелевает в наказание за ваши преступления служить тебе в рядах ее гвардии впредь до особого разрешения ехать в Гишпанское королевство. Я же со своей стороны предлагаю в обстоятельствах тебе известных отправляться в свой дом, чтобы самолично, по долгу христианскому и родственному, каковой обычай указует, благочинно приступить к похоронам покончивших живот свой, ваших малолетнего дядюшки и деда. А за сим, войдя во владение всем имуществом, представиться имеете ко двору Ее Величества купно с сестрой и гипшанской невестой.
К тебе сердцем благосклонный князь Григорий Потемкин».
– Эли! Лиза! – едва слышно прошептал Алексей, но не мог говорить…
Девушки увидели, догадались, что беды нет. Когда же Алексей перевел им письмо Потемкина, они обе бросились на молодого человека, душили его в объятиях, целовали его и целовались между собой.
Через неделю после этого памятного в жизни дня Алексей, похоронив двух графов Зарубовских, старика и младенца, проводил в путь графиню, почти обезумевшую от постигшего ее удара.
Графиня поехала в дальнюю вотчину, перешедшую ей во владение как седьмая часть имущества покойного мужа.
В то же время сестра и невеста Алексея переехали на жительство в большие палаты, где все ликовали, несмотря на недавние похороны.
На второй день Пасхи молодой гвардеец граф Зарубовский представился монархине вместе с сестрой и невестой.
Он с волнением и слезами восторга благодарил царицу за милостивый суд и прощение невольного преступления…
– Нет, граф… Не я тут главным судьей была! – задумчиво произнесла государыня, – это был суд Божий!
Ширь и мах
Часть первая
I
Широко, гулко, размашисто, будто потоком – идет вельможная жизнь екатерининского царедворца.
Таврический дворец шумит, гудит, стучит.
У князя Потемкина прием.
Полдень… Под прямыми лучами майского солнца дворец ослепительно сверкает своей белизной. Весь двор заставлен десятками всяких экипажей и верховых коней. В чаще сада, на всех дорожках, мелькают яркоцветные платья и мундиры. Во всех залах и горницах огромных палат «великолепного князя Тавриды» плотная толпа кишит как обеспокоенный муравейник и снует, путается всякий люд, от сановника в регалиях до скорохода в позументах… А среди этой толпы кое-где мелькнет, отличаясь от других, статный кавалергард в серебристых латах, арап длинный и черномазый в пунцовом кафтане; киргизенок с кошачьей мордочкой, в пестром халате и с бубенчиками на ермолке; пленный нахлебник-турок в красной феске, шальварах и туфлях; карлы и карлицы в аршин ростом с зеленовато-злыми или страшно морщинистыми лицами. А между всеми один, сам себе хозяин, никому не раб и не льстец, – ходит, важно переваливаясь, генеральской походкой громадный белый сенбернар[21].
На парадной лестнице и в швейцарской стоят десятки камер-лакеев и фурьеров[22], гайдуки, берейторы[23], казачки-скороходы… Мимо них проходят, прибывая и уезжая, сановники и вельможи с ливрейными лакеями и гвардейские штаб-офицеры с денщиками, гонцы и курьеры из дворца.
И все это блестит, сияет, искрится точно алмазами.
Будто ярко-золотая волна морская бьется о стены Таврического дворца, то напирая с улиц под колоннаду подъезда, то вновь отливая обратно с двора…
Высокие щегольские кареты, новомодные берлины[24] и коляски, старые громоздкие рыдваны[25], экипажи всех видов и колеров, голубые, палевые, фиолетовые… снуют у главного подъезда… Лакеи и гайдуки швыряются, подсаживая и высаживая господ, и лихо хлопают дверцами, с треском расшвыривают длинные, раздвижные в шесть ступеней подножки, по которым господа чинно шагают, качаясь как на качелях…
– Подавай! Пошел! – то и дело зычно раздается по двору.
И движутся разномастные цуги сытых глянцевитых коней, то как уголь черные, то молочно-белые, или ярко-золотистые с пепельными гривами и хвостами, или диковинно-пестрые, пегие на подбор, так что от масти их в глазах рябит. Цуги коней, будто большие змеи, вьются по двору, ловко и лихо изворачиваясь в воротах, или у подъезда, или среди экипажей и людей. Искусник-форейтор[26] из малорослых парней, а чаще шустрый двенадцатилетний мальчуган бойко ведет свою передовую выносную пару коней – подседельного и подручного.
– Поди! Гей! – озорно и визгливо вскрикивает он и все вертится в седле, оглядываясь на свои постромки и на весь цуг, на дышловых, на толстого кучера с расчесанной бородищей, что расселся важно на бархатном чехле с золотыми гербами.
Всадники-гонцы, офицеры и солдаты, тут же скачут взад и вперед. Двое, справив порученье, садятся на лошадей, а на их место трое влетели во двор и, бросив повода конюхам, входят на подъезд, сторонясь вежливо, чтобы пропустить вельможу, сенатора, адмирала, садящихся в поданную карету.
В саду, на лужайках, на площадках и в подстриженных по-модному аллеях, мелькают цветные кафтаны и дамские юбки, звенят веселые голоса, женский смех и французский говор… Здесь гуляют гости, приехавшие не по делу, не с докладом, не с просьбой, а «по обыкности» – одни, как хорошие знакомые, другие, чтобы faire leur cour[27] временщику и раздавателю милостей.
Близ легкого пестро выкрашенного мостика, среди площадки, между мраморными амурами на пьедесталах, собралась большая кучка пожилых сановников, зрелых дам и молодежи. Общество сгруппировалось вокруг красавицы баронессы Фон дер Тален, новой львицы при дворе и в городе… Маленькая и полная немочка, уроженка Митавы[28], двадцати лет, от которой пышет красотой, юностью и здоровьем, одна из всех без пудры, румян и сурьмы. Блестящий цвет лица и прелестные голубые глаза белокурой баронессы не нуждаются в притираньях. «La Venus de Matau»[29] – ее прозвище в Питере, данное государыней в минуту раздраженья. Муж ее, уже пожилой генерал, давно в отсутствии, в армии, а она ухаживает за князем, и в столице носятся слухи, что Венера Митавская – временный предмет светлейшего.
Недаром и племянницы князя с некоторых пор постоянно заискивают у нее. И теперь здесь сошлись около нее и подшучивают над ней любезно три из племянниц князя: Самойлова[30], Скавронская[31] и Браницкая[32].
Пожилой генерал-аншеф[33], известный болтун, ходячая газета столицы и сплетник, но добродушный и подчас остроумный, рассказал что-то, что-то будто из истории Греции, случай из афинской жизни, с Алкивиадом[34], но с понятными всем, прозрачными намеками на князя и баронессу. Всем им известно, кого давно зовут «Невским Алкивиадом».
– Vous calomniez l’histoire![35] – восклицает Самойлов, родной племянник князя Таврического.
– Pour plaire a la baronne[36], – отзывается генерал.
– Нет! Я бы на месте вашей афинянки поступила совсем не так… – звучит серебряный голосок красавицы баронессы. – Cette coquinerie d’Alcibiade[37] не прошло бы ему даром… Оно имело мало caractere[38].
– В таких приключениях la coqinerie est la coquetterie des hommes…[39] – заявляет молодой премьер-майор[40], сердцеед и герой Кинбурна[41].
– Когда женщина должна себя отстоять, – горячо продолжает баронесса, – то она перерождается: добрая – делается злой, глупая – умной и трусливая, как овечка, – тигрицей…
Завязывается спор. Почти все дамы на стороне баронессы…
– Полноте… Все вы правы! – решает графиня Браницкая. – Только побывав в положении вашей афинянки, можешь знать: что и как сделала бы…
Беседа снова переходит незаметно на непостоянство князя.
– Domptez le lion…[42] – говорил кто-то, смеясь, баронессе.
– О, это не лев… – весело восклицает красавица. – Князь Григорий Александрович! Трудно найти в мире другого в pendant[43] для сравненья… Он и медведь и ласточка вместе!.. Знаете, что он?! J’ai trouve! Он – апокалипсический зверь… c’est la bete de Saint-Luc[44]. Это – крылатый вол! Он лежит лениво и покорно у ног женщины, как и подобает а la bete du bon Dieu…[45] И вдруг в мгновенье, quand on s’attend le moins[46], взмахнет крыльями и умчится ласточкой.
– В синие небеса или к молдаванкам?..
– Да… к ногам другой женщины…
– Где докажет тотчас неверность пословицы, что одна ласточка весны не делает! – сострил генерал.
– Берегитесь, баронесса, – вымолвила Браницкая, – я передам дяде ваше сравненье. Оно верно, но не лестно… Вол?..
– Крылатый, графиня… je tiens а ce detail[47].
– Aгa! Боитесь… что дядя выйдет из слепого повиновенья, – несколько резко заметила Скавронская.
– Слепое повиновенье есть исполнение всякого слова, всякой прихоти, – заметила сухо баронесса. – Этого нет.
– А вы бы желали этого?
– Конечно. Сколько бы я сделала хорошего, если бы каждое мое слово исполнялось князем. Je suis franche[48]. Конечно, хотела бы!
– Ce que femme veut – Dieu le veut[49].
– Да… но это старо и не совсем верно, – вмешивается пожилая княгиня.
– Правда! Надо бы прибавлять, – смеется баронесса, – quand la Sainte Vierge ne s’oppose pas[50].
– О! О! – восклицают несколько голосов.
– Voltairienne![51] – говорил генерал.
– Plutôt… Vaurienne…[52] – прибавляет княгиня, трогая молоденькую женщину веером за подбродок. – Ох, мужу все отпишу… Он там пашей в плен берет, а жена здесь сама пленяется…
– Да… И напишите, княгиня. На что похоже. Барон там «курирует» опасность в битвах, а жена здесь бласфемирует[53].
– Напишите! Напишите! Напишите!.. – раздается хор дам.
– Ох уж вы, молодежь… Грешите… – вздыхает старик сенатор. – Сказывается… все под Богом ходим!
– Да-с, ваше сиятельство… Истинно! А вот при Анне Ивановне, помните, не так сказывали…
– Как же? Как?
– Говорилось пошепту: «Все под Бироном ходим!» – И снова гулкий, звонкий и беззаботно звенящий смех раздается далеко кругом, будто рассыпается дробью по дорожкам среди подстриженных аллей.
II
В большой зале дворца тихо. Глухой, задавленный ропот едва журчит, прерывая эту тишину, соблюдаемую из высокого почтенья к месту и лицу. Народу тут всякого много, от сильных мира до самых слабых.
Великая награда привела сюда одного – чтобы отблагодарить, и великая обида привела сюда другого – просить заступничества. Этот получил вчера тысячу душ во вновь присоединенной Белой России, этот – богатые угодья, луга и леса из новых пустопорожних земель в Новой России, этот – серебряный сервиз в несколько сот рублей… Этот – крест, чин, придворное звание… А эти еще не получили, но желают получить и приехали ходатайствовать… А этот потерял все имущество от неправедной ябеды, этого разорила тяжба с соседом, родственником Зубовых[54], этот просит винный или соляной откуп, этот – местечка ради куска хлеба.
Во все века, у всех народов было, есть и будет то, что в этой зале теперь… Там, за высокими дубовыми дверьми – кабинет человека, который сам когда-то – простым офицером, мелким дворянином – мечтал о лишнем галуне, о лишнем рубле, а теперь для него все на свете… этот дворец, даже вся столица, даже иные пределы и иные враги этой империи – трын-трава.
Мир и люди ему – муравьиная куча… Наступит он по прихоти пятой на эту кучу – и сколько несчастных сделает, сколько горя, сколько слез. А захочет миловать – сколько счастливцев заплачут от радости и восторга и заблагодарят Бога за князя Таврического.
Что же он? Посланник неба? Олицетворенная духовная мощь? Гений? Нет, он – чадо случая, сын фортуны. Его сила в слабости людской.
Он владыка мира сего, раб своих похотей.
Но где нужна тщетная сила желания и воли сотни людей, он мизинцем двинет – и все творится по его мановению. И не в одном доме или одном городе, а на пространстве трети земного шара.
– Князь может много! – шепчет тощий, но важный сановник молодому франту, а около них дворянин из-под города Карачева, разоренный ябедой, смущенно мнет шапку в руках и робко, тайком прислушивается к их речи и вздыхает…
– Почему же так, ваше сиятельство?
– Царица всегда сделает по просьбе князя. А князь на просьбу царицы, бывает, ответствует: «Уволь, матушка, не могу. Приказ твой исполню, а коли просишь, не пеняй, не могу… Противно совести, или слову данному, или родственным чувствам!» Вот тут и аминь, государь мой.
И дворянин из-под Карачева отчаяннее мнет шапку, озираясь на сверкающие кругом мундиры, и все вздыхает…
– Воевательство, любезный приятель, токмо ему принесло пользу. Ему нужен был говор и шум на всю Европу, – тихо говорит генерал-аншеф с Георгием на шее другому сановнику, адмиралу в белом мундире с зелеными отворотами. – А государской статской надобности – умирать буду, скажу – не было и ныне нету. Что нам Таврида? Подобало создать между нами и оттоманами рубеж, независимое ханство… оплот… ограду… Да. А не брать себе… А он, поди, уже возмечтал и Царьград, и Элладу привоевать. А там уже недалече… и Иерусалим прихватить.
– Да, – смеется адмирал. – И его бы туда наместником спровадить.
Собеседники осторожно и сдержанно смеются.
Время идет, час за часом, скоро вечерни…
Тихий говор толпы, ожидающей приема, все гудит глухо под сводами зала в два счета, будто рокот дальнего водопада, сдержанный горами и ущельями.
Курьеры проходят в кабинет без доклада и выходят вновь тотчас же…
Адъютанты вызывают ожидающих в очереди по фамилии или вежливо и смиренно, или важно и гордо, или с таким видом провожают в кабинет иного просителя, как если б он был блоха, попавшаяся им в руки…
Уже много всякого народу побывало за большими дубовыми дверьми и на мгновенье, и на целых четверть часа, и, появясь оттуда то с сияющим, то с мрачным лицом – прошли толпу ждущих очереди и разъехались по городу.
Много сановников еще ждут, а несколько сереньких фигур в дворянских мундирах и много простых офицериков были уже приняты светлейшим. Еще несколько генералов двигаются от одного окна к другому, ни с кем уже не разговаривая и сопя, пыхтя, видимо, злобствуют на публичный афронт. Жди и пропускай вперед всякую сволоку. Недаром сам из смоленских «потемок».
Снова вышел адъютант и позвал господина Саблукова.
Дворянин, давно смявший свою шапку совсем в лепешку от волненья, затрепетал, зашвырялся, оглядывается кругом и будто не понимает, чего от него требуют.
– Господин Саблуков! – снова раздается громче.
Все оглядываются и переглядываются, будто говоря незнакомым: «Не ты ли?»
– Господин Саблуков?! – в третий раз возглашает адъютант, озирая толпу.
– Я-с… – раздалось чуть слышно, будто не из груди дворянина, а будто откуда-то издалече.
Неровными шагами двинулся господин Саблуков к дубовым дверям и исчез в кабинете.
В день Страшного суда Господня, при трубном гласе архангелов, созывающих мертвых восстать из гробов и предстать пред лицом Божьим, – господин Саблуков менее оробеет… Его жизнь вся на ладони, чиста, ни соринки на ней. А праведный небесный суд такой совести не страшен! А здесь ведь иной, земной. А ведь сейчас здесь вот, в кабинете царедворца, решится участь его личная, его жены, семерых детей, восьмидесятилетней матери, родственников, всех чад и домочадцев, даже его нахлебников. Всем на улицу без куска хлеба… Да это куда ни шло! А честь дворянская поругана будет, закон государский осмеян, правда людская попрана пятой ябедника.
И смутно в голове, бурно на сердце, темно в глазах и будто пьяно в ногах серенького дворянина, идущего вынимать свой жребий из рук фортуны, идущего класть свою голову не на плаху под топор, а хуже, обиднее… Класть голову и все головы семьи под случай, под прихоть…
– Саблуков! Преглупое прозвание! – заметил один сановник по фамилии Хантемиров.
– Стариннейшее дворянское, государь мой, – отзывается кто-то.
Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать…
«Вона как…» – замечают многие мысленно.
Проходит полчаса…
– Скажи на милость?.. Важное какое дело! – иронически замечает шепотом генерал Хантемиров.
Выходит наконец из дверей и бежит господин Саблуков… бежит рысью по залу куда глаза глядят, а куда – ему неведомо. Лицо пунцовое, потное, мокрое… Слезы ручьем льют из глаз, челюсти судорога треплет, а зубы щелкают. А в руках блин-шапка, и он на бегу утирается ею, забыв про носовой платок… По счастью, попал он в двери и на подъезд, а авось до дома доберется.
Светлейший все расспросил, по ниточке дело его разобрал, пытал как в застенке и объявил весело:
– Небось, голубчик, все суды вывернем наизнанку. Твое дело правое! Правда при тебе и останется. Мое тебе слово.
А вслед за счастливым дворянином вышел важно курьер с письмом к английскому посланнику, где такая загвоздка Альбиону прописана, что через месяца два-три вся Европа всполошится, даже французские Мараты и Дантоны подождут людей резать и сойдутся на совет.
За курьером вышел адъютант и велел кликнуть к светлейшему капитана Немцевича… Прибежал через минуту капитан с животиком, на коротеньких ножках, кругленький, розовенький, кровь с молоком – просто булка. Пробежал он зал и скрылся…
Тотчас и назад выкатился он из кабинета и весело озирается, будто спросить что хочет. Подошел он к ближайшему, еще не виданному им в столице генералу и, стало быть, приезжему, вероятно, чрез Москву, и вежливо кланяется:
– Виноват, ваше превосходительство. Не изволите ли знать… Светлейшему окажите послугу!.. Где найти самый перворазборный рагат-лукум. Сласть такая малоазийская.
«Тьфу: глупость какая! – думает генерал, пыхтит и головой трясет. Он случайно знает, где найти, ибо едал и сам этот рагат-лукум, да неприлично совсем об этом тут речь вести. Не за этим он приехал и ждет. – Черт вас подери», – думает он и прибавляет:
– Сожалею, не знаю.
– Перворазборный, удивительного качества, найдете у купца Грегорианова в Зарядье, – отзывается самодовольно молоденький сержант.
И видно по глазам масленым, что он его сосал еще недавно, сидя у матушки своей и воспитываясь на вареньях и медах.
– Село Зарядье? Какой губернии и уезда? – спрашивает обрадованный капитан.
– Никак нет-с. Зарядье в Москве, в городе.
– А-а? В самом городе Москве! – восклицает Немцевич.
– Да-с, в Москве, но собственно в городе.
Не сразу питерский капитан понял москвича-сержанта… И подивился наконец, что в городе Москве есть еще свой город, не в пример прочим городам российским.
– В городе близ Ильинки! – пояснил сержант.
Капитан юркнул опять в кабинет князя и, появившись тотчас обратно, немного менее веселый, стал расспрашивать сержанта: где, что и как… в мельчайших подробностях.
Его светлость отрядил его, капитана, тотчас, не медля нимало, гонцом в Москву привезти пуд сего лукума-рагата. Капитан бодрится, а видно, ему не очень сладко… Сейчас он к приятелю на именинный пирог собирался, а тут собирайся вдруг тысячу с лишком верст отмахать, чтобы доставить малоазийскую сласть.
Пока дело шло об рагат-лукуме, приехал чужеземец в странном наряде, но с орденом и оружием.
Это был грек Ламбро-Качиони[55] в своем национальном платье. Он прошел без доклада, стуча бесцеремонно по паркету… Адъютанты князя вились около него, как мухи около меда… Это любимец их барина.
Ламбро-Качиони был самый дорогой посетитель для князя, ибо у них было одно общее, дорогое им, трудное предприятие, которое, однако, шло на лад… Дело немаленькое!.. Поднять всех греков, и древнюю Элладу, и весь Архипелаг… весь христианский Восток. Князь был душою дела, а Ламбро – правой рукой.
Но совещались они недолго. Грек только передал последние вести из Эпира и из Крита.
Принял затем светлейший еще с десяток лиц после этого чужеземного вельможи. Но вдруг в зале храбро появился молоденький камер-юнкер, и о нем тотчас доложили… тотчас пропустили…
Адъютант князя появился тотчас в дверях и громко объявил всем ожидавшим еще очереди, что приема больше не будет. Светлейший вызван к государыне и пошел одеваться, чтобы ехать в Зимний дворец.
– Это со мной в седьмой раз! – раздражительно проговорил один статский советник незнакомому соседу.
III
Высокий, пожилой широкоплечий богатырь, в ярком мундире, сплошь залитом шитьем, с плотной грудью, покрытой рядами звезд и крестов русских и чужеземных, двинулся тихо и лениво из кабинета на парадную лестницу… Походка его, с перевалкой, простая, не сановитая и деланая, а естественная и даже отчасти по природе неуклюжая – производила особое впечатление… «Весь залитой золотом, да орденами и регалиями, в каменьях самоцветных и алмазах – и так шагает по-медвежьи?» Чудится, что добродушный и добросердечный вельможа. С важными и высокостоящими – он и бывает груб, высокомерен и жесток – за то, что они мнят себя ему равными. Но маленького человека он пальцем не тронет, ни с умыслом, ни нечаянно, а будет с ним «свой брат», русская душа нараспашку. Если когда и обругает кого самыми на подбор скверными и погаными словами, так это именно, чтобы милость свою и доброхотство высказать прямее, сердечнее и понятнее для истого россиянина. Обруганный так и засияет от счастия, когда светлейший и его, и всех родственников переберет.
«Великолепный князь Тавриды», лениво и тяжело переступая с ноги на ногу, медленно прошел через весь дворец свой, меж двух рядов своих придворных, живой, блестящей изгородью протянувшихся от зала до подъезда. Подсаженный, почти внесенный на руках в поданную коляску, он двинулся из ворот в поле, за которым вдали, после огородов и пустырей, виднелась рогатка городская.
Будто большое, плотное, яркое облако, сияющее и ослепляющее глаз переливами всех радужных цветов, выползло из ворот и поплыло из Таврического дворца в Петербург. Это свита князя… которая конвоирует его всегда по городу… Всадники в разноцветных мундирах; латники, гусары, казаки, черкесы, гайдуки – бьются кругом. А впереди экипажа и коней, саженях в пятидесяти, бежит рысью по пыльной дороге десяток скороходов, в красных кафтанах. Они несутся вереницей попарно за длинным и худым арапом, громадного роста и с двухсаженной золотой булавой в правой руке. Будто сам сказочный Черномор открывает шествие почти сказочного вельможи.
Но он сам уныло, тоскливо озирается кругом…
«Подступает, – думается ему. – Идет!»
Да, он прав, действительно «подступает» и впрямь. Вчера еще было на молебне во дворце и вечером на торжестве, которыми поминали его подвиги, прошлые победы и благодарили Господа Бога за… плоды его разума, его воли, его усилий душевных, его деятельности… И все и вся преклонялось, поздравляло, льстило, млея перед ним.
«Не правда ли это, – думал и думает он. – Нужно ли? Дело ли это или безделье? Велико это или мало? Муравей… козявка… Ишь ведь мишурой-то забавляемся! – оглядывает он конвой. – Австралийские попугаи-какаду тоже любят это! – усмехается он, тоскливо и презрительно оглядывая свою грудь, покрытую регалиями. – Им в клетке всегда лоскут притыкают, чтобы пели и говорили забористее».
Он вздохнул, встряхнул головой, будто отгоняя эти мысли.
– Эх, подступает… – полубормочет он под грохот экипажа. – И затем. Что тут разбирать по ниточке. Каждая ниточка – если и распутаешь всю сию паутину как филозоф, то каждая все-таки, сама по себе, будет тайна великая мироздания, загадка премудрости Всеблагого Творца… И чуешь на душе, что сказывается там так: не гадай, не время теперь, обожди. Теперь живи… Кончишь земной путь – тогда все узнаешь как по писаному. А сия книга бытия твоего, и всего, и всех при жизни – катавасия и скоморошество, чего спешишь, вперед заглядываешь, обожди, все узнаешь! И узнаешь-то, с тем чтобы уж не пользоваться. И себе, и другим без пользы. Оттуда не придешь рассказывать: так и так, мол, братцы…
– Тьфу! Будет! Отвяжись! – выговорил князь уже громко, будто обращаясь к собеседнику невидимому, который пристал и всякую дрянь выкладывает ему, тянет грустную да безотрадную канитель. – Подтяни вожжи!.. Прибавь ходу! Попадья! – крикнул он кучеру нетерпеливо.
Все рванулось и двинулось шибче; застучали колеса, заскакали всадники, зазвенела амуниция, и будто пуще засверкало все на солнце…
«Пожалуй, обидел ведь кучера-то своего Антона, и зря… Чем он попадья? Первый кучер в столице, – думается ему. – Надо поправить. Зачем обижать зря…»
– Эй ты, собачий сын! Что, наш Юпитер все хромает?
– Лучше, Григорий Лександрыч, – отвечает не оглядываясь бородатый кучер. – Я их обеих – и Рыжика и Евпитера…
– Не Евпитер, чучело гороховое, Юпитер! Ишь ведь вы, скоты, хуже татар и турок. Ей-богу, вы, псы этакие, иноземных слов совсем заучить и сказывать не можете.
– А на что они нам? У нас свои есть! – отзывается Антон.
Князь Таврический пристально уперся проницательным, умным взглядом своего глаза в широкую спину Антона и думает:
«Да. Вот. Рассудил. Истинно! Этак бы и нам все государские дела вершить. Памятовать сие изречение Антона. У нас все свое есть. А мы все чужое понахватали. Чужое на стол мечи, а свое ногами топчи! Нет такой пословицы – а должна бы таковая быть!»
– Антон?! – крикнул князь.
– Чего изволишь, батюшка?
– Ты умница, Антон!
– Рад стараться, Григорий Лександрыч.
– Ты умнее меня! Умнее всех сенаторов и советников. Мы все олухи и пустобрехи.
Трясет Антон головой и усмехается, оглядывая коней. Не в первый раз таковая беседа у него с барином, с первым вельможей российским, «ахтительным» князем Тавридским, которого он, однако, не смеет назвать «вашей светлостью». Раз навсегда крепко заказано это всей дворне и всем холопам князя:
«Я светлейший, да фельдмаршал, да князь, да тары, да бары, да трынцы-волынцы, да всякия такия турусы на колесах… для вельмож, для дворянства, пуще всего для пролазов сановитых. А для вас я барин, Потемкин, Григорий Александрыч. Смоленской губернии дворянин».
И холопы не дивятся, давно привыкли к доброму барину, сердечному и золотому, но чудодею Григорью Лександрычу.
IV
На Дунае, в декабре 1790 года, завершилась взятием Измаила блестящая кампания.
Это была целая серия подвигов русской армии, в рядах которой уже гремели имена героев: Суворова и Репнина. Молодые Кутузов и Платов заставляли уже о себе говорить. С новым годом наступило временное затишье в военных действиях. В феврале месяце князь Таврический приехал в Петербург на побывку. Он думал пробыть недолго, быстро повершить все дела и уехать, но оказалось, что времена наступили для него иные… При дворе был новый флигель-адъютант, двадцатичетырехлетний Платон Зубов, приобретавший все большее влияние на государыню и начинавший вмешиваться в дела. Он уже не скрывал своей неприязни к князю Таврическому, боролся с ним и подкапывался под него.
– Пора ему на покой, чтобы и России вздохнуть дать, – говорил он со слов других, более умных. – Надорвал отечество!
Потемкин приехал удалить нового любимца, как уже не раз делывал это прежде, но теперь все более убеждался в его возрастающем значении и силе при дворе. Вдобавок, вокруг Зубова группировались враги Потемкина – а их было немало. И какие враги! В числе их был вновь пожалованный граф Рымникский, герой Кинбурга и Измаила. Суворов не любил Потемкина. Князь должен был спешить обратно в армию, но все медлил и говорил, что не уедет, пока не выздоровеет и не вырвет у себя больной зуб.
Но «Зуб» смеялся на эту угрозу.
И в самом главном деле, которым жил теперь Потемкин, – Зубов боролся с ним. Князь жил мыслью о продолжении войны с Турцией и умолял императрицу не вступать в переговоры с вновь вступившим двадцативосьмилетним султаном Селимом[56]. Он обещал в один год полный разгром Оттоманской империи… Зубов противодействовал ему и завел свои тайные сношения с английским и с прусским кабинетами и с Диваном[57]. Он наконец добился своей цели.
Государыня, тайно от Потемкина, дала предписание Репнину[58], замещавшему в армии главнокомандующего, не отстраняться, а идти навстречу могущим воспоследовать мирным предложениям со стороны нового султана Селима. И дело уже шло на мир, а Потемкин этого не ведал. Зубов ли становился всемогущ теперь? Или государыня становилась менее предприимчива? Или, наконец, «глас народа» влиял на судьбы России…
Недолго пробыл князь Таврический у государыни, был скучен. Узнал он чрез чтение полученных депеш с курьером из Берлина о многих великих событиях европейских, узнал о новых «пакостях» австрийских относительно его душевного и громадного дела там, за Тавридой, на берегах древнего Босфора, близ Царьграда, родного искони России. Узнал он о бегстве короля Людовика Французского[59] из своей бунтующей столицы и его позорного в дороге захвата, возвращенья под стражей и заключенья.
«Вон оно что бывает! Потомок Генриха IV[60], Людовика XIV – в тюрьме! Заключен на хлеб и на воду, по указу портных, коновалов и ветошников!»
И то, что подступало к Григорию Потемкину еще вчера, на молебне в соборе, при всем народе и на пальбе из орудий, которыми торжествовали деяния светлейшего князя Таврического… то уже подступило теперь еще неотвязнее… Хворость эта его… своя, особенная, непонятная…
На этот раз князь приехал к государыне уже заранее несколько расстроенный, и все раздражало его, всякий пустяк волновал, и он все более горячился.
Беседа зашла поневоле о важнейшем вопросе дня. Мир с Турцией. Государыня желала скорейшего окончания кампании, которая уже обошлась государству в шестьдесят миллионов. Вся Россия, все сословия были на стороне царицы, все тяготились этой войной. Успехи беспримерные и блистательные русского оружия позволяли заключить почетный и выгодный мир. Турция была разорена, надломлена. Султан только и мечтал начать снова прерванные переговоры и готов был согласиться хотя бы и на тяжкие, но лишь бы мало-мальски возможные, не позорные условия. Европа вся, а прежде всех союзник России – Австрия и недавно вступивший на престол император Леопольд[61] – почти требовали, чтобы русская императрица заключила мирный трактат с султаном, грозя в противном случае, что иноземная лига против нее и за султана пришлет корабли с десантом под самый Петербург. Весь мир желал мира, но война продолжалась. Кто же не хотел и слышать о мире? Князь Таврический.
Он мечтал изгнать совсем магометан из Европы; восстановить Византийскую империю с Царьградом. Или, по крайней мере, создать союз греческих республик, по примеру новорожденного государства, появившегося в Новом Свете, после восстания и отпадения своего от метрополии.
Современники князя Таврического упрекали его в чрезмерном, безумном честолюбии. Пропади все, разорися Россия, лишь бы имя его, как разрушителя Оттоманской империи и истребителя мусульман, прогремело по всему крещеному миру.
– Это не простая война, – восклицал князь, – а новый, российский крестовый поход, борьба Креста и Луны, Христа и Магомета. И чего не сделали, не довершили прежде крестоносцы, то должна совершить Россия с Великой Екатериной. Я вот здесь, в груди моей, ношу уверенность, что Россия должна совершить это великое и Богу угодное дело – взять и перешвырнуть Луну через Босфор[62], с одного берега на другой – в Азию!
На этот раз князь волновался, но ничего не отвечал на попытки царицы завести речь о Турции и войне. Он жаловался на нездоровье и отмолчался.
V
Таврический дворец молчит, притаился, не дышит, будто спит мертвым сном среди дня. Уж не выехал ли светлейший князь из столицы опять в Молдавию, на театр военных действий, продолжать крестовый поход.
Нет, князь Таврический в своем дворце, и дворец, как и вчера, полон его придворных, дворовых и служащих. Но все притаилось и молчит.
Двор заперт и пуст. Подъезжающие в золоченых экипажах сановники возвращаются вспять от притворенных ворот.
– Его светлость не принимают.
В швейцарской с десяток гайдуков и лакеев сидят по лавкам и мирно беседуют.
В большой зале, где толпились всякий день просители и ухаживатели, – пусто и изредка звучат только, гулко отдаваясь вверху у карнизов, одинокие шаги какого-нибудь адъютанта или лакея, которым дозволено входить во внутренние апартаменты.
Но за дубовыми дверьми, в глубине залы, которые так знакомы всему Петрограду да памятны хорошо и тем многим провинциалам из дебрей и городов российских, которых приводила сюда своя забота, своя беда… за этими дверьми, в кабинете князя – тоже пусто. Вещи, книги, карты географические, дела, кучи бумаг для подписания – рядом лежат на письменном столе и на стульях. Тут же, на отдельном осьмиугольном круглом турецком столике-табурете с инкрустацией из золота и перламутра – лежат аккуратно накладенные кучками пакеты, нераспечатанные письма, депеши и мемории – первейшей важности и, пожалуй, даже мирового значения. Вот письмо с почерком князя Репнина. А он тоже в пределах вражеских на Дунае заменяет князя… Вот письмо посла английского… Ответ на «загвоздку» князя, где дело идет о таком вопросе, от которого пахнет войной России с Альбионом[63], со всей Европой соединенной.
Но пылкий нравом, твердый волей и машистый духом и поэтому легкий на подъем среди кипучей деятельности, разгорающейся все больше от помех и препятствий… русский богатырь, которому политическое море – всегда было по колено, а дипломатия – кукольная комедия, – богатырь этот и духом и телом уже три дня не выходил в кабинет свой и никого из подчиненных с докладами не принял.
Князя Таврического нет в этом дворце его имени и имени его подвигов.
В горнице, обитой сероватым ситцем, с двумя окнами в пустынный сад, на большой софе лежит, протянувшись, плотный человек в атласном фиолетовом халате, надетом прямо поверх рубашки с расстегнутым на толстой шее воротом. Маленький золотой крестик с двумя образками и ладанкой на шелковом шнуре выскочили и лежат поверх отворотов халата… Босые ноги протянулись по софе и свисли к полу вниз, одна туфля лежит рядом с ним, другая свалилась на пол.
Три дня уже лежит здесь Григорий Александрович Потемкин… неумытый, нечесаный и только вздыхает, ворчит что-то себе под нос… Спать он уходил два раза на свою кровать, а одну белую яркую ночь пролежал в раздумье на софе до шести часов утра, так и не двинулся, проспав до полудня.
Обед и завтрак ему приносят сюда. Сюда же наведывались и его племянницы. День целый просидела с ним графиня Браницкая. Здесь же он принял с десяток близких людей «благоприятелей», два раза сыграл в шахматы с любимцем и родным племянником Самойловым, но здесь же принял и прусского резидента, который с фридриховскою настойчивостью требовал свиданья с князем. Немного вышло толку для резидента от приема. Видел он и изучил наизусть образки и ладанки, висевшие на груди князя, но ответа прямого насчет сути последнего предписания, данного князем главнокомандующему Репнину, там на Дунае… ответа резидент не получил!
Князь только мычал пустые фразы, а с ним любезничала за дядю красивая его племянница Браницкая, как бы стараясь сгладить дурное впечатление.
– Mon souverain[64], – говорил и повторял резидент внушительно и по-французски, – тревожится и сомневается ввиду истинно загадочного образа действий князя Репнина, вашего заместителя в армии.
– Ну и Христос с вами. И сомневайтесь. И ты и твой суверен! – промычал наконец князь по-русски. А на переспрос резидента проговорил: – Кранк! Ферштейн зи! Кранк. Ну, чего же? Аллес мне теперь ганц[65], хоть трава не расти.
И князь прибавил по-турецки ругательство.
Резидент, однако, хотя недоумевая, все-таки поднялся и уехал, внутренно возмущенный, обиженный и злобный.
– Варвары! – бормотал он по дороге. – Неодетый… А тут сидит молодая женщина, родственница… Племянница.
Болезнь князя изредка навещала его и была не болезнь, а состояние духа, не объяснимое ни ему самому, ни близким людям. Он сам не знал, что у него.
– Подступает! Идет! – говорил он угрюмо и боязливо, но еще на ногах.
– Пришло! Захватило! – говорил он тоскливо, лежа на диване.
И это подступавшее и хватавшее его за сердце и за голову была непреодолимая, глубокая, страстная полутоска, полузлоба.
Враги находили всегда причину простую и естественную – этого странного расположения духа и этих диких дней, проводимых в халате, наголо, в углу уборной. По их словам:
– Князь злится на Зубова.
– Его дурно приняла царица.
– Он завидует новому графу, то есть Суворову, которого наконец на днях произведут в фельдмаршалы.
– Он ломается. Ничего у него нет и не было. С жиру бесится.
Хворость эту сам князь не понимал, но это был очередной недуг, сильный, давнишний – с юношества… И недуг чисто душевный, а не телесный. Иногда, но редко, примешивалось к тяжкому состоянию души физическое недомогание или слабость. Хворость эта приходила как лихорадка, время от времени, и держала его иногда три-четыре дня, иногда более недели. Припадок бывал слабый и очень сильный… Как потрафится.
На этот раз князь чувствовал, что хворает сравнительно легче… Меньше томит его и меньше за душу тянет. Все окружающее меньше постыло, сам он себе менее противен и гадок, чем иной раз.
Тем не менее князь послал за своим духовником и приятелем, бедным священником в Коломне.
Отец Лаврентий был любимец князя именно за то, что – при их давнишней дружбе – священник, имея возможность пойти в гору, отказывался ото всего, что князь ему предлагал. Даже свой приход на другой, более богатый, не хотел он переменить…
– Все тщета… Умрешь – все останется.
– А детям? – говорил князь.
– Да ведь и они не бессмертные! – отвечал священник.
Князь видел в душе отца Лаврентия то же чувство презрения ко всем благам земным, которое было и у него… Но у него оно только являлось сильно во время его странной хворости, а священник был всегда таков и на деле доказывал это.
Отец Лаврентий отслужил в церкви дворца всенощную, при которой присутствовал один князь…
А затем они вдвоем ушли в спальню князя и долго, целый вечер пробеседовали… Начав «с самодельной» философии, как называл князь, окончили историей церкви.
И в том и в другом оба были доки. В философствовании священник уступал князю, говоря: «Служителю алтаря и не подобает в сии помыслы уходить!..»
Но в истории церкви он знал не менее князя. История схизмы[66] была любимым коньком фельдмаршала, как если бы он был игуменом[67] или архиереем[68].
Человек, «власть имеющий», – он мечтал когда-нибудь, хотя вот после разгрома Порты Оттоманской, заняться специально… Чем?.. Ни более и ни менее как воссоединением церквей.
Беседа князя с священником хорошо подействовала на него. Он оживился, унылость сбежала с лица.
Вселенские соборы… привели к спору о пресловутом «filioque»[69] символа веры западной церкви. Князь незаметно отступил от принятого направления в беседе…
– Нет, князь… Это опять филозофия у вас пошла… Домой пора… Десятый час. Мне до Коломны – не ближний свет.
– Мои кони скоро домчат тебя, отец Лаврентий. Посиди. Ах да, я забыл, что ты ездить… грехом почитаешь…
– Не грехом… А баловством, князь. За что зря скотинку гонять. На то ноги даны человеку, чтобы он пешком ходил.
Друзья простились, и князь напомнил духовнику про его обещанье прийти опять чрез несколько дней, захватив сочинение о Никейском соборе…[70]
VI
На четвертый день, утром, выспавшись за ночь на постели, князь перешел опять в уборную, не умываясь и не одеваясь, и также в халате и туфлях на босу ногу… Ему было легче…
– Что ж. Света не переделаешь. Людей другими существами не заменишь. Глупости и зла не одолеешь. Глупость – сила великая, и с ней даже сатана не справится. С злыми он совладал и от начала века командует ими, а с дураками давно дал себе свою дьяволову клятву – не связываться.
И смеется князь, стоя у окна и оглядывая свежую зелень густого сада.
В полдень явился молоденький чиновник в дверях с кипой бумаг в руках и стал у дверей. Лицо знакомое князю, но мало… Где-то видал.
– Что тебе? – добродушно вымолвил он.
– К вашей светлости, – робко, заикаясь, отозвался чиновник.
– Ты кто таков?
– При канцелярии вашей светлости состою.
– Как звать?
– Петушков.
– Что же тебе от меня?
– А вот… Вот… Простите… Вот…
И, оробев совсем, чиновник запнулся и замолчал. Взялся он за пагубное дело по природной дерзости, да не сообразил своих сил. Там-то, в канцелярии, казалось не страшно, а тут сразу душа в пятки ушла.
– Ну… Что? Бумаги? Для подписи?
– То… чно… та-ак-с! – заикается Петушков и, как назло, вспомнил вдруг рассказ, что одного такого коллежского регистратора, как он вот, князь на Дунае расстрелять велел за несвоевременное появление в палатке с бумагами.
– Тебя кто послал? Правитель канцелярии приказал идти ко мне?
– Никак нет-с. Простите. Виноват. Сам вызвался. Бумаги самонужнейшие, а третий день без движенья лежат.
– Важность! Для бумаги. Бывают люди добрые и вельможи – по годам без движенья лежат. И без ног и без языка. Это много хуже! – рассмеялся князь. – Ну, давай чернильницу и перо… Да что уж… Так и быть. Пойдем к столу.
И князь перешел в кабинет, где не был уже несколько дней.
– Вишь, прыток, молокосос, – ворчит князь, ухмыляясь. – Дерзость какая… Лезет сам, ради похвальбы… Что ему дела! А похвастать! Либо на чай заработать от тех, кому эти дела любопытны да близки к сердцу.
Петушков положил дела на письменный стол и отошел к дубовым дверям, ведущим в залу. Потемкин сел, обмакнул перо и быстро, узорчатым почерком начал подписывать одну за другой четко и красиво написанные бумаги… Подписывая, он все-таки искоса проглядывал каждую. Были и приказы и разрешения спешные и важные… Было дело об отпуске сумм на устройство порта в его любимом городе, новорожденном Николаеве[71]; было дело об отдаче соляного откупа в Крыму графу Матюшкину[72], об уплате трехсот тысяч подрядчику и поставщику Дунайской армии… Дело об освобождении из-под ареста офицера, сидящего уже два месяца по его просьбе, за невежливость относительно князя при проезде его по Невскому.
– Ну вот… Бери… Иди да похвалися. В смешливый час попал. А в другой раз не пробуй. Попадешь в лихой час, и от тебя только мокренько останется.
Молоденький чиновник, вне себя от восторга, собрал бумаги и выкатился из кабинета чуть не кубарем. И похвалиться есть чем во всем городе, да и на чай обещано было с трех сторон тому смельчаку, что решился пойти к князю с бумагами попробовать доложить.
По уходе чиновника князь рассмеялся и почувствовал себя совсем хорошо. Он посидел немного, потянулся, а там перешел к турецкому столику, придвинул его к себе и начал распечатывать и читать письма и донесения, давно ожидавшие его здесь.
В нижнем этаже дворца, где помещалась канцелярия светлейшего и где было, помимо чиновников, много и посторонних и важных лиц в гостях у директора, гудел неудержимый раскатистый хохот.
До кабинета князя было далеко и высоко, и поэтому здесь человек пятьдесят юных и старых хохотали во все горло до упаду. И всякий вновь пришедший или прибежавший на хохот подходил к делам, принесенным чиновником от князя, и тоже начинал хохотать.
На всех бумагах стояла одна и та же подпись рукою князя:
«Петушков. Петушков. Петушков».
Между тем была во дворце и новость… От князя отошло! Дворец зашевелился, ожил и загудел.
Князь поднялся, позавтракал плотно и, надев кафтан, сидел в кабинете. Кое-кого он уже принял и весело беседовал. Через часа два уже узнали, что «у князя прошло», что он оделся и принимает.
Во дворце была и другая новость, еще с утра. Вернулся из чужих краев посланный князем гонцом в город Карлсруэ[73] офицер Брусков. Он исполнил поручение светлейшего и, велев о себе доложить, ждал внизу.
В сумерки князь позвал офицера:
– Ну, что скажешь? Ты ведь, сказывают, из Немеции?
– Точно так-с, ваша светлость. По вашему приказанию ездил и привез с собой…
– Что?
– А маркиза.
– Что такое? – удивился Потемкин.
– Вы изволили меня командировать тому назад месяца с полтора в Карлсруэ – за скрипачом маркизом Морельеном…
– Так! Верно! Забыл! Верно!.. Ну, что ж, привез его?
– Точно так-с! – тихо и с легкой запинкой выговорил офицер. – Привез. Он здесь, внизу, в отведенной горнице.
– Молодец! Где ж ты его нашел? В Карлсруэ?
– Да-с. В самом городе.
– Хорошо играет? Или врут газеты…
– По мне, очень хорошо. Лучше наших скрипачей во сто крат, – отозвался Брусков. – Так возит смычком, что даже в глазах рябит.
– Это что… А не рябит ли и в ушах, – рассмеялся князь. – Тогда плохо дело. А?
– Нет-с.
– То-то. Ну, спасибо. Награжу. Мне его захотелось послушать… В газетах много о нем похвал… Печатают, что божественно играет. Слезы исторгает у самых твердых. Ну вот, через денек-два послушаем и увидим. Спасибо. Ступай.
Офицер хотел идти.
– Стой. Ведь он эмигрант. Бежал из Парижа? Был богач и придворный, а ныне в чужом краю пропитание снискивает музыкой. Так ведь, помнится.
– Точно так-с.
– И все это правдой оказалось? Ты узнал?
– Все истинно. Маркиз мне сам все сие рассказывал. Всего лишился от бунтовщиков.
– Ну, ладно. Приставить к нему двух лакеев и скорохода. Да обед со стола. Ступай.
VII
Еще в апреле месяце князь Таврический, после великолепного торжества, данного в честь царицы, которое изумило всю столицу, вдруг снова захворал своей неизъяснимой болезнью – хандрой. Тогда, пробегая переводы из немецких газет, которые ему постоянно делались в его канцелярии, он напал на восхваление одного виртуоза скрипача. Газеты превозносили до небес новоявленного гения. Эмигрант Alfred Moreillen, Marquis de la Tour d’Overst был, по словам газет, невиданное и неслыханное дотоле чудо. Его скрипка – живая душа, говорящая душам людским о чем-то… дивном и сверхъестественном. Это не музыка, а откровение божественное.
Князь тоскующий, то плачущий, то молящийся, то проклинающий весь мир… задумался над этим известием.
«Вот бы этакого достать и держать при себе, заставлять играть в такие минуты томительного, неизъяснимого отчаяния».
Гениальный виртуоз Альфред Морельен, маркиз де ла Тур д’Овер, по словам тех же газет, бежал из Франции от разгрома, где погибло все его достояние, даже родной брат был казнен, и разоренный аристократ, чтобы заработать кусок хлеба, ездил по Германии из города в город и давал концерты.
«Послать за ним? Что ж ему лучше: шататься по Немеции и гроши собирать или жить у меня на всем на готовом. Обращение обещаю ему по его роду и имени. Царица – покровительница ученых и художников. Коли полюбит, пенсию ему положит. Напишу письмо и отряжу кого посмышленее».
И князь написал письмо, короткое, но сильное, где звал маркиза Морельена в Россию и обещал от царицы и от себя горы золотые.
Малый подходящий, т. е. юркий и смышленый, был у князя налицо – его адъютант Брусков. В полчаса времени Брусков все понял, сообразил и поклялся светлейшему, что разыщет виртуоза маркиза и привезет в Россию самое позднее через два месяца.
Получил Брусков две тысячи червонцев на путевые и всякие издержки да еще тысячу для задатка эмигранту-французу… Но этого мало. Князь узнал, что Брусков пленен барышней Саблуковой, приезжей из провинции с отцом, и мечтает жениться, но тщетно, ибо отец, крутой и гордый, не соглашается выдать дочь за простого офицера без состояния и положения.
– Привези мне маркиза, а я у тебя сватом буду и посаженым вызовусь быть на свадьбе. Посмотрим, как тогда не согласятся. Не привезешь скрипача – не смей и на глаза мне ворочаться.
Счастливый Брусков, ног под собой не чуя от счастья, с легким сердцем и тяжелым карманом, туго набитым золотом, простился тайком с предметом своей страсти у общих знакомых и наказал девице-красавице не плакать, а радоваться и ждать его для свадьбы – и выехал.
Теперь ловкий Брусков возвратился и привез с собой кавалера Морельена, маркиза де ла Тур д’Овера. Следовательно, скоро можно посылать светлейшего сватом к Саблуковым.
Брусков, побывав у князя, нацеловавшись вдоволь со старухой матерью, рассказал ей подробно, как он разыскивал в чужих краях эмигранта маркиза.
Много городов объездил он, всюду разузнавая про место нахождения удивительного музыканта.
– И не боялся ты… Побожися… Не боялся? – спрашивала мать.
– Чего же, матушка, ведь немцы такие же люди, как и мы. Ведь они и здесь есть – я чай, не мало вы их видали.
– Так, соколик мой, верно. Люди они то ж. Да ведь здесь они промеж нас… А там-то они у себя… пойми… а ты промеж них.
– Так что же. Все едино.
– Ой нет. Вон иного зверя показывают в клетках иль вот Мишку какого на цепи медвежатник водит. Не страшно ничуть. А попади-ко ты ему в лапы у него в лесу, в его берлоге, что тогда. Так и немцы. Ведь они там у себя, а ты уж входишь чужой человек у них. Ну… Ну! Рассказывай…
Брусков смеялся и весело передал матери в мельчайших подробностях, как он разыскал наконец маркиза, уговорил ехать с ним в Россию и повез.
Разгорячился юный офицер и, окончив повествование, вскочил вдруг.
– Мне бы, матушка, только бы прислать скорее князя сватом да жениться на моей Оле, а там пропадай моя головушка…
– Зачем? Что ты! За что?
Брусков спохватился… смутился и, молча поцеловав старуху мать, вышел и поехал к Саблуковым.
Здесь ожидала его, к довершению счастия, дивная новость! Отец красавицы, упрямый и гордый, возившийся в столице с судом и подьячими, чтобы спасти от ябедника свое состояние, ни за что не хотел ехать и просить у князя Таврического помощи и заступничества!
– Я исконный дворянин русский, да поеду порог обивать, кланяться временщикам. Нет, дудки! За меня – закон.
Увидя наконец, что он разорен и на улице – исконный дворянин смирился в своей дворянской гордости и пошел к князю… но порог обивать ему не пришлось.
После смущения и робости в приемной светлейшего, он получил слово Потемкина, что все будет сделано по справедливости и по закону.
Стало быть, теперь барышня Саблукова будет даже богатой невестой!
Приезжий нежданно в Россию, прямо во дворец князя Таврического, кавалер Морельен и маркиз де ла Тур д’Овер сидел внизу, в горницах, отводимых для гостящих у князя родственников и благоприятелей из провинции. Маркиз был окружен по указу князя и всеми удобствами и почетом. Даже особая четверка цугом и карета была в его распоряжении. Маркиз уже три раза выезжал и видел всю столицу, был у обедни и в гостях у своего католического пастора. Сидя у себя в сумерки и вечером, он постоянно играл на скрипке, и все кругом – чиновники и люди, даже арапы и калмычки – заслушивались игры маркиза. Калмычат, прикурнувших в коридоре близ дверей его горницы, отогнать было нельзя.
Маркиз был человек лет двадцати пяти, высокий, красивый, с южным типом лица, чернобровый, с карими глазами и задумчивым взглядом. Было, однако, иногда в глазах его что-то странное… Глаза бегали, косились беспокойно… Но определить эту особенность лица трудно было бы. Точно он будто по пословице обеспокоен: «Знает кошка, что мясо съела!» Может быть, там у себя в отечестве совершил какое преступление да и дал тягу… А стал говорить, что эмигрант и от революции бежал; газеты и поверили и на весь мир оповестили. Может быть! Но вряд ли…
Кой-кто из чиновников князя, понимавших по-французски, уже познакомился с маркизом и бывал у него и днем и вечером. Он охотно играл и с улыбкой самодовольства принимал похвалы себе и своему дарованию. Вдобавок оказалось, что он отлично говорит по-немецки, а так как язык этот был очень распространен в Петербурге, то и в канцелярии князя многие знали его… Нашлись живо у маркиза и собеседники… Он был веселый и болтун и рассказывал им многоречиво про свой дворец в Париже, про двор короля Лудовика и балы и торжества, про революцию, про свое разорение, бегство.
– Нас теперь много в Германии! Во всех городах есть эмигранты, и все бедствуют. Уроки дают, лавочки заводят и торгуют чем попало, больше нюхательным табаком. Мой кузен виконт де ла Бар живет особым талантом. Силуэты делает. Как? Да вырезает из черной бумаги портреты – и одно лицо и во весь рост, миниатюры делает. И я умею.
VIII
Князь всякий день собирался призвать маркиза – расспросить, заставить сыграть, но за недосугом все откладывал. За время его хворания накопилось столько дела, спешного письма и вообще занятий государственной важности, что он почти не выходил из кабинета, переходя от письменного стола на диван, где принимал обыкновенно всех имевших до него дело, нужду, просьбу… А таких было много. Брусков всякий день нетерпеливо ждал свидания маркиза с князем. Нетерпение его росло с часу на час. Он волновался и, видимо, истомился. На расспросы матери о причине его волнения он объяснил, что смущен мыслью, как маркиз Морельен понравится светлейшему.
– А тебе-то что же? – удивилась Брускова. – Ты привез по указу. А ты не ответчик за него, коли он не так, как следует, завозит смычком, завозит по скрипице.
– Ох, матушка. Играет он бесподобно. Я его уже казал здешним музыкантам. Они все от него ума решились. Райской птицей прозвали его скрипку.
– Ну и слава богу!
– А вот то-то… Слава ли богу-то… Еще неведомо…
Однажды вечером Брусков, по просьбе матери, привез к себе на квартиру маркиза со скрипкой. Вся семья Саблуковых, отец, мать и возлюбленная офицера, Оля, были приглашены на вечеринку с музыкой. А помимо их до десятка сослуживцев с женами и дочерьми…
Маркиз был очень весел и говорлив с теми, кто понимал хоть малость два ему известных языка, но больше и охотнее он болтал с теми, кто говорил по-немецки. С дамами он был очень любезен, хотя несколько и неприличен. Одну молодую даму он, шутя конечно, взял за ушко. Она сконфузилась. Муж было обиделся, но Саблуков, и в особенности Брусков, убедили всех, что с иностранца нельзя требовать того же, что с своего брата русского.
– У них во Франции, – заметил хладнокровно Саблуков, – может быть, это почитается за сердечное изъяснение своих чувств.
– Вестимо! – горячился Брусков. – Я вам отвечаю, что он обидного чего в мыслях не имел.
Маркиз, напившись кофе, наевшись плотно яблоками, орехами и вареньями, сыграл несколько пьес, больше все наизусть и как бы просто из головы своего сочинения. Гости заслушались и млели весь вечер. Даже любимая собака хозяйки, Жучок, смирно сидела в углу, навострив уши на гостя.
– Не музыка, а колдовство, – решила Брускова, – с нечистым снюхался просто.
– Не играет, а поет. Заливается соловьем. Впрямь диво! – восклицал один гость.
– Ах, ракалия![74] Ах, ракалия! – восторгался тихо другой гость.
– Эта посылочка почище моего рагат-лукума, – говорил драгунский капитан, уже съездивший в Москву и доставивший князю пуд малоазиатской сласти.
Вечеринка вышла на славу. Один Брусков только тогда успокоивался, когда маркиз был со скрипкой в руках, но как только он освобождался и вступал в беседу с кем-либо, – Брусков настораживал уши и глаза.
Почему он это делал – мать его замечала, но не понимала. Французский дворянин был, по ее мнению, пречудесный, презанятный кавалер.
В конце вечера случился, однако, странный казус, и неприличный, и смешной.
Все сидели за ужином, весело болтали, смеялись… маркиз не отставал от других. Его угощали на отвал, подливали всяких вин, а заметя, что он на вино крепок, выпил больше всех, а «ни в одном глазу», – стали потчевать еще пуще. И кавалер Альфред Морельен, маркиз де ла Тур д’Овер не устоял и напился. Все бы это ничего. Хозяин и гости сами же виноваты были – спаивали. Но подгулявший маркиз вдруг начал хвастаться своими познаниями… Оказалось, что он маракует даже по-латыни, по-гишпански и по-турецки и знает немножко и по-российски.
– По-нашему?! – воскликнули гости. – По-русски?
– Да, – отвечал подпивший маркиз, – по-вашему, – и начал сыпать отдельными словами, польскими и русскими. Брусков сидел угрюмый и беспокойно глядел на своего гостя.
Однако у маркиза хмель прошел живо – крепок он, видно, был на питье – и он объяснил публике, что его родитель покойный, озабочиваясь его воспитанием, приставил к нему с детства десятка с три учителей разных наций. От них-то он и научился понемножку всем языкам.
Гости только изумлялись, какое воспитание дается в чужих краях.
Когда пришлось вставать из-за стола и все поднялись, шумя стульями, и весело подходили благодарить хозяйку, маркиз не двинулся со стула и озабоченно шарил под столом… Затем он взял свечу, нагнулся и ахнул…
– Lieber[75] Брусков, – завопил он отчаянно по-немецки. – Помогите… Неожиданное приключение. Господа, кто это из вас пошутил!
И он прибавил по-русски, обращаясь ко всем гостям:
– Государь, коханый. Отдавай. Не карош это. Отдавай!
Оказалось, что маркиз сидит в одном сапоге; другого не было ни на ноге, ни под столом.
Все мужчины, изумляясь и со смехом, начали искать сапог, но его не было нигде.
– Да он его сам снял? – спросила Брускова, прося перевести вопрос гостю, но маркиз понял и отвечал по-русски:
– Сам. Сам. Права сапога моя…
– Ну так его Жучок истрепал! – решила хозяйка.
Жучок, легавый щенок, любимец Брусковой, был известен даже в околотке, как истребитель кошек и обуви. Кошек он ненавидел, гонял, ловил и загрызал, а сапоги, башмаки и туфли обожал до страсти и всякий день приносил домой изгрызанные голенища, подошвы и каблуки, остатки его охоты по соседям.
Догадка хозяйки тотчас и подтвердилась: в углу гостиной нашли Жучка, усердно и мастерски разрывающего сапог маркиза на мельчайшие куски…
Смех, разумеется, гудел в доме… Маркизу уже принесли другой сапог хозяина, который оказался узок, но виртуоз, морщась и охая, все-таки напялил его, ворча и посылая к черту глупую собаку.
Некоторые гости, однако, качали головами и перешептывались. Дворянин Саблуков находил, что снимать сапог под столом за ужином в гостях совсем неприлично.
– Невежество это, как хотите! – говорил он Брускову вполголоса.
И офицер смущался.
– Может, у них там это про обычай! – заметил капитан, гонец за рагат-лукумом, хохотавший больше всех от приключения.
– Не может сего быть! Это вольность с нами. Что же он нас не за дворян почитает. У себя бы в отечестве он этого сделать не отважился.
И умный Саблуков решил, что маркиз Морельен зазнался в России, благо помещен во дворце князя Таврического, и смотрит теперь на русских людей, как на дрянь, не стоящую вежливого обращения.
– Да зачем, спроси ты, он снял сапог? – приставала хозяйка к сыну, стараясь обвинить гостя, а не любимца Жучка. – Колдовал он, я боюсь, у меня под столом.
– Какое тут, черт, колдовство, матушка, – сердился Брусков. – Скотина он невоспитанная. Вот и все!..
Спрашивали маркиза, зачем он снял сапог. Он жался и объяснял на разные лады.
Гости разъехались, обещаясь Брускову не оглашать казуса, а себе обещаясь наутро разнести по городу повествование об изгрызанном сапоге маркиза.
– Зачем вы сняли сапог? – сказал Брусков, провожая гостя. – Если вы это сделаете где-нибудь, вас пускать к себе не будут.
– Отчего? – изумился маркиз. – Никто бы и не заметил ничего, если бы не скверная собака.
– Да зачем вы сняли? – загорячился Брусков.
– У меня мозоли. А сапоги новые. Странные вы люди, mein Gott![76] – вдруг обиделся маркиз.
IX
Наконец князь однажды утром потребовал к себе маркиза Морельена. Музыкант смутился, съежился и, бросившись одеваться в свой самый лучший кафтан и камзол, торопился, рвал пуговицы и парик надел набок.
Маркиз, эмигрант и придворный короля Людовика XVI, был настолько сильно взволнован, что достал из шкатулки флакон с каким-то спиртуозным и крепким снадобьем и стал нюхать, чтобы освежить голову и привести свои мысли в порядок.
Дело в том, что маркиз Морельен, уже освоившийся со всем и со всеми во дворце, начинал уже давно смущаться при мысли предстать пред могущественным Потемкиным.
Разные важные сановники, приезжавшие к князю и которых он видел из окон своих комнат, выходящих на подъезд, как бы говорили ему:
– Мы важные люди, а он еще важнее и выше нас. И если эти так надменны и строги, горды и неприступны, то каков же он… к которому они приезжают скромными просителями. Что же он?.. Гигант! Колосс! Земной бог!
И душа маркиза ушла в пятки. Он оделся совсем; поправил на себе парик, переменил сапоги на чулки и башмаки для большего парада… и не шел… Боялся присылки второго гонца от князя, его недоумения и гнева… и все-таки не шел.
Он ждал прибытия Брускова, за которым погнал своего скорохода.
Брусков влетел наконец верхом во двор и почти прибежал в горницы маркиза.
– Позвал? Зовет?.. Ну?.. Когда?.. – закидал он вопросами привезенного им аристократа-виртуоза.
Волнение Брускова было не менее смущения маркиза.
– Ну что ж, Бог милостив! – воскликнул он. – Помните только одно. Поменьше храбрости. Потише. Посмирнее…
Маркиз грустно развел руками, как бы говоря, что смирнее того, как он себя теперь ощущает, – быть никак нельзя. Брусков, внимательно оглядев его, подумал то же:
«Да… Ошибло его… Присмирел. Где тут храбрость! Ноги трясутся. Отлично!»
И офицер вздохнул свободнее.
«Слава богу! – подумал он. – В этом виде мой маркиз ничего. Боюсь только, как обласкает его через меру князь, – ну и зазнается и испортит все… Ну, Господи сохрани и помилуй!»
– Пойдемте.
Бодро, но молча прошли весь дворец и маркиз и офицер, но двери кабинета переступили оба ни живы ни мертвы…
– Помяни Господи царя Давида и всю кротость его… – шептал Брусков и перекрестился набожно.
Вся его судьба, вся жизнь, женитьба, счастье, будущность, розовые мечты и сокровеннейшие надежды – все это зависит от этого свидания, все сейчас может прахом рассыпаться.
Князь сидел за письменным столом и работал; он встал навстречу, улыбаясь, протянул музыканту руку и что-то заговорил на французском языке. Брусков все видел и слышал, но ничего не понимал и не чувствовал, у него в голове будто привесили соборный большой колокол и трезвонят во всю мочь.
Маркиз жался как-то, ежился, странно, не понимая, откуда только у него вдруг дишкант взялся со страху, и в ответ на любезности князя отвечал только:
– Oui, Altesse! Non, Altesse… Votre serviteur… Altesse…[77]
Altesse нравилось князю, и он, любезно усадив маркиза, продолжал свои занятия и стал рассеянно расспрашивать его о последних событиях во Франции, о положении эмигрантов в чужих краях. Но разговор шел худо, так как князь все более и более углублялся в письма и бумаги, которые переглядывал.
– Переведи! – услыхал вдруг Брусков приказание князя и точно проснулся вдруг и стал понимать окружающее. И он, отлично, до тонкостей зная французский язык, начал сначала робко, а там все бойчее помогать князю в беседе, в некоторых выражениях.
– Какой конфузливый твой француз, – заметил наконец князь. – Да еще пришепетывает…
– Он, ваша светлость, действительно… Да и вас оробел.
– Понимаю, братец. Да ведь он в Версале да Трианоне видал немало всякой всячины.
– Он таков от природы робкий. Сам мне признавался! Да, кроме того, он говорил, что с важными людьми, вельможами он приобвык, «свой брат» они ему. А с умными людьми робеет, боясь за глупца прослыть. Об вашей светлости он наслышался еще в Германии.
– Что ты плетешь! – добродушно рассмеялся князь. – Что ж вельможи-то французского двора все дураки, что ли?! А он, по-моему… должно быть, не у себя… На чужой стороне.
И князь встал, любезно, даже ласково-фамильярно отпустил маркиза и сказал, что вечером попросит его показать свой талант при двух-трех лицах из его приближенных.
– Пронесло! Слава тебе, Создателю! – восклицал Брусков чуть не на бегу и едва поспевая за весело летевшим по дворцу маркизом.
Живо вернулись они в горницы.
– Ganz einfach! – повторял сразу раскуражившийся маркиз, потирая руки в удовольствии. – А по-латыни Simplicitas! Sancta simplicitas! A по-турецки: Буюк терчхане! А по-французски: Courage, mon garçon![78]
– Да, все слава богу! Но помните, – уговаривал его Брусков, – держите себя как вот сейчас. А если вы расхрабритесь – тогда пропало. Вы все потеряете. А про меня и говорить нечего! Я тогда несчастный на всю жизнь!
Ввечеру князь не прислал за музыкантом.
Прошло еще два дня, а маркиз и Брусков напрасно ждали. Князь был занят и озабочен и все переписывался, гоняя скороходов и верховых, с английским резидентом, который сказывался больным. Он не ехал к князю и на предложение Потемкина посетить его отвечал, что не может решиться принять такого вельможу в постели.
– Ах, шельма эдакая! – досадливо восклицал князь. – Нечего делать. Я тебя пробомбардирую письмами и цидулями. Все равно не отвертишься у меня!
На третий день князь велел звать маркиза со скрипкой. Брусков снарядил приятеля и чуть не перекрестил, отпуская теперь одного в кабинет князя.
– Бога ради… Бога ради… – молил он маркиза. – Помните… Смирнее…
Маркиз клятвенно обещал быть тише воды ниже травы, обещал не говорить, а только отвечать на вопросы, не смеяться, ничего не спрашивать.
Сдав маркиза двум камер-лакеям, Брусков остался внизу и сидел как на угольях; раз с двадцать его то в пот ударяло, то мороз по коже пробирал.
Наконец маркиз явился сияющий и глянул на Брускова, – как большой водолаз может глянуть на новорожденного котенка.
«Что это, мол, за мразь такая тут».
Маркиз был важен, горд и взволнован.
Князь остался в восторге от его игры… Князь его обнял и расцеловал. Князь даже слезу раз утер… Ну, чего еще!..
Маркиз поднял скрипку над головой и воскликнул:
– Я этим мир к ногам моим приведу. Я всегда это знал и чувствовал. Но мне нужен был случай. А что в моей трущобе могло мне дать этот случай? Но вот теперь звезда моя поднимается, поднялась, сверкает и не затмится вовеки. Умру я – и все-таки здесь, в России, а может быть и во всей Европе, имя мое останется и будет греметь в потомстве; будет отец сыну и сын внуку передавать.
– Да будет вам болтать! Скажите… Графиня Браницкая как с вами обошлась? Самойлов как обращался?
– Их никого не было.
– Князь был один?!
– Один.
Брусков подпрыгнул от радости, а потом тотчас и пригорюнился:
– Да. Но ведь в другой раз может позвать и при гостях. Не говорил он вам, когда он вас наградит и отпустит обратно?
– Нет. Он меня оставляет при себе, – гордо отозвался маркиз. – С собой возьмет и в лагерь в Молдавию.
Брусков замолчал и задумался.
– Ах, только бы мне успеть жениться, – прошептал он наконец, – а там мне все равно. Ведь не снимет же голову.
X
Вскоре после этого, однажды вечером, вокруг Таврического дворца горели смоляные бочки и плошки, а улица была запружена народом. На фасаде дворца сияла огромная звезда из шкаликов[79]. Ярко освещенный двор переполнился громыхавшими экипажами, и ежеминутно прибывали и выходили на подъезд гости – мужчины и дамы.
Расставленные цепью по дороге, по всему полю от дворца и до рогатки города, скороходы перекликались весело… Наконец у рогатки громко крикнул чей-то голос два слова. И эти два слова будто побежали по полю, перебрасываясь от одного к другому, и быстро достигли дворца, народа толпившегося, швейцарской, наконец, приемных, и гостиных, и кабинета самого хозяина.
– Государыня выехала.
У князя был маленький званый вечер, на котором должна была присутствовать запросто сама монархиня, ради того, чтобы видеть необыкновенного новоявленного виртуоза скрипача, добытого князем из чужих краев. И много в Петрограде в этот день вельмож и сановников было обижено, или огорчено, или взбешено. Всякий считал своим правом ожидать приглашения в Таврический дворец, а этих претендентов оказывалось так много, что маленький вечер превратился бы в огромное, многолюдное собрание. А этого не мог допустить князь, ибо не желала государыня. Были приглашены только самые близкие люди, «благоприятели» и, конечно, родня князя, но и родня родни. И все-таки двор оказался переполнен экипажами, и большая гостиная едва вмещала разряженных гостей, чинов двора, генералов, дам и девиц. Явившихся было все-таки до сотни лиц. И все они сияли и одеждой, а еще более лицами, чувствуя себя «избранниками» из столичного общества.
Любимица князя, графиня Браницкая, принимала гостей в качестве хозяйки своего холостого дяди. В числе дам была, конечно, и красавица Альма Тален…
Только одну царицу принял сам светлейший, сойдя на подъезд к ней навстречу, когда карета ее была еще в улице и длинный цуг белых коней заворачивал в ворота, озаренный огнями плошек и сверкающий своей белизной и золотой сбруей.
Скоро все гости сидели молча в рядах стульев, среди малой залы, освещенной наполовину ради придания интимного характера вечеринке в Таврическом дворце. Государыня в переднем ряду была почти не видна гостям за узорчатой спинкой огромного готического кресла, купленного князем в Вартбурге. Князя уверил продающий ему это кресло, что на нем сидел главный судья, когда-то судивший Лютера[80].
Около государыни, рядом на стуле, сидел хозяин, а несколько отступя назад поместился постоянный спутник царицы, ее новый флигель-адъютант, Платон Зубов. На его нежное, женственное лицо, тонкий, красивый профиль и сверкающий бриллиантовый аксельбант – и было теперь наиболее обращено внимание гостей, в особенности девиц. «Почем знать», – думалось каждой.
Впереди, пред креслом царицы, в приличном отдалении, стоял стул, столик с инструментом и пюпитр с нотами.
Публика ждала уже с пять минут… Государыня тихо разговаривала с подошедшим к ней, ее же секретарем, – хозяин начал уже оборачиваться и поглядывать на дверь, из которой ждали виновника собрания.
Наконец в зале появился маркиз и нетвердыми шагами приблизился к пюпитру. Князь хотел встать, подойти к виртуозу и заметить ему, что он должен был явиться заранее и быть на месте прежде государыни и гостей, но, взглянув на своего маркиза, Потемкин чуть не ахнул.
Маркиз был бледен как полотно, глаза его горели лихорадочным блеском, губы побелели, и какая-то гримаса, будто судорога, передергивала черты лица. А вместе с тем, благодаря этой мертвенной бледности и, может быть, еще и тому обстоятельству, что на нем был простой и изящный костюм, темно-фиолетовый кафтан, матово-желтый камзол, оттенявший его лицо, казавшееся еще белее, маркиз был очень в авантаже[81] и казался еще красивее. Публика одобрительно встретила его появление. Все заметили:
– Какой красавец!
Государыня заметила бледность и смущение виртуоза-эмигранта и сказала что-то хозяину.
– Обойдется! – отвечал князь, улыбаясь. – А не обойдется – вы обласкаете. И от одного вашего чудодейственного слова все к нему вернется: и чувство, и разум, и гений.
Маркиз, взявший скрипку и смычок, прилаживался, но руки его заметно дрожали. Он наконец двинул смычком и начал играть… и сыграл, и кончил…
Молчание было ответом.
«Ничего! Так себе, обыкновенный скрипач. Эдаких в Питере десяток своих доморощенных!» – думали и говорили теперь гости. Государыня покачала головой и вымолвила Зубову:
– Надо его ободрить. Il a perdu son latin[82]. Пойдите. Поговорите с ним. Обласкайте.
Зубов встал и, подойдя к маркизу, заговорил с ним по-французски. Виртуоз постепенно несколько ободрился, отвечал и стал смотреть храбрее. Он глянул в первый раз на государыню, присутствие которой до сих пор чувствовал только, но еще не видал, боясь поднять на нее глаза… Она ласково улыбалась, милостиво глядела на него.
Она совсем не то, что он воображал.
«Она добрая!» – думает маркиз.
И маркиз ободрился совсем и уже бойко отвечал Зубову и тоже подошедшему к нему хозяину.
Флигель-адъютант, исполнив приказание, вернулся на свое место.
– Видите, как оправился, – сказала государыня. – Теперь услышим иное…
Князь еще говорил с виртуозом и добродушно смеялся. Зубов, пользуясь минутой, наклонился к государыне и шепнул, насмешливо улыбаясь:
– Ce n’est pas un français[83].
– Как? Это эмигрант. Un marquis français. Morreillen de la Tour de…[84] Дальше не помню.
– Emigrant peut-être… Marquis – plus ou moins… Français – jamais![85] – проговорил Зубов. – Кажется, совсем не парижский выговор.
– От робости…
В эту минуту Потемкин вернулся на место и сказал:
– Я его совсем разогрел… Теперь сыграет!
XI
Виртуоз взмахнул смычком и взял несколько аккордов. Затем он медленно обвел глазами все общество. Быстро, искоса глянул на государыню, пристально поглядел на князя, улыбнулся вдруг как-то странно, почти грустно, и, припав головой к скрипке, повел смычком.
Он начал маленькую вещь… Сонату… Простую свою…
Его мать любила ее слушать. Ей всегда играл он ее, когда ему было еще двадцать лет… Когда и она и он бедствовали, почти голодали, а в холодном доме всегда бывало тихо, уныло… Рассвета не виднелось в жизни… Она так и скончалась однажды под звуки этой ее любимой сонаты и отошла в тот мир тихо, покорно, безропотно… «Как ему-то здесь будет без меня?» – шепнула она.
Смычок сам двигался по струнам, привычные пальцы шевелились сами… Артист был всем существом в иных пределах, а не в зале Таврического дворца.
Он провожал тело матери, в грошовом деревянном гробу, на даровое помещение городского кладбища, где хоронят самоубийц и безвестных мертвецов, найденных на дорогах, проходимцев и бродяг… Два крестьянина стащили гроб в яму, опустили – зарывают… Зарыли. Ушли. Он стоит один… Он пойдет теперь назад домой – один… И будет весь день, весь год, всю жизнь – один и один… Весь мир кругом него глядит и молчит бестрепетно и безучастно. Ни света, ни тепла, ни радости, ни улыбки для него нет… здесь все зарыто… И навеки! Все кончено…
В зале наступила тишина и длилась несколько мгновений. Звуки музыки замерли, а гости еще явственно слышали их на себе или внутренно вызывали их опять, ожидали вновь.
Наконец молчание перешло в шепот, а шепот в оживленный говор.
– Я не ожидала этого… – проговорила государыня тихо, и в голосе ее было чувство – была слеза.
Она что-то пережила вновь из прошлого, полузабытого и пронесшегося сейчас перед ней в этой зале бледным призраком. Но от этого грустного призрака повеяло тоже чем-то иным – дальним, ясным, светлым, молодым…
«А-а! Что? Присмирели! – думает артист, оглядывая публику. – Вы съехались и сели слушать потому, что обещал играть вам равный аристократ, маркиз… А если б явился в Петербург бедный шляхтич, голодный и босоногий, и заиграл так же… Вы бы его и со двора гнать велели. „Что может быть хорошего из Назарета…” А из Назарета вещий голос и раздался, и все ему поклонилось…»
И виртуоз снова поднял смычок и будто злобно рванул по струнам. Мысль его руководила смычком.
«Маркиз?! Аристократ?! Нет! Выше маркизов! Простой нищий артист! Творец. Да. Творец, созидающий из ничего – из сочетания дерева и бычачьих жил – целый мир. Вызывающий из глупой деревяшки и веревочек целое море бурь, чувств, страстей, волшебный поток, захватывающий сердце людское и увлекающий его в те таинственные пределы, куда разум никогда не проникнет… И в этот миг я помыслом, сердцем, душой в моих небесах, а лишь пята моя на земле, и ею топчу я вас во прахе земном…»
Бурной страстью, всепожирающим огнем и неукротимой дикой силой дышало от новой блестящей импровизации виртуоза. Слушатели будто почуяли все то, что вдруг забушевало в душе артиста и порывом вылилось в звуках. Это был вопль злобы и отчаянья, проклятие могучего и горячего сердца, разбитого жизнью и людьми… Виртуоз кончил и недвижно стоял и молчал, не подымая глаз на гостей… Что они ему? Он забыл об них! Он еще не вернулся с своих небес к ним на землю…
Но вдруг зала огласилась громкими, дружными рукоплесканьями, артист вздрогнул и вздохнул – и сошел на землю…
Он стал кланяться и улыбаться деланой улыбкой. Хозяин встал и подошел к нему, в восторге протянул руки и благодарит.
«Ведь это он, могущественный вельможа, от которого зависит все…» – думает музыкант и окончательно приходит в себя и вмиг становится – тем, что он и есть. Обыкновенный смертный, жаждущий пристроиться и иметь кров, кусок хлеба обеспеченный и средства к пользованию всеми благами этой мелкой жизни, которую он сейчас клеймил сердцем и которую он тоже любил своим обыденным разумом бедного музыканта.
Государыня между тем поднялась с места, и все зашевелилось и зашумело, поднимаясь тоже. Хозяин бросился к монархине, но по ее слову снова вернулся к маркизу, взял его за руку и повел… Он представляет аристократа-эмигранта, придворного французского короля – русской монархине.
– Marquis de Moreillen de la Tour d’Overst…
Маркиз смущенно низко кланяется, красивое лицо его покрывается наконец ярким румянцем, и глаза блестят довольством и счастьем.
Монархиня чистым французским выговором спрашивает его – спаслись ли все его родственники… Давно ли он посвятил себя искусству и развил в себе обворожительный талант.
Маркиз отвечает на вопросы сначала робко, односложно, потом все смелее.
У императрицы понемногу морщились брови.
– Вы ведь природный француз? – вдруг спрашивает она с царски упорным взглядом, строго устремленным в его лицо.
– Вы говорите по-немецки? – спросил Зубов.
– Точно так-с, – сразу смелее и самоувереннее отзывается маркиз.
Государыня, улыбаясь несколько загадочно, взглядывает на своего флигель-адъютанта.
Зубов откровенно рассмеялся и заговорил с маркизом… Речисто, свободно и даже бойко заболтал маркиз…
Милый язык ее любимых поэтов и философов, язык Гёте и Шиллера, Лейбница и Канта…[86] этот язык был в устах маркиза-виртуоза изуродован, обезображен. Он залопотал на нем, а не заговорил… Что же это значит?.. Кого? Какую речь? Чье произношенье напомнил он ей вдруг?..
И наконец государыня вспомнила, слегка рассмеялась… и двинулась из залы… Хозяин и Зубов пошли за ней, провожая до кареты. Часть гостей перешла в гостиную отдохнуть… Другие подошли к музыканту, расспрашивали его и, обступив его, стояли кучкой среди высокой залы впереди опустевших рядов стульев. Он был доволен, счастлив, но это был уже не тот человек, который играл здесь за минуту назад… Это был болтливый, дерзкий, самодовольный и самоуверенный чужеземец сомнительного происхожденья.
Государыня ласково простилась с князем, но выговорила:
– Ну, спасибо, Григорий Александрыч, за музыку… да и за машкерад…
Зубов усмехнулся едва заметно, но князь видел, слышал и слегка побледнел.
Чрез несколько мгновений князь, суровый, медленно явился в залу.
Гости собирались снова усаживаться на свои места…
Через час Таврический дворец был пуст и темен. Гости разъехались. Маркиз-виртуоз сидел у себя внизу и хвастался пред Брусковым, лихорадочно его прождавшим целый час, и рассказывал о своем успехе, комплиментах императрицы, о восторгах публики…
– Отчего же князь, говорят, вернулся темнее ночи? – смущенно заметил Брусков.
– Это не мое дело!.. – решил музыкант, вне себя от всего испытанного за вечер.
Князь между тем сидел у себя, один, угрюмый и задумчивый.
Он думал.
– Позвать его! Допытать!.. – прошептал он и потряс головой. – Нет, завтра. Пусть спадет. Теперь нельзя…
XII
Поутру, проснувшись, князь молча оделся и, выйдя в кабинет, задал себе вопрос:
– Кто же из них виноват? Оба или один – и который… Вернее всего оба!
Приключенье это его сердило и волновало более обыкновенного. Случай простой и даже смешной. Надо бы смеяться – и ему первому… Но все так повернулось, что он, богатый врагами и завистниками, как никто, станет посмешищем столицы. Дураком нарядят.
И все переиначут, раздуют, разукрасят и разнесут по городу – невесть какую фантасмагорию. Никакая Шахерезада не смогла бы измыслить того, что сочинят теперь его враги и расскажут. А Зубову на руку. Да шутка ли! Старый, в шестьдесят лет, представил у себя во дворце русской царице… Кого же?.. Проходимца! Самозванца! Может быть, даже беглого!.. Царице русской!.. Он!
– Убью! Ей-богу! – вздыхает князь, в волнении двигаясь по кабинету.
Раз десять собирался он позвать лакея и потребовать к себе Брускова, который был уже им вытребован с квартиры и ждал. Но каждый раз князь отлагал вызов, решая обождать.
– Пусть спадет…
Князь знал по опыту, что гнев его опасен… для его же репутации. А когда первый порыв пройдет, «спадет» – он может владеть собой.
Он сел и стал читать толстую книгу в переплете, на которой были вытиснены крупные золотые буквы: «Фукидид»[87]. Прошло около часу. Князь кликнул лакея:
– Позови Брускова.
Через четверть часа раздались шаги в зале, отворились двери, и на пороге показался Брусков… Глаза его сверкали и тотчас впились в князя.
Но глаза князя тоже упорно и зловеще впились в лицо Брускова.
Офицер побледнел.
– Как зовут твоего музыканта? – выговорил князь глухо.
Брусков хотел отвечать, но не мог.
Наступило молчанье. Слышно было, как Брусков дышит.
– Ну, слышал? Как его зовут…
– Маркиз Морельен… де ла…
– Ах ты… мерзавец! – вдруг крикнул князь и, поднявшись, с книгой в руке, двинулся к офицеру.
– Простите… – пролепетал Брусков, дрожа и зеленея.
– Его имя! Ну…
– Шмитгоф… – шепнул офицер через силу.
– Шмитгоф! – шепнул и князь. – Славно!..
И, не сдержав порыва, он взмахнул толстой книгой. Книга плашмя ударилась об голову Брускова, выскочила из руки и запрыгала по ковру, шумя листьями.
Брусков, сшибленный с ног машистым ударом, ударился головой об дверцу шкапчика. Забренчал фарфор, и несколько севрских фигурок[88] полетело на пол, разбиваясь вдребезги.
– Простите… Не губите… Виноват… Хотел лучше… Простите! – зарыдал Брусков.
И на коленях подполз к князю, хватаясь за его ноги.
Наконец князь отошел, опустился на диван и, полулежа, крикнул глухо, сдавленным голосом:
– Рассказывай все!..
Брусков стоял по-прежнему на коленях и начал свое признанье… Он доехал до Рейна и изъездил вдоль и поперек Виртембергское, Баденское и Баварское королевства и много других герцогств и княжеств… И наконец нашел графа, а не маркиза де Морельена де ла Тур д’Овера. Граф жил на вилле около Карлсруэ… с женой и двумя детьми. На расспросы Брускова – играет ли он на скрипке и так замечательно, как говорят о нем газеты, он смеясь отозвался, что все это газетное вранье, что он играет на этом инструменте так же, как и всякий другой обыкновенный музыкант из любого городского оркестра… Брускова он просил, объяснив цель своего посещения, удалиться.
Брусков заявил ему о предложении светлейшего князя Потемкина. Оказалось, что французский граф смутно даже припомнил себе фамилию князя. А относительно предложения князя ехать в Россию показать свой талант отвечал изумлением и гневом…
– Ну, продолжай… Да встань… Ты не за обедней, – сказал Потемкин.
Брусков поднялся на ноги и продолжал свой рассказ несколько смелее…
Он долго и много уговаривал графа ехать в Россию, обещая горы золотые. Граф наконец позвал двух дюжих лакеев и коротко сказал им, мотнув головой на офицера: Flanquez-moi à la porte…[89] Его вежливо вывели из дома и проводили до подъезда.
– Что ж было делать, ваша светлость. Рассудите, будьте милостивы и справедливы. Вы приказали его доставить или на глаза вам не казаться. А прогоните вы меня – пошла прахом вся моя жизнь, потому что моей возлюбленной как ушей не видать… Что мне было делать?..
– Ты и разыскал мне немца?
– Нет. Разыскивать, чтобы обмануть, я не стал. Я как отчаянный поехал назад в Россию и порешил броситься вам в ноги и все пояснить по сущей правде.
– И лучше бы всего сделал.
– Да, но раздумье меня одолело! Ведь сватовство вами было обещано за привоз маркиза. Вы изволили обещать быть у меня посаженым за привоз музыканта. А тут я с пустыми руками. Вы бы меня простили и оставили, может, при себе, но сватать бы не стали меня… Не за что было бы…
– Верно.
– Вот и уехал я, и пустился в обратный путь в самом горестном состоянье. Миновал я кое-как Польское королевство, где претерпел всякие утеснения в качестве вашего гонца. Два раза меня заарестовывали и обыскивали в надежде найти на мне какие-либо любопытные депеши вашей светлости… Доехал я затем спокойно до города Вильны… Тут меня лукавый и попутал… Вот я и виноват теперь еще пуще и горше.
– Так маркиз-то твой – поляк? – спросил князь.
– Наполовину. Даже меньше того. Да он все… Он и поляк, и немец, и венгерец…
– Ну… Угостил ты меня! Отблагодарил! Угостил. Спасибо… Продолжай…
И голос князя зазвучал снова грозно.
Офицер продолжал.
Бродя по улицам Вильны, он случайно набрел на домик, из которого раздавались восхитительные звуки. Кто-то играл на скрипке.
Долго простоял Брусков около этого домика, точно пригвожденный к земле. Это дьявольское наваждение было. Враг человеческий захотел его погубить и толкал в дом музыканта, науськивал офицера звать и везти его в Россию вместо француза. Так он и сделал. Познакомившись с музыкантом, который оказался бедняком, по фамилии Шмитгоф, Брусков, без труда, в один день, уговорил его ехать и назваться маркизом Морельеном.
– Я полагал, ваша светлость, – закончил Брусков, – что вы, повидав музыканта, заставите его, любопытства ради, сыграть и, наградив, отпустите восвояси… И полагал я – всем оттого только хорошее будет. Вам послушать хорошего музыканта, мне быть женату, а бедняку Шмитгофу разжиться. Не думал я, что так выйдет, что и до матушки царицы дойдет и коснется мой предерзостный обман…
Брусков замолчал.
Молчанье длилось долго.
– Простите… – лепетал Брусков. – Жизнью своей готов искупить прощение…
– Жизнью? Все вы одно заладили… Что мне из твоей жизни? Что я из твоей жизни сделаю? – Князь перешел к письменному столу и собрался писать.
Он взял лист бумаги, написал несколько слов и, подписавшись с росчерком, бросил бумагу через стол на пол…
– Бери! Собирайся в дорогу.
Брусков поднял лист, глянул, и сердце екнуло в нем.
– Прочти!
Офицер прочел бумагу…
Это было предписание коменданту Шлиссельбургской крепости арестовать подателя сего и немедленно заключить в свободную камеру, отдельно от прочих, впредь до нового распоряжения.
Брусков затрясся всем телом и начал всхлипывать.
– Помилосердуйте!.. – прохрипел он, захлебываясь от рыданий. – Помилосерд…
– Слушай!.. Ты с жидом вырядил меня в дураки. Если удастся мне ныне снять с себя сие одеяние, мало мне приличествующее, то я тебя выпущу, но на глаза к себе не пущу. Если не потрафится мне, не выгорит, то сиди в Шлюссе, кайся и чулки, что ль, вяжи. Но это еще не все. Ты должен отправляться тотчас, не видавшись ни с кем и никому не объясняя, за что ты наказуем. Если твой христопродавец узнает, что я его раскусил, – то тебе худо будет. Никому ни единого слова… Понял?
Брусков прохрипел что-то чуть слышно.
– Ну, ступай и моли Бога в своей келье ежедневно и еженощно за свой обман.
XIII
А в то же утро музыкант-виртуоз и не чуял, какая беда стряхивалась на его приятеля и какая гроза надвигалась и на него, самозванца, по ребяческой беззаботности и смелости. Музыкант не чувствовал себя виноватым ни пред кем, и совесть его была не только совершенно спокойна, но он даже восхищался своей предприимчивостью.
Молодой и красивый, талантливый и даровитый, но полуграмотный и невоспитанный артист-музыкант был, собственно, дитя малое, доброе и неразумное, но с искрой Божьей в душе.
Когда он держал скрипку и смычок в руках и, опустив глаза в землю, как бы умирал для всего окружающего мира и возрождался вновь в мире звуков, в мире иных, высших помыслов и чувств, а не обыденных людских похотей и вожделений – он перерождался… Он чуял, что в нем есть что-то, чего нет у них у всех… Когда же его скрипка и смычок лежали в своем футляре под ключом – и дивные звуки не хотели ни улечься в футляре около скрипки, ни умоститься на сердце или в голове виртуоза и прельщать оттуда людей. Они таинственной невидимкой скрывались и витали в мире Божием, в ожидании, что их вновь вызовут и исторгнут из струн, натянутых на какой-то деревянной коробке! – за это время творец дивных ощущений был простой бедняк, который плотно ел, напивался, как губка, и спал сном праведников.
Самородок и самоучка – Юзеф Шмитгоф сказывался то немцем, то поляком, но в действительности был еврей. Отец его, портной и часовщик вместе, неизвестно когда перебрался в Вильно из своего родного города Франкфурта-на-Майне и тотчас перешел в католицизм и стал верноподданным королей польских вместе с женой и двумя детьми.
Авраам Шмитгоф был если не виртуоз на каком-либо инструменте, то был истинный виртуоз в создании своего благополучия, общественного положения, состояния…
Недолго он кроил и чинил кафтаны и камзолы или разбирал и чинил часы и орложи[90] пановей и паней виленских… Через десять лет он был любимцем могущественного магната князя Радзивилла[91] и, справив ему много тайных и важных поручений, получил в награду патент на капитана и стал, стало быть, шляхтич или дворянин. Именитый и щедрый крез своего времени «пане коханку» произвел в дворяне, пользуясь своим правом князя Священной Римской империи, такое многое множество, что капитан Шмитгоф был явление заурядное. Главный надзиратель над охотой и псарней князя был из прирожденных крымских татар, привезенный Радзивиллу еще татарчонком, стал затем шляхтичем и, наконец, за три тысячи гульденов – и бароном, по патенту владетельного князя Гольштейн-Штирумского.
При смуте и безурядице во всем королевстве, благодаря тому, что магнаты не хотели признать королем посаженного им насильно на престол дворянина Станислава Понятовского[92], – всякий пронырливый и ловкий авантюрист и проходимец мог быстро выйти в люди, разбогатеть и иметь даже известное значение.
Авраам Шмитгоф, капитан и шляхтич, по природе юркий, умный, хитрый и дерзкий, горячо служил делу Радзивилла и его единомышленников… Но в политике он понимал мало и не понял того, что совершалось в королевстве, и того, что должно внезапно совершиться.
Наступил первый раздел[93].
Вильна стала не Польшей, а Россией, и Шмитгоф очутился вдруг русским подданным…
Еще горячее стал он слушаться и служить верой и правдой Радзивиллу и его соучастникам в огромном предприятии освобождения Литвы от москалей.
Но через два года Радзивилл почти бежал за границу в Италию, доходы с его громадных поместий были секвестрованы русским правительством, да и самые поместья рисковали перейти к Понятовскому в награду.
Шмитгоф остался в Литве и служил делу Радзивилла честно, неутомимо и горячо, как бы не еврей из Франкфурта, а природный шляхтич, поляк.
И в один ненастный осенний вечер Шмитгоф был схвачен, закован в кандалы русскими солдатами и отправлен в путь… Путь продолжался 14 месяцев. Он очутился среди камчадалов!.. Еще бы два месяца пропутешествовать ему – и он очутился бы в самой свободной стране мира – в новых Соединенных Штатах Америки! Но солдаты, везшие его в ссылку, дальше крайнего берега Камчатки не поехали, вероятно предполагая, что тут и конец миру, а вернее потому, что начальство не приказало.
Что сталось с Авраамом – жена его и сын Юзеф не знали. Отец однажды вечером приказал им приготовить себе теплого питья из яблоков от простуды и вышел из дому, чтобы вернуться через полчаса… Тут-то он и поехал в кандалах к камчадалам… С этого дня о нем не было прямых известий. Его считали и утонувшим, и бежавшим, и убитым, до тех пор, пока такие же солдаты не выгнали женщину с сыном из ее дома, отобрав все в казну русского начальства. Тут узнали они, что муж и отец – шпион и изменник отечеству.
И двенадцатилетний Юзеф с больной, пораженной горем матерью очутился на улице, без куска хлеба.
Надо было подумать, как заработать себе пропитание. Мать поступила в богатый дом ключницей-экономкой, а сына отдала на хлеба к музыканту, так как он любил до страсти музыку. Юзеф стал наполовину учеником, наполовину прислугой. Он убирал горницу музыканта за его отсутствие, носил ему его контрабас, когда тот отправлялся играть на гуляньях или на вечерах – но вместе с тем он учился и сам играть. Бросив вскоре контрабас и взявшись за скрипку, молодой Шмитгоф за один год пылкой, неустанной работы сделался замечательным скрипачом и четырнадцати лет был уже приглашен на жалованье в городской оркестр. Жалованье было ничтожное, но мать могла теперь покинуть свое место в чужом доме, где с ней обращались дурно, и поселиться вместе с сыном.
Недолго прожила больная женщина. Скоро Шмитгоф остался один-одинехонек на свете. Заработок был скудный, а он любил иногда кутнуть со сверстниками, любил вино, любил немного и картежную игру… был поклонник прекрасного пола, у которого имел успех.
Его месячного жалованья хватало ему иногда как раз на одну неделю, остальные три он голодал, сидел в сырой и холодной квартире – зимой, а летом жил из милости в беседке парка одного магната. Виленские обыватели любили звать его и слушать на вечеринках, но денег почти не платили, а угощали ужином и вином.
Результатом беспорядочной порывистой жизни артиста явились неоплатные долги. В квартире его не было ничего, кроме одной пары платья, кое-какой мебели и двух смен белья.
Шмитгоф чувствовал, что если б он мог выбраться из Вильны куда-либо за границу – в Варшаву, в Дрезден или Кёнигсберг – то, наверное, обстоятельства его поправились бы сразу. Не одни деньги, но и слава явилась бы к нему. Но выехать было не с чем. Он мечтал и собирался… Так шли из месяца в месяц – года; а из них незаметно накопился и десяток лет… Юноша давно уже стал мужчиной… А счастье все не улыбалось…
В этом положении застала его фортуна, когда постучалась к нему в квартиру в лице русского офицера Брускова.
Шмитгоф едва с ума не сошел от радости при неожиданном объяснении и предложении Брускова: съездить на неделю в Петербург и заработать деньги, необходимые для того, чтобы предпринять потом музыкальное путешествие по Польше и Германии.
Но надо назваться маркизом французским.
Что за важность. Москали ведь варвары! Тысячу раз слышал он от отца и матери, что русская империя та же татария, где самый первый и богатый вельможа ниже польского хлопа и крестьянина.
Если б Шмитгоф знал только одну свою скрипку – он не поехал бы. Но он еще при жизни отца, когда был у них не только достаток, но и излишек, – много вертелся в лучшем виленском и окрестном помещичьем обществе и прилежно учился грамоте и наукам у иезуита местного монастыря. Способности у него были блестящие. Юзеф обучился от патера немного по-латыни и довольно много по-французски. Немецкий язык он знал с детства, ибо это был язык отца с матерью. А польский язык дался сам собой. К тому же благодаря близости русской границы, а затем присоединению Вильны – русский язык начал проникать к ним. Всякий поляк имел про запас с сотню слов русских.
– Отчего не ехать попытать счастья! – решил Шмитгоф. А присвоить себе имя маркиза Морельена, выдать себя за француза и не ударить лицом в грязь среди петербургского общества при знании языков и при известной смелости в обращении – его не пугало.
– Ведь они, «москали», – полудикие, – повторял он себе. – Тот же князь Таврический, к которому он поедет, знает чуть-чуть по-французски и с трудом говорит по-немецки.
И маркиз Шмитгоф-Морельен приехал.
XIV
Зубов не упустил случая посмеяться над врагом. На другой же день во дворце на приеме государыни он всем не бывшим на концерте рассказал, как князь Таврический угостил царицу. «Скрипач удивительный – слова нет, но это жид простой, а не французский маркиз», – объяснял Зубов всякому.
Государыня сама слышала его немецкую речь, вспомнила, как настоящие жиды в Германии говорят по-немецки…
Узнав, что Зубов прямо рассказывает про смехотворный случай с князем, все гости его, бывшие на концерте, принялись тоже рассказывать, и только родня молчала, не желая срамить князя и не имея возможности опровергать диковинный с ним казус.
Через два-три дня вся столица знала про жида-маркиза Морельена и хохотала до упаду, не столько по своей смешливости или особой забавности случая, сколько из зависти к могущественному и надменному врагу.
Зубов и его ухаживатели торжествовали. В первый раз герой Тавриды давал случай посмеяться над собой. Многих он своей хитростью делал шутами, а теперь сам попал в довольно забавный просак.
Не будь он Потемкин – ничего бы не было особенного, что ошибкой вместо аристократа-маркиза – жида представил… Но ему и меньше этого не простили бы униженные им.
Князь между тем съездил к императрице, рассказал все подробно, что знал от Брускова, и просил прощенья, что необдуманно поступил. Он получил милостивый ответ.
Князь смеялся, шутил и острил на свой счет, но был задет за живое.
Он вернулся к себе и не велел никого принимать…
Он сердился и бесился как школьник, который, напроказив, сознается внутренно в своей вине, но не может примириться с заслуженным наказанием.
Когда доложили князю о его любимой племяннице Браницкой – он принял ее и излил перед ней свою горечь. Графиня напрасно успокаивала дядю, убеждая, что не стоит печалиться от такого пустяка.
– Обида… Обида… – твердил князь. – Что ж, кто будет учить меня приличиям и порядкам?.. Я теперь до тех пор не буду покою иметь, пока не отомщу, их всех в дураки не выряжу.
– Как же тут отомстить? И какая польза? У вас, слава богу, довольно врагов! – возражала графиня. – Да и нельзя отомстить.
– Почему это…
– Я понимаю месть в этом случае лишь такого рода, чтобы вы, как сказывается, отплатили тою же монетой… А что ж будет хорошего, если вы просто начнете мстить… Все-таки случай смешной останется.
– Их самих на смех поднять! – раздражительно сказал князь.
– Ну да… Но это невозможно, говорю я.
– Трудно… Но невозможного ничего нет… Одурачить всякого можно.
– Полноте, дядюшка, – ласково заговорила Браницкая. – У вас и без этого есть о чем думать…
– Все своим чередом… Одно другому не помешает.
– А дело великое будет стоять из-за пустяков! – укоризненно выговорила Браницкая.
– Говорю тебе, что не будет отсрочки никому в моей отместке.
– Давай Бог!.. А все же таки вы, дядюшка… Простите… Вы что малый ребенок бываете.
– Не груби, Сашенька, – шутя произнес князь и нежно поцеловал в лоб любимицу.
– Да ничего нет… – шепнула Браницкая.
– Не переупрямишь… Есть. Есть…
Графиня уехала от дяди с надеждой, что он «остынет», как многие выражались про князя, впечатлительного и непостоянного.
Между тем виновник этой досады и волнений был счастливее и веселее, чем когда-либо. Наконец-то фортуна посетила его и сразу возвысила и дала все… Шмитгоф процветал!..
Давно ли он сиживал одинок и впроголодь в маленькой холодной квартире в Вильно или играл на вечеринках разных панов, которые платили ему подачками пирогов и жаркого от своего ужина. А теперь… Он помещается в двух горницах дворца; у него свои лакеи и скороход… Наконец, у него деньги, которых некуда девать. После первого же раза, что он играл у князя в кабинете, домоправитель Спиридонов, или простой дворецкий, но важный человек в позументах, принес ему от князя сто червонцев…
Шмитгоф уже тотчас по приезде разузнал, есть ли в столице московского царства трактиры и герберги[94], и, к своему удовольствию, убедился, что есть такие, каких нет и в Вильно. Вскоре все вечера свои виленский маркиз проводил в герберге «Цур-Штат-Данциг» на Невском, где не замедлил и свести знакомство с разными офицерами. Здесь же бывал с ним до ареста и кутил на его счет его благодетель, Брусков.
Теперь, после игры в присутствии императрицы, Шмитгоф, однако, недоумевал. Уже несколько дней, как друг его исчез бесследно из столицы. И никто не знал, где Брусков. Даже адъютанты князя, даже главный швейцар дворца, хитрый невшателец[95] и всезнайка, не знали, куда девался офицер.
XV
Прошло две недели после злополучного концерта. Князь никуда не выезжал, но принимал всякий народ и, глядя в лицо появлявшегося в его кабинете, иногда думал:
«И этот знает небось. И тоже радуется да меня в шутах поздравляет про себя».
Иногда мысль эта приходила ему в пылу серьезного и важного разговора. Однажды, споря с австрийским резидентом о смысле обещаний, данных еще недавно России покойным теперь императором Иосифом II[96], князь вдруг запнулся. Он вспомнил, что его маркиз – тоже Иосифом называется… И он, перебив цитату резидента из конвенции Австрии с Россией, спросил:
– А вы слышали, какой у меня в доме эмигрант-маркиз оказался?..
Резидент слышал, конечно, но давно забыл и теперь сразу не понял… А когда понял, то подумал невольно:
«Пустой человек – считается гениальным. Говорит о деле политического интереса, и вдруг на глупости мысли перескачут…»
Резидент ошибался, глупости укладывались в этой русской голове рядом с великими помыслами, ширь которых изумляла царицу.
Наконец, однажды, в приемный день, один посетитель рассеял вполне его хандру и вывел почти совсем из угнетенного состояния духа. Это был грек Ламбро-Качиони, снова явившийся к князю с хорошими вестями.
Четыре из его крейсеров с волонтерами из критян и фессалийцев совершили ряд подвигов в Архипелаге.
Потемкин оживился, достал огромную карту и стал искать места, которые называл Ламбро-Качиони…
Разговор быстро перешел в жгучий для князя вопрос.
– Что нового? – спросил грек.
И князь понял, что дело идет о согласии царицы на продолжение войны с Турцией.
– Ничего… Я бьюсь… Надеюсь. Врагов у нас много. Куда ни обернись – всюду друзья султана Селима! – усмехнулся князь. – Из трущоб даже приходят жалобы россиян, жаждущих замирения; дворянские собрания присылают депутатов просить правительство заключить с Портой мир. Что им – будет ли сокрушен полумесяц православным крестом или нет? Им за свои имения в новом ломбарде побольше получить… да поменьше платить… А какой-то идол пустил слух, что правительство – от расстроенных войной финансов – велит повысить процент ломбарда.
– Я слышал вчера, ваша светлость, – заявил Ламбро, – что от Платона Александровича отправлен к Репнину на сих днях особый гонец с письмом… Его приближенный человек из родственников…
– Ну, что ж?
– Прежде он не посылал таковых. И письмо, сказали мне, пространное. И его все Зубов написал собственноручно, просидев за грамотой четыре вечера.
– Откуда ты это знаешь?
– От его камердинера. Мне эта весть двадцать червонцев обошлась.
Потемкин посмотрел на лицо грека, помолчал и наконец вздохнул и подумал:
«Да… Не то стало…»
Отпустив грека, князь снова долго сидел задумчивый, почти грустный.
Наконец адъютант доложил князю, что просителей очень много.
– Шведский гонец просил доложить! – сказал офицер. – Говорит, что ему очень ждать нельзя. Некогда!
– А-а? – протянул князь иронически. – Хорошо… Так и знать будем.
Офицер прибавил, что в числе прочих просителей находится дворянин Саблуков.
Потемкин вспомнил, что выхлопотал в Сенате для дворянина справедливое решение его дела.
«А ведь это будущий тесть моего поганца Брускова, – подумал он. – Вот уж добром за зло плачу… Что ж? по-христиански…»
И он прибавил адъютанту:
– Благодарить явился? Скажи, что не стоит благодарности. Пущай с Богом едет к себе в вотчину и спокойно землю пашет да хлеб сеет. А швед пусть позлится еще…
Адъютант вышел и тотчас снова вернулся, докладывая, что г. Саблуков слезно молит князя допустить его к себе… ради важнейшего челобития…
– Опять челобитие? Что ж, у него другая тяжба, что ли? Зови!
Дворянин Саблуков вошел в кабинет и стал у дверей.
– Ну, поздравляю… Победили ябедников… Что же тебе еще от меня?
– Ваша светлость – Бог наградит вас за ваше добросердие… Да. Я получил извещение… Достояние мое спасено… Правда торжествует, закон… Но счастья и спокойствия нет в моей семье. Дочь моя старшая в безнадежном состоянии. Помогите… Троньтесь мольбою старика отца…
Саблуков опустился на колени…
– Я-то что же могу…
– За спасение достоянья своего не молил вас коленопреклонением… А теперь вот…
– Дочь больна у вас, говорите вы?
– Да-с… И не выживет! сказывают здешние медики… Помогите…
– Да я… Я в медицине – что же? – заметил Потемкин, смеясь.
– Тут не лекарствия нужны… Тут душевная болезнь. И вы одни можете ее поднять на ноги, возвратить ей сразу жизнь…
– Объяснитесь…
Саблуков объяснил коротко, что дочь его уложила в постель весть об участи, постигшей ее возлюбленного…
– Брускова… Заточение в крепость…
– Да. Помилосердуйте. Спасите… Умрет моя Олюшка – я не переживу.
Наступило молчанье. Саблуков плакал.
– Меня Брусков дерзостно обманул…
– Нет. Вы желали диковинного музыканта услышать, он вам такового и доставил.
– Да зачем с чужим именем! Зачем за дворянина выдал…
– Это в счастье так рассуждают! – воскликнул Саблуков. – Я горд был тоже всю жизнь моим дворянским состоянием, а теперь вот вам Господь, – сейчас в жиды пойду, в крепостные запишусь – только бы мне дитя спасти единокровное… У вас не было детей, ваша светлость!
Князь встрепенулся, будто по больному месту его ударили. Лицо его слегка изменилось. Снова стало тихо в кабинете.
– Да… – проговорил князь. – Думаю, что… Думаю… что я…
Князь замолчал и спустя мгновенье прибавил, вставая и направляясь к столу:
– Ну, поедем лечить твою Олюшку. Своих детей нет – видно, надо чужих баловать…
Саблуков вскочил на ноги и бросился к князю, но не мог сначала ничего выговорить…
– Вы?! Ко мне?! Сейчас?!
– Вестимо к твоей больной. Повезу лекарство. Дай прописать.
Князь сел за письменный стол и написал несколько строк: приказ шлиссельбургскому коменданту освободить содержащегося у него Брускова.
– Ну, ступай. Жди меня в зале. А поеду я сам к тебе потому, что хочу видеть, как подействует мое лекарство. Если плохо, то, стало быть, оно не по хворости и не годится. Тогда выдумывай другое, от другого дохтура.
Саблуков, восторженно-счастливый, вышел в залу.
Князь перешел от стола к софе, лег врастяжку, и, когда, по выходе Саблукова, появился в дверях адъютант, князь вымолвил:
– Шведа давай…
Адъютант вышел, и через минуту в кабинете появился офицер в иноземном мундире. Быстрыми, развязными шагами вошел он и остановился, озираясь на все стороны. Софа была в глубине комнаты и не сразу попала ему на глаза. При виде лежащего князя офицер гордо выпрямился.
Это был военный агент и гонец, только что присланный в Петербург королем шведским с весьма, как ходила молва, важным поручением к русскому двору. Князь уже слышал о приезде шведского гонца и знал, что он принадлежит к знатному роду, а дядя его по матери стоит даже во главе партии «шляп»[97], сломившей автократизм и самовластье шведских королей. Переговоры с этим гонцом Швеции могли быть важнее по своим результатам, нежели сношенья с самим королем Густавом III[98], так как за коноводом, т. е. дядей гонца, стояла национальная партия, сильная, сплоченная и только что вышедшая победоносно из борьбы с монархом. Порученье, ему данное, князь подозревал… Дело шло о правах торговых для шведов и норвежцев в Белом море и Архангельске.
– Salut, general! – выговорил князь, не двигаясь с софы.
– Барон Ейгерштром, – рекомендовался военный холодно.
– Садитесь… Что вам угодно… – продолжал князь по-французски.
Офицер сел на кресло пред богатырем, лежащим врастяжку на диване, и в нем так забушевало негодование, что он несколько мгновений молчал.
«Что, ошибло! – думал князь, мысленно смеясь… – Благодетельствовать Россию приехал».
Королевско-шведский гонец начал несколько сухо свою речь о деле, с которым приехал… Князь дал ему только начать, и, как посланец упомянул об интересах Архангельска и Беломорья, в частности, и Российской империи вообще, – князь прервал его:
– Вы об наших выгодах мне ничего не говорите – это наше дело. А вы об своих выгодах говорите.
Швед начал еще более сухо и холодно говорить о взаимных выгодах и пользе – двух наций. Он уже увлекся было в разъяснении благотворных последствий от нового соглашения между двумя соседними державами, когда князь вдруг выговорил:
– Теперь у государыни столько важных вопросов, подлежащих решению, что нам этим некогда заниматься… Скажите – как здоровье принца Зюдерманландского?
Швед изумленным взором глянул на князя, а князь вдруг начал добродушно смеяться:
– Знаете… После подвигов Чичагова[99] в Ревельском сражении[100] наши матросы и солдаты захотели узнать имя командира неприятельского флота. Узнав, они его прозвали по-своему. Принц Сидор Ермолаич!.. Мне ужасно жаль, что я не могу вас, не знающего русского языка, заставить оценить это прозвище… Принц Зюдерманландский – принц Сидор Ермолаич.
Барон Ейгерштром поднялся с кресла, выпрямился, поклонился одним движеньем головы и вымолвил:
– Очень рад, что имел случай лично видеть знаменитого князя Потемкина. Многое я слышал не раз о нем от соотечественников и от иностранцев, бывших в России, но собственного мнения иметь не мог. Теперь я рад, что могу иметь и высказывать другим суждение, вынесенное из настоящего свидания. Извините, что обеспокоил вас. Благодарю за вежливый и радушный прием. Обращение ваше меня очаровало, и я уношу впечатление, которое не изгладится из моей памяти. Я видел истинного русского вельможу!.. Завтра я сажусь обратно на корабль и отвезу ваш ответ моему государю.
– Да… И поблагодарите его величество за его неусыпные попечения о русских интересах…
Швед повернулся и, выйдя из кабинета, быстро прошел всю залу… Его лицо, бледное, с пятнами, сверкающий гневом взгляд немало удивили толпу, ожидавшую приема. Князь сел между тем за свой стол, веселый и улыбающийся, и продолжал прием.
Он принял еще около десятка человек и, отказав остальным, пошел одеваться. Через четверть часа, в своей всегда пышной одежде, залитой золотом, алмазами и орденами, он вышел к Саблукову.
– Ну вот! Давай баловаться. Как у господина Мольера в лицедействе: «Le medecin malgre lui»[101].
И, посадив смущенного от счастия и радости старика в свою коляску, князь двинулся в город, где не был уже несколько дней.
Воздух, тепло и яркое солнце подействовали на добровольного затворника. Он оживился и начал шутить с Саблуковым, а потом и с Антоном-кучером.
XVI
Через полчаса быстрой езды коляска и конвой князя въехали во двор небольшого барского дома, желтенького и полинялого, стоявшего в глубине зеленеющего двора. Переполох в доме сказался сразу. Первая же душа человечья, застигнутая на крыльце – баба, парившая горшки, – бросила обтираемый горшок обземь при «наваждении» на дворе и, заорав благим матом: «Наше место свято…» – шаркнула в сени как ошпаренная.
Но там дети и домочадцы уже все сами видели и тоже голосили и швырялись.
Госпожа Саблукова как стояла середи горницы, так и присела на пол без ног.
– Полноте, дурни! Полноте, барыня! Чего оробели. Бог с вами, – выговорила маленькая и красивая девушка, но странно одетая, будто не в свое, а в чужое платье, которое болталось на ней как мешок. – Барин наш с вельможей приехал… Это на счастье, а не на горе. Господи помилуй! Да это он! Сам! Светлейший! Барыня, радуйтесь! Креститесь! Молитесь!
И живое, бойкое существо, будто наряженное, а не одетое, ухватило длинный подол платья и, перебросив его себе через плечо, начало прыгать и припевать:
– На счастье! На счастье! На Олюшкино счастье.
На ногах этого танцующего существа были татарские шальвары и туфли.
В дом вбежал первым сам хозяин и крикнул:
– Жена, Марья Егоровна… Его светлость…
Саблукова дрожала всем телом… но, приглядясь к лицу мужа, которого двадцать лет знала и любила, – она быстро от перепуга и отчаяния перешла в восторженное состояние…
– Зачем… Милость… Олюшке? – прошептала она со слезами на глазах.
Саблуков махнул рукой:
– Ну, живо… Приберитесь… Вы! Вон отсюда! Господь услышал мою молитву… Увидишь, жена. Живо! Вон! Все!! Саркиз! Ты чего глазеешь… Вон! – крикнул Саблуков на бойкое существо.
Все бросились из приемных комнат в другой угол дома… Хозяйка, забыв свои сорок пять лет, пустилась рысью в спальню переодеваться в новое шелковое платье. Саблуков, оглядев горницу, чтобы убедиться, все ли в порядке, побежал принимать князя, стоявшего между тем перед своим цугом и беседовавшего с форейтором.
– Пора тебе, лешему, в кучера… – шутил князь ласково. – Ишь, рыло обрастать начало… Давно женат уж небось, собачий сын?
– Как же-с.
– И то… Помню… На Пелагейке, что из Смоленской?
– Никак нет-с, – вмешался Антон. – Она из нашей же, из степной вотчины.
– Вашей родительнице причитается крестницей, – прибавил форейтор.
– Так! Помню. Пелагейка косоглазая, – заговорил князь. – Дети есть…
– Двое было. Да вот учерась третьего Бог послал.
– Ну, меня зови в крестные…
Форейтор встряхнулся в седле от радости и, быстро взяв повода в одну руку, хотел снять шапку. Сытый и бойкий конь рванулся от взмаха руки седока… И весь цуг заколыхался…
– Нишкни! Смирно! – крикнул князь строго. – Смотри, чего натворил. Форейтор в седле что солдат на часах – не токмо шапку ломать, а почесаться не смей… Так ли я сказываю, Антон?
– Истинно, Григорий Лександрыч! – отозвался Антон. – Пуще солдата… Солдат на часах, бывает, пустое место караулит, а тут у фолетора спокой и самая жисть светлейшего князя Потемкина. Да это он с радости сплоховал, а то он у нас первый фолетор в Питере. С ним кучер хоть спать ложись на козлах.
Между тем Саблуков успел уже вернуться из дому и стоял за князем в ожидании. Потемкин приказал своей свите оставаться на дворе и вошел в подъезд.
Хозяйка встретила князя разодетая в гродетуровое платье, которое она надевала только к заутрени в Светлое Христово воскресенье да на рождение мужа. За Саблуковой стояла вновь собравшаяся толпа человек в двадцать пять, чад и домочадцев, и все робко и трепетно взирали на вельможу, готовые от единого слова его и обрадоваться до умарешения, и испугаться насмерть.
Князь ласково поздоровался с хозяйкой, оглянул всех и спросил: что дочка?
– Плохо, родной мой, сказывал сейчас знахарь, что она… кормилец ты мой… – начала было Саблукова, но муж вытаращил на нее глаза, задергал головой и показывал всем своим существом ужас и негодование. Жена поняла, что дело что-то неладно, и смолкла, конфузясь.
– Могу я ее видеть, сударыня?
– Как изволишь, кормилец…
Саблуков, стоя за князем, опять задергал головой и замахал руками.
– Простите, ваша светлость! – вмешался он. – Жена к светскости не приобыкла… Сказывает не в урон вашей чести, а по деревенской привычке…
– И, полно, голубчик! Родной да кормилец – не бранные слова. Идем-ка к дочке.
Пройдя гостиную и коридор в сопровождении хозяев и всей гурьбы домочадцев, князь очутился наконец в маленькой горнице, где у стены на постели лежала молоденькая девушка… Ее предупредили уже, и она, видимо слабая, но потрясенная появлением нежданного гостя, смотрела лихорадочно горящими глазами.
– Ну, касатушка, – подступил князь к кровати. – Ты чем хвораешь… Отвечай по совести и по всей сущей правде. Зазнобилась аль обкушалась?
Девушка молчала и робко озиралась на мать и отца, стоявших позади князя, и на всю толпу, которая влезла в горницу и глазела, притаив дыхание.
Князь сел на кресло около кровати.
– Отвечай мне. Я доктор. И могу тебя в час времени на ноги поставить… Возлюбленного у тебя в крепость посадили. Так?
Бледное лицо Оли вспыхнуло румянцем, глаза блеснули, и она еще испуганнее озиралась.
– Хочешь ты – он будет через двое суток здесь?.. Выпущен… И тогда, если родители согласны, можешь под венец одеваться…
Девушка затрепетала всем телом и так поглядела князю в лицо, что сомнения не было. Она может выздороветь в несколько мгновений.
– Ну вот, бери, красавица… – подал князь больной бумагу, достав из-за обшлага мундира. – Это приказ выпустить из Шлюшина твоего жениха… Смотри же, к его приезду будь на ногах. А будешь лежать да недужиться – я его опять заарестую.
– Нет… нет! – выговорила Оля и быстро села на постели. Глаза ее сияли. – Я сейчас! Сейчас!.. Я здорова!
Князь рассмеялся.
Саблуковы со слезами счастья на глазах бросились целовать его руки. Потемкин отбился от них и, оглянувшись на толпу, глазевшую с порога и из-за растворенных настежь дверей, переглядел все лица. Тут были и крошечные дети, и уже большие девочки и мальчики, и взрослые, и старые няньки. Все они как-то дико уставились на князя и его великолепную одежду.
Князь высунул им язык. Толпа рассмеялась и стала глядеть смелее.
– Брысь!.. – вскрикнул он.
Все расхохотались, попятились, но остались в дверях и за дверями. Князь увидел на маленьком столике около постели большую кружку с водой. В один миг он приподнялся, взял ее и выплеснул веером в толпу домочадцев… Визг, хохот поднялся страшный, но князь встал и запер дверь.
Саблукова, смущаясь, предложила князю «отведать хлеба-соли» и пройти в гостиную, где уже хлопотали давно две женщины. Князь был сыт, но отказаться значило бы обидеть.
– Давайте, хозяюшка… Только уж лучше сюда. Я и есть буду, и на вашу Олюшку поглядывать. Оно и вкусней будет.
Люди внесли в двери уже накрытый стол, заставленный всем тем, что только у хозяев могло найтись в погребе и кладовых – от холодного поросенка в хрене и оладий на патоке до разнокалиберной смоквы и обсахаренной в пучках рябины.
– Не побрезгуйте, ваша светлость… – прошептала Саблукова. – Чем Бог послал…
Князь чувствовал себя настолько сытым, что не знал, как ему отбыть эту повинность гостя у российских хозяев. На его счастье, в числе прочих закусок оказалось его любимое кушанье – соленые рыжики с приправой из выжимок черной смородины.
– А!.. Вот этого я отведаю с отменным удовольствием, – сказал князь, и, проглотив несколько грибов, он вымолвил, оживляясь:
– Диво. Ей-богу, диво! Вот хоть зарежь ты ученого повара, он такое блюдо не выдумает… Что ж вы? Садитесь.
Хозяева, почтительно радуясь, стояли около стола.
– Садитесь. Кушайте… – настаивал князь. – А то встану и уеду… Вот вам Христос – уеду!
Саблуковы, после долгого отнекивания, сели к столу, но есть, конечно, ничего не стали. Князь быстро и охотно очищал тарелочку с рыжиками и стал расспрашивать Саблуковых, каким образом могла начаться та ябеда и тяжба, которая привела всю семью в столицу и чуть было не лишила всего имущества.
В то же время на другом конце дома раздавались все сильнее веселые голоса, крики и залпы детского смеха… Саблуков тревожился, морщился, внутренно бесился на эту вольность своих домочадцев, но оставить князя и унять озорников он не мог. Наконец он дал понять мимикой жене – глазами, бровями, чтобы она сходила прекратить «срамоту».
Саблукова встала.
– Куда?.. Не пущу… – догадался князь. – Сидите, хозяюшка… Я смерть люблю это!.. Пускай голосят.
– Простите, ваша светлость.
– Нету мне пущего удовольствия, как слушать детскую возню и хохотню. Это ваши дети?
– И мои тут… И родственника женина… Сиротки…
– Много ль всех у вас детей?
– Одиннадцать со старшей, замужней, – самодовольно ответила Саблукова, – да внучат еще трое…
– И всегда так заливаются… То-то весело этак жить, – вздохнул вслух князь и слегка насупился, будто от тайного помысла, который скользнул нечаянно по душе.
Наступило мгновенное молчание.
– Саркиз все… – выговорил вдруг Саблуков.
Князь встрепенулся и, придя в себя, почти сумрачно глядел на хозяина.
– Маркиз… Что? Маркиз?..
– Саркиз, ваша светлость… Простите. Я пойду сейчас уйму…
Хозяин встал, смущаясь от взгляда гостя, но князь тоже встал и уже улыбался.
– Маркиз… Саркиз… Похоже… Это что ж такое: Саркиз?
– Имя. Прозвище, ваша светлость. Это у меня калмычонок так прозывается. Отчаянная голова. Это все он мастерит в доме с детьми. Первый затейник на всякую штуку. Такая голова, что даже, верите, подчас удивительно мне. Все у него таланы. И пляшет, и поет, и рисует, и на гитаре бренчит. А ведь вот татарва, и еще некрещеный…
– Отчего? – рассеянно спросил князь.
– Не хочет… – пожал плечами Саблуков.
– Как не хочет? – оживился князь. – Калмык и не хочет креститься в нашу христианскую веру? Это что ж…
– Что делать… Я уже ломал, ломал и бросил…
– Негодно… Вы ответите пред Богом, что его душу не спасли. Будь он теперь у себя – иное дело. А коли уж у вас – то след крестить.
– Не могу уломать!
– Пустое. Где он?.. Пойдем… Я с ним потолкую и усовещу.
И князь двинулся вперед на голоса, которые еще пуще заливались за дверями, где была зала.
XVII
Среди простора горницы возилась гурьба детей мал мала меньше, от шести и до пятнадцатилетнего возраста, а с ними вместе несколько девчонок-горничных, два казачка, кормилица с грудным ребенком и старая седая няня.
Центром всей возни была та же красивая фигурка, по-видимому, наряженная ради потехи в голубое шелковое платье барыни. Она маршировала теперь по зале, размахивая длинным шлейфом, с огромным чепцом на голове, с веером в руках и, очевидно, что-то представляла на потеху детей.
Появление князя на пороге залы подействовало как удар грома. Все сразу притихло, оторопело и осталось недвижно в перепуге. Оглянув гурьбу детей, князь тотчас заметил красивую девушку в голубом платье и стал искать глазами калмыка, о котором шла речь.
– Какая хорошенькая! Шутихой, что ли, у вас? – спросил он. – Ну, где же строптивый-то?
– Саркизка, иди сюда! – строго приказал Саблуков.
Фигурка в голубом платье виновато выдвинулась из гурьбы детей, но светлые глаза смотрели бойко и умно.
– Какая прелесть девчонка!.. – выговорил князь, забыв о калмыке. – Не русская, однако. Видать сразу – не русская. Татарва, а иному молодцу и голову вскружить может.
– Простите, ваша светлость, – заговорил Саблуков. – Это не…
– Невеста ведь, – перебил князь. – Небось уж лет шестнадцать, а то и семнадцать. Ну, отвечай, красотка, сколько тебе лет?
Князь взял ее рукой за подбородок и приподнял вверх хорошенькое личико. Все в ней было мило и оригинально. И этот вздернутый носик, и белые, как чистейший жемчуг, зубы, и смугло-розовый, с оранжевым оттенком, цвет лица, и вьющиеся мелкими кольцами золотистые волосы, а в особенности, страннее всего светлые, добрые, но лукавые глаза, какого-то оригинального синего цвета.
– У русских вот девушек таких глаз не бывает, – сказал князь. – Хочешь замуж, касатка?.. Небось только это и на уме? – ласково прибавил князь и продолжал гладить и водить рукой по смугло-румяной щеке маленькой красавицы.
– Простите, ваша светлость, – вмешался вновь Саблуков, смущаясь. – Это он и есть… А не девица… Он это…
– Кто он? – спросил князь, озираясь.
– Он самый. Саркиз мой… Ну, ты! – прикрикнул Саблуков. – Полно при князе скоморошествовать. Скидай скорее упряжку-то шутовую…
Князь стоял слегка раскрыв рот и, ничего еще не понимая, взглядывал то на хозяина, то на хорошенькую девочку.
Но вот она быстро расстегнула лиф чужого платья, одним ловким движением стряхнула с себя все на пол и сбросила уродливый чепец. Из круга тяжелых складок женского платья, как бы из заколдованного круга волшебника, вдруг выскочил на глазах у князя маленький калмык, в своем обычном наряде – куртке, шальварах и ермолке.
– Тьфу… Прости господи! – выговорил князь. – Хоть глаза протирай. Обморочил…
– Да-с. Это точно… – заговорила хозяйка. – Завсегда все этак… Уж простите. Мы не знали…
– Так ты калмык… Калмычонок? – невольно выговорил князь, как бы все еще не веря своим глазам и желая убедиться вполне, что красавица девушка исчезала как виденье, а ее место заступил калмычок.
– Я-с… Виноват… Детей веселил… – проговорил калмычонок развязно, но простодушно.
– Удивительно. Я таких никогда не видывал. Удивительно, – повторял князь. – Все калмычата – уроды. А этот – прелесть какой… А глаза-то… глаза…
– Диковинный, ваша светлость… Я говорю, жаль, что он девушкой не уродился. Свое бы, поди, счастье нашел.
А князь молчал и все смотрел на калмычонка. Ему показалось, однако, необъяснимым – каким образом он мог так грубо ошибиться и начать ласкать как девочку простого калмыка. И вдруг ему пришло на ум простое подозрение: «Что, если старый Саблуков держит в доме татарку, одетую калмычком? Такие примеры бывали нередко».
– Так тебе имя Саркиз? Ты калмык Саркиз? – спросил наконец князь, усмехаясь своему подозрению.
– Я Саркиз, ваша светлость.
– Ты, щенок, креститься не хочешь?
– Нет, не хочу! – смело ответил тот.
– Вот как?.. Почему же это? А?
– У меня своя вера есть! – бойко отрезал Саркиз. И его оригинальные глаза смотрели на князя прямым, открытым взглядом, отчасти наивно-смелым.
Князь видел, что это не напускная дерзость избалованного нахлебника, а совершенно естественная самоуверенность, глубокое сознание собственной силы.
– Да твоя вера туркина, а не Христова, – сказал он, улыбаясь. – Это не вера…
– Магометов закон. Не хуже других… – отрезал Саркиз.
– Ах ты…
И князь чуть было не ругнулся.
– Ах ты… прыткий… Скажи на милость, – поправился он.
– Магомет был пророк великий, посланец Божий, – заговорил Саркиз серьезным голосом. – Но он не говорил, что Он Сын Божий, и миряне его за такого не стали считать…
И, помолчав мгновение, красивый калмычонок прибавил:
– Учение Магометово почти то же, что и Христово. В нашем Коране, почитай, половина учит тому же, что и Христово учение. Коли изволите, я вам укажу и поясню.
Князь не знал, что ответить. Удивителен был чрез меру этот калмычонок, который сейчас тут в барынином платье паясничал на потеху детей, а теперь звучным, серьезным, хотя особенно мягким, точно женским голосом толкует о вероучении Корана.
– Вот он у вас какой? – нашелся только выговорить князь, обращаясь к хозяевам.
– Диковинный, ваша светлость… – отозвался Саблуков. – Умница.
– Сколько раз из беды выручал… – вставила робко хозяйка свое словечко.
– Как тоись выручал?
– Советом, – объяснил Саблуков. – Как у нас что мудреное – мы к нему… И никогда еще дурного или малоумного не заставил нас учинить. Завсегда развяжет всякое дело на удивление. Талан. Мы за то его и любим как родного и не трогаем. Не хочет креститься, ну и Бог с ним. А поступлениями он все одно что христианин, только молится да постится на свой лад.
Светлейший покачал задумчиво головой, но не словам Саблукова, а на свои мысли…
«Чуден!.. Чудное бывает на свете! – думалось ему, глядя на стоящее пред ним оригинальное существо. – Кого иногда Господь-то взыщет. Если он и впрямь калмычонок, купленный, поди, на базаре каком-нибудь в Казани или Астрахани! И умен, и красив, и речист, и смел… А все это пропадает и пропадет… Для калмыка приживальщика и шута – такое лицо не нужно. Ум и таланы тоже почти не нужны. Природа одарила и подшутила – сделала человеком, как ему быть следует, а в люди выйти не дает… Что он? Татарчонок!»
– Ну, Саркиз, ты, голубчик мой… явление чудесное. Видимое объявление чудес природы на земле, – медленно выговаривал светлейший, как бы подыскивая слова для выражения своей мысли. – Тебе надо называться не Саркиз… а Каприз. Каприз Фортуны.
Саркиз глянул вельможе прямо в глаза, и князю почудилась вдруг в красивых глазах его и на хорошеньком личике дымкой скользнувшая печаль.
– Ты знаешь ли, что я сказываю? Что такое Фортуна?
– Знаю-с.
– Знаешь? А ну-ка скажи… Скажи…
– Что же сказать?.. Фортуна наименование таких непредвидимых удач ли, напастей ли – кои с человеком сбываются… Фортуна, сказывают в шутку, – баба молодая да шалая. Порох девка. Творит не ведает что… Бегает по миру без пути, творит без разума. Что учинила учерась – не помнит; что учинит наутро – не знает. Да что… Так надо пояснить: она, стало быть, на удивление всему миру мудреные и неразгаданные литеры пишет… вилами по воде…
– Что? Что? Что?.. – медленно проговорил князь, пораженный ответом.
Саблуковы начали смеяться добродушно, очевидно, принимая слова любимца за болтовню. Гурьба детей тоже весело усмехалась тому, что их Саркизка князю докладывает так бойко и речисто.
– Как вилами по воде?.. – повторил князь.
– От многих удивительных на свете делов Фортуны, – выговорил Саркиз серьезным и отчасти грустным голосом, – не остается ничего… Пшик один.
– Пшик?
– Знаете, кузнец хохлу за червонец пшик продавал… Сперва червонец получил, а там раскалил добела железо да в воду и сунул. Вот, мол, держи пшик! – А где же? – А был… Ты чего зевал – не ловил. И видел и слышал хохол этот пшик… А в руки взять не мог.
Саркиз замолчал и смотрел на князя по-прежнему просто, прямо, но все-таки будто задумчиво-уныло. А светлейший князь Таврический совсем понурился, задумался, совсем затих, сидя на стуле, и будто забыл, что сидит пред калмыком и гурьбой детей в доме Саблукова.
По больному ли месту его души, по слабой струне зацепил этот диковинный татарчонок?..
– Продайте мне его, – выговорил наконец князь, придя в себя и оборачиваясь к Саблуковым.
Хозяин как-то встрепенулся, хотел что-то сказать и кашлянул, хозяйка двинулась и охнула… Вся гурьба детей сразу перестала усмехаться, все лица насупились печально и испуганно стали глядеть на вельможу.
Наступило полное затишье и молчание.
– Что ж? А?
– Как прикажете… – пролепетал наконец Саблуков, совершенно смутясь.
– Приказывать в таком деле нельзя… – сказал Потемкин. – Жаль вам его! Вижу. А вы пожертвуйте. Я вам все ваше достояние вернул. Отблагодарите меня вот Саркизкой…
– Вестимо. Извольте!.. Честь великая, – вдруг забормотал Саблуков. – И Саркизке счастье. Что ж он у нас в деревне. Запропадет. А у вас, поди, и в люди выйдет.
– Ну, спасибо. Не надо. Я пошутил. Вижу, как он вам дорог, и отымать не стану.
Саблуков развел руками, не зная, что отвечать.
XVIII
С трепетом и смущением на сердце переступило порог Таврического дворца юное существо, одаренное природой будто в шутку, – умный и красивый калмычок Саблукова.
Вечером того же дня, что князь побывал у дворянина, он послал за своим наперсником Бауром.
Лукавый, ловкий, но скромный и мастер на все руки, он всегда служил князю в особо важных делах.
– Важнеющее пустяковинное дельце! – говорил князь Бауру. – Смотри не опростоволоситься! Дело выеденного яйца не стоит, а мне важно!
Последнее «сакраментальное» выражение Потемкина было теперь мерилом всего.
Полковник Баур знал лучше всех, как рядом с этим ежечасным помышлением князя, этим его насущным вопросом явились на очередь большие и мелкие затеи и прихоти, в которые баловень судьбы влагал всю свою душу так же пылко и капризно, как и в важнейшее дело.
И Баур достал и сманил калмычка саблуковского.
Вступив во дворец маленьким ходом, а не чрез парадный подъезд и швейцарскую, Саркиз следом за Бауром прошел чрез вереницу маленьких горниц, минуя толпы обитателей, прямо к князю на половину. Здесь они оба прождали около двух часов, пока князь объяснялся в кабинете с посетителями.
Наконец князь вспомнил о Бауре и Саркизе, ожидающих его, и приказал позвать. Калмычок появился, пытливо озираясь.
– Ну, здравствуй, умница, – сказал князь, – вы познакомились…
– Точно так-с, – отозвался Баур, шутя. – Мы с ним совсем приятели. И у меня на дому, и здесь беседовали.
Светлейший, улегшись на огромной софе врастяжку, снова начал было беседу о религии, уговаривая стоящего пред ним Саркиза креститься и бросить «мухоедову веру». Калмык так же упорно и умно стал доказывать, что все веры хороши. Его ясная и простая речь сводилась к тому, что надо лишь Бога бояться и жить праведно и честно… И не изменять родной вере…
Познания Саркиза, ясность разума, красноречие, самоуверенность и вообще одаренность природная – снова подивили князя. Он слушал и молчал.
– Ну, бог с тобой! – сказал он наконец. – Верь как знаешь! А со временем я тебя все-таки усовещу и в христианство обращу. А теперь забота иная у меня. Ты мне нужен справить одно важнеющее дело. Кроме тебя, некому справить. Обещаешься ли ты послужить мне верой и правдой, не жалеючи себя… Всем разумом своим.
– Вестимо, ваша светлость… – отвечал Саркиз. – Все, что прикажете. Лишь бы по силе и по разуму пришлось.
– Уговор такой. Ты мне сослужи службу одну, немудреную, а я тебе волю дам. Ну воля – не диво. Ты и у Саблуковых жил как родной… Ну, я тебе обещаю пять тысяч рублей деньгами, чин, зачисление на службу и невесту из моих крестниц с приданым… Довольно или еще набавить?..
Красивое лицо Саркиза вспыхнуло и пошло пятнами, а губы дрогнули.
Вельможа попался ему на пути и хочет, стало быть, его «человеком» сделать. То, о чем он все мечтал втайне. Ведь это – все… Это дверь ко всему… Остальное уж от него самого зависеть будет, от его воли, умения, настойчивости.
– Что прикажете? Какое поручение? – спросил калмык глухо, от внутреннего волнения и бури на душе.
– А это, братец ты мой, теперь расписывать долго, да и пояснить с оника мудрено… Скажи я тебе, в чем дело, – ты не сообразишь и заартачишься, а с тобой ведь не совладаешь. Вишь ведь ты какой кованый, из-под молота уродился. А силком тоже нельзя заставлять… Дело не такое. Мы вот с ним все обсудим, – показал князь глазами на Баура, – а он уж тебя сам научит всему и приготовит потихоньку. Ты мне только обещай душу в дело положить, помня уговор… Поручение мое тебе – для меня вот какое дело! Сердечное дело… А уж что я тебе обещал – это все свято исполню… Ну… Обещаешься?..
– Могу ли? Сумею ли? – смутясь в первый раз, отозвался Саркиз, недоумевая и уже опасаясь, что князь надумал дело мудреное.
– Отсюда, из Питера, – вдруг сказал князь, – один до Вены или Парижа, не зная иноземных наречий, – доедешь?
– Доеду! – быстро и самоуверенно выговорил Саркиз, как если бы ему сразу стало легче.
– Посланцем моим ко двору монарха Римской империи возьмешься ехать?
– Что ж? – выговорил Саркиз, подумав. – Если мне переводчиков дадут… да поручение разъяснят, отчего не ехать?
– Да ведь надо не калмыком являться, надо уметь себя держать; не дворовым из-под Казани и не скоморохом, а моим наперсником. Надо быть важным да гордым, чтоб рукой не достали… Можешь ли ты на себя напустить этакую амбицию не по росту? – шутя произнес князь.
– Что ж рост? Рост ни при чем! – засмеялся Саркиз. – Иной богатырь меня вот за пазуху засунет и понесет, а я его умишко весь за щеку положить могу, как орех. Ведь новорожденные без амбиции этой на свет приходят, а уж потом ее на себя напускают тоже. Да вот я вам сейчас изображу, как я беседу поведу.
Саркиз отошел, прислонился к письменному столу князя, опираясь одной рукой и слегка выпятив грудь, закинув чуть-чуть голову назад, поднял другую руку и произнес с достоинством, мерно и холодно:
– Передайте господину министру, что я его прошу именем всероссийского вельможи, князя Таврического – отвечать мне прямо, без утайки и без проволочки. Согласен он? Да или нет?
Фигура Саркиза была в это мгновение так элегантно горда и надменна, а слова эти были так произнесены, что князь сразу вскочил с софы на ноги и уставился на калмыка.
– Фу-ты, проклятый!.. – выговорил он.
Баур, таращивший глаза на актера, тоже ахнул.
– Каков? – обернулся князь к любимцу.
– Чудодей, – проговорил Баур.
– Оборотень как есть. Ну, Саркизка, я сам теперь за тебя порукой, что ты мне справишь порученье миру на аханье! – весело воскликнул князь. – Помни, родимый, только одно: не робеть. Не робеть! Сробеешь – все пропало! А коли этак вот обернуться можешь, как сейчас, – диво!
– Уж коли я, после моей трущобы, первый раз будучи поставлен пред очи светлейшего князя Таврического, не сробел, – промолвил Саркиз, – так что ж мне другие. В этом будьте благонадежны… Робеть я не умею.
– Не умеешь? – рассмеялся князь.
– Нет. Никто меня этому не обучил, откуда же мне уметь…
Потемкин начал уже хохотать:
– Молодец. Ей-богу. Эко судьба меня подарила. Фортуна-то меня балует, что мне тебя послала. Не поезжай я, умница, к Саблукову – так бы я тебя и не нашел. Вся сила была в этой поездке, а то бы ничего не было.
– Не привези меня в Петербург господин Саблуков – ничего бы не было. Вестимо, – отозвался Саркиз.
– Это верно.
– А не родись я на свете, и привезти бы он меня не мог.
– Еще того вернее! – вскликнул Потемкин.
– Стало быть, вся сила не в князе, а в Саркизе, что он есть на свете! – усмехаясь, вымолвил калмычонок, хитро щуря свои красивые глаза.
– Каков гусь? – обернулся князь к Бауру. – Ну, что скажешь? Не справит он наше дело на славу?
– Справит, Григорий Александрыч. Я его день один как знаю, а голову за него тоже прозакладую. Видать птицу по полету.
– Ну, ступайте… Ты его готовь: все поясни и начни хоть с завтрашнего же дня муштровать и обучать… Да и прочее все готовь без проволочки. Нам ведь здесь долго не сидеть. Чрез месяца два надо и выезжать на войну. Время дорого. Когда будет он обучен совсем, привози ко мне. Я его испытаю и, коли годен – хорошо, а негоден, – отправлю обратно к Саблукову, а ты найдешь другого. Питер не клином сошелся.
– Лучше не выищем, Григорий Александрыч. Уж верьте моему глазу. Я не ошибусь.
– Ну и славу богу. Прощай, Саркизка. Учись серьезно, – выговорил князь. – Чем скорее обучишься к исправленью должности, тем я тебя лучше награжу.
Баур и Саркиз откланялись, пройдя опять особым ходом, и скоро уехали, а князь остался один, задумался и потом шепнул:
– Ну, погоди же!.. Угощу я! Вишь, переодетые гонцы в Вену и в Константинополь ездят… Ну, вот и мы наряжаться начнем.
Через три дня после этой беседы с князем Саркиз простился в доме Саблуковых и выехал по Новгородской дороге. Калмычонок был задумчив и даже грустен…
Не по силам ли взял он на себя порученье… Или, как все истые умницы, – умалял свои силы…
XIX
И снова, вдруг, сразу, притих Таврический дворец!..
Князь снова хворал своей диковинной, всех удивляющей и самому непонятной, болезнью, капризно и внезапно являвшейся к нему и покидавшей его, по-видимому, без всякой причины, без предварения и без последствий.
Смутно чувствовал сам князь, когда болезнь должна прийти и когда уйдет; смутно понимал, почему она идет, но объяснять другим не любил.
Князь, как всегда, не выходил из уборной, изредка переходя в кабинет. Не занимался ничем, не принимал никого, не притронулся пальцем ни к одному письму, ни к одной бумаге или депеше, как бы она по печати и внешнему виду важна ни была.
Теперь не было вокруг него, здесь в кабинете, и во всем Петербурге, и в России, и в целой Европе, даже на всей земле этой подлунной, ничего важного – все прах и тлен! Важное есть только «там».
На этот раз недуг необыкновенного и странно-гениального человека сказался сильнее, чем когда-либо…
– Чем изгнать из себя этого беса! – восклицал князь один, громко разговаривая сам с собой. – Да, я верю, что бесы входили в человеков и входят; верю, что они повергали их наземь… И теперь могут… со мной нету того, кто мог словом своим изгонять их…
Князь снова послал за духовником.
Он захотел исповедаться и причаститься.
Отец Лаврентий явился и с участием отнесся к духовному сыну…
Если не ум, то душа священника поняла, с кем она имеет дело в лице этого «сильного мира» временщика, баловня Фортуны и друга великой монархини.
Отец Лаврентий три дня прожил в Таврическом дворце, служа в домовой церкви или сидя в спальне князя. Целый вечер с остановками, с беседой и разъяснением многих слов читал он князю правило…
И что же сказал духовный сын на исповеди?.. Почему оба плакали?..
Почему, повергнутый пред налоем, этот русский богатырь своими рыданьями заставил и священника слезы утирать…
– Бог простит… – повторял духовник, и голос его дрожал чувством.
– Кому много дано – с того много и взыщется! – шептал чрез силу исповедующийся, от избытка чувства как бы лишившись голосу.
На совести князя не было, конечно, ни одного преступленья, не было даже из ряду выходящего греха… Но этот неведомый «бес», который потряс его и поверг пред налоем, смутил, видно, добрую душу пастыря…
Зато наутро за обедней князь причастился, и лицо его просветлело на несколько часов… Тишь сошла на душу… Но ненадолго…
Он отпустил духовника домой, но, чувствуя себя ненадежным, заперся на ключ в своем кабинете, не велев принимать даже племянницу Браницкую.
И здесь, один-одинехонек, лежа на софе полуодетый, князь промучился еще трое суток, почти не принимая пищи… Из всего приносимого Дмитрием он дотронулся только до хлеба и молока.
Он маялся умом и сердцем, как приговоренный преступник пред казнью.
И куча разнородных помыслов, чувств и порывов – сменялись в душе его, прилетая и уносясь будто рой за роем…
Он томился в этой тоске, проклинал все и всех, плакал горько о себе и о любимых им. Смеялся едко и метко над собой, над всеми… Клеймил остроумно всех и вся… Молился Богу на коленях искренно и горячо… Боялся смерти, которая идет… придет! Может быть, и не скоро, но все-таки придет!.. А затем вдруг искренно желал умереть, скорее, сейчас…
– Все прах и тлен! Там только будет разумно все, там – добро, истина, свет. А здесь одно обидное для души бессмертной земное скоморошество. Это не жизнь, не бытие – это Святки, маскарад, позорище и торжище, продажа и купля житейского хлама и рухляди. А какой рухляди? Чести, славы, нравственности, долга христианского, обязанностей семейных и гражданских – всего… всего…
И все идет и пройдет… Все пройдет! А останется ли Таврида?..
Таврида. Клок грошовой земли. Миллионная частица земного шара, который сам миллионная частица Божьего здания, бесконечного и непроникновенного надменному разуму.
Срам и грех кругом во всех, в тебе самом, паяц таврический, грешник любый. Раб утробы своей поскудной. Червь! Да, червь! Да не перед одним лишь Господом, а червь и перед одной вот этой звездочкой, что мигает… Господи, прости мне… Избави меня от лукавого… то есть от зла, от неправды, от суеты мирской, грешной и постыдной, да и постылой. Да, я уйду, спасуся в обитель какую на краю России, в Соловках, на Афоне. В узкой келье иноком, с просфорой и водой ключевой я буду счастлив. Я буду молиться, наложу на себя епитимью, вериги в два пуда надену… Истомлю проклятое тело, убью поганую утробу… Все ведь сгниет в гробу… Так я теперь умалю поживу червям… Я стану достоин предстать пред Судом твоим, явлюся чистым, унаследую жизнь вечную. Господи, смилуйся!.. Спаси и помилуй раба твоего Григория…
Так стенаньями молился богатырь духом и телом, иногда в темноте ночи, стоя на коленях около окна и глядя туда, где загадочными алмазами вспыхивали звезды и где, быть может, и есть все то, чего он здесь всю жизнь искал… Оно там!.. А слезы, крупные и горячие, лились по лицу… И будто легче становилось от них на душе. Будто очищаются, омываясь в них, голова и сердце от ига помыслов, жгучих до боли!.. Неземной боли!..
Часть вторая
I
Прошло две недели. Князь снова был здоров, весел и деятелен. Снова более чем прежде ухаживал он и просиживал вечера у Venus de Mitau.
Однажды в Зимнем дворце, когда князь, выйдя от государыни, стоял окруженный придворными и беседовал с кем-то, он, чуткий на ухо, услышал за собой горячий спор вполголоса двух пожилых сенаторов.
– Не я один. Уже многие слышали и знают! – говорил один.
– Славны бубны за горами! – отозвался другой.
– Да не за горами, а здесь… Понимаете: здесь! С собой привезла весь миллион!
– Золотом? сколько же это весом будет? На это надо особый экипаж! Полноте. Питерские выдумки!
– Персидскими, говорят, бумагами! Вот как наши новые ассигнации. Но миллион, батюшка! Миллион – чистоганом! А сама чистокровная персидская княжна и писаная красавица.
– Верно, все враки!
– Ох, маловерный! Ведь вот неловко только… А то бы сейчас спросили, и сам князь вам бы сказал… Он лучше нас с вами знает и что за принцесса, и какой такой миллион.
– Почему?
– Потому что она уже посылала к нему своих адъютантов, прося аудиенции по делу, из-за коего приехала сюда. Спросите вон князя.
Князь сделал вид, что не слышит ничего, и быстро вышел и уехал.
Вернувшись к себе и выйдя в подъезд, князь был тотчас окружен адъютантами-нахлебниками и дворовыми, которые всегда встречали его, а равно провожали при выездах.
– Кто дежурный? – спросил князь.
Один из адъютантов выдвинулся вперед, руки по швам.
– Ты?
– Я-с.
– Присылали к нам справляться приезжие персиды?
– Приезжал утром толмач княжны персидской, секретарь ее, спрашивал насчет приема у вашей светлости…
– Чего ж ты мне не доложил?.. Я буду сам у вас дела выпытывать. А?..
И голос князя зазвенел гневно… Адъютант молчал и только слегка переменился в лице.
– Ну? Столбняк нашел!
– Я полагал, ваша светлость, что правитель канцелярии доложит, – дрожащим голосом проговорил офицер. – Секретарь прямо в канцелярию отнесся, а не ко мне… Я был наверху, у вашей свет…
– То иное дело… Ну, прости, голубчик… Прав. Позвать дежурного по канцелярии.
Несколько человек зараз бросились по коридору и рассыпались по нижнему этажу… Двое побежали на квартиру чиновника. Князь не двигался и ждал в швейцарской.
«Загорелось!» – подумало несколько человек из офицеров.
«Приспичило! – подумали и дворовые. – А может, и важное дело».
– Кто там сегодня дежурный?.. – спросил князь.
– Петушков, – отозвался кто-то.
– Петушков? – повторил князь и что-то будто вспомнил… – Петушков? Что такое. Мне что-то сдается? А что?..
Все знали, что именно князю вспомнилось. Бумаги, подписанные светлейшим Петушковым Таврическим, еще вчера поминали здесь в швейцарской и хохотали опять до слез…
Князь огляделся… все кругом улыбались и ухмылялись.
– Чему вы, черти?
– Да оный Петушков, – заговорил, выступая вперед, дворецкий Спиридонов. – Петушков тот самый, Григорий Лександрыч, что надысь распотешил.
– Петушков? Что за дьявол! Не могу вспомнить. А что-то такое помню. Глупость он какую-то сделал.
Князь вспомнил, но не спрашивал, и никто не осмеливался сказать сам.
– Ему у нас теперь, – продолжал дворецкий, – другого звания во дворце нет, как «ваша светлость».
– А-а! Помню! Помню… – вскрикнул Потемкин. – Князь Петушков Таврический.
Князь рассмеялся, все подражали, и гулкий смех огласил швейцарскую как раз в то мгновение, когда черненький и вертлявый чиновник появился на рысях из коридора.
– Ты, ваша светлость, дежурный сегодня? – спросил его князь.
Петушков смутился и сразу оробел при этом титуле в устах самого князя… И он понял вопрос по-своему…
– Я не виноват-с. Я сказывал сколько раз, – залепетал он. – Вот все знают… Запрещал, бранился, грозил, а они знай свое… Я не виноват. Вот как пред Богом.
– Что? Что? Что?.. – произнес Потемкин. – Чучело огородное. Что ты плетешь!
– Они все с того разу зовут… Я не вин…
– Светлостью-то тебя величают? Пущай, поделом! Так ты и оставайся светлейший Петушков до скончания своего века. А ты отвечай мне теперь, как, будучи дежурным, смел не доложить мне об персиянах. А?.. Был сегодня секретарь?
– Был-с… Господин Баур взялся сам доложить вашей светлости, сказал, что это дело важное…
– И не доложил. Важное! А сам забыл. От чьего имени был секретарь?
– От имени персидской княжны, что прибыла в столицу по делу своему…
– Какое дело?
– Ходатайствовать насчет обиды и претерпенья от властей тамошних. Просить хочет сия княжна заступничества российского…
– Мне-то что ж! Нешто я могу персидским шахом командовать. Добро бы еще султан турецкий… Что ж я могу…
– Так секретарь сказывал! – извинился Петушков.
– Знаю, что ты не порешил… Прыток ты больно на ответ, – несколько серьезнее прибавил князь и сморщил брови. – Я еще, ваша светлость, у тебя в долгу.
Петушков уже со слезами на глазах упал на колени и выговорил:
– Простите!
– Ну, кто старое помянет, тому ведь глаз… как у меня вот – будет!.. Как звать эту княжну?
– Ея светлость, княжна Адидже-Халиль-Эмете-Изфагань, – скороговоркой протрещал бойко Петушков, стоя на коленях.
– Молодец… Как отзубрил. За это одно простить тебя следовало… А ну повтори! Повтори!
Петушков шибко повторил длинное имя персидской княжны. Князь рассмеялся:
– Коли персиянка, то и мирзой тоже должна быть. Фамилия же эта по городу – Испагань. А правда, сказывают во дворце, что эта княжна писаная красотка?
– Не могу знать, – отозвался чиновник.
– Так точно, ваша светлость, – вступился капитан Немцевич. – Я слышал в городе. Ей всего семнадцать лет…
– Красавица?.. А?
– Особенной красоты. Только ростом не взяла.
Князь двинулся по лестнице, а в швейцарской на этот раз долго оставались, толпились и беседовали сошедшиеся к нему навстречу. Предметом толков была персидская княжна, красавица, которой князь, очевидно, даже заглазно заинтересовался.
«Вот отчего ему „загорелось” узнать о секретаре…» – решили все. И долго об этом толковали.
II
В столице уже за два дня пред тем начинали поговаривать, что большой дом одного кавказца-богача на Итальянской улице, именовавшего себя грузинским князем, осветился огнями. Полудворец стоял темен и необитаем уже с год. Владелец его, как говорили, проигрался в карты, уехал из столицы и скрывался от долгов.
Многие из питерских любителей новостей заинтересовались – кто такой мог нанять дорогое помещение. Конечно, далеко не бедный человек!
Общее любопытство еще более усилилось, когда стало известно, что полудворец занят приезжей из Тифлиса княжной, не только грузинской, а даже персидской, фамилия которой происходит от древнего рода Изфагань или Испагань.
А когда вслед за тем стоустая молва разнесла весть, что княжна не старуха и не старая дева, а семнадцатилетняя красавица, к тому же богачка, да к тому же еще и круглая сирота, то многие, даже пожилые сановники в столице, встрепенулись… А когда эта же молва присочинила, что юная и красивая сирота княжна желает будто бы найти себе мужа в Питере и сделаться российской подданной, то и молодежь зашевелилась…
Все чаще стали по Итальянской скакать и прогуливаться взад и вперед красивые всадники-гусары, мушкетеры. Появлялись часто и экипажи шагом…
Всякий, проезжавший мимо «грузинского дома», умышленно или случайно поглядывал пристально в окна, стараясь увидеть кого-то. Но ни разу никто в окнах не увидел никакой красавицы… Видали только черных, наподобие тараканов, бородатых мужчин… Из дому тоже выезжали и выходили настоящие персияне, в халатах, черные как смоль, с длинными бородами, зачесанными клином на грудь, в черных мерлушечьих остроконечных шапках, с красивым оружием, украшенным самоцветными камнями. Все это была свита княжны. Сама же она вовсе не показывалась из дому.
Шутники в гвардии скоро распустили слух, что княжне семьдесят семь лет и что она страшнее самой бабы-яги.
Спорить никто не мог: никто лично княжну не видал. Многие молодцы приуныли от разочарования.
– Быть не может! – решили некоторые, которым хотелось от скуки, чтобы княжна была красавицей.
Начались справки.
Кто первым пустил слух, что княжна столетняя баба-яга, что ей не семнадцать, а семьдесят семь лет, что она страшна как ведьма.
Кто был этот виновник – было неизвестно; равно было неведомо тоже, кто пустил слух и о красоте и юности.
Прошла неделя… Всадники и проезжие в колясках цугом мимо «грузинского дома» поуменьшились числом, так как кто-то наверное узнал и кому-то передал, что персидская княжна действительно женщина под пятьдесят лет, дурнорожа, беззубая и лысая.
Смеху было немало в кружках гвардейцев.
– Из-за кого скакали по Итальянской!
Но однажды утром, известный своим пронырством, громадным состоянием и отчаянной головой, офицер лейб-гусарского эскадрона граф Велемирский прискакал в трактир, где собирались офицеры разных полков, и объявил:
– Сам видел! Княжну видел! – заявил он. – Красавица божественная!.. Маленькая, белокурая, беленькая, с голубыми глазами…
Велемирский присутствовал при выезде княжны из дому. И опять всполошились все сразу…
Опять появились всадники на Итальянской и разъезжали, усердно заглядывая в окна.
– Авось покажется красавица за стеклом.
Молва Петрограда не ошиблась.
Действительно, «грузинский дом» был занят приезжей чрез Москву княжной. По сведениям полиции, это была княжна Адидже-Халиль-Эмете-Изфагань, прибывшая со свитой из пределов Персии.
При княжне, семнадцатилетней девице, был опекун, ее дядя – Мирза-Ибрагим-Абд-Улла со многими другими мудреными именами; духовник княжны – Абдурахим-Талеб, тоже со многими именами, переводчик – Саид-Аль-Рашид, трое молодых адъютантов, из которых Амалат-Гассан, еще юноша, был родственник княжны, две старые персиянки, вроде статс-дам – Фатьма и Абаде, и затем с полдюжины разных персиян, в разных должностях… Остальные, человек с двадцать, были наемные: лакеи, кучера, повара, кондитеры и дворники, и были все из русских: одни из Москвы, другие наняты по приезде в Петербург.
Княжне было действительно не более семнадцати лет, а на вид и того менее, так как она была маленького роста и казалась девочкой лет четырнадцати.
Княжна с приезда никуда не показывалась и почти ни разу не выехала, хотя два экипажа и два цуга красивых лошадей были тотчас куплены для ее выездов.
Княжна Эмете, как говорили, сидела все с своим духовником и, вероятно, много по-своему Богу молилась или по целым вечерам училась по-русски с Саид-аль-Рашидом.
Дело, по которому княжна Эмете Изфаганова приехала в Петербург, было очень важное: она явилась ходатайствовать о защите своих прав на огромные поместья, которые ее отец имел в Грузии и которые у нее дальние родственники хотели оттягать, опираясь на шаха. Ябедники поехали в Тегеран, а княжна поехала в Петербург. Только один двоюродный брат ее, Гассан, принял ее сторону и последовал за ней в Россию. Он же, по слухам в городе, считался ее женихом и собирался жениться на ней в случае успеха, ибо кроме огромных поместий у нее будто бы миллион приданого.
Когда юность, сиротство и богатство княжны уже не подлежали никакому сомнению, когда лейб-гусар Велемирский протрубил о божественной красоте княжны Эмете, которую собственными глазами видел в двух шагах расстояния, – многие сановники и многие дамы стали пробовать из тщеславия познакомиться с персидской красавицей, обладательницей миллиона… Но попытки не увенчались успехом. Некоторые пролезли даже в дом и отважно заявили о желании «спознакомиться» с ее светлостью. Но назойливых гостей принял переводчик княжны, вечно мрачный, с черно-сизой головой, Саид-Дербент, и объявил, что Адидже-Эмете не примет никого, пока не побывает у князя Таврического и не справит дела, за которым пожаловала в Питер. Опекун и духовник княжны тоже появлялись, но, не говоря и не понимая ни слова по-русски, лопотали что-то по-своему, переговариваясь с переводчиком, и недружелюбно, цепными псами, поглядывали на гостей.
Однажды благодаря назойливости питерцев случилось и маленькое происшествие… В числе барынь, настойчиво и бесцеремонно желавших пролезть к княжне, была одна княгиня Рассадкина, вдова, у которой был единственный сын, малый лет тридцати, мушкетер, и которого княгиня все стремилась усердно, но неудачно, на ком-нибудь женить, разумеется, при условии хорошего приданого. Прослышав про новоявленную сироту княжну из персидской страны, обладательницу миллиона, княгиня пищи и сна лишилась. Стала она мечтать женить сына Капитошу на княжне Эмете.
«Вот бы партия-то! Вот бы озлилась Анна Афанасьевна… Лопнул бы со злости Павел Кондратьич… Ахнул бы весь Петербург… Вот бы счастье Капитоше!»
Разумеется, она недолго мечтала и скоро начала действовать… Сто рублей истратила она на подкуп людей из русских и на выведывание у них подноготной о княжне. Но русская дворня княжны сама ничего не знала о своей новой барышне… Переводчик Дербент был не словоохотлив и ни с кем из нанятых людей не разговаривал, только разве когда надо было что приказать сделать… Абдурахим и Мирза-Ибрагим вовсе по-русски не знали. Старая Фатьма и пожилая Абаде совсем не показывались из верхних горниц и, как ходил между дворовыми слух, обе только ели, а затем спали беспробудно и день и ночь…
Перепробовав все средства, княгиня Рассадкина решилась и поехала самолично добиваться знакомства.
«Будь что будет! А ради Капитоши я хоть на крепостную стену с пушкой полезу!» – решила княгиня.
Когда о княгине доложили, Саид-Дербент принял ее в гостиной и на выраженное ею на все лады желание познакомиться с княжной отвечал прямо, с восточным хладнокровием, то же самое, что и другим:
– Теперь нельзя. Позднее, пожалуй, можно…
Но княгиня, тщетно поспорив, заявила наконец господину Дербентову, «что она вот как села, так и будет, что кочан на гряде», сидеть до тех пор, пока княжна не допустит ее до себя, так как она, во-первых, сама русская княгиня и «не хуже персидской княжны», а во-вторых, исполнять прихоти «всякого служителя» не намерена.
– Эдо кдо злужидель? – мрачно и гробовым голосом спросил Саид-Аль-Рашид-Дербент, произносивший русские слова правильно, но заменявший одни согласные буквы другими.
– Вы служитель княжны… И должны доложить обо мне, – заявила княгиня. – Не захочет она сама меня принять, тогда иное дело… Я плюну и уеду.
Дербент крикнул лакея-персиянина и что-то приказал ему. Чрез минуту явились свирепо угрюмые опекун Ибрагим-Абд-Улла и духовник Абдурахим-Талеб, а с ними еще два персиянина… Все затараторили по-своему, быстро, часто и хрипливо.
И переводчик заявил княгине, что вот господин Мирза-Ибрагим-Абд-Улла приказал просить княгиню выходить и уезжать «с добротой и со здоровьем».
Дербент, верно, хотел сказать – подобру-поздорову. В противном случае Мирза-Ибрагим грозит вывести ее из дому.
Княгиня рассвирепела. Персиды! Дрянь! Мразь! Чучелы огородные! И смеют с ней, с русской княгиней!..
Произошло маленькое неприятное для всех приключение… Княгиня бранилась и не шла…
Персияне полопотали опять, как бы соображаясь, и наконец Мирза-Ибрагим-Абд-Улла приказал слугам княгиню взять под локотки и за талию.
И персидские невежи повели вон и вывели на подъезд, где она, бранясь и крича на всю Итальянскую, грозясь чуть не войной России с Персией, сама уже влезла в свой рыдван и плюнула.
А пока выпроваживали княгиню из гостиной, маленькая фигурка, с прелестным смугло-румяным личиком, одетая в алое бархатное платье, выглядывала в приотворенную из гостиной дверь и смеялась до слез всей этой сумятице. Это была, по всей вероятности, сама юная княжна Изфаганова.
III
Однажды, около полудня, в большой зале Таврического дворца, в приемный день, вся толпа посетителей и просителей вдруг особенно оживилась…
У подъезда князя появилась карета персидской княжны, а адъютант пробежал докладывать об ее прибытии.
У князя Потемкина был прием, но начался он недавно, и зала была полна сановников, генералов и, как всегда, всякий почти день полна всяким народом – от чужеземцев, секретарей иностранных резидентов и банкиров – до простых дворян, провинциалов и мелких чинов военных, штатских, прапорщиков и регистраторов… На этот раз была кучка купцов из Новгорода, явившихся хлопотать о важном торговом деле.
Говор тихий и сдержанный все-таки гудел в зале, но когда появилась на дворе голубая карета цугом вороных коней, с лакеями на запятках, в высоких мерлушечьих колпаках, в халатах, расшитых позументами и с кинжалами за поясами, все догадались, бросили беседу и двинулись к окнам.
Раздались голоса:
– Это княжна Изфаганова!
– Персидская княжна!
– Персидка с Итальянской!
Адъютанты пробежали обратно чрез залу на лестницу… За ними вышел любимец князя, полковник Баур, и тоже пошел навстречу к прибывшей.
Все обернулись к дверям, и чрез несколько минут в зале, на глазах у всех, под руку с Бауром появилась молодая девушка, в алом бархатном платье, почти европейского покроя, с корсажем и рукавами, вышитыми золотом. Только на светло-белокурых волосах, которые вились кудрями, не было по обычаю пудры. На голове была серебристая круглая шапочка, а с нее на плечи и до пояса падал шелковый белый тонкий вуаль или покров, вышитый по краям цветами серебром. На шапочке горели огнем крупные бриллианты и рубины, на талии был пояс, сплошь унизанный огромными бирюзами. На ручках красавицы была тоже масса колец, и они тоже искрились драгоценными каменьями, а маленькие ножки были обуты в алые шелковые башмаки, на чересчур высоких каблуках, от которых княжна, видимо, шла с трудом и с особенной осторожностью…
Княжна Эмете окинула всю публику в зале холодным и гордым взглядом, но многие из сановников заметили, что это была напускная восточная важность… или «щит смущенья», чтобы не ударить лицом в грязь перед чужими людьми. Видно было, что к этому миловидному свеженькому личику, с прелестным носиком и с синими, почти зеленоватыми глазками, не шли важность и напыщенная холодность… Обладательнице этих розовых губок и зеленых глазок – век бы смеяться.
За княжной, почти вплотную, стали рядом, в великолепных цветных шелковых халатах, ее опекун и духовник, с клинообразными, черными как уголь бородами и с дорогим оружием. На кинжалах и шашках горели алмазы, а рукоятки были тоже сплошь залиты бирюзой.
Переводчик Саид-Дербент был сбоку – и не рядом с княжной, и не сзади ее. Его костюм был простой, так как он не был ни дворянин, ни богач, а попал в свиту княжны только ради знания языков – русского и персидского…
Сзади всех, около дверей, стала стенкой свита: адъютанты с Гассаном и две женщины, Абаде и Фатьма. Они несколько дико озирали залу и присутствующих. Мрачнее всех выглядывал духовник княжны – Абдурахим. Он будто злился, что его привезли сюда.
Баур тотчас же предложил княжне кресло, которое приставил камер-лакей. Девушка села, бесцеремонно вытянув ножки из-под своего алого платья, и смело оглядывала всех, – и генералов, и сенаторов, и офицеров, и купцов. И хотя она видела и понимала, что привлекает исключительное внимание, однако не смущалась и упорно глядела в глаза всякому, смотревшему прямо на нее.
В зале снова начался говор, но уж исключительно о княжне.
– Хорошенькая! Прелесть! Котенок! Глядите, совсем кошечка, – слышалось в одном углу.
– А ведь прелесть княжна-то! Этакую женушку иному и русскому молодцу не стыдно за себя взять.
– Хороша пташка… Ну и перышки тоже не плохи! Смотрите, на ермолке-то каменьев что у нее нацеплено. Собери их все, так за одну эту горсточку целую вотчину купишь, – говорили старики.
– Вот красавица-то! Глазки-то бирюзовые… А губки-то!
– Выкрашены сандалом.
– Полно врать… От природы. Прелесть! – говорили чиновники и офицеры, просители, адъютанты князя и другая молодежь.
– Бархат-то на ней, сдается, французский, а не свой. Знать, в Персии его не изловчились делать! – заметил один из новгородцев.
– А у нас умеют? Вестимо, и к ним туда француз да немец пролез и шибче всех, поди, торгует, – отвечал другой…
– В полчаса времени, братец ты мой, можно в нее врезаться и без ума без памяти, – решил в своем углу и заявил товарищу капитан Немцевич.
Княжна между тем обратилась к своему опекуну и тихо заговорила с ним по-своему. Странные и дикие звуки незнакомого языка долетали до слуха публики… И тотчас горячо заспорили о том – труден ли персидский язык для изучения… Одни уверяли, что «дело плевое», а другой уверял, что «вовеки не осилишь». Никто из спорящих, разумеется, не знал ни единого персидского слова.
Князь, который занят был в кабинете с резидентом императора Леопольда, поневоле заставлял княжну Эмете дожидаться в зале.
Немец-австриец был в этот день в Таврическом дворце по особо важному делу, почти с миссией от своего правительства «уломать» князя Потемкина. Венский кабинет знал отлично положение дел в России и даже новые веяния при дворе, недавнее значение все возвышавшегося в фаворе и могуществе молоденького двадцатичетырехлетнего флигель-адъютанта Зубова… Все мелкие интриги двора и приближенных царицы российской были в Вене хорошо известны благодаря Кобенцелю. Князь Потемкин не по слухам, а по их достовернейшим сведениям падал во мнении императрицы и лишался постепенно прежнего значения. Но насколько был он близок к полному падению и насколько был еще в данную минуту силен – было неизвестно. Это могло знать одно лицо – сама императрица Всероссийская, и никто больше. А между тем время было дорого. Надо было как можно скорее заставить Россию заключить мир с Портою и никак не допускать открытия вновь кампании и военных действий на Дунае.
А главный враг мира с султаном был князь. Пока Зубов поднимется и приобретет полное влияние на ум стареющей повелительницы северного колосса, Потемкин успеет уговорить царицу поставить на своем – вернуться в армию и начать снова погром издыхающей Турции…
Австриец поднялся наконец и пошел вон. Князь остался один, потянувшись как после сна, сладко и протяжно охнул.
– Экий леший, – выговорил он. – Умаял! Точно в телеге – растрясло… Ну, теперь надо приниматься за княжну Эмете… или как там ее… Надо в нее влюбиться, а других хоть на время побоку. Что делать? Персидская княжна интереснее во сто крат! Кого ни спроси, ахают – красавица писаная.
Князь постоял и подумал, соображая:
«Выходить?.. Или сюда просить? Нет, черт с ними. Да и лучше при всех. На глазах столичных мельниц куры персидке строить начну. Пусть смотрят и разносят по всему городу. Да и завидуют!»
Князь огляделся в зеркало, поправил кружево на груди и, обтянув на себе камзол, молодцевато вышел в залу, не медвежьей, как всегда, походкой, а легкой и элегантной.
Подумаешь, и впрямь, что ли, захотелось вдруг прихотливому баловню счастья понравиться персидской красавице.
При появлении на пороге светлейшего генерал-фельдмаршала все зашевелилось и двинулось, низко кланяясь всесильному временщику.
IV
После первого же приветствия Потемкин стал пристально вглядываться в личико княжны… Все заметили по выражению его лица, что маленькая персиянка сразу произвела на князя особенно сильное впечатление. Известная всем слабость его к прекрасному полу наглядно сказалась здесь тотчас же… Князь улыбался, голос его понизился и стал вежливо-ласков; он, казалось, не знал, как любезнее обойтись с этой прелестной и элегантной гостьей, явившейся сюда как в сказке царевны из-за тридевяти земель. Стоя пред маленькой девушкой, он казался еще выше, огромнее, колоссальнее, и его любезничание было еще смешнее. А княжна, наоборот, казалась теперь около богатыря князя еще меньше ростом… «Вот уж и впрямь черт с младенцем связался!» – подумал про себя пословицей один остряк генерал, враг князя.
Княжна раскланялась и присела, совсем как бы придворная дама европейского государства, а не Персии, но затем она приложила руку ко лбу, потом к сердцу и сказала несколько слов по-своему… Выступивший на шаг вперед Саид-Дербент объявил князю громким, но странным русским языком, благодаря употреблению одних согласных вместо других, что княжна Адидже-Халиль-Эмете-Изфагань – дочь именитого Мирзы – приветствует всем разумом и сердцем славного вельможу князя, правую руку российской царицы, душу и разум великой империи россиян, победителя оттоман, покорителя стран и народов Европы и Азии, устроителя городов и насадителя просвещения, добродетели и правосудия…
Князь отблагодарил и сказал, что рад видеть в Петербурге такую замечательную красавицу, как княжна Изфаганова.
Дербент передал девушке слова его… Она улыбнулась и заговорила более мягким голосом, как-то вкрадчиво и кокетливо щуря свои зеленоватые глазки на богатыря.
Переводчик выслушал и перевел по-русски:
– Гняжна Эмете Изфагань сказывал гнязью: в персидскэм царства замедил все луди, чдо деперь солнца не дакой светлый, как прежде был… Эдо слава герой гнязья Даврическай больше солнца сведлый деперь… Солнца другой места деперь на земла, а гнязья Даврическай первый места.
Князь добродушно рассмеялся восточному комплименту княжны. Он отвечал:
– Моя слава не может затмить ослепительные лучи солнца, а вот прекрасные черты лица и небесные очи, которые я теперь имею счастие зреть, действительно ослепляют и очаровывают сердце. Я пленник и раб княжны Эмете. Пусть она приказывает. Ее желания будут мне повелениями.
Саид-Аль-Рашид-Дербент стал медленно передавать, и красавица, слушавшая с опущенными глазами переводчика, кокетливо, стыдливо вдруг вскинула их на Потемкина и глянула ему в лицо уже не с восточной сдержанностью.
– Шустрый бесенок! – шепнул один сановник соседу.
«Вишь, кошечка какая… Того и гляди, нашего князя цап-царапнет», – подумал остряк генерал.
– Фу-ты ну-ты! Отдай все, да мало… Ангелок персидка! – чуть не сказал вслух один старик сановник, стоя невдалеке от княжны и давно уж любуясь ею во все глаза.
Потемкин между тем спросил, какое дело привело княжну в Россию и в столицу и чем он может служить ей. Дербент начал речь, приготовленную, очевидно, заранее… и начал издалека, чуть не с потопа… Смысл был такой:
«Когда, по воле Аллаха, началась на земле великая распря и мир был потрясен и поколеблен злодеяниями суннитов и подвигами шиитов… тогда некоторый святой муж, пустынник, избранник Божий и последователь Магомета…»
Но князь вдруг прервал речь Дербента и попросил его предложить княжне пройти в кабинет и там объяснить свое дело.
По слову переводчика, все персияне, даже две старухи, двинулись с места, но Потемкин приостановил их и заявил, что достаточно, если княжна с одним переводчиком пройдет к нему.
Княжна тотчас охотно и весело согласилась. Ибрагим что-то пробурчал, но Дербент зарычал на него – и опекун покорился. Потемкин попросил жестом княжну идти вперед и двинулся за ней вслед, а Дербент, важно и с высока своего величия, озираясь на всю публику, зашагал за князем.
Когда все трое скрылись за дверями кабинета, в зале поднялся сдержанный говор. У всех на языке была, конечно, княжна. В группе сановников слышалось восклицание:
– Кошечка! Просто котеночек!
– Какая прелестница – каналья.
– Вон, батюшка, в Персии-то какие девчурочки водятся, хоть в карман сажай! – нежно говорил сенатор.
– А ведь наш князь на нее шибко зарился, – заметил капитан Немцевич.
– Замечательного ума девица. По-русски учится и скоро говорить начнет! – объяснял Баур кучке собравшихся вокруг него лиц.
На этот раз всем чаявшим приема пришлось дожидаться. Княжна просидела в кабинете около часу. Когда, вскоре после ее ухода со светлейшим, сунулся было в кабинет с докладом один адъютант, то мгновенно появился обратно в зале несколько быстрее и с физиономией, как сказывается, «ошпаренного». После этого уж никто не шел в кабинет и всякому вновь прибывшему курьеру советовали обождать и не соваться.
– Надо так полагать, что дело княжны незауряд важное или любопытное для светлейшего! – пошутил генерал-остряк.
Многие ухмылялись, переглядываясь…
Наконец дверь отворилась, князь весело смеялся и, нагибаясь насколько мог, вел гостью под руку… Княжна, несмотря на свои чрезмерно высокие каблуки, все-таки, казалось, вытягивалась и становилась на цыпочки, чтобы подать руку богатырю. Саид-Дербент шагал за ними.
Княжна Эмете, двигаясь чрез залу, произнесла несколько слов с расстановкой по-русски, с трудом выговаривая, но правильно и почти без иноземного акцента.
– Еще надо учить. Много учить! – говорила она, кокетливо заглядывая в лицо нагибавшегося к ней князя. – Я скоро… скоро… Тогда я без Дербент с князь говорить будет сама.
Все слышали слова княжны, и многие удивлялись чистоте произношения.
Светлейший не ограничился тем, чтобы проводить княжну до дверей залы. Он прошел далее… Свита княжны и Баур последовали за ним гурьбой.
К изумлению всех, князь проводил красавицу по всей лестнице до швейцарской и дождался, пока она села в карету и послала ему ручкой поцелуй.
Тогда он двинулся обратно, медленно переступая и тяжело поднимаясь по ступеням лестницы. Он шел усмехаясь и опустив глаза в пол, будто вспоминая или соображая нечто забавное и приятное вместе… На пороге дверей залы он остановился.
– Какова, господа, княжна? – сказал он громко, обращаясь ко всем и не глядя ни на кого в отдельности.
Ближайшие отвечали комплиментами.
– Предрекаю, господа, заранее, что княжна многих у нас в Питере очарует и одурачит. Помяните мое слово…
«Не суди по себе!» – подумали многие в ответ. Князь прошел в кабинет и продолжал прием просителей и докладчиков.
Разумеется, через часа два после разъезда из дворца всех присутствовавших на приеме, вся столица уже знала, как князь принял, час целый беседовал через переводчика и, главное, как проводил до подъезда красавицу княжну.
Вечером многие уже решили, что княжне Эмете не миновать когтей влюбчивого и настойчивого невского Алкивиада.
У Зубова на вечере – гости и друзья его советовали ему взять под свою защиту, от распущенного нрава князя, сироту персиянку.
– Вы сами можете тоже хлопотать по ее делу до правительства, – говорили гости Зубова. – По крайней мере, честь при ней останется. А он ее загубит, ради праздности. Ведь этот срам на нас, на столицу ляжет.
Зубов отговаривался и не хотел вмешиваться, чтобы подливать масла в огонь, т. е. окончательно сломить свои отношения с князем.
– Я ему и не в силах помешать, коли захочет блажить, – говорил Зубов. – Не стеречь же мне эту приезжую княжну. У нее свои опекуны есть, с ней приехали. Им нечего Потемкина бояться.
– Срам будет… До персидского шаха срам на Россию и русских людей дойдет. Да и жаль девочку, сироту круглую! – уговаривали Зубова.
– Там увидим! – уступил наконец хозяин.
Наутро все уже знали подробности о княжне и о том, что князь в нее с приезда влюблен и давно у нее тайно и скрытно на Итальянской сидит до полуночи. Как всегда сочинили… на этот раз выдумка вышла предсказанием.
В тот же вечер князь действительно поехал к княжне Эмете и просидел у нее до одиннадцати часов вечера. Впрочем, князь и не скрывал этого визита. Все могли видеть у подъезда «грузинского дома» экипаж и конвой светлейшего.
Прошла неделя.
По-видимому, князь был действительно быстро очарован и пленен маленькой Эмете. Весь город знал уже, что светлейший иногда далеко за полночь засиживается в «грузинском доме», который теперь стали звать в шутку: «Тавридо-персидский дворец».
Все, лично видевшие княжну Эмете, заявляли и сами сознавались, что, как мимолетная прихоть для влюбчивого человека – интереснее ничего выдумать или требовать было нельзя.
Богатство, знатное происхождение, красота, юность, ум, грация, кокетство и тонкая светская живость, природная, изящная, сдержанная в границах приличия, – все это было в княжне Изфагановой. И если всякий без различия юный молодец гвардеец или придворный не прочь бы был влюбиться и жениться на княжне, то почему пятидесятилетнему Потемкину не увлечься кокеткой, которая, вероятно, из личных выгод, а отчасти и из тщеславия, усердно кокетничает с ним… Да и почем знать расчеты персидской крошки княжны. Как она ни богата, а князь Потемкин богаче… Как она ни знатна там у себя за Каспием, а светлейший еще знатнее и славен на всю Европу и Азию… И он ведь не женат. А холостая жизнь ему, быть может, уже начинает прискучивать… Как раз может жениться, потому что уже давно пора. Холостяки, враги брака, всегда попадаются в сети не ранее сорока и не позже пятидесяти или пятидесяти пяти годов. А князю как раз эти самые года подошли. Почем знать, не сообразила ли и не взвесила ли все эти обстоятельства юная кокетка Эмете? А может ли он, мужчина за пятьдесят лет, понравиться ей, девушке семнадцати… Да ведь он – «знаменитый князь Тавриды», а не простой смертный. Да таким маленьким женщинам, говорят, всегда нравятся преимущественно богатыри, и наоборот – князь-колосс, с косой саженью в плечах, может по той же причине влюбиться в эту миниатюрную девушку.
Он же любит, вдобавок, все восточное – поклонник усердный глаз, бровей и кос цвета воронова крыла, шальвар, ятаганов, гашиша и кальяна… Чем Эмете не «предмет» для князя. И чем персиянка не невеста для старого холостяка.
Так за эту неделю судили ежедневно по гостиным и приемным, на вечерах и балах.
Чтобы не прерывать занятий делами и в то же время видаться с очаровательницей, князь Потемкин стал у нее принимать курьеров и даже назначил, к соблазну многих, вечерний доклад в том же «грузинском доме», где он совсем расположился как у себя. В одной из гостиных был поставлен письменный стол для бумаг и письма, а в другой ожидали докладчики.
Два раза княжна была вечером в гостях у князя, но других гостей не было. Она приезжала совершенно одна, без опекунов и даже без переводчика, так как начала будто бы сносно мараковать по-русски. Этому быстрому чересчур изучению русского языка, разумеется, никто не поверил, так как с приезда княжны в столицу едва прошло три недели.
Сплетники уверяли, что княжна пользовалась в беседах с Потемкиным по-прежнему переводчиком и у себя дома, и у князя в гостях, но что Саид-Аль-Рашида временно отстранили, заменив какой-то старухой армянкой, найденной в столице и поселенной в Таврическом дворце. А эта армянка закуплена князем, чтобы ничего не видеть, что увидит, и ничего не слыхать, что услышит, а главное – не болтать.
– Ну вот, чрез армяшку сладкопевно и беседуют они, – говорили, подсмеиваясь, в столице.
После двух или трех визитов к княжне Потемкин свез к ней однажды и своего виртуоза, о котором вспомнил.
Самозваный маркиз, не вызываемый князем для игры, совсем пропадал по целым дням и ночам из дворца, болтаясь по разным гербергам. Перезнакомившись со многими офицерами, он бывал и в гостях, но играть не мог нигде.
Только однажды, под величайшим секретом, сыграл он в доме богача графа Велемирского – для него и его товарищей.
Князь, поместивший и обставивший музыканта у себя во дворце по-барски и щедро плативший ему жалованье, запретил Морельену играть в чужих людях.
– И вы мой, и музыка ваша моя! – сказал ему князь тотчас после пресловутого концерта.
Князь, конечно, ни слова не сказал тогда музыканту, что его самозванство раскрылось, и виду ему не подал, что взбешен.
«Черт с ним! Пускай ничего не знает и себя маркизом величает. Все в свое время. И ему отплата должка моего будет… А пока пущай его!»
Впрочем, князь был когда-то особенно взбешен – не на самого Шмитгофа, а на Брускова, не оправдавшего его доверия. Так как главный виновник был уже прощен и вернулся в столицу, то на самого виртуоза-самозванца сердиться теперь и подавно не приходилось.
Музыкант был представлен княжне Эмете как француз маркиз Морельен де ла Тур д’Овер, а не как «странный» проходимец неизвестной народности.
После первого же дебюта у персидской княжны музыкант увидел, что он произвел на красавицу Эмете сильное впечатление своей музыкой.
На другой же день, еще в сумерки, княжна прислала своего двоюродного брата Гассана и переводчика Саида в Таврический дворец просить к себе Морельена. Музыкант не посмел отправиться самовольно, и пришлось доложить князю.
Тот же капитан Немцевич пошел с докладом в кабинет и затем разболтал во дворце то, что при этом ему случилось слышать.
Князь, по рассказу капитана, узнав, в чем дело, задумался и долго молчал. «Все причуды!» – вымолвил он будто про себя. «Бабий конь именуется: прихоть, каприз. На нем она с сотворения мира и едет… и валится с него наземь то и дело». Затем, помолчав еще немного, князь вымолвил, как бы обращаясь к капитану: «Влюбится, пожалуй. Ведь он играет божественно. Это надо ему честь отдать…» Князь замолчал, опять задумавшись, а капитан не посмел ничего сказать. «Как тут рассудить. А?» – вдруг спросил наконец князь уже прямо.
Однако, в конце концов, светлейший позволил Морельену ехать, обещаясь быть и сам – раньше обыкновенного.
Виртуоз был очень доволен разрешением. Княжна была так прелестна и так милостива с ним накануне, что ему даже во сне приснилась.
– Charmant enfant. Linda piccolina. Hübsches Kind… Dear little… Pulcra mujer!..[102] – болтал Морельен, надевая весело новое платье – оранжевый камзол и ярко-лиловый шелковый кафтан… Долго провозился артист с буклями своего парика, чтобы придать им живописный беспорядок, а затем долго теребил накрахмаленное кружево на груди, чтобы рюшь и складочки гармонировали с прической.
– Проклятые прачки московитские… – ворчал он по-немецки себе под нос. – То ли дело у нас в Вильне и Варшаве. Варвары! Ничего здесь нет порядочного. Страна снегов, рабов, и больше ничего!
Наконец, разодевшись, раздушившись, уложив свою волшебную скрипку в ящик, Морельен вышел вместе с двумя персиянами, но сел не в их карету, а в свою.
Княжна приняла музыканта особенно милостиво и радостно. Она объяснила Морельену чрез Саида, что всю ночь не спала, потому что все чудились ей волшебные звуки.
Одета была Эмете очень просто, но очень элегантно. Светлое нежно-голубое бирюзовое платье без шитья, без золота или каких-либо украшений. Серый пепельный и легкий, как дымка, вуаль, пришпиленный к кудрявой белокурой головке, – составляли весь ее наряд. Ни единого кольца или какого-либо камушка не блестело на ней…
Но музыканту почему-то показалось, несмотря на простой наряд княжны, так сказать почудилось, что хозяйка занялась собой так же, как и он занимался собой пред выездом к ней.
Эмете была особенно красива.
Голубое бирюзовое платье шло к ней, к ее нежному, светленькому и свеженькому личику, к ее тоже бирюзовым глазам, к ее светлокудрой головке, а серый, цвета золы, вуаль, ниспадавший покровом, придавал что-то особенно чарующее всему лицу… Она казалась еще белее, нежнее, румянец на щеках пылал ярче, обнаженная шея и тело в маленьком вырезе на груди сквозили в этих пепельных волнах тонкого вуаля и казались еще белее за сероватой дымкой кисеи.
Началась музыка… На этот раз виртуоз остался случайно глаз на глаз с княжной. Саид, после первой же сыгранной пьесы, начал отчаянно зевать и попросился уйти. Гассана еще раньше вызвали. Опекун и духовник тоже выехали или уже спали.
Морельен играл и играл… Томный взгляд, милая улыбка, серьезная складочка прелестных алых губок красавицы – все воодушевляло виртуоза. Быть может, на этот раз – и он это чувствовал – он играл лучше, чем когда-либо. И наконец, окончив одну пьесу и взглянув на княжну, виртуоз увидел ее лицо в слезах…
Эмете заговорила тихо и с чувством, но по-своему и как бы себе самой, и Морельен не мог понять ее. Зато все, что говорили прекрасные глаза в слезах, смущенное оживленное лицо, – он хорошо понял. Он видел ясно и то, как Эмете донельзя сконфужена и устыдилась своих невольных слез, как если б они были совершенно неуместные. Яркий румянец стыда покрыл все лицо княжны, когда виртуоз пристально стал смотреть на нее, польщенный этими слезами.
– Не надо это… Но не могу! – произнесла отчетливо Эмете, к изумлению Морельена.
– Вы? По-русски? – произнес он.
– Да. Немного. Много нельзя…
И оба, равно с трудом выражаясь, начали говорить по-русски медленно и односложно. Слов то и дело не хватало ни тому, ни другому. Артист произносил тогда поневоле немецкое слово, княжна какое-нибудь свое, дико звучавшее в ушах его. Они не могли понять друг друга, но затем, при помощи усиленной мимики и жестов, кончили тем, что понимали обоюдно то, что хотели сказать.
Морельен был очарован красотой, ласковостью и простым обхождением княжны. Она смотрела на него иногда так милостиво, что виртуоз начинал смущаться своими собственными помыслами.
Он не знал, что подумать, как объяснить эту ласковость обхождения.
«Говорят, что действие музыки на диких, – подумалось ему, – неотразимое, волшебное. Уверяют, что музыка их, как и змей, может непостижимо очаровывать. А ведь эта княжна полудикая по происхождению и воспитанию. Она никогда, может быть, не слыхала у себя на родине никакого инструмента… Тогда понятно, что она должна перечувствовать в первый раз в жизни при такой игре, какова его…»
Княжна просила сыграть что-нибудь веселое, объяснив жестами… Морельен сыграл тирольский танец и привел ее в иной восторг. Она оживилась…
Наконец появился снова Саид-Аль-Рашид, и при его помощи княжна объяснила Морельену то, что он думал сам, т. е. что она никогда такой музыки не слыхала, благодарит его и просит принять на память от нее подарок…
Она достала кольцо из шкатулки и подала ему: Морельен сначала отказывался, но по ее настоятельной просьбе взял кольцо, поцеловал его и надел на палец, говоря, что всю жизнь будет носить его.
Через несколько минут, хотя было довольно рано, персиянин-лакей доложил о приезде светлейшего.
Князь вошел в гостиную, поздоровался с княжной, кивнул головой виртуозу и глянул на обоих несколько странно, как показалось Морельену. Взгляд князя был и сумрачен и насмешлив вместе.
Он тотчас отпустил музыканта домой, т. е. вежливо выгнал. Но взгляд Эмете, украдкой брошенный виртуозу вслед, был наградой… И Морельен вышел счастливый.
V
Столичный говор о княжне не умолкал. Особенно сильно заговорили о персиянке, когда какой-то банкир рассказал, что княжна громадные деньги положила у него на сохранение и что вообще она, кажется, свой миллион привезла с собою «чистоганом».
Кончилось тем, что петербургский полицмейстер Рылеев счел долгом доложить о приезде персиян и о миллионном чистогане самой государыне. Он подал бумагу, которая гласила, что присутствие персиян в столице «плодит толикие пустые разговоры, от коих подобает предостеречь многих легковерных людей, дабы они тем праздным словам веры не давали и родить пустые толки о миллионе посильно воздерживались, за что по законам, как за вредительное благочинию празднословие яко противники оному строжайше ответствовать могут».
Государыня за последнее время очень недолюбливала «государственных болтунов и пустословов», т. е. людей, сочинявших хотя бы и невинные, но высшего разбора сплетни, т. е. касавшиеся намерений правительства и «статских дел материй».
А то, что пустила теперь молва в Петербурге, была выдумка, касавшаяся «материи статских дел», т. е. имела и политический характер.
Слух о браке персидской княжны с князем Таврическим, ради создания нового государства из христианских и мусульманских племен, был отголоском политических деяний, фокусов и превращений того времени.
Государыня, к удивлению полицмейстера, на этот раз никакой меры к запрещению не указала, а только смеялась, что Григорий Александрыч в зятья к шаху попал и «кабардинским королем объявился».
Рылеев доложил, что он доподлинно узнал, что за княжна такая – эта приезжая. Он опасался, не шайка ли новая картежников и шулеров, подобно тем, что появлялись постоянно в столице с подложными видами, обделывали разных недорослей из дворян, а иногда и сановников, а затем исчезали… Оказалось, что персияне живут мирно и тихо, тратят действительно большие деньги, но документов никаких княжною и свитою не предъявлено «за неимением оных и небытием таковых в ее отечестве».
Полицмейстер прибавлял, что сама княжна Эмете Изфаганова для себя только лично имеет документ, но приложила его к своему прошению на имя князя Григория Александровича и передала ему. А Баур сказывал, что это сущая правда.
– Так чего ж тебе еще! И оставь княжну в покое, коли Григорий Александрыч ее лично знает и видает. Ну, что в городе?..
Полицмейстер, как всегда, по обычаю за много лет, передал государыне все новости столицы – и крупные и мелкие.
Откланиваясь, полицмейстер снова, однако, спросил насчет княжны. Следить ли за ней?
– Князь порукой за персидов!
VI
Скоро у персидской принцессы перебывали почти все. Само же праздное общество создало себе празднословием кумир.
Княжна принимала всех радушно и гостеприимно, кокетливо любезничала с молодежью, еще милее обходилась с пожилыми, очаровывая их тонким лестным смешением бойкого кокетства с почтительным отношением к их годам или отличиям.
– Перецарапала чуть не всех – персидский котеночек! – решил один остряк генерал, таявший больше других перед кокеткой.
Сама княжна не ездила в гости ни к кому, но, несмотря на это, у нее в доме явились и барыни: одни исключительно ради добычи невесты-богачки сынкам, другие, даже и с дочерьми, вследствие одного снедавшего их любопытства. Наконец, третьи явились в «грузинском доме» сами не зная как и зачем… Другие туда едут, как же не заехать…
Наконец однажды княжна заявила, что у нее будет бал, и просила всех сделать ей честь пожаловать…
Начались толки, и пересуды, и колебания… Нашлись барыни, которые в толках о бале заявляли, что поедут только в том случае, если домоседка княжна явится к ним с визитом.
Но княжна по-прежнему не ехала ни к кому и не собиралась ехать.
– Гордячка какая! Скажи на милость! Кто ж это поедет к ней? – говорили барыни. – Еще там о царстве-то Каспийском пока враки одни. Она вот, того и гляди, не в царицы, а в скрипицы попадет, влюбившись в музыканта.
И многие барыни твердо решили не ехать на бал к «гордячке персидке». Но вдруг пробежала молва, что не только князь Таврический будет на бале в числе приглашенных, но все для бала княжны, из любезности, будет дано от него… Лакеи, музыканты, повара, цветы из оранжерей дворца… все будет от князя – даже знаменитый нарышкинский оркестр, оригинальный, единственный не только в России, но и в Европе… Это был хор роговой музыки из рожков разного калибра, изобретенный Нарышкиным и купленный у него князем. Каждый музыкант мог взять на своем рожке только одну ноту, но из них составлялись и исполнялись искусно самые мудреные пьесы и танцы.
Искус великий, и устоять против соблазна кто же может!
– Но почему же она с приезда не была ни у кого? Ведь не из гордости же одной… Ведь она как любезна – у себя. Никакой тени амбиции даже нет. Зачем же она не ездит в гости и не едет приглашать?
Вот вопросы, смущавшие многих.
– Однако если все едут, то и я поеду! – решал всякий. И набралась толпа, из отдельных мнений набралось общественное мнение.
Два дня особое оживление было заметно во дворе и в горницах «грузинского дома». Дом убирался к балу, и подводы с людьми из Таврического дворца запружали двор, и лакеи в ливреях князя Потемкина сновали в горницах.
Княжна Эмете не входила сама ни во что и даже не показывалась из своей маленькой гостиной – все устраивалось в зале и в больших парадных гостиных явившимися дворецкими и лакеями князя под руководством Баура.
Сама княжна хлопотала только о своем туалете при помощи двух горничных – своей персиянки Фатьмы и русской, присланной от князя. Она проработала два дня, собственноручно унизывая свой корсаж многотысячной парюрой из бриллиантов и жемчугов. Эту работу опасно было поручить кому-либо чужому. Тут было целое состояние.
Абдурахим, Дербент, Ибрагим и Гассан ни во что не вмешивались и только дикими очами следили за приготовлениями к балу.
Наконец, на третий день дом ярко осветился. Все окна засияли, освещая улицу, а на подъезде появился в красной с золотом епанче, с громадной булавой известный Питеру швейцар-невшателец. И его дал князь на этот вечер.
Эмете еще одевалась, когда посланный от князя офицер Немцевич прибыл в «грузинский дом» и просил передать княжне от светлейшего на словах вопрос и попросил таковой же ответ.
«Не робеет ли княжна Изфаганова?»
Немцевич передал вопрос Бауру, этот передал его лакею, а лакей русской горничной, приставленной из дворца, которую вызвал из уборной. Горничная передала княжне словесный вопрос.
Княжна задумчиво улыбнулась при этом и велела передать князю:
– Робею шибко, но не за себя…
Скоро начался съезд, и «грузинский дом», роскошно убранный цветами, сиял в огнях. Хозяйка со свитой принимала гостей на пороге из большой гостиной в залу, где попеременно гремели уже два хора музыкантов – то обыкновенный инструментальный, то роговой.
Княжна мило приветствовала всех. Персияне угрюмо и мрачно кланялись из-за нее гостям, как всегда немые и будто озлобленные.
Многие заметили, однако, что сама княжна как-то менее обыкновенного весела, будто немного озабочена чем-то и рассеянна.
В числе гостей явился и красавец граф Велемирский, так как ни один вечер или бал в городе – вообще какое бы то ни было празднество – не обходилось без него.
Теперь он явился без приглашения, и товарищи уговаривали его не ехать на бал.
Велемирский понимал, что дом, а потому и бал персиян такой особенный, что сюда можно ехать без зову. Явясь, он долго любезничал с княжной и заметил тоже озабоченность красавицы. Глаза ее бродили рассеянно и беспокойно по зале.
Когда гостиная и зала уже были полны народом, внизу у подъезда послышался стук колес и вместе с тем топот коней и бряцание оружия…
Это был князь со своим конвоем.
Светлейший вскоре появился на парадной лестнице, сопутствуемый свитой адъютантов и офицеров всех родов оружия.
Он медленной, тяжелой походкой поднялся по ступеням…
Лицо его было особенно оживленно, весело и довольно.
– Молодец… Спасибо… – сказал он, проходя, Бауру, который его встретил один из первых. – Вишь как! Лучше, чем у меня было. А что наша княжна?..
– Слава богу.
– И слава нам! Так ли? – усмехнулся князь весело…
– Слава вашей светлости, – отозвался Баур.
– И тебе, разбойник!
Княжна Эмете двинулась навстречу князю такая же озабоченная, но вдруг просияла. В свите князя глаза ее сразу нашли и увидели виртуоза маркиза…
Его отсутствие на бале смущало ее целый час! Но вот он тут… и она будто ожила.
Княжна, улыбаясь как-то особенно лукаво, низко присела пред князем…
Он взял Эмете за руку и долго держал ее, не выпуская, и заговорил, любезно наклоняясь…
Князь невольно любовался ею. Эмете была чрезвычайно авантажна.
Весь туалет ее был дымчатый опаковый с серебром из матово-белого шелка. На голове было нечто вроде легонькой шапочки, вышитой белым шелком, унизанной крупным жемчугом с серебряным шнуром… Стан был перехвачен тоже белым серебряным поясом. Кроме того, на шапочке, на груди и на руках блестели и искрились бриллианты… Ни одного самоцветного камня не надела Эмете на этот раз. Вся ее фигурка была с головы до пят серовато-белая, серебристая и блестящая ярким алмазным блеском… Только румянец на щеках был розовый, только прелестные глаза заменяли бирюзу, только губки напоминали рубины…
– Один у вас порок, – сказал князь, и лицо его стало чуть-чуть суровее… – Ваше сердце холодно, как лед… Такая холодность чувств прилична бы уроженке северных стран, а не Персии.
Княжна опять промолчала и только опустила глаза и стояла недвижно, будто ожидая, чтобы князь ее отпустил, освободил.
– Однако я вас удерживаю. Пора начинать танцы, – вымолвил быстро Потемкин, будто догадавшись.
Княжна двинулась в залу, он последовал за ней.
Когда князь появился на пороге, грянула музыка и танцы начались.
VII
Едва князь очутился в толпе обступивших его льстецов и ухаживателей и удалился от дверей гостиной, как княжна ловким маневром очутилась в этих дверях и, найдя на пороге артиста, подала ему руку.
– Я очень пужалась, вы не приедет! – выговорила она быстро и взглянула на молодого человека такими глазами, что он невольно смутился…
Это не была только гостеприимная хозяйка, любезно бросающая фразу приветствия… В словах княжны была какая-то фамильярность и было даже чувство. Многие, стоявшие тут же, с любопытством прислушивались. Но княжна, казалось, не замечала никого или не обращала никакого внимания на толпу.
– Я наехал с князь, – отозвался артист на ее любезность, тоже ломаным русским языком.
– Да. Я увидел вас… И очень обрадовал. Послушай. Вы танцевать. Да. Конечно.
– Да-с… Но я не знай… Я боился, много ваш гость дам не хочет мне сделай честь…
– Маркиз Морельен делай честь для русский дам, а не дам для французский дворянин! – любезно отозвалась княжна.
Несколько человек фыркнули и отвернулись.
Молодой человек промолчал и потупился пред княжной.
– Я приглашай вас сама второй менуэт. Послушай… согласна, маркиз?
– Но я невем, княжна, – заговорил, смущаясь, артист… – Добже… Но я у князь Потемкин…
Артист не успел договорить. Около него появилась вдруг высокая фигура князя, и, оттеснив его, светлейший снова заговорил любезно с княжной… Все кругом видели, что княжна Эмете сразу будто разучилась по-русски, отвечала односложно, не то смущаясь, не то досадуя.
Раздалась ритурнель менуэта, и граф Велемирский подошел к княжне и поклонился.
Князь с изумлением взглянул на офицера. Он хорошо знал его и даже покровительствовал ему вследствие того, что тот был родственником мужа графини Браницкой.
Лицо князя омрачилось при виде этого офицера, известного в Петербурге волокиты. Он уже подавал руку княжне, чтобы вести ее на место…
Князь двинулся и тихо вымолвил голосом, в котором была строгость:
– Велемирский! На два слова…
Граф, заметивший выражение лица и голоса князя, несколько робко подошел к нему.
– Зачем ты здесь? Кто тебя пригласил?
– Никто, – совершенно смутившись, прошептал офицер, и лицо его пошло пятнами. – Я полагал…
И офицер смолк, не зная, что сказать…
– Ступай. Уезжай отсюда и нимало не медля… – строго выговорил князь.
– Но как же менуэт? Я пригласил…
– Пустое.
И князь прибавил громче, обращаясь к княжне, которая стояла в двух шагах и с совершенно изумленным лицом смотрела на князя:
– Княжна, вы извините графа. Ему надо домой ехать сию минуту… Ступай! – обернулся князь к офицеру.
Несмотря на то что эта сцена произошла быстро и князь говорил тихо и осторожно, но так как общее внимание было обращено на него, то иные все слышали, а другие видели и догадались…
Офицер почтительно, но с явным негодованием в лице вышел из залы и быстрой походкой взволнованного человека двинулся чрез ряд гостиных к лестнице.
Князь подошел к Эмете, все еще изумленной.
– Зачем вы прогнали графа? – вымолвила она беспокойно.
– Это нелюбопытно знать! – гневно сказал князь, подал ей руку и стал с ней среди пар, готовых начинать менуэт. В то же время взор его бродил в зале, отыскивая кого-то. Менуэт начался… Все глаза были обращены на танцующето князя. Все были изумлены… Нетанцующие осторожно перешептывались.
– Видели? Какова?
– Вот врезался-то.
– Каково! Прогнал…
– Это уж что-то по-турецки. Может, он этак на балах в Измаиле или Очакове после штурмов с пленницами привык танцевать. Кавалера вон, а сам на его место.
– Ну, жди, судари мои, чего диковинного в скором времени. Этакое так просто не сойдет.
Шепот и злоязычие длилось всю первую фигуру.
Кончив фигуру, князь подозвал молодого кирасира, нетанцевавшего и которого он даже не знал по имени:
– Выручи, голубчик. Кончай за меня. Не за свое дело взялся. Стар… Простите, княжна… Вот вам кавалер.
Кирасир, довольный и польщенный, стал на место князя, а светлейший отошел в толпу глядевших на танцы.
Шепот прекратился, и ближайшие к князю обратились к нему с комплиментами.
– Где мне! Стар. Прежде умел не хуже нынешней молодежи.
Между тем на лестнице взбешенный граф Велемирский повстречал Баура, которого хорошо знал, и стал горячо жаловаться на поступок с ним князя.
– Здесь все незваные. Здесь ведь бывает всякий народ.
– Полно, граф. Не стоит горячиться. Уезжайте. Этак лучше. Право, – говорил Баур.
– Что ж он? В самом деле, что ли, разум от персидки потерял?
– Полно. Пустое.
– Да разве это не ревность?
– Ну вот еще… Поезжайте домой! – усмехнулся Баур. – Я и сам жалею, что вас не видал прежде князя, а то бы тоже не апробовал вашего приезда. Полно горячиться… Уезжайте. Ну, прогнал – эка важность. Завтра где отпляшете вволю.
И Баур, успокоив офицера, проводил его до лестницы и, вернувшись, пошел по гостиным поглядеть, все ли в порядке. Обойдя все гостиные, где прохаживались гости, он заглянул и в залу.
Князь стоял на пороге один, увидел любимца и подозвал его.
– А гляди-ка! Гляди! – мотнул он головой. – Говорили, мало будет народу. Не поедут… Небось!..
– Да-с. Много, – отозвался Баур. – Я даже, признаюсь, не ожидал такого многолюдства…
– Нет, а ты скажи, какова наша княжна! – вдруг воскликнул Потемкин. – Ведь просто алмаз. Ты посмотри, как красива в этом сереньком покрывале. Какое лицо… Какие глаза… Как танцует! Как принимает и любезничает со всеми. Как русские слова говорит, которые только вчера выучила. А?..
Князь весело расхохотался.
Бал все оживлялся. Всюду все нетанцующие тоже весело двигались и без умолку пересмеивались. Видно было, что помимо танцев было что-то оживлявшее толпу.
Было злорадство. Они приехали сюда, уступив любопытству и унизив немного свою гордость. Надо было отомстить злоязычьем и хозяйке и ее патрону, этому гордецу.
А злорадствовать было отчего. Во время второго менуэта князь не спускал глаз с красавицы персиянки, и лицо его было угрюмо… И этого мало. Он не дождался не только конца бала, который сам устроил, но не дождался даже конца этого менуэта и уехал…
Какая была этому причина?!
Толпа гостей поняла все… Князь был взбешен.
Этот второй менуэт княжна Эмете танцевала с проходимцем музыкантом, которого он же, по неразумию, привез с собой, вероятно, лишь в качестве зрителя. И вдруг музыкант оказался кавалером княжны. Но этого мало. Персиянка, по наивности и малому воспитанию, выдала себя с головой. Кто видел этот менуэт, видел ее танцующею с красивым артистом, тот ясно понял, что персидская принцесса ни больше ни меньше как без ума влюблена в музыканта.
И все гости видели это… И сам артист, казалось, был изумлен и смущен обхождением красавицы.
И светлейший Таврический, старый волокита, видно, хорошо все понял, потому что не выдержал и ускакал.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – говорили, смеясь, повсюду.
– Вот тебе и персидочка!.. Кого предпочла вельможе-временщику.
– Ай да Изфаганова! Молодец котеночек!
Гости, однако, начали разъезжаться и разъехались очень рано. Любопытство было удовлетворено. Двойной скандал с Велемирским и с музыкантом все видели. Хозяйку и князя за гостеприимство растерзали… Больше же делать было нечего. А все остальное было нелюбопытно.
В час ночи «грузинский дом» уже опустел.
VIII
После бала у княжны и ее поведения с маркизом не оставалось сомнения, что Эмете неравнодушна к артисту. Не только сам Морельен-Шмитгоф должен был поневоле думать это, но даже в столице начались толки, что князю что-то не везет за последнее время. Проходимец нарядил его в шуты, сначала выдав себя за француза и заставив князя поверить, что он аристократ и эмигрант, а затем, теперь, отбив у него «предмет».
Все бывшие на бале видели, как «прелестный котеночек» недвусмысленно обращался с музыкантом и как угрюмый князь волновался, очевидно ревнуя.
Какая пропасть лежит между ним, могущественным вельможей, и безвестным скрипачом-проходимцем! Они оба стоят на двух крайних ступенях длинной и мудреной лестницы общественной иерархии… Один – превыше всех и всего, а другой – нищий, без роду и племени… А вот в деле получения пальмы первенства от женщины, в деле суда женского, искреннего и влюбчивого сердца – могущественный Потемкин проиграл и должен уступить красивому и талантливому артисту. Могуществу временщика есть предел – сердце красавицы, недоступное честолюбию.
Так толковали, ликуя, многочисленные враги князя и, всячески превознося княжну, заезжали к ней в гости, сидели до сумерок, объясняясь отчасти чрез Саида, отчасти прямо с ней самой, так как с каждым днем Эмете начала все легче и лучше объясняться по-русски.
В столице знали теперь, что делалось в «грузинском доме», знали, что самозванец маркиз стал бывать почти ежедневно у красавицы Эмете, но тайно от князя.
Виртуоз не ограничивался днем и не ограничивался только игрой у княжны. Он бывал и вечером, засиживался поздно, а скрипка его оставалась иногда дома. Он просто проводил время в беседах с красавицей и уже всегда без помощи Саида, так как оба, и она и он, усердно учились по-русски. Маркиз делал успехи огромные и, достав себе настоящего учителя, начал даже учиться читать и писать, чтобы скорее осилить российскую грамоту. Знание польского языка значительно облегчало учение. Что касается княжны, то она делала успехи поистине невероятные и уже почти свободно объяснялась с своим любезным.
Все шло быстро… с неимоверной быстротой, точно в арабской сказке. Недаром героиня была Адидже-Халиль-Эмете…
Не прошло десяти недель с бала у княжны, как и она и виртуоз беседовали свободно по-русски, изъясняя друг другу далеко не двусмысленно взаимные чувства.
Красавица персиянка, вероятно, вследствие простоты полученного бесхитростного воспитания, вела себя прямее, откровеннее и решительнее невских красавиц… Она намекала, что свободна как ветер, независима как сирота, самостоятельна настолько, что одни лишь свои личные мечты для нее указ и закон, а богата настолько, что всякую мечту может привести в исполнение помимо всего и вопреки всем.
Маркиз, наоборот, будто переродился и из легкомысленного и веселого артиста стал осторожным, стал даже озабочен и задумчив.
Причина этой перемены была простая. Он был как бы испуган чрезмерным счастливым, невероятным поворотом колеса Фортуны. Давно ли он голодал и не имел полного приличного платья, чтобы идти играть где-либо на вечере за скудную плату. И вдруг он в Петербурге, в Таврическом дворце, сыт, обут, одет, с карманами, наполненными золотом, которого положительно девать некуда. А затем тотчас же колесо Фортуны поворачивается опять и опять… Он встречает красавицу девушку, знатную и богатую, сходится с ней… сначала принимает ее милостивое обращение за дань его таланту, но вдруг видит, что она его любит! Да, любит страстно! Но все это может внезапно и мгновенно рассеяться как дым, исчезнуть как сон в минуту пробуждения. А какая это ужасная минута, чтобы ее пережить! И что-то шептало артисту на ухо – не отдаваться поспешно и опрометчиво обманчивым сновидениям и мечтам…
– Она меня любит – нет сомнения, – думал и говорил артист, волнуясь, у себя в горнице. – Но кого она полюбила во мне?
И музыкант иногда с отчаянием в душе восклицал:
– Она любит все-таки маркиза Морельена де ла Тур д’Овера. И когда я упаду к ногам ее и признаюсь, исповедуюсь… Что будет?.. Что совершится?.. Да, я чувствую, что я этого не переживу; моя голова, мое сердце – не вынесут такого поворота колеса Фортуны. Иметь все и все потерять! Я с ума сойду. Я слишком глубоко и сильно чувствую. А все-таки надо, рано или поздно, сказаться. А как ей признаться, что я бедный простой мещанин, без гроша, без роду, даже без родины, что я не знаю того, что знает последний холоп русский, не знаю, где я родился. Говорить ли это? Когда? Как…
И артист видел, что он никогда не решится на этот шаг, разве только, когда увидит ясно, что ей жить без него стало невозможно и немыслимо. А пока она только увлечена им. Сильно, искренно… Но все-таки это еще не пылкая, безумная страсть, которой нет преград.
IX
Легкомысленный, вечно веселый дотоле артист становился с каждым днем все сумрачнее, по мере того как прелестная княжна, очаровывая его, сердечно и наивно, хотя все-таки не прямо, а намеками, выказывала ему свое увлечение. Сначала в самозваном маркизе заговорила только алчность.
Его соблазнили средства княжны, ее обстановка, куча денег, которую она тратила на туалеты и на всякий вздор. Эта масса, наконец, бриллиантов и вещей, которая появлялась на ней… На бале все видели и ахали от ее жемчугов и бриллиантов, а между тем у нее было еще полдюжины всяких парюр из рубинов, изумрудов. Он даже видел целую коллекцию бирюзовых украшений с алмазами, от шпилек в голову и до пряжек на башмаки из такой пары бирюзы, которая одна стоила до тысячи рублей.
Этот блеск обстановки ослепил и привлек проходимца, как манит серенькую бабочку огонь, ярко сверкающий среди мрака темной ночи. Но около этого огня, помимо ослепительного блеска, есть и заманчивое тепло, которого, быть может, и ищет ночная бабочка, не ведающая лучей солнца. Этот проходимец, как одаренный от природы художник, у которого была все-таки чистая и чуткая к прекрасному душа, пылкое сердце, полное порою высоких стремлений и благородных порывов, скоро отнесся к любящему его существу совершенно иначе.
Он скоро перестал думать о самоцветных парюрах и бриллиантах знатной персиянки и видел в ней только девушку, прелестную лицом, чувствительную сердцем, остроумную в беседе.
Были минуты, и артист сознавался себе самому – и был горд этим сознанием, – что если наутро он узнает, что персидская принцесса самозванка, или если окажется, что она разорена, нищая, без приюта… то он предложит ей разделить с ним его холодную горницу в Вильно, его необеспеченный кусок хлеба, добываемый мало кому нужным трудом… Потому что он любит ее… Да, любит страстно – не за бриллианты ее… а за эти проникающие в сердце бирюзовые глазки, эту простодушную улыбку пухленьких пунцовых губок и грациозно мягкие движения котенка.
Вскоре и совершенно неожиданно для артиста произошло объяснение.
Он сидел, по обыкновению, у княжны, и было уже поздно. Эмете была скучна на этот раз и малоразговорчива, и наконец, когда артист напомнил, что уже скоро полночь, и, встав, начал собираться домой, – красавица насмешливо и раздражительно вымолвила:
– Да, пора… Вообще пора… и мне пора домой.
Музыкант изумленно поглядел на нее, его удивил оттенок досады в голосе ее, а равно и слова, которых он не понял.
– Домой? вам? – вымолвил Шмитгоф, стоя пред ней.
– Да. Не вечно же я буду здесь в Петербурге. Дело мое, говорил вчера князь, чрез три дня будет решено – и я могу ехать к себе на родину.
Артист стоял как громом пораженный…
Такое простое обстоятельство еще ни разу ему не приходило на ум.
– Что с вами? – спросила Эмете.
– Я не думал никогда об этом, – сознался он. – Мне не приходило на ум, что вы можете вдруг уехать и я никогда вас более не увижу.
– От вас зависит… – едва слышно произнесла Эмете и отвернулась от него как бы в досаде.
Наступило молчание…
– Но зачем вам ехать?.. – вымолвил он наконец. – Отчего не жить здесь? Ну, хоть до зимы… Вы свободны…
– Гассан не хочет. Он хочет скорее венчаться.
– Но вы сто раз говорили мне, – воскликнул вдруг артист горячо, – что вы его не любите и не пойдете за него!
– Да… Если найдется другой, который меня полюбит и которого я полюблю.
– И такого нет?.. – нерешительно произнес он.
– Которого я люблю? Есть. Но он… Я не знаю…
Наступило опять молчание… Княжна будто ждала и ожидала помощи, но артист, взволнованный, тяжело дышал и молчал, опустив глаза в пол.
– Я не знаю, любит ли меня тот, за которого я бы пошла? Он ни разу не сказал мне этого прямо. Почему? Бог его знает…
Артист упорно молчал. Эмете продолжала решительнее:
– Я могу думать, что он меня любит. Но он молчит. Вот… Вот и теперь молчит… Что же мне делать? Уезжать, конечно, и выходить замуж за Гассана…
– Он молчит, потому что он боится этого признания, – выговорил чрез силу Шмитгоф. – Он может признанием сразу все потерять…
– Я не понимаю…
– Скажите мне: кого вы любите?.. – произнес вдруг артист, наступая на сидящую Эмете как бы с угрозой.
– Кого? Зачем эта странная игра в слова. Вы знаете…
– Скажите мне имя человека, которого вы полюбили… Скажите мне его титул, его положение в обществе…
– Имя его простое, как и происхождение… А положение его самое скромное и самое блестящее вместе: он замечательный музыкант…
– Его имя?.. Его имя? – почти закричал артист. – Его имя для вас маркиз Морельен де ла Тур… Понимаете ли вы меня! – кричал молодой человек с отчаянием в голосе.
– Вы ошибаетесь, я люблю другого, а не маркиза Морельена, – серьезно говорила княжна, вскидывая опущенные глаза и глядя артисту прямо в лицо.
Он стоял пред ней как истукан, глядел на нее, но почти не видел от тревоги на сердце.
– Я люблю музыканта-скрипача, неведомого происхождения, которого имя Шмитгоф, – тихо проговорила княжна.
Молодой человек вскрикнул, бросился пред ней на колени и схватил ее за руки.
– Что вы сказали? Что вы сказали?
Она молчала и не двигалась. Он прильнул губами к ее рукам и, не произнося ни слова, целовал их.
Княжна снова заговорила первая и передала ему, что она на другой же день после бала узнала все. Ее гости рассказали и предупредили ее, кто он. А князь из ревности подтвердил тоже, что музыкант не француз, а безвестной национальности и не только не маркиз, но даже и не дворянин.
– И вы все-таки любите меня, зная правду… – воскликнул он. – И согласны быть моею, стать простой мещанкой?
– Мы и дворянство и титул купим!.. Но чего нельзя купить ни за какие деньги, то у вас есть…
– Что?.. У меня ничего нет… – вскрикнул артист, все еще боясь рокового недоразумения…
– Молодость, красота и искусство! – нежно произнесла княжна, наклоняясь над ним…
Молодой человек, в порыве увлечения, обнял миниатюрный стан красавицы, привлек к себе ее лицо и хотел поцеловать.
Княжна быстро отшатнулась:
– Нет! Нет… Этого никогда… Пока я не буду вашей женой, я не могу позволить целовать себя… Это не обычай… у нас.
Он выпустил ее из рук и восторженно воскликнул:
– Моей женой! Скажите слово, и вы будете ею завтра. Сегодня… Сейчас…
– Да… Но наша свадьба – мудреное дело.
– Отчего?
– Мы в чужом краю… Здесь, в этом городе, есть могущественный человек, который может, если захочет, погубить нас обоих, уничтожить. Он всевластен столько же, сколько жесток.
– Князь?
– Конечно. Кто же?.. Неужели вы не догадались? И неужели вы не знаете его? Он на все способен.
– Что же делать… Уезжать. Скорее… Или вместе, или врозь в разные стороны. И съехаться опять на границе, там, у Каспийского моря.
– Да. Но прежде всего мы должны все-таки здесь же обвенчаться по обряду вашей религии, так как ваших церквей нигде нет, кроме Петербурга, ни в России, ни в Персии. А по обряду моей веры меня мой духовник обвенчает беспрекословно всегда и везде.
И княжна объяснила Шмитгофу, что он не может ехать за ней, не будучи с ней обвенчан заранее.
– Ступайте к пастору и переговорите с ним. Но главное – тайна! Иначе мы наживем много хлопот с князем. Он упрямец и бессердечный человек…
Княжна долго и подробно объясняла, как надо поступить, чтобы брак совершился втайне и обошелся без несчастия.
Перетолковав обо всем, заговорившись далеко за полночь, они наконец расстались.
Шмитгоф вышел от княжны опьяненный от счастья… Ему не верилось.
Вернувшись домой, он всю остальную ночь просидел, не раздеваясь и сумасшествуя… Два раза доставал он свою скрипку и начинал страстно целовать ее. И глаза его были влажны: в них стояли слезы упоения.
X
Княжна Эмете была права, говоря, что ее брак – дело мудреное.
На другой день Шмитгоф отправился к своему пастору и объяснил ему все дело. Старик священник, расспросив все, объявил, что постановления церкви не дозволяют ему венчать магометанку с христианином и что княжна необходимо должна прежде креститься… Музыкант был поражен открытием, но понял, что священник прав. Когда он вернулся к княжне с ответом пастора, она призадумалась и была, видимо, поражена.
– Я не знаю, что делать! – произнесла она наконец. – Надо подумать…
– Надо креститься в мою веру, – сказал он робко и нерешительно.
– Никогда! – промолвила княжна.
– Другого исхода нет…
– Переходите в мою… – как вызов бросила она эти слова, упорно глядя в лицо его и будто говоря глазами: «Будешь ты способен на такую низость или нет?»
– Я вас люблю… Страстно… безумно… – начал молодой человек.
– Но веры для меня своей не покинете…
– Нет! – прошептал через силу артист, будто боясь этих слов.
– За такие чувства я вас и полюбила! Да… Каждый из нас останется в своей религии… Поезжайте к вашему пастору и скажите, что за наше венчание он получит десять тысяч! Не согласится – обещайте двадцать и более. Другого средства нет.
Шмитгоф через час уже был снова у пастора, но не застал его дома… Вечером он опять отправился и тоже не застал, но заезжавший домой священник просил его через лакея приехать наутро.
Утром все уладилось… Деньги, т. е. целое состояние, соблазнили, видно, старика. Он согласился венчать за двадцать пять тысяч, но с двумя условиями. Первое: уплата денег перед венчанием, и второе: обязательство соблюсти полную тайну со стороны венчающихся.
Последнее условие было не только выполнимое, но даже необходимое самим жениху с невестой из боязни мести князя.
Шмитгоф имел, однако, неосторожность рассказать тотчас пастору, насколько им самим нужна тайна из-за князя Потемкина, и старик, старожил Петербурга, призадумался…
– Может вместо вас достаться мне… когда вы будете далеко, вне его власти.
Шмитгоф понемногу уверил, однако, старика, что князь и не узнает, что он и Эмете были обвенчаны, так как они тотчас уедут в Персию.
Пастор смущался и колебался, но, однако, согласился окончательно.
И в то же утро Шмитгоф обрадовал невесту согласием священника… Она же объявила ему, что переговорила уже с Абдурахимом, который очень обрадовался ее сообщению, так как не любит Гассана.
На следующий день пастор неожиданно прислал за Шмитгофом, прося к себе по важному делу. Артист, чуя беду, поскакал и с первых же слов старика пришел в отчаяние.
Пастор объяснил, что посвятил предыдущий день на расспросы в городе, и, узнав много нового, отказывался наотрез. Ему рассказали все… Друзья из русских объяснили ему, что с князем шутить нельзя, хотя бы и иностранцу… А тем более и легче можно себя погубить, – прибавил пастор от себя, – что и деяние будет противное законам церкви. Если б княжна была христианкой, то он еще решился бы и в случае преследований со стороны Потемкина уехал бы на родину, где мог бы поселиться. Но совершать незаконное деяние в таких обстоятельствах немыслимо.
– Меня отрешат, лишат сана и сошлют, – сказал он. – Если же она крестится, то я буду прав пред моим духовным начальством и могу жить на родине.
Шмитгоф вернулся к невесте и объявил ей новость… Княжна долго молчала, закрыв лицо руками.
Вечером, когда уезжавший Шмитгоф снова был у нее, она встретила его словами:
– Поезжайте завтра – скажите пастору, что я крещусь… Перехожу в вашу веру…
Шмитгоф вскрикнул…
– Да. Я люблю вас, другого исхода нет. Но пусть все это будет в один день, зараз. Это мое условие непременное. Я надеюсь, что теперь он может согласиться.
На другое утро Шмитгоф снова поехал к пастору и сиял от счастия, но приехал к княжне вне себя от отчаяния. Пастор все-таки наотрез отказывался.
– Отчего? – воскликнула княжна.
– Боится. Он опять собирал по городу всякие слухи. Все уверяли его, что князь настолько влюблен в вас, что в его гневе и мщении не будет предела жестокости… Пастор согласится только в том случае, если будет разрешение императрицы.
– Он безумный! Разве я могу? Разве это условие?.. Через кого же мы будем просить царицу… Да наконец… Это невозможно…
И они просидели целый час в унынии.
– Вы согласились перейти в мою веру… – сказал наконец Шмитгоф. – Я делаю ту же уступку. Я перехожу в магометанство. Нам достаточно венчаться по обряду вашей веры у Абдурахима.
Княжна потрясла кудрявой головкой.
– Этим все препятствия устраняются, – сказал артист.
Княжна усмехнулась коварно и презрительно…
Шмитгофа кольнуло.
– Христианин не может и не должен переходить в нашу веру… У меня на родине таких презирают. Все это вздор! А вот что не вздор. Вы завтра же поедете просить заступничества у единственного в Петербурге человека, который не побоится князя. К Зубову! Если он прикажет пастору, тот согласится.
Шмитгоф подпрыгнул от радости.
– Да! Да! Да!
Через два дня Шмитгоф рано утром был у Зубова.
Заявив лакею, что у него есть дело до господина Зубова, о котором ему уже говорено было, он велел доложить о себе.
– Как ваша фамилия? – спросил лакей и озадачил прибывшего.
Под каким же именем явиться к Зубову? Как назваться? Вот что озадачило артиста. Он является просить о деле, от которого зависит вся его жизнь. Уместно ли тут продолжать комедию самозванства? Тем более неуместно, если княжна знает давно правду… от самого князя, то, стало быть, весь Петербург знает правду. Потемкин, неизвестно зачем, продолжает играть роль обманутого и все зовет его – маркизом Морельеном. Но ведь Зубов и не слыхал его настоящей фамилии и может отказать неизвестному лицу.
Молодой человек запнулся на минуту и велел наконец доложить…
– Приезжий из-за границы скрипач, живущий у князя Таврического.
Зубов удивился его появлению и, догадавшись, что это – пресловутый французский эмигрант, заинтересовался.
«Что такое? – подумал он. – Князь его прогнал! Хочет ко мне наниматься. Что ж. Только уж с уговором возьму – не под титулом маркиза».
И Зубов велел ввести скрипача.
Шмитгоф, смущаясь от предстоящего объяснения и просьбы, нетвердыми шагами вошел в кабинет. Но ласковость Зубова и добродушно-веселый, хотя отчасти насмешливый тон, с которым он принял музыканта, несколько ободрили его.
Он стал передавать дело подробно… Зубов не перебивал и слушал его с видимым любопытством. О княжне, ее красоте и состоянии он слышал много раз от друзей и знакомых. О том, что князь влюблен в персиянку, говорилось повсюду. Интересуясь всем, что касалось до Потемкина, Зубов давно подсылал своих доверенных в «грузинский дом» разузнать всю подноготную. Но они, конечно, попались в сети еще более. И в результате Зубов узнал об Эмете только то именно, что она пожелала. Выслушав теперь подробное объяснение музыканта, Зубов, видимо, был доволен.
– Я рад вам помочь. Всячески. Но что же я могу? – спросил тот музыканта.
Тот передал подробно свои переговоры с пастором и его боязнь мести князя.
– Только-то…
– Только… Но все в этом… Все наше несчастье. Если ваше превосходительство за нас скажете пастору одно слово, обещаете заступничество ваше – он не побоится.
– В таком случае поздравляю вас с вашей свадьбой… Обождите здесь в приемной. Я сейчас пошлю курьера за вашим пастором.
Шмитгоф вышел в соседнюю горницу и вскоре увидел, как курьер тройкой в дрожках проскакал к Невскому проспекту.
Пока артист дожидался, флигель-адъютант послал за своим братом, полковником Николаем Зубовым, и, смеясь, объяснил ему казус с Потемкиным.
Артист между тем радовался придуманному княжной средству выйти из затруднения и нетерпеливо глядел в окно.
Наконец появилась тройка в дрожках, и около курьера сидел пастор. Старика провели к Зубову.
Не скоро, однако, вызвал Зубов артиста, а когда позвал, то объявил ему, смеясь и показывая на пастора:
– Ну-с, господин Шмитгоф, дело уладится, если княжна согласится иметь в качестве свидетеля при крещении одного офицера, присутствие которого требует господин пастор ради своей безопасности. Стало быть, все зависит от княжны, ее согласия принять якобы в крестные этого офицера.
– Кого же?
– Господина Платона Зубова.
– Помилуйте… Это такая честь! – воскликнул артист, сияя от восторга.
– Ну вот, поезжайте и скажите княжне. И если она согласна – вы пришлите меня уведомить, когда будут ее крестины и ваше венчание. Я готов изображать и крестного и посаженого.
XI
Любезность Зубова разрубила гордиев узел, т. е. устраняла все затруднения.
Однако не все были счастливы и довольны.
Старик пастор тревожно думал и обдумывал все последствия.
Друзья напугали пастора, что он случайно попал между двух огней. Были случаи такой борьбы не раз и свежи в их памяти…
Пастор многое сам понимал и передумывал теперь и чувствовал, что у него все-таки кошки на сердце скребут. Сначала он хотел тайно и скрытно обвенчать влюбленную парочку и, получив крупную сумму, тотчас уехать подальше, а теперь, с этим сильным якобы покровителем, будет, пожалуй, беда и Зубову и ему!..
Известие, привезенное княжне Шмитгофом, что, по настоянию робкого пастора, сам Зубов будет присутствовать при ее крещении и венчании, привело Эмете в восторг. Точно будто ей только этого и хотелось…
Она запрыгала как ребенок и захлопала в ладоши. Она не утерпела и тотчас выбежала к себе в спальню, где сидела и кроила платье ее горничная Параша.
– Зубов, Зубов будет! – воскликнула княжна.
Параша вскочила с места.
– Где? Здесь?
– Нет. В церкви свидетелем…
Эмете объяснилась, и Параша тоже просияла.
– Пастора так напугали в городе князем, что без присутствия Зубова на свадьбе не соглашается венчать меня.
И, оставив радостную Парашу одну, княжна выбежала назад к жениху.
Горничная отпросилась выйти со двора у Фатьмы и через полчаса была уже на пути к Таврическому дворцу, где, по приходе, долго таинственно совещалась с братом – лакеем Дмитрием.
Отпуская сестру обратно, Дмитрий сказал шутя:
– Ну, прощай, Паранька. Скоро, стало быть, твоей службе конец. Князь слово сдержит. Выходит, тебя можно хоть сейчас уж и с лихим женихом, и со здоровым приданым поздравить.
В тот же вечер у князя был Баур, и между ними шло совещание.
Князь сидел задумчив, но с более ясным лицом и более веселый, нежели был за весь день.
– Еще он сказывал, что приличнее и желательнее было бы, если бы не в самом храме шум был. Говорит, зачем князь не хочет раньше помешать, еще на дому, когда он с женихом соберется…
– Зазнался! – кратко промолвил князь и прибавил: – Не его это дело. Зубов-то поедет прямо в храм, а не на дом. Ну, его пустобрешества мне слушать нечего. Ты лучше подумай-ка вот да скажи: кого же?
– Я не знаю, отчего вы Немцевича бракуете? Он усердный.
– Толстая он индюшка! – отозвался князь. – Его только за рагат-лукумом в Москву гонять можно. За прошлый раз пробарабанил поясницей тысячу двести верст до Белокаменной и обратно, ну жиру с него и сняло малость. Бодрей стал. А где же его на этакое дело главным посылать?
– Меня, сказываю, пошлите командиром.
– Сказал – не хочу. Неподходящий ты. Да и зачем тебе Зубову идти в bete noir[103].
Баур помолчал и воскликнул:
– Брускова… Вот кого…
– И да и нет… – отозвался князь. – А где он, шельма?
– Сидит у невесты. У Саблуковых. Да невесел, горюет, что ваше расположение потерял. И свадьба его не на радость.
– Не надувай. Спасибо еще, что из Шлюшина ради девочки выпустил. Ну, да вот что… Я его обещал совсем простить, коли мое дело выгорит… Возьми его опять и наряди тоже в поход. Но главнокомандующим и его нельзя… Робок и не сметлив. Тут нужен хват!
Наступило молчание.
– Стой! Готово! – вскрикнул князь. – Нашел: Велемирский!
– Да, это, пожалуй, лучше всего! – весело сказал Баур. – Хорошо надумали, Григорий Александрыч. И вам преданный человек, и голова отчаянная. Лишь бы не пересолил только. Поранит кого! – рассмеялся Баур.
– Свиту княжны все равно надо по домам распускать.
На другой день граф Велемирский, вызванный к Потемкину, сидел у него и слушал объяснение предприятия князя относительно княжны Эмете.
Наконец Потемкин кончил и сказал:
– Ну, могу я на тебя положиться?
– Я так виноват перед вами, ваша светлость, – ответил граф, – за прошлый случай на бале, что готов хоть на луну лезть для вас… Вы поступили со мной как родной…
– Вот то-то, вы, молодежь. А небось как злился на меня, что я тебя отогнал от дамы и прогнал с бала. Только, чур, исполнишь ли ты указ мой? Никому ни слова, что знаешь.
– Свято исполню.
– Ну, ладно. А теперь я одного опасаюсь. Баур говорит, коли ты распалишься, то начудишь… Не убей кого в сумятице…
– Будьте спокойны. Зачем, – рассмеялся граф. – Это от них будет зависеть… От их строптивости.
Наконец однажды к Зубову явился в полдень переводчик княжны, Саид-Аль-Рашид, и, принятый им, объяснил ему своим диким русским языком, что завтра ввечеру, в восемь часов, известные ему лица поедут в церковь венчаться.
Зубов приказал двум офицерам к вечеру приготовиться, чтобы сопровождать его в «некую забавную поездку» в качестве адъютантов.
Он не думал о церкви, крестинах и венчании княжны, хотя его интересовало видеть очень хорошенькую женщину, судя по единогласному отзыву всех, ее видавших. Зубова занимала и забавляла иная мысль. Он воображал себе князя, получающего известие о браке княжны, о том, что она уже даже не невеста, а молодая жена… И чья же? Того же цыгана, жида или венгерца, который его уже раз одурачил на весь город, а теперь одурачит еще больнее.
«Но хороша, однако, и княжна эта, – думал он, – выходящая замуж за безродного пройдоху скрипача. Сомнительная княжна… Может быть, тоже из цыган!»
Мысли о княжне, которую все признавали за красавицу и кокетку, привели молодого человека к мысли: «Не поехать ли к ней? Поглядеть, познакомиться. Ведь даже неловко ехать на свадьбу, ни разу не видав ее!» – решил он.
А в это самое время, час в час, у князя, среди комнаты, стояло в сборе несколько человек офицеров, из коих трое в первый раз переступили порог частных апартаментов князя.
Все его ожидали.
Тут был, между прочим, и Брусков, довольный, счастливый, прощенный князем и принятый вновь на службу с условием отличиться в этот день. В чем – он не знал еще.
После всех явился граф Велемирский, веселый, сияющий, и оглянул команду, которую ему поручал князь.
– Известно им? – спросил он Баура.
– Нет. Князь объяснит сам… А вы готовы?
– Готов… Вот что? Пистолеты брать с собой?
– Уж не знаю, – усмехнулся Баур. – Полагаю, что князь не позволит брать. Зачем?
Офицеры, услыхав беседу, стали переглядываться и коситься на графа и Баура. Больше всех смутились Немцевич и Брусков. Новички еще могли желать отличиться ради князя и сразу выйти в люди, т. е. поступить во дворец на службу.
Брусков боялся вообще таких положений, где пускается в ход оружие, и сумел даже в войну на Дунае очутиться делопроизводителем в канцелярии.
Наконец появился князь, оглянул всех и вымолвил:
– Ну, судари молодцы, услужите мне. Награжу всякого тем, что попросит. В чем дело – не ваше дело! Что прикажет вот граф. Он – ваш командир, и вы должны ему завтра повиноваться как бы на войне. Скажу только – вам придется отбить женщину у ее охраны, но не бить никого.
XII
Зубов свой визит в «грузинский дом» долго помнил потом… Когда княжне доложили о его приезде, она отвечала вопросом, т. е. велела спросить господина Зубова, зачем он пожаловал.
Зубов, ожидая, что княжна его примет с восторгом, был неприятно озадачен и даже изумлен.
– Доложи княжне, – сказал он, – что я желал с ней заранее познакомиться ввиду того дела, которое она знает…
Княжна приказала просить.
Когда Эмете вышла к гостю, он был приятно поражен и мысленно отдал ей дань восхищения.
«Действительно прелестный котенок!» – подумал он словами всей столицы.
– Благодарю вас за честь… – заговорила княжна, прося гостя садиться… – Но очень сожалею, что вы ко мне пожаловали.
– Я вас не понимаю, княжна, – сказал Зубов, изумляясь и поневоле смеясь этой наивной манере принимать. – Объяснитесь.
– Объясниться вполне ясно я не могу… Но скажите мне вы… Зачем вы приехали сюда?..
Зубов объяснил, удивляясь, что ввиду ее просьбы быть свидетелем при ее свадьбе и заступником против преследований ее угнетателя он пожелал с ней познакомиться. Княжна отвечала, что она никогда не просила жениха ходатайствовать об этом, не желая навлекать на господина Зубова – срам и позор.
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что моя свадьба будет самый ужасный соблазн, скоморошество… по милости князя. И вы, будучи свидетелем, попадете в смешное положение.
– Почему же, княжна? Вы думаете, что князь что-либо предпримет, не допустит вас обвенчаться?
– Я боюсь… Почти уверена в этом заранее! – воскликнула Эмете.
– Но я за вас заступлюсь! За этим я и буду… Я был очень рад, что Шмитгоф меня пригласил, а пастор поставил даже условием мое присутствие…
– Я вас прошу, глаз на глаз, господин Зубов, не быть на этой свадьбе… Я не хочу, чтобы над вами смеялись потом.
Говоря это, княжна глядела пристально в лицо Зубова своими прелестными зелеными глазками, и какая-то странная тревога, помимо ее воли, сказывалась в чертах ее лица и во взгляде. Она будто боялась его ответа, его решения.
Зубов молчал и не знал, что ответить… Его умолял жених согласиться… Он был рад случаю досадить князю. А теперь невеста просит его бросить все… Конечно, надо опять согласиться, т. е. бросить затею.
– Извольте, княжна… Не могу же я насильно предлагать вам свою помощь.
– Ну вот и отлично! – громко воскликнула Эмете с неестественной, будто сыгранной веселостью и тотчас прибавила: – Да и где же бороться с князем?..
– Ну это… Это позвольте, княжна… Позвольте не согласиться.
– Вы воображаете, например, что если вы явитесь чьим-либо свидетелем или покровителем, то князь не посмеет ничего сделать.
– Ему будет труднее… Он не решится… Я уверен, что если бы он что-либо затевал против вас, то после вашего венца, при котором я был бы в качестве посаженого, – он ничего не сделает.
– Ах, вы ничего не понимаете… Вы малый младенец! – воскликнула Эмете. Зубов слегка обиделся, как всякий молодой человек, когда ему женщина бросает в лицо его молодость в виде упрека.
– Князь вас с лица земли стереть может! В шуты нарядить! И я не хочу, слышите ли вы, этого. Я не хочу, чтобы это было из-за меня… Вы меня потом возненавидите, а я этого не желаю…
Княжна говорила горячо и не смотрела почти на гостя, но все-таки хорошо видела действие ее слов.
– Позвольте же, княжна, мне доказать вам на деле, что вы ошибаетесь… Во всем ошибаетесь… Вы преувеличиваете могущество князя и уничижаете мое положение…
– Как? Вы все-таки будете? – воскликнула Эмете. – Ну, так я вам говорю… что вы не посмеете быть… А если решитесь быть… то будете уничтожены князем…
Зубов досадливо рассмеялся:
– Буду и докажу вам, что вы ошибались…
– Я молчу… Я свое сказала. Все сказала… Мне вас жаль… Очень жаль… Вы себя губите… – И княжна покачала головой, усмехаясь, прибавила: – Вам с князем тягаться!! Вам…
Зубов встал и уже несколько раздражительно, смеясь, выговорил:
– Вот увидим. До свидания…
Зубов протянул руку.
– Еще одумаетесь… – шепнула лукаво и насмешливо княжна, тоже подавая руку.
Зубов нагнулся, очевидно, с целью поцеловать ее. Эмете быстро отдернула руку.
– Княжна… Поцеловать руку у нас не считается оскорблением для хорошенькой женщины.
– Нет. Я не хочу…
– Ну, я прошу, настаиваю…
– Никогда!
– Ну, хотя бы за все те неприятные, оскорбительные слова, которые вы мне наговорили сейчас.
– Ни за что!
– Я вас умоляю…
– Ни за что! Никогда! Хоть убейте…
– Я вас умоляю, княжна. Я не уйду без этого! – вдруг заупрямился Зубов, как баловень столицы.
Эмете была первая женщина, которая не оказалась счастливой от такого знака внимания с его стороны.
Наступило молчание. Зубов стоял, протянув руку, и видно было по его лицу, что он не уступит.
– Я не уйду… Не уйду! Хоть до вечера… – шепнул он, глядя в прелестное личико княжны.
– Но я не могу допустить этого… У нас это не в обычае… Поймите…
– Вы в России, а не в Персии…
– Что ж из этого?..
– Мы одни… Никто не увидит, не узнает.
Княжна молчала, стояла опустив глаза и сильно смущенная. Даже лицо ее зарумянилось сильнее.
– Оставьте это… Прощайте! – вымолвила она наконец.
– Повторяю десятый раз: ни за что! Вы упрямы. Я тоже.
Княжна двинулась в сторону. Зубов догадался и заступил ей дорогу. Она очутилась между ним и диванчиком, как в западне.
– Послушайте, если так… – заговорила она.
– То я буду кричать и звать моих к себе на помощь, – прибавил Зубов, смеясь.
– Нет… Если вы так упрямы, то я уступаю! Уступаю насилию… Но руку я вам все-таки не дам. Это не обычай у нас… Целуйте меня!
– Вас?! – воскликнул Зубов.
– Да, целуйте меня… Это возможнее… Тут ничего особенного не будет… А руку я не могу. Ну… Извольте-с!..
И княжна, став вполоборота, подставила свою щеку. Зубов смутился в свой черед от неожиданности, но был слишком светский человек и слишком шалун в юности, чтобы терять время и раздумывать…
Он нагнулся и крепко поцеловал румяную щечку княжны.
В ту же секунду она юркнула мимо него и убежала из гостиной.
Зубов постоял мгновение один среди горницы, как бы приходя в себя от неожиданной, странной сцены. Потом он рассмеялся и двинулся уезжать.
«Вот уж не ожидал! – думал он. – Не хотела принимать! Наговорила с три короба дерзостей! Не дала руки и подставила личико!.. Однако понятно, почему Питер от нее в восхищении. Замечательный зверек!.. Прелестный котенок!..»
XIII
Наступил день и время, назначенное для тайного венчания.
К вечеру тревога пастора усилилась и перешла в лихорадочное волнение, так как за час до назначенного времени старика поразило странное обстоятельство. Около храма появилось много всякого народу и плотная толпа зевак все росла.
Княжна Эмете, по словам Шмитгофа, никому не хотела говорить о своей свадьбе… Стало быть, Зубов неосторожно рассказал, что поедет на венчание и крестины персидской княжны.
Так или иначе, но старик пастор, выглядывая из окна своей квартиры, был изумлен и встревожен.
Толпа любопытных все увеличивалась и скоро дошла от десятков до сотен. Посланный причетник, потолкавшись в народе, вернулся и доложил пастору, что все эти люди знают, зачем собрались: всем известно, что будет бракосочетание персидской принцессы. Только многие простые люди путают и думают, что сам князь будет венчаться, так как их всех княжеские дворовые люди прогнали сюда глядеть… И сами пришли.
– Как, люди Потемкина?..
Причетник объяснил подробнее, что в числе прочих зевак в толпе оказывается много народу из Таврического дворца, люди князя и их приятели, люди других господ… И все они говорят, что их сейчас только негаданно прислали глядеть на свадебный поезд княжны… Поэтому некоторые из них полагают, что не сам ли князь венчаться будет.
«Что же это такое? – подумал смущенный пастор, – если даже людям Потемкина известна тайна княжны… Что же князь? Покорился участи? Отказался от княжны?»
Однако через полчаса пастор уже в облачении поджидал брачующихся среди освещенной церкви. Что ж было не освещаться и соблюдать тайну, когда ее разделяют сотни зевак, сошедших со всего города.
Но и этого мало. За десять минут до назначенного часа против церкви появились кареты, коляски, экипажи и всадники-гвардейцы… Все это съехалось глядеть свадебный поезд княжны Изфагановой, весть о замужестве и венчании которой молнией пролетела по гостиным не далее как за час перед тем. Некоторые барыни не успели одеться как подобало случаю и поэтому решили ехать поглазеть хоть из кареты на один поезд.
Многие, однако, выходили из экипажей и вступали в церковь, за ними простой народ, кто посмелее, пробирались в «кирку», опросив наперед соседей:
– А как там, тоись, насчет шапки…
– Вестимо без шапок. Тоже храм. И образа, и всякое такое…
– Нет, вы, ребята, – заметил в толпе только один солдат-инвалид, – так подтвердительно не надейтесь… Я этак-то вот, в плену будучи, зашел в басурманов храм да как шапку-то снял – мне в шею и наклали да и вытурили вон. Говорят, нагрешил! Все сами-то в шапках стоят.
В той же толпе весело болтали и лукаво ухмылялись люди Потемкина и все поглядывали в два места, то на угол Итальянской, то на противоположную сторону, где был дом графа Велемирского, наискосок от церкви.
Глухой и темный слух ходил утром между ними, что графу, по случаю свадьбы княжны, поручено что-то диковинное. Чудодей князь что-то затеял!.. И теперь их офицеры тут у графа, гостями.
Наконец шум и говор прошел по толпе. Вдали показалась желтая берлина, а за ней двое конных – это был Зубов.
Зубов подъехал, вышел и, входя в церковь, был, видимо, удивлен, как и пастор. Не предполагал он быть на свадьбе при таком стечении народа. Он недоумевал. Музыкант умолял его о соблюдении тайны, и поэтому он никому, кроме братьев и двух близких друзей, ни слова не сказал… Ему даже хотелось свое участие в свадьбе сделать сюрпризом. Кто же разболтал? Даже в обществе известно… Кареты!
Зубов прошел в церковь в сопровождении двух офицеров и, встреченный пастором, тихо заговорил с ним. Пастор – это видели наполнявшие церковь – пожимал плечами и ежился как от холода… Расспросы Зубова еще более встревожили старика.
На улице в эту минуту оживились, прошел гул… Вдали показались голубая карета цугом, а за ней несколько открытых экипажей, из которых торчали и остроконечные мерлушечьи колпаки персиян.
– Свадебный поезд!
– Гляди-ко! По-басурмански! Не обвенчаны, а уж вместе.
– Вместе в храм едут. Жених с невестой. Вот, братцы, колено-то!
– Это по-персидски.
– Должно, из церкви зато врозь поедут, в разные стороны! – крикнул кто-то громко, и дружный хохот был ответом на шутку.
– Невеста-то какая… С наперсточек…
– Тише, что вы по ногам ходите! – с достоинством произнес чиновник соседу.
– Ах, родимые мои, – ахнула женщина в платке, – никак ей всего годов девять…
– Жених-то, братцы, тоже персид аль иной какой?..
– Эй, любезный, ты чего это лезешь на меня! – провизжала здоровенная барыня на мастерового. – Что я тебе – лавка, что ль, аль забор?
– А ведь невеста, ваше превосходительство, действительно из себя прелестница.
– Да, субтильна!.. Да…
Карета с невестой и женихом подъехала к церкви; три лакея, соскочив с запяток, отворили дверцы.
Жених изумленными глазами, как бы потерявшись, оглядывал густую толпу.
Княжна, наоборот, казалось, совсем не была удивлена и, весело улыбаясь и оглядываясь по сторонам, выпорхнула из кареты.
Одежда ее ослепила ближайших.
– Батюшки-светы… Брилли-антов-то!.. А-я-яй… Я-яй! – завыл кто-то даже жалобно.
Толпа во все глаза, не сморгнув, глядела на голубую карету и на жениха с невестой, но вдруг сразу все обернулись назад к ним спиной.
– Дорогу! Расступись! – крикнул повелительный голос сзади. – Живо! Задавим!..
Пять человек офицеров и с десяток солдат верхами будто выросли из земли и, налезая, рвались чрез толпу к карете.
В один миг толпа расступилась на две стенки и всадники достигли панели, где еще стояла, оправляя платье, невеста.
Персияне, выйдя из экипажей, подходили гурьбой к ней с Гассаном впереди. Но командовавший офицер соскочил с коня и, бросив повода другому, быстро подошел к княжне.
– Позвольте просить вас обратно садиться в карету, – сказал он вежливо. – По приказанию светлейшего, я вас должен немедленно доставить в Таврический дворец.
Говоривший был граф Велемирский.
Княжна стояла не двигаясь и глядела на графа и на свою свиту, ожидая чего-то…
– По какому праву! Что вы, господин офицер… – робко воскликнул Шмитгоф. – Это незаконно… Мы чужеземцы…
– Молчать! – уже крикнул Велемирский на артиста и тотчас обернулся снова к невесте: – Извольте садиться в карету, или я велю людям спешиться и арестую всех.
– Я не дам!.. – крикнул Шмитгоф. – Здесь господин Зубов… Здесь, в церкви…
Граф, видя, что княжна стоит не двигаясь, обнажил саблю. Персияне сразу загалдели, но на их лицах было только изумление и тревога.
– Княжна, пожалуйте!
Он отстранил Шмитгофа, подал руку Эмете, и, при всеобщем молчании и изумлении плотной толпы, княжна так же легко и грациозно вспорхнула обратно в карету, как выпорхнула из нее за минуту назад.
Граф захлопнул дверцу.
– Вы на место! – приказал он лакеям, и трое ливрейных живо бросились на запятки.
Карета тронулась, а за ней вплотную поскакала конвоем команда графа. Только один Брусков остался у панели, держа под уздцы лошадь графа.
– Что это? Это насилие! – крикнул Шмитгоф своему бывшему другу Брускову, которого вдруг увидел. – Скажите, что это такое?
Брусков сидел на лошади, как истукан, и не ответил ни слова.
Персияне между тем снова галдели. Гассан горячился.
Граф Велемирский, обратясь к ним, толково и медленно разъяснил, что им следует покориться распоряжению начальства, которое знает, что делает.
– Поэтому, господа, садитесь спокойно в свои экипажи и отправляйтесь обратно домой! – закончил он речь. – А что значит арест княжны – вы узнаете после. Понятно?
Дербент плюнул и пошел садиться в свою коляску.
Граф, усмехаясь, собирался сесть на лошадь, когда незнакомый офицер приблизился к нему и вымолвил:
– Господин Зубов, флигель-адъютант ее величества, приказал вас, господин офицер, просить войти в церковь для дачи объяснений всего происшедшего.
– А разве Платон Александрович в церкви? – спросил Велемирский, весело усмехаясь.
И на утвердительный ответ он быстро двинулся на паперть.
Зубов встретил офицера почти в дверях, за ним стояли: бледный как полотно Шмитгоф и не менее встревоженный пастор.
– Что все это означает? – гневно спросил Зубов.
Граф объяснился.
– Но какое основание может иметь князь арестовать персидскую княжну в минуту ее венчания? Это смахивает на простое похищение женщины!
– Не могу и не должен знать-с. Бумаги и дела княжны у князя. Я исполняю только приказание светлейшего, – отвечал Велемирский почтительно.
Зубов вышел на улицу.
Шмитгоф как потерянный, почти, казалось, без сознания всего окружающего, последовал за ним… И чуть-чуть, по рассеянности и убитости, не сел артист в коляску Зубова.
Персияне уже уехали, и он был один.
Народ глядел на уезжавших по очереди в глубоком молчании. Власти разыгрались – держи язык за зубами. А то, не ровен час, сболтнется – и живо причастным к делу окажешься.
Но когда Зубов отъехал, а граф Велемирский и Брусков тоже ускакали, толпа шелохнулась и, расходясь во все стороны, загудела, весело перемешивая речь смехом и прибаутками.
Два имени – Потемкин и Зубов были у всех на языке.
И народ сразу рассудил дело иначе, чем сами участники происшествия. Офицеры, бравшие княжну как бы под арест, верили, что увозят женщину. А народ решил по-своему.
– Нешто станет он для такого дела силком девку во дворец волочить – чего ему в персидке этой! Невидаль какая!
– А энтот, вишь, ее с немцем венчать хотел. А князю тот немец самый нагадил… Князь его и поучит…
– Вестимо. А то – для себя, вишь, будет!
– Ну вот из-под носу невесту теперь взял да за другого, гляди, и просватает.
– А что, ребята… Я что видел! – говорил глуповатый молодой парень.
– Что?
– Персидка-то эта самая? Как ее сгребли да повезли… Чудно!..
– Да ну, что?
– Сидит да смеется. Ей-богу! Ей бы плакать, а она смеется…
– Чего ж ей плакать-то?..
– Я ж почем знаю…
XIV
Экипаж княжны Изфагановой, в сопровождении конвоя из офицеров и солдат, немало дивил всех встречных…
Прохожие ожидали увидеть в карете мощную фигуру князя, а вместо него оттуда выглядывала миниатюрная женская фигурка, хорошенькая, богато одетая и весело улыбающаяся.
Наконец карета въехала во двор Таврического дворца… Княжна при помощи лакеев выпрыгнула на подъезд и быстро вошла в швейцарскую.
– Доложить прикажете? – несколько недоумевая, спросил швейцар-невшателец, узнавший княжну, но дивившийся конвою ее…
– Не знаю, – нерешительно отозвалась княжна. – Я думаю!..
Но прискакавший с нею капитан Немцевич уже бежал докладывать…
Другой офицер, Брусков, тоже слез с лошади и, спокойно войдя в швейцарскую вслед за княжной, вдруг, как бы волшебством, превратился в истукана. Он стоял невдалеке от княжны и глядел на нее разинув рот, широко тараща глаза, очевидно, находясь под мгновенным влиянием столбняка.
«Княжна Изфаганова? – повторял он мысленно, и он вдруг подумал, искренно испугавшись: – Батюшки, уж не я ли спятил?»
– Что, какова? И вас поразило? Дивная красавица, – шепнул ему на ухо чиновник Петушков, прибежавший из канцелярии поглазеть на княжну.
– Да-а… – промычал Брусков бессознательно.
– Вы в первый раз ее видите?..
– Я… Да-а… Я… Ой, не спятил ли я? – громко проговорил Брусков.
Княжна, озиравшаяся кругом, услыхала эти слова и увидела взгляд Брускова, прикованный к ней, и, усмехнувшись, повернулась к нему спиной.
– Князь просит пожаловать! – почти крикнул Немцевич, спускаясь рысью по лестнице.
Княжна поднялась быстрой походкой, прошла весь дворец, все парадные комнаты и большую залу, уже окутанные мерцающими сумерками летней белой ночи.
Князь распахнул дверь из кабинета и ждал; завидя идущую, он, еще издали, протянул к ней руки.
– Ну… – вскрикнул он. – Иди, княжна моя неоцененная!
И, когда княжна была уже около него, он нагнулся, обхватил ее могучими руками и поднял на воздух как перышко…
– Целуй меня… Вот так!.. – с чувством сказал он, целуясь. – Еще раз… Вот так… Чем поквитаюсь – не знаю…
И, поставив ее на пол, слегка смущенную и румяную от волнения, князь потянул ее за руку, ведя в кабинет.
– Садись. Рассказывай все… Ничего не забудь! Все… Раненых нет?
– Нет!
– Аминь и Богу слава! Ну, ну, рассказывай!..
Княжна начала быстро рассказывать.
Между тем у церкви происходило иное.
Чрез полчаса после происшествия, когда улица давно опустела и пастор, довольный отчасти, что все так разрешилось мимо него, выходил из темной церкви, причетник тушил свечи, на ступенях паперти ему попалась на глаза в полумраке сидящая фигура в блестящем костюме…
Пастор подошел ближе, пригляделся и ахнул. Это был злосчастный жених.
Шмитгоф сидел на ступени, очевидно уже давно, положив голову на руки и закрыв лицо ладонями.
Пастор позвал его… Он не двинулся и не ответил.
Старик заговорил с участием и наконец тронул молодого человека рукой за плечо. Артист наполовину очнулся и поднял голову.
– Что же это вы… Так! здесь?.. Идите! Уезжайте домой.
Артист смотрел в лицо пастора и молчал.
Лицо его, даже в сумраке вечера, сверкало белизной.
– Как вы бледны! – воскликнул участливо старик. – Идите. Войдите хоть ко мне пока…
Шмитгоф поднялся с трудом, как бы наполовину сознательно, и молча двинулся, пошатываясь, за пастором. Старик что-то говорил, но он не слушал.
Они вошли в квартиру.
– Утешьтесь. Авось все обойдется еще счастливо, – заговорил пастор. – Господин Зубов очень возмущен этим делом. Посмотрите. Он ответит, то есть князь. Есть же предел наконец, хотя бы и могущественным людям! Это соблазн! Ему прикажут возвратить вам вашу невесту.
– Возвратить! – воскликнул вдруг артист и зарыдал. – Возвратить!.. Опозоренную!
Старик вздохнул и, стоя против сидящего и рыдающего молодого человека, ни слова не ответил…
– Она погибла! Погибла! – восклицал молодой человек и взглядом как бы умолял пастора о противоречии.
Но старик, понурившись, молчал.
В тот же вечер рассказ о «неистовом деянии» князя облетел город.
Многие лица, ездившие смотреть свадьбу, были тоже очевидцами насилия над чужеземкой.
– Как? Нашлась девушка, которая не сдалась добровольно уже постаревшему бабьему угоднику, так он норовит силой взять! – восклицали одни.
– Да еще действует не сам, позорит военное звание, посылая на такое дело офицеров! – прибавляли другие.
– И находятся же такие низкие люди, которые согласны идти на всякое дело! – рассуждали третьи.
– Зубов должен не уступать… Помимо доброго дела, ему же пуще всех тут неприятность. Он должен спасти девочку от чудодея и ради ее самое, и ради своей амбиции.
Зубов, по дороге домой, после происшествия был несколько смущен той ролью, которую он разыграл. Ему хотелось подшутить, обвенчав княжну с другим! А вышло, что он сам попал в смешное положение! Но мог ли он думать, что князь решится на такой грубый поступок! Среди бела дня… На глазах всех.
Но когда он рассказал домашним происшествие, то отец его и братья отнеслись к делу совершенно иначе. Самый умный из них, Валерьян Зубов, решил, что дело – отличное. Лучше не надо…
– Это начало конца! – воскликнул он. – Шабаш! Дальше нельзя. Дальше его прихотничество и самовольничание идти не могут. Посмотри, что на персидской княжне – оборвется…
И Зубовы уверили брата, что непременно строго взглянут на этот поступок.
– Ты знаешь, – говорил Валерьян Зубов, – всё прощают милостиво. Одного не любят и не прощают – зловредные женщинам козни наших сердцеедов.
– Жениться на ней велят! Вот что!..
– Это только не наказанием ему будет. Он в нее как мальчишка врезался!
Братья посовещались и решили, не предпринимая ничего, ждать. Полицеймейстер должен был донести о таком крупном соблазне в столице.
Рылеев доложил наутро все подробности происшествия около кирки.
Тотчас приказано было просить князя.
Князь прислал Баура объяснить, что он очень болен, в постели, и, извиняясь, обещается через два дня явиться непременно.
Баур отвез затем письменный ответ князя.
Государыня прочла записку в несколько строк, пожала плечами и задумалась. Она думала:
«Ну как же не ошибиться простакам, да и умным на его счет? Кто же поверит, что в этой голове могут рядом зреть и умещаться: планы и предначертания самых громадных предприятий – и самые пустые и смехотворные прихоти и затеи… Высшая политика – и скоморошество, военные подвиги – и домашние шутки, дипломатические интриги – и похождения…»
XV
Князь, похитив «персидку», хворал для всех, т. е. никого не принимал.
Он был не только здоров и бодр, но веселее чем когда… Он играл и доигрывал партию в той игре, что сам затеял.
Баур, граф Велемирский, Немцевич, Брусков, лакей Дмитрий и его сестра, даже дворянин Саблуков, даже персиянин Амалат-Гассан и еще многие другие действующие лица – бывали у него, уезжали и исчезали, являлись вновь… Только княжны не было видно, и никто о ней не говорил, по-видимому, и не думал. И где была она, никто, кроме разве Дмитрия с сестрой, не знали. Только раз, однажды утром, капитан Немцевич, из желания подольститься к князю, осведомился нежно о здоровье княжны.
– Как, ваша светлость, оне себя изволят чувствовать? Все ли в добром здоровьи?
– Кто? – спросил князь наивным голосом.
– Княжна тоись…
– Какая княжна?
– Княжна Изфаганова-с… – оробел Немцевич.
– Какая Изфаганова?
Немцевича душа машинально ушла в пятки, и он не отвечал.
– Отвечай, коли спрашивают! Чего рот разинул. Ну? Я у тебя спрашиваю, какая такая княжна Изфаганова? Откуда ты такую выудил?
– Не могу знать-с… – пролепетал Немцевич.
– Не можешь. То-то… Пошел…
И капитан не ушел, а выкатился шариком.
Наконец, на второй день вечером, когда князь сидел полулежа на софе, с книгой в руках, явился Брусков с докладом.
– Ну, что ж? прощать совсем придется тебя? – весело спросил князь, и не только губы, но и глаза его смеялись.
– Придется, ваша светлость.
– Справил, стало быть, как след?
– Справил отменно. Шесть часов бился с ним. Уговорил-таки просить, умолять, в ногах у Зубова валяться хоть сутки…
– Да отчего же он, шельма, не хотел? Простое дело. Самому надумать бы следовало.
– Сказывал: не стоит… Все погибло… Княжну вернешь самое, но уж… не совсем тоись…
– Как не совсем? Не пойму!
– Княжну, сказывал, может, князь и отдаст назад, но, стало быть, ее только самое вернешь, а чести ее уж не вернешь…
Князь вдруг залился громким хохотом и даже опрокинулся на подушку дивана.
– Ой, батюшки, уморил… О-ох… дай воды испить… Ну, ты уверил его, дурня, что невеста его для меня священна осталась? Хоть сейчас получай в полной неприкосновенности.
– Уверял. Вот он и был у Зубова. Тот все не хотел, но потом поддался и обещал вам написать.
– Ну а когда?
– Записку с курьером, должно быть, завтра получите.
– Ну, ладно… Спасибо… Я у тебя на свадьбе посаженым.
– Не стою я ваших милостей.
– И у меня, братец ты мой, – рассмеялся князь, – из-под носу невесту не увезут от жениха. Ступай и посылай ко мне Баура. Надо тоже и пустяками заняться. Просьбу датского резидента вели ему захватить с собой… Совсем забыл со всей этой кутерьмой.
На другой день действительно явился курьер от Зубова и привез князю записку.
Зубов объяснил Потемкину, что он вмешивается в дело, до него не касающееся, только из жалости к артисту и из «чувства оскорбленной справедливости», а затем и «ради попирания законов гостеприимства», и наконец, «в защиту несчастной сироты, одинокой на чужбине».
– Вишь как расписался! – воскликнул князь. – Все тут есть… Только смекалки нет…
Князь велел сказать курьеру, чтобы он передал на словах господину Зубову, что князь получил записку, но отвечать ему на нее нечего.
В то же время князь вызвал Немцевича и объяснил ему, чтобы он ехал тотчас к Велемирскому и сказал: «Пора».
– Понял ты?
– Понял-с.
Когда капитан был в дверях, князь вдруг остановил его, как бы вспомнив:
– Стой. Про какую это ты прошлый раз княжну говорил? Как сказывал-то… Изфагановская, кажись?
– Точно так-с! – робко шепнул Немцевич.
– А кто она такая… Откуда ты ее выискал?
– Не могу знать-с!.. – прошипел капитан.
Когда он вышел, князь весело расхохотался.
Вечером явился и сам граф Велемирский.
– Завтра в двенадцать часов Платон Александрович будет к вам, – произнес он, театрально кланяясь.
– Молодец! – крикнул князь. – Садись. Рассказывай, как обделал…
– Не сердитесь только, князь… Может, я пересолил, – сказал граф. – Только ведь это из усердия! По необходимости, а не по глупости.
– Что такое?
– Я действовал через всех знакомых. И ото всех слышал в ответ только одно. Зубов говорит, что ему на такой шаг решиться при их отношениях неприлично, не позволяет амбиция. Да и толку от сего, кроме унижения, ничего не будет. Тем дело и кончилось… Прогорело все.
– Ну?
– Ну, я перекрестился да сам к нему и махнул.
– Как сам? Да ведь ты у него никогда не бывал. Ты из моих.
– А вот. Сам-то я все и устроил! – рассмеялся Велемирский. – Приехал и объяснил все дело. А дело вот какое… Простите, коли пересолил… Дело такое, что тетушке графине Александре Васильевне, да и всей родне нашей, очень неприятно все это происшествие с княжной Изфагановой и что все мы на князя Григория Александровича, поскольку посмели, напали с осуждением и просьбой освободить персидскую княжну. Князь, видимо, и сам был смущен необдуманным шагом… Да и княжна ревет, мечет и плачет и руки на себя наложить два раза хотела, так что ее чуть не на привязи держат и караулят… Дело, стало быть, плохо… Князь сам видит все, но уперся… Стыдно… Будто ищет только приличного предлога, чтобы разделаться с этой княжной… Предлог этот есть, и сам князь обмолвился…
– Ну, ну… Пока хорошо… А вот тут загвоздка. Что ты на меня-то выдумал?
– Князь обмолвился, – продолжал Велемирский, – что если бы сам Зубов, у него почти не бывающий, разве только по особенно важному государственному делу или поручению царицы, – если Зубов сам приедет и попросит князя возвратить невесту, но не жениху ее, а только отпустить и дать свободно уехать к себе, да поручится князю, что сего ненавистного брака с скрипачом не состоится, то князь тотчас ее отпустит.
– Ну…
– Ну, он помялся, помялся, да чтобы всех одолжить – и вас, и всю нашу родню, и княжну, да и себя самого… и согласился.
– Ну и одолжит! Воистину одолжит!
– Завтра, в двенадцать часов, он и будет лично к вам просить отдать ему эту прелестницу, обещаясь, что не допустит ее брака с музыкантом.
– А сам думает небось про себя: «и надую». Поедут вместе домой к ней – да и обвенчаются где по дороге, хоть в Москве или Киеве…
Отпуская Велемирского, он поцеловал его и затем приказал позвать Баура.
– Завтра прием… Я выздоровел.
Князь рано лег спать и наутро рано проснулся. Одеваясь, он почти по-товарищески весело болтал с Дмитрием о всяком вздоре, вспоминал кое-какие приключения из прошлого, случаи из жизни в Яссах.
– А что наша княжна, – спросил он, – готовится на объяснение?
– Чего тут готовиться… – фамильярно отвечал Дмитрий. – Нешто такая голова, чтобы загодя гадать, что говорить! Бесценная голова – умница, каких поискать, да и днем с огнем не найдешь! И как это вот бывает на свете, в этаком состоянии и такими свойствами Господь одарит… – важно зафилософствовал лакей, одевая барина и подавая уже камзол.
– Господу Богу все равны. Кого захочет, того и взыщет. Ну а как мундир? Скоро поспеет?
– Какой мундир? вам?
– Дурень… Мундир княжне Изфагановой…
– А-а… Готов! Уж примеривали, – весело сказал Дмитрий. – Чуден вышел канцелярский служитель, Григорий Александрыч.
– Да мал еще очень! Совсем видать – не мужчина, как ему быть следовает… А ребенок либо девчонка.
– Сам с ноготок, да ум в потолок!
В эту минуту вошел в уборную капитан Немцевич и доложил, что просители уже набираются и происходит удивительное.
– Что ж такое? – спросил Потемкин.
– Да уж очень много, – сказал капитан. – И простых людей много.
Князь усмехнулся.
– Что ж мудреного, – сказал он, обращаясь к офицеру. – Столько вот дней приему не было, ну и понабралось, зараз и полезли…
XVI
В зале князя действительно, вследствие двухдневного отказа, набиралось много посетителей… Были и сановники, которым дали знать, что князь выздоровел и будет принимать… Но были и офицеры. Было много и простых людей, купцов, мещан и разносортных горожан.
В некоторых группах офицеров шел разговор.
– Вы что, полковник, по какому делу? Жалоба аль благодарить за что?..
– И сам не знаю, зачем приехал…
– Вот как? Стало, нас этаких тут много…
– И вы тоже не знаете…
– Да мне граф Велемирский сказал, что князь хочет посоветоваться с офицерами о новых уборах головных и покажет модели. Говорит: случай лично беседовать с князем.
– А вы что… Почему…
– Да мне сродственник один посоветовал сегодня собраться просить князя насчет моего дела в Соляном правлении.
Такие все шли разговоры.
Наконец в полдень князю доложили о прибытии Зубова.
– На моей улице праздник! – произнес он.
Затем он быстро встал и двинулся в залу.
Все шевельнулось, зашумело, двинувшись, и поклонилось.
Князь ответил кивком головы на общий поклон и своей тяжелой походкой прошел мимо двух рядов плотной толпы прямо к противоположным дверям и остановился…
Зубов уже двигался к нему по анфиладе гостиных…
Князь ждал на пороге, и по лицу его пробежала недобрая усмешка…
Зубов ускорил шаг и подошел… Лицо его казалось несколько смущенным. Видно было, что он будто сам не рад, что явился.
– Чему обязан удовольствием вас видеть?.. – с сухой любезностью проговорил князь, подавая руку.
– Дело, князь…
– Поручение от государыни?
– Нет, князь… Я по своему делу… то есть по особому делу…
И Зубов сделал незаметное движение вперед, как бы говоря, что пора двинуться и идти в кабинет…
Князь будто не заметил движения и не шевельнулся с места, а только повернулся боком к толпе, и оба очутились почти на пороге, друг против друга, окруженные толпой почти вплотную.
– Я слушаю… – произнес князь.
Зубов слегка усмехнулся:
– Но здесь… Я не могу. Я могу только наедине объяснить… Вам будет неприятно. Вам! Если я здесь все скажу. Поймите… Мне все равно!.. – несколько свысока промолвил флигель-адъютант, косясь на толпу.
– И мне тоже, Платон Александрович, все равно… Тайны у нас с вами нет.
– Извольте! – вспыхнув, вымолвил Зубов громко. – Я приехал просить вас освободить княжну Изфаганову.
Князь глядел на молодого человека и не отвечал.
Фамилия произвела магическое действие. Все встрепенулись, прислушиваясь, ждали.
Наступило молчание в зале, и, несмотря на многолюдство присутствующих, воцарилась полная тишина, не возмущаемая ни единым звуком.
– Вы приехали за княжной Изфагановой? Просить освободить как бы из заточения?.. – повторил князь.
– Да-с…
Снова молчание. Князь вздохнул.
– И этого сделать не могу, – произнес он. – Но скажите, государь мой, – снова громче заговорил князь, – какое вам до этого дело? И как вы в такой переплет замешались?
Зубов выпрямился и произнес запальчиво:
– Похитить чужую невесту, чуть не из храма, и держать ее насильно…
– Кто же вам все это сказал?
– Я был приглашен на свадьбу княжны и видел… Княжна сама просила…
– Извините. Вы ошибаетесь. Я это строго запретил! Эта, именуемая вами княжной Изфагановой, вас усиленно просила не быть в церкви. Вы явились по приглашению…
– Все равно… Жених позвал меня как защитника, боясь насилия… И он не ошибся! И вот я поневоле являюсь теперь защитником сироты-чужеземки, почти ребенка.
– Позвольте же вам доложить: никакой княжны Изфагановой на свете нет и не было! – проговорил князь мерно. – Был машкерад, чтобы проучить здорово проходимца, который явился ко мне сюда под именем маркиза-эмигранта… А что многие лица полезли, куда их не звали, приехали на бал, куда их не приглашали, – я сожалею, но в этом не виноват… А что вы, наконец, вмешались в этот машкерад по молодости лет – я еще более сожалею. Мой главный скоморох – сиречь юная персидская княжна – сама просила вас, по моему приказанию, в церковь не ездить…
Зубов несколько оторопел и глядел на Потемкина уже с тревогой в лице…
– Я ничего не понимаю, князь. Какой машкерад!.. – выговорил он. – Стало быть, княжна Изфаганова…
– Не княжна! – отвечал князь вразумительно. – Так же как маркиз – не маркиз.
В зале наступила опять тишина и молчание…
Зубов стоял румяный и смущенный, но вдруг вымолвил:
– Я не верю. Извините… Пускай княжна, запертая у вас, сама придет сюда и сама все это скажет. Я поверю!
– Брусков! – крикнул князь.
– Чего изволите? – отозвался тот за его спиной.
– Позови, поди, сюда прелестницу персидскую, которая вместо одного многих обморочила и в шуты вырядила. Пускай сама явится.
Офицер кинулся в кабинет, и с этой минуты все взоры приковались к дубовым дверям.
– Да-с, – продолжал князь. – Я этого, конечно, всего предвидеть не мог… Я хотел пошутить только над самозванцем маркизом. А потрафилось не то. Один скоморох – правду сказать, шельма и бестия – весь город одурачил…
– Но кто же тогда эта… девушка… Ваша крепостная?.. – вымолвил Зубов, уже окончательно смущенный.
– А вот извольте спросить сами! – любезно отозвался князь, указывая на отворяющиеся двери…
На пороге показалась маленькая фигурка в светло-голубом платье с вырезным лифом и матово-серым вуалем на голове.
– Княжна Эмете!.. Пожалуйте! – сказал Потемкин.
Красивая фигурка приблизилась.
– Это ли княжна, господин Зубов?
– Это. Да… – пробурчал молодой человек.
– Ну, винися… Шельма! – рассмеялся князь… – Буде скоморошествовать-то. Довольно у тебя ручки-то лизали разные старые и молодые! Иди-ка на расправу… Говори… Княжна ты или нет… Персидская?..
– Нет, ваша светлость! – вымолвила фигурка, косясь на толпу с румяным от смущения лицом…
– Верите ли вы, господин Зубов… – обернулся князь.
Зубов стоял уже не смущенный и насмешливо улыбался.
– Если она, эта девушка, сама говорит, что она не княжна, – отозвался он умышленно развязно, – то, конечно, я должен верить… Но, извините, я не понимаю главного.
– Чего же?
– Остроты, князь. Остроты во всей вашей шутке. Разума и цели в машкераде.
– Как тоись?..
– В чем же ваша проучка самозванца маркиза или шутка над всеми… Выдать прелестную девочку за княжну персидскую и дать влюбиться музыканту, чтобы потом ее у него отнять. Ему больно. Да. Но извините… – надменно смеясь, выговорил Зубов, обращаясь как бы ко всем. – Peu de seul[104], как говорят французы.
– А я так боюсь, Платон Александрыч, что я пересолил…
– Мало потому, что если это не княжна, то, во всяком случае, прелестная девушка, умная!
– Да, но в этаких на Святках не влюбляются, а тут многие врезались, руки целовали и, более того, обнимали да чмокали… Ну, буде… Конец машкераду! Княжна… Шельма! Раздевайся!..
Раздалось несколько восклицаний, так как на глазах у всех маленькая фигурка начала послушно и быстро расстегивать лиф платья.
– Что вы делаете, князь! – прошептал в изумлении и негодовании Зубов.
– Хочу вам в его настоящем виде калмычка показать…
– Калмычка?
– Кал-мы-чка!.. – протянул князь. – Пока так…
Маленькое существо быстро побросало уже на пол всю свою одежду и вуаль, и, когда платье съехало на пол, вышел из круга складок в красной куртке и шальварах прелестный мальчик, но при этом, уже и сам невольно смеясь, застегнул ворот на голой груди, которая была открыта под вырезом женского платья.
В зале пошел гул сотни голосов.
– Честь имею представить! – сказал князь, обращаясь ко всем. – Калмык, по имени – Саркиз. Зацеловали беднягу. Да чуть было не обвенчали и храм христианский не опоганили. Спасибо моим молодцам, что вовремя Саркизку арестовали… А вам, Платон Александрович, спасибо за добровольное участие в машкераде. С вами веселее вышло. Честь имею кланяться…
XVII
– Слышали о потемкинской мороке?
– Слышал, да в толк не возьму.
– Чудеса в решете. Ну и афронт для всех тоже не последний!..
– Калмык. Простой, тоись, калмык, сказывают?
– Калмык – Саркизом звать. Настоящий. Из Астрахани! Привезен был нарочито для машкерада этого и мороки. Выбирали по всем базарам самого красивого, какой найдется. Ну и нашли! Сей чудодей захочет птичьего молока и сухой воды – ему достанут…
– Слышали? Персияне-то наемные были из Москвы и тоже обморочены были. Им сказали, что свита принцессы в дороге застряла, а их на время берут. Они сами почитали ее… Тьфу! Его почитали за княжну персидскую. Ну и служили верой и правдой. Только дивились, что княжна по-ихнему ни бельмеса не знает. Да жалованье хорошее мешало им очень-то дивиться да ахать и болтать. А две бабы-то, сказывают, и вовсе русские были. За то они обе и молчали завсегда…
– Послушайте. Что же это?! Калмык-то князев?!
– Что ж! С жиру бесится!
– Да ведь это невежество. И не дворянский совсем поступок, воля ваша! Что ж это за времяпрепровождение?!
– Да и не смешно. Озорничество одно. А остроты никакой тут…
– Ума нет простого, не токмо остроты. Благоприличия нет… Уважения к своему сословию…
– Одно слово: развращенность и повреждение нравов.
– А ведь князь Хованов попался. Руки целовал каждодневно.
– Ну, ему, старому, поделом!
– А Зубов-то? Зубов?
Зубов был взбешен, конечно, более всех и поклялся отомстить. Но не по-российски – смехом и морокой, а, как говорил князь, – по-английски, т. е. злом, а не шуткой. Зубов готовил князю удар в самое сердце.
В домовой церкви Таврического дворца на той же неделе были торжественные – свадьба и крестины.
Венчался офицер Брусков с барышней Саблуковой, а князь был сватом и посаженым отцом у невесты. И все смеялся, поздравляя после венца молодых:
– Смотри, Брусков… Не башкиренок ли?!
Крестины были еще торжественнее. Все, что жило во дворце Таврическом, присутствовало. Крестился калмык Саркиз, и князь был восприемником от купели.
И вышел из церкви уж не Саркиз, а Павел Григорьевич Саркизов, получив имя от благодетеля и бывшего своего барина, а отчество от крестного отца.
Наутро Павел Григорьевич получил чин сенатского секретаря, пять тысяч рублей денег: но от невесты-приданницы, что прочил ему князь, отказался.
– Что? Аль боишься? Подведу тоже и тебя! – шутил князь.
Павел Григорьевич объявил, что просит одной милости – быть век при князе по гражданским поручениям…
Через неделю управляющий канцелярией фельдмаршала Попов сделал Саркизова делопроизводителем и доложил князю:
– Видал я на своем веку двух-трех, как их именуют, самородков, ну а этакого не видывал. Чрез пять лет на моем месте будет, а то и выше…
А сам Павел Григорьевич горячо теперь исповедовал и молился новому своему Богу – христианскому. Но часто думал:
«Пока князь жив! А без него беги из Питера на край света. Да и там найдут для отплаты».
XVIII
– Это неправда! Нет, это неправда! Могущественные и властные люди, «сильные мира сего», не все могут делать… Могут ли безнаказанно всякие злодеяния творить… Я любил ее… И она меня любила и любит. Это неправда. Сердце мне говорит это… И где княжна? В каземате? Погублена. Где ты, бедная Эмете, жертва самовластия? Я слезы лью от зари до зари. Томлюсь в тысяче терзаний, изболел душой по тебе… А ты этого и не знаешь… Где ты, бедная крошка?.. Неужели я никогда не увижу тебя, не обойму, не прильну губами к твоему милому личику… Твой взгляд изумрудный, глубокий, полный слез наслаждения, когда я играл тебе. О! я вижу его! Вижу, как если бы ты была предо мной… Эмете, где ты?.. Боже мой, за что судьба так безжалостно поступает с людьми? Чем я заслужил эту кару? Что я сделал? Я жил всю жизнь безвинно. На моей совести нет ничего… За что же это наказание? За что эта насмешка судьбы? После нищеты, голода, холода – дать мне много, обещать еще большее… Дать мне любовь чистого и невинного создания, чудно красивого, доброго… С душой, способной на восторженный отклик тому, что составляет и наполняет мою жизнь, – способной рыдать от музыки… Дать мне все это… И отнять… Эмете, где ты? Неужели она уже мертвая. В гробу! Под землей… Или убитая зарыта тайком в Таврическом саду по приказанию сатрапа, пресыщенного всем, что свет может дать за его миллионы и его власть… Нет!! Нет, она жива! Я верю. Я чувствую… Она жива… А если жива, то любит меня. Эмете! Отдайте мне ее. Я люблю ее. Отдайте мне… Отдайте…
Так мучился артист-музыкант, приютившийся в квартире старика пастора.
Он томился, то плакал тихо, то рыдал судорожно и отчаянно, говорил сам с собой и стонал и ни разу не взял в руки свою скрипку.
Зубов в тот же день сказал ему правду. Он поверил… но, пролежав часа два в обмороке, так что его приняли уже за мертвого, он пришел в себя…
Пришел в себя и понял, что над ним зло посмеялись. Они погубили его возлюбленную и с наглостью уверяют его и убеждают… В чем же? Что ее никогда не было на свете!
Наконец однажды пастор понял, что бедный артист близок к помешательству.
«Лучше сердечная боль от оскорбления, лучше пусть пострадает его самолюбие, нежели эти муки сердца влюбленного в несуществующее».
Так рассудил старик и отправился к Зубову объяснить все и просить устроить артисту свидание с той личностью, которая так зло насмеялась над ним.
Зубов наотрез отказался. Одно воспоминание обо всей истории его вывело из себя.
Пастор решился и отправился прямо к князю в приемный день, был принят и объяснился.
Князь подумал и головой покачал:
– Жаль молодца. Но ведь горю не пособишь. Я полагаю, что он и самой княжне в вицмундире не поверит…
Князь велел позвать делопроизводителя Саркизова и пояснил казус с музыкантом.
Павел Григорьевич выслушал и грустно потупился.
– Что же? – спросил князь.
– Увольте, ваша светлость, – глухо и тихо проговорил он. – Вы сами изволите сказывать… Кончен машкерад, и кончена эта канитель. Я свое слово сдержал, хоть и трудно было. Душа не лежала к этому. Я знал, что злодеяние совершаю. Кому смех, а кому и горе, отчаяние. Я слово дал и сдержал. Сдержите и вы свое… Мне видеть музыканта будет тяжко, так тяжко, что я и сказать не могу. Ведь я ему сердце растерзал… Мне его жаль… А видеть просто не в силу. Увольте хоть пока. А чрез месяц – обойдется, может. Тогда мы повидаемся… А затем ваша воля – как прикажете…
Наступило молчание.
Пастор, пораженный голосом Павла Григорьевича, ничего не сказал.
«Этот тоже страдает из-за причиненного им ближнему зла», – подумал старик.
– Ну, вот ответ! – сказал князь пастору. – Я приказывать не стану. Чрез месяц, коли мы будем еще здесь, пускай свидятся.
Пастор вернулся домой… Объяснил несчастному все, что видел и слышал сам, своими глазами и ушами.
Но артист засмеялся, а потом горько заплакал как ребенок.
– И вы тоже! Священник! Тоже ложь, даже в устах служителя алтаря…
Эпилог
Чей одр – земля, кров – воздух синь, Чертоги – вкруг пустынны виды… То он – любимый славы сын, Великолепный князь Тавриды! ДержавинГолая равнина на громадном протяжении вся изрезана водными потоками, из которых каждый – широкая быстрая река и бурно катит свои волны в недалекое море. Это – рукава и гирлы Дуная.
На одном из рукавов, вдоль пологого берега, раскинулись кое-где постройки… Это маленький городок Галац.
Здесь, среди домов и домишек, кое-где виднеются христианские храмы, а за рекой, на том берегу, уже высятся тонкие и легкие остроконечные минареты. Там начало мусульманского мира.
В маленьком городке заметно особенное оживление, но весь город кажется лагерем. На улицах и в домах только и видны, что мундиры, на площадях – кони и орудия.
Несмотря на августовские жары, горячий воздух и раскаленную землю, на улицах сильное движение.
Три дома в городе разделили между собой толпы военных и служат как бы центрами сборищ.
В одном из них, поменьше других, квартира военачальника князя Репнина.
Еще несколько дней назад он был главнокомандующим победоносной армии… Великий визирь после поражения при Мачине сносился с ним одним.
Но вот не так давно явился сюда могущественный вельможа и полководец, «великолепный князь Тавриды», и принял вновь начальство над русскими силами и над заменявшим его полгода Репниным…
И теперь он первое лицо здесь – и для своих, и для неприятеля.
В другом доме, неподалеку от первого, красивой архитектуры, но сравнительно меньшем, движение ограничено подъездом и двором. К дому идут и скачут офицеры со всех сторон, но, не входя, а только побывав в передней или на дворе, возвращаются обратно… Они являются сюда за вестями…
В этом доме поместился генерал русской службы, принц Карл Вюртембергский и за последнее время опасно заболел южной гнилостной горячкой. Так как это родной брат жены наследника престола, то болезнь его многих озабочивала.
На другом краю города, в большом доме, где поместился приезжий со свитой князь Таврический, движение более чем когда-либо.
В одной из горниц этого дома, несколько в стороне от всех остальных, на большой софе лежит в одном белье и турецких туфлях на босу ногу огромный широкоплечий человек, лохматый, неумытый, небритый и задумчиво, почти бессмысленно смотрит в пустую стену и грызет ногти… Лицо его изжелта-бледное, худое, осунувшееся, не только угрюмо, а печально-тоскливо… Он или был опасно болен, или горе поразило его недавно. Черты лица настолько изменились за последнее время, в волосах так дружно сразу блеснула седина, а глаза так нежданно вдруг потускнели… что этого человека многие друзья и враги едва бы теперь узнали. Друзья бы ахнули, а враги возликовали.
Это сам князь Потемкин, еще недавно, месяца с полтора назад, выехавший из Петербурга добрым, веселым и могучим. Он скакал счастливый чрез всю Россию, сюда, на Дунай, снова громить векового врага, надеясь теперь окончательно стереть его с лица земли, именуемой Европою, и, «оттеснив луну от берегов этой реки, перебросить затем чрез Босфор, на тот берег, где уже другая часть света…» Это его мечта уже за двадцать лет, и она его несла и гнала как вихрь от берегов Невы на берега Дуная. Но здесь ожидал богатыря удар, сразу сразивший его… Только это, что он узнал здесь, могло сломить его железную мощь и духа и тела…
Первого июля прискакал он в этот городок, окруженный целой золотой толпой военачальников и сановников… и стал лихорадочно поджидать появления своего заместителя с поздравлением по случаю прибытия в армию и с первым докладом…
Князь Репнин, видевший въезд генерал-фельдмаршала, главнокомандующего, – медлил и не являлся…
Прошел час.
Тень набежала на лицо князя… Оставшись один с любимой племянницей, всюду его сопровождавшей, он поглядел на нее тревожными глазами и вздохнул.
За час назад графиня Браницкая видела его счастливым и сияющим… На ее удивление и вопрос о причине внезапной перемены князь ответил с тревогой в голосе:
– Боюся… Сашенька… Боюся… Если Репнин не прибежал тотчас, не выбежал за сто верст навстречу! то… дело плохо! Мое дело плохо!
Несмотря на возражения, шутки и успокаивание дяди, графиня не добилась улыбки от него.
– Сразит меня. Если это так!
– Что?
– Команда передана ему… Тайно. Без моего ведома. Я здесь второй… Я этого не перенесу. Что ж хуже этого может быть… Ничего! Одно разве – мир с Турцией. Да. Уж если выбирать, – то пускай я буду его адъютантом, его ординарцем на побегушках, да буду видеть, как мы начнем громить турку.
Князь Репнин явился наконец, поздравил светлейшего с прибытием из дальнего пути и как бы передал ему права главнокомандующего, начав доклад подчиненного о последних событиях на берегах Дуная.
А одно событие мирового значения совершилось вчера…
Вчера, 31-го числа июня, он, князь Репнин, заместитель светлейшего, подписал здесь в Галаце перемирие с султаном и прелиминарии будущего трактата. Вчера! Молния ударила в сердце и в мозг богатыря, и с этого мгновения – он до сих пор еще не пришел окончательно в себя.
– Как вы смели? – вскрикнул он тогда. И до сих пор еще в ушах его звучит ответ Репнина, много значащий, многое говорящий иносказательно и многое объясняющий, чему не хотел верить князь еще на берегах Невы.
– Я исполнил свой долг и отдам ответ в моих действиях государыне императрице, – сказал Репнин.
«Перед ней, монархиней, а не пред тобой. Тебя прежнего уже нет. Ты был! Теперь ты нечто иное… Могущественный Потемкин заживо умер, осталась внешняя твоя оболочка в мундире и орденах, а пустяки, мелочная подробность, т. е. власть и могущество, от тебя отошли».
«Отчего и когда!.. От одного слова, одной бумаги, которую привез сюда курьер из Петербурга, когда ты там чудодействовал… Теперь ты, как кукла, имеешь все права и полномочия действовать так, как тебе прикажет оттуда тот, кто власть имеет…»
Платон Александрович Зубов! Мальчишка!
Он вел все лето тайные переговоры с Диваном, и он привел их к указу царицы о подписании первых основных условий мирного трактата между двумя империями.
Вот с этого дня и лежит на диване, полураздетый, будто обезумевший, человек, будто заживо погребенный… Да и впрямь, жизнь его держится только в теле, ухватившись за соломинку… Он писал и пишет в Петербург, умоляя в тысячный раз – продолжать войну, но и сам не верит в успех своих молений. Он верит только в русский авось!
«Авось что-нибудь случится, и он снова расстроит мир и снова ударит на врага». Если же этого ничего не случится – то… Что же? Надо умирать!.. Песенка его спета и кончилась, оборвалася тогда, когда он думал, что еще только на половине ее.
И она обманула его, как прежде, по его же совету, обманывала других… Григорий Орлов также был поражен здесь же одним нежданным известием. Он поскакал в Петербург, но не был допущен в город… Очутился узником в Гатчине. А когда был допущен, то встретил в ней уже только монархиню, милостивую и благодарную, но свергнувшую с себя всякое иное иго.
Что ж? И ему скакать теперь туда, чтобы очутиться узником в Москве или даже в Таврическом дворце, без права явиться в Зимний впредь до особого разрешения гофмаршала.
«Нет, уж лучше умирать!»
Мирный трактат будет праздноваться на его свежей могиле.
Борьба Креста с Луной была его душой. Нет борьбы – нет души. Она отлетела. А эта скорлупа, это бренное тело – ни на что никому не нужно. И ему не нужно. Он видел на своем небе Крест, а на нем надпись: «Сим победиши» Упал этот крест с русских небес и утонул в волнах Дуная…
И все кончено!..
День за днем проводил так, в каком-то полузабытьи, томительном и болезненном, князь Таврический, еще недавно деятельный, самоуверенный, счастливый…
Давно ли он был способен с маху и на отважный политический шаг, весь успех которого именно в дерзости, в махе. И на ребяческую проказу, вся прелесть которой – в ее добродушии… Теперь и то и другое было немыслимо. Полный упадок духа и надломленность тела сказывались во всем. Он никого не принимал, изредка справляясь о курьере, которого ждал из Петербурга, и об здоровье принца Карла.
Однажды графиня Браницкая вошла к дяде и объявила ему печальную весть:
– Дядюшка, принц Вюртембергский скончался.
Князь онемел… Потом он сразу поднялся с дивана и вытянулся во весь рост. Лицо его побледнело.
– Что? – прошептал он и через мгновение робко прибавил: – Как же это?
И, постояв, князь сгорбился понемногу, осунулся весь и опустился бессильно на диван, почти упал.
– Ох, страшно… – простонал он. – Да и рано… Рано же!!
– Что вы, дядюшка? – изумилась графиня, знавшая, что между покойным принцем и дядей не существовало крепкой связи, а была лишь одна простая приязнь.
Князь молчал и тяжело дышал.
– Что вы, дядюшка? – повторила графиня.
– Сашенька! Цыганка в Яссах о прошлую осень предсказала по руке принцу, что ему году не прожить.
– Странно… Ну что ж… Бывают такие странные совпадения… Чего же вы смущаетесь?
– А мне – год…
– Что-о?
– А мне – год дала… Ровно год… Мы тогда смеялись… Вот…
Князь закрыл лицо руками.
– Полноте, дядюшка… Как не стыдно? Бог с вами. Это ребячество. Ну, тут потрафилось так. Но ведь это простая случайность.
Браницкая села около князя и долго говорила, успокоивая его…
– Это простая случайность! – повторяла она.
Наконец князь отнял руки от бледного лица в слезах и выговорил глухо:
– Не лги, Саша… Сама испугалась и веришь…
– С чего вы это взяли!
– По твоему лицу и голосу… Сама веришь, испугалась и лжешь…
И князь замолчал и просидел несколько часов, не двигаясь, в той же позе, понурившись и положив голову на руки.
На третий день после этого князь, слабый, унылый, задумчивый и рассеянный, будто совсем ушедший в самого себя, оделся в свою полную парадную форму главнокомандующего и генерал-фельдмаршала и, сияя, весь горя, как алмаз, в лучах южного палящего солнца, отправился на похороны умершего принца…
Все, что было воинства от офицеров до генералов в Галаце и окрестностях, явилось присутствовать на погребении и отдать последний долг хотя чужестранному принцу в русской службе, но родному брату будущей царицы.
Всех поразила фигура генерал-фельдмаршала.
Он тихо двигался, странно глядел на всех, озирался часто по сторонам, будто усиленно искал что-то или кого-то, но на вопросы и предложения услуг ближайших бессознательно взглядывал и не отвечал.
И за все время отпевания он не произнес ни слова.
Наконец, оглянувшись вновь кругом и завидя движение около гроба, всеобщее молчание, отсутствие пастора, он услыхал смутно слова: «Вас ждут, князь». Он отозвался как в дремоте:
– А? Что?
– Вас ждут, князь, – говорил тихо Репнин. – Соизвольте… Или прикажете всем прежде вас подходить?
– Что?
– Прощаться с покойником!
– Да… Да… Я первый. Первый… – прошептал князь глухо. – Да, первый после него, из всех вас… Моя очередь. За ним – первый…
Репнин ничего не понял и, приняв слова за бред наяву, изумленно глянул в желтое и исхудалое лицо светлейшего.
Князь полусознательно приложился к руке покойника и, отойдя от гроба, двинулся к дверям между двух рядов военных.
Всюду толпа, мундиры, ордена, оружие… Все незнакомые лица, и все глаза так пристально-упорно смотрят на него… Точно будто он им привидение какое дался…
Князь двинулся скорее. Уйти скорее от них, от их пучеглазых лиц, их глупого любопытства!
Сойдя с крыльца снова под жгучие лучи солнца, палящего с безоблачного неба, он увидел лошадей… Экипаж при его появлении подали к самым ступеням подъезда. Дав ему время остановиться, князь сел…
Лошади не трогаются… Чего они?! Уж ехали бы скорее от этого глупого народа. Скучно! Ну, что ж они?.. Застряли!
– Ваша светлость! ваша светлость! – уж давно слышит князь голос около себя, и наконец кто-то дергает его за рукав мундира…
– Ваша светлость!
– А-а?.. – вскрикивает он, как бы проснувшись.
Маленький, красивый чиновник, его новый любимец, Павел Саркизов, стоит перед ним, смело положив руку на обшлаг его кафтана.
– Извольте слезть! – говорит Саркизов тревожно.
– Чего?
– Извольте слезть!.. Вы по забывчивости… Слезайте…
И Саркизов смело потянул его за рукав…
Князь очнулся, огляделся и, вскочив как ужаленный, сразу шагнул прочь…
Он увидел себя сидящим среди погребальных дрог, поданных к подъезду для постановки гроба.
Жутко стало, защемило на сердце суеверного баловня счастья.
Князь быстро отошел, сел в свои дрожки и, отъезжая от толпы, отвернулся скорее…
Он чуял, какое у него в этот миг лицо, и не хотел казать его толпе.
– Видели? – говорила эта толпа шепотом.
– Да… По рассеянности!
– Ох, плохая примета…
– Совсем негодная примета. И верная.
– И без приметы вашей – приметно! По лицу его… Недолог!..
Так говорили, перешептываясь и толпясь вокруг погребальных дрог, собравшиеся офицеры…
«Ох, типун вам на язык! – грустно думал маленький и красивый чиновник-юноша, прислушиваясь к этому говору. – Злыдни! Вы бы рады! Да Бог милостив… Не допустит. Его смерть – моя погибель… Ох, Фортуна! Неужто она и со мной ныне – мудреные литеры вилами по воде пишет… Страшно… Помилуй Бог. Куда тогда бежать, где укрыться… Только разве за границу, в Польское королевство…»
Был он Саркизка – и весело жилося… Светел был весь мир Божий… Стал он чиновник канцелярии, Павел Григорьевич… на миг все блеснуло кругом еще ярче, но тотчас же темь началась, и вот все больше темнеет и темнеет… Надвигается отовсюду на душу оторопелую тяжелая мгла… и чудится ему голос:
«Я отшутила… Буде!..»
Это Фортуна кричит ему из мглы…
Ровная, голая, однообразная пустыня раскинулась без конца во все края… Ни камня, ни дерева, ни птицы, ни чего-либо, на чем взор остановить… Это степь молдавская.
Степь эта словно море разверзлось кругом, но черное, недвижимое, мертвое. Не то море, что лазурью и всеми радужными цветами отливает, встречая и провожая солнце, что журчит и поет, покрытое золотыми парусами, или порой, озлобясь, стонет и грозно ревет, будто борется с врагом, с невидимкой вихрем. Но, истратив весь порыв гнева, понемногу стихает, смотрится вновь в ясные небеса, а в нем сверкают, будто родясь в глубине, алмазные звезды.
Здесь, в этом черном и недвижном просторе, нет ни тиши, ни злобы – нет жизни.
В теплый октябрьский день, в этой степи, в окрестностях столицы Ясс, летели вскачь три экипажа, в шесть лошадей каждый. Вокруг передней открытой коляски неслось трое всадников конвойных.
В коляске, полулежа, бессильно опустив голову на широкую грудь и устремив тусклый взор в окрестную ширь и голь, бестрепетную и немую, сидел князь Таврический. Около него была его племянница… И ее взор тоже грустно блуждал по голой степи, будто искал чего-то…
Князь упрямо решился на отчаянный шаг, безрассудный, ребячески капризный и, быть может, гибельный…
Уехав из Галаца тотчас после похорон принца Карла, он весь сентябрь месяц прожил в Яссах. И все время был в том же состоянии апатии… Изредка он сбрасывал с себя невидимое тяжелое иго безотрадных помыслов, боязни телесной слабости… Он принимался за работу, переписывался с царицей и со всей Европой, надеялся вновь на все… Надеялся разрушить козни Зубова, прелиминарии мира с Портой, интриги Австрии и Англии… Все с маху вырвать с корнем и отбросить прочь!.. Все!! От Зубова и трактата – до боли в груди и пояснице…
Но этот подъем духа и тела – был обман… Так бывает подчас, вспыхивает ярко, порывом угасающее пламя и, блеснув могуче, сверкнув далеко кругом, упадет вновь и бессильно, будто мучительно ложится и стелется по земле…
После порывов работать и надеяться, после попыток схватиться с невидимым подступающим врагом и побороть его князь детски, бессильно уступал, сраженный и умственно и телесно.
– Нет… Рано еще мне… Я не все свершил! – восклицал в нем голос. – Подымись, богатырь!.. Схватись! Потягайся! Еще чья возьмет!..
Но скоро страдным тоном отзывалась в нем эта борьба.
– Нет, не совладаешь… Конец!
С первого же дня октября месяца князь почувствовал себя совсем плохо… и в первый раз сказал вслух:
– Я умираю… Да! Я чую ее… Смерть…
И 5 октября князь вдруг решил, как прихотливый ребенок, покинуть Яссы и ехать в отечество.
Напрасно уговаривала его Браницкая и все близкие остаться спокойно в постели и лечиться.
– Нет. Я умираю. Хочу умереть в моем Николаеве, а не здесь, в чужой земле.
И слабый, едва двигающий членами, едва держащий голову на плечах, сел в коляску…
И три экипажа понеслись в карьер по степи молдавской…
Прошло часа два… Князь изредка заговаривал, обращаясь к племяннице, и произносил отрывисто, но отчетливо и сильным голосом, то, что скользило будто чрез его темнеющий и воспаленный мозг. Это были отрывки воспоминаний и намерений, или порыв веры, или приступ боязни, или простые, но сердечные и последние заботы об остающихся на земле.
Вместе с тем князь вслух считал верстовые столбы… И вдруг однажды произнес резко:
– Тридцать восьмой…
– Нет, дядюшка, еще только тридцать верст отъехали…
– Далеко… Далеко до родной земли… А вот гляди – моя Таврида… Я вижу. Я лучше теперь вижу…
Графиня Браницкая тревожно поглядела на дядю… Если это бред, то как же скакать несколько верст до Николаева! Не лучше ли вернуться скорее назад в Яссы?
Через полчаса князь начал видимо волноваться, тосковать, шевелиться и встряхиваться своим грузным телом.
– Ну вот… Вот…
Наконец он вдруг вскрикнул:
– Стой…
Все три экипажа остановились… Люди обступили коляску.
– Пустите… Здесь отдохну…
Он вышел, с трудом поддерживаемый рослым гусаром и своим лакеем Дмитрием. Маленький чиновник Павел Саркизов взял плащ из коляски.
Князь отошел немного в сторону от дороги, к верстовому столбу с цифрой 38. Плащ разостлали на земле, и он, с помощью людей, опустился и лег на спину.
Браницкая села около него.
– Вам хуже… Надо ехать назад… Отдохните, и вернемтесь…
Князь не отвечал… Глаза его упорно и пристально смотрели вперед, будто силились разглядеть что-то…
Люди столпились невдалеке, между князем и экипажами… Только молодой чиновник стоял близ лежащего.
Прошло с полчаса среди полной тишины.
– Скажи царице, – заговорил князь тихо. – Благодарю… за все… Любил… одну… Никого не любил… Все всё равно… Тебя… Да…
«Убирается!» – грустно, со слезами на глазах подумал Саркизов.
– Скажи ей… Надо… Чрез сто лет – всё равно… Лучше она – Великая. Босфор будет… Я хотел… Все можно… Все! Захоти и все… захоти и все…
Он двинулся резко, почти дернулся, и взор его еще пытливее стал будто приглядываться к подходящему… И он вдруг выговорил сильно:
– Да… Да… Иду…
Прошло полчаса… Все стояли недвижно. Никто не шевельнулся. Никто не хотел поверить.
Браницкая присмотрелась к лежащему, тронула его рукой и зарыдала…
Чрез час один из экипажей поскакал в Яссы…
Браницкая уже сидела в отпряженной среди дороги карете…
Люди, офицеры и солдаты стояли кучкой у пустой коляски и уныло, односложно, даже боязливо перешептывались.
Скоро опустилась на все темная и тихая мгла.
А на краю дороги, близ одинокого верстового столба, на земле, среди разостланного плаща лежало тело «великолепного князя Тавриды».
Около него стоял недвижно солдат-запорожец, поставленный на часах… А у края плаща сидело в траве маленькое существо… понурившись, съежившись, и думало…
«Да… Вот… Велик был… А что осталось… Меньше меня…»
Среди ночи запорожца сменил высокий гусар… Он пригляделся к покойнику и вымолвил:
– Павел Григорьевич!
– Ну… – отозвался юноша-чиновник.
– Нехорошо… Глаза не закрыли… Что ж это они – никто… Надо закрыть…
– Да…
– Я закрою…
Гусар присел на корточки около тела и толстыми, неуклюжими пальцами старался опустить веки на глаза… Но застывшие веки вновь подымались.
– Пусти! – выговорила уныло маленькая фигурка. – Я закрою…
– Ничего не поделаете… Надо вот…
Он полез в карман и, достав два больших медяка, закрыл по очереди каждое веко – и накрыл монетами…
– Это завсегда надо кому… вовремя взяться… – сказал гусар. – Покуда теплый…
– А кому надо-то? Чья забота? – грустно отозвался маленький человечек.
– Кому? Вестимо… Ближним…
– Он на свете-то был… вот что я теперь… Выше всех, но один! А я-то вот… И ниже всех – и один…
Примечания
1
Женский головной убор с драгоценными украшениями.
(обратно)2
Внебрачный сын императора Норич (фр.).
(обратно)3
Божий приют (фр.).
(обратно)4
Без оглядки (фр.).
(обратно)5
Бланк об аресте (фр.).
(обратно)6
«Ваша Мария Антуанетта Французская» (фр.).
(обратно)7
Второе я (лат.).
(обратно)8
«Да здравствует Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» (лат.).
(обратно)9
Дела плохи, дети мои… (фр.).
(обратно)10
Клянусь! Если хочешь убить меня – приходи!
(обратно)11
Заядлый дуэлянт, задира.
(обратно)12
Король умер – да здравствует король! (фр.).
(обратно)13
Мушкетер королевы (фр.).
(обратно)14
Мушкетером графом Зарубовским (фр.).
(обратно)15
О, какая бестия! (ит.)
(обратно)16
Милый Гриша (фр.).
(обратно)17
Миленький маленький Гриша (фр.).
(обратно)18
Это же мушкетер французской королевы! (фр.)
(обратно)19
Посольство.
(обратно)20
Онёр – козырная карта; выражение «со всеми онёрами» означает «со всеми без исключения».
(обратно)21
Сенбернар – порода крупных собак, выведенная в Альпах для горноспасательных работ.
(обратно)22
Фурьер – заготовщик продовольствия.
(обратно)23
Берейтор – объезжающий верховых лошадей и обучающий верховой езде.
(обратно)24
Берлин – род четырехместной крытой коляски.
(обратно)25
Рыдван – старинная большая карета для дальних поездок, куда впрягалось несколько лошадей.
(обратно)26
Форейтор – при запряжке цугом кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей.
(обратно)27
Угождать (фр.).
(обратно)28
Митава – старинный прибалтийский город (ныне – Елгава), основанный в середине XIII в. и бывший ряд лет столицей Курляндского герцогства.
(обратно)29
«Венера Митавская» (фр.).
(обратно)30
Самойлова – одна из четырех сестер Энгельгардт, супруга графа А. Н. Самойлова – Самойлов Александр Николаевич (1744–1814) – граф, племянник Потемкина, генерал-прокурор и государственный казначей, кавалер ордена Александра Невского.
(обратно)31
Скавронская Екатерина Васильевна – урожденная Энгельгардт, племянница Потемкина, в 1781 г. вышедшая замуж за П. Г. Скавронского, внучатого племянника Екатерины I, действительного камергера и российского посланника в Неаполе.
(обратно)32
Браницкая Александра Васильевна (1754–1838) – урожденная Энгельгардт, любимая племянница Потемкина, находившаяся, по слухам, в интимной связи с ним; графиня, жена Ксаверия Браницкого, великого коронного гетмана Польши.
(обратно)33
Генерал-аншеф – третье генеральское звание в русской армии XVIII в.
(обратно)34
Алкивиад (ок. 450–404 вв. до н. э.) – афинский стратег с 421 г. в период Пелопоннесской войны, племянник Перикла, ученик Сократа. Бурная жизнь Алкивиада отражена во многих литературных произведениях.
(обратно)35
Вы клевещете на историю! (фр.)
(обратно)36
Чтобы понравиться баронессе (фр.).
(обратно)37
Это плутовство Алкивиада (фр.).
(обратно)38
Характера (фр.).
(обратно)39
Плутовство – кокетство мужчин (фр.).
(обратно)40
Премьер-майор – чин в русской армии, равный подполковнику.
(обратно)41
Герой Кинбурна – участник победного для русской армии сражения с турецкими войсками в октябре 1787 г. на Кинбурнской косе, близ устья Днепра.
(обратно)42
Укротите льва (фр.).
(обратно)43
Пару (фр.).
(обратно)44
Я нашла… это – зверь Сент-Люка (фр.).
(обратно)45
Божьей коровке (фр.).
(обратно)46
Когда ждешь меньше всего (фр.).
(обратно)47
Я держусь этой детали (фр.).
(обратно)48
Я – чистосердечна (фр.).
(обратно)49
Чего хочет женщина, хочет и Бог (фр.).
(обратно)50
Когда Святая Дева не воспротивится (фр.).
(обратно)51
Вольтерьянка! (фр.)
(обратно)52
Скорее… бездельница (фр.).
(обратно)53
От фр. blasphemer – богохульствовать, кощунствовать.
(обратно)54
Зубов Платон Александрович (1767–1822) – последний фаворит Екатерины II, светлейший князь, генерал-губернатор Новороссии.
(обратно)55
Ламбро-Качиони – грек, поступивший на службу к Екатерине II. Во время второй Русско-турецкой войны отправился в Грецию и на свои средства вооружил небольшой корабль, составивший вместе с двумя другими судами отряд, нападавший на турецкий флот.
(обратно)56
Султан Селим. – Имеется в виду Селим III (1761–1808) – султан Турецкой империи с 1789 г.; он закончил начатую еще до его восшествия на престол Русско-турецкую войну невыгодным для Турции Ясским миром 1792 г. Борьба Селима III за преобразование Турции на европейский манер кончилась восстанием янычар, в результате которого в 1807 г. он был свергнут с престола, а затем и умерщвлен.
(обратно)57
Диван – государственный совет в бывшей султанской Турции, состоявший из министров и придворных советников.
(обратно)58
Репнин Николай Васильевич (1734–1801) – князь, генерал-фельдмаршал, последний представитель по мужской линии старинного рода, происходившего от св. Михаила, князя Черниговского. Принимал активное участие во второй Русско-турецкой войне. После отъезда Потемкина в Петербург в 1791 г. Репнин остался за главнокомандующего русскими армиями и вскоре, одержав убедительную победу над турками, заставил их подписать в июле 1791 г. предварительные условия мира в Галаце. В 1794 г. он занимался усмирением Литвы.
(обратно)59
Речь идет о Людовике XVI (1754–1793) и событиях Великой французской революции.
(обратно)60
Генрих IV (1553–1610) – король Франции (с 1589 г.), основоположник правящей династии Бурбонов.
(обратно)61
Император Леопольд. – Речь идет о Леопольде II (1747–1792) – австрийском государе, императоре Священной Римской империи (1790–1792). При нем был заключен в 1791 г. Систовский мирный договор, позволивший Австрии начать вмешательство в дела революционной Франции, чья свергнутая королева Мария-Антуанетта была родной сестрой Леопольда.
(обратно)62
Имеется в виду «луна» («полумесяц»), символ и эмблема мусульманского мира и религии.
(обратно)63
Альбион – древнекельтское название Англии.
(обратно)64
Мой государь (фр.).
(обратно)65
Болен! Понимаете! Болен… Все… совершенно… (нем.)
(обратно)66
Схизма – раскол в христианской церкви.
(обратно)67
Игумен – настоятель мужского православного монастыря.
(обратно)68
Архиерей – в православной церкви общее название для высшего духовенства (епископа, архиепископа, митрополита).
(обратно)69
Filioque – теологический термин, обозначающий спорное в христианстве определение Святого Духа как производного и от Бога Отца, и от Бога Сына.
(обратно)70
Никейский собор – один из вселенских церковных соборов, происходивших в городе Никее в 325 и 787 гг.
(обратно)71
Николаев – город на юге России, основанный в виде укрепления в 1784 г. Потемкиным.
(обратно)72
Граф Матюшкин. – Очевидно, речь идет о Дмитрии Михайловиче Матюшкине (1725–1800), получившем графское достоинство в 1762 г.
(обратно)73
Карлсруэ – немецкий город на берегу Рейна.
(обратно)74
Ракалия (уст.) – негодяй, дрянной человек.
(обратно)75
Дорогой (нем.).
(обратно)76
Мой Бог! (нем.)
(обратно)77
Да, высочество! Нет, высочество… Ваш слуга… высочество… (фр.)
(обратно)78
Совсем просто (нем.). Простота! Святая простота! (лат.) Смелей, мой мальчик! (фр.)
(обратно)79
Шкалик – плошка с салом и светильней, употреблялась при иллюминациях.
(обратно)80
Лютер Мартин (1483–1546) – доктор богословия Виттенбергского университета, ставший крупнейшим реформатором христианской религии, основоположником лютеранской церкви, построенной на отрицании догматов и иерархичности католицизма.
(обратно)81
В авантаже – от фр. avantage – преимущество, выгода.
(обратно)82
Он выглядит потерянным (фр.).
(обратно)83
Он – не француз (фр.).
(обратно)84
Французский маркиз. Морельен де ля Тур… (фр.)
(обратно)85
Эмигрант – возможно… Маркиз – более или менее… Француз – никогда! (фр.)
(обратно)86
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ и общественный деятель, основатель и первый президент Берлинской Академии наук. Кант Иммануил (1724–1804) – родоначальник немецкой классической философии, профессор университета в Кенигсберге, иностранный почетный член Петербургской АН.
(обратно)87
Фукидид (460–396 гг. до н. э.) – афинский историк, владелец золотых приисков во Фракии. Принимал участие как стратег в Пелопоннесской войне; двадцать лет провел в изгнании; автор восьмитомной «Истории Пелопоннесской войны» (закончена Ксенофонтом). Этот труд считается одной из вершин античной историографии.
(обратно)88
Севрские фигурки – фарфоровые изделия прославленного завода во французском Севре, основанного в середине XVIII в.
(обратно)89
Выставьте за дверь… (фр.)
(обратно)90
Орложи – настенные часы.
(обратно)91
Радзивилл. – Речь идет об одном из представителей виднейшего польско-литовского княжеского рода, игравшего заметную роль в политической жизни польского королевства – Карле Станиславе (1734–1790), содержащем 10 тысяч регулярного войска и выступавшем против России, а позднее прощенном Екатериной II.
(обратно)92
Станислав Понятовский (1732–1798) – последний польский король (1764–1795 гг.) прорусской ориентации. После третьего раздела Польши отрекся от престола и переехал на местожительство в Россию.
(обратно)93
Первый раздел – частичный раздел территории Польши, произведенный в 1772 г. Пруссией, Австрией и Россией, при котором Пруссия получила часть польского Приморья, Австрия отторгла в свою пользу часть Краковского воеводства и город Львов, Россия получила западнобелорусские земли и Инфляндское воеводство. В целом Польша лишилась до 1/3 своей территории и населения.
(обратно)94
Герберг – пивная.
(обратно)95
Невшателец – житель швейцарского города.
(обратно)96
Иосиф II (1741–1790) – австрийский эрцгерцог (император) с 1780 г., император Священной Римской империи с 1765 г.
(обратно)97
Партия «шляп» – в середине XVIII в. политическое движение крупных феодалов и торговцев, боровшихся за власть в Швеции против партии демократических низов.
(обратно)98
Гюстав III (1746–1792) – король Швеции (с 1771 г.), правивший в духе просвещенного абсолютизма.
(обратно)99
Чичагов Павел Васильевич (1767–1849) – русский адмирал (1807 г.), участвовал в Русско-шведской войне командиром линейного корабля. В 1802–1811 гг. был министром морских сил. В 1812 г., командуя 3-й армией, Чичагов преследовал Наполеона.
(обратно)100
Ревельское сражение – морская битва, в которой русский флот нанес поражение шведскому флоту в период Русско-шведской войны 1789–1790 гг.
(обратно)101
«Лекарь поневоле» (фр.).
(обратно)102
Милая крошка (фр., ит., нем., англ., исп.).
(обратно)103
Пугало (фр.).
(обратно)104
Мало соли (фр.).
(обратно)
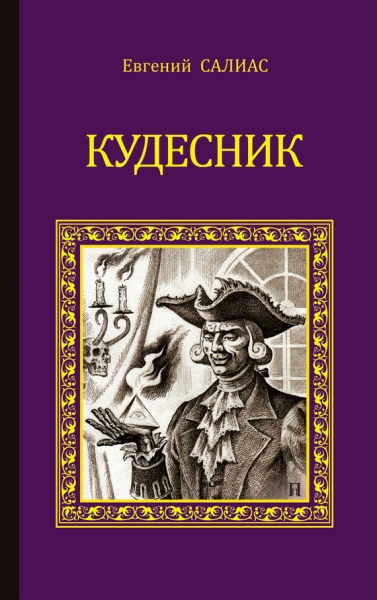


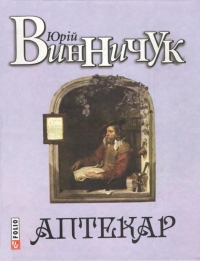
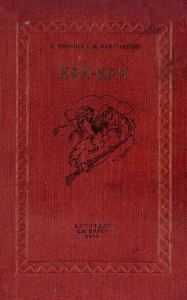

Комментарии к книге «Кудесник», Евгений Андреевич Салиас
Всего 0 комментариев